Юрий Трифонов
Продолжительные уроки
Нескончаемое начало
Писать трудно, но еще трудней писать о том, как ты пишешь. Надо задумываться о вещах, о которых. привык не думать. Не знаю, как другие, но я многое в своей работе нашел бессознательно, на ощупь, путем долгого графоманского опыта. Никакие книжки и брошюрки с интригующими названиями: «Как научиться писать?» или «Что нужно знать начинающему писателю?», расплодившиеся в двадцатые годы, да и сейчас попадающиеся в букинистических магазинах, никогда и ничем не могли помочь. В них был какой-то грустный обман. Они напоминали объявления о всякого рода магических средствах, которые печатались в старой «Ниве», вроде: «Как успешно бороться с дурным настроением» или «Искусство быть настоящим мужчиной. В двух частях с иллюстрациями».
Начинающим писателям я все-таки рекомендовал бы брошюрки и книжки, — о которых говорил выше, — хуже не будет.
Графоманский опыт заставлял меня многократно изобретать велосипеды. Но тут уж ничего не поделаешь. По-моему, это удел всякого писателя: пройти все ступени изобретений, начиная с обыкновенного колеса. Говоря о графомании, я имею в виду графоманию одаренных людей. Любовь к писанию, к многописанию. Об этом говорил Чехов: «Многописание — великая, спасительная вещь». Сочинители пухлых романов, которые хочется выжать, как тряпку, и повесить сушиться куда-нибудь на батарею — это не графоманы, а листажеманы. Не о них речь. Истинные графоманы люди одержимые, почти сумасшедшие. Ничем иным, кроме своего любимого «grafo», они заниматься не могут и не умеют. Я понимаю, тут много спорного: где истинные графоманы, где неистинные? Как найти разделяющую черту? Есть фанатические любители «grafo», которые написали поразительно и удручающе — для всех нас — мало. Например, Олеша, Бабель. Любовь этих писателей к слову, к красоте, к смыслам, скрытым в словах, была безмерной, может быть, чрезмерной: они не рассказали нам многого, что могли бы рассказать. Они предъявляли себе гигантский счет. Такую фразу, ну, скажем, как: «Его глаза с добрым, лукавым прищуром…» — они не могли бы написать даже под угрозой пистолета, ибо им показалось бы, что такая фраза — предательство.
Когда Паустовский говорил на семинарах о том, что писательский труд тяжел, неимоверно тяжел, употреблял даже слово «каторга», нам казалось, что предостережение касается только литературы, а оно касалось всей жизни.
Так вот, будучи графоманом с молодых ногтей, занимаясь Сочинительством в течение, что ли, тридцати лет, я представлял себе трудности этого ремесла по-разному.
Шкловский сказал: «Все пишут по-разному и все пишут трудно». Мне кажется, не только все пишут по-разному, но и один писатель может писать по-разному. Меняются времена, меняется жизнь, меняются сорта бумаги, перья и пишущие машинки. Когда-то я любил писать в тонких школьных тетрадях в клетку. Ни на чем другом не писалось. Весь роман «Утоление жажды» написан в тонких тетрадях для арифметики. Казалось, эта привычка останется до конца жизни. Потом внезапно перешел на простую белую бумагу, потребительскую, и теперь пишу только на ней. Отчего эта перемена? Мне кажется, найдется объяснение, если подумать всерьез.
Раньше писал более связно. Одно клеилось к другому, одно текло из другого. В этой связности была и связанность. Для такой последовательной и равномерной прозы требовалась последовательность и равномерность бумаги, одна страничка за другой, цепко сшитые проволочными скрепами. Теперь стремлюсь к связям отдаленным, глубинным, которые читатель ^ должен нащупывать и угадывать сам. «И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг». Пробелы — разрывы — пустоты — это то, что прозе необходимо так же, как жизни.
Ибо в них — в пробелах возникает еще одна тема, еще одна мысль.
Для такой прозы якобы разрывчатой нужны разрывы в бумаге: отдельные листы. Вот и причина, по-моему, заставившая перейти от тетрадей в клетку на потребительскую бумагу. Случилось это, конечно же, совершенно неосознанно. Но говоря о том, что в разные времена писалось — и трудности виделись — по-разному, я имел в виду иное.
Когда-то казалось, что не хватает сюжетов. О чем писать? У других — события, приключения, опыт жизни, множество встреч, а у меня ничего нет. Кроме того, мучил недостаток воображения. Эту свою особенность я горестно ощущал давно. Ведь, если не находилось сюжетов в жизни, их можно было выдумывать. Другие же выдумывают. Те, у кого богатое воображение. (Кстати, если говорить без иронии, я считаю воображение, фантазию редчайшим писательским даром, а на людей, обладающих им, смотрю с великим почтением: таков, например, талант Аксенова.) Итак, долгое время мне казалось, что главная трудность: находить сюжеты.
Пожалуй, только в последние годы учения в Литинституте, когда было исчиркано множество тетрадей в клетку, когда были прочитаны важные книги, когда наслушался вдоволь ругани и поношений на семинарах, начала брезжить догадка о том, что не так трудно найти сюжет, как его изложить. Ну, какие особенные сюжеты у классиков? Познакомились на набережной в Ялте, стали встречаться в Москве, ничего как-то не получалось… И так далее. Да тут еще новый модный соблазн: бессюжетные рассказы. В институте ходила такая поговорка, придуманная, кажется, Беляниновым: «Мы теперь благоговеем перед Э. Хемингуэем». Каков, к примеру, сюжет «Фиесты»? Рассказать невозможно. Все дело в словах, в интонации. Каждое слово — как тяжелый грузовик, отягощенный громадным грузом смысла. И подчас — двойным, тройным грузом. Порожних грузовиков нет. На этой стройке, которую не обозреть сразу, надо подняться на вершину, а может быть, в небеса и посмотреть сверху — пустые машины не катаются.
Написав много рассказов, даже роман в двадцать два печатных листа, я все еще не понимал окончательно — лишь догадывался неясно, — что главная трудность: находить слова.
Потом это понимание пришло. Мне кажется, я и писать стал иначе. Во всяком случае, одно знаю твердо: когда это понимание укрепилось, писать стало во сто крат труднее. Несколько лет совсем не писал, то есть писал, конечно, но путного не выходило, я браковал, уничтожал. Наконец, вышло что-то похожее на дело и непохожее на то, что писал прежде: цикл рассказов «Под солнцем».
Тут нагрузка на каждое слово была куда значительней, чем в первом романе. Иногда даже попадались слова с двойной нагрузкой. Все это было заметно мне одному и двум-трем людям, мне близким.
Но прошло еще лет десять, и понимание главной трудности ремесла вновь изменилось. Эта трудность связана с предыдущей. В словах должна выражаться мысль. Если нет мысли, а есть лишь описание, пусть даже художественное, филигранное, с красками, звуками, запахами, со всеми приметами жизненной плоти — все равно скучно. Без мысли тоска. Так мне теперь кажется. Раньше так не было. Я мог с удовольствием, старательно, со всеми сочными подробностями выписывать какой-нибудь пейзаж или внешность человека, это описание было самоцелью. Создать картину! Вот, мол, как я могу, как вижу, слышу, чую: косогор, луг, роща, туман над рекой, запах сырой, сладкой, вымокшей под дождями листвы…
Эту литературу ощущений, такую поэтичную, такую романтическую, я назвал когда-то: «пахло мокрыми заборами». Рассказы из этой серии начал, честно признаемся, Константин Георгиевич. Потом появились писатели с еще более тонким зрением и изощренным нюхом. Иные рассказы писались как бы ноздрями: так много в них запахов. В моду вошли названия, куда входило слово «запах»: запах того, запах сего. Живопись, как и запахи, заняла слишком большое место в прозе. Разумеется, нужны и пейзажи, и звуки, да и некоторые запахи следует замечать, но все это должно быть фоном и даже, точнее сказать, — грунтовкой холста. А проза «требует мыслей и мыслей», как сказано Пушкиным.
Вот тут и возникает трудность. Где их взять-то, мысли? Плохо, когда литература чересчур живописна, а живописи чересчур литературна.
Мне кажется, главная трудность прозы: находить мысли. Это не значит, конечно, что нужно непременно стремиться к глубокомыслию и в каждом абзаце изрекать афоризмы, а это значит, по-видимому, вот что: надо иметь что сказать. Сообщать читателю важное. Для прозы недостаточно такого сообщения: «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало». Меня долго мучило желание написать прозу, подобную стихам, музыке, подобную какой-нибудь песне, берущей за сердце, или красивой картине, как, скажем, картина Левитана «Над вечным покоем», всегда волновавшая, но потом понял, что это желание ложное. Проза должна быть похожей на прозу. И надо стремиться написать что-нибудь подобное вот чему: «По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику по фамилии Орлову…»
Подготовительная работа? Кое-какая перед началом всякой вещи делается, но — мысленно. Я ничего не записываю, не делаю планов, набросков, не веду записных книжек.
Вероятно, неправ и совершаю ошибки (насчет записных книжек это уж точно ошибка), но правила нашей игры: писать о своей работе всю правду. Со всеми сшибками и несуразностями.
Насчет записных книжек я отлично знаю, что они замечательно полезны. Как гимнастика по утрам. Но ведь лень регулярно заниматься гимнастикой: иной раз вяло подрыгаешь ногами, покачаешься туда-сюда, и — за газету… Записные книжки я вел временами в юности, когда вообще относился к работе более ревностно. Потом были перерывы на годы, потом кое-что записывал в поездках. Но вот что интересно; почти все записанное так, на ходу, в гостиницах, в путешествиях, находило применение. Поэтому на собственном горьком опыте свидетельствую: вести записные книжки необходимо.
Иногда записи лежат без движения годами, но потом вдруг — как нельзя более кстати. Надо записывать впрок, на авось.
Перед началом вещи возникает тема: пока еще немая, без слов, как наплыв музыки. Страшно хочется писать неизвестно о чем. Где-то в подсознании уже есть тема, она существует, но нужно вытащить ее на поверхность. Похоже, будто смотришь в объектив фотоаппарата, где все не в фокусе: туманное цветное пятно. Для того чтобы появилась резкость, нужны подробности, нужна конкретность — пускай незначительная. И тут иногда могут помочь записи в старых блокнотах. В 1966 году, весной, я был последний раз в Туркмении, на съезде туркменских писателей. Это было совсем не то, что прежде, когда я приезжал в пустыню, в горы. Но о тех приездах и путешествиях — их было, кажется, семь или восемь, начиная с 1952 года, — я написал, наверное, все, что мог: рассказы, очерки, роман, кино-, сценарий. Тема, волновавшая меня долгие годы, была изжита. Я не собирался ничего больше писать о Туркмении. Несколько дней после съезда я прожил со своим товарищем в местечке Фирюза под Ашхабадом, в каком-то доме отдыха, где еще не начался сезон. Был май, все цвело, пели птицы, неслась с клекотом вода в арыке, в горах постреливали пограничники. Зачем-то я записывал все впечатления, наблюдения, названия деревьев и птиц, все разговоры, которые вел в Фирюзе с моим товарищем, с садовником, женщинами, шоферами, официантом в чайхане. Записывал без цели. Авось когда-нибудь пригодится. И пригодилось, через четыре года. Повесть «Предварительные итоги» была совсем о другом: о Москве, о людях, уставших от городской жизни.
Я смутно чувствовал, о чем мне хочется написать. Но никак не мог приступить, неначиналось. Надо оттолкнуться от берега и прыгнуть в воду, но берег был чересчур вязкий. Не хватало подробностей, конкретностей. Твердая почва — это подробности. И вдруг пришли на помощь фирюзинские записи четырехлетней давности, я оттолкнулся от этого брега и поплыл.
Беглая, пустяковая запись в старой книжке, что-нибудь вроде: «Наши рубашки усеяны черными точками. Тля садится на белое. Аннадурды говорит, что зима была теплая, вся эта дрянь не вымерзла» становится необыкновенно нужной и нагружается смыслом.
Такую подробность не придумаешь за столом. Это можно только увидеть, заметить, запомнить или записать. Нет ничего драгоценнее мельчайших, гомеопатических подробностей. Поэтому так важны записные книжки, которых я не веду.
Раньше я составлял планы. Намечал примерное содержание глав. Все нарушалось очень скоро, чуть ли не со второй, третьей страницы. Главное сочинение происходит за столом, и оно подчиняется каким-то совсем иным импульсам, чем те, что действуют при составлении планов. Зато предварительное обдумывание — без записи — дает очень много. Чем больше и дольше обомнешь, обкатаешь мысленно сюжет, тем благотворней для вещи. Появляются объем, многозначность. Из того, что сочинил, самое удачное, на мой взгляд, то, что долго вылеживалось.
Лучшее время для обдумывания: утро, самое раннее, еще как бы спросонья. В первые секунды после пробуждения бывают пронзительные догадки. Не знаю, в чем тут секрет: может, в эти мгновения полусна-полуяви живут какие-то раскрепощенные, расторможенные представления, они сталкиваются с трезвыми дневными мыслями, и от столкновения происходит вспышка-догадка. А может быть так: когда пишешь большую вещь, постепенно так в нее погружаешься, что думаешь о ней постоянно, и ночью тоже. Не в часы бессонницы, а именно — во сне. Так что утренние догадки есть как бы осколки мыслей из сна.
Не берусь утверждать, как именно обстоит дело, но заметил определенно: в эти короткие миги — едва продрал глаза, но еще не потянулся за тапочками — придумалось немало полезного.
Работаю обыкновенно по утрам. Никогда — ночью, и даже вечером. Вечером не бывает ясной самооценки, можно иной раз с разгона и написать одну, две страницы, но наутро эти вечерниестраницы почти всегда правишь жестоко, а то и вовсе выбрасываешь. Так что если бывает после удачной утренней работы нетерпеливое желание продолжить труд, развить успех (ведь написание страницы или двух сверх дневной нормы есть успех), почти всегда сдерживаешь зуд и заставляешь себя поставить точку. Очень хорошо, если вечером томит желание работать, а ты не работаешь и ждешь утра. Можно быть спокойным: это желание не исчезнет за ночь, наоборот, укрепится, дозреет до состояния невыносимейшей, страстной жажды, когда не в силах дождаться рассвета, чтобы выпить чаю и — за стол. Тут и начнется настоящая работа. Кстати, если вернуться к утренним догадкам и прозрениям: они чаще всего бывают тогда, когда с вечера томился зудом писанины и сам себя не пускал за стол.
А что приходится обдумывать? Вокруг чего крутятся мысли? Одолевает такая забота: как люди должны поступать? Найти максимальное приближение к достоверности. Достоверность может включать в себя невероятные нелепости. Вот их находить — самое дорогое. Высший замысел вещи — то есть зачем вся эта порча бумаги? — находится в тебе постоянно, это данность, твое дыхание, которого ты не замечаешь, но без которого нельзя жить. Объяснить замысел бывает иногда невозможно, как не может обыкновенный, несведущий в биологии и медицине человек объяснить, каким образом он дышит. Коварнейший вопрос: что вы хотели сказать своим произведением? Все, что мог, сказал, а комментарии — не мое дело.
Меняется ли замысел в процессе работы так же, к примеру, как меняется сюжет, меняются характеры героев? Ведь метаморфозы с героями, обретающими свой нрав и свою волю, происходят постоянно. Об этом свидетельствуют многие авторы. Ну, а что касается замысла — того высшего, который можно назвать сверхсверхзадачей, — он, по-моему, остается неизменным. Могут меняться в процессе работы только его ракурсы, формы его выражения. И автору может даже показаться в какой-то миг, что замысел изменился, но если подумать повнимательней, то окажется, что — ошибка. В чем-то самом главном замысел остался тем же.
Во время работы над повестью «Предварительные итоги» я неожиданно для себя коренным образом изменил судьбу главного героя. В замысле было — он умирает. И почти всю повесть я писал, держа в уме эту печальную концовку, а когда осталось написать три или четыре последних страницы, вдруг понял, что умирать он не должен. Оставил его жить. Даже послал отдыхать на Рижское взморье, где он играл в теннис, гулял, поправился и помирился с женой. И все это — вместо того, чтобы лежать прахом в урне в стене крематория. Не правда ли, существенная перемена судьбы?
Но ведь, если подумать внимательно, замысел был показать не судьбу Геннадия Сергеевича — впрочем, и судьбу тоже! — а его образ жизни, выработавшийся благодаря многим разным причинам. Конечно, и смерть входит в понятие образа жизни. Потому что люди, как и живут, умирают по-своему. Можно было завершить повествование смертью, но это был бы все-таки какой-то рывок из образа жизни, своего рода катарсис, очищение. Между тем замыслу более отвечала жизнь без катарсиса. Вот почему Геннадию Сергеевичу суждено было несколько задержаться на этом свете.
Постоянно тревожит опасение: не окажется ли мое сочинение болтливым, незначительным? Достаточно ли интересно то, что вещаю городу и миру? Ведь столько уже написано всеми и обо всем. Толстой, Достоевский, Чехов, боже мой… куда я-то лезу? Но резонные соображения никого почему-то не останавливают. Истинной литературы накоплено человечеством не так уж много, однако есть, конечно, могучий и прочный костяк.
Но сколько на этот костяк наросло сала — литературщины!
Вот и еще одна громадная трудность в работе: угадывать литературщину. Ведь это оборотень. Это вурдалак, который прикидывается хорошенькой девушкой, соблазняет, заманивает. Как трудно бывает отказаться от какой-нибудь изящной метафоры, от пейзажа «с настроением»! Попробуй угадай, литературщина это или литература. Ведь так красиво. И ни у кого как будто не украдено. Вот это «как будто» и пугает.
Нет такого прибора вроде счетчика Гейгера, который определял бы степень излучения литературщины. Приходится определять самому, на глазок. У себя — бесконечно-трудно. Все, созданное твоим родным воображением, кажется тебе драгоценностью.
Но что же такое литературщина? Мы так привыкли бросаться этим обвинением: там литературщина, здесь литературщина… Вообще-то мы правы. Она повсюду. В литературном мире происходит инфляция: литературщина — это наштампованные миллиардами бумажные деньги. Может быть, даже еще проще: литературщина — это отсутствие таланта. Впрочем, тавтология. Все равно, что сказать: бедность — это отсутствие денег.
Нет, пожалуй, вот: литературщина — это что-то жеваное. Вроде жеваного мяса. До вас жевали, жевали, все соки высосали, а теперь вы начинаете работать челюстями. Куда как приятно. О, черт возьми, да как ее распознать? В том-то и окаянная сложность, что: у других видно, а у себя нет.
Литературщина многолика. Это избитые сюжеты, затасканные метафоры, пошлые сентенции, глубокомысленные рассуждения о пустяках. Это и — почти литература, во всяком случае, нечто похожее на настоящую большую литературу. Это длинные, на полстраницы периоды с нанизыванием фраз, с нарочито корявыми вводными предложениями, утыканными, как гвоздями, словами «что» и «который» — под Толстого; или такие же бесконечные периоды, состоящие из мелкой, психологической требухи — под Пруста. Это сочные, влажные, сырые, мглистые нежно-палевые, пропахшие дождем и гарью пейзажи, — под Бунина. Это занудливые, но многозначительные «разговоры ни о чем» — под Хемингуэя.
Господи, как трудно заниматься этой работой! Сколько кругом опасностей!
Прочитал только что написанную страницу и увидел: сплошная литературщина. Нагромождение метафор. Литературщина сравнивается с салом, с вурдалаком, с хорошенькой девушкой, с радиоактивными излучениями, с жеваным мясом и еще с чем-то. Автор в ажиотаже собственной безвкусицы не захотел расстаться ни с одной из метафор, иные из которых более чем сомнительного качества, и в результате погубил доброе дело: нанести крепкий удар по литературщине. Внятно ответить на поставленный вопрос: «Что же такое литературщина?» — автор, не сумел или, может быть, не захотел. Увиливал, уходил от разговора, изощрялся в остроумии и бросил читателя в недоумении.
Эту страницу я оставлю в таком виде, как она написалась, чтобы показать змеиную суть литературщины и как трудно с этим ядом бороться.
Когда-то давно О. М. Брик на семинарах в Литинституте после того, как студент читал рассказ, огорошивал автора таким вопросом: «Ну и что?»
«Действительно… — думал автор, бледнея и покрываясь потом. — Ну и что?» Первые признаки того кошмара, который затем преследовал автора в течение всей его жизни. А нужно ли кому-нибудь то, что я написал? А вдруг — никчемность, вздор, чепуха на постном масле? Неуверенность в себе мне кажется плодотворней уверенности. Конечно, не такая уж неуверенность, когда все валится из рук, а такая — чтоб зудела чесотка, чтоб томила неудовлетворенность. Сделать лучше! Сделать иначе, продвинуться дальше. Писатель, помоему, должен постоянно меняться, должен ненавидеть свои слабости и отталкиваться от своих прежних вещей. Нет ничего страшнее радостного сознания: «А все-таки здорово я умею писать!» Гениальные люди не в счет. Они могут позволить себе все, что угодно.
Начала и концы. То, что требует наибольших усилий. Начало переделываю и переписываю множество раз. Никогда не удавалось сразу найти необходимые фразы. Бродишь будто на ощупь, с завязанными глазами, тыкаешься в одно, в другое, пока вдруг нё натолкнешься на то, что нужно. Мучительнейшее время! Начальные фразы должны дать жизнь вещи. Это как первый вздох ребенка. А до первого вздоха — муки темноты, немоты. Так как я люблю, чтобы первая страница рукописи была чистой, без помарок — снобизм, конечно, но ничего не поделаешь, привычка, — на это уходит обыкновенно чуть ли не полпачки бумаги
В начальных фразах ищу музыкальный строй вещи. Какой-то особый символический смысл для начала необязателен, хотя, разумеется, прекрасно, если он возникает («Он поет по утрам в клозете», — начало могучее, с простором), можно начинать просто, как бы исподволь. Но непременно должна быть найдена точная музыкальная нота, должен почувствоваться ритм целого. Если это найдено — как за роялем, когда подбираешь по слуху, — тогда дальше все пойдет правильно.
У меня есть множество превосходных начал, которые так и не нашли продолжения. Все муки начала, с его надеждами, новизной, напряжением мыслей и чувств, одинаково тяжелы для романа в пятьсот страниц и для рассказа в пять. И так как каждую вещь хочется написать лучше прежних, и, пиша одно, уже думаешь о начале чего-то другого и нового, то кажется, что вся твоя жизнь похожа на какое-то нескончаемое начало.
А что касается концов — то тут не до музыки. Музыка может, конечно, присутствовать, и это неплохо, если она существует в последних фразах, но главное, что должно быть в конце, — смысл, итог. Пускай символически, иносказательно, эмоционально, каким угодно дальним ассоциативный путем, но надо, как говорится, подбить бабки. Концовки тоже тяжелое дело. Заканчивать вещь надо неожиданно и немножко раньше, чем того хочется читателю.
Продолжительные уроки
Сначала тонкие книжечки в ярких детиздатовских обложках, потом изумление перед реальностью человека с медленным, хрипловатым разговором, его космическая отдаленность — он залетел на мгновение в старый особняк на улице Стопани — потом привычное, радостное общение на семинарах, где думалось обо всем, о многом, бог знает о чем, ибо война прошла и нарождалось новое, и потом теплая, все растущая, громадная доброта. Талант есть доброта. Но это обнаруживается не в молодых годах, а значительно позже. Когда иссякает доброта — исчезает талант. У Константина Георгиевича шло непрерывное нарастание, возвышение. Но в данную секунду не об этом — о том, каким был Константин Георгиевич в моей жизни. Нескромно? Да, может быть.
Но иначе не скажешь. Константин Георгиевич вошел в нашу жизнь — ив мою тоже, — влился, впечатался, осветил, одарил. Ранняя весна тридцать девятого года, мне тринадцать лет, я езжу вечерами на метро от Библиотеки Ленина до Кировской, в переулок Стопани, в Дом пионеров с двумя товарищами из класса, Левкой и Олегом. Левка пишет бесконечные научно-фантастические романы в толстых общих тетрадях в клетку, он известен в школе как местный Гумбольдт, как Леонардо из седьмого «Б», ибо он биолог, археолог, географ, океанограф, художник, музыкант и лишь в последнюю очередьроманист. Левка записался в географический кружок. Олег — в исторический, хотя из рабского подражания Левке он тоже берется иногда сочинять произведения, детективные, про немецких шпионов, которые действуют под видом пожилых счетоводов и прелестных актрис, но у Олега, конечно, не хватает терпения, и больше трех страниц он написать не в силах. Я же неисцелимо болен писательской чесоткой. Иногда я вскакиваю ночью, сажусь к столу и в сомнамбулическом состоянии пишу страниц десять какой-нибудь фантастики. Стараюсь наверстать упущенное: Левка пишет свои романы с пятого класса, а я только начал.
На втором этаже мы расстаемся. Я открываю высокую белую дверь, на которой висит на шнурочках табличка: «Литературный кружок». Вера Ивановна Кудряшова, наша руководительница, шепчет: «Скорей занимай место! Ты опоздал! Мы ждем Паустовского!» Я действительно опоздал, все лучшие места вокруг столика, стоящего посреди комнаты, заняты и, когда появляется Паустовский в сопровождении бледной, сияющей Веры Ивановны — он двигается не спеша между стульями, склонив голову, глядя вниз, чтобы никого не задеть, улыбаясь несколько смущенно, совсем обыкновенный, непохожий на писателя, скорее учитель, в сером сюртучке, темнолицый, с худыми впалыми щеками, охотник, обветренный тайгой, рот крепко сжат, сухие губы, что-то пиратское в этой складке, похож на старого далматинского пирата, ему бы феску, кальян, — и вот он садится к столику, я почти не вижу его. Мне приходится встать. Паустовского я читал много. Тогда мне казалось — почти все. Он один из любимых: «Судьба Шарля Лонсевиля» и «Летние дни» — это недавно. А еще раньше: «Колхида», «Карабугаз» и «Черное море». И совсем недавно ходил в детский театр на постановку об одном астрономе, который заблуждался: «Созвездие Гончих Псов».
Приключения, путешествия, моряки, благородные люди, смельчаки и трусы, необыкновенные женщины, звери, охотники, леса. Все это чем-то напоминает моих излюбленных Фенимора Купера, Чарльза Робертса и Густава Эмара, но как-то ближе, понятней и гораздо заманчивей: у Купера и Эмара захватывающе интересно, но недосягаемо, а у Паустовского — наслаждение жизнью, которое ждет и не минует тебя. И так хочется в эту жизнь скорей!
Паустовский рассказывает о своих друзьях Гайдаре и Фраермане. Задают много вопросов. Ведь все, кто собрались в этой комнате, хотят в будущем стать, ну, если не писателями — звучит страшновато, — то журналистами, литературными сотрудниками. Паустовский говорит:
— Нет ничего тяжелее писательского труда.
Голос негромкий, почти тихий, с хрипотцой. Голос человека, углубленного в себя, чем-то очень утомленного. Да, видно, так — нет ничего тяжелее! Но некоторые сомнения меня все-таки гложут. А как же Левка? Он пишет с необычайной быстротой. Толстую общую тетрадь за пятьдесят пять копеек он может исписать в три дня. Да я и по себе знаю. Рассказ про яйца вымершего динозавра, которые нашел один хозяин гостиницы в Коста-Рике, я написал за одну ночь!
Потом Паустовский задает нам вопросы.
— А ты о чем пишешь? А ты?
Один парень написал рассказ об испанской войне. Другой о том, как ходил с отцом на стадион, смотрел басков. Девочка писала о домашних животных, очень остроумно, особенно о кошках. Еще одна сказала, что ее увлекает мистика. Паустовский заинтересовался мальчиком, который сказал, что пишет о червях. О том, как накопал червей для рыбалки, положил в банку, а другой мальчик, ну и так далее, чепуха. Почему-то
Паустовский долго разговаривает с этим мальчиком о червях. Настает моя очередь. Я говорю, что написал о вымершем динозавре.
— О каком именно динозавре? — спрашивает Паустовский.
— Toxodon platensis, — отчеканиваю я латинское название динозавра, вычитанное в одной книге.
Паустовский, как ни странно, не проявляет желания продолжать разговор, в котором я мог бы блеснуть. Все, что касается динозавров, я знаю великолепно. Бегло кивнув, Паустовский обращается к следующему:
— Ну, а что расскажет нам твой сосед?
И это было все в тот вечер, в тридцать девятом году.
Я пришел в пустую квартиру, достал свои тетради с фантастикой и куда-то их закинул. Потом прошло лет восемь. Началась и кончилась война. В Литературном институте я был сначала в семинаре Федина, потом, когда Федин надолго куда-то уехал, стал посещать семинар Паустовского.
Паустовский пришел в институт позже Федина.
На первом же семинаре мы слышим суровое предостережение о том, что нет ничего тяжелее, и вновь эти слова скользят мимо сознания. Не с воспитательной ли целью говорится и не ради ли красного словца? Константин Георгиевич романтик, склонен к преувеличениям. Ах, да попросту молодость, суета, юный графоманский энтузиазм! Сколько упущено, недохвачено, неузнано, сколько зимних и весенних вечеров потрачено на вздор, и, когда медленно шли с Константином Георгиевичем и Константином Александровичем по бульвару — их семинары часто кончались почти одновременно, и они ждали друг друга в маленьком фойе на втором этаже, окруженные студентами, а я посещал то один семинар, то другой, «Костя, ты готов?», «Одну минуту, Костя!» — и понимали умом, что это благостные минуты, на воле, среди деревьев, в неторопливом гуляньи после двух часов изнурительной, чадной говорильни, теперь бы спрашивать, узнавать самое важное и сокровенное, но глупость и вздор уже тащили куда-то, и казалось, что настанет какое-то еще более удобное время для того, чтобы спрашивать, узнавать. Ничего не настало. Тогда, на сырых бульварах, и было лучшее время.
Впрочем, так было со мной, а с другими, вероятно, иначе.
Должны были пройти годы, чтобы мы убедились, как был прав Паустовский насчет тяжести писательской доли. Да, если относиться к этой доле так, как относился он. Его отношение к труду писателя было почти мистически уважительное. Любой писатель — пускай маленький, незаметный, ничтожно успевший, но на стоящий — был для Константина Георгиевича существом в некотором смысле сверхъестественным. К нему предъявлялись особые требования, к обычным людям неприменимые. Паустовский много думал и писал о людях, создающих книги. В предисловии к собранию своих сочинений, на склоне лет, он напишет: «Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и чистота этих побуждений находятся в прямом отношении или к признанию писателя со стороны народа, или к безразличию и даже прямому отрицанию всего, им сделанного».
Сила и чистота: в достижении этого и заключается трудность. И люди, стремящиеся к такому достижению — не всегда достигающие, никогда не достигающие, но, боже мой, тут драгоценно стремление! — и есть настоящие писатели. Мы не были никакими писателями, но ощущали уважение Константина Георгиевича даже к себе — не конкретно к себе, как к начинающим бумагомарателям имярек, авторам таких-то опусов, а как к людям, волею судьбы причисленным к некоему тайному братству. В этом братстве все равны. Похожее высказал как-то Ю. Олеша: мол, все писатели мира — это как бы один писатель, хотя их разделяют, может быть, океаны, бездны, тысячелетия.
Константин Георгиевич распределял свое внимание между учениками равно горячо и заинтересованно. У него не было любимчиков. Не было никакого ранжира. Все мы, сидевшие перед ним за длинными черными столами, были как бы один писатель, еще слабый и бедный опытом, нуждавшийся в помощи.
Демократизм был его природной чертой. Наверно, так же демократичен был Чехов. При всем своем громадном авторитете Константин Георгиевич не стал и не мог стать генералом от литературы. И, надо сказать, ненавидел проявления такого генеральства в других. Тут он находил язвительные слова и беспощадные, злые характеристики: это я слышал позже, уже не в студенческие времена.
Семинары Паустовского дали нам много. Дело не в каких-то конкретных разборах, словах, примерах вернее, не только в них! — но и в том воздухе, который мы впитывали. Если не бояться высокопарных слов, можно сказать: это был воздух силы и чистоты. То, о чем несколько торжественно заботился Константин Георгиевич, было ему присуще совершенно естественно и для него самого неприметно.
Один молодой автор читал отрывок из повести. Герой с девушкой, в которую он влюблен, попадает в театр. Описывались переживания героя, его неловкость приключения в антракте, сюжет глупой пьесы, представлявшийся герою как бы в тумане. Слушатели все время смеялись. Константин Георгиевич тоже смеялся. Когда автор замолчал и, сконфуженный, засовывал листы рукописи вместо портфеля зачем-то под чернильницу, Константин Георгиевич сказал:
— Знаете, почему мы все смеялись? Нет, не потому, что это смешно. Потому, что — правдиво…
В мимолетном замечании была глубокая мысль. Правда есть высшая ценность, добываемая искусством. И даже такая мелкая, бытовая, эфемерная правда, какую нащупал автор отрывка о театре, оказалась способной людей волновать, заставила их смеяться.
Значит, вот ради чего нужно стараться, вот что выкапывать из земли — правду, во всех ее видах. Я помню, как читал на семинаре рассказ, написанный, как мне казалось, «под Паустовского». Не специально, разумеется, но так получилось. Впрочем, там была «смесь» Паустовского и Хемингуэя. От Паустовского были взяты герои, фон, среда: молодые геологи, где-то в горах, в Средней Азии. От Хемингуэя стилистика: недосказанность, многозначительные паузы. Рассказ был написан очень быстро. Я был уверен, что рассказ удался — в те годы бывала такая оглушенность собой, — и рвался его прочесть.
Прочитал. Ребята как-то стесненно молчали. Константин Георгиевич, деликатно кашлянув, спросил, долго ли я его писал. Еще не выйдя из состояния глухоты, я ответил горделиво:
— Всего три дня!
— Этот ваш рассказ… — начал Константин Георгиевич слабым и несколько натужливым голосом. Таким голосом, очень неохотно, через силу, он тянул обычно, когда собирался ругать, и тут я как бы вдруг очнулся. — Этот ваш рассказ, дорогой Трифонов, весь насквозь придуман. В нем нет ничего достоверного. Вы не знаете ни геологов, ни гор, ни Средней Азии. Единственное, что вам хорошо известно: как играют в мачжонг.
Я с ужасом подумал: «Старик прав!» (Мы называли его между собою Стариком, вполне любовно, хотя он вовсе не был тогда стариком, да и впоследствии им не стал.) Действительно, я все придумал. А в мачжонг я играл с детства.
— Но непонятно, зачем ваши геологи играют в эту игру ленивых китайских торговцев…
Единственная достоверность в рассказе была уничтожена. Наказание — я изменил правде. Что ж, нельзя придумывать? Долой вымысел? Вымысел становится искусством, когда в его сердцевине — правда. До этого я додумался позже.
Через несколько лет г я познакомился с геологами, с горами и со Средней Азией. Весной 1952 года поехал в Туркмению. Что потянуло туда? Да, Паустовский тоже. Может быть, бессознательно. Может, это был тот воздух, которым мы надышались на семинарах путешествия, романтика, поиски достоверности. Константин Георгиевич много писал и рассказывал о географических картах. О своей любви их рассматривать. Каспий, Красноводск, пустыня вокруг Казанджика, долина Атрека — как я их излазил, исщупал, еще сидя в Москве! И, конечно, меня тянуло в унылый каспийский простор, знакомый со школьных лет, с «Карабугаза», с лейтенанта Жеребцова.
Это было странное возвращение: в места, где я не бывал никогда. И в то же время — места моего детства.
Однажды на семинаре говорили о подтексте, о краткости, об умении отжимать жир, воду, оставлять мышцы. О том, что искусство писать есть искусство вычеркивать. Константин Георгиевич сказал, что давно мечтал написать предельно краткий рассказ — такой, чтоб уже больше ни одного слова вырвать нельзя, иначе рассказу конец, смерть.
Не знаю, выполнил ли когда-нибудь Константин Георгиевич эту рационалистическую задачу, думаю, что нет, ибо фантазия — неодолимое свойство его писательского существа — неминуемо отвлекла бы в сторону. После института были встречи в Москве, Переделкине, Ялте. Влияние Константина Георгиевича на всех нас, его бывших учеников, продолжало расти — может быть, не прямо, отраженно, системою зеркал, ибо между нами были пространства, годы, обстоятельства. Но теперь мы старались понять не то, как строить фразу, делать концовку, а — как строить жизнь, делать судьбу.
Записки соседа
Из воспоминаний
Дело не в том, что в течение нескольких лет мы были соседями по даче на Красной Пахре и наши участки разделял слабокрашеный деревянный заборчик, возле которого мы часто стояли, разговаривая. Дело в том, что мы оказались соседями по времени, в котором досталось жить. А время всех ставит рядом: больших, маленьких, посредственных, ничтожных всех, всех, всех.
Так вот: зима пятидесятого года. Сейчас ту зиму ощущаю совсем иначе, чем ощущал тогда. Если уж говорить о времени, то оно — похоже на нас. Я был молод, крепок, поднимал двухпудовые гири, и мне казалось, что так же молодо, крепко и способно поднимать небывалые тяжести время… Год назад, в сорок девятом, я окончил Литературный институт, никуда работать не устроился, сидел дома и писал книгу. Зимою я эту. книгу закончил. Куда нести? У меня были некоторые отношения с «Октябрем», напоминавшие вялый, тягучий и бесплодный роман: временами я посещал кружок молодых писателей при этом журнале, давно уже потеряв надежду пробиться на его страницы. Все рассказы, что я приносил и отдавал благожелательной Ольге Михайловне Румянцевой, прочно застревали в ее столе. Впрочем, рассказы были плохие. Ну, а те романы, что печатались в журнале? На мой взгляд, это было не то, к чему надо стремиться. Причин такой решительности моих литературных оценок было две: действительно, не очень уж высокое качество хвалимых романов и мое собственное наглое зазнайство, обыкновенное для начинающих.
Итак, «Октябрь» отпал (я показывал несколько глав из книги Ольге Михайловне, но, кроме обычных, туманных и благожелательных обещаний, не услышал ничего), со «Знаменем» не было связей, оставался «Новый мир». Членом редколлегии «Нового мира» был Федин, руководитель моего семинара в Литинституте. Главным редактором недавно назначили Твардовского. Я упаковал пухлое двадцатилистовое произведение (не знал, как называть его — романом, повестью; не знал и названия) в две старые канцелярские папки довоенного образца, которые, наверное, использовал отец еще во времена Нефтесиндиката, и поехал в Лаврушинский переулок. Федин постоянно жил на даче в Переделкине, в Москве бывал редко, но мне удалось с ним созвониться, и он назначил день. На семинаре в Литинституте я читал раза два главы из повести, и Федину они как будто нравились. Но одно дело — главы, а другое — пятьсот страниц на машинке. Читать два месяца! Я приготовился терпеливо ждать, лишь бы Федин согласился взять мои папки.
Федин, однако, поступил иначе, немало меня изумив.
Я сейчас позвоню Твардовскому и скажу ему про вашу рукопись, — сказал он. — Здесь все примерно в том стиле, что и те две главы?
Да, — сказал я. — Примерно в том.
Вот и хорошо. Сейчас позвоним. Он как раз спрашивал меня, нет ли какой интересной прозы… — Федин уже набирал номер, продолжая вполголоса меня все более изумлять, — он только что назначен… Полон энергии, ищет авторов… Александр Трифонович? Добрый день, это Федин. Вчера вы мне звонили, просили посылать молодых авторов, и вот, пожалуйста, выполняю вашу просьбу. Повесть о студентах. Автор мой ученик по Литературному институту…
Федин говорил что-то хвалебное по моему адресу, я плохо слушал, подавленный внезапным недоумением. С одной стороны, тут было благодеяние, с другой нечто обидное. Что ж, ему вовсе нелюбопытно прочитать мою рукопись? И если когда-то понравились те две главы, то неужели не хочется узнать — что же там случилось дальше? Я считался старейшим учеником Федина. Еще с первого, заочного курса, когда работал на авиазаводе. Федин подробно разбирал мои начальные, беспомощные сочинения, иногда защищал меня от ретивой критики (а мы топтали друг друга на семинарах нещадно!), иногда сам твердо и холодновато ставил меня на место. Но всегда я чувствовал какой-то интерес. Теперь же, когда я принес гигантский плод полуторагодичного, каторжного, графоманского труда — бывали дни, особенно минувшей осенью, в сентябре, на даче в Серебряном, где я жил один, когда выходило по пятнадцати страниц в сутки! — мой учитель даже не развязал тесемок на старых, из желтого глянцевитого картона папках.
Федин как будто почувствовал мои мысли.
— Дорогой Трифонов, — сказал он, — ваше произведение я прочитаю, когда оно будет напечатано в журнале. Не возражаете? Дело в том, что я занят сверх меры своим романом…
Я не возражал. Был благодарен: такая оперативность! В тот же день курьер из «Нового мира» должен был забрать желтые папки и привезти Твардовскому. Пока все шло замечательно. И все же что-то меня скребло. «Он поспешил от меня отделаться!» Прошло много лет, и теперь я знаю, что такое толстые папки, которые приносят начинающие писатели. Они напоминают маленькие, хорошо упакованные коробки с динамитом: что-нибудь непременно будет взорвано. Ваша работа, ваше время, ваше спокойствие или ваши отношения с людьми. В этих папках слишком много заложено. Поэтому, чем скорее от них отделаться, тем лучше. Однажды ко мне пришел молодой человек, несомненно, талантливый, рассказы которого я читал, и принес новую повесть. Он написал много, но почти ничего не смог опубликовать. Знакомя его с бывшим у меня гостем, я сказал: «Начинающий писатель такой-то». Молодой человек дернулся, в его лице мелькнуло что-то хищное, и он сказал, резко отчеканивая каждое слово: «Я не начинающий писатель!» Повесть его лежит на моем столе. И я боюсь к ней притронуться, как к пакету с динамитом.
Прошло дней десять или двенадцать, не помню точно сколько, очень немного. За это время кончилась зима. Внезапно пришла телеграмма: «Прошу прийти в редакцию для разговора. Твардовский». Не помню уж почему телеграмма. Может, не работал телефон, не могли дозвониться. Едва чуя под собой землю и плохо соображая, с телеграммой в кармане, которую бережно спрятал, как пропуск или квитанцию, я отправился в «Новый мир».
Редакция помещалась тогда на углу Пушкинской площади и улицы Чехова. Вход был с улицы Чехова. Помню — горы сырого снега, мокрый асфальт, солнце, предчувствие весны… В этот день я познакомился с Александром Трифоновичем Твардовским.
К Твардовскому уже в те годы, во времена Литинститута, мы относились как к классику. И я, конечно, волновался не только от нетерпения узнать свою судьбу, но и от предстоящей встречи с известным поэтом. В домашней библиотеке были две его книги, «Поэмы» и «Книга лирики». Я перечитывал главы из «Теркина», «Дом у дороги», некоторые лирические стихи любил читать вслух, например, «Я убит подо Ржевом» и «В пути». Признаюсь, это последнее стихотворение, такое скромное и простое, трогало до слез. Пастернака я в ту пору знал мало, только маленькую книжечку «На ранних поездах», купленную случайно, Цветаеву и Мандельштама не знал совсем. Маяковским «переболел» давно. Самым любимым был Блок. И вот, когда собирались на Большой Калужской или в летнее время в Серебряном бору, непременно хотелось читать вслух, всегда читал Блока, «Куклу» или «Зодчих» Кедрина и вот «В пути». Твардовский в отличие от других поэтов поражал тем, что умел с какой-то удивительной простотой и силой говорить о самом сокровенном, что поэзии как будто и неподвластно, к чему может прикасаться лишь проза, да и то толстовская, чеховская: о домашнем, семейном, истинно человеческом. Отношения близких людей друг к другу. Сын и отец, мать и дети, муж с женой, родня, родные — и все это на фоне громадной жизни, горя, войны, потерь. «Ах, своя ли, чужая, вся в цветах и в снегу… Я вам жить завещаю — что я больше могу?»
Поднялся я по высокой и очень широкой, но темной какой-то лестнице, вошел в дверь налево, маленькая прихожая, как в коммунальной квартире, повесил пальто и шапку на крюк. После солидных коридоров «Октября», лифтов, пропусков, величественных и холодных комнат тут было странно: какая-то домашность, семейность. Вошел в небольшой зальчик, без единого окна. Горел электрический свет. Справа у двери за столом сидела пожилая седоватая, сильно накрашенная дама в очках и клеила конверт. Она с любопытством уставилась на меня: «Вы к кому?» Тоже странно: в прежних редакциях (а, кроме «Октября», я бывал еще в издательстве «Молодая гвардия») никто не смотрел на меня с любопытством. Я сказал, что вызван для разговора к Твардовскому.
— Подождите здесь! — Пожилая дама с живостью встала и исчезла за дверью с табличкой «Главный редактор Твардовский А. Т.».
Потом я узнал, что эта дама — могущественная секретарша редакции Зинаида Николаевна. Мне было велено подождать. Сидя на стуле возле двери с табличкой, я оглядывал зальчик. В него выходило шесть или семь дверей. Судя по всему, комнаты были маленькие. Да попросту говоря — клетушки. Одна «октябрьская» комната, где сидела Ольга Михайловна, была больше всего этого зальчика, не говоря о клетушках. Зато зальчик напоминал гостиную: здесь стояли овальный и как будто старинный стол, диван, на стенах висели рисунки. Из клетушек то и дело выскакивали люди и, перебегая по ковру, скрывались в дверях других клетушек. Все тут было невероятно уютно.
Над столом Зинаиды Николаевны задребезжал звонок, и Зинаида Николаевна сказала:
— Заходите!
Я открыл дверь, но увидел не кабинет, а небольшой тамбур, куда были втиснуты маленький столик и два стула, то есть и это местечко было обжитое, удобное. Твардовский поднялся из-за стола и протянул руку. В те времена я имел обыкновение пожимать руки что есть мочи, но рука Твардовского ответила не менее мощным пожатием. Удивился: у классика такая сила в руке! А ведь Твардовский был тогда молодым человеком: тридцать девять. Впрочем, мне было двадцать четыре, и он мне казался умудренным годами, всего достигшим писателем. Почти таким же, как Федин.
Внимательно и как-то сверху вниз — с волос до галстука — изучающе-строго оглядывая меня, Твардовский спросил мое отчество, я сказал.
— Так вот, Юрий Валентинович, я прочитал вашу повесть. Вызвали мы вас потому, что с рукописью надо что-то делать: во-первых, редактировать, во-вторых, может быть, сокращать, она великовата…
Первые фразы были сказаны сухо, даже несколько официально. Но смысл, смысл! Редактировать. Сокращать. Значит, хотят печатать? Конечно, я догадывался, что меня вызывают телеграммой не для того, чтобы сообщить плохое, и все же услышать от главного редактора слова с подобным смыслом— мгновенный шум в голове, как от легкого теплового удара. Подробности разговора помню плохо. Какое-то смутное именинное настроение: во мне самом. Помню, Твардовский выяснил, что написано до повести и что напечатано, и с недоверием переспрашивал: «Всего один рассказ?» Я, кажется, был смущен, потому что наврал, напечатаны были два рассказа: в альманахе «Молодая гвардия» рассказ «В степи», о котором я упомянул, и еще один, бесконечно слабый, в журнале «Молодой колхозник». Про тот я скрыл. И в моем подавленном тепловым ударом мозгу мелькнула мысль: вдруг он читал рассказ в «Молодом колхознике» и теперь ловит меня на вранье? Стал постепенно оправдываться, бормотал про «Колхозник». Помню, он допытывался откуда я родом. «Москвич? Коренной? Родители тоже москвичи?» Я объяснил про родителей. «Москва у вас хорошо видна», — сказал Твардовский, и это было, кажется, единственное прямое высказывание о повести. Потом познакомил меня со своим заместителем, Сергеем Сергеевичем Смирновым, который размашисто влетел из соседней комнаты в кабинет: молодой, быстрый, скачущий, суетливый, он двигался и разговаривал совсем в другом ритме, чем неторопливый Твардовский. «Тот самый Трифонов», «А? Так, так, так… — Здоровенной ручищей Смирнов тряс руку. — Будем готовить договор, Александр Трифонович?»
«Редактировать. Сокращать. Договор». Впервые эти слова, которые сопровождали меня потом, то в реальности, а то в мечтах и в кошмарах, всю жизнь, я услышал в тот день.
Прощаясь, Твардовский сказал:
— А Константин Александрович прав: читается ваша рукопись с интересом… Но сору там много. Дадим опытного редактора, поработаете как следует… — И вдруг прозрачно-голубые глаза, сохранявшие прохладную дистанцию, стали теплыми, близкими: — А знаете, Юрий Валентинович, моя жена заглянула в вашу рукопись и зачиталась, не могла оторваться. Это неплохой признак! Проза должна тянуть, тянуть, как хороший мотор…
Редактора для рукописи вскоре нашел сам Твардовский: Тамару Григорьевну Габбе. И должен сказать, что мне необычайно повезло и даже, точнее, посчастливилось с этим редактором. Тамара Григорьевна была близким другом Маршака, а Маршак был другом, Твардовского, и в первые недели редакторства Александра Трифоновича в журнале, занятия для поэта нового, Маршак — мудрый человек, искушенный в организации литературного дела, создавший когда-то в Ленинграде целую литературную фабрику по выделке детских книг, где, кстати, трудилась и Тамара Григорьевна Габбе, — много и энергично помогал Александру Трифоновичу советами. Тамара Григорьевна рассказывала мне, что весною 1950 года Твардовский советовался с Маршаком по всяким редакционным делам нередко. По-видимому, Маршак и рекомендовал Габбе. Тамара Григорьевна, с которой во время трехмесячной работы мы очень подружились, признавалась мне, что вначале не хотела браться за редактирование: давно не занималась этим делом, утратила к нему интерес, да и своя литературная работа не оставляла времени (книги для детей, статьи, пьесы, среди них такая известная, как «Город мастеров»). Но Маршак настоял, говоря, что «Твардовский очень просит». Тамара Григорьевна решила посмотреть рукопись. Посмотрев, согласилась, рукопись ее заинтересовала. Рекомендации журнала — о них я тогда не знал, Тамара Григорьевна рассказала позже — были: сократить вдвое. Но это был, кажется, самый простой способ доработки рукописи.
Тамара Григорьевна оценила рукопись иначе: там не лишнее, а там не хватает. Надо углублять, мотивировать. По ее советам я написал почти три листа нового текста. Рукопись достигла двадцати трех листов. Редакторская работа по всей рукописи была проделана очень большая, но то было не мелочное перечеркивание фраз, не стрижка и не причесывание (помню, в одном журнале, когда готовился один мой рассказ для какого-то мифического сборника, редактор всегда вымарывал слова «задумчиво» и писал «раздумчиво»), а насыщение смыслом. Тамара Григорьевна никогда не вписывала никакие свои слова и фразы. Она была, конечно, замечательный редактор, высочайшей квалификации, про нее говорили: «лучший вкус Москвы», а еще раньше
«лучший вкус Ленинграда». (Впрочем, между ленинградской и московской школами редактирования существовало некоторое соперничество, что я обнаружил позже, когда работал с Софьей Дмитриевной Разумовской, тоже великолепным мастером своего дела.) Примерно так: Разумовская относилась к рукописи так же, как Роден — к куску мрамора. «Я отсекаю все лишнее!» В результате вмешательства мастера возникает шедевр. Габбе доверяла силам автора, она их отыскивала, побуждала к действию. Тут был расчет на то, чтобы мрамор как бы ваял себя сам. Конечно, разделение грубое: и Разумовская полагалась на силы автора, и Габбе порой бестрепетно отсекала, но я говорю об общих, может быть, бессознательно осуществляемых принципах. Итак, мы работали. Почти все лето. К нашей работе менее всего применимы слова «шедевр», мрамор».
Несколько раз в день работу прерывали звонки Маршака: он советовался с Тамарой Григорьевной, читал по телефону стихи, отрывки из статей. Иногда звонил, чтобы прочесть одну какую-нибудь строчку. Тамара Григорьевна терпеливо выслушивала, подробно высказывалась. Я терпеливо ждал. Иногда мы отрывались от работы, чтобы поговорить о книгах, о писателях. Тамара Григорьевна удивляла меня своим спокойным, если не сказать, прохладным отношением к Хемингуэю, перед которым я — по традиции Литинститута — благоговел; зато бесконечно говорила о Толстом, о Герцене.
О современных писателях отзывалась как-то иронически: «Мне кажется, они все в кого-то играют… Один — нынешний Тургенев… другой — нынешний Достоевский…»
Она была маленького роста, живая, миловидная, быстро и легко двигалась, разговаривала мягко, шутливо. Трудно было поверить, что эта женщина перенесла тяжкие невзгоды. О своей жизни не говорила, о своем творчестве — тоже никогда. Вообще она была человеком необычайной скромности и бескорыстия. «Самуил Яковлевич считает, что у меня нет мускулов честолюбия.
Для меня навсегда незабываемы встречи с Тамарой Григорьевной в ее крохотной комнатке на Сущевской, где стоял секретер красного дерева, на откидной крышке которого мы кое-как раскладывали бумаги, где за стеклом старинного шкафа теснилась обширная библиотека. (Сейчас книги находятся в библиотеке ЦДЛ, переданные туда, как дар Тамары Григорьевны по ее заявлению, о чем сообщает табличка, и каждый раз, поднимаясь в библиографический кабинет, я вижу шкаф, табличку и знакомо мерцающие за стеклом книги, которые за двенадцать лет после смерти Тамары Григорьевны не вынул из шкафа, наверное, ни один человек, и на миг вспоминается давнее, что происходило в том смутном пятидесятом году со мною и со всеми вокруг, и секундная скорбь сжимает сердце. Помните у Маршака: «Каких людей я только знал! В них столько страсти было! Но их с поверхности зеркал как будто тряпкой смыло».) И вот, говорю я, встречи в крохотной, загроможденной мебелью комнате, споры о словах, чтение вслух, работа без устали до поздноты, до сладостных, ночных вагонов метро… И казалось, что все будут так же желать мне удачи, так же жадно подсказывать, радоваться хорошей фразе. И только так и никак иначе, казалось мне, делается литература.
Сейчас из романа «Студенты», которым набита целая полка в моем шкафу, я не могу прочесть ни строки. Даже страшновато взять в руки. Были бы силы, время и, главное, желание, я бы переписал эту книгу заново от первой до последней страницы.
Но — зачем? Не надо возвращаться к тому, что ушло. Это все равно что пытаться наяву переделывать нечто, существующее лишь во сне, или же бежать вверх по эскалатору, спускающемуся вниз.
С Твардовским не было встреч до конца лета, когда я принес в «Новый мир» законченную рукопись. Габбе считалась внештатным редактором, теперь следовало отдать повесть на просмотр и, может быть, доработку штатному редактору: им оказалась дама средних лет, заседавшая в одной из клетушек. С дамой сразу возник конфликт. Это была редактриса того распространенного типа, который я бы назвал типомбесталанного самомнения: талантом, то есть чутьем и пониманием литературы, бог обидел, а самомнение наросло с годами от сознания своей власти над рукописями и авторами.
Почти сразу я почуял некую холодность к себе, к рукописи и, главное, через меня и рукопись — к Тамаре Григорьевне. Дама, кажется, была уязвлена тем, что для первой большой редакторской работы новый руководитель журнала позвал человека со стороны. Было сказано какое-то насмешливое словцо по адресу Тамары Григорьевны. Работа началась с черканья и перестановки слов на первой же странице. Я вступил в спор. Дамское самомнение кипело. Я упорно не уступал. Больнее всего меня задело пренебрежение дамы не к моему тексту, а к авторитету Тамары Григорьевны. Черкать и переставлять слова во фразе, ею одобренной! И эдак с маху, с налету! А Тамара Григорьевна вовсе не брала ручку и ничего сама не правила в рукописи. Да и что за замечания? «Которые… которые… как… как…» Можно согласиться, можно не соглашаться. Я решил не соглашаться. В то время я производил впечатление тюфяка, этакой флегматичной орясины, и дама была, кажется, изумлена, обнаружив мою гранитную неуступчивость.
— Я вижу, у нас дело так не пойдет! — сказала она гневно.
— Я тоже так полагаю, — сказал я.
Пожалуй, я вел себя рискованно. Но тогда этого не сознавал. Я пошел к Твардовскому и попросил назначить мне другого редактора. Он спросил: в чем дело? Мы друг друга не понимаем. Стал было рассказывать о предмете спора, но Твардовский прервал: ему все было ясно.
— Мы вам дадим другого редактора, хотя не думаю, что это необходимо. Габбе очень хороший редактор.
Дама, которая наскочила на меня, как баржа на мель, переплыла в «Советский писатель» и лет двадцать благополучно подчеркивала там слова «которые» и «как».
Твардовского я не видел несколько месяцев, он выглядел иначе: как-то уверенней, энергичней, разговаривал кратко, твердо. К себе я не почувствовал большого интереса. Мне было сказано, что повесть планируется на осень. Она вышла в двух номерах: октябрьском и ноябрьском 1950 года. Моя жизнь изменилась. Внезапно я стал известным писателем. Теперь сомневаюсь: писателем ли? Но тогда, конечно, не сомневался ни минуты. Обрушились сотни писем, дискуссии, диспуты, телеграммы с вызовом в другие города. Все это началось в декабре и продолжалось, нарастая, в течение всей зимы. В редакцию «Нового мира» я заходил за письмами, которые Зинаида Николаевна собирала в толстые пакеты и, передавая их мне, шептала с изумлением: «Послушайте, ну кто бы подумал! Ведь только Ажаев получал столько писем!» Члены редколлегии, которые раньше меня не замечали и едва здоровались — с какой бы стати им замечать? — теперь останавливали меня в зальчике и задавали вопросы.
Катаев сказал, что в два счета сделал бы из меня Ильфа и Петрова.
— Небось уж подписались в Бюро вырезок? И носят вам на квартиру такие длинные конверты со всякой трухой? — спросил он.
Я не слышал, что существует какое-то Бюро вырезок. Твердо решил: не подпишусь; Но через год все-таки подписался.
Александр Трифонович ко всей этой внезапной и ошеломившей меня шумихе вокруг «Студентов» относился благосклонно. Ведь это был успех журнала. Но официальное отношение к повести было пока неясно. До меня донеслись слухи, что есть недовольные, говорят, что вещь чересчур бытовая.
Твардовский сказал:
— Вы не думайте, что вы всех очаровали. Даже в нашей редколлегии есть люди, которые протестовали резко.
Я посмотрел вопросительно, перебирая в уме: кто бы это? Спросил. Назвал наугад одного из членов редколлегии.
— Да, да, — строго и с нажимом произнес Твардовский. — Главный наш зоил. Мужчина серьезный, имейте в виду. Как он Катаева-то поставил по стойке смирно! Но мы с ним не посчитались. И вообще я думаю, он у нас тут не загостится…
В январе в «Правде» появилась статья Л. Якименко, положительно оценившая «Студентов». По тем временам это был большой успех. Мне звонили товарищи, поздравляли. Посыпались всякие лестные предложения: из «Мосфильма», из театра, с радио, из издательства. Люди, меня окружавшие, были ошарашены: я же, представьте, принимал все как должное! И вел себя глупо. На предложение «Мосфильма» писать по «Студентам» сценарий я ответил отказом: видите ли, посчитал для себя унизительным эксплуатировать успех. В «Советском писателе» тоже гордо отказался от договора, ибо — как объяснил удивленному редактору, пригласившему меня, кажется, это был Кузьма Горбунов — я когда-то, полтора года назад, дал обещание редактору из «Молодой гвардии» Вилковой передать книгу им. Горбунов резонно заметил: «Это молодежное издательство.
Они все равно вас издадут». «Нет, я обещал им первое издание. Не могу их обмануть». Горбунов отпустил меня с богом, издание в «Советском писателе» задержалось на несколько лет. Зато на предложение Театра имени Ермоловой сделать инсценировку по «Студентам» я согласился. Мне очень понравился главный режиссер театра Андрей Михайлович Лобанов. Он прочитал повесть, как только она появилась, и сразу пригласил меня в театр.
Я сказал Твардовскому, что согласился на предложение театра. Александр Трифонович презрительно скривился:
— Зачем вам это нужно? Отдали бы на откуп двум каким-нибудь ловким дельцам…
Шум вокруг «Студентов» уже стал, мне кажется, Александра Трифоновича несколько раздражать. Спустя двадцать два года попробую разобраться в причинах шума. Что за время было в литературе? Лучшие книги, появившиеся в эти годы, были книги о войне: Панова, Казакевич, Гроссман. Читателям хотелось книг о сегодняшней, знакомой жизни. Был настоящий читательский голод. Помню, каким событием оказалось появление американского романа, вполне посредственного, Айры Уолферта «Банда Тэккера». Его читала вся Москва. И, однако, жажда чтения, страсть к книгам были громадным, всеохватным увлечением: после войны, несчастий, карточной системы, после того, как книги продавали, чтобы купить хлеб.
Дискуссии вокруг романов Ажаева «Далеко от Москвы» или «Кружилихи» Пановой собирали тысячные аудитории. Этот шум, рассуждения с трибун, споры, крики были выражением страстной и истосковавшейся любви к книге.
В истории России никогда не было более благодарной читательской аудитории, чем после окончания войны.
И в повести «Студенты» была некоторая бытовая правда, были подробности, напоминавшие жизнь. И — не где-то и когда-то, а жизнь сегодняшнюю, московскую. Обсуждения «Студентов» тоже собирали тысячные аудитории. В иных вузах диспуты длились по два дня. «Новый мир» в февральской книжке под рубрикой «Трибуна читателя» опубликовал подробную, на нескольких страницах стенограмму диспута в Московском пединституте. Помню, редакция «Нового мира» встречалась с читателями автозавода. Поехали Твардовский, Смирнов, Тарасенков, Катаев и я. Встреча была многолюдной, в клубе ЗИСа.
Первое время я боялся встреч с читателями. Меня пугала не возможная критика, а — необходимость выступать самому. Выступал я плохо, мямлил, бормотал и часто разочаровывал слушателей. Встречи длились обычно три, четыре часа, и уставшая публика ждала к концу, в виде отдыха и развлечения, остроумную речь автора. Я не оправдывал надежд. В президиум поступали записки: «Выступление т. Трифонова нас не удовлетворило». Но постепенно я, что называется, поднатаскался. У меня отштамповалась со временем некая модель выступления с набором анекдотов и шуток, которые действовали безотказно. И я перестал бояться встреч с читателями. Впрочем, вру. До сих пор всякая такая встреча и вообще всякое прилюдное выступление с трибуны для меня — пытка, казнь.
В клубе ЗИСа я отбарабанил «по модели» десять минут. Твардовский, наклонившись, спросил тихо:
— Ну что, может, теперь усики заведете.
Явное издевательство над моей «славой». Но я слишком любил Твардовского, чтобы обижаться.
— Нет, Александр Трифонович, не заведу, — пообещал я.
— А жениться не думаете?
— Нет.
— Что ж так? Это вы напрасно. — И вдруг всерьез: — А жениться надо рано. Я рано женился…
Я сказал:
— Я в Ленинград собираюсь, Александр Трифонович.
— Ну, это все равно что жениться!
Опять мне почудилось, что надо мной издеваются. Я ему все прощал. Я считал: он имеет право надо мной издеваться, ибо я нахожусь в смешном положении едва испеченной знаменитости. В Ленинград я ехал по приглашению Ленинградского университета на дискуссию. Мы разговаривали с Твардовским вполголоса в то время, как на трибуне кто-то говорил. Это был последний оратор. Когда все кончилось, спустились вниз, оделись, Твардовский спросил:
— Не хотите поехать с нами куда-нибудь посидеть за доброй чаркой?
Такое прямое приглашение в свою компанию от Твардовского я услышал впервые. За доброй чаркой мне приходилось сидеть с ним раза два, но бывало это случайно: я встречал его в баре на Пушкинской. Теперь же меня приглашали как равного. И, конечно, я был польщен, мне страшно хотелось пойти с Твардовским и Катаевым в какое-то заманчивое «куда-нибудь». Но — ведь я был нелепым молодым обормотом! Меня ждали такие же молодые обормоты, добрые чарки, и все было заранее договорено, предусмотрено: квартира находилась как раз неподалеку от клуба автозавода. Да, очень хотелось пойти с Твардовским и Катаевым, но что поделать — на гулянку, к обормотам хотелось еще сильней.
И я честно признался в этом Александру Трифоновичу.
Он, кажется, не понял моей откровенности, попрощался сухо. Утром я проснулся в чужой квартире, разбитый, с головной болью. Комната была перегорожена надвое. Приятели мои исчезли. На другой стороне, за шкафом, старуха мыла тарелки. И я с тоской думал о своей вчерашней глупости, но все же утешал себя: впереди долгая жизнь, и я еще не раз отправлюсь с Твардовским и Катаевым «куда-нибудь».
Да, было, отправлялся, но спустя много лет, без Катаева, и без того Твардовского, и без тогоменя. Впрочем, было-то иначе, не «где-нибудь», а по-домашнему, на веранде. То, что упущено в юности, упускается навсегда. А долгая жизнь оставляет много времени для сожалений.
Было несколько встреч в баре на Пушкинской. Александр Трифонович жил тогда рядом, на улице Горького, в бар заходил часто. А мы, бывшие студенты Литинститута, и вовсе считали бар своим домом. Всегда после стипендии — туда! Помню, пришел с Евдокимовым. Твардовский увидел меня, пригласил за столик. Это было, наверное, в ноябре, сразу после выхода номера с окончанием «Студентов». Твардовский сидел один.
Если в редакции Александр Трифонович был со мной корректен, суховат и я не ощущал его истинного отношения, то теперь вдруг почувствовал какое-то непроизвольное движение теплоты, интереса к себе. Он так радушно, жестом, позвал меня за столик, так почтительно поздоровался с моим товарищем и так мягко, приветливо стал меня расспрашивать.
Я что-то говорил о своих планах. Планов было множество, но ничего определенного. Уже несколько недель я находился в состоянии эйфории.
— Да, вы теперь должны поднять новый пласт.
— Поехать куда-то на стройку, на завод… Только, бог ты мой, не пишите продолжения! — внушал он тихим голосом. — Нынче модно: первая книга, вторая книга… Чуть у кого такусенький успех, он сейчас на этом плацдарме окапывается, строит долговременную оборону. А надо дальше идти. И вот выжимают, выжимают… Не будете писать продолжения? Нет? Обещаете?
— Нет, не буду, Александр Трифонович. Точно не буду. — И не мог удержаться от хвастовства. — Хотя многие советуют…
— Дураки советуют! Не слушайте дураков! — сердито сказал он, и вдруг другим тоном, как бы про себя, безучастно: — Ах, бог ты мой, дело ваше. Хотите — слушайте…
И была минута-другая какого-то внезапного ледяного отчуждения, он отсутствовал, смотрел в сторону, я мучился недоумением и не знал что делать: может, я ему опротивел? Встать и уйти? Но затем снова — интерес, приветливость.
— Вот что я вам скажу: не спешите с новой вещью. Изучайте людей… Когда будете знать их так же хорошо, как вы знаете своего профессора Козельского…
Профессор Козельский — из моей повести, злой гений, формалист и низкопоклонник.
— И запомните еще: сейчас у вас самое ответственное время… Сейчас успех — опасность страшная! — Он грозил пальцем. И, вдруг приблизившись вплотную, зашептал на ухо, чтоб не услышал Евдокимов: — Мы вас на премию хотим выдвинуть. Только пока — молчать! Ни я никому, ни вы никому. Ничего неизвестно, и, разумеется, я вам зря говорю… Забудьте, не придавайте значения…
Но как я мог забыть?
— Испытание успехом — дело не шуточное. У многих темечко не выдержало…
Это выражение — относительно темечка — я слышал от Александра Трифоновича не раз на протяжении лет.
Весною, кажется, в апреле в Москве собрали Второе совещание молодых писателей. На первом совещании, в 1947 году, я был в семинаре у Валерии Герасимовой и подвергся убойной и вполне справедливой критике за два рассказа. Теперь попал в семинар к Гроссману. Как раз во время совещания в «Правде» появилось сообщение о премиях. За повесть «Студенты» — третья премия.
Помню, день объявления премий меня, конечно, обрадовал, но не то чтобы — потряс или осчастливил. Я принял известие довольно спокойно. К десяти утра, к началу занятий в семинаре, поехал в ЦК комсомола, к Ильинским воротам, где происходило совещание. В вестибюле меня встретил литинститутский приятель Медников, который глядел на меня минуту-другую с изумлением и потом спросил:
— Старик, ты газету читал сегодня?
— Читал. Насчет премий?
— А я думал, не знаешь! Старик, но по тебе совершенно ничего не видно!
И я замечал в тот день, что многие мои приятели потрясены этой новостью гораздо сильней, чем я. В лифте ехал на третий этаж с Медниковым, еще с какими-то ребятами из семинара, меня поздравляли, шутили, балагурили, только один человек не поздравил, не проронил ни слова, и я поймал на секунду злобно-черный, я бы сказал испепеляющий взгляд: это был один из руководителей нашего семинара. «Ого! — подумал я. — Мы ведь почти не знакомы. За что ж он этак-то люто?»
Мне вспоминаются мелочи, чепуха, неуловимое, даже не поступки, не слова, просто взгляды. Но что делать, если взгляды — запомнились. И, как видно, на всю жизнь.
Через год, весною пятьдесят второго, я пришел в «Новый мир» просить командировку. Хотелось уехать подальше. Увидеть жизнь, не похожую на ту, о которой я писал прежде. Попросил командировку в Среднюю Азию, на стройку Туркменского канала. Алесандр Трифонович одобрил. В апреле я улетел на юг.
Мотался по Каракумам, на вездеходах, на верблюдах, в маленьких самолетиках, знакомился, узнавал, записывал. В Черкесской экспедиции, стоявшей штабом в Казанджике, но с отрядами, разбросанными по всей пустыне, работала геоботаником сестра Таня, только что окончившая МГУ. Она помогла проникнуть в некоторые секреты полевой изыскательской жизни. Я начал писать повесть об изыскателях на трассе канала. Писал осень, зиму — работа шла туго, материал был далек, необжит, необмят. Да и где было обжить и обмять за месяц галопа по пустыне. А я привык писать лишь о том, что знаю досконально. Дело стопорилось. Отвлекали великие пустяки жизни. Мне казалось, что я разучился писать. Но все же треть повести, страниц сто двадцать, была написана к марту пятьдесят третьего. Я собирался весною вновь поехать в Туркмению. Внезапно пришло известие: стройку Туркменского канала законсервировали, как нерентабельную. Таня, приехав, рассказывала: все обрезалось враз, некоторые отряды, застрявшие в песках, не могли выбраться без транспорта и без денег.
Моя повесть застряла, как эти отряды в песках. Но без надежды выбраться. Кому нужна книга о стройке, которую закрыли? Ничего не писалось. Все бесконечно разговаривали.
В пятьдесят четвертом я написал пьесу о художниках для театра Ермоловой. Ее поставил Андрей Михайлович Лобанов. «Советская культура» напечатала разносный подвал. Пьеса, конечно, была жидкая. Но в спектакле кое-что удалось, били меня, по-моему, чрезмерно ретиво. Вспоминаю этот эпизод, потому что с пьесой была связана еще одна попытка — последняя в пятидесятых годах — напечататься в «Новом мире». Вдруг позвонил Смирнов и попросил немедленно прислать экземпляр пьесы. Выпал из номера какой-то материал, срочно искали замену. Я не верил, что пьеса пройдет в журнале: все-таки чувствовал ее слабину. А вот мужества отказаться, не послать — не нашлось! Послал. Через два дня вернули. Мне было неловко перед Александром Трифоновичем.
И потом в том же пятьдесят четвертом я пришел в журнал с просьбой о договоре на новый роман. Признаться, надеялся получить аванс, так как сидел без денег. Дело обыкновенное. Просьба о договоре окончилась ужасным и незабываемым конфузом.
Так как эта история наложила отпечаток на дальнейшие несколько лет моих отношений с Александром Трифоновичем, я расскажу о ней подробнее. Вообще-то в просьбе о договоре не было ничего зазорного или дурного. Но в моем случае был ряд причин, которые делали эту просьбу рискованной. Я должен был почувствовать, что отношение Александра Трифоновича ко мне за последние года два заметно охладело. Я, может, и чувствовал кое-что, но не придавал значения и не задумывался. Ну что ж, не зовут в журнал, не приглашают на встречи с читателями, не предлагают командировок, а когда встречал вдруг Александра Трифоновича в Доме литераторов, он кивнет сдержанно и пройдет мимо, как мимо постороннего и малознакомого человека — естественно, полагал я: ведь я ничего не пишу и интерес пропал. Александр Трифонович — человек особенный. Он относится к литературе очень страстно, лично.
Я вспомнил, как в другие времена, когда он еще меня любил, он говорил, что литературу надо любить ревниво, пристрастно. «Мы в юности литературные споры решали как? Помню, в Смоленске в газете затеялся какой-то спор о Льве Толстом, один говорит: «А, Толстой — дерьмо!» — «Что, Толстой дерьмо?» — не думавши, разворачиваюсь и — по зубам. Получай за такие слова! Он с лестницы кувырком…»
Вот я и думал, что перемена отношения Александра Трифоновича ко мне оттого, что я творчески скис. Ни черта ведь не получалось, не писалось. Оно так и было, конечно. Но было и другое. Позднее, когда я узнал Александра Трифоновича ближе, я понял, какой это затейливый характер, как он наивен и подозрителен одновременно, как много в нем простодушия, гордыни, и крестьянского добросердечия, как легко он поддается внушениям, как трудно меняет свои мнения о людях.
…Мне советовали пойти к Твардовскому и попробовать объясниться. Я не решался. Казалось глупым: зачем напоминать о своей персоне? В конце концов для меня одного это важно и болезненно, даже более чем болезненно — перемена Твардовского меня глубоко ранила, в чем я никому не признавался, — для него же, может быть, все это пустяки, несущественность. Забыл и забыл. А приходить, напоминать, размазывать — вроде чеховского чиновника, который чихнул на лысину генерала и все пытался потом объясниться.
Таковы были мои отношения с Твардовским к тому дню, когда я отправился насчет договора. Вернее, отношений не было, были лишь смутные переживания по поводу их отсутствия и надежда как-то дело поправить. Между тем Александру Трифоновичу было вовсе не до меня в эти дни.
Сначала я поговорил со Смирновым в его маленьком кабинетике, потом Смирнов, ничего не решив, предложил зайти к главному редактору. В кабинете, кроме Твардовского, было еще несколько членов редколлегии.
Твардовский церемонно со мной поздоровался. Я стал объяснять: есть замысел романа, современного, действие происходит в Москве, хотелось бы договор, если это возможно. Александр Трифонович слушал, затягиваясь папиросой и глядя на меня пристально и сощурившись. Не дав мне договорить, он усмехнулся и сказал, обращаясь к присутствующим.
— Роман написать! Да кто сейчас на роман замахивается?
Присутствующие одобрительно кивали.
— Какой роман? О чем? Что за идея? — продолжал он с напором. — То, что вы рассказали, весьма туманно и, простите меня, неубедительно. У нас нет возможности рисковать договором. Ведь вы же куда-то ездили, что-то собирались делать. Совсем не то, о чем рассказываете сейчас.
Я объяснил про Туркменский канал, про свою брошенную повесть. Александр Трифонович, внимательно выслушав, вдруг сказал резко:
— Вот об этом и напишите…
— Вы такую повесть напечатаете?
— Да вы напишите сначала! — крикнул он раздраженно.
Я молчал, понимая, что всякое возражение бессмысленно. Попал в дурную минуту. Члены редколлегии тоже молчали: для них это было вроде спектакля.
Твардовский не спешил меня отпускать. Он стал говорить о том, что все хотят писать романы, дилогии, трилогии, эпопеи, а не могут путем написать рассказа. И мне предлагал: «Начните с рассказа. Попробуйте написать рассказ на десять страниц, и приносите». И это начните говорилось редактором, который недавно — хотя какое недавно? Четыре года прошло! — напечатал мою книгу в двадцать с лишком листов. Значит, ее как бы и нет? Как бы и не существовало? В то время я не мог с этим согласиться. Показалось, что меня намеренно обижают. Мало того, что отказали в договоре, но еще и отняли то, что было мое блистательное начало. Как говорили некоторые. А я верил.
Оторопевший от такого афронта, я все же пытался защитить свою честь.
— У вас, по-моему, не так-то много молодых писателей… — глупо пробормотал я.
Эта фраза, в которой слышался своего рода укор, окончательно взорвала Твардовского. Злорадно фыркнув, он сказал:
— Знаете, у нас в деревне говорили: к одному мужику пришел сын, просил денег. «Тятя, говорит, ты своему дитю должен помочь!» А сам вот этак стучит по столу…
Члены редколлегии покатились со смеху.
Я попрощался и ушел. И решил никогда больше не переступать порога «Нового мира».
Спустя двенадцать лет я опять напечатался в журнале Александра Трифоновича. Насчет писания дело у меня не очень клеилось. Я мотался в Туркмению едва ли не каждый год. В пятьдесят восьмом сочинил несколько туркменских рассказов, и очень захотелось понести их Твардовскому, который как раз тогда опять возглавил журнал.
Но все же прийти прямо к Александру Трифоновичу я не решался. Принес рассказы и отдал Заксу. Тот быстро прочел и отверг. Приговор был лаконичный: «Какие-то общечеловеческие темы!» До Твардовского мои сочинения не дошли. Эти же рассказы — их было штук десять, я относился к ним всерьез и считал в некотором смысле своим достижением — я показал Тамаре Григорьевне Габбе. Тамара Григорьевна жила в новой квартире, у аэропорта. Мы не виделись долго, но я вновь ощутил тепло, интерес к себе. Ничего особенного, но как это было дорого, непривычно! Рассказы Тамаре Григорьевне понравились. «Не огорчайтесь отказом Закса. Я попробую через Самуила Яковлевича сделать так, чтобы их прочитал Твардовский.
Через короткое время Тамара Григорьевна смущенно сообщила, что Маршак говорил с Твардовским обо мне и тот сказал: «Закс мой работник, я ему доверяю». И не стал рассказов читать. В 1959 году они вышли в «Знамени». С этого времени примерно на шестилетие я стал автором «Знамени». С Твардовским почти не виделся. Была встреча на похоронах Тамары Григорьевны Габбе в шестидесятом году, и опять я невольно сделал так, что восстановил Александра Трифоновича против себя. Ещеболее восстановил!
Тамара Григорьевна умерла еще не старой женщиной, пятидесяти семи лет. Близких людей, кроме Маршака, у нее не было. Твардовский очень сочувствовал горю старшего друга. Был звонок из Союза писателей: от имени Твардовского меня просили выступить на траурном митинге. Я сказал, что не смогу, не умею. Это была истинная правда. С трудом, и то в силу величайшей необходимости, я выступал на собраниях, а на траурном митинге, где каждое слово должно быть значительно, я не смог бы выговорить двух фраз, бормотал бы постыдно.
Прошло много лет с тех пор, я многих похоронил, притерпелся к скорбному обиходу, к повязкам, цветам, выносу, вносу, тихим разговорам, и на собраниях выступаю довольно связно, но заговорить над гробом — а ведь есть что сказать! — и теперь не хватает духу. Это только кажется, будто есть что сказать. Нету слов для этого. Не существует…
Встретились с Александром Трифоновичем в тесной, набитой людьми квартире Тамары Григорьевны, вместе несли гроб с третьего этажа, и Александр Трифонович глядел на меня не то что неодобрительно, а как бы с изумлением: и как же я мог? Да, да, мог, вернее — не мог. Постепенно, я чувствовал, у Александра Трифоновича возникало отчетливое представление обо мне: весьма далекое от того, что я есть на самом деле. Но ничего поделать было нельзя. Я надеялся на время: что-нибудь сочиню, совсем не так, как сочинял прежде, меня напечатают, тогда поговорю, объясню, докажу. Хотя что, собственно, надо было доказывать? Все это пустое, недоказуемое. Иногда мне мерещилось, будто моя безответная приверженность к Александру Трифоновичу — скрытно мучающая — какое-то неизжитое мальчишество, незрелость души. Да черт бы меня взял! Какой-никакой, я все же самостоятельный писатель, и находились люди, правда, не так-то много, которые считали меня хорошим писателем, а мои родные считали меня даже очень хорошим писателем, но едва завидев Твардовского, я краснел и покрывался потом, как мальчишка, встретивший вдруг на улице своего любимого спортсмена. Впрочем, тут не было странного: я был не одинок. Имя замечательного поэта приобретало все больше приверженцев, болельщиков и прямо-таки фанатических поклонников среди читающей России.
В конце шестьдесят второго года, когда я закончил роман «Утоление жажды» и Кожевников отказался его печатать — а я писал роман по договору со «Знаменем», — из «Нового мира» прилетело вдруг предложение показать роман. Предложение от Евгения Герасимова, который заведовал отделом прозы. «Покажите! А вдруг?» Я показал. Через день Герасимов позвонил с отказом. Не понимал тогда, не понимаю теперь, как можно за день прочитать роман в двадцать печатных листов.
Скорей всего тут подействовало то возникшее с годами отчетливое представление обо мне и о том, что я могу написать. Александр Трифонович мог и не знать, что Герасимов звонил насчет романа, а, узнав, покривился. Роман все-таки вышел в «Знамени», а «Новый мир» отозвался неопределенной рецензией Феликса Светова. Я был уязвлен, счел рецензию несправедливой и со Световым перестал здороваться. Господи, какая глупость! Сейчас нисколько не уязвляюсь самыми резкими статьями (такие появились именно сейчас, что там статья Светова!), и не шибко радуюсь похвалам. Все эго элементарно, но до такой элементарности надо доползти, докарабкаться: должны пройти годы.
В 1964 году мы с Александром Трифоновичем оказались соседями по дачному поселку Красная Пахра. Александр Трифонович купил дом недавно умершего Дыховичного, я почти одновременно приобрел недостроенную дачу Слободского. Участки находились рядом и соединялись калиткой: соавторы, как видно, часто бегали друг к другу. Первое время соседство с Александром Трифоновичем никак не отражалось на наших отношениях, по-прежнему далековатых. Мы встречались изредка, здоровались через забор. По утрам Александр Трифонович возился в саду, трещал сучьями, жег костер или рубил дровишки на маленьком рабочем дворе, за своей времянкой, как раз возле угла нашего общего забора. Часов в шесть утра я слышал кашель Александра Трифоновича, знал, что он уже встал, возится с сучьями, и тоже вставал и выходил в сад. Я делал гимнастику, приседал и махал руками в еще сыром и темном саду, приближаясь к тому углу забора, неподалеку от которого работал Александр Трифонович. Какой у меня сад! Лес, высокая трава, ели, березы, осина… Приблизившись к забору, я говорил в ту сторону, откуда раздавался треск сучьев: «Здравствуйте, Александр Трифонович!» И каждый раз вспоминалось: «Здравствуйте, господин Гоген!» Иногда мы разговаривали о садовых делах. Он советовал разредить лес, вырубить молодняк, в особенности осину.
Я был совершенно ничтожен как сельский хозяин. Твардовский скоро это сообразил и перестал давать мне советы: не в коня корм. Он только говорил иногда, с оттенком удивления, о том, какой отличный сельский хозяин Григорий Яковлевич Бакланов, живший в нашем поселке.
В то лето, первое на Пахре, нам все там очень нравилось: лес, воздух, дорога на речку, речка, магазинчики, молочница на велосипеде. Единственное, что отравляло жизнь: радио. Звуки радио доносились с соседского участка. В тихом воздухе радиоголоса и музыка были казнью. Я мучился много дней, не мог работать. Обратиться к Александру Трифоновичу и попросить его сделать радио потише представлялось мне бестактностью. Наконец, не вынес и как-то утром, когда запело радио и одновременно стал слышен знакомый треск сучьев, подошел к углу забора, поздоровался и спросил:
— Александр Трифонович, это не у вас радио поет?
— Нет, — сказал Александр Трифонович, кажется, даже растерявшись от моего вопроса. — У нас радио никогда не поет. Мы его вообще не заводим.
Оказалось, радио пело на участке, находившемся за участком Александра Трифоновича. Ему оно мешало еще больше, чем мне. Почему же не попросить людей?
Он пожимал плечами:
— Как попросишь? Мы незнакомы. И неловко как-то — взрослые люди…
Такова была его деликатность. Может, на дне этой деликатности, в глубине самой, находилось нечто иное, например гордыня. Ведь надо же попросить! А это непросто. Дело кончилось тем, что обратился к приятелю, тоже нашему соседу, Юзику Дику, а тому никакой черт не страшен и никакая просьба не в тягость, он поговорил с теми людьми, радио заткнулось.
Зимою шестьдесят пятого мы на Пахре не жили, только недели две, в январе, во время школьных каникул. Александр Трифонович жил на даче круглый год. Житье там ему, по-видимому, очень нравилось. Я ничего не давал в «Новый мир», было несколько рассказов, но дать их не решался. Было известно, что в отделе прозы сидят необыкновенно требовательные редакторы. Но все же многие литераторы, хоть чуть себя уважавшие, стремились стать авторами журнала Твардовского. То было всеобщее писательское вожделение. Не обошло оно и меня.
Но, боже мой, как не хотелось получать удар по самолюбию! Ведь мы солидные авторы, нас хвалит печать, издают в «Роман-газете». А журнал Твардовского, как говорили сведущие люди, ко всем относится одинаково: к секретарям, к маститым, к начинающим, к неведомым авторам из самотека. И больше того: неведомые авторы из самотека даже пользуются, по слухам, некоей предпочтительностью по сравнению с маститыми. «Надо пройти Асю!» — говорили сведущие люди за столиками ЦДЛ. Ася имеет большое влияние на Дороша. Пройти Асю — значит пройти отдел. Ну, а там все зависит, конечно, от того, как посмотрит Атэ.
«Атэ» — таково было внутрижурнальное, кодовое имя, произносимое, конечно же, за глаза, со школьным благоговением и трепетом, и люди, позволявшие себе всуе, за столиками ЦДЛ произносить это имя, как бы причисляли себя — уже одним этим знанием кода — к сонму близких и посвященных. У видеть Атэ, поговорить с ним было для всех, не только для авторов, но и для сотрудников журнала делом редким и непростым.
Я же встречал Атэ возле забора, разговаривал о сжигании листьев, уборке мусора. Зимою по вечерам мы сталкивались на темных, обледенелых аллеях — издалека были слышны его твердые шаги и стук палки. Той зимой он часто ходил один, быстро, не задерживаясь ни с кем из встречавшихся на дороге знакомых, напряженно о чем-то думая. Одинокая его фигура казалась мощной, большой, порывисто куда-то устремлен ной. Думал ли он о журнале, о друзьях, о книгах, или о том, что происходило в стране и в мире? Может быть, в эти минуты под стук палки и скрип снега возникали стихи? Но помню отчетливо: эта фигура, быстро шагавшая чуть обочь дороги, чтобы не мешать дачникам, гулявшим кучно, семейно, поражала необычайной сосредоточенностью.
Если мы и разговаривали о чем-то, то — о делах поселка, о новостях, принесенных эфиром и почтальоншей, но никогда о журнале. Я старался не задавать вопросов, которые могли показаться попыткой проникнуть в эти редакционные тайны. Слишком много людей хотели бы проникнуть в эти тайны.
Постепенно, в разговорах, обнаружилось, что мы на многое: на дачных соседей, на события и на книги, о которых между прочим, между разговорами о жестянщике Коле, большом плуте и обманщике, и о сбрасывании снега с крыши, вдруг заходила речь, — смотрим с Александром Трифоновичем одинаково. Летом мы стали встречаться и разговаривать чаще. Александр Трифонович еще не чувствовал во мне полного единомышленника — хотя я был именно таковым, — привычная настороженность и какие-то старые предвзятости еще давали о себе знать, но доверие росло, правда медленно. Был разговор о повести «Отблеск костра», Александр Трифонович впервые после долгого перерыва — лет тринадцать, что ли? — проявил интерес к моим сочинениям.
Это было время, когда в литературе бурно появлялись новые таланты, яркие, самобытные. В разговорах «между Колей-жестянщиком и уборкой мусора» я слышал краткие, но довольно суровые, порой иронические, порой едкие отзывы о некоторых ветеранах журнала. Про одного говорилось, что «темечко не выдержало», у другого «нет языка», третий «слишком умствует, философствует, а ему этого не дано». Зато возникли новые имена: Домбровский, Семин, Белов, Искандер, Можаев, Шукшин.
И вот об этих, пришедших в последние годы, говорилось с интересом, порою увлеченно. Если в журнале готовилась к опубликованию какая-нибудь яркая вещь, Александру Трифоновичу не терпелось поделиться радостью: даже с риском выдачи редакционной тайны.
— Вот прочитаете скоро повесть одного молодого писателя… — говорил он, загадочно понижая голос, будто у нас в саду могли услышать недоброжелатели. — Отличная проза! Как будто все шуточками, с улыбкой, а сказано много…
И в нескольких словах пересказывался смешной сюжет искандеровского «Козлотура».
Так же в саду, летом, я впервые услышал о можаевском Кузькине. Высоко ценил Твардовский молодого, набиравшего силу Шукшина, хотя и замечал, что писатель особенно силен в прямой речи, «ухо поразительно чуткое», авторская речь послабей. Не довелось увидеть Александру Трифоновичу, как чудесно возрос редкий шукшинский талант. Похвалы роману Абрамова «Две зимы, три лета» я слышал задолго до того, как книга появилась в журнале.
То, что Александр Трифонович делился со мной такими редакционными сокровенностями, значило много, и я гордился этим. Иногда Александр Трифонович приходил утром, очень рано, стучал палкой в стекло веранды.
— Тургенев говорил: русский писатель любит, чтобы ему мешали работать…
Я действительно радовался приходу Александра Трифоновича, откладывал писанину, работа прерывалась на несколько часов, а иногда и на целый день.
Александр Трифонович был ровен, проницателен и как-то по высшему счету корректен со всеми одинаково: с лауреатами премий, с академиками, с жестянщиками. Те ровность и демократизм, которые были свойственны ему, как редактору в его отношениях с авторами, отличали Александра Трифоновича и в обыденной жизни, и поэтому он пользовался необыкновенным уважением всех людей, которые как-либо с ним соприкасались. Ну, и я был одним из этих людей, соприкасаясь с ним посредством деревянного заборчика, возле которого мы часто стояли и, держась за его сыроватые планки, разговаривали о всякой всячине.
И мне казалось невероятным, что когда-то я был автором Александра Трифоновича, а он был моим редактором, добрым редактором! Все то, что было пятнадцать лет назад, исчезло навсегда и окончательно. И я не огорчался. Александр Трифонович как будто и в уме не держал, не вспоминал о том, что я писатель. Пожалуй, я был для него читатель, квалифицированный, толковый, правильно мыслящий, с кем небезынтересно поговорить о литературных новинках. К его фразам, которые он произносил иногда, прощаясь после прекрасного застолья на свежем воздухе, в саду или на веранде с открытыми окнами, вроде такой: «Почему вы нам ничего не приносите? Приносите! Нам интересна каждая ваша страница!» — я относился с мучительным недоверием. Я подозревал в них глубоко — впрочем, и не очень глубоко — спрятанную иронию. Может быть, я ошибался, но, скорей всего, так и было. Уж очень непохожей на него была эта фраза: «Нам интересна каждая ваша страница!» Конечно же, он смеялся надо мной, как смеялся над другими, когда уходил, прощаясь после прекрасных вечеров на свежем воздухе.
Повторяю: у меня были рассказы, но дать их Александру Трифоновичу я не решался. Кроме того, что пугал возможный отказ, удар по самолюбию, я еще боялся нарушить наши отношения, умеренно-дружественные. Боялся того, что он подумает, что я думаю, что, коль мы встречаемся по-соседски, это дает мне право…
Осенью 1966 года Борис Слуцкий взял три моих рассказа и отдал Асе Берзер. Два из них были приняты. Эти два рассказа прошли с необыкновенной быстротой все ступени редакционной лестницы и появились в декабрьском номере того же, 1966 года. Я снова стал автором «Нового мира». В марте следующего, 1967 года «Новый мир» напечатал рецензию И. Крамова на книгу «Отблеск костра», только что изданную «Советским писателем», — это был первый и, пожалуй, единственный основательный отклик на книгу. Весною 1967 года я поехал по командировке «Нового мира» в Ростов собирать материалы для документальной книги о двадцатом годе.
Помню, Александр Трифонович зашел в маленькую комнатку ответственного секретаря Хитрова, когда тот выписывал мне командировку, и, узнав, что я еду в Ростов, сказал одобрительно:
— Хорошо, хорошо. Надо его посылать…
Той зимою и весной я много мотался, вернее, метался, путешествовал: в январе был с дочкой по приглашению в Болгарии, в марте в Австрии на хоккейном чемпионате.
О поездке в Болгарию написал рассказ «Самый маленький город». С этим рассказом дело было так. Прочли в отделе, прочел Дорош, кто-то из членов редколлегии: одобрили, послали в набор.
Александр Трифонович читал обыкновенно верстку — кроме крупных вещей, с которыми знакомила, конечно, в рукописи. Летом шестьдесят седьмого я на Пахре не жил. Приехал как-то осенью, встретился с Александром Трифоновичем, и он сказал мне, что только что прочитал «мой рассказик». Так и сказал: «ваш рассказик».
Я почувствовал холодноватость отношения к «рассказику». Да, разумеется, это было несвое, не новомирское — и по манере, по стилистике, по художественной задаче. В рассказе «Самый маленький город» не было ничего из того, что особенно ценилось журналом «Новый мир» и ставилось во главу угла, из так называемого социального. Хотя, на мой взгляд, социальное в глубинном, высшем его понимании — изображение общества, как сплетение характеров — должно существовать и существует во всякой истинной литературе, какой бы далекой от социологизации она не казалась. Один мой приятель, литератор, в конце пятидесятых годов всегда спрашивал, когда речь заходила о каком-либо романе, о рассказе или повести: «Против чего?» А рассказ о Болгарии был как будто не против чего. Несколько лет назад Б. Закс сказал по поводу туркменских рассказов с неодобрением и даже, пожалуй, презрительно: «Какие-то вечные темы!..» Те рассказы были отвергнуты, на этот раз отдел меня одобрил, хотя и со скрипом. Донеслось ворчливое высказывание Ефима Яковлевича Дороша: рассказ написан в какой-то западной манере, но печатать можно. «У Трифонова есть свой читатель».
В общем, ко мне относились гораздо лучше, чем несколько лет назад, и это было основанием надеяться на то, что рассказ пройдет. Очень хотелось его напечатать. Он был о больном, самом больном для меня тогда, и казался мне настоящим. Я и сейчас считаю его одним из лучших из пятерки своих рассказов.
В рассказе «Самый маленький город» было на ортодоксальный новомирский взгляд три порока: он был написан о Болгарии, а не о родной земле (о Болгарии должны писать болгары, а иные попытки — от лукавого), в его стилистике замечалось влияние не русской классической прозы, скажем, Толстого или Тургенева, а скорее Хемингуэя, и вдобавок в нем совершенно не было «против чего». Но я-то считал, что «против чего» там было. Ну, может быть, так: против горечи жизни, против несправедливости судьбы, против… да бог знает против чего еще! Против смерти, что ли. Против обыкновенного житейского ужасанигде и никогда, с чем мы примиряемся и живем.
Но все это было чересчур общо и ненужно.
Я не удивился тому, что Александр Трифонович сразу обнаружил холодность к рассказу, хотя сказал довольно мягко: „Я понимаю, вы хотели бы такой памятничек… Но на вашем месте я бы рассказ теперь не печатал. Пусть полежит.
Никакого «памятничка» я не хотел. Даже в уме не держал. Написалось, и все. Возражать я не стал и спокойно принял известие, что рассказ не пойдет. Почему-то была уверенность в том, что напечатаю в другом месте. Но Александр Трифонович неожиданно и каким-то безразличным тоном произнес:
— Если хотите, мы его напечатаем. Как хотите.
Но мой вам совет — подождать.
Подумавши полминуты, я сказал:
— Александр Трифонович, я хочу его напечатать. Это был странный разговор с редактором: хотите, не хотите. Мне было неловко, что не внял доброму совету, пошел наперекор Александру Трифоновичу, и, однако, — уж очень мне хотелось этот рассказ напечатать.
Итак, рассказ был одобрен и определен в один из ближайших номеров. Между тем был у меня еще один рассказ, застрявший в отделе: «Голубиная гибель». Он, кажется, не очень понравился в отделе, потому что был отсечен от тех двух, напечатанных в шестьдесят шестом. Я считал, что по качеству он ничуть им не уступает, да и по смыслу не худ. Словом, я набрался наглости и передал его как-то осенью, в один из приездов на дачу — прямо через забор в руки Александру Трифоновичу. Это было первый и единственный раз, когда я действовал помимо отдела, воспользовавшись выгодою соседства. Прошло всего дня три, и Александр Трифонович сказал, что рассказ ему понравился и он передал его в отдел.
— Он лежал у меня на столе, Мария Илларионовна прочитала, — сказал Александр Трифонович. — Хороший, говорит, рассказ, но почему конец такой грустный? Прямо говорит, жить не хочется. Вы там что-нибудь сделайте с концом…
Потом был разговор об этом рассказе в редакции. Меня вызвали туда срочно. Звонил Дорош. Тут я понял, что значило для отдела, когда материал со своим «добро» передает Александр Трифонович. Все делалось с поразительной быстротой, с опаской не успеть, недоделать. Я должен был мгновенно учесть все замечания на полях, потому что рассказ добавлялся к болгарскому и шел в первый, январский, номер шестьдесят восьмого года. Александр Трифонович просил зайти к нему в кабинет, на второй этаж. Об этом мне так же поспешно и с некоторым волнением сообщил Дорош.
Александр Трифонович подробно прошелся по всему тексту. Замечания его были точные, четкие. Ни одно не вызвало возражений, все шли на улучшение, уточнение рассказа. Он, например, подчеркнул везде слово «карниз» и заменил его словом «отлив». Предложил убрать несколько фраз в сцене ареста Бориса Евгеньевича, отчего все стало выразительней и сильнее.
— Хорошо он у вас говорит: «Разве вы не знаете, я же вчера человека убил?»
Я признался, что эту фразу не придумал, она из жизни. Мне рассказывала о ней вдова Виктора Кина Цецилия Исааковна Кин.
Январский номер с двумя рассказами вышел лишь в марте. Весною я написал рассказ «В грибную осень», отдал в отдел. При тех отношениях, какие у меня сложились с Александром Трифоновичем, я мог бы отдавать рукописи прямо ему — он даже предлагал это, когда бывал в добром расположении духа, — но я проявлял осмотрительность и отдавал в отдел,
Прочитав рассказ «В грибную осень», Ася сказала, что будет предлагать его в какой-то из летних номеров, седьмой или восьмой. Рассказ вышел в августовском номере.
Зимою мы виделись с Александром Трифоновичем редко, а в начале лета следующего, шестьдесят девятого, года, когда я переехал на Пахру прочно, решив там жить все лето и работать, — я писал тогда повесть «Обмен» — виделись чуть ли ни каждый день.
Стоял свежий теплый июнь.
Каждое утро ходили с Александром Трифоновичем купаться на речку. Мне было неловко заходить за ним — боялся быть навязчивым, — а он по дороге от своей дачи на речку заворачивал на мой участок, благо, калитка не закрывалась ни днем, ни ночью, подходил к открытому окну на кухне или к веранде, и говорил громко: «К барьеру!» Бывало это рано, часов в восемь. Я тут же выходил с полотенцем и мы шли по шоссе, еще не успевшему нагреться, тихому и пустынному, солнце пекло нам в спины. На дачах никто не шевелился. Проезжала молочница на велосипеде, здоровалась с Александром Трифоновичем. Он кланялся ей степенно. В этой деревне, называемой Красной Пахрой, где жили писатели и бог еще знает кто, он был, конечно, самый знаменитый и уважаемый человек. Мы сворачивали налево, проходили через калитку на территорию моссоветовских дач, потом шли парком, спускались мимо заброшенного каменного здания клуба крутой тропинкой к рощице ивняка, и вот уже был берег нашей речонки Десны, повсюду узкой и жалкой, а здесь довольно широкой из-за плотины. Берег в этот час был безлюден. Может быть, два или три рыбака крылись где-то в укромных убежищах, в густой осоке или под счастливым деревом. Ни лодок, ни детского крика. Мы переходили по мостику на остров и там в гущине, в тени, возле коряжистой, изломанной старой ивы располагались на нашем месте.
Александр Трифонович не любил цивилизованного пляжа, вообще пляжа. Население поселка ходило обыкновенно к излучине реки, где было подобие такого пляжа, песок, мягкое дно, даже вышка для прыжков в воду, там днем и вечером гомонили купальщики, дети, молодежь, играли в волейбол, читали книжки, загорали, текла летняя жизнь. Александр Трифонович не ходил туда никогда. Он любил островок, где ивы, уединение, вязкое дно, всегда немного тинисто* и грязно, но лишь на первый взгляд грязно, на самом-то деле грязь на пляже, а здесь самая чистая вода на всей реке. Потому что ключи, местами даже стынью обдаст, плывешь, плывешь — и холодом по ногам.
Сход в реку был удобен: подходили к глинистому обрывчику, хватались за склоненный низко над водой — будто по заказу — не толстый, но и не тоненький пружинистый ствол ивы и, сделав два шага, оказывались на глубине. Александр Трифонович был крепок, здоров, его большое тело, большие руки поражали силой. Вот человек, задуманный на столетие! Он был очень светлокожий. Загорелыми, как у крестьянина, были только лицо, шея, кисти рук. Двигался не спеша, но как-то легко, сноровисто, с силой хватался за ствол, с силой отталкивался и долго, медленно плавал.
В июне шестьдесят девятого года, теплыми утрами на реке, от которой парило, я видел зрелого и мощного человека, один вид которого внушал: он создан побеждать! Окончилось это спокойное время начального лета поездкою Александра Трифоновича в гости к Соколову-Микитову…
Выбирать, решаться, жертвовать
Вещь окончена, но над ней продолжаешь думать: видишь скрытые планы, неисчерпанные возможности, новые грани старых идей. В этом запоздалом дочерпывании, большей частью бесполезном для оконченной вещи, но плодотворном для будущей, помогает взгляд со стороны. Я с интересом читал статьи В. Соколова и М._ Синельникова, где высказано много серьезного и порой для меня неожиданного. Иногда гордо удивлялся: «Ага, значит, можно и такую тонкую мысль отсюда вывести?» Иногда становилось как-то неловко: вроде меня с кем-то перепутали. А временами хотелось крикнуть: «Да ведь я вовсе так и не думал, как вы считаете!»
Нет, разумеется, я знаю, что я люблю и чего терпеть не могу, но, когда садишься писать, об этом как-то не думаешь. Оно само собой движется, идет и идет, самосильно.
Но вот что, по-моему, я знаю точно: о чем я не хотел писать. Не хотел я писать об интеллигенции и о мещанстве. Ничего подобного даже в уме не держал. М. Синельников пишет: «Интеллигент, интеллигенция — эти слова часто мелькают в трифоновских повестях». Критик ошибается, эти слова часто мелькают в статье В. Соколова и в статье самого М. Синельникова. В повестях же они мелькают редко. Слово «интеллигент» столь безбрежно расширилось, что включает в себя всех имеющих высшее и даже частично среднее образование. Таких людей многие миллионы. Если иметь в виду это, то тогда, пожалуй, верно — повести об интеллигентах.
Я имел в виду людей самых простых, обыкновенных. Ну, там, инженеров, скажем, домохозяек, преподавательниц, научных работников, заводских мастеров, драматургов, домработниц, студентов и так далее. Как их можно назвать всех вместе? Может быть, так: горожане. Жители городов. Раньше было такое спокойное слово: мещане, то есть как раз то самое — жители города, «места». Но слово «мещане» с течением времени уродливо преобразилось и означает теперь совсем не то, что означало когда-то. Что-то малоприятное и, честно говоря, подозрительное. А если говорят «интеллигентствующий мещанин», то это уж такая отвратительная гадость — не приведи господь. Смысл перевернулся, слова изменились, и против этого не попрешь. Однако еще раз повторяю: ни о каких мещанах я писать не собирался. Меня интересуют характеры. А каждый характер — уникальность, единственность, неповторимое сочетание черт и черточек. И дело ли художника включать его в какое-то понятие, например «мещанство», «интеллигенция», «пенсионеры», «работники искусства» или «труженики полей»?
Кроме деления людей на эти массовидные разряды, иногда их делят еще так, что получается, как у двух критиков в журнале «Молодая гвардия», которые категорически объявили, что в двух повестях, в «Обмене» и в «Предварительных итогах», нет положительных персонажей, кроме дедушки и матери Дмитриева в «Обмене». Стало быть, все остальные — сорняки, отрицательные, их с поля вон!
А ведь очень интересно: как эти критики себе представляют положительный персонаж? Как его узнавать? Взять иного критика и спросить: «Вы-то сами, извиняюсь, конечно, кто будете: положительный персонаж или же отрицательный?» Критик, наверное, сконфузится, покраснеет, уклончиво что-нибудь промычит, уверенный на сто процентов, что он-то уж, несомненно, персонаж положительный, но ведь неловко себя самого аттестовать. Придется обратиться к знакомым, к сослуживцам, к соседям. «Да, разумеется, в высшей степени положительный персонаж!» — скажет один. «Человек симпатичный, но, знаете, со странностями…» скажет другой. «Я бы не назвал его в полном смысле положительным товарищем», — решительно заявит третий. Четвертый такое ляпнет, что повторить неудобно. А другой критик, товарищ этого критика, удивится: «Смешно вы спрашиваете! Разве можно о живом человеке так примитивно, однозначно?..»
О живом человеке нельзя, о литературном персонаже — можно. Вот этого я не понимаю. Почему Лена, жена Дмитриева, отрицательный персонаж? Что она: ребенка бьет? Ворует деньги в кассе взаимопомощи? Пьянствует с мужчинами? Никудышный работник? Ничего подобного, ребенка любит, вина не пьет, семью свою обожает, работает прекрасно и успешно, даже составила какой-то учебник для технических вузов. Она человек на своем месте и приносит безусловную пользу обществу. Ну, есть какие-то недостатки в характере, а у кого их нет? У вас, что ли, ангельский характер? Нет, товарищи инженеры В. Бедненко и О. Кирницкий, очень уж вы наотмашь и очень уж как-то негуманно подходите.
Но могут сказать: позвольте, автор, но вы же осуждаете Лену? Автор осуждает не Лену, а некоторые качества Лены, он ненавидит эти качества, которые присущи не одной только Лене…
Однако можно ли за это выбрасывать человека? Человек есть сплетение множества тончайших нитей, а не кусок голого провода под током, то ли положительного, то ли отрицательного заряда. Надо вырывать из живого тела нить за нитью, это больно, мучительно, но другого выхода нет.
Есть прекрасные слова Лермонтова из предисловия к «Герою нашего времени», которые, кстати, ни к селу ни к городу цитируют В. Бедненко и О. Кирницкий. Но повторим эти слова еще раз, им не привыкать к цитированию, они живут на свете сто тридцать лет: «…Не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как излечить — это уж бог знает!»
Написано сие в давнишние времена, все вокруг изменилось неузнаваемо, облик страны, жизнь народа, его труд, быт, дома, одежда, пища, но характер человека меняется не так быстро, как города и русла рек. Не будем обольщаться, для того чтобы выдавить из человека такую, например, болезнь, как эгоизм, должны пройти годы и годы. Это ведь самая старая из всех человеческих болезней. Ученые утверждают, что эгоизм помогал выжить в борьбе за существование. Однако они же, ученые, говорят, что и альтруизм был очень полезен в этой борьбе. Так или иначе, оба свойства существуют в человеческой природе рядом, в вечном противоборстве. И задача, может быть, в том и состоит, чтобы помогать — слабыми силами литературы — одному свойству преодолевать другое, человеку меняться к лучшему.
Одна моя добрая знакомая рассказала: она живет со взрослым сыном, бабушка отдельно, решили съезжаться, чтобы бабушке облегчить жизнь. Вдруг сын говорит матери: «Я прочитал повесть «Обмен» и не могу съезжаться с бабушкой. Ну, не могу». Знакомая была очень расстроена. Но потом, кажется, сын согласился, и они обменялись.
Дело в том, чтоб читатель задумался — хотя бы на минуту. Это грандиозно много. Я очень обрадовался, когда услышал про эту историю. Конечно, великий поэт прав, не следует тешить себя надеждой стать «исправителем людских пороков», но — хотя бы на минуту сделать человека лучше? Чтобы, прочитав повесть, читатель пошел бы в гастроном и купил бабушке бутылку молока, а дедушке двести граммов российского сыра.
Опять, скажут, автор толчется на пятачке: быт, быт, бутылка, двести граммов. Но автор хочет в заключение сказать слово в защиту быта. Быт — это великое испытание. Не нужно говорить о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность.
Взаимоотношения людей — тоже быт. Мы находимся в запутанной и сложной структуре быта, на скрещении множества связей, взглядов, дружб, знакомств, неприязней, психологий, идеологий. Каждый человек, живущий в большом городе, испытывает на себе ежедневно, ежечасно неотступные магнитные токи этой структуры, иногда разрывающие его на части. Нужно постоянно делать выбор, на что-то решаться, что-то преодолевать, чем-то жертвовать. Устали? Ничего, отдохнете в другом месте. А здесь быт — война, не знающая перемирия.
Планетарное увлечение
Искусство и спорт
Что же это такое — спорт, спорт, спорт?
Игра? Развлечение? Может быть, работа? Изнурительный труд? Искусство? Что-то вроде театра, цирка? А, может быть, вот что — могучее средство воспитания молодежи? Пожалуй, да. Этого не отнимешь. Но почему же из-за этого средства воспитания миллионы людей как бы сходят с ума, делаются безумцами, возникают крупные межгосударственные конфликты и даже войны (Гондурас — Сальвадор)? Может быть, спорт, спорт, спорт — это всего лишь наваждение двадцатого века? Нечто вроде всемирного психического заболевания? Недаром же понятие «болезнь» входит в слова: болельщик, фан, тифози…
В жаркий день конца июля я поднимался с толпою на холм Уэмбли, где должен был состояться финальный матч Лондонского чемпионата мира по футболу. В финал вышли команды Англии и ФРГ. Десятки тысяч немцев приехали на эту игру с континента. Операция «Морской лев», которая не удалась немцам во время второй мировой войны, прекрасно осуществилась во время войны футбольной — тысячи автомобилей и автобусов перебрались через Ламанш, оккупировали лондонские предместья, затопили улицы каркающей немецкой толпой. Немецкие песни, немецкие красные лица. «Хох! Хох! Зиг хайль!» Они ходили шеренгами, взявшись за руки. И вот все это, полухмельное, возбужденное, со знаменами и флагами, с дудками, пистолетами и барабанами, перемешанное с такой же возбужденной толпой англичан, которые тоже несли флаги и пели хором про святых, идущих в рай, поднималось странной, как бы ползущей вспять лавиной на холм стадиона Уэмбли. Стояла библейская жара, которой никто не замечал. У подножия стадиона я увидел маленького, невзрачно одетого человека с белым лицом идиота. Размахивая руками, он что-то кричал навстречу идущим. Он пытался остановить толпу. «Опомнитесь! — кричал он. — Чем вы занимаетесь? Куда вы идете? Страшный суд грядет! Мир на грани конца! По слову Апокалипсиса…» Толпа обтекала кричавшего. Никто даже не смотрел на него. Один спросил: «А кто сегодня выиграет, ты не знаешь?»
— Меня это не интересует! — быстрым жестом отмахнулся человек с белым лицом.
Толпа проглотила его, поволокла наверх, на трибуны. Там, на поле, уже маршировал военный оркестр, публика шумела, ревела, жрала пиво и сандвичи, дым от десятков тысяч сигарет поднимался в небо и свивался гигантским табачным облаком. Все торопились жить, узнать: кто, кто, кто? Через два с половиной часа узнали: англичане. Ну и что? Немцы сели в автобусы и автомобили и поехали назад, в свой фатерланд. Доннерветтер, реванш не удался, даже здесь, на зеленом газоне.
Так, может быть, спорт, спорт, спорт — пустое сотрясение воздуха? Какая-то отдушина, куда вылетают клубы некоего неблаговонного пара, называемого национализмом?
Было и другое. Помню: синее небо Отрана в Савойских Альпах, и многотысячная толпа у подножия трамплина. Все смотрели наверх и ждали, как зачарованные, когда появится прыгун. Он возникал внезапно на синем экране неба, одну секунду парил и затем с поразительной ловкостью, хлопался на крутой склон, несся снарядом вниз. Не помню, кто тогда выиграл. Там были финны, чехи, норвежцы, наши ребята, канадцы, поляки, французы, американцы. Но отчетливо помню общее впечатление: во всех странах есть изумительные смельчаки!
И была радость — за всех, гордость — всеми, человечеством.
В фильме, о котором пойдет речь, Белла Ахмадулина читает такие стихи:
Ты человек, ты баловень природы,
Ты в ней возник, в ее добре, тепле.
Возьми себе урок ее свободы,
Не обмани ее любви к тебе.
Страдает и желает совершенства
Души твоей таинственная суть,
Так в совпаденьи муки и блаженства
Вершит земля свой непреложный путь.
Ты созидаешь сам себя и лепишь,
И никому не видимым резцом
Ты форму от бесформенности лечишь,
И сам себе приходишься творцом…
Да, да, и это тоже — сотворение совершенства.
Понять и исследовать феномен двадцатого века — Спорт с большой буквы — задача для художника бесконечно сложная, увлекательная, неясная и новая, как сам предмет исследования. Режиссер Э. Климов и автор сценария Г. Климов создали картину с открытиями. Многое им удалось сказать впервые.
Главное — серьезность подхода, взгляд на спорт с больших вершин, философских, исторических. Не всегда этот стиль выдерживается, но в лучших местах картины, там, где он существует, возникает стиль высокой пробы: правда, глубина, осмысление.
Авторы картины сразу находят точный, документально-правдивый тон — как бы в пику множеству развлекательно-живописных картинок, показывающих лакированную спортивную жизнь. Тяготы спорта! Горечь! Трагедии! Не правда ли, мы этого нигде никогда не видим: ни в кино, ни в спортивных газетах и журналах и уж тем более — в телевидении. Но ведь спорта без трагического не существует. Каждый спортсмен неизбежно переживает трагедии: в течение спортивной карьеры — поражения, а в конце ее — уход из спорта. Ни один, самый величайший, не избежал трагедии конца. Тут происходят страшные вещи, иногда невидимые для постороннего глаза, но порой вырывающиеся наружу с вулканической силой.
В фильме Климова, может быть, и нет этой конкретной темы, но есть ощущение внутренней трагичности спорта — и одно это правдиво и ново! Мы видим с первых же кадров: падает на ипподроме лошадь со всадником, жесточайшая свалка у футбольных ворот, падают, столкнувшись, хоккеисты, в отчаянном броске падает на лед хоккейный вратарь, искаженное напряжением лицо боксера, схватка на ринге, разбитое изуродованное лицо, мотоциклист втаскивает из последних сил свою тяжеленную машину по жидкой грязи на холм — и силы покидают его, мотоцикл вырывается из рук и падает, переворачиваясь…
Очень трудно в большом спорте. Неимоверно трудно. И уж совсем немыслимо трудно — победить.
Одна из лучших новелл фильма — о Брумеле. Всесветную славу этого прыгуна можно сравнить со славой Джесс и Оуэнса, который, кстати, тоже присутствует в фильме. Трагическая тема конца есть и в новелле о Брумеле, но здесь причина не возраст, а — рок, несчастье. Плоть трагедии та же: внезапное прекращение привычной, прекрасной жизни — на подмостках мира, под светом юпитеров — уход в тень, в толпу.
Чем поразителен Брумель? Мы видим ничем не выдающегося молодого человека, который может быть студентом, шофером, электросварщиком, инженером. Он симпатичен, ординарен. Его рост — средний, ноги — никакие не дьявольские пружины, обыкновенные. Кто-то за кадром рассказывает: «Хилый, худой, слабый. Сибиряк он был. Привык к трудностям. Была большая семья, впроголодь жили…»
Еще кто-то: «Если он сел только первый раз за руль, так он должен ехать быстрее всех».
И еще голос: «Он всегда любил так: вызов бросить всему. Людям, условностям, обстоятельствам — ну, всему!»
Разные люди говорят о Брумеле разное. Мы даже слышим первое впечатление первого тренера Дьячкова: «Да, пружина редкая, но говорит — совершеннейший дуб!» И дальше: «Он мне задавал столько вопросов, когда мы начали с ним работать, что я за всю свою жизнь, как педагог, не имел столько вопросов в сумме!» Потом, когда в кадре сцены матча с легкоатлетами Америки, задумчивый голос произносит: «Честолюбие у него… Это честолюбие развито уже с детских лет до невероятности».
И вот возникает объем, возникает характер, душа — живой человек. Не герой, не ангел, не феномен, но с чем-то внутри безусловно феноменальным. Человек, обреченный от природы всегда побеждать! И сам уверившийся в этом; привыкший к этому. Не мыслящий иного. Что же делать, если — природа велела побеждать? Ну, труд, конечно, бесконечные прыжки, тренировки до седьмого пота — прыжки, прыжки, прыжки, прыжки, прыжки. На пустых стадионах, в холода, в зиму, в дождь. В фильме все это есть… Труд показан. Но ведь все трудятся. Все прыгают до седьмого пота. Миллионы прыгунов во всех странах совершают без устали миллионы прыжков, на что-то надеясь, веря в свое героическое трудолюбие.
Но только один — Брумель. Два метра двадцать восемь.
И вдруг все кончается. Мировые чемпионы — представители новой, небывалой породы людей. Они дышат не кислородом, а шумом трибун, рукоплесканиями, тем дурманящим запахом, который источает победа. Когда все это исчезает — нечем дышать. Пережить собственную славу так же трудно, как выкарабкаться из тяжелейшей болезни. На Брумеля обрушилось сразу и то и другое — конец славы и болезнь. И он начинает бороться. Мы видим — он выкарабкивается!
Феноменальность, заложенная в этом спортсмене, еще ярче проявляется именно теперь — когда мир с жалостью махнул на него рукой.
«Моя правая нога была сильно искалечена, — рассказывает Брумель о катастрофе под Дворцовым мостом. — Торчали обломки наружу. Ну, я подобрал… эту ногу в руку и при помощи двух товарищей допрыгал до остановившегося «Запорожца»… Затем — два с половиной года мытарств по клиникам, и, наконец встреча с доктором Елизаровым.
Брумель встал на ноги. Прыгает… Да, прыгает снова! «Он мне разрубил голень в двух местах, ну вот… поставил свой аппарат, и…»
Прыжки, совершенные Брумелем после несчастья, после того, как все похоронили его как спортсмена, все до единого, даже бывший тренер — намного выше его рекордных. Он боролся теперь не с высотой и не с планкой, а — с роком.
Он пытался перепрыгнуть рок! И это ему почти удалось. Да, удалось. Можно сказать, он вышел в отчаянной последней борьбе победителем.
Мрачный голос специалиста за кадром: «Мне кажется, никаких перспектив нет. Не сможет он прыгнуть! Ну, два двадцать восемь — это никогда. Два пятнадцать — под большим вопросом… Ну, остальные прыжки, думаю, не интересуют ни его, ни вас. Никого!»
На фоне этого казенного пророчества показаны* прыжки Брумеля. На совершенно пустом стадионе. Действительно — не интересуют никого. Показаны семнадцать планов неудачных прыжков.
Восемнадцатый план. Брумель лежит в яме с опилками и смотрит на планку: она осталась на месте.
Этот незаметный прыжок на безлюдном стадионе — великий прыжок. Человек не знает всех своих возможностей. И человечество — не знает. Прыжок несчастного бывшего чемпиона есть одно из маленьких открытий — нет, не фильма, а Брумеля и нас вместе с ним еще не изведанной странывозможностей человека.
Заслуга режиссера: так рассказать, что мы делаем это открытие вместе с прыгуном.
Кажется, я слишком надолго остановился на рассказе о Брумеле. А в фильме есть и другие удачи. Например, просто и красиво излагается бесхитростный сюжетик — занятия детской школы плавания. Тут нет глубоких проблем. Милые детские лица, красивая, молодая женщина — тренер, блондинка в очень красивом красном тренировочном костюме, красивая зелень парка, красивая вода в бассейне, красивая песенка: «В нашем доме поселился замечательный сосед». И все это было бы совсем знакомой лакированной картинкой, если бы… девочка Таня, юная пловчиха, не была бы снята медленно, подробно и беспощадно во время обычного тренировочного заплыва. Мы видим нарастающее утомление, краснеющие белки глаз, тяжелое дыхание — нет, красота снаружи, а внутри тяжесть, бесконечные усилия. Труд в спорте начинается вот в таком юном возрасте.
Красные глаза Тани и ее нежное, измученное лицо — лишь пролог, слабое обещание того, что предстоит.
Например, той драмы, которая рассказана в другом, наверное, самом сильном сюжете фильма. Забег на десять тысяч метров в Филадельфии во время легкоатлетического матча СССР — США в 1959 году. У любителей спорта этот эпизод остался в памяти, как «подвиг Пярнакиви». Я знал об этой истории раньше. Но кинорассказ производит ошеломляющее впечатление.
Гавриил Коробков, тренер советской сборной, рассказывает: «Бег происходил в июле месяце, когда улицы Филадельфии были больше похожи на реки, а машины на лодки. Жара была тридцать четыре… Это была парная…»
Ну, вы помните, конечно? Американцы и наши шли очко в очко. Перед последним номером программы — десять тысяч — американцы впереди на два очка. 75–73. Американец Боб Сот делает рывок. Трагическая ошибка: при такой духоте и влажности никаких рывков делать нельзя! Последовало возмездие. Мы видим, как американец вдруг начинает бежать на месте. Совершенно потрясающее зрелище. Похоже на бег во сне. Тысячи зрителей встают со скамеек и смотрят, как несчастный Боб Сот семенит ногами и не двигается с места. Его шатает то в одну сторону, то в другую. Он напоминает бабочку, трепещущую под ветром. И вдруг — падает. К нему хотят подбежать врачи, одним из первых наш врач Петров, но судьи не дают никому приблизиться к Соту. Он еще на дистанции и он еще должен и может подняться!
Стадион в отчаяньи наблюдает, как в человеке борются смерть и долг. Никто не может ему помочь. Все это какое-то безумие. Сот поднимается. Это довольно страшно: поднимается не человек, а остов, бессознательная умирающая плоть, в которой не существует ни сил, ни мыслей, ни чувств, ничего, кроме воли.
Сделав несколько шагов, Сот падает замертво.
Коробков говорит: «У Сота не было уже солей в организме и в мозгу… Не было кислорода… Все вышло, выпотело, вылетело… В общем, он почти потерял жизнь в тот день».
И то же самое происходит с Хубертом Пярнакиви. И он тоже бежит почти на месте. Нет, он двигается! Он все-таки продвигается, шатаясь, зигзагами, высоко поднимая колени, но — вперед, вперед. Его лицо слепо. Он бежит без сознания. И тоже падает замертво, на руки друзей — но уже за финишной чертой.
Тысячи американцев плакали, наблюдая бег.
Героем был наш железный бегун Десятчиков. Он победил и даже — по вине судей, которые совсем потеряли голову, видя этот кошмар, — пробежал лишний круг, лишние четыреста метров.
Героями были все: и Пярнакиви, и Сот.
И странно после этой драмы, вокруг которой витала смерть, услышать голос за кадром: «От того, добежит ли Хуберт, зависело все… Выиграет ли матч советская команда или нет…»
Что ж это — все? Какие-то там три очка, два очка? Одно очко? Ей-богу, ради этого всего не стоило огород городить и показывать нам такие душераздирающие сцены. Никто не помнит теперь, через одиннадцать лет, с каким счетом окончился тот матч. Два очка в ту сторону или в эту не имеют значения. Это интересно, может быть, только спортивным статистикам. Но в памяти навсегда остались бегущий зигзагами, в полубреду Пярнакиви и умирающий и встающий Боб Сот.
Десятчиков — замечательный атлет. Его физические возможности оказались выше всяких похвал. Но ведь он не вел схватку со смертью, он вел борьбу за спортивную победу и за медаль, а Пярнакиви и Боб Сот сражались на грани жизни и смерти — кто же победитель и над кем? Не следовало в этой сцене вспоминать про очки. Очки — труха, сено для статистиков и чиновников.
Хотелось бы, чтобы в отличном фильме — отличном, несмотря на просчеты и уязвимости, — было бы больше общечеловеческой, глубинной сути спорта, той сути, которая помогает раскрыть человека, как творение природы, Homo sapiens. Ибо победить себя может только Homo sapiens. В филадельфийском эпизоде было самое время поразмышлять об этом.
Уместно включены в фильм эпизоды Берлинской олимпиады 1936 года. Мы видим немецких болельщиков на трибунах, их жадные, восторженные, орущие лица. Через три года эти молодые люди, скандирующие самозабвенно «Дойчланд фор!», набросятся на Европу, разорвут Польшу, а потом Данию, Бельгию, Францию. Плотоядное ликование в честь побед на гаревой дорожке — того же состава, из тех же молекул, что и ликование по поводу пленения Варшавы и захвата Парижа.
Большой спорт формирует человечество, объединяет народы. Но Слишком Большой спорт народы разъединяет
Говоря о Слишком Большом спорте, я имею в виду спорт, раздувшийся от самодовольства, гордыни, национального чванства и сознания того, что побеждает только сила, одна сила, ничего, кроме силы.
Поединок Гитлера и Джесси Оуэнса многозначителен. В этом маленьком эпизоде — песчинке того урагана, который навис и вскоре пронесся, прорыдал над Европой, — заложены большой смысл и пророчество. Гитлер был обречен. Он проиграл в самом начале. Джесси Оуэнс выступил от лица человечества.
Ну что ж, пришла пора поговорить о просчетах.
Фильм «Спорт, спорт, спорт» тяжеловат и разностилен. Его можно было бы назвать: «Все о спорте» и еще «Всем — о спорте». Он напоминает рыхлый праздничный концерт, где есть номера на всякий вкус, на любого зрителя. Есть серьезное чтение вроде отрывков из «Войны и мира» или «Анны Карениной», есть прекрасный классический балет, есть романсы Рахманинова, украинский гопак и есть какие-нибудь пошлые эстрадные штучки, так называемые юмористические рассказы, унылые жонглеры и непременно — болтливый конферансье. Есть такой конферансье и в фильме «Спорт, спорт, спорт». Это старый массажист дядя Володя, в возрасте примерно Мафусаила, потому что — по его рассказам — работал массажистом еще до мировой войны 1914 года. И первый рассказ дяди Володи довольно забавен — о том, как он помогал французскому бегуну Жану Буэну. Использованы кадры старинной спортивной хроники. Действительно, забавно — спортсмены вовсе не спортивной внешности, усачи, бегут нескладно, публика нескладно «болеет». Все это смешно само по себе. А нужно ли добавлять смеху еще репризами дяди Володи?
Репризы такого стиля:
«— Да, кого же только не массировал дядя Володя! Ну, как кого? Э… шахматистов не массировал. Чего у них массировать-то? Хе-хе… ты подумай! Ха-ха… В общем, да!»
В зрительном зале наверняка смех. Но ведь, если один клоун ударит другого галошей по физиономии, тоже засмеются.
Дядя Володя однообразен, и — много его, чересчур много. Конферансье должен знать меру. Есть одна натужливая новелла — юмористический рассказ — о том, как дядя Володя парился где-то за границей в бане. Ну, вроде должно быть и смешно, и остро, и с какими-то намеками. И кто-то будет смеяться. А кому-то будет скучно. Западный, разлагающийся мир изображен таким, каков он есть в шаблонном представлении дяди Володи. Авторы фильма заняты как бы благой целью: поиздеваться над шаблонными представлениями. Но дядя Володя при этом превращается в дурака.
А если дурак — тогда скучно, тогда перебор.
Выпадения вкуса есть и в других местах фильма: например, в новелле о баскетболисте, от которого в ужасе шарахается лошадь. Это тем более недопустимо, что баскетболист — известный, заслуженный спортсмен, его сразу узнают зрители. Решительно не понравилась мне буффонада, устроенная авторами — опять же с помощью дяди Володи — по мотивам лермонтовского «Купца Калашникова». Великое произведение переделано в капустник. Я не пурист, не стараюсь выставить себя неким хранителем огня — если бы получилось смешно, с удовольствием бы посмеялся. Но когда смешного нет, а есть натуга, претензия, тогда возникает протест: не трогайте Лермонтова! Где-нибудь в новогоднем капустнике на «Мосфильме» это и можно показать, но не надо тащить домашнюю буффонаду на глаза миллионам зрителей.
Тем более что дядя Володя и здесь выглядит дураком.
Но наверняка и эта безвкусная сцена кому-то понравится, где-то вызовет смех, аплодисменты. Вот почему я сказал, что фильм можно назвать «Всем — о спорте». Разностильность имеет свои преимущества — позволяет доходить до самых разных слоев, вкусов. Не то, так это. Каждый найдет что-нибудь для себя. В статье «Иван Тургенев» Мопассан писал:
«Когда Тургеневу рассказывали о том, в каком количестве расходятся известные книги соблазнительного жанра, он говорил:
— Людей пошлого склада ума гораздо больше, чем людей, одаренных умом утонченным. Все зависит от уровня той интеллектуальности, к которой вы обращаетесь. Книга, нравящаяся толпе, чаще всего нам вовсе не нравится. А если она нравится нам, как и толпе, то будьте уверены, что это происходит по совершенно противоположным причинам».
Что же такое — фильм «Спорт, спорт, спорт»?
Серьезное киноразмышление? Капустник? Концерт? Попытка исследования? Документальный очерк? Лирический фильм? Наверно, это и то, и другое, и третье, и четвертое. Много личин, много граней — как в самом спорте, этом странном планетарном увлечении двадцатого века. В одном месте авторы фильма вполне резонно сближают спорт с искусством. Вперемешку со стройными фигурами спортсменов мелькают знаменитые картины, скульптуры. Их, правда, многовато, опять же без чувства меры: мелькают Дега, Леонардо, Египет, Пикассо, Ботичелли, Петров-Водкин, Дюрер, Микеланджело, Сальвадор Дали (Сальвадор Дали рифмуется со спортивным уродством, кетчем, что есть некоторый примитив и натяжка). Но дело не в этом.
Искусство и спорт на самом деле чем-то глубоко, природно близки. Не будем повторять общеизвестного воспитание, красота и т. д. Но есть еще одно гораздо более общее общее. Как выяснилось, человечество не может существовать без искусства, а теперь уже и без спорта. Поэтому серьезные раздумья на эту тему все больше привлекают художников, умеющих мыслить. Недаром один из лучших современных кинорежиссеров Франции Клод Лелюш увлекся темой мировой спорт и снял замечательную картину об Олимпиаде в Гренобле.
Климов в фильме «Спорт, спорт, спорт» добился многого. Он поймал и выразил гигантское многообразие спорта. Он увидел красоту, и опасности, и трагизм, и смешное. Еще нет художественного обобщения, без чего, как известно, не возникают шедевры. Но обобщения — будут. Надо привыкнуть, присмотреться, обжиться в новом краю: его только осваивают. Может быть, к обобщению придут другие, с помощью Климова.
Этот фильм, отталкивающийся от легкодумья и пошлой спортивной комедийности — хотя с родимыми пятнами того и другого, — торит большую дорогу.
О нетерпимости
Недавно читал одну критическую статью, написанную с необыкновенной страстностью. Читал и думал: хороша или нет чрезмерная страстность при разборе художественных произведений? Ведь страстность, как луч прожектора, всегда направлена в одну сторону, всегда одностороння, прямолинейна-, а эти свойства в оценке искусства еще опасней, чем равнодушие, ибо делают разбираемый предмет — как и любой предмет, попадающий в луч прожектора, — плоским, бескровным и окрашенным в неестественный цвет.
Излишняя страстность всегда ведет к нетерпимости, а нетерпимость — к слепоте. А это уж совсем прискорбно в делах искусства.
Вспомнилось вот что: в Ленинграде однажды происходила дискуссия с финскими писателями. Говорили о реализме, модернизме, Кафке, Джойсе, «новом романе», новом искусстве. Вечерами гуляли по Ленинграду. В Ленинграде всегда думаешь о русской истории, судьбе России, ее драмах, борьбе. Декорации города наталкивают на эти мысли. И вдруг захотелось — не памятью, не книжными ассоциациями — увидеть эпоху, концом которой была революция, пришедшая как возмездие. Пошли в Русский музей, смотрели передвижников: Прянишникова, Ярошенко, Маковского, Корзухина, других. Там была вся Россия столетней давности, но — живая, с плотью и кровью. Какие лица, какие характеры! И сколько любви там было, сколько человечности!
Потом в залах XVIII века смотрели портреты Антропова, Боровиковского — какие-то девушки, старухи в чепцах, давно превратившиеся в землю, но с сияющими глазами, живыми ртами, улыбками, дыханием — и думали: «Какое счастье, что Брак нарисовал ромб и сказал, что это портрет сварливой старухи лишь в 1902 году! Что было бы, если бы кубизм сделался моден еще в XVIII веке? Что было бы, если б наши «леваки» двадцатых годов, презрительно называвшие искусство передвижников не искусством, а литературой, победили бы в одном из баррикадных боев и запрятали бы все эти холсты в подвалы?»
Мы пришли бы в музей и увидели черные квадраты, ромбы, круги, сечения — и ничего бы не узнали, ничего не поняли. «Все же какие прекрасные художники-передвижники! — рассуждали мы, покидая музей. —
И чего на них наговаривают? Их новая слава непременно наступит, как через три столетия пришла слава Броувера, как через пять столетий пришла слава Рублева».
А на другой день были в Эрмитаже. Смотрели французов, Пикассо, двадцатый век. И опять нас скрутило и смяло силой искусства. «Как нам здорово повезло! — думали мы. — Какое счастье, что удалось сохранить коллекцию бывшего Музея современного западного искусства! Без этих картин было бы так пусто в Ленинграде, так серо!» Сейчас смешно доказывать, что импрессионисты — великие мастера, а Пикассо — замечательный художник. Но недавно, как мы помним, это было не смешно.
В статье, поразившей меня своей страстностью,
В. Дудинцев обрушился на современное искусство, в частности, на Пикассо при помощи солидного авторитета Веласкеса. С добросовестностью школьного учителя, который привел свой класс в музей, он рассказал и объяснил картины Веласкеса «Менины» и Антонелло да Мессина «Святой Себастьян». Можно ли таким образом рассказать хоть одну вещь Пикассо? Разумеется, нет. (Да и тех двоих не стоило). Так как Пикассо не годится для пересказа, он, стало быть, увел «наш ум и чувства с пути, завещанного поколениями и веками». Но почему же «наш ум и чувства» поддались злодейскому умыслу Пикассо? В чем тайна всемирного заблуждения?
Дело простое: хитрец Пикассо воспользовался передышкой — по мнению Дудинцева, искусство, устав от огромных побед, устраивает себе время от времени передышки — и влез в мир со своими малопонятными художествами.
На самом деле искусство не делало передышек даже в годы средневековья, даже в горькие для России века татарщины. Само искусство никогда не замирало, другое дело — насилие над ним. Лет тридцать назад насильственную передышку искусству устроили нацисты в Германии. Тысячи шедевров выбрасывались из музеев и уничтожались, в первую очередь — все «левое», современное, Сезанн, Брак, Пикассо. Все это называлось ублюдочным, вырожденческим искусством. (Entartete Kunst). Искусство не то, что не дышало, оно умерло, наступила клиническая смерть.
Кстати, первым среди больших художников увидел античеловеческое, сатанинское в фашизме — Пикассо. Пока наследники Веласкеса еще только растирали краски и мыли кисти, «левый» Пикассо создал в 1937 году Гернику — предупреждение миру. Как же можно говорить о том, что Пикассо увел куда-то «наш ум и чувства», когда он пронзительней многих увидел суть вещей? Он будоражил «наш ум и чувства» в то время, когда другие дремали или делали вид, что не замечают происходящего. Он призывал к состраданию, выражал боль и страх — не за какого-то отдельного человека, а за все человечество сразу. Абстрактно? Общо? Но история показала, насколько он был прав: нацизм грозилвсе м у человечеству. Искусство не ручей, который сам собой то иссякает, то бежит сильней; оно подобно разливу реки в половодье, медленно и постепенно занимающему все новые пространства. Искусство не смывает и не уносит, оно — накапливает. Пикассо не зачеркивает Веласкеса, а присоединяется к нему.
Нетерпимость в искусстве, желание утвердить универсальный аршин, которым можно мерить все подряд, держа наготове большие ножницы, — это кончается обычно конфузом, но иногда увечьями. Самые лучшие намерения, продиктованные высоконравственными духовными идеалами, могут в условиях нетерпимости нанести вред искусству и самим идеалам. Чтоб не ходить за примерами далеко, обратимся к Италии XV века. Монах Савонарола негодовал против нравов своего времени, сравнивал тогдашнюю Италию с Содомом и Гоморрой и бичевал пап за их разврат и корыстолюбие. И он, конечно, был прав. Но ему казалось, что одна из причин безобразий состоит в том, что христианство еще не победило языческой культуры, всех этих Платонов, Аристотелей, Вергилиев, Горациев. В трактате «О разделении и пользе всех наук» Савонарола писал: «Зачем не издадут закона, который изъял бы из города не только ложных поэтов, но и их книги, а также книги древних авторов, рассуждающие о блуде, восхваляющие ложных богов? Было бы большим счастьем, если бы все такие книги были уничтожены и остались бы только те, которые побуждают людей к добродетели».
Все это было терпимо до той поры, пока Савонарола оставался настоятелем монастыря Сан-Марко. Но вот он сделался правителем Флоренции. Он получил в руки аршин и большие ножницы. Отряды мальчиков, воспламененные речами Савонаролы и организованные им, врывались в дома флорентинцев, проверяли кто как выполняет десять заповедей, отбирали предметы искусства, светские книги, флейты, игральные карты, карнавальные костюмы. Под названием «суеты» все это сжигалось на кострах. Сжигались старинные книги, сжигался «Декамерон»…
Самое трудное в искусстве, недоступное многим, — широкий взгляд, умение посмотреть на шедевр глазами автора, а не только своими, затуманенными собственными идеями. Нетерпимость часто возникает не оттого, что в произведении искусства есть враждебные идеи, это было бы понятно и естественно, — а оттого, что там нет идей, дорогих критику. Обсуждается не то, что есть, а то, чего нет.
В статье «Две магии искусства» Дудинцев одобрительно отзывается о единственной сцене из всей повести Катаева «Святой колодец» — сцене с Парасюком. Это, мол, еще кое-что. Тоже не бог весть, но все же годится — таков тон похвалы Дудинцева. Что ж это за сцена? Очень лихо, ядовито и метко набросанный шарж на некоего дурака на ответственной работе. Почти фельетон, анекдот. Обличение дураков — дело, разумеется, полезное, но совсем не главное дело искусства. Дудинцеву кажется, что хорошо бы таких шаржей побольше, и были бы они посильней: не только царапали, но разили наповал. Мне калюется, хорошо, что шаржей в повести мало.
Гораздо серьезней, долговечней, чем скоропалительные шаржи и обличения (которые, повторяю, сами-то по себе полезные), исследования в глубине человека, в его душе, в том «святом колодце», куда попытался заглянуть автор повести. Там, в глубине, тоже могут быть шаржи и обличения, но создавать их тяжелей и увидеть непросто. Герой — старик. Ему грозит. неизвестность, небытие, смерть. Погружаясь в колодец прожитой жизни, старик как бы исповедуется: перед самим собой. И он не лжет, ибо это исповедь. Он выглядит иногда неприятно, иногда жалко. Но главное — он человек, он старик, перемоловший громадные годы. Умный, много повидавший, ироничный, желчный, беззащитный старик. Но Дудинцев почему-то не видит в нем человека! Он видит в старике только смешное, раздражающее. Слов нет — у стариков бывает смешное, раздражающее. Но где же ваш гуманизм, Владимир Дмитриевич? Где сострадание? Где умение понять чужую боль, к которому вы так страстно призываете?
Старик, написанный В. Катаевым в повести «Святой колодец», нуждается в сострадании. Во-первых, потому, что он на грани смерти, во-вторых, потому, что он одинок, в-третьих, потому, что недоволен прожитой жизнью и ничего не может исправить. Всего этого не видит Дудинцев, зато придирчиво выписывает разные, как ему кажется, грешки старика: тот недостаточно демократичен (не помнит, как зовут шофера), чересчур эгоистичен, мало любит своих детей, слишком сух и неискренен с женщиной, которую любил сорок лет назад. Реестр грехов велик, но в изложении Дудинцева звучит неубедительно. Почему же? Наверное, потому, что старик рассказывает о себе сам, вернее, видит себя своими собственными, больными, в полубреду очами. Тут возникает феномен достоверности. Мы понимаем, что старик правдив, он разоблачает себя. Но так ли уж страшны разоблачения? Нет, пожалуй. Для долгой жизни…
А вот таких-то правдивых стариков в нашей литературе немного! Забыл имя шофера? Ну, и забыл, и не притворяется, что помнит. В беспамятстве, под наркозом, и не то забудешь. Не волнует любовь сорокалетней давности? Ну, и не волнует, и молодец, что не делает вид, что волнует; зато волнует во всей истории с заокеанской дамой воспоминание о себе самом, юном, нелепом — браво, старик! Это и есть правда. Беда старика оказалась в том, что он не старый рыбак, не лесник, не паромщик, не пенсионер-железнодорожник, не какой-нибудь дед-пчеловод с горькой судьбиной, а обыкновенный, незатейливый интеллигент да еще с гуманитарным профилем. То ли он профессор какой-то, то ли литератор, то ли, может быть, специалист по древним иконам — это неважно. Важно то, что не принадлежит к простому трудовому люду, и уже это одно делает его несколько подозрительным для людей, которых переполняет жажда сострадать. Нет, этот старик своей порции сострадания не получит. А ведь умирают все, и деды-пчеловоды, и академики, все оглядываются на прошлую жизнь, все тоскуют о несделанном и непоправивом.
Я не собираюсь подробно разбирать повесть В. Катаева «Святой колодец». Толчком для статьи послужила не повесть, а критика на нее, показавшаяся мне несправедливой и однобокой. В повести Катаева есть, может быть, уязвимые места, излишества стиля, внезапные, хотя и редкие, впадения в фельетон, но все равно — книга яркая, местами поразительная, небывалая по писательской искренности. Что касается уровня прозы, то его можно назвать блестящим. О том же писал Дудинцев. Правда, он упирал на то, что мастерство-то мастерством, но оно — формальное, пустое, не наполненное чувствами. Неправда! В повести «Святой колодец» есть чувства, есть боль, но критик не пожелал их увидеть. Для него эта книга — нагромождение сверкающих фраз, формальные выкрутасы, Пикассо в литературе.
Причина нежелания видеть — нетерпимость. А нетерпимость есть дань злобе дня, неумение заглянуть в завтра и в послезавтра.
В свое время маститый и либеральный Стасов яростно нападал на импрессионистов. Называл их «членовредителями и палачами искусства». Роден, по его мнению, создавал лишь «отвратительные кривляния и корчи», Дега — уродливых танцовщиц с безобразными и нелепо нарисованными ногами. «Олимпию» Мане он называл гадкой, ничтожной. Смелый борец против академической рутины, Стасов сам оказался рутинером, когда столкнулся с новыми явлениями в искусстве. Он винил импрессионистов в формализме, в том, что они создают будто бы «искусство для искусства». Но вот прошло сто лет со времени Салона отверженных, и картины импрессионистов завоевали мир. Они любимы миллионами людей во всех странах. В миллионах репродукций они висят на стенах квартир. Какое же это искусство для искусства? Это искусство для людей, для человечества.
Значит, в полотнах, казавшихся Стасову пустыми и бессодержательными, были и содержание, и чувство, и душа, и что-то нужное людям, отчего они их сохранили.
Арена действий нашей литературы расширяется, появляется все больше непохожих друг на друга писателей: по темам, по стилистике. Надо радоваться!
Мы любим повторять «Побольше поэтов хороших и разных», но этим «разным» порой приходится туго. Их гнут с обеих сторон. Одни твердят: «Надо больше поучать!», другие: «Надо больше обличать!» Причем те и другие хотят, чтобы поучения и обличения лежали бы, как на блюде.
Долгое время, в сороковые и пятидесятые годы, каноническим в нашей литературе был жанр эпического романа. Все писали толстые книги. Толстой, Фадеев, Шолохов — таковы были недосягаемые ориентиры. Чехов с его краткими шедеврами был как бы представителем жанра второго разряда. Гоголю подражали только в описаниях: «Чуден Днепр при тихой погоде…» Достоевский и вовсе не имел последователей. А где было продолжение тех завоеваний, которых добилась русская проза в двадцатые годы силами Булгакова, Зощенко, Олеши? Все запрудил эпос. Авторы бесперебойно вязали длиннейшие романы-чулки. Канонизация жанра и стиля — последствия этой скучной болезни, наподобие неизлеченного до конца флюса, иной раз дают о себе знать и сейчас, хотя литература стала объемной, многообразней.
Андрею Платонову было трудно при жизни, оттого что он не походил на современников. Он наполнял фразу каким-то особым светом, какой был только у него одного. Сейчас он признанный советский классик. Критики отыскивают у него все новые достоинства так же, как раньше отыскивали все новые недостатки. Прозу Платонова обвиняли в анархизме, в стихийничестве, в непонимании сути, во многих грехах, когда-то звучавших грозно, потом позабытых, но вот она не сгинула в потоке времени, не пропала в той яме забвения, куда ее хотели запрятать: она оказалась нужна людям. Может быть, потому, что она — многозначна. Мы читаем в рассказах Платонова то, что хотел сказать художник, и еще что-то, чего он не знал, но знаем мы, пережившие его на пятнадцать лет. Так бывает с настоящим искусством: оно не гибнет от времени, лишь принимает в свои вечные формы пласт за пластом новое содержание.
А нетерпимость нужна — к серости, к бесформенным романам-чулкам, которые все еще нет-нет да и появляются массовыми тиражами.
Возвращение к «prosus»
Помню ожесточенные споры вокруг такого вопроса: чем отличается новелла от рассказа? Находились люди, которые очень определенно обозначали различия. Стало быть, очень определенно знали, что такое рассказ и что такое новелла. Счастливые люди! Я, например, не знаю, чем по существу — а не по размеру — отличается рассказ от романа.
Не раз отмечалось, что рассказы Чехова, лучшие из них, есть не что иное, как спрессованные гигантской силой чеховского искусства романы. В то же время существуют многостраничные романы, которые есть как бы развернутые вглубь и вширь рассказы («Преступление и наказание» хотя бы, или «По ком звонит колокол»), где действие вращается вокруг одного события, все происходит в один или в несколько дней. Значит, по возможности охвата жизни рассказ и роман равносильны. И там, и здесь должно быть внутреннее движение, отнюдь не бесконечное. Завершенность движения (не внешнего, фабульного, а именно этого внутреннего) есть, мне кажется, то, что делает ровнями пухлую эпопею и рассказ в пять страниц. Громадный роман «Обрыв» и маленький рассказ «Ионыч» заслужат, может быть, одну оценку, «потянут» одинаково на «страшном суде» литературы, где судить будут по какой-нибудь пятисотбалльной системе.
Латинское прилагательное «ргозиз», от которого произошло слово проза, означает: вольный, свободный, движущийся прямо. Смысл был — противопоставление поэзии. Свободный от рифм, вольный от стихотворного ритма, движущийся прямо и независимо от канонов, шаблонов. Но века литературы накопили и в прозе свои каноны, шаблоны. Из шаблонов образовались жанры. Современная проза, которая иногда ставит читателя в тупик, — роман ли это, рассказ, исторический очерк, философское сочинение, набор случайных оценок? — есть возвращение к древнему смыслу, к вольности, к «prosus».
Когда я учился в Литинституте, проблема сюжета казалась самой жгучей, первейшей по важности. Наверное, так было у многих. После каких-то ничтожных успехов на семинарских чтениях, когда воспламенялась дурацкая молодая уверенность в себе, в том, что здорово научился писать (через полосу самоопьянения проходят все, и чем скорее этим переболеть, как корью, тем лучше, потому что в зрелые годы это губительно), единственное, что томило: о чем писать? Не было сюжетов. Выспрашивали у родных и знакомых, выманивали друг у друга, придумывали, накручивали. Казалось: эх, вот бы сюжет какой-нибудь! Уж я его! Все, казалось, в порядке, все готово, сила в руках есть, голова ясная, уверенность в себе великая, не хватает одного: сюжетика какого-нибудь завалящего, пустякового. Прошло много лет, прежде чем понял, что писать, как хотелось бы, я так и не научился и что сюжет — дело десятое. Ну, не десятое, возможно, но — шестое или пятое. Не ближе четвертого.
Все это, конечно, чрезвычайно субъективно, у других отношение к сюжету может быть совсем иным — и вполне вероятно, что иное отношение более правильно, — но я могу говорить только о своем опыте. Для меня представление о сюжете, то есть о событии или о цепи событий, не играет большой роли в процессе работы. Есть гораздо более необходимые факторы. Представление о сюжете может быть очень приблизительным, туманным, неполным: из цепи событий бывает известно одно звено, даже не всегда начальное, иногда среднее или последнее, чаще всего последнее, — а все прочие возникают за столом. Главной трудностью и главной ценностью в процессе работы — то, за чем следишь пристальнейшим образом, что более всего мучит, является ощущение правдивости описываемой жизни. Из него, из этого ощущения, и выделывается сюжет. Оно должно не покидать ни на минуту, всегда быть тут, над тобой, как громадный светящийся зонт или как кусок солнца с теплом и светом, — потому что, когда оно вдруг перестает греть, тогда все высыхает мгновенно, движение прекращается.
Вообще сочинительство дело тайное. Над листом бумаги «каждый умирает в одиночку». Каждый приспосабливается к этой работе по-своему, и объяснить, как и почему у него получается то-то и то-то, сочинитель не может. Или не хочет. А серьезные писатели отделываются шуточками. Какую бы замечательную статью или, скажем, брошюру для библиотечки «Молодому литератору в помощь» мог написать Антон Павлович Чехов на тему «Как писать рассказы»! Почему-то не написал. Тончайшие мысли о литературе, о писательском труде небрежно разбросаны в письмах, записных книжках, в некоторых рассказах и пьесах, но собрать их вместе в виде некоего поучения, катехизиса молодого литератора, Чехову и в голову не приходило. И, пожалуй, не только потому, что он был редкостно для писателя лишен самомнения, искренне не считал себя большим писателем, могущим кого-то поучать, но и потому, что понимал малую пользу таких поучений.
Вообще в старину не было такого заведения: объяснять «как мы пишем». Писали себе и писали, том за томом.
Началась эта мода в двадцатых годах, когда бодрячки-формалисты возомнили, что всему можно научить, все можно разъять, развинтить и сконструировать наново, как кухонные ходики. От народной сказочки до «Дон-Кихота». И более всего они имели дело с сюжетом, потому что сюжет — конструкция.
Чехов однажды сказал: «Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все». Мне кажется, в этой фразе — ответ на проблему сюжета. Писать о простых вещах. Вот записи чеховских сюжетов из его записных книжек: «N 40 лет женился на 17-летней. Первая ночь, он привез ее к себе, на шахты, она легла спать и вдруг зарыдала оттого, что не любит его. Он добряк, смущен, убит горем и идет спать к себе в кабинетик». Или вот это: «Статский советник, оказалось после его смерти, ходил в театр лаять собакой, чтобы получить 1 р., был беден!». Вот еще сюжет: «Инженеру-технологу 43 года, но он еще не нашел себе места и служит в конторщиках». Не правда ли, захватывающая история?
Зато для раннего Чехова сюжет играл совсем иную, главенствующую роль. В. Шкловский назвал раннего Чехова «формально наиболее совершенным» и утверждал, что именно этот Чехов, Антоша Чехонте, — самый читаемый Чехов.
Заблуждение двадцатых годов рассеялось. Читаемость Чехова во всем мире неуклонно растет за счет его простых и глубоких произведений, а «формально наиболее совершенные» рассказы постепенно отходят в область детского чтения.
Откуда все-таки берутся сюжеты?
Некоторые рассказы пишутся сразу, в один присест (это бывало со мной редко, два или три раза), когда не думаешь о сюжете, его попросту не существует, он формируется бессознательно за столом. Такие рассказы пишутся под воздействием очень сильного впечатления. В 1957 году ночью на улице Ашхабада я случайно встретил человека, который спросил, нет ли у меня топора: он не мог попасть в свой дом. Человек оказался испанцем, участником войны в Испании. Разговор с ним так меня поразил, что, придя в гостиницу, я тут же сел и написал рассказ. Я-то не собирался писать рассказ, хотел только сделать запись для памяти. Вышло пять страниц. И я долго считал эти страницы записью, заготовкой, потом кто-то из друзей сказал, что это настоящий рассказ, гораздо более настоящий, чем все, что я писал прежде. (Друзья любят говорить похвалы в такой форме.) Рассказ «Однажды душной ночью» был напечатан в сборнике, переведен за границей, в связи с ним у меня даже возникла переписка с одним американским писателем, поклонником Кьеркегора.
Сильное впечатление, произведенное ночной встречей, — когда вмиг озарилась судьба человека и весь он, живой, вырос перед глазами, — оказалось могущественнее всех необходимых для литературной удачи предпосылок, которые в данном случае отсутствовали: стройный сюжет, конкретное знание (я ничего об этом испанце не знал и не успел узнать!), работа над стилем. Рассказы по впечатлениям могут быть корявы, оборваны, невнятны, как бормотание человека во сне, но что-то в них пульсирует: что-то перелившееся прямо из жизни.
Другие рассказы пишутся медленно, некоторые годами. Зерно такого рассказа забрасывается давно — ча ще всего это зерно сюжета, анекдот, томится, зреет незаметно и тихо, о нем можно напрочь забыть, но вдруг начинается бурный рост. Добавилось недостающее, какой-то элемент, нужный для произрастания. Когда-то мне рассказывали про Е. А., вдову известного революционера, эстонку по происхождению (я был знаком с Е. А., но этот сюжет слышал не от нее), которая после войны впервые за пятьдесят лет смогла поехать к себе на родину, в Прибалтику. Она пришла на фабрику, на которой работала девушкой, и увидела старый барак, где когда-то жила. Барак выстоял все: мировую войну, революцию, буржуазную республику, немцев. И в этом бараке Е. А. встретила подругу своей юности, глубокую старушку. Мне очень хотелось написать про двух старушек, про их встречу на фабричном дворе, но чего-то недоставало для того, чтобы начать. Недоставало уверенности в том, что я имею право писать об этом. Потом я ездил по другим делам в Прибалтику, забыв про Е. А. Потом занимался историей революции, прочитал много книг, дневников, писем. Вдруг дремавшее зерно дало рост: ощущение уверенности явилось внезапно.
Я понял, что имею право только тогда, когда почувствовал атмосферу времени, цвет и запах долгой пятидесятилетней жизни, — все это пришло из других источников, от других людей, но плотно наложилось на судьбу Е. А. Сюжет рассказа про двух старушек — из медленно зреющих.
Кроме рассказов, возникающих от сильного личного впечатления, и рассказов, сюжеты которых услышаны от других и нуждаются в дозревании, в какой-то внутренней работе, чтобы к ним привыкнуть и чтобы они стали своими (как было с «Бараком»), есть еще категория рассказов, в моем опыте небольшая: рассказы, возникающие умозрительно, от мысли. Однажды, в минуты умствования, когда размышлял, — какую жизнь можно назвать успешной и кого счастливчиком? — пришла мысль написать рассказ о посредственном спортсмене (писателе, артисте, ученом и т. д.), который шестьдесят лет назад участвовал в Олимпийских играх, занял там восьмое или девятое место, но пережил всех и стал таким образом победителем всех, то есть чемпионом. Кажется, Чуковскому принадлежит фраза: «Писатель в России должен жить долго». Вот об этом, о долгожительстве, хотелось написать рассказ, но я не знал ни одного живого долгожителя и ждал терпеливо — год, два, три. Так я и не познакомился с подходящим долгожителем, но зато познакомился с его антиподом, и, кроме того, подоспела одна поездка, во время которой такая встреча могла бы произойти, но она не произошла, и я ее сочинил.
В рассказе «Победитель» все умозрительно, начиная с идеи и кончая сюжетом, но рассказ не существовал бы, если б не было двух опор: антипода и поездки.
Все, что я высказал тут о сюжете, относится к литературе, исследующей мир, но есть литература, созидающая мир, фантазирующая мир, и там-то сюжет одаряется могущественной, порой сверхъестественной силой. Рассказы Гоголя, Эдгара По, так же как романы Достоевского, строятся на гениально сочиненных сюжетах. Впрочем, «Нос», «Превращение», «Черный кот» и не рассказы вовсе. Какие уж тут рассказы! Это — прозрение, прорывы в другие сферы…
Что касается современных рассказов, то лучшие из них сильны своей достоверностью. Нынешние молодые рассказчики отошли от изысканно-акварельного, описательного стиля, господствовавшего в нашей литературе в 40 — 50-е годы, и пишут сурово-правдиво, не заботясь о живописи и поэзии, а заботясь о сути, о прозе.
Кто мне близок из литературных героев?
Ответить на вопрос, поставленный журналом «Москва» — какой литературный герой мне наиболее близок, — затруднительно, ибо в самой постановке вопроса кроется, на мой взгляд, недоразумение. Близкими бывают живые люди.
Литературные же герои дороги нам не чертами характера, а той силой воплощения, какую сумел вложить в них автор. Поэтому из литературных героев мне очень близки Родион Раскольников и Поприщин или, к примеру, Остап Бендер и Кавалеров, хотя, встретясь с такими людьми в жизни, я бы не испытывал к ним ничего, кроме неприязни и даже враждебности. В жизни это были бы чужие люди, а в литературе — роднее родных.
Если говорить о «дорогих сердцу литературных героях» эпохи революции и гражданской войны, я бы назвал Григория Мелехова и Аксинью.
Оценивать литературных героев по их человеческим качествам — это все равно что прийти на выставку натюрморта и оценивать картины с точки зрения свежести, калорийности и дороговизны пищи, которая там изображена. «Лучшую вещь выставил господин ван дер Плюмп: прекрасное паровое мясо, кувшин сметаны, крупные диетические яйца… Неудачен Снайдерс: две мелких тощих селедки, кусочек засохшего лимона — и все…»
Содержание
Нескончаемое начало
Продолжительные уроки
Записки соседа
Выбирать, решаться, жертвовать
Планетарное увлечение
О нетерпимости
Возвращение к «prosus»
Кто мне близок из литературных героев?
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


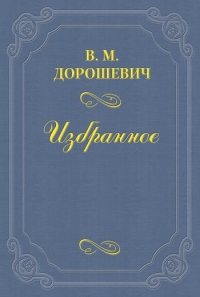

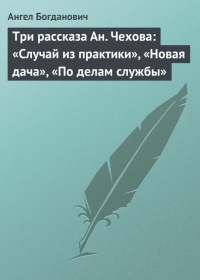
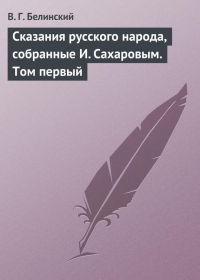
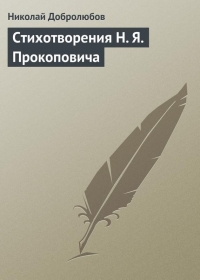

Комментарии к книге «Продолжительные уроки», Юрий Валентинович Трифонов
Всего 0 комментариев