Пребывание наших московских гостей у нас в Петербурге подходит к концу. Еще несколько представлений на пасхе и на фоминой, и они укатят назад к себе домой.
Они сильно у нас многим нравились, они производили большой эффект и возбуждали горячие симпатии в той среде, которая в самом деле любит музыку, стоящую выше итальянской и выше всякой вообще модной современной музыкальной дребедени. Поэтому и мне тоже хочется указать на значение для нас этого необыкновенного явления — частной московской оперы.
Частная опера у нас, как и везде, еще сама по себе не великое чудо и новость. Мало ли где есть оперы и театры, возникающие по частному почину, передвигающиеся с места на место, из одной провинции в другую, даже из одного государства в другое. Это существует и в остальной Европе, да и у нас тоже. Это совершенный pendant к передвижным выставкам, очень распространенный теперь повсюду и пользующийся большим распространением также и у нас, по превосходному и энергическому почину знаменитого нашего «товарищества» художников. Дело это превосходное, оно сразу принесло, до сих пор приносит, да наверное и всегда впоследствии будет приносить громадную пользу.
Но, несмотря на всю прекрасную основу, на всю чудесную и великодушную сущность, в деле этом всегда, везде и у всех играет первую роль — доход, прибыток, дивиденд. В деле московской оперы основа и физиономия другие. Она принадлежит к иной совершенно категории, а именно к такой категории, где на первом плане не деньги и нажива, а — искренняя любовь к предмету, глубокая преданность ему и бесконечная забота о его благополучии и процветании. Есть же в самом деле такие странные люди на свете, которые, наполненные своей идеей, никаких чужих денег не хотят, а вместо того еще и свои тратят громадными массами, только бы добиться торжества своей сердечной заботы и распространить ее торжество между другими, везде вокруг себя.
Эти люди — настоящие фанатики, словно помешанные на своей идее люди. Они не хотят смотреть ни направо, ни налево, они не останавливаются ни перед какими препятствиями и помехами, они шагают через все, что препятствует их делу, и потому это дело у них почти всегда кончается победой и достижением желанного результата.
По части русского искусства у нас было до сих пор два таких высоких и блестящих примера. Один — П. М. Третьяков в Москве, другой — М. П. Беляев в Петербурге. Первый более 30 лет собирал создания новой русской школы живописи, истратил сотни тысяч на свои покупки, собрал такую галерею русского искусства, перед которою кажутся маленькими и малозначительными все прежние попытки наших любителей-собирателей и на которую смотрит теперь с почтением и симпатиею вся остальная Европа. Закончив это великое свое дело, он принес в дар все свое собрание своему отечеству, России. Второй тоже в продолжение целого полутора десятка лет посвятил себя приобретению от русских композиторов всего выдающегося между созданиями новой русской музыки и печатанию их, да, сверх того, почти целых 15 лет дает ежегодно концерты русской музыки (иногда даже и за границей), каких нигде больше не существует. Все это потребовало огромных сумм, которые, конечно, никогда не могут возвратиться, но это для них не составляло важности, потому что причиной деятельности обоих этих людей была только глубокая любовь к тому делу, которому они посвятили свою жизнь.
Но вместе с тем, эта их деятельность была вызвана и печальным положением того дела, которое было им дорого. П. М. Третьяков всею душою любил новую русскую школу живописи. Но она была у нас в великом загоне и презрении. На нее большинство публики обращало очень мало внимания, на нее происходили поминутно, по поводу каждой оказии, каждой выставки, бесконечные нападки, ей поминутно кололи глаза, в виде примера и упрека, иностранными живописцами старого и нового времени, и если молодые наши художники продолжали держаться на своем трудном посту с беспримерной храбростью и самоотвержением, то это лишь благодаря их молодым годам и силам и благодаря начинавшему пробуждаться в 50-х годах общему самосознанию на всех путях русской жизни. И тут-то П. М. Третьяков явился истинным спасителем, помощником и покровителем. Он вышел самою твердою опорою, защитою и оживителем нового русского искусства, своим могучим вступительством он помог его росту.
Точно так же и М. П. Беляев. В то время, когда очень мало обращали у нас внимания на русскую инструментальную музыку, когда поминутно выкидывали ее за борт, во имя иностранной, будто бы нас совершенно раздавливающей, — он смело и неустрашимо принялся вести свои концерты и до такой степени успешно для лучших умов всей Европы, что после его русских концертов на парижской выставке 1889 года французы писали, что эти концерты были для их соотечественников — «откровением» (une révélation) и заставили узнать и уважать русскую музыкальную школу. Русские тоже начали обращать все большее и большее внимание на мало ценимые обшей массой оригинальные создания. И русская картинная галерея, и русская школа живописи, и русские концерты, и русская симфоническая школа — стоят теперь уже твердою стопою на нашей почве, не возбуждают уже более ни недоверия, ни презрения, ни насмешки. Конечно, уже и раньше признавались и покупались русские картины (вспомним чудные 25 лет деятельности передвижников), уже и прежде выслушивались и бывали хвалимы русские симфонии и вообще инструментальные создания (вспомним чудные 25 лет деятельности Бесплатной музыкальной школы), но никогда столько, как теперь, с тех пор, как издания и тех и других образовали одно большое, сплотившееся, внушительное даже по своим объемам целое, сгруппированное в одной громадной картинной галерее, в громадном ряде непрекращающихся печатных изданий и концертов, — признанное, опробованное и почетно заштемпелеванное самой Европой. Раньше это было для нас все-таки как-то боязно: а что мол, как промахнемся со своими похвалами и симпатиями, и в один прекрасный день из Европы вдруг появятся заметки, где будет выложено на столе, где будет доказано, как дважды два четыре, что вы, мол, господа, напрасно кипятитесь, а лучше, мол, вам быть поскромнее и поосторожнее, тише воды, ниже травы. Давно ли еще европеец Тургенев возглашал устами Потугина, своего тезки: «Русское художество! Русское искусство!.. Русское пружение я знаю и русское бессилие знаю тоже, а с русским художеством, виноват, не встречался. Вообразили, что и у нас завелась живописная школа и что она даже почище будет всех других… Русское художество, ха-ха-ха! хо-хо!.. Сказать, например, что Глинка был, действительно, замечательный музыкант, которому обстоятельства, внешние и внутренние, помешали сделаться основателем русской оперы, никто бы спорить не стал, но нет, как можно! Сейчас надо его произвести в генерал-аншефы, в обер-гофмаршалы по части музыки, да другие народы кстати оборвать: ничего, мол, подобного у них нет, и тут же указывают вам на какого-нибудь „мощного“, доморощенного гения, произведения которого не что иное, как жалкое подражание второстепенным чужестранным деятелям: этим легче подражать. Ничего подобного! О, убогие дурачки-варвары, для которых не существует преемственности искусства, и художники — нечто вроде Раппо (силача): чужак, мол, шесть пудов одной рукой поднимет, а наш — целых двенадцать! Ничего подобного!..» Кто это говорил? Сам Тургенев. Что же после этого еще стоять и сомневаться? Дело решенное. Положим, иные, пожимая плечами, думали: Тургенев, да разве он уж так хорошо все понимает — особливо в искусстве? Но большинство слепо верило мощному, общепризнанному вожаку по всем интеллектуальным делам и верило, главное, что сама Европа глаголет его устами. А перед нею зазорно опростоволоситься и выйти каким-то «не на высоте европеизма»! Вот и помалчивали осторожно. Но время взяло свое, и потугинских слов больше уже не боятся.
Не побоялся их и новый товарищ Третьякова и Беляева С. И. Мамонтов, явившийся теперь сделать по части русской оперы то же самое, что те делали по части русской живописи и русской инструментальной музыки. У него тоже, как и у тех, была своя сильная, искренняя любовь, большое убеждение в правоте своего дела, но кроме такого несравненного рычага у него был еще один сильный мотив, способный толкать вперед человека, наполненного от головы до пяток своим делом, своей задачей. Это — зрелище того, как худо, как и криво, как косо, как безучастно, как апатично и неряшливо 4 идет у нас это самое любимое его дело. Давно уже у нас, особенно в Москве, дело с русской оперой идет так худо, так худо, что из рук вон. Много об этом говорено, не менее и печатано. И это так шло у нас, не взирая на богатые, роскошные средства денежные, отпускаемые на это дело, не взирая на очень большой и художественно превосходный состав оркестра и солистов, который не уступит никакому иностранному. Это достаточно признано музыкальной Европой.
У нас существует настоящее гонение на русские оперы. Надо полагать, что для наших казенных театров нет никакой надобности в талантливых русских операх. Их там преследуют. Их там презирают. «Руслана» 14 лет не давали, «Каменного гостя» отталкивали очень долго под разными предлогами, пока сама публика, наконец, не встала на дыбы и не навязала ее дирекции насильно. Да и то не надолго. Все лучшие, с тех пор появлявшиеся на свет русские оперы были тоже всегда в совершенном загоне. Если [которую давали] иной раз, то всегда до того нехотя, до того враждебно, словно гг. распорядителей кто-то против шерсти гладит. Потом вся забота, только о том и есть, как бы поскорее эту оперу изгнать и похерить, да под спуд. Вторую оперу Мусоргского, превосходную, капитальную «Хованщину», так по сих пор и не принимают на сцену, даром что со смерти автора целых 17 лет прошло, и пора бы, кажется, надуматься. Другое высокозамечательное создание, опера «Садко» Римского-Корсакова, было недавно, на наших глазах, оттолкнуто прочь и не допущено на сцену. По части оперы ход дают беспрекословно, и притом с величайшей охотой, чаще всего либо всякой постыдной дряни, либо совершенным ничтожествам, либо, наконец, в лучшем разе, тому, что поменьше русское и самостоятельное и что побольше напоминает посредственную общеевропейскую рутину.
Сколько публика и критика ни жаловались и ни вздыхали, их никто и слушать-то не хочет, ни малейшего не обращает на них внимания. Вот еще какие важные фигуры — публика! Критика! Стоит на них смотреть! Всякого, мол, слушать, слишком жирно будет. Но каково было сносить все подобное тем, кто понимает цену своему отечеству, своему народному творчеству, кто дорожит своею национальностью и ее истинным искусством! Каково смотреть на обезьян и прихвостников лжеевропейства, по-свойски распоряжающихся тем, чего не понимают!
Однако не все же, наконец, вечно молчат у нас, вечно только и делают, что молчат. Есть всегда, и были, и всегда, кажется, будут тоже и такие люди, которые способны возмущаться до глубины души, чувствовать горькую обиду и вступаться за нарушенные общие права и потребности. По части оперы таким явился у нас С. И. Мамонтов. Он создал в Москве, на свои собственные средства, русскую оперу, нашел оркестр, нашел хоры, нашел солистов, между которыми несколько сильно замечательных, с Шаляпиным во главе. Все эти богатые художественные средства С. И. Мамонтов устремил на исполнение своей любезной, дорогой мечты — создать такую русскую сцену, где бы исполнялись оперы русской школы, на официальных театрах игнорируемые или нередко затоптанные в грязь. И эти официальные театры, и высший слой нашего общества, доросшие, кажется, до сих пор только до понимания итальянщины и французятины, должны же, наконец, когда-нибудь получить хоть какое-нибудь образование и развитие. Надо же их учить понемногу, чтобы они доросли, хоть мало-помалу, до понимания и художественной интеллигенции, какие уже есть у лучшей части нашего среднего класса. Такое учение только и возможно со стороны добровольцев из среды именно этого среднего класса. И вот С. И. Мамонтов явился одним из таких учителей, наставителей и развивателей, вместе с лучшими людьми из среды художественной критики. Он, как и эта художественная критика, со снисхождением относится к немощам высшего класса и театрального управления, и с христианским благодушием, милосердием и терпением желает принести помощь слабым, отсталым и мало еще развитым соотечественникам. Какая высокая, благородная задача и цель!
Можно надеяться, что это воспитание и развитие рано или поздно совершатся общими усилиями многих.
Что касается главного ядра русской публики, ядра, составленного из людей среднего класса, то здесь находится уже значительно много личностей, способных любить и понимать истинную высокую музыку и широко развившуюся в течение последнего пятидесятилетия русскую национальную нашу оперу. Лучшая часть нашей публики, средняя, С восторгом принимает широкий великолепный дар С. И. Мамонтова и с любовью идет смотреть: «Псковитянку», «Снегурочку», «Садко», «Князя Игоря», «Хованщину», «Русалку» и остальной ряд наших замечательных, оригинальных опер.
Правда, чтобы не слишком и не сразу раздражать, в первые поры учения, слабых и отсталых, С. И. Мамонтов иногда также дает на своей сцене оперы иностранные (между которыми есть, конечно, также и много капитальнейшего — еще бы! Европа всегда была, есть и будет сильна талантами и великими дарованиями по всем отраслям интеллектуальной деятельности). Но в настоящую минуту раньше всего потребно завоевать полнейшие права гражданства для всего великого и значительного по части русской музыки, в том числе и оперы, и, казалось бы, полезнее было бы хлопотать всего более о нашем, о собственном. Посмотрите, чего всего более дают на своей оперной сцене французы и немцы? Конечно — своего: французы — французского, немцы — немецкого. Потому что, вполне отдавая справедливость чужому, они ранее всего отдают справедливость тому, что свое. «Своя рубашка к телу ближе». У нас, наоборот, «чужая рубашка» всего ближе к нашему телу. Надо же, однако, нам когда-нибудь перестать ходить все только вверх ногами! Неужто мы уже такие убогие людишки, что этого так никогда и не будет? Нет, будет, будет — это святая надежда каждого, у кого между русскими есть хоть на копейку мозге в голове.
В деле помощи искусству выступили у нас, на нашем веку, на наших глазах — интеллигентные русские купцы. И этому дивиться нечего. Купеческое сословие, когда оно, в силу исторических обстоятельств, поднимается до степени значительного интеллектуального развития, всегда тотчас же становится могучим деятелем просвещения и просветления. Так было в конце средних веков с итальянским купечеством во Флоренции, с немецким — в Аугсбурге и Нюрнберге, в XVII веке — с голландским купечеством в Амстердаме и Гааге, XVIII и XIX веке — с английским в Лондоне.
А со сколькими бесконечными препятствиями, с какою неприязненностью и враждою приходилось нашим добровольцам бороться. Их дело и их почин преследовались насмешками и презрением, на их деятельность указывали пальцами, как на смешной и праздный каприз богатых людей, не знающих куда девать свои деньги. С разных сторон сыпались доказательства, что никакой русской школы живописи нет, что никакой симфонии и вообще русской инструментальной музыки нет, что никакой русской оперы нет, а если они все и есть, то слишком слабые и ничего не стоящие, а в сравнении с Европой часто равняющиеся нулю. Но трое наших фанатиков были глухи к воплям врагов и твердо стояли на своем. Чего не желали, чего не умели, чего не соображали, о чем даже не удостоивали задумываться другие люди, и в особенности многосложные, специальные учреждения (обыкновенно всего менее понимающие и любящие то дело, к которому приставлены, а потому вечно ему всего более вредящие), то подняли на свои плечи, начали и выполнили, каждый в одиночку, без всякой чужой помощи и совета, эти трое человек, истинные значительные личности русской истории. «А, господа, — как будто говорили они, — вы не хотите, вы не можете, вы не умеете? Ладно же, а мы — и хотим, и можем».
И сделали.
Мы свидетели теперь начинающегося их торжества.
Московская русская опера — одно из крупнейших проявлений этого духа доброжелательства на пользу родины и соотечественников, этого духа защиты правого и недостойно утесненного дела.
О, если б ушедшие уже от нас великие русские музыканты, Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Бородин, могли бы, когда-то прежде, покуда были живы, предвидеть, что и для их произведений придет час пощады, спасения, всеобщего признания и счастья, как бы они, кажется, обрадовались и просияли, как бы они взглянули с отрадой вперед перед собою и как бы снова заиграло в их душе светлое вдохновение, так долго замученное и притиснутое. Но если их уже более нет у нас, то как должны просветлеть еще живые, по счастью, высокоталантливые композиторы наши, которым так тяжко доставалось, в продолжение всего их века, — и ничем не легче против их предшественников и товарищей.
В заключение, мне надо указать еще на один факт, повидимому, мало обративший на себя внимания у нас.
Воскрешение русской оперы московским частным театром вызвало на свет целый ряд талантливых художественных произведений, по своей глубокой народности и своеобразию принадлежащих совершенно к одной и той же категории, скажу даже — породе, с талантливыми операми высоких русских композиторов. В Москве сплотилась вдруг вокруг значительного дела, начатого С. И. Мамонтовым, словно целая школа художников (по преимуществу очень молодых), которые были как-то совершенно особенно одарены к тому, чтобы дать национальной русской опере, во всем внешнем ее проявлении, в декорациях и костюмах, такой же оригинальный, национальный и самобытный характер, какой уже дан нашей оперной музыке ее композиторами. У нас, конечно, не впервые являются теперь талантливые художники, пишущие национальные декорации и сочиняющие национальные костюмы. Как можно! Такие талантливые художники начали появляться у нас лет сорок тому назад, почти в начале царствования Александра II (до тех пор царствовал какой-то преуморительный и вполне невежественный лжерусский дух и в декорациях и костюмах). Постановка «Рогнеды» Серова, «Бориса Годунова» (не оперы Мусоргского, а драмы Пушкина), «Жизни за царя», «Руслана» и других в 60-х и 70-х годах явилась эрой в том деле, и я, в своих статьях, много раз в свое время указывал на то русским читателям. Замечательнейшими сочинителями костюмов явились тогда талантливейший художник наш Шварц, архитектор И. И. Горностаев и археолог Прохоров, которые страстно любили и знали русскую старину; замечательнейшими сочинителями декораций явились тогда же истинно талантливые театральные живописцы Шишков и Бочаров. Множеством значительных отличных произведений по своей части они украсили и возвеличили многие русские драматические и оперные создания. Но нынешняя московская художественная молодежь и их несколько более пожилые товарищи подвинулись еще далее вперед на пути знания всего истинно русского и на пути творчества, основанного на твердо узнанном материале. Где, когда они так чудесно, так глубоко успели изучить народный русский дух, народные русские формы, кто их учил, кто их направлял — вот что поражает меня искренним изумлением и, конечно, поразит также и каждого, вникающего в это дело и любящего его. Но у нового московского поколения, на придачу ко всему только что сказанному, оказалось еще более творческой фантазии, создавательной способности, соображения и смелости, иногда и поэзии, чем у его предшественников.
Может быть, те особые обстоятельства, среди которых эта молодежь творила, особо счастливо действовали на их расположение духа и расположение их творческих сил. Работая для театра С. И. Мамонтова, они не состояли ни на какой службе, в том числе и не у Мамонтова, а оставались совершенно свободными, независимыми художниками, каждый по своей части, продолжали свои собственные, никем не заказанные работы, рядом с работами на театр С. И. Мамонтова. Притом же никто не стеснял художников: не было тут для них никакого ни приказа, ни указа, — ни поправок, ни убавок, ни прибавок. А это ли еще не счастье и не авантаж громадный! Свобода, независимость для художника — первое, несравненнейшее благо. С этою силою и элементом в руках у него, кажется, ничто сравниться не может.
Началось дело с того, что в начале 80-х годов в семействе С. И. Мамонтова происходили домашние спектакли в Москве и на даче (в селе Абрамцове): тут ставились живые картины, пьесы Островского, комедии и оперетки самого С. И. Мамонтова, и многие художники играли и участвовали, тоже писали декорации, рисовали костюмы. Многие из этих сочинений их оказались так замечательны, что в 1894 году был издан великолепный альбом под заглавием: «Хроника нашего художественного кружка». Здесь самую крупную и высокохудожественную роль играли фототипии, воспроизводящие рисунки декораций и костюмов, сочиненных Викт. Мих. Васнецовым и В. Д. Поленовым; особенно декорации и костюмы Васнецова для «Снегурочки» Островского были поразительны по творческой фантазии, красоте, оригинальности и глубоконациональному духу. Впоследствии, уже в 90-х годах, когда на Мамонтовском театре была поставлена «Снегурочка», но не пьеса Островского, а опера Римского-Корсакова, декорации и костюмы были тут же выполнены именно по прежним композициям
B. М. Васнецова, и нельзя, мне кажется, представить себе что-нибудь более совершенное, художественное и талантливое для иллюстрирования этой чудной оперы на сцене. В последние годы другие еще художники присоединились к прежним членам мамонтовского художественного кружка. Таковы были: Аполлинарий Васнецов и Конст. Коровин — оба пейзажисты, Малютин — пейзажист и историк, наконец (впрочем в редких случаях) Мих. Ив. Врубель. Эта молодежь создала декорации и костюмы для всех лучших и талантливейших русских опер, поставленных на Мамонтовском театре. Их много, и чудесных, но, между самыми значительными сочинениями декораций, я укажу на следующие, кажущиеся мне истинно превосходными: «Комната у боярина Токмакова» в «Псковитянке» Римского-Корсакова — и эта же декорация служила для «Опричника» Чайковского (что вполне позволительно и законно, так как обе оперы относятся ко времени Ивана Грозного); «Псковская улица» для «встречи Ивана Грозного», в той же опере, — с церковью, прекрасно взятою с существующей посейчас церкви села Дьякова эпохи этого царя; «Вид Пскова», с горящими кострами на реке — там же; «Княжеская гридница», служащая для «Рогнеды» и для «Русалки» (обе оперы из дохристианской эпохи России), страшный «идол Перуна», с серебряными усами; высокий терем княгини и площадь с билом под красными конскими головами для созывания народа на вече; там же «Княжеская палата», декорация, служившая для «Хованщины» и для «Опричника»; «Стрелецкая слобода» и «Скит раскольников» для «Хованщины» Мусоргского. Сколько везде тут налицо и таланта, и новизны, и знания, сколько красоты и национальности! Чтобы получить об этом понятие, надо либо все эти декорации собственными глазами видеть на сцене, либо ждать, когда С. И. Мамонтов издаст лучшие из них в виде альбома. Ах, как бы это было хорошо и нужно! Неужели таким прелестям и талантливостям пропадать потом на веки, как это бывает с большинством, декораций?
Справедливость требует заметить, что нередко композиция декораций является на Мамонтовском театре выше, чем исполнение их: это, вероятно, происходило единственно только от спешности работы и недостатка иной раз времени для вполне, до последних мелочей, точного и совершенного исполнения композиции на громадных холстах. Иные декорации, однакоже, совершенны во всех отношениях. Таковы, например, дворец царя берендеев в «Снегурочке»: это есть одно из чудеснейших, истинно волшебных по впечатлению, но глубоко русское во всех подробностях создание В. М. Васнецова; «Стрелецкая слобода» Коровина и Малютина, истинно воскрешающая старую Москву, с пушками на неуклюжих колодках, вместо лафетов, с тыном вокруг всей слободы, с перспективой древней Москвы и ее мостов, с богатою палатою стрелецкого главы князя Хованского, разукрашенною майоликами, и с неуклюже и грубо нагроможденными избами и клетями самих стрельцов; наконец, «Раскольничий скит», декорация Ап. Васнецова, решительно переносящая зрителя в русскую глушь и захолустье XVII века: здесь перед нами теснота раскольничьего монастыря, спрятанного в чаще леса, сбоку церковка со светящимся огоньком через оконце, приготовленный для самосожигания костер напереди, а вдали, за тыном и за дремучими деревьями, мелькает и сверкает живым серебром речка под лучом луны.
Узорные орнаменты повсюду на стенах и потолках палат и гридниц, фрески с древнерусскими мифологическими сценами и сюжетами, бои чудовищ, чудные группы птиц и цветов, все это полно фантазии и красоты форм. Сколько тут поэзии, но и старой русской правды! Истинное совершенство, обливающее зрителя поэзией.
Наконец, и костюмы, как допетровской, так и еще более древней России, созданы с необыкновенным знанием всего нашего национального; притом, множество материй, головных женских уборов, кичек, сорок, душегреек, вышивок золотом и серебром, узоров, выложенных жемчугом и цветными камешками, часто все подлинные, древние и старинные. Такой верности, такой заботливости мы, кажется, никогда прежде еще не встречали на русской сцене.
1898 г.
КОММЕНТАРИИ
«МОСКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ ОПЕРА В ПЕТЕРБУРГЕ». Статья напечатана впервые в 1898 году («Новости и биржевая газета», 4 апреля, № 93).
Это одно из наиболее смелых и горячих выступлений Стасова против реакционно-космополитической художественной политики императорских театров в защиту русского национального искусства, проникнутое горячей верой в его великое будущее.
Интересным штрихом статьи является полемика Стасова с Тургеневым, выступающим от лица Потугина (роман «Дым»). В ней наглядно проявились передовые взгляды Стасова на искусство и ошибочные суждения Тургенева (см. также письма Стасова в редакцию «Нового времени»: «Рекомендации и рекомендатели», «По поводу одного русского на французском конгрессе» и «Леон Гамбетта и Иван Тургенев», все три за подписью «Читатель», а также «Двадцать писем Тургенева и мое знакомство с ним» и «Заметку о Рубинштейне и Тургеневе». Собр. соч., т. III; «Северный вестник», 1888, октябрь, № 10, стр. 145–194; «Новости», 1894, 2 декабря, № 332).
В статье «Московская частная опера в Петербурге» Стасов отмечает плодотворную деятельность в области искусства трех русских меценатов — Третьякова, Беляева к Мамонтова. Неоднократно он обращал внимание широкой общественности на этих покровителей русского искусства. В статьях «Павел Михайлович Третьяков и его картинная галерея» и «По поводу кончины П. М. Третьякова» он осветил деятельность Третьякова («Русская старина», 1893, декабрь, стр. 569–608, и «Новости», 1898, 9 декарбя, № 339) в «Адресе» М. П. Беляеву (1870) и статьях «Митрофан Петрович Беляев. Биографический очерк», «Митрофан Петрович Беляев. Некролог» и «М. П. Беляев» подытожил сделанное для русской музыки Беляевым («Русская музыкальная газета», 1895, февраль, стлб. 81-108 и отдельное издание с прибавлением программ русских симфонических концертов с 1884 по 1895 год и русских квартетных собраний с 1891 по 1894 год; «Новости», 1903, 30 декабря, № 358; «Нива», 1904, 10 января, № 2); в статье «Московская частная опера в Петербурге» он особо остановился на театре С. И. Мамонтова, частично затронув эту тему и в других своих статьях, в которых, как и здесь, противопоставлял деятельность Московской частной оперы официальным «ценителям» (читай — гонителям) русской музыки.
В истории развития русского музыкального театра Московская частная опера Мамонтова сыграла исключительную роль, явившись с 1896 по 1900 год главным пропагандистом русского оперного искусства. Выдающиеся оперы русских композиторов, отвергнутые дирекцией императорских театров, получили здесь впервые свое сценическое воплощение.
Организатором и отчасти руководителем Московской частной оперы был Савва Иванович Мамонтов (1840–1918), сын железнодорожного концессионера и сам богатый промышленник. Он любил искусство и по-любительски занимался им — пел, рисовал, интересовался скульптурой, писал пьесы, выступал в домашних спектаклях; это обусловило и его в основном меценатское, а не коммерческое отношение к театру. В театре Мамонтова создался квалифицированный оперный коллектив, в котором кроме Ф. И. Шаляпина (1873–1938), «великого учителя музыкальной правды» (В. Стасов. «Шаляпин в Петербурге». «Новости и биржевая газета», 1903, 16 ноября, № 316), подвизались и другие первоклассные артисты: А. В. Секар-Рожанский, драматический тенор (род. в 1863 г.), Е. Я. Цветкова, сопрано (1872–1929), позднее создательница основных ролей опер Н. А. Римского-Корсакова Н. И. Забела-Врубель, сопрано (1867–1913). Музыкальным консультантом в Московской частной опере был тогда С. Н. Кругликов (1851–1909), музыкальный критик, близкий по творческим установкам к молодой русской музыкальной школе; благодаря его влиянию в значительной степени определился в основном русский репертуар театра с акцентом на операх Римского-Корсакова, особо ценимых Крутиковым.
Через Кругликова отчасти осуществлялось и художественное руководство оперными спектаклями Стасовым, Римским-Корсаковым, Кюи, особенно при постановках у Мамонтова опер Глинки, Даргомыжского и композиторов «могучей кучки»; это способствовало творческому росту Московской частной оперы, помогало созданию полноценного реалистического оперного спектакля.
Вокруг театра и дома Мамонтова сгруппировались и выдающиеся русские художники, в той или иной мере связанные с театральным делом. Кроме перечисленных Стасовым В. М. и А. М. Васнецовых, В. Д. Поленова, К. А. Коровина, С. В. Малютина, М. И. Врубеля, надо назвать И. Е. Репина, В. А. Серова, И. И. Левитана, скульптора М. М. Антокольского, искусствоведа-археолога А. В. Прохорова и др. Театр и дом Мамонтова в конце XIX века стали как бы одним из художественных центров не только в отношении музыки и театрально-декоративной прикладной живописи, но и в области искусства в целом.
Из эскизов костюмов и декораций, упоминаемых в статье Стасова, многое сохранилось до сих пор, например, эскизы к «Русалке», «Снегурочке», «Хованщине», находящиеся в музее села Абрамцева (подмосковная дача Мамонтова); некоторые материалы по постановкам имеются в Московском Государственном театральном музее имени Бахрушина.
Из статей Стасова, относящихся к затронутым темам, помимо его работ о музыкантах и художниках, связанных с Мамонтовским театром (Римском-Корсакове, Шаляпине, Васнецове, Поленове и др.), надо упомянуть статью «Царь Берендей и его палата», посвященную описанию декораций и костюмов, выполненных художником В. М. Васнецовым в связи с постановками «Снегурочки» Островского и Римского-Корсакова («Искусство и художественная промышленность», 1898, октябрь — ноябрь, № 1–2, стр. 97–98).



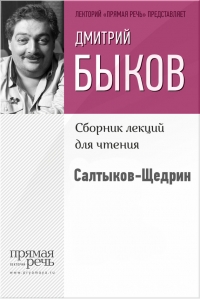

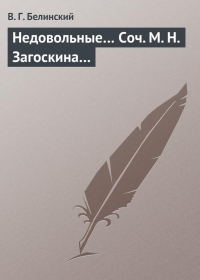
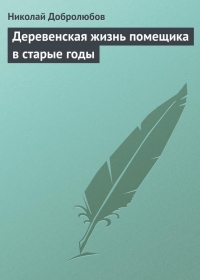
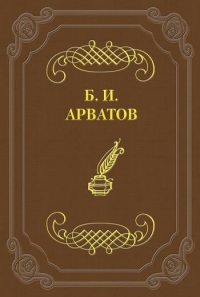
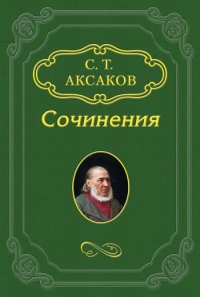


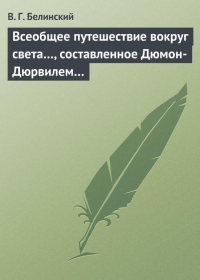
Комментарии к книге «Московская частная опера в Петербурге», Владимир Васильевич Стасов
Всего 0 комментариев