Александр Ступников Сдохни, но живи…
Записки репортера
Предисловие
Ты про выколотую свастику, а тебе — о буддизме. Ты про «зиги», а тебе — о древнем Риме. Ты о любви, а тебе — о девках. Ты о героях, а тебе о рекламе. Ты о достоинстве, а тебе — о ценах. Ты — о Родине, а тебе — об идиотах. Ты о людях — а тебе о колбасе. Ты о Кампанелле, а тебе — о мандавошках.
Впрочем, о Кампанелле и раньше мало кто знал…
Шубка
Это была такая удивительно красивая шубка. До колен. Коричневая, с длинным густым ворсом и большим пушистым воротником, на который падал и долго таял, совсем как я при ней, белый поволжский снег. И еще, это было чудо. Только недавно, в декабре, нас перевезли из Монголии в Саратов, а в середине января ко мне прилетела Она. Соврав дома, что у нее практика вместо студенческих зимних каникул. И совсем без денег. Сэкономив из карманных рублей только на билет туда-обратно: Минск — Саратов — Минск.
Денег не было и у меня. Какие деньги у солдата — путейца, призванного работать с лопатой и ломом на трассе, в степи.
— Ничего, разберемся, — сказал Володя Хачатурян, армянин из Ленинакана, теперь Гюмри, с которым мы сдружились сразу после моего приезда с другими отморозками, кого, по сути, выслали из монгольских степей обратно в Россию. А я, с большим трудом, напросился с ними, уговорив даже растерявшегося от неожиданности командира батальона.
— Ты понимаешь, кого мы отправляем сейчас обратно? — спросил тогда комбат — Самых отъявленных и уголовных. Тебе что, у меня плохо? Через год спокойно вернешься домой, в свой университет. Я знаю, что исключили. А здесь, всех отправляем, кому место в тюрьме. Понимаешь, как и с кем опять будешь где-то начинать?
Это был золотой русский мужик, мой комбат, майор.
— Понимаю, — ответил я тогда, как оказалось, чуть позже, явно не понимая. Когда заскрипел, как металл на морозе.
Но это было первое чудо — вернуться. Пусть далеко от дома, но дома.
А потом случилось и второе. Незнакомый Саратов оказался для меня единственным городом во всей великой стране, где жили близкие отца. Он и сам из тех краев. Я успел встретиться только с одними, живущими бедно, в одной комнатке маленького частного дома. Познакомился. И запомнил, потому что вкусно, за год, поел. Но это оказались потом действительно родные люди. Зимой, в их доме — комнате мне одному, в той же самоволке, под страхом гауптвахты, армейской тюрьмы, можно было поместиться только на полу между двух диванов. А тут вдвоем…
Хачатурян, между тем, собрал у ребят целых тридцать рублей. Их не вытряхивали — их дали. Девчонки и даже очень редкие у кого-то жены издалека к ним, на втором году армии, не приезжали.
— Рестораны вам не нужны, — пояснил Володя — Ресторан я вам проставлю. Это мои проблемы. А купить поесть хватит. Вопрос в другом — где ты ее, когда приедет, устроишь? Она знает? — Нет, — удивился я — Она об этом и не думает.
— На гостиницу денег у тебя нет. Да и солдату номер не дадут по военному билету. Вы что, будете ночевать на вокзале? Так тоже нельзя.
Накануне, только приехав, я сразу пошел к ребятам-связистам. И они, поздно вечером, после отбоя, уже заполночь, давали мне связь с Ней. Связисты были на втором этаже штаба части. И надо было иметь известную наглость и удачу, чтобы заходить туда, после вечерней поименной поверки и отбоя, проскакивать наверх и обратно, опасаясь попасться на глаза дежурным офицерам. А потом еще, через двор, нырять, оглядываясь по сторонам, в казарму. Но я шел. Терять было нечего. А что такое камера, на время, уже знал. Не страшно. Тоже жить можно, если действительно хочешь жить. А не ждать, пока придет какое-то «время».
С Ней мы обычно говорили час и больше. Ни о чем. И, разумеется, бесплатно. Ребята прикрывали. Но вскоре один из них остановил меня у казармы и показал кивком зайти на лестницу. Я даже не помню, да и не знал его имени.
— Будь осторожен, — сказал парень — Тут приходил офицер из особого отдела, кто-то сообщил, что ты ходишь звонить. Он расспрашивал нас, интересуешься ли ты на каких волнах мы работаем, какая у нас аппаратура. — Ты, что? Я в технике полный ноль, — возмутился было я. — Мы так и сказали. Правду. Но кто знает, что у них в мозгах? Есть и больные. Будь аккуратен и, если хочешь, приходи поговорить со своей девчонкой только в мое дежурство.
Я тогда не спал всю ночь. — Ну, думаю, вернулся ты на Родину… Поэтому и звонил уже редко. А тут и она прилетает. Но куда?
Это была проблема. И опять — чудо. Кто-то подсказал попробовать найти каюту у стоящих зимой на приколе корабликов на Волге. Я ушел в самоволку и стал искать, обходя военных и патрули. Места там не было. Но морячки, проникнувшись, подсказали странный адрес. Часть общежития строителей, но расположенное в многокомнатной квартире обычного жилого дома. И вскоре я уже стоял перед звонком в дверь. В длинном коридоре там были пять комнат, где жили мужики-строители, работающие в три смены.
— Ребята, — просто сказал я открывшим и слегка ошалевшим от солдатской формы и моего рабочего бушлата — Служил год в Монголии. Тоже стойбат, только на железнодорожной трассе. Перебросили сюда и моя девушка на днях, сообщила, прилетает….
Почти без слов они освободили нам комнатку, где был только стол у окна и две одноместные, солдатские же кровати на панцирных сетках — пружинах с простым одеялом и простынями.
— Мне нечем заплатить, — напомнил я. — Еще бы… — не удивились они — Но в магазин сбегай.
Вскоре, тряся яйцами и поджилками по сторонам, чтоб не нарваться на военных, с четырьмя бутылками дешевого вина, в сетке, я вернулся и получил ключ от общей двери.
Русских, не по названию, настоящих, я встретил впервые только в армейской Монголии и там, в Саратове. Такие вот удивительные оказались люди. И много. Спокойные, терпеливые и не злобные. Если сам не гнилой. Попадались и другие, но гораздо реже. Та же мелкая шушера, даже при погонах. Не больше. Так она есть везде: и планктон, и пираньи.
А тогда, уже на следующий день прилетела она. В королевской своей шубке. Я повез ее в эту комнату, как в шикарный отель. И мы оба даже не подумали, что это нечто иное. Думают, когда неспособны, убогие, чувствовать.
В части, узнав и удивившись — бывает же такое? — мне сразу дали… неделю отпуска с условием, что я каждый день должен там появляться. Трасса в степи начнется с февраля, а пока можно. И это тоже — Россия.
И мы гуляли. По городу и по морозцу. Днем. А вечерами…
— Знаешь, что я больше всего запомнила, — сказала она как-то через много лет после этого — Последний вечер. На столе бутылка простого вина, колбаса, порезанная на ужин, на газетке, полумрак куцей лампочки, тишина и падающие снежинки за окном. На зеркале чистого яркого звездного неба. То медленно, то густо. Это было чудо.
— Конечно, помню. И еще, твою шубку, прямо под зеленые глаза и стройные ножки. Ты ее и потом носила, вплоть до Севера. Такая шуба, настоящая, королевская.
— Моя шуба? Дорогая? Так она же кроличья, из шкурок кролика. Ты что, не видел?
— Даже не подумал. Видел королевское. И королеву. Значит так и было…
Лузеры
«ЦРУ США приглашает на интересную работу. Собеседования с желающими будут проводиться в четверг и пятницу в аудитории № 4».
Объявление, напечатанное на обыкновенном листке бумаги, повесили на информационную доску «русского» факультета колледжа. И еще закрепили цветными кнопочками.
Наверное, это сделала женщина, или гей, или так рекомендовалось в какой-нибудь секретной разработке по массовой психологической обработке населения. И правильно. Курс завершался, и студенты начинали нервничать. Они не боялись будущего. Они просто искали, где начать самый трудный этап — первую работу, желательно связанную с тем, во что они или их родители уже вложили и свое время, и немалые деньги.
— Что вы так волнуетесь, — я искренно не понимал беспокойства ребят, которые уже почти традиционно пришли вечером ко мне в кабинет поговорить за чаем или за баночкой пива обо всем на свете. Помощнику декана это не запрещалось. Студентов привлекала живая языковая практика и неизвестная информация «от первоисточника», а для меня открывалась уже настоящая Америка. Все студенты здесь были из типично среднего класса, и не из Нью-Йорка, а из больших и малых городов глубинки.
Самое трудное — это давать общие советы. Они ничего не стоят, но дорого обходятся.
На информационной доске уже есть несколько предложений от работодателей и кафедр славистики. Двадцать пар глаз ожидали от меня чего-нибудь конкретного.
— В конце концов, можно пойти в ЦРУ, вы же видели объявление.
Они среагировали сразу. Как в боксе.
— И не подумаю, — Ричард из Иллинойса, самый боевой, сказал как отрезал.
— И я не пойду. И я…
Мне показалось, что их нежелание упускать этот шанс связано с каким-то особым отношением либерального среднего американца к «конторе». Что-то из серии «не хотим играть в рыцарей плаща и кинжала». Но я ошибался. И урок, который на этот раз не я им, а они мне дали, потом очень и очень помогал понять и страну, и ситуации, и многих американцев, ставших мне друзьями.
Наперебой, но едино, студенты почти возмутились.
— Это же государственная служба.
— И хорошо. Там наверняка и зарплата приличная, и стабильная работа, и «бенифиты» — будь здоров, то есть медицинская страховка, пенсионка и прочие радости, которые оплачивает не сам работник, а дядя Сэм.
— Вы что, не представляете себе, кто идет работать на государство?
Ребята, похоже, искренне удивились то ли моей наивности, то ли невежеству.
— Только те, кто не способен ни на что. Самые бездарные. Кто не может заниматься делом или построить свой бизнес. Столько лет учиться, брать кредиты, чтобы потом их выплачивать — и все для того, чтобы сдаться и стать приложением к государственному креслу и каким-то идиотским инструкциям? Да вы что…
На государственную службу у нас идут неудачники, «лузеры». Чиновник, когда общается с человеком, успешно работающим «на себя», это чувствует и нередко пытается исправить несколько предвзятое впечатление. Он никому не интересен, даже себе. Понимает, что гордиться нечем. А мы — молодые. Мы хотим себя попробовать и построить свою жизнь, что-то делать, а не отслеживать спущенные кем-то циркуляры. Вот если уже не получится или возраст прижмет, тогда можно и сдаться. А ЦРУ или какая другая контора — значения не имеет.
Они еще долго говорили, удивляясь, почему человек, которого они уважают, не понимает таких простых и обыденных истин.
А я к тому времени, в первый трудный год эмиграции, уже вывел для себя только одну: всё хорошее в мире делается по глупости.
Вера
Когда человек говорит с самим собой, это называется болезнью.
А когда с никем — духовностью.
Я отложил листок и сказал самое заветное:
— Хочу только одного: чтобы отец и мать были живы…
И посмотрел на их фотографию в рамочке под стеклом. Но в нем увидел себя, отраженного светом на их лицах.
И понял, что они уже никогда не будут жить своей жизнью.
А единственно — моей.
Но с ними я никогда не буду одинок. Одинокими бывают только с живыми. И потому мне незачем жалеть ни их, ни себя. Жалеть можно только Бога.
Он тоже одинок.
Но бесконечно.
И за это я готов простить ему все.
Даже неверие.
Римский день рождения
С утра было 32 года. И дождь. Казалось, что весь день просижу на месте, благо иранцы, с которыми я живу, двенадцать человек в одной комнате, на раскладушке, как и они, свалили куда-то хором по своим делам. И началось.
Зашел Володя, коренной москвич. Говорит, скучно с родителями. Его, уже пожилой, отец в тридцатых годах был ярым коммунистом. В 1936 году, как «троцкиста», его арестовали и быстро дали шесть лет лагерей. Он не мог в это поверить — за что? Думал, разберутся и отпустят.
Отправили в лагерь на Колыму. Тогда их, заключенных, значительную часть из которых составляли убежденные коммунисты, посадили во Владивостоке на корабль и повезли морем в Магадан. Охранники переодевались в штатское, чтобы японцы, которые в то время владели Южным Сахалином, не догадались, что это человеческий «спецгруз». Заключенных держали и в трюме, и на палубе, чтоб поместились. В стране тогда много было коммунистов, которые воевали за революцию еще в Гражданскую войну. Но уже подросли новые, при несменяемом руководителе, ставшим вождем. И «старых», с их еще живой, как назло, памятью надо было куда-то девать.
В итоге, мест не хватало ни на свободе, ни в арестантских этапах. На тех же кораблях.
Некоторые из заключенных прыгали в океан, а японцы, курсировавшие рядом, их подбирали. Отец Володи не прыгнул. Не потому что боялся, а поскольку считал, что японцы — недруги СССР. А «наши» должны все-таки разобраться, что он никакой не враг. Так многие думали, пока не находили себя у расстрельной стенки или, в лучшем случае, в лагере.
Он потом всю жизнь себя упрекал, что не прыгнул тогда за борт.
На Колыме, в лагере, ему повезло. Какой-то врач-еврей взял его, почти мальчишку, но большевика, значит «троцкиста», истопником в тюремную больничку. И это стало спасением. Более того, войну он пробыл в лагере. А не на фронте.
Когда закончился срок, вернулся в Москву, работал, но в конце сороковых годов началась новая политическая «чистка» и о нем опять вспомнили. Снова арестовали и присудили 10 лет за какую-то невнятную измену Родине. Снова как коммуниста-троцкиста. Их уничтожали под корень.
Опять Магадан, но он и в этот раз выжил. После лагеря в Москву домой не пустили и он, женившись, переехал в Пермскую область, где, самоучка, стал бухгалтером. Жили замкнуто и бедно. Но живые, тихие и потому на свободе.
В 1961 году его наконец реабилитировали, как невинно осужденного. Молодость и зрелость ушли в костер лагерей. А отца Володи просто вызвали в Москву, вернули партийный билет и извинились. Работник, который занимался его «делом» искренне удивился при встрече — мол мы так и не поняли, за что вы сидели?
В общей сложности, в лагерях и на поселении он прожил 25 лет, всю сознательную активную жизнь. Потому и дети у него были поздние.
— Вот такая история моего отца, — сказал Володя — Когда мы подали на выезд из страны, потому, возможно, и не стали нас держать.
Дождь перестал. Италия снова заиграла своим многоцветием и жизнерадостностью и мы пошли в одно из двух мест, где могли встречаться эмигранты: помещение еврейского клуба «Шалом» и христианского, без названия.
Помню, заполняя анкету одна кандидат наук спросила меня — А как правильно писать в графе «национальность»: еврейка или идишка? Мы ведь уже на Западе.
— Пишите «ивритка» — хотел сказать я. Но передумал.
Врагов надо наживать на собственном успехе, а не по чужой глупости.
Другой якобы выпускник аспирантуры уточнял — А что это за город, Бостон? — Город, — ответил я. И он глубокомысленно кивнул, понятливый.
В клубе были кое-какие книги, эмигрантская периодика, место новостей, сплетен и беспутного времяпрепровождения тех, у кого не было денег. Те, кто их имел, подкупив бдительную только для бедных таможню или вывез что-то существенное, торчал, торгуя палатками и дрелями, на блошином рынке в Остии. А то и просто гулял, осматриваясь, по Риму и стране.
Даже Италия, как и жизнь, у каждого была своя.
В клубе я не задержался, поскольку был приглашен на званный обед к замечательным ребятам, москвичам Рему и Рите.
— 32 года, — сказал никогда не унывающий Рем — Нельзя проводить в одиночестве.
Я не возражал и буквально на последние деньги, оставив немного, купил бутылку шампанского.
Когда достаточно, мало не бывает.
Поскольку эмигранты жили и снимали комнаты кто-где, в зависимости от получаемых и провезенных денег, то письма они получали на стабильный адрес «клуба». Походя, на столике, я и захватил, увидев фамилию, для знакомых письмо, с которым произошла курьезная и примечательная история.
Когда я пришел к ребятам, то оказалось, что письмо было Резницкой, а не Зерницкой, как звали Риту. Нет — так нет.
Я положил его в сумку и, когда мы поели борща и даже мясное «второе», распили шампанское и посидели, пошел назад, в «клуб», отнести это самое письмо обратно.
У входа на улице меня уже ждали две дамы. Бывший торговый работник, хотя и женщина, с ответственным лицом и безответственными глазами. А рядом ее дочка, моих лет. Они были злы и почему-то напуганы — Ты зачем забрал наше письмо?
Думал, что порвут, но обошлось. В эмиграции, пока не определились с документами, все стараются держаться потише. Точно, как новички в тюремной камере.
Объяснил. Вроде, выяснили. Но уже к вечеру, когда я вышел из комнаты, наполненной вернувшимися иранцами, проходивший мимо грузинский еврей, из наших, отвел меня в сторону от подъезда и спросил — Извини, а что у тебя вышло там с письмом?
— Да ничего. Небольшое недоразумение.
— Ты что… Весь вечер эти две коротконогие москвички вовсю шумели у синагоги, что ты забрал их весточку от родных, отнес куда-то, чтобы открыть и сфотографировать для каких-то своих дел. Ты ведь журналист?
— Вроде был, — растерялся я, не понимая о ком и чем он говорит. — А ты правда не открывал письмо?
— Правда, успокойся, — мне стало муторно. И выпитое днем дешевое итальянское шампанское встало в глотке, как моя утренняя тридцатидвухлетняя стойка под простыней в гордом окружении почти дюжины персов, бежавших от своего Аятолллы.
— Эти бабы, — пояснил он — Решили, что ты относил их письмо в ЦРУ.
— Зачем в ЦРУ?
— Как зачем? — удивился мне собрат из Грузии — Чтобы выслужиться и получить там работу.
Мне хватает собственной глупости, чтобы еще обсуждать и чужую.
— Что стоим, качаясь… Из подъезда вышла солидная пара львовян с ухоженной собачкой на руках, болонкой в красных ленточках. Они снимали благоустроенную двухкомнатную квартиру рядом, на лестничной клетке, и все беспокоились — Как это ты, один русский, живешь с ними, не евреями, а иранцами, в одном помещении?
— Куда положили, там и живу, — отбивался я, задыхаясь от запаха духов и смеха.
— Одеяло-то хоть есть? — подшучивал сосед от нечего делать.
— Без него легче.
А ведь не врал. Вторую простыню, вместо одеяло, у меня украли в первый же день и ночами я укрывался, расстелив поверх себя, рубашку. Поскольку их было у меня всего две, то иногда еще влажную после легкой стирки.
Но я не переживал. Жизнь научила воспринимать данность, как она есть. И будет. Все одно лучше, чем когда-то в армии, когда в бараке у железнодорожной трассы, где работали, мы спали в бушлатах, а утром осторожно отогревали руками примерзшие к подушке волосы.
Так те, кто остался по домам тискать наших девчонок тогда учили нас Родину любить. До посинения.
— А мы сначала в кафе и потом в синагогу, — никак не проходил мимо сосед — Погуляем.
— Развлечемся, — подхватила его жена, крашеная как картина художника-примитивиста — Делать там нечего, но интересно. Ходят эти, верующие, в шапочках на голове, ремнями обвяжутся и шепчут что-то. Цирк, да и только. И зачем им эта шапка? Без нее, говорят, нельзя. Но кто-то ж их содержит, деньги дает?
— Время — оно и есть деньги, — весомо отвешивает сосед — А они его растрачивают впустую: кто на Бога, кто на какие-то идеи. Заплатят, я тоже шапочку одену, даже две.
И они идут дальше, гордые, с собачкой, как со скипетром. Впереди Америка. Под ногами Италия.
— Цеховик, — уважительно шепчет мне на ухо грузинский еврей — Рубашки шил во Львове, фирменные. Этикетку налепили и на рынок. Умеют люди жить, счастливые.
— Счастливые, — соглашаюсь я. И молчу. Здоровая психика — нацелить себя только на деньги. Из всего и всех вычленять, где есть прибыль. Ничто и никто не отвлекает. Не гложет. Одним — Родина или смерть. Другим — Родина или деньги.
— Надо съездить в Рим, — подумал я — Пошататься по вечному, как Жид, городу.
Тем более, что туда пригласила молодая пара. Русский по имени Юра и его жена-американка Китти. Она просто жила в Италии, все равно где и даже как. А он возил экскурсии для новых эмигрантов и писал философские статьи, которые никому не показывал. Потому что нигде не печатали. Но американке было одиноко в Италии. А ему скучно, в смысле «поговорить». Так они встретились и сошлись. На абордаж.
Юра когда-то жил в Ленинграде и попал в тюрьму, по его словам, за переводы Ницше. Врал виртуозно, но страшно. Зато уехал довольно легко. Два года учился на философском факультете в США, потом бросил, надоело. И переехал в Италию. Помыкался, но освоился. И с женой, и с экскурсиями. Они специально навещали приморский Ладисполь, чтобы, в центре городка, «у фонтана», русской эмигрантской «тусовки», набрать людей на очередную поездку. Во Флоренцию или Венецию.
— Поехали? — спросил Юра.
Я глянул на свой кофе, вместо обеда, и понял, что уже проехал.
То же самое мне сказали накануне и двое знакомых немцев из приволжского Камышина, которые долго добивались выезда в свой фатерлянд и наконец уехали. Затем прислали письмо с адресом и телефоном. И, когда я позвонил им из Италии, отметиться, они немедленно предложили примчаться на машине в Рим и забрать меня с собой в Германию. — Нет документов? Ерунда. Провезем. Десять минут в багажнике…
Тогда в Европе были границы, но на Западе проезжающие их машины, как правило, не осматривали, бросив взгляд на паспорт. Ребята предложили завезти к себе и там сдаться в полицию. Все равно, мол, ты без паспорта и гражданства.
Их забирали при выезде из страны. Диплом университета и даже автомобильные права у меня тоже изъяли в обмен на выездную визу еще дома. Импотенту, но зато полковнику, будущему патриоту новой Украины, как я увидел его много позже, хотелось побольнее укусить напоследок. Так что ничего не было, по сути. Ни документов, ни денег. Выездная виза, да сам.
— Тебе хоть в Израиль, хоть в США, хоть в Германию, — сказали ребята по телефону — Лучше у нас, в Бундесе. И мы поможем, с радостью.
Я отказался и с тех пор больше о них не слышал, потерялись. Жизнь еще не научила беречь людей. В молодости кажется, что их вокруг много. Но с годами, как кольца ствола дерева, сжимают свои круги все уже и теснее. Зато безопаснее.
Терять было нечего и поэтому хотелось всего. А это всегда означало для меня — любимой работы. Надо искать варианты. Я вышел к трассе и стал ловить автостоп в Рим. Машины сначала не брали. Наконец какой-то Пауло, в фургоне с фруктами, притормозил и, уже по дороге пояснил — Много наркоманов и бездельников развелось. Вот и не берут попутчиков, опасаются. И куда катится Италия?
Я смотрел в окно, на кипарисы и домики из камня. И мне было все равно.
Юра забрал меня уже в Риме на машине, советском «жигуленке». Ржавом и бодрым, как чиновник на пенсии. На этой машине приехал в Италию какой-то чех-турист, но остался. И продал ее, плача от бессилия, полуживую, но бегающую, за сто долларов. Квартиру Юра не снимал. Родственники жены-Китти, хотя и американцы, отдали ее молодым жить бесплатно. Но одну из трех комнат Юра сдавал русским эмигрантам, которые, дожидаясь визы в США, не хотели жить вне Рима и среди таких ж, по статусу. И платили за это из вывезенных с собой денег.
— Деньги — это то, что ты и есть, — пояснил Юра.
— А если их нет? — удивился я, еще во всём советский.
— Значит, ты никто.
— Не человек, что ли?
— Почему? Человек-никто.
Я почувствовал себя грушей для бокса и пожалел, что поехал. Так и случилось.
Мы посидели вчетвером: он, Китти, я и бутылка красного вина. Закуски не было. Был вечер. И чудесный Рим. Но где-то далеко, за окном.
Юра рассказывал, какие они примитивные, эти эмигранты. И «совки». И итальянцы, сплошь «левые».
А я так и не узнал, как искать работу. И где. И чем он занимается. И чего хочет от этой жизни. И Италии. И зачем всё это ему надо. И мне тоже.
С невеждами говорит невозможно — они и так всё знают.
Уже прилично стемнело и, не буду скрывать, я подумал, что хозяева предложат остаться до утра. Как это практически всегда было в затянувшихся гостях в той же Москве, Риге, Тбилиси или Алма-Ате. Но Юра извинился, что телефон у них работает только на прием звонков из экономии и такси он вызвать не может. Чем обрадовал, поскольку я боялся, что тогда мне не хватит на электричку до Ладисполя.
Из недавно полученных от организации ХИАС, опекающей свежих эмигрантов, каких-то денег треть уже ушла за раскладушку в комнате с иранцами, треть — на посылку домой. И оставалось то, что оставалось.
Кое-что больше, чем ничего.
Я посмотрел по карте дорогу на вокзал и уверенно вышел в Рим. Темный и пустой. Прямо, как я, еще за столом. Но на улице, от нависших толстостенных древних домов этого вечного города моментально наполнился желанием выжить. И жить. Или хотя бы дойти до вокзала.
Через час или два, в ночи, я наконец вышел к нему, пришибленному гулкой тишиной и молчаливыми неторопливыми пассажирами. Но, на самом деле, их оказалось мало. А поездов до нужной мне станции уже не было совсем. До утра.
— Какие проблемы? — подумал я — Пересижу на вокзале. Все равно никто не ждет.
Но это была Италия. Вскоре прозвучало какое-то объявление, все пассажиры дружно встали и медленно поползли к выходу. А я за ними. Оказалось, что здесь, в час ночи, вокзал закрывался.
— Поздравляю, — сказал я себе — Тебе уже 32. И снова есть, с чего начать, с поезда. И к чему стремиться.
Народ вокруг деловито и привычно устраивался на каменных плитах вдоль вокзальных стен. Полиция не мешала, да ее и не было видно. Я занял место, перекинувшись парой слов, между каким-то немцем-туристом с циновкой из его рюкзака и худым, долговязым, белесым, словно сигарета, австрийцем.
Дальше, разламывая картонные ящики, укладывалась женщина-бомж и худая скуластая вокзальная шлюха в миниюбке. Она уже не зыркала, как еще недавно, по сторонам. Не на кого. Мужчины для таких — это деньги для расплаты или, на худой конец, прокорм. А вокруг были только мы, некто.
Я попробовал было ухватить остаток картона от ящика, но в него, одновременно со мной, вцепился арабского вида парень. Он скалил зубы, резко рвал на себя и злобно шипел готовностью к драке. Мне не хотелось попадать в полицию или получить нож, тем более, что ближайшие улицы уже тянули темнотой и там было легко скрыться любому. Я уступил, расстелил пару подобранных газет и почти сразу заснул, несмотря на холод от камней снизу. После моих зимних бараков в армии, в Мордовии, это было почти привычно. Неудобно, не более.
В четыре утра, с зябким быстрым рассветом, вокзал снова открылся. И люди переползли вовнутрь. Скрюченные и такие же пришибленные, как и ночью.
Я спросил билет на электричку, назвав «Ладисполь», как вдруг неожиданно услышал на чисто русском языке — Вам туда и обратно?
Пожилой кассир-мужчина доброжелательно смотрел, глаза в глаза.
— Только туда, — машинально ответил я. И добавил, удивленный — Вы что, русский?
— Нет, — улыбнулся он.
— А откуда тогда так чисто говорите?
— А… — Он махнул рукой. Широко, по-итальянски — Война. Плен. Сталинград.
Солнце из-за желтых, средневековых, потеплевших домов уже высвечивало, согревая, возкальный зал. Где-то урчали автоматы с кофе, натощак.
И я снова понял, что жить, все-таки, хорошо. А Италия — это всего лишь очередное продолжение уже состоявшегося начала.
Какая, на фиг, разница — когда.
Один человек мне сказал, что правде надо смотреть в глаза.
— Осторожно, не ослепни. — ответил я. И подумал — Смотреть правде в глаза то же самое, что смотреть смерти в лицо. Мало кому понравится.
Но иначе и начинать не стоило.
Шабак
Один человек мне сказал, что за ним следят. Но сначала он предложил выключить мобильник и снять телефонную трубку на аппарате.
— Брюки оставить? — спросил я и подумал: «Неужели маньяк?».
Мысли путались, с кем попало.
— К вам полиция, — секретарь выглядела скорее встревоженно, чем испуганно. Но дверь в кабинет она за собой оставила преоткрытой. Работа такая.
Секретарь была не моя, а начальника по коридору налево. Но он с ней не спал. Он делал это на стороне.
В офисе, где все прослушивалось его «жучками», ему это делать было нельзя.
А мне можно.
Но я тоже с ней не спал. Потому как платил ей он. И она ему же отчитывалась.
Я же сказал — Работа такая…
— К вам полиция, — звучало многообещающе. Особенно с утра.
И свежее солнце, прищученное кондиционером и полосатыми ребристыми шторами, взошло у меня за спиной, как понятые, словно шаферы на свадьбе у молодоженов.
Встало и замерло.
Все опустилось.
В Израиле к полицейским относятся по-разному. Если не сталкивались, то хорошо. Отсутствие личного опыта всегда облегчает жизнь категоричностью слабительных суждений. Но если такой опыт уже был, то израильский полицейский вполне сопоставим с российским.
Не место красит человека, а человек красит место.
— Хотя в жизни всякое случается. И очень часто, — сказал как-то начальник снабжения Дома быта города Могилева по фамилии Черняк, когда на неделю направил меня на специальное задание следить за газетным киоском, где работала его жена. Он подозревал ее во внеурочных связях и женской хитрости.
Порочной, как дуршлаг.
И я благополучно отгулял это время на днепровском пляже и отчитался, что никаких подозрительных контактов у нее не было. Но, может быть, пять рабочих дней — это мало для вскрытия?
И отгулял еще неделю. Дома.
И сохранил им семью. А ведь мог и разрушить.
Один человек вошел ко мне уверенно и резко.
Как политик, до бровей накачанный формалином имиджмейкера.
Он был в голубой форменной рубашке, спрятанной под коричневый ремень с дырочками — на вырост по службе. В темных туфлях под белые, словно ручки христианского младенца, носочки.
В прическе с залысинами бедолаги, пережившего всех, кроме себя.
Черные-пречерные погоны бесстыдно болтались вразлет, как бурка Чапая на плечах супермодели. А на мятой груди вместо сердца отвисал нехилый бэйдж с именем, чин по чину.
И еще брюки — главный компонент настоящего мужчины.
Если он не женщина. Не шотландец и не индиец.
А мы были в Израиле, где встречается все.
И даже то, что больше нигде не нужно.
— У вас можно говорить? — он огляделся и внимательно прицелился взглядом прямо в меня.
— Вроде да, — я показал на плакат с перечеркнутым красным словом из трех вечных букв и подписью «Здесь не ругаются».
— За мной следят, — сказал один человек. И я понял, что это не полицейский.
Полицейские носят фуражку.
— Воин, почему вы без головы? — спросил меня однажды старший лейтенант Лукинский, подловив на плацу части без пилотки. И я сразу же осознал, что армия — это все.
Но не для всех.
— У меня к вам дело. Секретное. Снимите трубку на телефоне и, если можно, выключите мобильник, чтобы нас не прослушивали. Шабак (служба безопасности Израиля) везде.
— Успокойтесь, — я достал из-под ножки стола початую бутылку водки и подумал о начальнике: «В гробу я его видел».
— Смелый вы… — зауважал он, думая о своем.
Мы оскопили по рюмочке.
Полгода назад он устроился работать охранником в крупный супермаркет. Получил форму и стабильный заработок, но вдруг почувствовал, что его хотят убить. И не просто так, а электронным облучением. Медленно и подло. Сначала установили антенны в доме напротив его квартиры и запустили свои дозы, чтобы зомбировать. Когда он поменял жилье, все снова повторилось.
— Я резко полысел, — шептал один человек мне на ухо, — Интимные проблемы, извините, появились. А все потому, если вы спрашиваете, что я бывший офицер, в России. Нас здесь уже много, вот «они» и испугались. И начали, втихаря, изводить. Но я-то свой.
— Патриот, — мне полегчало. — Это диагноз. У них повсюду враги.
Было щекотно, но значимо. Как в президиуме.
Он вдруг вытащил из целлофанового пакета с надписью «Спасибо, что вы с нами» пачку серебристой фольги, расправил ее в шапку и одел на голову.
— Это отражатель. Я с ним все время хожу по дому и даже на ночь не снимаю, потому что меня облучают уже из соседней квартиры.
В дверь, как бы проходя мимо, заглянула секретарь, и по ее побледневшему лицу я понял, что в мою папку ляжет еще одна рапортичка начальнику. И с меня спросят, что это за князь Серебряный?
— Может, вам уехать? — я спрятал бутылку под стол. Пить расхотелось.
— Куда там… В Узбекистан? Нет. Это моя страна. Помогите. Вы здесь многих знаете. Наверняка есть знакомые и в Шабаке.
Я промолчал, но выпрямился в кресле.
Глаза вдруг стали оловянными, словно в уголовном розыске.
Запахло паленым солнцем.
— Так вот, — продолжал он. — Скажите им там, кому надо, что я никакой не враг. Вас послушают.
И надежда тлела в его глазах, как головешки костра, в котором человек сжигает себя сам, злорадствуя и жалея одновременно.
— А что делать, — подумал пи-ц, — Кроме как назвать себя будущей вечной жизнью? Иначе не поверят.
— Отвернитесь, это секретно, — я защелкал по костяшкам телефона. — И он натянул себе шапку на голову. До самого Адамова яблочка, которое Ева успела надкусить, не познав.
Фольга хрустнула и затихла.
— Але, Меир, извини, буду говорить на русском, чтобы твои коллеги не поняли, — меня понесло. — Дело важное. Тут у меня один репатриант из бывших военных, хороший мужик.
Я вытащил его удостоверение личности.
— По фамилии Белаконь. Да. «Бела», как Белла, твоя тетя из Хайфы. И «конь», как конь с мягким кончиком, ну ты помнишь…
— Сионист, — подсказал один человек.
— Сионист еще тот, с самого детства. Так вот, ваши ребята его там, вроде, облучают почем зря, а он наш. В смысле, свой. Я за него ручаюсь. Меир, сними с него наблюдение. Сделай для меня. Пусть парень живет спокойно.
И тут я увидел, что один человек качнулся на стуле — то ли от нервного напряжения, то ли от духоты.
Фольга — это еще тот отражатель виртуальной реальности.
Мне стало страшно, как на собрании пацифистов.
Еще не хватало вызывать в офис врачей — эту белую смерть в простынных халатах.
— Все. Снимайте свою «буденовку». Идите работайте. Больше вас никто не побеспокоит.
Он смотрел на меня, как маленький пупс в подвальной купели вифлеемского храма рождения Христова Палестинской еще автономии. Светло и непостижимо.
Все дети рождаются Иисусами, но потом живут с кем ни попадя. И умирают как попало.
Один человек светился, словно только что вышел из дверей туалетной комнаты.
Прочищенный, как после исповеди в публичном доме.
Что нужно в этом мире, чтобы порой сделать другого человека счастливым? Кусочек лживой правды под стельку отвисшего языка жадности. Да щепотка тепла на неистощимый клитор самолюбия.
Один человек сказал мне, что долг он при случае отдаст.
— Только не последний, — ответил я и подумал: «А где он купил фольгу, прости Господи?»
Как-то так…
— Живут же люди, — подумал бродячий кот, оглядевшись в мусорном баке.
— Живут же, — подумала домашняя кошка, увидя удирающих от собак котов.
— Живут же, собаки, — подумал бродячий кот, заглянув в окно жилого дома.
— Так не живут, — подумал бродячий кот, увидя за стеклом сытую, но одинокую домашнюю кошку.
— Нелюди, — подумала домашняя кошка о хозяевах. — Им всё игрушки. Пора бы уже и кота привести.
— Живодеры, — подумал бродячий кот, глядя на хозяев, выгуливающих собак.
— Вот, — гордо сказала жена, поставив мне на стол утренний кофе. — Я еще даже животных не кормила.
Счастливее, чем овцы, не найти.
Они всегда на правильном пути…
Фотография
Два зеленых плацкартных железнодорожных вагона вместе с нами завезли в ноябре куда-то в глушь куцей беспородной тайги и оставили на рельсах. Я и сейчас не знаю, где мы были — в Забайкалье или в Якутии. Но мы были.
Мороз стоял адовый. Даже в ватных штанах поверх формы и в бушлатах работать получалось не более пятнадцати минут. Посменно. Родине нужен был наш бесплатный и бесполезный труд.
И мы долбили ломами мерзлую землю, отбивая при ударе только маленькие кусочки, отрезанные от целого, словно ломтики, глинозема. Похожие на нас.
Дело, понятно, не шло. Но никто нам и не мешал. Скорее всего, начальство просто пережидало, решая, куда отправить дальше. В одном вагоне все ребята были после Монголии. В соседнем — забайкальские.
Старший офицер приезжал откуда-то утром, торчал в вагончике и к вечеру убывал восвояси. Продукты и горячее привозили в бачках, а завтрак и ужин мы готовили сами. Свою ложку, главное личное имущество, каждый держал в голенище сапога.
Казенных ложек в этом мире всегда меньше, чем ртов.
Но никто извне к нам и не лез. Некому. Где-то гнила, распускаясь, своя жизнь. А нам здесь было все равно. Мы считали дни до далекого дембеля.
Какая разница, где отсчитывать время из одной клетки в другую, попросторней?
Все равно и в Монголии не было ни девчонок, ни домов, ни штатских, ни телевизора, ни радио. Там степь, работа и тоска за окном. Здесь тоска, работа и просторы с пролесками. Солдатчина…
По соседней действующей ветке проходили товарные поезда. Иногда они останавливались рядом. В них болтались цистерны с дешевым вином. Дежурный обязан был следить за этим. И порой ночью мы подскакивали от истошного крика:
— Рота, подъем!
Молодые, в хрустящих от холода гимнастерках, схватив рукавицы, чтоб не приклеиться на морозе, забирались на цистерны, ломиком вскрывали их и черпали вонючую кровавую жидкость ведром. Потом еще одним. Третьего, свободного, не было. И тогда из грязного выбрасывались лопаты, инструмент, и в ход шли слегка ополоснутые тем же народным пойлом рабочие ведра. Надо было успеть, пока поезд неожиданно не тронется дальше.
Потом алюминиевыми кружками мы пили прямо из ведра азербайджанский «Агдам» или иную гадость под разговоры ни о чем. Чаще о том, что было и будет, когда мы вернемся.
Наутро те, кто из последнего призыва, помоложе, отмывали вагон, а приехавший офицер несильно орал, выгоняя нас на мороз, на работу, проветриться.
А что делать? Армия — это распорядок.
Однажды после такой ночи я не смог найти в кармане фотографию своей девушки, будущей жены. Выронил или вытащили. Она была снята крупным планом, а позади, с древком флага в руках, размыто маячил и я.
На последней перед отчислением из университета первомайской демонстрации к нам подошел какой-то активист, белесый и бесцветный, как лозунг, и грубо ткнул мне в руки знамя.
— Неси, таким положено.
В принципе, я тогда и сам бы взял. Но только вместе с наганом.
А фотография, самое ценное, что у меня оставалось, пропала. Мы с ребятами обыскали оба вагончика и ничего не нашли. Понятно, что исчезнуть здесь она не могла, некуда деваться.
И тогда «монголы» построили всех в проходе и приказали вывернуть карманы.
Фотография нашлась в… военном билете одного из «забайкальцев». Парню дали пару раз по морде в целях воспитания, чтоб не «крысятничал». Но я никак не мог понять, зачем ему красть и носить фотографию совсем чужой девушки. Что она ему?
— Чудак, — удивился размеренный Арно из Таллина, который шутил, что идет по следам своего деда, погибшего после войны в Сибири. — А еще в институте учился. Спроси у Гочи, он знает.
— Как тебе сказать? — начал Гоча из Грузии, посмеиваясь и приглашая поближе других ребят. — Нужна ему твоя девушка.
— Но зачем? Какой смысл?
— Простой, — пояснил Гоча. И парни вокруг хихикнули. — Неужели не понимаешь? Качать ему надо. На здоровье.
— А моя девушка здесь при чем?
— Глядя на фотку, приятней. Смотрит на нее и «качает». Тебя в институте этому не учили?
— Учили чему надо. И сейчас учат, — буркнул я, вспыхнув.
И тоже засмеялся. В конце концов, только у меня через год службы оставались письма издалека, начинавшиеся со слова «любимый».
Смех покатился по вагону, тыкаясь светом в черные, как беспросветная власть, окна. Но мы тогда думали, что так и надо.
Фотка пошла по рукам. Как девчонки, которые нас не дождались.
Гоча, по случаю праздника обретения, вытащил заначенную резиновую грелку с домашней чачей, а Орест, из глубинки Карпат, сам вызвался организовать жареную картошку. Он уже немного говорил по-русски. Но в самом начале, еще в Монголии, ему доставалось из-за этого больше всех. Поначалу он стоял тогда, отмахиваясь, как загнанный бычок под тычками, со всех сторон и почти выл, низко и протяжно:
— Мос-ка-ли…
Но вокруг не понимали, о чем это он. Не слышали.
Те «деды» ушли на дембель, а для нас он был свой.
И нам было весело — от молодости, скуки, повышенного давления стреляющей до подбородка спермы и похмельной тошноты в глотках одновременно.
До дембеля оставался еще целый год.
Один человек мне сказал, что армия — это священный долг.
— Аминь, — ответил я и подумал: «Родиться, раздать долги и умереть. А жить когда?».
Альтруист
Все дети рождаются свободными и честными. А потом до старости учатся жить в разных тюрьмах и красть на свободе. Таких называют взрослыми. Степаныч был как ребенок. Он не сидел в тюрьме. А был, где был. И не крал. По крупному. Не хотел мелочиться.
Так и жил, как приспичило.
Труднее всего стать неудачником. Но для этого надо сначала научиться побеждать. Терпеливо и упорно. Многие даже не пытаются это сделать. Поэтому воюют друг с другом, начиная с собственного дома и безжалостно уничтожая себя. А заодно и тех, кто оказывается рядом. Сначала фронт без линии фронта. Война на истощение. Потом окопная. И наконец кто-то отвоевывает своё. И уже чужое, как своё. На то и пишутся законы.
Для тех, кто не хочет жить сам. Но хочет.
Кому повезло с мозгами, продолжают занимаются своей обычной, но нужной работой. Пекут, строят, пашут, ремонтируют, возят. Не без проблем, конечно. Но спокойно и буднично. Как есть. Как и их жизнь.
Степаныч был как раз таким. И еще он был альтруистом. По сегодняшней жизни это выглядит, как извращенец, пусть и нетипичный. Типичные людям понятны, поскольку близки. Но, как правило, недосягаемы. Решимости не хватает.
Альтруист — это человек, который ненавидит себя больше, чем людей.
Хотя разговор о них почему-то всегда идет про любовь. Так проще. Какая разница прохожим о чем врать друг другу. Лишь бы не молчать, разговаривая с собой и о себе. Это невыносимо.
Короче, альтруист не человек, а недоразумение. Как муж.
Но типичный, после сорока.
Степаныч жил один. Когда-то он ухитрился построить бизнес, вполне преуспевающий. Это было для него, как игра. Смогу, не смогу. Получилось. Он на радостях женился. На незамысловатой, как ему казалось, женщине из очень небогатой семьи. Степаныч не только полюбил, но и думал, что она это оценит и, ко всему остальному, будет еще и благодарна. Ему хотелось признания. Так и было поначалу. Он помог ей выучиться, одел, как хотела, возил на курорты. Помогал с их ребенком.
Не учел только одного, важного. Успешный мужчина — несчастье в доме обеспеченной им женщины. Не сразу, но потом. И почти всегда. А если он еще и счастливый… Это уже ей совсем невыносимо.
Но и успешный бизнес — заноза для других, таких же, по интересам. Вскоре дело Степаныча тихо и аккуратно, без выстрелов, задавили. Оно перешло в иные руки. Чистые, как костюм законника, измазавшего и ограбившего кого указали, гонораристо и щедро.
Зато по правилам. Тоже работа.
На свои последние деньги мужчина покупает автомат.
Если грабят. Пусть даже и по закону. Но тогда из одиночки собственной шкуры его могут перевести в общую камеру с ограничением передвижения в пространстве.
Степаныч так не хотел. Он же был альтруист. По отношению к себе тоже. И стал жить дальше. Жене это вконец не понравилось. Она, обеспечив себя, лишила его остатка остатков. И ушла. Его ушла, разумеется. Из дома.
Но он-то остался.
Степаныч стал работать обходчиком составов. Наверное, простукивал колеса, что то там проверял. Не знаю. Делал, что нужно и ему снова хватало. Умному достаточно. Хотя он себя таким не считал. Он вообще об этом не думал. Умный — не умный. Богатый — не богатый. Провел отпуск в деревне у речки с удочкой или на Мальдивах. Отдыхают же для себя. Себе в радость. Дело личное. Как и жизнь.
У него было простое и здоровое человеческое качество — он не сравнивал себя ни с кем и не прикидывал чужое к тому, что имел. Ему было легко жить. И с собой, и с людьми. Но, если кто-то не понравился «на нюх», интуитивно, по словам или поступку, то Степаныч таких обходил. Молчал, думая о своем.
Или, если деваться было некуда, кивал головой и смотрел, не вникая. Отдыхал, выключив мозги для самозащиты. Словно в зале ожидания, в очереди, которую почему-то называют живой. Или на приеме у чиновника, взаимно.
Так он и жил, насыщенный.
Однажды Степаныч шел с работы и увидел близ станции бомжа, который сидел на скамейке и, покуривая, читал газету из мусорной тумбы. Многие бомжи самые внимательные читатели любой макулатуры. Они всеядные. И читают то, что другие слегка просматривают. А потом пересказывают друг другу и обсуждают. Это называется общением.
Степаныч и раньше их видел, не слепой. Слепые смотрят, но не видят. Как и другие. А он обратил внимание. И было у Степаныча хорошее настроение: день сложился спокойный, премию получил, с проводницей кокетливой познакомился. И еще, он вдруг вспомнил своё.
А бомж был моложе и видно, что аккуратный, по возможности. Чистый. Хотя и пропитый. А что еще человеку делать, если делать нечего. Гуляй, сиди, лежи и пей. Почти как многие богатые бездельники. Разве что без удобств и без машины. И готовую еду им приносят те, кто работает. Искать не надо. Но не велика разница.
Разве что, у простых людей всегда есть стимул заработать. А у богатых — работать надо собой.
— Есть хочешь? — спросил Степаныч. Он же был альтруистом, а не каким-нибудь работником пера и топора. В смысле, закона.
— Хочу, — просто ответил бомж. Но человек. Хотя и без места жительства. Степаныч тоже почувствовал себя человеком. А это не каждому дано. В мирное время. Он смог. И даже спросил:
— Как вас зовут?
— Виктор, — ответил человек.
— Победитель? — Они оба усмехнулись и пошли к Степанычу домой.
Там быстро накрыли стол, открыли бутылку и гость рассказал, как он дошел до жизни такой. Он не жаловался какие плохие были родители, власть и выпавшее ему время, как это обычно делают неудачники. Из поколения в поколение. Раздувая сочувствие других и свою злобу. Степаныч таких историй наслушался досыта. Под копирку.
Как «письма счастья».
Виктор был во всем обычным. Что-то похожее с ним. Обычное детство. Но родители разошлись. Обычное студенчество. Чтобы не забрали в армию и получить диплом профессии, которой он не собирался заниматься. Тогда еще их не покупали. Обычная работа, но на ней мало платили. Обычный брак, чтоб не зависать одному и было с кем поговорить. Но жене это быстро надоело. И они стали мешать друг другу.
Виктор, как учили хитрые женщины, по-мужски, взял чемодан и ушел сам. Оставив квартиру ей и ребенку. Но и новая, хотя и старая, его не приняла надолго. Одно дело «визитинг профессор», а другое постоянно в ее доме. С претензиями, подсчетами денег и вечно поднятой крышкой унитаза.
Только женщины знают сколько мусора остается от мужчины к утру.
Жизнь состоит из пришел — ушел. И что от этого осталось. У него оставалось все меньше. По большому счету. Сначала пришлось мешать одним друзьям, которые его приютили. Но не навечно. Потом другим. Третьих уже не оказалось. Работать ему тоже надоело. За копейки, неблагодарно. И он долго нигде не задерживался, пока наконец не стал свободным от всех. С такими же, как и он. Паспорт потерял или украли новые друзья. Понесло — закружило. Жизнь и занесла его далеко от дома.
— Вот, если бы были деньги на дорогу, вернулся б в родной город и начал снова нормальную жизнь, — грустно завершил Виктор. И почти заплакал. От обиды на свою жизнь.
— Чтобы быть добрым к людям, надо их не встречать.
Но Степаныч не согласился.
— Так нельзя. Мы же встретились. А ничего не бывает случайно. Ему было приятно, что кто-то его слушает и он может дать совет. И даже что-то сделать. Не только для себя, как живут пресмыкающиеся. А по-божески.
— Давай я завтра поговорю на станции, — успокоил он — Найдем тебе какую-то работу и без паспорта: грузить, носить, убирать. Не люди мы, что ли? Не в Австралию же возвращаться. Поживешь пока у меня, поесть я тоже куплю. Накопишь быстро. Да и я дам немного. Потом, когда встанешь на ноги, пришлешь. Ноги-то человеку даны, чтобы бегать, идти и стоять.
— И бежать, забыл что ли? — подумал он. Но проглотил, вместе с пельменями. Чтоб не травиться.
А гость пил, рассказывал и каялся. Каялся и пил. И это было так по-человечески.
— Не переживай. Прорвемся, — сказал Степаныч — Ничего страшного нет. Жизнь, не более.
Самые несчастные — это те, у кого всегда все хорошо. И даже отлично. Раньше таких держали в психушках. Подальше от людей. А у тебя, как у нормального человека, трудности. Так сложилось. У каждого по-своему.
Степаныч же был альтруистом. Хотя и не знал об этом. Но он и не подумал, альтруист, что людям вокруг прежде всего нужны деньги. Потому что они всем нужны. И ему тоже. Худеют — и то за деньги. Трудясь. Лишь бы не работать.
Никто не хочет ходить на работу.
И на следующий день, когда Степаныч, радостный с сумкой продуктов вернулся со смены, оббегав вменяемых начальников и договорившись, тайно от пресыщенных законников и прочих скрупулезных обмылков, взять своего гостя что-то там делать, увидел, что того уже нет. А вместе с ним и отложенные в шкафу под сменой постельного белья сбережения, бывшее его обручальное золотое кольцо, одежда и все, что более-менее стоило денег в его доме.
— О как, — присел Степаныч — Не дождался. Решил ехать домой сразу. Я бы так не смог. Думал бы, обдумывал, а потом и отложил. Слишком мол накладно и хлопотно. Как обычно. Когда думаешь, ничего не получается. Он не такой, этот Виктор. Решительный. В конце концов, я ему помог и так. Продаст, купит билет, что-то оставит на новое обустройство. Вспомнит, как мы сидели за этим столом, разливая и согреваясь. По-человечески. Единые, как столешница. И все у него будет хорошо, Бог даст.
— Оставь Бога в покое, — вздохнул я, дослушав Степаныча — Он уже сотворил все, что хотел. Но ему некому каяться…
Бумажный солдатик
Я за рулем уже много лет и попал только в одно дорожное происшествие. Да и то по своей вине. В Америке.
Когда «прижимало» и накапливалось одиночество, а сходиться, даже на время, я ни с кем не хотел, то садился ночью в машину и выскакивал на хайвей. Затем одевал наушник от плеера, где стояли по очереди две кассеты, вывезенные в рюкзаке: песни Булата Окуджавы и Юрия Антонова. И шел по трассе на максимальной скорости минут сорок в никуда, затем разворачивался и обратно. Помогало.
Однажды в сильный ливень, заполночь, я так же возвращался через окраину Нью-Йорка домой, высчитывая, сколько часов мне оставалось до подъема на работу. И в голос подпевал Окуджаве: «Был тот солдат бумажный. Бум…».
На темной, мокрой, как девочка-подросток, улице в последний момент вдруг увидел, что начинаю въезжать в стоящую на светофоре машину. Тормоза не помогли. По скользкой дороге я так и впарил ее в задний бампер. Машина рванула и «въехала» в еще одну, у перекрестка. Ее капот подскочил и вздыбился полукругом.
Первая машина от толчка сорвалсь с места и, не останавливаясь, удрала. Подальше от нас и от разборок.
Из второй выскочила испуганная девушка, у которой, как оказалось, не было документов. Забыла.
А у меня, в свою очередь, тоже не было автомобильных прав, потому что мои забрали при выезде. Вместе с дипломом университета. Чтоб было не как у людей. И потому труднее. И правильно сделали. Ко всему прочему, вначале, мне это многого стоило. А здесь с первого раза сдать на права не получилось. Плати да плати. Так и ездил по Америке несколько месяцев без прав. А что делать?
Жить захочешь — плюнешь на все права.
К счастью для нас обоих, вокруг не было ни полицейских, ни даже прохожих. И мы зачем-то обменялись личными телефонами.
Но она так и не позвонила. Вот дура…
Рождество в Вифлееме
И зачем был нужен этот всемирный еврейский заговор с Христом?
Оператор с тяжелой камерой на плече и я со штативом растерянно стояли посреди безлюдной ночной улицы Вифлеема. Через четыре часа, уже под утро, в Иерусалиме был заказан спутниковый канал на Москву.
А нашей машины на месте не было. Так в жизни часто случается: чужого вокруг много, а своего — нет. Но как только появляется — нередко становится чужим. Кому-то на счастье.
Вифлеем Палестинской автономии праздновал Рождество Христово. Храм, освещенный перекрестным огнем сине-красных прожекторов, казался нереальным на фоне звездного сказочного неба. Накануне мы бросили машину с единственными в округе израильскими номерами внизу, перед подъемом к площади, где уже собрались сотни людей, в основном христиане-палестинцы и отмороженного вида западные паломники.
— Пусть тачка стоит на людях, — я показал тогда на стоявших повсюду полицейских с «калашниковыми» на руках, словно с младенцами. — Все лучше, чем прятать во дворах.
И мы пошли в народ.
Народу было мало. Шататься ночью по промерзлому и темному Вифлеему, надеясь на Господа, особо желающих не было. Это они в прикиде блаженные, а так не дураки.
Когда-то Вифлеем считался в основном христианским городом, но из-за постоянных военных столкновений католики и православные палестинцы в массе своей съехали. Кто в Европу, но большинство в Латинскую Америку, где можно было зацепиться. Только в чилийском Сантьяго их община насчитывает почти 25 тысяч человек.
А что делать, если в этой жизни на родине нет ни нормального бизнеса, ни покоя, ни безопасности? Разве что искать другие палестины.
Репортерам-телевизионщикам запрещали снимать непосредственно в гроте, где родился Христос. Именно над ним построили потом Храм, разделенный на две части: католическую и православную. С площади вовнутрь, в православную половину, и дальше в грот ведет главный вход, узкий и низкий, словно прорубленный в камнях. Невозможно зайти, не наклонив голову или не согнувшись.
Как в жизни. Иначе не возвысишься.
Палестинские полицейские, оцепив проем, перед штатскими стояли насмерть. Обеспечивали безопасность. В католической части к полуночи собралась вся дипломатическая шелупонь, приехавшая отметиться и засвидетельствовать. Пропускали и некоторых паломников, но не журналистов.
А кому нужны свидетели?
— Придется только на площади работать, раньше двух ночи в храм не пробьемся, — было обидно, что бюрократы опять путаются под ногами, прикрывшись, как обычно, вояками и ментами. И проплачивая их службу нашими же деньгами. Так устроен этот мир.
— Приедем еще раз днем и снимем, какие дела? — философски среагировал оператор. В своем оптимизме он был красив до безобразия. — Опять же, православное Рождество еще будет.
— Добавь еще третье, армянское…
— Вы что, русские? — вдруг как из-под земли радостно подошел к нам палестинский офицер.
Оказалось, что он учился где-то на Урале, на юридическом. И сегодня отвечает за безопасность туристов на площади перед Храмом рождения Христова.
— Так давайте заведу…
Так мы оказались в Храме. Высокий купол, заупокойный запах ладана, заставленная свечами икона Божьей Матери, представительные монахи-эллины. Они шли мимо, прямо в руки, поскольку места там немного, не разойтись.
И сладкий воздух праздника, густо приправленный благовониями, уже дурманил голову красивыми песнопениями, нисходящими сверху прямо в бездну притихших и потому умиротворенных до утра человеческих душ.
Ищущий — да обрящет.
— У меня еще никогда не брали интервью русские журналисты, — польщенно промолвил патриарх греческой православной церкви, по-мужски, щелчком, стряхнув над коленом расшитое золотом одеяние.
— Было бы здорово показать рядом с вами тот святой грот, где родился Спаситель, — проникновенно сказал я. И почувствовал себя фарисеем. — Но туда не пускают.
— Ну если не мешать паломникам…
Это была первая «русская» репортерская съемка в одном из самых святых для христиан месте. Прямо у вифлеемской звезды на месте купели, в гроте, густо обклеенном паломниками, медитирущими о духовной любви и плотском искуплении.
Но за стенами Храма все оставалось по-человечески, грешным.
Когда за полночь мы спустились по узкой улочке от площади вниз, то машины на месте не оказалось. И людей вокруг тоже. Тишина.
Почти темный город вокруг навеивал зябкую тоску реальности и суровой правды вполне земной, совсем не благословенной, жизни.
— Спокойно, все-таки рождественская ночь. Значит так, первая стадия — растерянность. Значит, присядем, — я прикурил от своего окурка, огляделся по сторонам и, бессильно посмотрев в лицо оператора, высказал в него все, что думаю о его матери и о ее местных сукиных детях. Это помогло, но не надолго.
Вдалеке замаячили двое военных с «калашами». У ребят были красные береты с вытянутыми орлиными крыльями на околышках — палестинский спецназ.
Парни растерянно смотрели по сторонам: мол, вляпались, но поняли, что машину украли и надо бы что-то делать. Но не знали — что. И благоразумно попытались скрыться. Куда там…
Ошалев, я заходил перед ними, оскорбленный за весь христианский мир. В трехстах метрах от Храма рождения Христова, в рождественскую ночь слямзить машину? Нехристи.
Военные на всякий случай вызвали полицейских, и вскоре из-за угла вынырнул закрытый джип, куда нас жестами попросили сесть. Машина взвыла от возмущения и пошла петлять по немыслимым вифлеемским закоулкам, все дальше и дальше от Храма, куда-то в сторону от главной дороги, в гору.
Город заканчивался, и от близлежащих холмов уже веяло совсем не библейским спокойствием и сыростью. Ладан из головы выветрился моментально.
Наконец, мы нырнули между окраинных домов и въехали через узкий проезд на какую-то земляную площадку, похожую на небольшое полевое стрельбище. Навстречу вышел тучный заспанный сторож, и полицейские энергично что-то стали ему объяснять, жестикулируя, как итальянцы в кино или израильтяне на улице, и показывая на меня, в натуре.
— Выходи, — махнул сторож и посветил фонариком. На влажной земле я увидел, что мы находимся на какой-то полевой парковке, полной машин. Но у них у всех были палестинские номера.
Чуть дальше, в ночи, с двух сторон от одноэтажных халуп, образующих ограду, тянулись земляные холмы. Сторож повел меня к ним — в темноту. Полицейские потянулись сзади.
— Зря связался, — просветленно подумалось тогда, но, как всегда, запоздало. — Да черт с ней, с машиной. Домой бы…
Мы уже входили в земляную горловину, за которой неожиданно оказалась еще одна небольшая площадка, укрытая со всех сторон холмами и прикрытая звездным, но почему-то нерадостным небом. В два ряда, прижавшись друг к другу, там стояли с полтора десятка машин с… желтыми израильскими номерами.
В палестинском Вифлееме? На окраинном, да еще двойном отстойнике? Понятно, что краденые.
Но одна из них была — моей.
Кому-то сегодня не посчастливилось.
— Есть Бог на свете. Я как-то сразу и искренне поверил.
Полицейские облегченно порадовались рядом. Затем неожиданно, буквально вытолкнув оператора из своего джипа, развернулись и уехали.
— Та еще работка… — наивно подумал я с благодарностью.
Однако это была еще не вся рождественская ночь.
Мне только потом стало понятно, почему они так быстро смотались. Обычно палестинцы очень вежливы с журналистами и в подобной ситуации, как правило, сопроводили бы из города для своего собственного спокойствия. Сплавил журналистов — и дыши благодатью.
Машина завелась с полуоборота, радостно урча, как соскучившаяся по знакомым рукам женщина. Но на выезде узкие ворота «парковки» были перекрыты.
— Сто долларов, — спокойно сказал сторож, блеснув крестиком из-под рубашки. — Иначе не выпущу.
— Хорошо. Но дай квитанцию, Иуда, — смесь иврита и русского в рождественскую ночь звучала почти молитвой.
Сторож уперся, ему нужны были живые деньги. И он хотел себе праздника. Даром, что ли, христианин? Или езжайте в полицию, привезите оттуда бумагу с разрешением на выезд. А вдруг это не ваша машина? В документах он бесплатно не разбирался.
Сто долларов наличными оказывались лучшим пропуском в рай. «Причем безвозвратно», — подумал я и полез в карман. Он мог бы выписать и фитюльку для отчета: кто там, в бухгалтерии, будет смотреть? Но полиции тоже надо жить, чтобы охранять чужое. И не упустить свое. А праздники, соглашусь, бывают не каждый божий день.
И мы тоже хотели быть живыми. Где она сейчас, их полиция, на окраине Вифлеема почти в три часа ночи?
Я заплатил из личного кармана, скрипя, но ликуя, что все на месте. И можно ехать в объятиях своей машины.
И чувствовать себя, как у Христа за пазухой.
А в утреннем первом выпуске новостей канала выйдет праздничный сюжет о Рождестве в святом для всех христиан Вифлееме. Да еще впервые — с живой картинкой того самого грота, купели и вифлеемской звезды.
И кто-то в Израиле скажет:
— Опять палестинцев показывал, словно людей.
И кто-то в России скажет:
— Опять выпендривался у нашей святыни. Нельзя, что ли, православного корреспондента там поставить?
И оператор с красноречивой фамилией Броутман, но с прочерком в графе «национальность» израильского удостоверения личности, потому что у него папа еврей, а не мама, вытащит из загашника фляжку:
— Ну что, по рюмочке, по-русски? За Рождество?
А дома скажут:
— Иди спать. Уже утро давно, гулена.
Статист
В то утро Миша проснулся не от тишины, как обычно. Хотя ему давно уже стало все равно. Есть будильник у кровати или нет его. На работу идти было незачем. Да и некуда. Это русский человек всегда знает куда ему пойти и по какому направлению отправить другого. Миша был евреем. Правда, тоже русским.
Но это уже надо пережить.
Он и пережил. Империю, любовь и даже двух жен. Что почти невероятно в этом мире. И всегода исполнял свой долг: и дома, и на работе. На чем, с возрастом, и погорел. Если ты не чиновник и не военный, нельзя просто так безнаказанно всю жизнь ходить на работу. И зарабатывать на жизнь. Что дают. Работа когда-нибудь заканчивается, а жизнь продолжается. А Вместе с ней и потребности.
Неудовлетворенные, как сосульки.
Вожди менялись, будто девки у развилок дорог. Начальство, как всегда, потеряв лицо, держало фасон и фигуру, наливаясь наглостью и обожанием нижестоящих. Подрастали, волнами, молодые, кипящие тестостероном и амибициями. Затравленно оглядываясь, в затылок начинали дышать те, кто засиделся. К возрасту их начнут просто сбрасывать с поезда, даже не дожидаясь и не затыкая рот убогой, как власть, пенсией или пособием. Награждая пустым добрым словом по телевизору и полным молчаливым презрением в кабинетах. Ходят, чего-то хотят, жить другим не дают.
Короче, Миша, что зарабатывал, то и проел. На древней земле с молодой страной-оторвой от бывшей державы и потому ищущей к кому прислониться, в свои почти 60 лет ему уже ничего не светило. И даже солнце все чаще скорее слезило глаза, чем радовало разноцветием тонуса.
В смутные времена жена с детьми уехала на историческую Родину, где героически полегла в борьбе за это. Он же остался дома и работал, пока не пришло сокращение. А за ним сначала удивление, но потом и возмущение, что ничего нового, даже близко к профессии, найти не просто трудно, но уже невозможно. Везде всё и все есть. А где нет, нужны помоложе и пошустрее. Начались случайные подработки и связи. Все более короткие, по мере прибавления лет, роста цен и истощения ежемесячных доходов. От прежних накоплений, поделенных с бывшими женщинами, осталось одно короткое емкое слово. Русское.
Увлажняющее хмельными ночами в молодости, но вконец истощающее к вечеру многолетия.
Все это можно было и пережить, если бы он был не один. И Миша старался найти близкого человека. О любимом уже речи не было. Любить — это беззаветность. И запах счастья отдавать. А жизнь учила считать и душиться парфюмом целесообразности. Не удивительно, что женщины рядом тоже так думали. И уходили. У него осталось только желание разделить с кем-нибудь одиночество проживания и стремления жить дальше. Пусть и на постном масле.
Дольше всех с ним прожила энергичная, не по возрасту, относительная молодуха. С трудной и неудачливой личной жизнью. Ей тоже нечего было терять, кроме памяти о бывшей службе в какой-то школе, преподавая там много лет то ли географию, то ли литературу, то ли историю. Это вдруг оказалось нигде и никому не нужным. Как и она сама. Новую историю и литературу пришли преподавать другие. С новоспущенной сверху очередной правдой.
И потому подруга его уже мечтала о другой жизни в другой европейской стране. Тем более, молодежь рванула туда-сюда в открытые наконец границы и возможности. Но у молодежи есть самое лучшее образование — годы впереди. И блестящее резюме для работы — молодость. А зрелые люди нередко считают, что главное для будущего — это то, что у них позади. Только кому захочется туда заглядывать? То ли дело радоваться тому, что болтается или маячит впереди. Как спереди.
Миша, насколько мог, прикрывал расходы на жизнь, пока подруга искала варианты, договаривалась и переезжала в мир иной, за рубежи. Убеждая, что, как только устроится и немного оглядится вокруг, то найдет место и ему. Через год жизни «там», она вернулась. Но дома делать было нечего. И не с кем. Не считая Мишу. Она его и не считала.
Кому-то деньги дают жить, если они есть или приходят. А кому-то не дают. Если их нет. Грабить банки они боялись. Должности, чтобы красть, даже по — человечески, были заняты. Чиновничество и уличный рекет оказались недосягаемы. Оставалось немногое.
И вскоре она снова засобиралась в ту же страну, где убирала и ухаживала за стариками на дому. А Миша с удивлением рассматривал турецкий словарь и учебник, которые она привезла с собой и нередко заглядывала. Закатив глаза и расхваливая почему-то люля-кебабы и шермет.
Наконец, отдышавшись и поцеловав его на прощание, она снова уехала. Но вместо приглашения сообщила, что сошлась с замечательным турецким мужчиной, хотя и немцем, и они теперь попробуют вместе построить там свою очередную жизнь. В чем-то очень похожую на их прежние. Но надо верить в лучшее, ведь правда?
Миша долго переживал и наконец почувствовал себя, по-настоящему, одиноким и немолодым. Это когда ты ничего не можешь дать, а значит никому не нужен. Отдавать — это тоже наука жизни, как и, с другой стороны, самодостаточность. Он об этом и не думал. Он просто работал всю жизнь, где взяли и держали, пока им было нужно.
Миша и сейчас работал: то на выборах, то на подхвате, то статистом в кино.
В кино с ним это и случилось. Однажды его пригласили сниматься в новом фильме известного режиссера. В массовке. Картина была о трагедии евреев его родного города, которых начали убивать еще до прихода нацистов в годы той еще войны. Лишили работы, бизнесов, права ходить по улицам. Нацепили шестиконечные звезды. А потом выгнали из домов и, в чем есть, согнали в гетто. И тоже убивали. Почти всех.
В первый день съемок была сцена, как этих людей гнали вдоль затихших ничего не видящих домов на смерть. Не видел — значит не знаю. Не знаю — значит ни при чем. Бывают времена всеобщей слепоты. Куриной. Зато живой.
Евреев привели в район, где они должны были жить и откуда их забирали умирать в пригородных рвах. Но дома остались. И их новые хозяева тоже. Здесь и вели съемки. Мише дали шикарное драповое пальто по фасону тех времен с желтой шестиконечной звездой. Настоящее, большое, теплое. Как мама. Вокруг были люди и какие-то разговоры ни о чем. О жизни. Мише это нравилось, потому что появлялись новый знакомые и можно было с кем-то поговорить. О ценах и «звездах». Можно поспорить о чем-то далеком, где не был, но слышал. Это и называется общением.
К сожалению, режиссер довольно быстро скомандовал идти. Прямо. Неизвестно куда. Режиссер явно был не русский. Русский всегда ззнает куда послать и идти самому. И Миша пошел со всеми. Массовка была немалая. Но с обедом и какими-то деньгами в конце дня. Всё лучше, чем сидеть дома, свободным.
Еще уходя из дома, он открыл почтовый ящик и получил платежку с выплатами за свет, газ и квартиру. Получилось почти все, что давалось от государства на жизнь. Чтоб хотя бы рот был занят. И было, что терять.
— Не толпитесь, — командовал режиссер откуда-то сбоку и сверху. Смотрите под ноги и вперед. Но не по сторонам. Проникнитесь. Вам тревожно и горько….
Миша шел со всеми и смотрел только вперед, и без команды. Но ничего не видел. Ему было и тревожно, и горько. Если выплатить все, что прислали, то едва хватит на еду. Хотя — подумал он — С голода не умрешь. Все-таки, не те времена.
— Стоп, присядьте, — мегафонил режиссер — Кто у стены, кто рядом. Смотрите вдаль или перед собой. Вы не знаете, что с вами случится завтра или даже сегодня. Вам только-только сказали, что теперь будете жить в гетто. Неизвестно как и на что. Но жить. Камера!
— Дожил, — интеллигентно думал Миша — А еще хлопоты с документами. С квартирой в доме, на который объявился хозяин в древних времен. Сколько же у меня останется теперь в день на расходы? Мама моя! И никого близкого…. И никто не обнимет… Как же не хочется возвращаться в комнату, где пусто. А по телевизору рекламы новых домов и вкусной, но дорогой еды. Со скидками. Общество потребления грязи. И вечный праздник секса и ментов. Друзья все разъехались кто куда. Старички в синагоге со своим Богом, внуками и болячками. А, если только болячки и остались? Им хоть есть, к кому обращаться. С верой. Сначала долго-долго учишься выживать в этом мире. Затем жить. Зато вечно… Как я все это выплачу вовремя. Господи, чтоб вы сдохли в своих кабинетах. И нет на вас ни Сталина, ни Бога. Даже надежды нет. Не во что верить. У верующих евреев — есть в кого. Русские тоже себе всегда, во все времена, новую икону нарисуют. Встать на колени, чтобы подняться с колен. А таким, как я…
Он шел и думал. Думал и шел. Только бы не домой.
Наутро, едва за девять, Мишу разбудил резкий и настойчивый звонок. Номер был незнакомый.
— Или неприятности, от какой-нибудь государственной службы. Или, может быть, где-то работу предложат, — подумал он и с опаской взял трубку.
— Я звоню вам от режисера фильма, — бодро рапортовала девушка по ту сторону жизни — Он просто в восторге. Даже не то слово. Он восхищен вами. Вашим талантом и чувственностью. Так и просил передать. Съемки массовки будут еще, но мы заплатим вам больше.
— Что случилось? — растерялся Миша.
— Как что? Когда режиисер стал просматривать сцену евреев, которых пригнали в гетто, то — у нас это называется «панорама» — камера шла по лицам. От одного к другому. И дальше. Медленно. Но ваше лицо… В нем было столько скорби, столько отчаяния и эмоций. Тоска и трагедия всего вашего народа. Режиссер остановился на вас, замер и оставил на тридцать или сорок секунд. Это очень много для одного крупного плана. Только большим актерам удается выразить столько трагедии и эмоций в молчании. Так прочувствовать время, и ужас, и гетто. Режиссер просил выразить вам благодарность и восхищение. Он сказал, что только евреи способны чувствовать преемственность эпох и пережитое их народом сегодня, как когда-то, много лет или веков назад. Это ваш великий национальный дар.
— Оно конечно, — польщенно сказал Миша. И подумал: «А сколько они накинут за это? За сорок секунд?» Но спросить постеснялся. Когда разговор о смешной сумме, то даже деньги не главное.
Горько
— Ты меня не узнаешь? Совсем не узнаешь?
Отец жениха наклонился всем телом, почти нависнув над молодыми, к отцу невесты. Он говорил почему-то на украинском, но не это, а что-то иное, опасное, пузырилось за стеклом потного бокала в его руке.
И напряженная тишина поползла вдоль длинного заставленного гостями стола, а у его изголовья, с подсвечниками шампанского, застыли жених, весь в черном, и невеста — в белом кружевном.
Свадьбу справляли в столовой шахты, где работал молодожен и его отец. Оба проходчики. Это те, кто в глубине рубят породу и закрепляет подходы к пластам угля.
Здесь, в заполярной Воркуте, они были старожилами. Я знал их как коренных, но не расспрашивал. В этом городе, построенном из бараков сталинских лагерей, было не принято интересоваться родословной. Собственно, жених и пригласил меня на свою свадьбу. А его невеста, приехавшая сюда после института, работала с ним же, но не под землей, а в управлении. И ее родные, откуда-то с «материка», а именно так называли в Воркуте всю остальную территорию страны, прилетели буквально к свадьбе, день в день.
И все было как обычно. И роспись, и поздравления, и живые цветы, купленные у азербайджанцев на рынке. И когда гости настроились было выпить и поесть по поводу молодоженов, традиционное для разминки слово дали родителям жениха и невесты.
— Ты меня не узнаешь? Совсем не узнаешь? Тесть в упор, словно в прицел, разглядывал растерявшегося свекра. — А ведь это ты, сержант НКВД, брал меня в схроне, в пятьдесят втором под Драгобычем, на Украине. Ты вязал мне руки, бил автоматом и шипел ' бандеровская сволочь, не дойдешь до села…'. Но я дошел, и получил свои лагеря, и остался здесь в ссылке, потому как не к кому и незачем было возвращаться домой. И я так долго мечтал, что где-нибудь тебя встречу…
Он выдохнул и вдруг обмяк. И родители невесты, оба нарядные, сидели молча, словно замороженные и глядели прямо перед собой на гостей, как в полярную ночь, и ничего не видели.
И все молчали вместе с ними. И только какая-то активистка, из приезжих, нетронутая умом, хотя и потертая личной жизнью, моргала плешивыми своими глазами и крутила головой — мол что это такое происходит?
— Тату, — как на молитве, шепотом перешел на украинский его сын — Отец, я знаю, но…
И положил руку под столом на колено своей молодой жены. И она там накрыла ее своей.
— Ну ладно, — сказал тесть — Главное, что наши дети нашли друг друга, и они счастливы, и выросли другими, и не пережили войну, ненависть и взаимную злобу. И эта горечь умрет с нами.
— Горько, — облегченно закричали гости. Время зашевелилось и зачокалось, согреваясь.
И только полярная ночь за окнами дышала, выплевывая бездонную тишину, и подвывая о своем, безымянном, с запахом вечной мерзлоты и окоченелых солярных костров, еще более коротких, чем жизнь, тлеющая на одном честном слове.
Немом, как лунные искры на вселенском снегу.
Как стать императором
— А почему вы не хотите сфотографироваться в одежде императора? Все хотят, — утверждающе спросил меня фотограф-китаец, который с двумя своими коллегами потоком «шлепал» снимки у Запретного города, что за площадью Тяньаньмынь в Пекине.
Спросил и прищурился.
В их гардеробе можно было увековечиться в трех видах: в желтом императорском облачении с шапкой, в виде генерала средних веков с мечом или солдата-маоиста времен перманентной борьбы с врагами.
Я с тоской посмотрел на провинциальных китайцев из глубинки, человек пятнадцать которых толпились в императорских одеждах, ожидая своей очереди на фотосессию. И еще на одного, забитого, с генеральским якобы мечом во весь его рост.
Все задрипанные сельские коммунары, слегка испуганные невиданным потертым гламуром и ценами, единогласно хотели хоть на минутку увековечиться именно в императорской хламиде. Я почему-то вспомнил рекламу химчистки под названием «Престиж» и обычные частные такси с помпезной, по цене, надписью «VIP». Короче, весь этот джентльменский набор для наполнения недостатка личности полноценным, но недорогим самореспектом.
И решительно взял солдатскую форму.
— Снимок хороший, — сказала уже дома жена. — Но неужели там не было генеральской формы? Мне кажется, тебе бы это лучше подошло.
И я почувствовал себя императором.
Дзенькую бардзо
Жизнь не такая длинная, как кажется вначале, по недоразумению от рождения. Но и не столь короткая, как оказывается потом.
Я никогда не думал, что именно белорусский язык может стать для меня шансом выживания в Америке. Представить себе не мог. Даже в кошмарных снах первых месяцев свободы. Свободы подохнуть или прорваться.
Один человек мне сказал, что языки надо знать.
— Надо — ответил я и подумал, что сначала учишься говорить, а потом всю жизнь — молчать. Но к заработку это не относится.
В декабре в Нью-Йорке промозгло, как в овощехранилище. Но все равно каждому найдется и место, чтобы спрятаться или высунуться, и морковка, чтобы съесть или приманить. Высокая влажность здесь даже несильный мороз превращает в холод, тягучий, как чувство голода, и переползающий изнутри — вовнутрь. Словно безысходность. Особенно, если у тебя легкая осенняя куртка, полушерстяной свитерок, а также текущие нос, ботинки и счета.
Я уже полтора месяца был в этом городе. И немного его знал: недостаточно для туриста, но приемлемо — для эмигранта. Мне не были чужим и южный Бронкс, похожий на полуразрушенный город, где даже днем опасно ходить по улицам, а «белые», залетевшие сюда по незнанию, сразу же панически проскакивали его на машинах, закрыв двери на все замки. И улыбчивые ребята из Шри Ланки, бывшие боевики из «Тигров Тамила Элама», с которыми мы вместе мыли посуду в небольшом итальянском ресторанчике в Квинсе. И еврейская забегаловка на несколько столиков в самом центре Манхеттена, где я подработал «басбоем» или, короче, уборщиком.
И даже магазин подержанной мебели в «черном» районе Бруклина, где жили в основном афроамериканцы. После работы, пятнадцать минут возвращаясь к метро, я уже не обращал внимания ни на холод, ни на темень, а просто стремился раствориться на полупустых промерзших улицах, сквозя мимо наркоманов и групп черных бездельников-переростков, в третьем поколении сидящих на государственном пособии и не знающих где и как себя занять. Это была их страна и мой выбор.
Я скользил мимо них, не оглядываясь и не поднимая глаз, с одной только мыслью — скорее в вагон подземки. До Брайтона. Который Бич. Что с английского на слух можно перевести и как «пляж», и как «сука», и еще, на уже русском сленге, как «бомж».
Я и был почти бомж.
Комнатка брайтоновского кирпичного курятника с маленьким окном, кроватью, зеркалом и табуреткой напоминала камеру или кладовку. Метров пять в длину и почти три — в ширину. Вдвоем — не разойтись. Но больше за полторы сотни долларов в месяц там ничего и не помещалось, хотя и помещать было нечего. Да и не на что.
В Америке мне сразу крупно повезло — и на жилье, и на людей. Но больше всего с еврейской организацией «Наяна», которая сделала меня по-настоящему свободным на все четыре стороны американской мечты. Без нее, «Наяны», я бы может и не понял, что храмы строят для мазохизма попрошаек, офисы — для обеспечения занятости мудаков, дома — для пожизненного рабства выплат, а свою жизнь — всему этому вопреки.
«Наяна» сосала деньги из богатых американских евреев. Контора эта снимала несколько этажей в высотке центра Манхеттена и декларировала своей задачей первоначальную разнообразную помощь легальным собратьям-эмигрантам. Только в Америке на бедных умеют делать большие деньги. Законы США позволяют такую помощь списывать с налогов, поэтому средств у лавочки было немерено. Главная задача таких организаций — собрать деньги на якобы святое дело, а уж как их распилить, учить никого не надо.
Еще по дороге в их офис, за пару кварталов, в свой первый нью-йоркский день, я увидел забегаловку, на витрине которой было написано заветное «help wanted», «требуется» и нарвался на земляков. Мне явно везло в мелочах.
— Ты русский? — сразу спросила хозяйка — И мы из России. Только сначала по дурости попали в Израиль и еле — еле перебрались сюда. Три доллара в час, убирать столы и помещение устроит?
Я был счастлив.
— Так вы хотите только работу? — уточнил в конце того же дня европейского вида религиозный еврей в кипе, уже в «Наяне».
— Только. Я просто никого в этой стране не знаю и как искать работу — тоже. И готов на любую — где возьмут. Понимаю, что сначала, после пересылки в Италии, меня направили в Филадельфию. И, спустя месяц, из другого города самостоятельно в Нью-Йорк обычно не перебираются. Поэтому пособия от общины и льготы, считай, потеряны. Но жить-то надо. А жить — значит работать…
— Позвоните через несколько дней. Приедет моя начальница. Она сейчас на Багамах. Сам я ничего решить не могу, — сказал чиновник.
— Так и решать ничего не надо. Подскажите просто, где нужны подсобные рабочие или грузчики.
Он пожал плечами.
— Без ее согласия не имею права. Я тоже держусь за свою работу.
Через пару дней, улучшив момент, когда в забегаловке не было клиентов и душевно, (чтоб, сука, ты до копчика понял, что такое свобода и сколько стоят три доллара в час), протерев снежные подтеки за очередным посетителем, я получил разрешение хозяйки позвонить по телефону.
— Можете не приходить — сказала сразу невидимая начальница из «Наяны» — Вас уже направили в Филадельфию, значит, вы и должны жить в Филадельфии. И мы ничем помочь не можем. Вот если бы вы сразу приехали в Нью — Йорк, тогда другое дело.
— Так я ведь ничего и не прошу. Только направление на любую работу. Я просто действительно не знаю где и как ее, эту работу, искать.
— Возвращайтесь в Филадельфию, — сказала моя еврейская, но сытая, сестра.
— Да мне некуда и не к кому возвращаться. Ни там, ни здесь — никого, вы что, не понимаете? Я месяц — как из Советского Союза. Легализовался со статусом беженца, социальный номер свой получил, третий день в Нью-Йорке. И не прошу у вас ничего. Только направление. Я не привык и не хочу спать на улице или под мостом.
И вот тут меня в одночасье сделали по — настоящему свободным.
— Встречаться лично нам нечего — сказала «Наяна». Не хотите возвращаться в Филадельфию, ваше дело. А, если не нравится, то забирайте свои вещи — и убирайтесь обратно в Россию.
— Ты уже десять минут на телефоне, — засвербила откуда-то сбоку хозяйка — Еще немного и я вычту разговор из зарплаты.
Но это уже было где-то не ко мне. На автопилоте, взяв расчет, не глядя и не оглядываясь, я уже хлебал открытыми ртами своих хваленых чешских туфель стреловидную мостовую Манхеттена — прямо и прямо. Я шел и шел, потому что останавливаться было нельзя. Останавливаться — значит «в никуда». Весь этот огромный мир, говорящий на ста языках, с магазинами, зазывалами, спешащими клерками, «торчками» у перекрестков и бомжами на вентиляционных теплых решетках подземки был не передо мной, как казалось чуть раньше, а, словно навалился сверху. Прямо на голову.
По промерзшим улицам Нью-Йорка уже сквозило мое первое настоящее Рождество и ряженные, в красном, Санта Клаусы кивали из витрин, как на киношном карнавале какого-то отстраненно — потустороннего мира. Но это и была реальность.
Говорят, что люди, пережившие клиническую смерть, видят себя как бы со стороны. Странно, но я физически ощущал почти то же самое. Словно все это происходило не со мной. И я видел себя, идущего, то сбоку — рядом, то сверху — издалека.
— Ну ладно, — вдруг вырвалось вслух через час, или два, или три у бесконечных ангаров полутемной улочки почти на берегу Гудзона — Ну ладно… Значит, так и будет. Но, если какая-нибудь б… еще раз скажет мне про еврейское братство, я размажу ее антисемитскую морду в крошку.
И стало легко.
И смертельно захотелось жить.
Для начала я нашел комнату на Брайтоне. Денег как раз хватило заплатить за первый месяц авансом, вместо положенных двух. Хозяева и не настаивали. Пластиковая баночка из-под йогурта стала на первые недели — чашкой для чая. Кипятильник, друг командировочного, чайником. Несложный подсчет — жесткой нормой. Два доллара на метро. Два доллара — сигареты и газеты. И еще полтора, на слайс пиццы и стакан кофе в обед. Итого, 6–8 долларов в день. Уже не так голодно. Обращаться за велфером, социальным пособием, мне даже и в голову не пришло. Нужно было срочно заработать на хлеб и угол, а не тратить время на прошения и ожидания подачек.
«Они» — себе, я — себе…
И пошло-поехало. Мыть, убирать, таскать, укладывать…
Первые статьи в «Новое русское слово» взяли сразу, но рабочие места там были заняты. Вечера за полночь заполнили газеты с выписанными оттуда в тетрадку новыми словами. На выходные — подработка на свадьбах и торжествах. Это была песня без слов.
Случайно встреченный почти земляк, бывший еще до меня в Воркуте оператор тамошнего телевидения, здесь вместе с сыном снимал радости чьей-то торговой жизни. За тридцатку ребята пригласили меня держать им свет.
Самым трудным оказалось делать это в первый раз.
Крупные женщины с лакированными головами в нарядных блестящих платьях украинской глубинки, пузатые мужчинки с золотыми тяжелыми цепями и шестиконечными звездами, тринадцатилетний виновник торжества, справляющий по нужде местных приличий свою бармицву совершеннолетия — все, в одном коктейле понтового хоровода оживших бабелевских лиц.
Ребята дотошно снимали степенно входивших гостей и подсказывали, с какой стороны заходить со светом. Мальчик, в специально пошитом белом костюме, размеренно принимал поздравления и, вдруг, единоутробно прокричав «лехаим», гости решительно и резко, как в последний бой, рванулись к еде. На эстраду вышла певица и запела какую-то популярную песню Пугачевой. Из тех, что тогда повсюду гремели в России.
— Саш, свети на зал, ты чего?
И действительно, а чего я здесь делаю? И как я вообще сюда попал.
Человек — не скотина. Он ко всему привыкает. Особенно, когда на приставных стульях, в углу, дают десять минут поесть мяса.
Первую приличную работу, найденную по объявлению в толстой «Нью-Йорк Таймс», я провалил по незнанию. В головной офис высотного здания Всемирной сионисткой организации нужен был специальный человек для работы на копировальной машине.
— Главное зацепиться хотя бы уборщиком, но в приличной фирме, а там разберемся.
В отделе кадров меня с интересом встретили и, расспросив, даже угостили кофе.
— Думаю, вы подходите, — сказали мне, но главное слово — у непосредственного начальника отдела.
— Так вы говорите, что были рабочим в России? — шустрый дядька, явно ашкеназ с недавними европейскими корнями, выразительно посмотрел на мои, уже огрубевшие, но генетически далеко не крупные руки.
— Конечно. Слесарем-сборщиком.
Я уже знал из личного опыта, что понятия «журналист» или университет — это гарантия немедленного отказа. «Богу — Богово, а слесарю — слесарево».
— У нас небольшая зарплата — надавил он — А работы много. Надо делать копии и разносить их по отделам.
— Главное работа.
Попался я на нескольких дополнительных вопросах. Он спросил, как называется столица Китая, что такое «Варшава» и сколько будет что-то там из таблицы умножения, типа пятью пять.
Я, дурак, и ответил.
— Вы слишком квалифицированы для такой работы, — вздохнул дядька. — Ну поймите сами, мне нужен работник на долгое время. Я возьму чернокожего парня и он будет работать здесь годами. А вы, согласитесь, через пять-шесть месяцев, оглядевшись, перейдете в какой-нибудь отдел или еще куда…
— Но мне нужна работа и деньги на жизнь сегодня.
— Ничего, это вопрос времени. Америка для таких как вы, я же вижу.
Вторую из приличных работ я завалил в большом книжном магазине Манхеттена. Там нужен был грузчик и я пришел уже по рекомендации знакомого американца, с которым мы как-то разговорились на улице. Американец видимо слишком хорошо обо мне отозвался, потому что менеджер даже не стал прикидываться и тратить свое время. Он просто поднял со стола кипу заполненных анкет и тряхнул ими в воздухе.
— Вот здесь более пятидесяти заявлений на эту работу…
Шесть дней в неделю по утрам я долбил лед на тротуаре против магазина подержанной мебели, чтобы прохожие, поскользнувшись, не подали в суд. А затем сушил сопли у обогревателя в промерзшем насквозь помещении, отбиваясь не столько от редких в этом афроамериканском районе Бруклина покупателей, сколько от вьетнамского вида рекетиров, которые время от времени заходили и грозно требовали хозяина.
В ответ я предлагал им матрацы «кинг-сайз», видимо, украденные с фабрики, поскольку они были в упаковке. И вьетнамцы, ругаясь и грозя, уходили в темень улицы, обещая вернуться.
Как-то вдруг неожиданно, как все хорошее, реально засветилось настоящее дело. В Нью-Йоркском офисе радио «Свобода» на русском языке не было даже внештатных вакансий. Но в небольшой белоруской редакции, которая располагалась здесь же, заказали несколько материалов, без политики — о жизни эмигрантов, сумевших поднять свой первый бизнес. Вновь прибывшие в то время сплошь говорили по-русски, а уже небольшие вводные тексты, взяв словари, я составлял на белорусском. Проблема была даже не в отсутствии языковой практики. Знакомую на слух с детства «мову» можно было восстановить. А вот произношение… К тому же основная работа в магазине, английский и усталость выдавливали все на свете.
И тут произошел случай, после которого любой язык, который жизнь сама дает людям, живущим в той же Беларуси, Украине, Эстонии или Израиле, стал для меня столь же значимым, как и языки мировые. Никогда не знаешь, если ты в движении, что может поставить непростые шаткие обстоятельства на нормальные устойчивые рельсы.
Очень скоро, даже слишком, мне сказали, что в белорусскую редакцию «Свободы» в Мюнхене, при очень хороших условиях нужен молодой человек. И я вроде подхожу. Это уже был прорыв. С Америкой, за три месяца тамошней жизни, меня еще ничего не связывало, кроме как «не дай Бог такого дерьма моим детям».
Накануне интервью не спалось и, отпросившись, разумеется, за свой счет, с работы я до утра листал белорусско-русский словарь. Но произошло то, что и должно было случиться.
Язык, как женщина, прощает все или почти все. Кроме высокомерного игнорирования.
Руководитель службы, интеллигентный профессор-филолог, разговаривал со мной, понятно, на чистом белорусском. Когда на нем говорят правильно, это слышится красиво и даже, как мне казалось здесь, в Нью-Йорке, тепло. Проблема, однако, была в том, что мне тоже надо было свободно отвечать.
Я старался отбиваться однозначными и отдельными фразами. Но они складывались, а не пелись. И грянул незабвенный финал.
— Ну что ж, мы подумаем и поставим вас в известность, — сказал профессор по — белорусски — Я не один решаю этот вопрос. Конечно, вам надо серьезно работать над произношением, а в Мюнхене нужны, с точки зрения языка, уже готовые люди. Но желаю вам удачи.
Он протянул руку. Я подскочил и, глядя ему прямо в глаза, вдруг выпалил:
— Дзенькую бардзо.
В смысле, «большое спасибо». И на… польском.
Мало мне не показалось. Ни тогда, ни потом. Кажется — это когда много.
Но еще через полгода, будучи заместителем декана летней школы одного из престижных американских колледжей, мне пришлось постоянно отвечать на одни и те же вопросы студентов — А как вы получили эту работу? И как вы к этому шли?
— Почему вы постоянно спрашиваете? — однажды не выдержал я.
— Что значит «почему»? — удивились студенты. — Мы учимся, как правильно относиться к жизни и добиваться своего.
Если бы я знал…
Албанский бункер
Когда конструктор бетонных огневых точек, дотов, предложил свой вариант, то стал утверждать, что они выдержат и огонь из любых танковых пушек врага. Диктатор Албании Энвер Ходжа предложил ему, в ответ, самому залезть в такой бункер и затем приказал обстрелять из орудий. Жить захочешь — полезешь и под танк. Инженер остался цел, даже не ранен, и именно его разработки вскоре покрыли всю страну.
В Албании их невозможно не заметить. Они повсюду.
Где-то меньше, а где-то очень много. Доты, врытые в землю и на склонах возвышенностей и прямо на полях. Поначалу я не понял почему? Потом сообразил, что крестьянские поля — это нередко долины, которые с военной точки зрения представляют собой естественные проходы для врага.
Полагают, что бункеров здесь более шестисот тысяч.
Это очень много на маленькую страну.
Когда их строили, то получалось, что один такой укрепленный пункт приходится на 4–5 жителей, включая детей.
Есть большие, на целый взвод. Есть средние. И совсем маленькие, на одного бойца. Как малогабаритная, но зато отдельная могила героя в готовом бетонном склепе.
Вся Албания, и без того бедная, работала и возводила эти серые, как жизнь, сооружения. Которые надо было еще и содержать. И проводить учения быстрого реагирования на опасность, которая извне. С внутренней диктатура справлялась сама. Но потом переродилась в демократию.
Сегодня бункеры полуразрушены. А те, что побольше — потаенное место молодежи для развлечений гиперсексуального возраста. Грязновато, но уединенно.
В юности место не имеет значения. Имеет место другое.
Я вздохнул, вспомнив молодость. Но выдохнул и стал жить дальше. От бункера к бункеру.
Увидев, что я снимаю, скрепер остановился из него вышел тракторист. Ничего особенного для меня, но, кто его знает? Страна незнакомая…
— Вот, несколько кадров делаю. Турист. Не мешаю? — показал жестами. Албанцы очень дружелюбны и открыты к общению. Но языков пока не знают.
— Мешаешь, — кивнул головой тракторист.
— Ну я немного еще похожу? Хорошо?
Нет, — он закрутил башкой вправо и влево. Так мы с ним переговаривались пару минут.
Он улыбался. Но все время был против.
И тут до меня дошло. У них, здесь «да» — это как везде головой показывают «нет» и наоборот. Везде — кроме Македонии и Болгарии. Так и оказалось. Только привыкнуть трудно.
Пока говорили подъехала дорожная полиция и я решил, что поразденут, себе на радость. Или поиздеваются. Как это бывает в некоторых странах. Тем более, что моя машине немного стояла и на асфальте. А не совсем на обочине. Но полицейский с жезлом встал у нее, рядом, и показывал проезжающим, пусть и редким, машинам, чтоб ехали аккуратнее и объезжали. И я их зауважал. Взаимно.
А мы с трактористом покурили. Что-то поспрашивали ни о чем. Ничего не поняли, но понравились друг другу. Попрощались тепло — и разъехались.
Может потому Албания в свое время и отделилась от всего мира, что ни она, ни ее не понимали.
«Да — нет» — базовые понятия любого общения. От личного — до межгосударственного. Главное хотеть общаться. И искренне. Тогда и любой бункер сгодится.
Дуче
Флоренция. Золотой мост. Лавка сувениров. Значки. Медали…
— Мне, пожалуйста, вот этот бюстик Муссолини, — показываю.
— Хотите побольше? — подсовывает продавец.
— Этого достаточно, — отвечаю и, понизив голос, спрашиваю. — Может, у вас есть Сталин или Гитлер?
— Вы что? — возмущается продавец. — Они же фашисты…
Книга жизни
Все, почти все, звали его Анатолий Иванович. А я, когда вокруг не было никого, Толик. Мы учились вместе, в юности. И нередко сидели в одной кампании или вдвоем, за бутылкой вина, почти до утра. Я читал свои стихи. А Толик читал книги о писателях и поэтах. И говорил о них, о стихах и разные истории из их жизни. Своей-то еще не было.
— Здорово! Какой ты молодец! — восхищался я. И не только. Это много позже мне стало понятно, что читал он не слишком много и, поскольку память не засорял, то помнил много деталей, эпизодов и фраз. Потом еще одну какую-нибудь прочтет и сыплет, сыплет.
А мне Толик всегда перчил, чтоб не застаивался, одной и той же горстью — Неправильно ты делаешь. Нерационально. Что-то написал и показываешь. И отдаешь. О том, о сём. А потом снова. Надо не размениваться по мелочам, тем более, на журналистику, а беречь и копить Слово. И, если писать, так одну книгу. Но главную и великую. Библию. В этом предназначение. Я вот сяду и напишу.
Потом на много лет мы с ним потерялись. Точнее, я. А Толик так и жил в нашем городе, зацепившись за работу при каком-то журнале. Затем перешел на руководящую. И стал Анатолием Ивановичем. Получил от государства квартиру, оборудовал дома кабинет с книжными полками и шикарным баром. Подальше от глаз жены. Там мы с ним не часто, но временами попивали и неспешно беседовали.
Писал он отчеты, какие-то статьи, но иногда о поэтах или писателях. О тех, о ком можно или модно писать. Чтоб платили и замечали. Но, в основном, говорил. Тем, кто рядом. Уже не девушкам, а женщинам.
— А ты зря растрачиваешься, — журил он меня, по-дружески, — Бесконечная работа, ненужные и неблагодарные люди, творчество какое-то, детей настрогал, не вздохнуть — не отдохнуть. А главное в жизни проходит мимо, ненаписанное…
— Да как-то не мешает и не скучно, — лениво отбивалс я, наливая нам по очередной порции виски из его бара. Мне это было можно. И даже разрешалось курить. Поскольку Толик берег здоровье, соблюдал диеты, ездил в санатории и занимался дома на тренажерах.
Курить я все равно выходил на балкон. Из уважения к нему.
Так мы и пересекались. Иногда. Тем более, что заботливая его жена приносила прямо в кабинет закуску, а то и хороший ужин. Толик ценил не только книги, но и достойную кухню. А главное, по мне, был действительно задушевным. Но и о своей работе не говорил. Не о чем.
Однажды он показал, с гордостью, большой том в солидной обложке из натуральной кожи. На нем ничего не было написано. И в нем тоже. А страницы отливались чистотой и глянцем. Корочки обложки, сверху и снизу, закрепляла такая же кожаная дужка с довольно большим для книги позолоченным замком.
— Вот, гордо сказал он — Приобрел. Красиво же.
— Очень, — согласился я — Неужели…?
— Да, — прервал меня Толик — Буду каждый день или, как получится, но регулярно писать здесь большую и серьезную вещь. От руки. На компьютере набирать, а сюда заносить. О мире, и жизни, о себе, о тебе, обо всем на свете. Художественный роман. Настоящий, на века. Книгу Жизни. Название не скажу, рано. Но концепция, мысли, персонажи — всё уже здесь.
Он постучал себя по голове. Уже слегка поседевшей.
— Здорово! Какой ты молодец, — в который раз сказал я, порадовавшись.
Потом, бывая у него, мне всегда попадался на письменном столе, чуть в сторонке, этот его весомый и прекрасный переливами и орнаментом том.
— Чтоб перед глазами был и напоминал: не расслабляйся по мелочам суеты и ширпотреба, — пояснил как-то Толик. — Тебе первому потом и покажу.
Мне оставалось только восхищенно еще раз покачать головой. И ехать то на работу, то за детьми, то еще куда — за всех.
А потом я снова надолго уехал, по делам и жизни, в другую страну. И вернулся, как уже бывало и прежде, только через шесть — семь лет. И мы снова виделись. Ненадолго, но, как обычно, у него дома, в кабинете.
И пили вискарь, и разговаривали пару часиков, оба занятые своим.
И я всегда видел на столе у него ту самую кожаную книгу, но не спрашивал, как идет работа. Зачем? Напишет и покажет. Толик же, по прежнему, был еще более солидным, заматерелым и увесистым. На слово. При каких-то уже званиях и обойме соучастия в окололитературных тусовках. Он сыпал, по-прежнему, именами и его «я» всегда было вместе с ними. Выше некуда. Потому что где-то там, не знаю где. Мне-то какое дело? У меня своё.
А время шло своим чередом. Вернувшись как-то из дальней поездки по материкам и странам, я вспомнил, что мы не виделись года полтора и позвонил.
Трубку сначала взял незнакомый мужчина с неказистым голосом, но потом передал ее хозяйке.
— Толика уже нет с нами, — сказала она — Как случилось? Шел по улице и вдруг упал. Несколько дней еще боролся, но… Она замолчала. — Анатолий оставил для тебя кое-что. Подъезжай как-нибудь, забери. Раз он хотел и говорил об этом.
Она сама открыла дверь, хотя из кабинета Толика вышел, по-хозяйски, какой-то мужик в его халате и нырнул обратно, небрежно кивнув мне, типа, привет. Мы переговорили на кухне подробнее, как это все произошло и где навестить Толика теперь.
Я забрал пакет с чем-то, завернутым в газету и поехал домой.
В пакете оказался увесистый кожаный том с солидным замком. Тот самый, главный. С романом — «Библией». Но без ключа. Что меня не удивило. Толик всегда был щепетилен и скрытен по поводу своего творчества.
— Оно сакрально, — говорил он значительно — А ты вот свое не ценишь.
Открыть замок я сам не смог, поковырявшись в нем ножницами и шпильками. И вызвал специалиста-слесаря. Когда тот разобрался наконец и ушел, довольный, я сделал себе кофе, приготовил новую пачку сигарет, прикурил и поудобнее уселся в кресло.
Я был благодарен Толику за такое доверие, но понимал, что, как не последний журналист со связями и многими людьми вокруг, всегда найду кому передать для редактуры и, если надо, издания. И сделаю это, не отбрасывая и не оставляя далеко на потом. Книга Жизни, как-никак.
Том увесисто чувствовался на руках, отягощенный. Я осторожно раскрыл книгу. За солидной обложкой названия не было. Я открыл дальше, еще дальше и пролистал, всматриваясь.
На меня смотрели, отливаясь девственным глянцем, бездонные, как темень в глазах, белые страницы.
Лунная дорожка
Сбиться с главной дороги очень просто. Едешь, вроде, правильно. Но где-то в темноте, зазевавшись, проскочишь дорожный знак. И вдруг видишь, что под колесами уже бежит разбитый асфальт, а справа и слева черные горы и кустарник. Но ты все равно идешь вперед и вперед.
По карте направление было верным, и я должен был где-то выскочить на Танжир — легендарный марокканский город, ворота для европейцев и французских легионеров, уходивших отсюда на юг, на Маракеш, на Сахару.
Поскольку мой самолет в Европу улетал днем уже наступивших суток, я решил не искушать судьбу, ночуя где-то по дороге, а дотянуть до Танжира. Надо было еще сдать машину, взятую напрокат две недели назад. Мало ли какие проблемы возникнут в восточной, коррумпированной, как власть, стране. Особенно, если знают, что рейс у тебя через несколько часов и спорить некогда. Вот и вляпался, предусмотрительный.
Может, и повернул бы назад, до того маленького, живого городка, где, собственно, и сбился с главной дороги на проселочную. Но позади, вдалеке, во мгле, из-за гор замаячили фары. Дорога вообще растворилась и перешла в узкую грунтовку, посыпанную мелким щебнем. Я не рискнул разворачиваться обратно, навстречу фарам, с которыми нам трудно будет разойтись. И прибавил скорость, насколько позволяла ночь, размытые ямы и горные закоулки.
Сразу за каким-то поворотом я почти влетел в трех военных в зеленой или серой форме, стоявших у своего джипа с погашенными огнями прямо на дороге. У двоих в руках были винтовки. У третьего, старшего, фонарик.
— Документы… Выходите из машины… Паспорт… Откройте багажник…
Старший дышал за спиной прямо в ухо. Двое других с карабинами наизготовку — справа и слева. Сзади. Они попросили открыть багажник, пощупали, как девку, рюкзак, посмотрели, подсвечивая, бумаги и расслабились.
— Ты что, сумасшедший? — спросил старший, угощаясь сигаретой. — Здесь только бандиты и контрабандисты ездят. Да еще ночью. Паспорт у тебя странный…
— Это не паспорт. Это британский документ для поездок. Он выдается, пока не получишь гражданство.
— Не понял, — насторожился старший. И парни в форме снова подняли свои винтовки. — Так ты не британец?
— Нет. Но я живу в Англии, в Лондоне.
— А какое у тебя гражданство?
Вы начнете объяснять марокканскому полицейскому, фуражка которого не выше уровня местных контрабандистов, на проселочной дороге, в глубинке приморских гор, далеко за полночь, что из Советского Союза можно было уехать, только лишившись гражданства? Тогда «они» лишали всех прав уезжавших, а потом передумали и лишили гражданства всю страну. Но это потом.
— Нет пока никакого гражданства. Надо пять-шесть лет прожить в той же Англии, чтобы его получить.
— Так не бывает, — степенно сказал полицейский и зашел с другой стороны. — Ты какому Богу молишься?
— Я атеист.
— Не понял, — снова напрягся марокканец таким тоном, что мне мало не показалось. — Ты в Христа веришь?
— Нет.
— Мусульманин?
— Нет.
— Иудаизм? Синагога?
«Грамотный», — подумал я. — Нет. Что вы от меня хотите?
— Какой твой Бог? Человек должен быть при Боге и при государстве. Иначе он не человек, а так…
Офицер подцепил ногой камешек, и тот покатился в сторону, вдруг резко затихнув где-то в темноте.
— Я живу в Англии. До Англии — в США. До США — в России. А в Бога я не верю.
На минуту в ночной цикадной тишине зависла пауза. Старший думал и смотрел на меня, по-рыбьи открывая рот. Потом резко позвал солдат и прямо им в лицо стал что-то гортанно и громко говорить. Солдаты замерли, поглядывая на меня, прижатого к багажнику. И вдруг все стали смеяться. Они толкали друг друга, лихо закинув винтовки на плечо, и показывали пальцами. Им было очень весело.
Я только тогда заметил, что мы стоим недалеко от обрыва, за которым пролегла позолоченная лунная дорожка, ведущая куда-то в море. Далеко и ввысь.
— Повтори еще раз, чудо-юдо, — сказал старший. — Ты не христианин, не мусульманин, не иудей. То есть ты не ходишь ни в какой храм?
— Нет. Храм в душе, — я показал на сердце. — Этого достаточно.
Похоже, они давно так не веселились.
— Езжай, иншаллах… — Старший вытирал слезы, откашливаясь от смеха. — Считай, что тебе повезло. Марокко — хорошая страна?
— Лучшая в мире, — теперь уже веселился я.
Мне показалось, что они отпустили меня с сожалением.
А машина, долго висящая «на хвосте» в ночи, так и не появилась.
Может, и вправду Бог есть?
Но уж точно не на Земле.
В пустыне
Мы неспешно проговорили. Ни о чем. О жизни. Спешить было некуда. Ему-то уж точно. А у меня было ощущение умиротворения, идущие и от него, и от пустыни вокруг. Несмотря на третий наперсток душистого черного варева на открытом огне. — Ты образован и воспитан, — меня этот человек в глубине Негева удивил и порадовал. Было легко говорить. И слушать. — С такими, как ты, хочется выпить еще кофе.
— Я сделаю, — сказал он и пододвинул турку к жаровне — Но что ты всё-таки хотел еще спросить?
— Почему ты живешь здесь, а пустыне, в палатке? С верблюдами?
— Я бедуин, — ответил он. И, поймав легкое разочарование и даже обиду на моем лице, пояснил — А с кем мне жить? Здесь никто ко мне не пристает и не вмешивается. И все зависит только от меня. А у вас… Он помолчал, махнув рукой куда-то за палатку — У вас каждый боится остаться с собой, потому как не с кем оставаться. Вот и лезут люди друг к другу. Или соседи, или государство. Даже прохожие, идущие своей дорогой и в себе, могут толкнуть. У меня так не бывает. Видел, какое здесь ночью небо? А слушал? Значит, должен знать о чем я. Ты вот пришел — спасибо. Значит, я не одинок с тобой. И послушал, у поговорил. Но у тебя сегодня еще много дел и надо ехать. Тебе надо. Или кому-то от тебя. Ты же всем нужен, я вижу. Кроме себя. Не пришел бы — тоже спасибо. Что был и что есть. А я все равно останусь один. Зато никому не мешаю.
Рядом, в загоне, тоскливо вопил верблюд. Но я нему близко не подошел. Побоялся, что плюнет.
20 минут
Человека отличает от животного только то, что он живет по своим понятиям о жизни, а не по ее законам выживания.
Я стоял перед проходной шахты в конце рабочей смены и даже не вглядывался в лица. Мне было наплевать на лица. Мне нужны были три человека, которые согласятся срочно сдать кровь.
В больнице сказали, что мать теряет сознание и помочь ей может только новое вливание плазмы. А ее нет. Вернее есть, но в обмен на три порции новой крови, оставленной на станции переливания. До ее закрытия оставалось чуть более часа, а где найдешь доноров на улице, пусть и в миллионном городе. Да еще трех сразу.
Людей много, а попробуй, найди человека?
И я поехал к шахте. Оттуда группами, по двое и более, выходили раскрасневшиеся после недавнего душа рабочие. Им было хорошо на воздухе и от этого нравилось жить. А в багажнике моей машины лежали только что купленные шесть бутылок водки. По две на брата…
Когда мы с шахтерами приехали на станцию переливания, оставалось еще двадцать минут до окончания рабочего дня.
— Мы не будем принимать кровь, — сказал молодая тетка в регистратуре — Я еще стану боксы мыть в конце смены? Завтра приходите…
И никакие уговоры на нее не действовали.
— 20 минут… 20 минут… — повторяла она за мной — Он еще будет время мое считать.
Кто сказал, что жизнь — бесценна, если ее дни измеряются деньгами?
Я видел только мнущихся шахтеров, которым уже надо бы домой, и еще — простыню, натянутую до подбородка и острое, вытянувшееся лицо матери с закрытыми глазами.
— Иди отсюда, русского языка не понимаешь? — кричала молодуха — Сказано же, что никого принимать сегодня не буду…
А дальше я не помню. Эта «затемненка» в глазах и в сознании накатила на несколько секунд такой жгучей ненавистью, которой я еще не знал, и пришел в себя уже почти висящим на решетке, разделяющей холл и регистратуру с бесформенным бесполым белым пятном, дергающемся от злобы и страха где-то в углу.
— Милиция, милиция. — орала она — Покушение, помогите. Он меня, женщину, сукой обозвал. Женщину! Вы будете свидетелями.
Шахтеры угрюмо смотрели в сторону.
Откуда-то сверху спустилась врач и, выслушав, не вникая, все-таки забрала их с собой. Молча выписала нужную справку, и я рванул в больницу — только бы скорее…
С тех пор я стал присматриваться и понял, что женщин в этом мире гораздо меньше, чем сук.
Но вслух об этом лучше не говорить.
Точнее, и об этом тоже.
Белый снег
Она была некрасива, если не сказать всю правду. Но какой же дурак станет ее говорить? Поэтому, взглянув на ее, я воздержался от комплиментов.
— Хорошая у меня жена? — спросил пастух-оленевод и разлил спирт в алюминевые кружки. Он был в малице до пят, как в рясе и радовался гостям, свалившимся с неба на вертолете. В тундре с неба всегда сваливается что-нибудь хорошее и полезное в хозяйстве.
Но пародокс в том, что от этого люди там не становятся верующими. Если не считать преклонение перед природой и разными духами, выделяющими человека из животных. Да и то, пока он сыт и здоров.
— Красивая жена? — переспросил пастух. Ему хотелось поделиться радостью. И это было очень по-человечески.
— Конечно, — честно соврал я и почувствовал губами кусачесть промерзлой кружки. Пряный запах оленьих шкур смешивался с густым привкусом хищного горячего спирта. Почти в два раз крепче водки. Рядом, за оленьей шкурой, отделяющей чум от тундры, стояло за 40 градусов мороза. Так что все уравновешивалось.
На снегу, белом, как небо, олени лениво косили глазом, а собаки, глянув, отворачивались. Не как от чужого, а как от своего.
У них, психически здоровых, от природы, было только два основных азарта: опасности и бега работы. На остальном они экономили энергию и не разбрасывались на злобу или суету. Остальное не имело значения.
Собственно, то же было и у живущих здесь людей. Но сдержанных, подавляющих в себе те или иные порывы и эмоции. И спокойных. Как вечная снежная тундра вокруг на сотни километров.
От человека — до неба.
Я уже не первый раз летал далеко в тундру на съемки для своей программы на ТВ и понял это наверняка. Такое приходит само, откуда-то, как любовь. Уверенно и светло.
— Как вы здесь живете? — по возможности, оптимистичнее спросил я и отвел глаза от женщины, которую тянул за рукав, удерживая перед собой, напоказ, пастух. Мне не хотелось долго смотреть на нее, потому что я знал, что рефлекторно начну представлять ее раздетой. А это, судя по тому, что видел, испортит апетит и послевкусие крепкого спирта.
На женщину нельзя долго смотреть. Как и в бездну.
— Живем, — в ответ растерянно взмахнул рукой хозяин. И я понял, что он об этом и не задумывался, счастливый. За оленями надо все время присматривать, отводить стадо, где есть корм. И снова двигаться. Принимать роды, охотиться, рыбачить, отделять больных, разделывать. Есть, чем заниматься. Это и есть жизнь.
Я вдруг заметил, что не видел в чумах маленьких детей и стариков. Только молодые и средних лет мужчины. И такие же женщины. Сначала такое показалось противоестественным, но потом я подумал ровно наоборот. Как раз это очень естественно. Для людей, живущих среди природы и, по сути, ставшими ее частью. Только прежде здесь рождались и младенцы. Сегодня их оставляют в интернатах, где есть и тепло, и безопасность, и врачи. Но умирает настоящее чувство дома. Дети же еще не живут. Они просто есть. Как и мир вокруг них. Какой-никакой, но данность. Жить они начинают, когда приходит сравнение с другими. И желание иметь. Побольше. Красивее. Лучше. И кто-то мешает. Не инстинкт, по потребностям. А желание, без возможностей. Так приходят другие, словно благо или зло. Тоже, как данность. А потом и понимание. С ним, позже, начинает жечь одиночество. Унижая или спасая.
Одиночество бывает только среди людей. В тундре его не знают. В тундре вокруг снег, южнее кустарник и пролески, холод, зайцы, олени, собаки, волки. Надо доставать и готовить еду. Принимать окружающее, как оно есть и преодолевать, если надо. Как часть этого мира, не более. Человеку из чума есть о чем и о ком задумываться в глубину. Но снега, животных, духов, неба. Кроме себя, такого же. Обычного и понятного. Значит живого. Что еще надо?
— Будем снимать? — спросил оператор, прижимая сумку с камерой к себе, к теплу. Он беспокоился, опытный, что поземка сорвется в метель и «борт» не сможет забрать нас обратно. А мы застрянем, беззащитные перед снежной стеной вокруг на день — два. Бессмысленно.
— Надо бы, — отозвался я, отрезая на закуску очередной кусок мороженного хариуса. Пресного, но мясистого, как тоска. И пойманного подо льдом какого-то невидимого постороннему глазу присыпанного снегом озера, может и недалеко. С вяленой олениной, под спирт, в меру, он скатывался в глотку сам, неразжеванный.
— Давай еще немного, — уже подливал в кружки захмелевший пастух. Он же охотник. А другой нарезал примерзлый, привезенный нами хлеб большими ломтями. Пока он не рассыпался от мороза.
Женщина поднесла ледяной, ударившей по зубам, воды для моей «запивки» и уселась у закоптелой небольшой печки. Она смотрела на нас с молчаливой радостью и спокойствием, похожим на равнодушие. Как смотрят на понравившуюся картину в галерее. Ей было красиво. Все притаились повернувшись ко мне, ожидая.
Я глянул на оленеводов с их простыми, рано морщинистыми и плоскими, как Земля, лицами. Открытыми и простыми, словно тундра. И жизнь. Если её не закручивать, внутри, в метель и не слушать никого со стороны. Даже метеорологов. Небо, звезды и животные сами подскажут, что будет потом. Надо просто видеть и их читать. Не додумывая за них своё, глупое. Этого достаточно.
— Так будем снимать? — повторил оператор. Его лицо уже раскраснелось и с пылу с жару он уже рвался на простор. Отстреляться — и домой. Прогретый морозный дым валил из наших ртов, словно из пасти оленей, застоявшихся на житейском ветру.
Я спохватился, поднял кружку и пробежался по лицам, от оленеводов до оператора — Будем!
Мужчины, присоединяясь, облегченно выдохнули, нетерпеливые. Перед бесцветной на вид, но огненной водой. Горячей, словно желание чувствовать себя живым, отпустившем. И потому приподнятым. — Будем!
А за их спинами, у печки, утирая сопли, восхищенно смотрела на меня очумелая хозяйка.
Гостеприимство
Один человек мне сказал, что рад гостям в своем городе.
И я вдруг почувствовал, насколько трудно жить без пистолета.
Мы оба стояли в дверях моего номера центральной гостиницы провинциального российского города. На втором этаже вдоль длинного и довольно сумрачного коридора носился неистребимый запах казенной мебели и какой-то невысказанной прохладной тоски. Я едва открыл дверь и переступил порог, как в проеме, выставив ногу вперед, возник Он. Невысокий, крепкий, почти насмешливый.
— Мы рады приличным гостям в нашем городе. Вы у нас по делам?
— По делам. Извините…
Дверь уперлась в носок его ноги.
— Вы, наверное, у нас впервые, — доброжелательно сказал он. — И не знаете, что за пребывание по делам в нашем городе надо платить налог. Совсем небольшой, всего десять процентов. Независимо от времени проживания. Но вы ведь ненадолго?
— Вы смеетесь, — я уже понял, что влип, и, похоже, зря обрадовался недорогим ценам за отдельный суточный номер.
— Ну что вы, — почти обиженно сказал он и подвинулся. Через проход за ним, упершись в стену плечом, небрежно стоял второй парень и безразлично ковырял в ногтях убедительным таким ножом с зубчиками в верхней части лезвия. — Налог — это святое. Не думаю, что вы хотите неприятностей. Тут один начал грозить, типа «полиция», так нос сломал от крика и еще порезался о казенный стакан. Пришлось платить… Можно ваш кошелек?
Я достал лопатник и с ужасом осознал, что там лежат две тысячи долларов. Привычка брать денег про запас — мало ли? Вышло, что мало не будет.
— Оставь на дорогу, командир. Да и выпить придется по такому случаю.
Мне стало смешно. Мы говорили, словно старые знакомые, обсуждающие общие бытовые дела.
Он хмыкнул на кредитную карточку, вытащил деньги и быстро пересчитал, словно почесав пальцы.
Я подхватил сумку, прошел в номер и бросил ее на деревянную кровать. Все было прилично, застелено, чистенько и даже уютно. Злости не было. Страха тоже. Только усталость.
— Возьмите, — вдруг сказал Он, укладывая доллары обратно в кошелек и протягивая его мне. — Ваши деньги за вычетом десяти процентов, двести долларов. Нам чужого не надо.
Они оба словно растворились в полумраке коридора, бесшумно до кошмара.
Привязанный крученым шнуром пульт к телевизору не работал. Зато за окном красовалась аккуратненькая луковица недавно отреставрированной церкви.
Почему-то хотелось жить.
— Хороший город. Нашел почти две тысячи баксов, — подумал я. — Повезло…
Хамас
В углу комнаты были свалены плакаты и транспаранты, на одном из которых в стиле детского примитивизма болтался на виселице человек с шестиконечной звездой.
Интервью, почти в подполье, с региональным координатором «Хамаса», исламского движения, было недолгим и мы стали собираться. Накануне, по моей просьбе о встрече, какие-то арабские ребята попросили оставить машину в приграничной деревне, уже в Палестинской автономии, и пересадили нас с оператором к себе.
Глаза не завязывали, никаких киношных игр не было.
Покрутили полчаса по проселкам, привезли к окраинному дому, предложили кофе, разрешили его «под сигаретку» и «координатор» еще раз подтвердил, что они будут бороться до тех пор, пока Израиля не станет на карте мира. Там будут жить арабы вместе с коренными евреями. А приехавшие, те же «русские», должны вернуться обратно домой в свою Россию. Приезжие — и есть оккупанты. И ни на какие компромиссы «Хамас» в этом не пойдет.
— Сразу видно, что вы русский, — сказал «координатор» на прощание — А ваш оператор еврей.
— Почему?
— Евреи начинают спорить, а вы только спрашиваете.
— А мой товарищ? Он, вообще, молчал.
— Он напряжен и нервничает.
— Быстро мы, — облегченно сказал оператор, когда мы пересели в свою машину и поехали в сторону израильского блокпоста.
— Нет, — ответил я — Это надолго.
И подумал, вдруг занервничав, — И спорить тут не о чем.
Учите китайский
Пока одни мучительно ищут Бога, другим достаточно в него просто верить.
Стоящая на коленях женщина отвешивала поклоны в чаду курительных палочек. В этом не было ничего удивительного, особенно здесь, в Китае, как и во всем регионе Восточной Азии, где особо почитают культ предков. В жилых домах и даже в кафе или рабочих мастерских Кореи, Вьетнама, Таиланда, Тайваня довольно часто можно встретить уголки с портретами ушедших близких или просто с атрибутами культа предков в окружении благовоний.
В Китае правда это происходит только в храмах. Но, в целом, вписывалось и здесь — в комплексе зданий стилизованной старой китайской деревни. Эти домики с нехитрой крестьянской дореволюционной утварью и предметами быта полукругом огибали пруд в стиле дзен-буддизма — с уложенными четко, но красиво, камнями и продуманно высаженными деревьями. Уголок или даже комната предков были бы вполне естественны, хотя сегодня в этой стране и не типичны.
Я зашел в здание. При входе продавали связки курительных палочек и китайские женщины-туристки тут же зажигали их и ставили перед собой, чтобы встать на колени и отвешивать поклоны… одинокому бронзовому бюсту Мао Цзе Дуна. Больше в этой комнате ничего не было.
— Снимать нельзя, — подскочила служащая. Я и не возражал. Я и так был в этих местах явно «белой вороной», в смысле, не китайцем. Да еще без группы, а так, сам по себе. Много времени прошло после смерти Мао Цзе Дуна, но и сегодня ежедневно десятки автобусов со всей страны стекаются в деревню, где родился вождь. Деревня расположена в ста тридцати километрах от губернского города Чанжа, в провинции Хунань, в глубинке страны и вдалеке от стандартных туристических маршрутов иностранцев. Ежегодно сюда приезжает до трех миллионов китайцев. Много, но для миллиарда трехсот миллионов современных жителей Поднебесной — почти капля в море.
В целом, место рождения вождя — довольно большой мемориальный комплекс, в отличие от советского Ульяновска и дома-музея В. Ленина, представляет из себя разбросанные на значительной площади объекты, где всегда есть посетители. В бывшей резиденции Мао слева от основного здания залы с фотографиями скорбящего Китая и всего мира по поводу его смерти. Справа — сотни фотографий Председателя КПК с видными политическими деятелями второй половины двадцатого века.
В основном здании — сидящий в центре зала вождь, обрамленный рядами красных флагов и цветов. В стороне — бюсты соратников по борьбе. Именно в этот дом в свое время приезжал Мао, чтобы отдохнуть от дел на малой Родине.
Кроме резиденции и старинной китайской крестьянской усадьбы десятки автобусов каждый день привозят сотни людей к дому, где родился Мао Цзе Дун и туристы непременно фотографируются на его фоне. В мемориал входит и еще одно место, где стоит небольшой бывший конфуцианский храм, заполненные портретами вождя и громадная гранитная статуя Мао.
Группы приносят и возлагают к ней венки, затем становится в две-три шеренги, в зависимости от количества людей, выравниваются и по команде трижды отвешивают поклон. Здесь же, у каждого объекта, продаются многочисленные сувениры, от зажигалок до фотографий и портсигаров с портретами вождя.
Совершенно очевидно, что поездка в этот мемориал для приезжающих сюда людей — событие и праздник. И они радуются и почитают Председателя Мао и все, что с ним связано, искренне и от всего сердца.
То, что и сегодня связано в Китае с именем Мао Цзе Дуна нельзя назвать культом личности в классическом понимании. Его громадный портрет висит над древними воротами, ведущими в знаменитый Запретный город, где пятьсот лет в затворничестве от мира и собственного народа жили китайские императоры. Портрет обозревает всю великую, самую большую в мире площадь Небесного спокойствия, Тяньаньмынь.
С другой стороны, прямо против портрета, расположен мавзолей вождя, бесплатно доступный для всех. Лик Мао, в обычных рамах, можно увидеть и в некоторых частных магазинчиках, и в парикмахерских, и китайских, не для туристов, ресторанчиках.
Никто не заставляет людей это делать, но и не мешает. Кстати, портретов руководителей нынешнего Китая я нигде не видел — достаточно новостей по основным каналам страны. Но героическую военную историю Китая двадцатых-пятидесятых годов прошлого века, революция и становление страны здесь явно принципиально не переписывают.
— У нас уважают председателя Мао, — пояснил мне китаец, учитель английского языка — Особенно в провинции, в центре и на юге страны. С именем этого человека народ связывает два важных обстоятельства. Во-первых, под его началом произошло подлинное объединение Китая, который веками на самом деле представлял из себя разрозненные, по сути, провинции и территории. А во-вторых, из отсталого, нищего, если не сказать феодального Китая, он построил индустриальную сильную державу и заложил основы той жизни, которая активно развивается сегодня.
— Я не очень большой сторонник Мао, — осторожно поделился со мной еще один случайный попутчик в общем вагоне китайского поезда — При нем было репрессировано и погибло даже больше людей, чем при Сталине. Но они создали великие государства, которыми можно гордиться. Мао, как и Сталин, были большевиками, левыми радикалами. Время, наверное было такое. Сегодня коммунисты другие, умеренные. И это благо для Китая.
Я почему-то вспомнил знаменитый вопрос в фильме «Чапаев», заданный крестьянином комдиву. Вопрос, который по-настоящему понял только сейчас — «Василий Иванович, ты за большевиков аль за коммунистов?» В экстремальной исторической ситуации «умеренные» бы не выжили и потеряли всё. Их время приходит позже. Когда нужно просто жить.
Тем, кто дожил.
Похоже, что эти два мнения — основные в Китае, если говорить о Мао Дзе Дуне. Десятки и сотни громадных высоток уже сделали города страны временами похожими на Манхеттен. Жилые кварталы новых двадцати-тридцатиэтажек, вилл — это все реальность. Тысячи магазинчиков, ресторанов, частных объектов службы быта и столовых уже превратили китайские города в такие же активные зоны, как торговые районы Бруклина или европейских стран. Даже больше.
И до того, традиционно закрытое от мира китайское общество с психологией Поднебесной державы, а затем десятки лет самодостаточное, сегодня, открываясь миру и сообщаясь с ним, дает жителям этой страны чувство гордости за прошлое и настоящее. И это восприятие ощутимо.
По телевидению на десятках китайских каналах совершенно спокойно уживаются и бесконечная концертная «попса», реклама, и сюжеты о молодых коммунистах. и полицейско-солдатские сериалы, и исторические «мыльные оперы», и целые эпопеи о народно-освободительной борьбе против японцев как буржуазного «гоминдана», так и коммунистов во главе с Председателем Мао, уравновешенным и мудрым.
Никто ничего разрушать не собирается — только строить. В начале века в Китае только официально признано более ста миллиардеров, пока еще по этому показателю на втором месте после США.
Дело Мао живет и побеждает. И растущий гигантскими шагами современный Китай, со всеми атрибутами бурного капитализма, судя по всему, и не думает отказываться или хотя бы приглушить песню о вожде. История должна цементировать государство и народ, а не разрушать их изнутри.
— У нас героическая история прошлого века, — сказал мне один из редких англоговорящих китайцев, встреченных в Мемориале вождя — И связана она, нравиться это кому-то или нет, при всех перегибах и ошибках, с именем Мао Цзе Дуна. — Прошлое — основа будущего. Зачем нам его перечеркивать? У нас еще все впереди…
Моисей
И взошел Моисей на гору. И именно здесь, в Иордании, увидел он Землю обетованную. Под ним, прямо и чуть правее, возлежала млеющая под солнцем долина. Моисей знал, что не течет там молоко и мед, как обещал он страждущим красивой жизни соплеменникам.
Но иначе не пошли бы они из Египта в пустыню, куда глаза глядят. Какие-никакие, но были свои дома. Какая-никакая, но упорядоченная жизнь. Какой-никакой, но паек с законами. Рабство — это тяжело для тех, кто знает, что такое быть свободным. А его соплеменники давно это забыли.
Они бы и не ушли, если бы Моисей не пообещал им свой уголок плодородной земли, благодатный и райский. Правда, где-то там, за пустыней.
Ему бы, человеку, не поверили. Может, кто-то, но не все. И тогда он сослался на Бога, которого никто не видел, а значит, внушающего и доверие, и надежду, и страх, и любовь.
Разве могут они все это, и надолго, отдать одному современнику?
Сорок лет прошло с тех пор, как Моисей вывел свой народ из Египта. И медленно шли они, и никого из племен не было вокруг. Только одичалые бедуинские кланы безбрежного Синая. И выходили они к оазисам, и оставались там подолгу, а благодатная земля — та, что за горизонтом была уже занята другими.
И понял Моисей, что свобода может быть только за счет рабства или уничтожения других. И нет выхода. Но и остаться, даже в ничейной пустыне, он уже не может.
— Зачем мы ушли из Египта? — не раз роптали те, кто пошел за ним. — И где эта обещанная земля обетованная?
И чувствуя, что стареет, похоронив брата и надежных людей, Моисей наконец решился.
Там, внизу, на новых просторах, как сообщали разведчики, есть и вода, и плодородная земля, и разобщенные города филистимлян, еще не знающих, что они обречены. Моисей не стал торопиться — их бы вырезали или вновь обратили в рабство. За ним была не армия, а народ. Свободный, но пастушеский и еще не знающий, как бороться за выживание.
С природой — оно понятно, уже научились, а вот с другими людьми… У природы есть свои признаки, цикличность и законы, а люди беспринципны. Моисей был при власти в Египте и знал это не понаслышке.
Он приказал разбить лагерь, чтобы готовить мужчин к войне и ждать, пока умрут последние из тех, кто родился в рабстве.
И еще он знал, что именно поэтому, приведя народ свой к благодатной земле, ему самому предстоит умереть.
Никто из живших в рабстве не должен был завоевывать и строить новую жизнь. Раб всегда создаст то, что у него уже было. По-своему, но то же. И вести за собой людей на завоевание он уже не мог. А если это кончится крахом и новым рабством? После всего пережитого? Тогда зачем он позвал людей за собой из одной кабалы, уже притертой и понятной, в другую, смертельно опасную?
Моисей, первый революционер, идеалист-практик, умрет здесь, неподалеку. Арабы-мусульмане назовут долину его именем — Долиной Мусы. Для них он тоже станет уважаемым пророком. Но потомки собственного народа место его последнего покоя не признают. Лучше нигде, посчитают они, чем на чужой земле. Пусть даже это и последняя ее пядь перед той, что стала своей. Если хотите, заповедной.
Но именно христиане поставили здесь храм — на священном месте, где Моисей впервые увидел землю, которую назвал обетованной. С облегчением, поскольку у него уже не было ни времени, ни сил вести людей дальше, за новые горизонты. Потому что в этом и была его свобода.
И, остановившись, признал он свое поражение, но никому не сказал об этом. Его бы не простили. Подросшая в пустыне, на свободе, молодежь и уже вполне зрелые сорокалетние мужи получили, наконец, осязаемую надежду — вон она, внизу. Сколько можно идти?
Прямо и справа — уютная долина и привычные пустынные горы. Слева — ковш Мертвого моря, соленого от слез, которые уже пролили люди и которые они, шедшие за своим вождем, тоже прольют, когда будут побеждать других и радоваться этому. И строить свое, разрушая чужое. И бороться друг с другом, безжалостно и кроваво, за власть и деньги. А с соседями — за себя.
И однажды, много столетий спустя, они снова все станут рабами, угнанные в Вавилон через другую пустыню. И еще много раз их будут уничтожать и изгонять.
Но Моисей научил их, вышедших на свободу и единственных в мире празднующих эту свободу каждый год с тех самых времен, на свой «песах» — пасху, главному: никто не застрахован от рабства. Внутреннего или пришлого. Но пока ты жив, вне его, навязанного, всегда есть где-то обетованная земля. Даже если путь к ней начинается с безжизненной пустыни. В неизвестность.
Но это лучше, чем сдохнуть с гарантированной хозяйской пайкой во рту, строя внеочередной город для очередного фараона или его, не всуе помянутых, слуг.
Так впервые сложилось четыре тысячи лет назад, так повторялось вчера и происходит сегодня.
У тех, кто доволен рабством, будет свое завтра.
Но зато у тех, кто не хочет с ним примириться, остается еще и вчера.
Вкус жизни
Самое трудное — не дать ему расползтись и растаять. Лучше всего прижать языком к небу и медленно-медленно, что на самом деле трудно, размазывать его, вкушая. И потом быстро, чтоб никто не видел — не потому что отберут, а просто это нарушение порядка — отламывать в кармане новый кусочек. И сожалеть, что ломтик маленький. И еще важно не заснуть. Поскольку все это лучше делать во время киносеанса.
Через несколько минут после того как гасили свет, мы скопом валились в пропасть тепла и полуторачасового счастья свободы. Хлеб, а точнее, даже оставшийся ломтик в столовой нельзя было брать со стола, но мы брали — кто успевал. Кого ловили, ночью засовывали в рот портянку. Из сапога. Глубоко и надолго. И потому я решился на это только однажды.
Коричневый пористый кусочек просто чудом остался с краю, и оказался сильнее страха быть наказанным. На сорокоградусном морозе, даже в кармане, он был, как живой. Но быстро замерзал и крошился.
И я никогда больше не ел такого вкусного хлеба. Как тот, монгольский. В столице этой страны Улан-Баторе. Который я так и не видел, увезенный затем в глубинку бесконечной промерзлой и безлюдной степи. Вместе с другими. Такими же, чьих девчонок, оставшиеся на гражданке, словно в издевку нам, за десять тысяч километров отсюда провожали, и уговаривали, и зажигали свечи, и накидывали плед, и подливали им, дурам, вино.
И мы это чувствовали, подставляя свои замерзшие задницы под солярные костры с ломами, лопатами и кирками в руках. Вместо цветов и подарков. В полном и окоченелом безлюдье на триста километров в округе, мы жались друг к другу, сбиваясь воедино.
Но знали, что мы вернемся. Уже к другим. И сами другие.
Отдавшие долги, непонятно кому, но понятно — за что.
За то, что мы есть.
И те, кто посылал нас туда, научили только одному — посылать их обратно. Всю жизнь. По крошкам. Как горько-сладкий, с неповторимым вкусом, согретый ломтик того монгольского хлеба, что медленно-медленно, вкушая…
Сколько стоит революция
«Гранма», та самая лодка, на которой горстка революционеров мятежно приплыла на Кубу, стояла под стеклом во дворе Музея революции в самом центре Гаваны, её столицы.
Людей не было. Только туристы. Но им все равно нечем заняться, кроме как шататься по городу, торговаться с лоточниками, делать удивленные глаза и еще фотографии. Чтобы потом, дома, всучивать их, навязчиво и безотказно, родственникам и знакомым: мол, я и Гавана, я и памятник, вид из окна моего отеля, я на улице или с торговцем. И еще, я в музее. Крокодилов, сигар, Хемингуэя или революции. Какая разница?
Короче, как сказала бы Моника Левински, делавшая минет президенту США прямо в его Овальном кабинете: «Я там была и видела Клинтона без трусов. А вы — нет.».
Рауль, мой кубинский товарищ, сказал, что здесь, в этом музее, до сих пор работает капитан «Гранмы». А ему есть чем поделиться. Именно он когда-то вел яхту с повстанцами из Мексики к легендарным горам Сьера-Маэстра, где и началось вооруженное восстание победившей затем революции.
Я загорелся. Еще бы, самый настоящий герой, из первых, отчаянных. Куба — «си», янки — «но». Венсеремос. Свобода или смерть. «Куба, отдай наш хлеб и забирай свой сахар…».
Мне ничего не надо было придумывать. Я шел на встречу с открытым, как пустой кошелек, но наполненным сердцем: и к Кубе, и к ее людям. Не говоря уже о революции.
В новой России вовсю шла реставрация старых порядков якобы благородной и процветающей столетней давности. Это называется будущим. Пока еще без царя в голове.
А здесь, на острове Свободы, народ держался за свои завоевания до последней капли крови. По-прежнему красной, а не голубой.
У народа кровь всегда красная.
Показав мою аккредитацию журналиста, оформленную в пресс-службе за шестьдесят вражеских долларов на две недели, мы попросили служащую вызвать капитана. Он не заставил себя ждать и оказался чернокожим немолодым человеком в полевой форме. Со звездами на погонах.
Я вытащил камеру из рюкзака с портретом Че Гевары и попросил его ответить буквально на пару общих вопросов. Капитан больше интересовал меня не как источник обстоятельной информации о том походе, а, скорее, как свидетель, подтверждающий экспозицию. Все равно такие очевидцы больше, чем положено по тексту, ничего не говорят.
Герой Кубы, в прямом смысле Герой, выслушав просьбу, что-то прошептал на ушко сопровождающей его служащей. А Рауль тоже на ушко сказал мне:
— Он не против рассказать и о плавании, и даже, если надо, о Фиделе.
— Еще бы, — подумал я, проникаясь. — Ведь он выскажется о своей революции, о том, как они ее начинали. Есть чем гордиться.
— Но понимаешь, — продолжил Рауль, шепча, — капитан просит за это 200 американских долларов. И сбрасывать не хочет.
— Но я же не американец. Я русский журналист, типа свой. Пять минут баек и пафоса — это же для Кубы.
Не помогло. Как я ни старался.
Видимо, «свой» — это когда постоянно платишь.
Прямо как с женой.
Такого подлого контрреволюционного удара я не ожидал. Отказаться от халявной поездки на курорт Варадеро, чтобы снимать там красоты и красоток, и заодно отдохнуть. С ними. Купить недешевый билет за свой счет, найти кубинского товарища, который учился в Советском Союзе, остановиться у него дома в рабочем районе Ла Лиса — живом, настоящем, а не на сутенерском пятачке отелей для иностранцев, который обычно показывают, зазывая в Гавану. Достать на черном рынке два велосипеда, чтобы мы могли гонять по раскаленному городу и разговаривать с людьми. Ни о чем — об их жизни.
Я хотел увидеть последнюю надежду молодости, не сломленную и не купленную. Так казалось и там, далеко внутри, надеялось. На маленькое и гордое чудо. Реальное, как стены древней Капакабаны. Увидел.
Приличного человека нельзя купить. Но можно продать.
Капитана увели обратно, куда-то наверх. Он выглядел разочарованным.
Всегда неприятно осознавать, что опускался зря.
Че Гевара все-таки рано ушел, но, возможно, именно поэтому его помнят и многие уважают, даже не разделяя его взгляды.
Революция как любовь: либо надо рано умереть, либо смириться с предательством.
Третьего не дано.
Третьими приходят воры.
Записка с неба
Как-то Миша вышел погулять. Для разнообразия. Всё лучше, чем весь день смотреть телевизор и сериалы. Или копошиться в интернете, как в мусорном баке, где у чужих домов ищут остатки смысла приходящие из неизвестности «бомжи». Миша накинул пальто, пошитое индивидуально в старые добрые времена. Добрые, потому что он был относительно молод и пальто еще не надо было перешивать, дальше некуда. Он присел, чтобы завязать туфли, дотянувшись. И вздохнул.
Миша уже давно жил один. Без жены. И даже без собаки. Бывает. С утра, после завтрака и мировых новостей, он выгуливал себя сам. Оглядывая окрестности, проходящих прохожих и опустело, но легко, думая ни о чем. Так его уже дважды принимали за иностранца. По глазам. И это льстило. Хотя дальше разговоров дело не шло, поскольку он сразу признавался, что местный.
У него не было постоянного маршрута для прогулок. Принципиально. Миша так чувствовал себя свободным. Гуляю, где хочу. На улице было пустовато и он свернул в какой-то двор. Он знал их все, в округе, как облупленных. Даже после, местами, реставраций. Обычно в таких дворах играли дети или молодежь сидела на скамеечках, общаясь. В давние времена пенсионеры и мужики играли в домино или шахматы, скидываясь и на совместный обогрев души.
Сегодня каждый сидел, если не летом за городом, то поквартирно. И только загорелые от гуляний на свежем воздухе парни неопределенного возраста нередко распивали по углам вино или пиво. Им тоже хотелось с утра свободы и взаимопонимания. Но он к ним не подходил и не садился даже близко. Как и к бабушкам у подъездов. А смысл?
Миша медленно, но деловито, прогуливался и в этот раз. Прикидывая, где можно присесть и оглядеться. Он уже учился впитывать окружающий мир, не додумывая за него и не спрашивая себя ни о чем, как это было прежде. Все идет, как идет. Или едет. А он смотрит.
И вдруг его окликнула женщина. Откуда-то сверху. Немолодая уже, но в халатике. Видать, после душа. Выставив белую, как то утро, ногу, она стояла на балконе второго этажа старого довоенного дома. Желтого, как прокуренные пальцы тех, кто его когда-то строил. Миша задрал голову и улыбнулся. Для зрелого, под арбуз, мужчины, если на него обратили внимание, это вдвойне приятно.
«Знак, — подумал он. — Сверху. Значит, уже к добру. По науке».
Женщина неожиданно показала жестом, чтобы он немного подождал и скрылась в комнате.
— Неужели пригласит? — приосанился Миша. — Всё в жизни бывает. И красивые встречи тоже. Два немолодых усталых человека находят друг друга. Или, даже проще, муж в командировке и…
— Позвони, — поколдовала пальцем над ладонью женщина, приложила ее к уху с небрежным, как расстегнутая нижняя пуговица халатика, блондовитым завитком. И, улыбаясь, сбросила вниз записку. Листок, сложенный пополам, кружился и даже игриво дрожал, предвкушаемый. Прямо, как Миша, неловко бросившийся было ловить его еще в воздухе. Тормозя распустившимися вдруг крыльями пальто.
«Словно Чапаев, — подумал он, представив себя со стороны. — В бурке, целеустремленный».
Листок наконец лег на асфальт и ветер попытался было его толкнуть дальше. Миша успел прижать ногой, едва не сделав подобие гимнастического шпагата, рискуя брюками и вывалившимся из них позором. Но он об этом и не подумал. Наоборот, перенес тело к ноге, давящей листок и бодро присел. Опять же рискуя, уже скрытой сзади частью многострадальных парадных своих штанов. Отглаженных через влажную тряпочку вкривь и вкось. Как положено.
Миша выдохнул одышку, показав, что волнуется. И почувствовал себе тонким эстетом, присев. «Сверху, — успел подумать он. — Это красивее, чем наклоняться».
Ему понравилась и своя сообразительность, и быстрая реакция. Значит, жив еще, раз дергаешься.
Прихватив записку и встав, втянувшись, Миша не стал строить из себя мавзолей и здесь же, на месте, развернул листок. В записке было все. И даже больше. Незнакомка размашисто, но тоненько, как брови, четко выщипала на бумаге номер своего мобильного телефона.
Миша заулыбался и поднял голову, чтобы поблагодарить её за неожиданный подарок. Но на балконе уже никого не было. Она ушла, скрылась, растворилась. И только белая оконная тюль качалась в проеме полузакрытого балкона, как кружева ночной рубашки из-под женского халатика, натощак. Но красиво. Так ему увиделось.
— Шалунья, — одобрительно хмыкнул Миша. И, завернув за угол, все думал, что бы это значило? Может быть всё, что надо. И Бог есть. Как есть. А не книга жалоб и просьб человечества.
Миша ходил, сам не свой еще пару часов, кругами. И все думал о ней. Наверное, своя квартира, уютная и теплая. Кухня человеческая, а не его, холостяцко-спартанская. Надо уже вечером пригласить ее куда-то в уютное кафе, на кофе с пирожным. А там видно будет. Чего в ресторан идти, если дома и лучше, и дешевле, и интимней.
— Пора, — не выдержал наконец Миша — Может и она так же думает о встрече и ждет звонка, ненаглядная. Он попытался вспомнить ее лицо, но не смог. — Ерунда, — отчитал он себя — С такой фигурой и стопудовыми коленями разве это имеет значение? — Ладно, вперед!
Миша остановился на углу какого-то дома, вытащил уже давно запотевший под ладонью в кармане телефон и, недовольно отвернувшись от улицы, набрал цифры с листка. Он слышал с писком клавиш, стонущих под пальцами, словно женщины в современном кино, в любовных сценах, как стучит его сердце. Ждать не пришлось.
— Набранный номер не существует… — ударило сверху. И Миша не понял. — Как это? — подумал он и снова набрал. Бесполезно. Он тыкал пальцем телефон еще минут десять, но ничего не получалось.
Миша попытался позвонить вечером, и на следующий день, и через день. И через неделю. И даже в справочной, уже платной, как сегодня все на свете, что еще шевелится, подтвердили — Такого номера нет.
И все-таки, день он отдежурил у ее подъезда. В том же пальто, чтоб не запутать. И делая вид, для двора, что ждёт кого-то или отдыхает. Несмотря на дождь. Он боялся, что она его заметит и, вдруг, вместо себя пришлет какого-нибудь мужика. С претензией. Он был согласен и на это, для ясности. Но не было и его. Дождь озонил вовсю, но Миша его не чувствовал. Он хотел участвовать, а не смотреть. И своего дождался. В китайском пуховике, сумкой и зонтом. Но узнаваемо. Он пошел навстречу, уже не огибая лужи и не чувствуя ни давно мокрых ног, ни себя. — Недоразумение, — стучало у него в висках — Прости, ошиблась, когда писала в спешке. — Ерунда, — он небрежно стряхнет дождь с ее плеча — Я так и знал.
На расстоянии она невольно поймала его взгляд и на секунду глянула, не более. Чтобы отвернуться, проходя мимо, уверенно и бесповоротно.
Миша втянул носом то ли капли дождя, то ли слезы и пошамкал домой.
«Зачем? — думал он еще несколько дней. — За что?» И затих.
Листок с телефоном он хотел было оставить. Но потом сжег. Медленно, почти ритуально. Надо жить дальше — это то, что остается, когда ничего не остается. Но Миша-то знал, что так только кажется. У человека есть всё, пока он живет. И ходит. И дышит. И хочет, если не любви, то тепла, спутника и покоя. Такое забрать нельзя. Хотеть — значит жить. Удивляясь даже себе.
Миша уже не раз видел во что превращаются те, кто не умел, по глупости или разучился, во возрасту, удивляться. Он с детства боялся манекенов. Моложавых, похожих на людей, вечно здоровых, но набитых строительной пеной, резанной бумагой, а то и просто пустотой.
— Все равно, это был звонок мне. Свыше, неспроста, — думал он, собираясь снова на очередную прогулку. Очередного утра. Очередного дня. Очередного месяца. — Гулять, так гулять…
Мудрость
Сын Юзика однажды пришел домой и показал папе крестик.
— Я оцерковился.
Юзик, потомственный еврей, пришел в ужас.
— Это как?
— В смысле, крестился, — пояснил сын.
— Как православная, — вступилась жена, — я посчитала, что сыну это надо. Вера заставляет человека хотя бы задуматься над тем, как он живет.
— Могли бы посоветоваться, спросить мое мнение, — попытался обидеться Юзик.
— Мы хотели. Но ты был бы против. Не переживай. Плохого не случилось.
Юзик подумал и сказал:
— Ладно. Сделаем сыну обрезание, и он тогда будет точно как Христос.
Иорданские сутки
Было уже часа четыре утра, когда о стекло машины кто-то резко ударил.
— Попробуй головой, громче будет, — я даже не сразу и сообразил, что и где происходит. Но сон слетел моментально, когда стук настойчиво повторился, нарастая.
Приподнявшись на откинутом сидении, в темноте, слегка освещенной тусклым фонарем, я увидел вокруг машины пять или шесть арабских солдат с автоматами, направленными прямо на нас. Офицер с пистолетом наизготовку наклонился почти к моему лицу.
— Попали, — сказал оператор, протирая глаза.
Поспать нам удалось всего ничего. Накануне, далеко за полночь, мы вдвоем, дотянув до севера Иордании, сморились окончательно и решили остановиться в какой-нибудь арабской деревне, уже недалеко от израильской границы, которая открывалась только в шесть или в семь утра. Нашли небольшую площадь, значит, в центре. Припарковались в углу, в сторонке, и выключились…
За сутки до этого пузатый офицер, на сносях, в синей форме с бровастыми погонами, голосовал прямо у поворота от иорданского пропуского пункта на границе с Израилем. Дорога выводила на основную трассу, идущую от севера королевства, затем вдоль Мертвого моря с поворотом на столицу Амман. Я знал ее наизусть, изучив накануне поездки подробную карту Иордании. Так всегда прорабатывался любой маршрут. Но одно дело на бумаге, а другое наяву.
— Проезжаем, — почему-то испуганно выкрикнул оператор.
И он, и я с обегчением выскочили из последнего многоступенчатого пункта пропуска, где мы открутили израильские номера, заплатили, сколько надо, и поставили другие, иорданские. Так положено из соображений безопасности. Хотя у нас по рожам за километр было видно, что мы — не местные.
— Берем, — так же рявкнул я, соображая на ходу, что иорданский попутчик-офицер в нашу машину скорее всего садится не случайно: и отследить, будем ли мы сворачивать где-нибудь до Аммана, и станем ли с кем-нибудь общаться по дороге.
Все это не страшно и даже правильно. А главное — он же за нами и присмотрит, если вдруг возникнут какие-то проблемы. Страна-то арабская. И незнакомая.
Он так и сопроводил нас почти до столицы, через пять минут разговора утонув в английском, смущенный. Но зато вдоль трассы попадалось несколько контрольно-пропускных пунктов. И видя у нас иорданского офицера с большими звездами на плечах, солдаты не останавливали и не морочили голову. И еще, рдея под малиновыми своими беретами, как девушки, безропотно отдавали честь, что уже радовало и даже льстило.
В Аммане мы сразу заблудились, не доехав до центра, где должна быть нужная гостиница. Проспекты утыкались в большие круги, от которых расходились радиусом другие дороги. И мы, поняв, что теряем время, решили остановиться у какого-то торгового центра, закрытого по случаю траура. Увидя его наконец, я вышел на улицу, чтобы спросить у прохожих направление на гостиницу, а оператора попросил подготовить камеру, лежавшую в багажнике. Он, по неопытности, вытащил ее наружу, вставил кассету и начал что-то там подстраивать, прикидывая вдоль проспекта.
А я уже видел, как с другой стороны площади к нам почти бегом двигаются двое в штатском и трое в военной форме с оружием. Надо было что-то делать.
— Какого черта ты возишься? — в голос заорал я по-русски — Укладывай технику, потом разберемся.
Подбежавшие резко притормозили, и один из них, штатский, но по поведению старший, растерянно спросил на понятном с детства языке.
— Вы что, русские?
— Русские.
— Здорово, — обрадовался он. — Давно земляков не встречал. Мы тут подумали, что это за парни: то ли с видеокамерой, то ли с оружием.
— Да нет, телевизионщики. Могу удостоверение журналиста показать.
— Не надо. Я ребят сразу вижу. Учился на юридическом в Иркутске.
Полицейкие объяснили дорогу и сказали, что похороны уже, в сущности, начались.
— Вы лучше сразу идите в том направлении, — показал «земляк», довольный, что вспомнил свою сибирскую молодость.
Тело короля, между тем, возили по всему городу, и повсюду стояли толпы людей — мужчин и женщин. Некоторые плакали. Скорбь была искренней. В Иордании король, правивший десятки лет, был уважаемым отцом нации, символом стабильности и независимости. На тусовке срочно прилетевших глав государств отдавали долг памяти ушедшему и дань уважения новому королю. Работать никто не мешал: ни служба безопасности, ни люди на улицах. Иорданцы гостеприимны и в меру открыты.
В гостинице, где была возможность отсылать материалы по всему миру, коллеги обменивались, если надо, картинкой и помогали друг другу. Никому не приходило в голову запросить за это деньги. Или отказать. Ребята, работающие на солидных каналах, тем и отличаются. Мы были друг другу не конкуренты, а коллеги. Чей-то монтажер бойко слепил мне сюжет на начитанный в туалете звук, и вскоре я послал его в Москву.
— Ну, что будем делать? Все остаются на ночь, погулять, посидеть в ресторане. А мы?
— Как скажешь, — ответил оператор. — Нам, татарам, один черт. Можем остаться, можем рвануть обратно. Чего здесь делать?
— Давай лучше по дороге посидим где-нибудь в настоящем арабском ресторанчике, с настоящими местными людьми.
И мы потихоньку, уже вечером, отправились обратно, не зная, что граница до утра будет закрыта. Нам сказали об этом в каком-то придорожном кафе, уже в глубине Иордании, где мы, вытянув ноги, оттягивались и местной едой, и кофе, и лицезрением по телевизору программ о короле. Глубокой ночью, застоявшись, решили подтянуться ближе к границе. Но не доехали. Сморило…
— Выходите из машины. Документы. Вы кто? — офицер явно нервничал. — Откройте багажник.
Они держали нас под прицелом все время, пока старший читал «корочки», а двое солдат, не отпуская автоматы, одной рукой под свет фонариков перебирали багажник. Было по-утреннему зябко, хотя и темно.
— Так вы русские? Никогда не видел, — наконец, сказал старший. — Всполошили вы нас. Сообщили, что какая-то иностранная машина «залегла» на площади, совсем рядом.
Оказалось, что их полицейский участок был от нас буквально в пятидесяти метрах.
— Пошли к нам, угостим настоящим иорданским кофе, — сказал офицер с облегчением. — Все равно у вас есть время до открытия границы.
Потом мы сидели, согреваясь, в участке, где, оказывается, у полицейских почти нет работы. Некого задерживать — все тихо. Оператор дремал. А я трепался с двумя дежурными офицерами об их стране и о России, отбиваясь от вопросов о вечном ближневосточном кризисе и о палестинцах с их борьбой.
— Очень хорошо, что мы тебя разбудили, — сказали они, когда розовое солнце быстро, по-восточному, стало наполнять светом все вокруг. — Приезжай. Наш участок ключевой, мимо не проскочишь. Посидим за столом, попробуешь нашей баранины, покажем, что хочешь, будем рады. А сейчас мы сообщим на пропускные пункты, чтобы вас не задерживали с проверками.
— Отлично посидели с местными. Как заказывали, — хмыкнул оператор, когда уже другие солдаты на КПП отдавали нам честь, проплывая.
В этом мире трудно найти общий язык только тому, кто не хочет разговаривать или не слышит другого. Поэтому я брезгую, избегая религиозных фанатиков, нацистов и, нередко, мелких государственных чиновников.
Но их, к счастью, гораздо меньше, чем людей.
Двадцатилетие
День рождения мы отмечали в компании ребят из рабочей бригады слесарей-сборщиков, где во время годового «академического» отпуска от университета я энергично крутил гайки на конвейере шкафов электрических подстанций.
Так устроена жизнь: кто-то крутит, а кого-то закручивают.
Отпуск я успел взять в последний момент после однообразных фрикций пяти персональных собраний об изгнании из комсомола за «политику». Перед приказом об отчислении из университета. Чудом.
Позже догнали еще раз, снова, уже перед лейтенантскими звездами и дипломом.
Но тогда, на втором курсе, мне было восемнадцать.
Замечательный возраст говорить то, что думаешь, не оглядываясь.
Никто в альма их матери не понял и не знал, что я отказался, уходя, сдать свой комсомольский билет и на заводе аккуратно платил членские взносы. Так и сказал на последнем собрании — Не вы меня принимали. И, если я враг, то с кем вы тогда останетесь?
Они и остались благополучно жить дальше. А я пошел…
Расплачиваться и платить взносы. Глупо, но принципиально.
Что было, то было.
Через год, чуть больше, к двадцатилетию, после завода, подошло время возвращаться в университет. Тот же самый. Как и я. У некоторых это на всю жизнь — возвращаться к тем же. Но тем же. И к тому же.
Во всех смыслах упорядоченного абсурда и беспорядочного правопорядка, который называется государством.
Что такое политика, в их понимании, и при чем здесь русские, евреи или белорусы мне совершенно не понятно и сегодня.
Сегодня я, вообще, понимаю меньше, чем в восемнадцать лет. Но уже не «заморачиваюсь».
А «политика» — это, видимо, расплата за генетическую еврейскую привычку спрашивать «почему?». И русскую, тоже генетическую, лично отвечать за всеобщее и вечное, как полярная звезда надежды, скотство власти.
Ребята из нашей бригады устроили мне тогда что-то вроде проводов и заодно день рождения. Они относились ко мне двояко: и с некой осторожностью, и бережно. Когда, вначале, я не успевал, потный, закручивать свои провода в большом железном ящике подстанций, они молча останавливали конвейер и ждали.
Но и косых взглядов или упреков не было. Догнал? Поехали дальше. Так, вместе, мы приехали к проводам и к моему двадцатилетию. Начали в рабочем общежитии, а потом у кого-то на квартире.
Молодые, а значит самоуверенные, мы с куцей, как зарплата, закуской быстро перебрали водяры, когда появились и девчонки.
Работяги позвонили своим знакомым — Приходи с подружкой. Они и пришли. А чего еще делать?
Тогда мы все любили друг друга. И даже накоротке — по взаимному влечению. Но бесплатно.
И, если не по любви, то обязательно по симпатии.
Так что секса в стране, в обмен на деньги, подарки или подношения, можно сказать, что не было. Но в остальном, его, бескорыстного, было даже больше, чем товаров в магазине.
Пусть на этот счет прибедняются убогие, на всю голову. Девки, и валютные и вокзальные, конечно шастали, но где-то в другом для большинства мире неработающих алкашей, дешевых уголовников и дорогих иностранцев.
Уже за полночь хозяин квартиры, из наших, из бригады, выделил мне одну из трех комнат и приказал оставаться и не тратиться на такси. Я не спорил, а просто завалился туда с какой-то симпатичной, после обильного празднования, девушкой.
Все было хорошо, поначалу, но вслед за нами вдруг вползла и ее подружка.
— Я тоже хочу тебя поздравить и послушать стихи.
Ребята-то меня расхвалили за столом, как неживого. Но горячо и с гордостью — знай наших! Девушки скинули летние платьица и затихли, в засаде.
Так, в целомудренных трусах, мы залегли вместе.
Причем я, и это самое страшное, между ними.
Почитав в ночной потолок малоизвестного тогда широким массам трудящихся Мандельштама и, скрывать не стану, себя, я стал лихорадочно соображать — А что мне с ними, двумя, делать?
Обе девушки лежали на спине, не двигаясь. Они слушали и просили не останавливаться. У одной была большая грудь, а у другой красивые ноги.
Девушки оказались совсем не глупыми, потому что молчали.
Я попробовал двигать рукой слева. Никаких проблем, но и ответа тоже. Вторая же может обидеться? — растерялся я. — Подожду, кто отзовется. Правая рука потянулась в другую сторону, не на животе же их складывать. Рано еще.
Но и справа мне, распятому, обломилось то же самое.
Тихо и безответно.
Так мы провели время почти до утра.
Девочки слушали стихи, похоже, впервые, мои осторожные руки и чувствовали себя королевами. А я — буридановым ослом. В натуре. Наконец мы молча и дружно заснули.
Мне снился секретарь комсомола университета, отпевавший меня наяву, как хорошо замаскированного врага. Но потом он вдруг появился в форме полицая с белой повязкой на рукаве.
А меня они, с эсэсовцами — «партайгеноссе», собирались расстрелять. За маму-еврейку. Стали выталкивать, одного, как на собрании, к стенке. Я решил забрать этих уродов с собой.
Но спрятанная граната, где-то рядом, оказалась мягкой и упругой.
Пришлось проснуться от ужаса и в поту. Липком, как глаза шлюх — интернационалисток. Или трусы в двадцать лет.
Девочки спали спокойно и красиво. У них была тяжелая ночь, насыщенная впечатлениями.
И мною.
На диване, в салоне, взасос храпел наш бригадир, вдвоем с чем-то женским.
— Надо же, — без зависти подумал я — Никогда своего не упустит. Потому и не женится.
Дверь в ванну была открыта, так что ничто не скрипело. Ни вокруг, ни в голове.
Я пустил воду, не думая сколько ее вытекает, тогда об этом не думали. Умылся, где надо. Вернулся, накрыл девчонок простыней и, поцеловав их в лобик, сладких, тихо вышел на августовское светлое утро.
Там уже грохотал на рельсах в тишине первый трамвай. Он знал куда ехать.
Пока не сломается или не постареет…
Забастовка
Мы выходили и входили в здание на работу через единственный вход, скользя, глядя под ноги и не оглядываясь. Быстро-быстро. Узкую дорожку от двери с массивной надписью «Би-Би-Си» на позолоченной доске оставляли нам кричащие коллеги с плакатами, самым мягкими из которых были «позор» и «крыса».
Они бастовали, требовали прекращения увольнений и привязки зарплаты к повышению цен. Для всех.
А мы думали только о себе, нас эти сокращения не касались.
И зачем злить начальство, пока оно тебя не трогает и занято, по счастью, другими?
Но нас называли штрейкбрехерами. Тогда это считалось нехорошим, постыдным словом.
Подчиненные, при этом, смотрели на руководителей без ненависти и не снизу вверх, а как на других работающих, которые тоже выполняют свое дело в соответствии с их профилем, опытом и профессией.
Все понимали, что те, кто проводил сокращения или платил меньше положенного, сидят не рядом, в кабинетах, а где-то в других местах. И под охраной. Как высокооплачиваемые зэки.
Власть — это, прежде всего, страх. И им, наверное, было кого бояться и что терять.
А работающие, в свою очередь, тоже боялись, но только увольнений, и знали, что их задача — не дать тем, кто сверху, окончательно сесть себе на голову. Но это можно сделать только сообща. Так их научила русская революция, как я не раз слышал, и к ней англичане относились уважительно.
И к русским тоже — хотя бы поэтому.
В те времена забастовщики из профсоюза нередко проводили акции под названием «дикая кошка».
Это когда все выходят на работу, что-то делают, но в определенное время, по звонку организаторов, оставляют свои места и уходят. Забастовка могла длиться пару часов, смену или несколько суток. Получался резкий и неожиданный удар, как у дикой кошки. Штрейкбрехеров просто не успевали набрать или запустить на работу.
Начальство заранее проходило по кабинетам и вежливо спрашивало, кто из нас, если начнется, будет бастовать. Ничего личного. Оно просто хотело знать, какие дыры в рабочем процессе могут возникнуть, и не более. Никакими последствиями это не грозило.
Но все понимали, что контрактникам могут в один день просто не продлить договор. И со временем, уже потом, набирая новых сотрудников, начальники почти всех работников сделали контрактниками.
Зато имеющие «постоянство» и состоящие в профсоюзе увольнений особо не боялись. Те, кто работал до нас, уже добились, тоже не сразу, но вместе, что даже при сокращении предполагалась приличная денежная компенсация, и на нее можно было жить долго, не нервничая о скорейшем трудоустройстве.
Я еще был тогда поначалу контрактник и потому забастовку игнорировал. Нахлебавшись мутной воды первых лет эмиграции, я держался за место всеми уцелевшими зубами. Как и большинство работающих рядом — в национальных службах разных стран и языков.
Но, пройдя через строй с плакатами в солидное здание Буш-хауса «Би-Би-Си», я так и не смог тогда заставить себя после смены снова выйти на улицу. И на сутки остался в офисе, переночевав на стуле у компьютера.
Мне было стыдно пройти тот десяток метров к тротуару среди незнакомых кричащих коллег с плакатами, самыми мягкими из которых были «позор» и «крыса». Ладно, там кто-то из отсталой труднопроизносимой и продажной страны.
«Русский» и «штрейкбрехер» казалось постыдным вдвойне.
Но это было давно — во времена, когда крысы считались маргиналами, еще не расплодились и их было относительно мало.
Москаль
Праздник, День армии и флота, был у нас выходным. Мы сидели, втроем, у Ореста в его бытовке художника части, подальше от глаз замполита батальона Лукинского. И пили дешевое, но крепкое, как портянка, вино. Лукинский тоже пил, но мало. Видимо, боялся проболтаться. Поэтому допился только до старшего лейтенанта. Что не мешало ему сверх меры упиваться беспредельной властью и освобожденной от труда должностью. Лукинский по закуткам части не ходил. Боялся какого-нибудь падшего кирпича на свою голову. Поэтому мы чувствовали себя в безопасности и покое. На то и праздник. В армии, надо признать, пьют обычно по возможности, а не по поводам. Повод там один и тот же — за тех, кто остался дома и за возвращение. Последнее, самое главное. Ореста забрали в армию из Западной Украины. Именно забрали. Как и нас: меня и нашего третьего, Володю из Армении.
Это большая разница с теми, кто, вообще, никуда не уезжал. С такими и говорить не о чем. Потому что и им — не о чем. Остается только слушать. Да и то, в молодости, когда слушаешь и говоришь со всеми подряд. Потом, со временем, это становится скучно, до тоскливости. Текущие мелкие склоки, разбитые на подробности пустые диалоги, со смыслом мимики и многозначительной интонацией. Конфликты вокруг амбиций и прочие тараканьи бега. Вечные «пусть», «должно быть», «не должно быть», «надо, чтобы…».
У нас, увезенных, было только вчера и завтра. О сегодняшнем мы не говорили. Во всяком случае, друг с другом. Уже поняли, в основном, нутром, что это суета. Путь все идет, как идет. Видали и похуже. И это лучшее высшее образование.
Вот мы и пили, степенно. За будущее.
После третьего стакана Володя сбегал куда-то и принес старенький фотоаппарат, сделать снимки на вечную память. Орест вдруг заерзал, как шмокодявка без погон и выскочил восвояси. Сказал, что приготовится. Мы, не дождавшись, разлили было по новой, за всё хорошее, как он снова появился, неожиданный. С закатанными по локоть рукавами, в немецкой каске и с муляжом двух гранат за приспущенным небрежно ремнем. Гранаты были с длинной ручкой. А в руках у него крепко деревенел черный немецкий автомат.
— Реквизит от предшественников, — гордо пояснил Орест.
Прежде, до строителей-железнодорожников, здесь, уже в России, располагалась другая часть и там даже ставили сценки. У нас же не было ни самодеятельности, ни концертов, ни библиотеки. Ничего. Даже кино не показывали. Только работа.
В этом мире та же служба у каждого своя, хотя армия, вроде, была одна. Как казарма, столовая или построение.
Не то, что жизнь.
Орест выглядел лихо, как пьяный эсэсовец на кураже. Тем более, что шевроны на гимнастерке у него были с нарисованными нацистскими молниями. А на кулаках и выше, под татуировки, синели четкие подписи, по глазам «Смерть москалям» и «Слава Украине». Верхние три пуговицы были расстегнуты и на груди, прямо к горлу, подступал треглавый трезубец. Ореста прилично развезло и он запел какую-то бодрую песню о смелых хлопцах и ворагах.
— Но Ярослав Галан тоже был украинец, — когда он допел, сморозил я. Вечно грамотный невпопад. — За что же его, гуцульским топориком?
— Так он же коммуняка — изумился Орест — А их… Москали — все коммуняки. Жадные до чужого. Только грабить и сажать могут. То ли дело немцы, никого не трогали. Отец рассказывал, что при них спокойно жилось, пока «красные» не вернулись. Интернационалисты, без Родины. Сами боялись не то, что в лес — на улицу вечером выйти. Хвосты поджимали. Москали, они, поодиночке, трусливые. Володя, чего сидишь? Снимай, на память. Он шлепнулся на стул, распаренный. И затих.
Уже стемнело. Мы неловко допили и разошлись. Отсыпаться.
Утром, сразу после завтрака, к нам в казарму прибежал Орест. Мятый, но с четкими выпученными и бешеными от страха глазами.
— Где фотоаппарат? — У Володи. — А он где? — Покуривает на улице. Что случилось? — Вы фотографии не относили еще? — Он и не проявлял. Это же в город, в фотомастерскую нести. Или самому где-то. За неделю выберется. А куда еще относить?
— В штаб части, — Ореста колотило, но не от похмелья.
— Какой штаб? Зачем?
— Я люблю нашу Родину, Советский Союз, — не слыша ничего, он почти кричал так, что ребята вокруг оглядывались, удивленно — Вот вернусь через три месяца домой, в партию буду вступать. Это по мне, близкое. Я и песни советские люблю. «Как невесту Родину мы любим, — вдруг грянул он. Громко и, до тихого ужаса всей казармы, трогательно — Бережем, как ласковую мать…»
Из-за спины выплыл Володя, прокуренный, но мудрый армянин. Ухмыльнулся, услышав, вынес откуда-то, из каптерки, фотоаппарат, вытащил за хвост пленку и передал ее, засвеченную, Оресту — Успокойся.
— Что с ним такое? — спросил он, когда мы остались одни и пошли строится перед работой. Нас отвозили туда, за город, на крытых, как солдатские души, машинах. — Не знаю, — ответил я, не напрягаясь. Это то, к чему, прежде всего, привыкаешь в армии. Не задумываться. — Сорвался, похоже. А потом напугался.
— И сразу собрался в партию вступать? Коммунистом? — не отставал Володя, от нечего делать.
— Может, и не сразу. Ему туда в самый раз, для гарантии. И нарисует, и споет, что надо, — мне уже было не смешно — Пока не выпьет.
— Москаль, — вдруг, неожиданно для него, зло сплюнул Володя, которого исключили дома, в Армении, из политехнического. Но я никогда не спрашивал — за что? А он не рассказывал. Как и я.
И мы поехали на трассу…
Хорватский перекур
Один человек мне сказал, что курить вредно.
— Жить тоже, — ответил я и подумал: «Надо же».
Живем, словно понарошку, а умираем по-настоящему.
Вокруг нас шепелявили сосны и гундосил бесполый кустарник. Шумный, как пустота многолюдья.
В небо, затянутое голубым пододеяльником черной бездны, колотился небольшой лес. Хвойный и по-летнему парной. Да и не лес это был, а скорее роща. Но и здесь чувствовалось достаточно места, чтобы закопать все на свете. И даже меня.
Хорватия, она только на карте — горы да горы, а на самом деле лесов здесь хватит на всех.
Земля в конце июня в этих краях уже прогревается и воздух кажется душным — то ли от испарений зелени, то ли от озона.
Но для горожанина-мутанта и его много.
— Ненавижу как они дышат, — сказала зависть и задохнулась от любви к себе.
А я всегда тепло завидовал деревьям. Они разные, но без претензий друг к другу. И земля у них одна, и небо тоже. И потолок, который не давит. И рады они не тому, кто выше или больше и где упало их зерно, а простому такому чуду как само их появление. Когда далеко не из каждого застывшего зернышка вдруг прорастает жизнь. И им, возникшим из ниоткуда, этого достаточно.
Повезло… Вот и весь смысл.
Каждое утро я просыпаюсь. И этим отличается жизнь от смерти.
А в лесу мне действительно было трудно дышать. Воздух трамбовал легкие, простукивая затылок в такт сердцу. Словно их у меня стало два. Но голова была пуста и тяжеловесна. Как машина, в которой мы, четверо, приехали на отшиб этот мира.
Вернее, ехали трое сопровождающих. А меня везли, зажав коленями на заднем сидении обычного, без опознавалок, авто.
— Здесь не курят, — сказал тот, что был за рулем, когда я попытался вытащить сигарету.
На нем была серая форма хорватского полицейского и лицо человека от земли, привыкшего ежедневно пить сливовицу и резать свиней на исходе субботы. Двое других, в штатском, не отвлекаясь, смотрели вперед.
Они ехали молча и сосредоточенно. Они куда-то меня везли. И им это не нравилось.
До войны оставались считанные часы..
Трудно понять, что порой движет поступками человека, когда они далеки от здравого смысла. Идут же люди в горы, на ледники. Втискиваются в карт или садятся в неиспытанный самолет. Сын Рокфеллера безвозвратно едет к каннибалам Новой Гвинеи.
Но для них это не означает перемену жизни. Это просто эпизоды, из которых она складывается. Как кольца на тех же деревьях.
Некоторые думают, что изменить жизнь — словно поменять географию или близких людей — из тех, кто рядом. Как жажда новизны и цветных перьев, ослепляющих очередного партнера во времена пряных желаний молодости.
Но времена выцветают, а перья осыпаются.
И гусиная кожа никчемности проступает под макияжем слов и дутой значимости названий.
И те, кто постарше, придумывают, оглянувшись, уже свое объяснение — кризис среднего возраста. Мол, переоценка ценностей.
А какая у них может быть переоценка, если ценностей-то и нет. Только ценники.
Вместо «Слава КПСС» объявили «Слава Богу».
И слава Богу.
Меня ничего не связывало с Хорватией. Не было ни знакомых, ни друзей. Но страна, которая называлась Югославия, уже разваливалась на части. И вот-вот должна была загореться.
Мне почему-то это казалось генеральной репетицией предстоящего распада Советского Союза. И я хотел понюхать, как такой сценарий обкатывается на Балканах. Тогда, летом 1991-го.
— Ты бы лучше потом приехал, через несколько лет. Глядишь, все это закончится, — поднял рюмку сливовицы Жарко, студент и будущий врач, когда мы определились, где присесть за столик, неподалеку от площади Республики, центровки Загреба.
— Я живу в своём времени, а не выгадываю его, поудобнее.
Вокруг было тихо и по-провинциальному спокойно, но чувство опасности и готовность к взрыву буквально висели в воздухе. Вместе с верноподданническими, скорее трусливо, чем гордо, натыканными на каждом доме шахматными хорватскими флагами.
Многочисленные полицейские настороженными взглядами на улицах и даже из подворотен старинных чистеньких домов прочесывали всех подряд. Казалось, что они не смотрят за порядком, а контролируют город, словно переодетые в иную форму военные патрули нерегулярной армии. Так оно и было.
Загреб находился по сути на неофициальном военном положении. Многие правительства Европы уже предупредили своих граждан воздержаться от поездок в Югославию и праздношатающиеся иностранные туристы на веревочках сладкоголосых гидов, даже в центре города, не мельтешили, как попало. Чтобы взбираться на камни, метить чужие памятники и резать мясо под красное вино в той же Европе были места и поспокойней.
Жизнь прекрасна. До безобразия.
Но лучше этого не знать.
А здесь готовилась бойня.
Половина военных уже носила новую серого цвета форму с нашивками «полиция». Другая половина донашивала обмундирование югославской милиции с шевроном на рукаве.
Охранявший американское посольство молодой хорват с автоматом на плече, показал мне перебитую, в шрамах, руку и пожаловался, что недавно, возвращаясь вечером с дежурства, он оказался в кольце молодых патриотов.
— Они избили меня, потому что я носил старую милицейскую форму. Решили, что и вправду милиционер и, значит, еще вчера защищал коммунистов. Так и кричали. А я даже слова не успел сказать.
На самом же деле он уже был наемный военнослужащий неофициальной хорватской армии. А точнее — национальный гвардеец. Правительство стало создавать новое воинство под видом расширения полиции и за счет молодых рабочих, ставших безработными.
Так, сначала забрав все, людям дают и заработок, и надежду.
Но, прежде всего — автомат.
Их привлекали в полувоенные формирования, селили в общежитии, в комнате на двоих, платили по пятьсот немецких марок в месяц и представляли как полицейские подразделения, не давая, таким образом, повода для югославской армии вмешаться. В свою очередь, небольшие безоружные группы солдат еще, до завтра, югославской армии встречались и в Загребе. Но только у вокзала.
— К сумеркам никого из нас в городе не будет — пояснил присевший на скамейку военный. — Опасно, могут избить. В подразделении уже нет хорватов, одни сербы. Еще немного и, похоже, нас здесь скоро вообще не останется…
Прошел год, как к власти, на волне свободы, антикоммунизма и местечкового патриотизма, помноженных на миллионы эмигрантских долларов, вполне демократическим путем пришел бывший югославский генерал Франьо Туджман. В юности он был ярым сталинистом, затем ортодоксальным коммунистом, но ближе к своим пятидесяти годам перековался в крайнего националиста.
Ненавидеть всегда легче, чем любить. Поэтому верующих больше, чем людей. Но меньше, чем радетелей за веру.
Они лобызают себя «господами», а злобы все равно как у «товарищей».
На место чужих чиновников из Белграда пересели свои, для кого-то, хорватские. Сын нового президента немедленно открыл бизнес и получил государственный подряд на производство официальных флагов и гербов. Их обязали приобрести всем предприятиям и учреждениям.
Остальные пропатриотились на всякий случай, чтобы не обвинили в интернационализме. И тоже прикупили соответственную власти атрибутику.
Мода на всеобщее братство прошла — наступали времена единства и сомкнутых, как зубы, рядов.
Все стали патриотами или по меньшей мере заткнулись. А сын президента, по большому счету, в одночасье разбогател.
Так власть имущие обеспечивают будущее своих детей и одновременно учат бескорыстно любить отчизну.
Если государству нужна твоя жизнь или деньги, оно тут же называет себя Родиной.
Поэтому, нечего лицемерить.
Власть — имущим!
А вся власть — Советам безопасности!
Остальное рвите друг у друга сами.
Это и называется демократией.
В киосках еще можно было купить некогда центральную газету «Политика», но югославское телевидение из Белграда уже не транслировалось.
Зато коробейники на площади Республики вовсю продавали портреты поглавника-фюрера фашистского государства Анте Павелича, чьи черные, как униформа, усташи в свое время, создали, благодаря Гитлеру, независимое государство.
Они ввели единое католическое вероисповедание, объявили войну Советскому Союзу, направили на Восточный фронт своих солдат и повелели за каждого погибшего усташа казнить десять заложников. И еще, очищая независимое государство, усташи построили 24 концлагеря, вырезав во имя веры и свободы сотни тысяч сербов и практически всех сорок тысяч здешних евреев.
— Мне повезло, — по-солдатски прямо сказал президент, однажды наградивший себя сразу девятью медалями уже своей новой Хорватии, — Мне повезло, что моя жена не сербка и не еврейка.
Так закалялась сталь независимости на неисповедимых путях в Европу.
В редакции либеральной местной газеты, куда я забрел за ответом, что на взгляд журналистов происходит в их стране, которая почему-то еще называлась Югославией, коллеги стушевались и не знали, как разговаривать. Я встретил растерянность, страх и… Жарко.
Он оказался хорватским сербом и пришел в газету, чтобы сообщить никому не нужную новость. Опасную для тех, кто ее знал. И прежде всего — для журналистов, не желающих рисковать своей работой и положением.
В смысле положением «лежа» — самым престижным и безопасным при стрельбе по команде сверху.
В университете молодые националисты-усташи тайно составили списки студентов-сербов и, как объяснила Жарко взволнованная подружка-хорватка, в лучшем случае не сегодня, то завтра могут начаться этнические чистки. Говоря проще, бойкот и избиения. А там недалеко и до резни.
— Я боюсь, — понизил голос Жарко — Я боюсь и все. Что-то вдруг случилось в нашем мире. Мы живем в небольшом городе в глубинке Хорватии, но вместе с братом учимся в столице. И каждый день звоним домой к родителям, отмечаемся, чтобы они не волновались. Не закончится для нас это добром. Тем более — добавил он, — что усташи уже не просто маршируют с флагами и факелами, но и создают свои батальоны смерти.
— Где? — насторожился я, помятуя, что люди любят запугивать и себя, и других, поскольку это дает им смелость жить дальше. Почем зря.
— Да рядом с Загребом, километров сорок… — Жарко пододвинул к себе вторую рюмку сливовицы — в деревне Кумровец, где Тито родился. Я слышал, что там формируют хорватский спецназ из эмигрантов. Они и начнут резать, когда дадут команду выступать…
Утром я сел в рейсовый автобус до местечка Кумровец. Таксист забросил меня прямо под шлагбаум, за которым среди леса стояли бараки военного типа. Глянул исподлобья, затем молча, не пересчитывая, взял деньги и сразу умотался.
— Надо было дать меньше, — подумал я и огляделся.
Лето рыдало и свистело, как пьяный курильщик в духоте бронхиального похмелья. Проселочная дорога между деревьями блудила куда-то налево, в сторону. Но далеко и виртуально. А заканчивалась буквально под ногами. В реальности.
Первым и единственным желанием было рвануть назад. Не знаю куда, но подальше.
— Эй, — плечистый качок в майке и зеленых камуфляжных брюках, заправленных в высокие армейские ботинки, одной рукой метко навел на меня полуавтоматическую винтовку. — Ком цу мир. Пошли мол…
В предбаннике штаба, похожего на полицейский участок, старший по виду офицер, но без знаков различия и при полном камуфляже американского образца, начал проверять мои документы. И запутался, что не мудрено.
По-английски он почти не говорил или прикидывался, но понял, что я западный журналист, который как-то узнал о возрождающейся хорватской армии и о ее первом подразделении.
Вот и примчался, без сопровождения, аккредитаций и разрешений, чтобы познакомиться с бойцами демократической страны и рассказать о них всему миру, если можно.
А, ежели нельзя, то значит нельзя — и пора возвращаться обратно в Загреб.
Он явно не знал, что со мной делать и более часа болтался где-то в глубине здания, дозваниваясь начальству и пытаясь получить внятные инструкции. Охраняющий меня солдат решился со скуки поговорить по-немецки.
Я напрягся, отчаянно кивая, но кроме «хенде-хох» и «Гитлер капут» в голову ничего не приходило. Видимо, работала генетическая память и дурная наследственность. Кто ж знал тогда, что мои деды и прадеды не за тех героически воевали.
Современное, из мира запретного кино, «дас-ист-фантастиш» я проговорить постеснялся, решив, что это не к месту.
Пришлось молчать, с интересом оглядываясь по сторонам и глупо, по-американски, улыбаясь всем, каждому и главное — себе.
Вскоре стало понятно, что я арестован и даже отлить в туалет повели в сопровождении двух бойцов, которые, не отрываясь, отслеживали там каждое мое движение.
— Поцы, — беззлобно подумал я, поймав из-за этого последнюю каплю в штаны.
Двое парней, лет под тридцать, подсели ко мне, сменившись из караула. На одном была просто зеленая футболка, заправленная под ремень с армейским ножом, перехваченным у рукоятки кожаной петелькой на кнопочке. На другом — рельефно обтягивалась черная майка с черепом и костями, и готической надписью… «смерть сербам».
Они оказались эмигрантами из Австралии и Аргентины. Оба — из организации усташей, чьи родители после войны ушли из страны вместе с немцами, а затем перебрались куда подальше.
— Мы приехали бить сербов, — поочередно отстрелялись они, обрадовавшись возможности поговорить по-английски — И коммунистов. Но это одно и то же.
Больше парни не успели ничего сказать, поскольку снова возник старший, деловой как вышибала при должности, и резко прогнал их восвояси. Насколько я понял, он упрекнул охранника за то, что тот разрешил разговаривать с задержанным, и от этого, не скрою, внутри поплохело.
— Грохнут к чертовой матери — и концов не найдут. Да и искать некому.
Я остановился даже не в гостинице, а в типовой девятиэтажке какого-то микрорайона, у частной хозяйки, встреченной на вокзале.
На стенах висели плакаты с видами единоборств. Ни инструкций, ни флажков, ни шевронов. Ничто не напоминало об армии или о государстве, и это было красноречиво и тем более тревожно.
Еще через час двое в штатском и полицейский с постным лицом хлебореза подогнали гражданскую машину и, зажав меня с двух сторон на заднем сидении, куда-то повезли. Они были очень недовольны жизнью или мной. Возможно, обоими.
— У нас не курят, — только и сказал полицейский, когда я попытался размять тишину сигаретой.
Машина шла по узкой сельской дороге, весело и с ветерком, вроде как прямо. И вдруг свернула в сторону, в лес, похожий на густые хвойные посадки.
Мы запрыгали на колдобинах и тени от ветвей побежали по лицам, немые и липкие. Как моя ладонь.
— Выходи, — показал полицейский, когда мы наконец выехали на какую-то полянку, окруженную деревьями и кустами. И добавил по-хорватски — Покури. Может, больше и не придется…
— Курить вредно, — хмыкнул другой, штатский.
Твою мать…
Они вышли, разминаясь, и встали с трех сторон, не глядя. Они вообще за все время ни разу не тюкнулись в мою сторону. Словно меня и не было.
— Господи, — молча прикурил я, удивляясь отупелому спокойствию в руках и в душе — Господи… Никогда и никуда больше не полезу. Никогда, Господи. Зачем она мне, их эта война? Господи, пронеси…
Мы словно остались вдвоем во всем мире.
Он — которого почти нет.
И я — которого почти не было.
Слова всплывали из ниоткуда, как средневековье окружающих лиц. Безликих, но заполняющих пространство и даже небо. Глаза мои были пусты и расслаблены, почти беспечны, хотя я старался видеть всех сразу. И их, но особенно листву.
Ветер выл к непогоде. И солнце хорватской свободы скалилось в рябой траве, метающейся в тени безымянного, как я, лесного дерева.
Сигарета догорала.
— Хорошо у вас здесь, красиво… — я бросил окурок, растер его, как государство человека и, подняв голову, вдруг наткнулся на то, что все трое смотрят на меня.
— Ну что, поехали, бандеры.
Они удивились, не ожидая услышать русскую речь. Но промолчали.
И мы поехали.
— Ты, парень, не понимаешь. Война начинается, — дернулся, копаясь в бумагах, мужик в кабинете местного здания госбезопасности под названием, если не ошибаюсь, министерства информации.
— Сталинка, — уважительно подумал я, оглядывая высокие потолки и солидную казенную мебель — Вот и посмотрел Хорватию. Нет, чтобы пробежаться по кафушкам и по девкам, как все приличные люди отмечаются. Был мол — видел. Жизни захотелось. Реальной.
— Может, посидим где-нибудь, кофе выпьем? У нас хороший кофе, — сказал следователь, записав на магнитофон, для отчета, всю мою биографию.
Его явно отпустило.
А уж меня как.
— Да нет, спасибо, в другой раз, при случае. Можно от вас заказать такси до вокзала?
Только под вечер, выйдя, наконец, на улицу и вздохнув, я позвонил Жарко, чтобы, прихватив вещи, оборваться на ближайший поезд — как можно скорее и подальше.
В тот же Белград. Где другие оторвы из организации «Белый орел» уже собирали добровольцев в сербскую Краину хорватского округа Книн на отчаянное и бессмысленное противостояние, преданные всеми и повсюду. И раздавленные потом, через четыре года, двухсоттысячной хорватской армией. Наверное, тоже имени освобождения.
И полмиллиона тамошних сербов, потеряв более тридцати тысяч человек в боях и без вести, станут беженцами, которых не покажут по всем телеканалам мира.
У этого мира другие каналы войны.
— Ты знаешь, Жарко, — сказал я, уже стоя на подножке белградского поезда, — Не закончишь ты здесь институт, не успеешь. Уезжай и как можно скорее. Может в провинции потише и соседи не тронут, но уезжай. Даже, если некуда.
Что бы ни говорили, но выигрывают только живые…
— Ладно, — он пытался улыбнуться и в который уж раз протягивал руку. Словно не хотел прощаться.
Так я его и запомнил — с этой неестественной маской «улыбайтесь». Точь в точь, как у меня, еще утром, в лесочке.
Того же дня и все той же, но уже прошлой, жизни.
Поезд дернулся, как прикорнувший провинциал на скамейке лепного загребского вокзала. И перрон, и Жарко поплыли. И цыганка, с сиськами наружу, отдаляясь, уже хватала его, стоящего, сзади за пиджак.
И неопрятного вида заросший проводник, с густой перхотью на черной куртке, налил мне в пластиковый стакан дерьмовый разбавленный кофе из горлышка большого, серого и жирного чайника, словно украденного во времени и пространстве из солдатской столовой моей юности.
— Длинный день, — вяло подумал я и вдруг испугался, увидев бегущую по траве тень вагона — И хорошо, что длинный…
Один человек мне сказал, что курить вредно.
Жить тоже, — ответил я и подумал: «И умереть несложно.
Надо только, как и все остальное, это пережить».
Пацифист
Он вызывал ее к себе в кабинет и требовал то одну бумажку, то другую. И угрожал, что выселит, если не посадит. Но до этого выдерживал часами в коридоре, выходя и неодобрительно хмыкая. Мол, подожди еще.
Он был властью. Ему было приятно топтать ее и презирать за бессилие. Её муж уже несколько лет был похоронен навечно, а сын временно служил в армии, отдавая какие-то долги от лица бесправных, глупых или ничтожных законопослушных подданных. И все это длилось с ней довольно долго.
И тогда она как-то узнала его домашний адрес и ночью, глубокой ночью, пришла к дому, где он жил в качестве примерного семьянина. Она очень боялась: и прохожих, и фонарного света, и случайных очевидцев.
Но наконец взяла булыжник и нашла в себе силы запустить его в ненавистное окно. Там, где, как она непросто выяснила, была спальня, обставленная итальянским гарнитуром белого цвета с позолоченными лилиями, под Людовика 14-го. Быдло всегда любит сравнивать себя с королями. В крайнем случае, с их приближенными.
Холуй — самая почетная должность в иерархии власти.
Тишина от удара лопнула и посыпалось на землю осколками битого, как человек, стекла.
А она уже бежала, а потом шла, легко и радостно, через ночной город домой и ничего не боялась. Во всяком случае, до утра.
Много лет спустя я услышал эту историю и устыдился, что никогда не мог бы так сделать. Посчитал бы мелким и недостойным. Мне казалось, по молодости, что у власти должны быть лучшие люди. Не сейчас — так когда-нибудь. Но потом я понял, что «сейчас» — это и есть «всегда». И, если случается чудо, то ненадолго. И опять найдется тот, кто захочет бросить камень в окно. И тот, кто это окно вставит и получит деньги. И те, кто будут смотреть на него с восхищением или завистью. Нам бы такое.
Когда я встречаюсь временами с такими как тот, в спальне, и сдерживаюсь, то у меня не появляется желания искать на ночном тротуаре камень. Мне бы хотелось видеть их прямо в лицо.
Но именно поэтому я против свободной продажи оружия.
Вегетарианцы-людоеды
Амоз Оз один из самых известных современных израильских писателей: и в стране, и за рубежом. Мне неожиданно напомнил о нем, сняв с полки одну из книг: «Ты с ним не встречался? Странно. Было бы интересно посмотреть на него вблизи, послушать. Он, наверное, популярен и у русских…»
Я промолчал. А что оставалось делать?
Друзьям не врут, поэтому их так мало.
Но вскоре я уже ехал в небольшой городок на юге страны, договорившись, с колес, о встрече с человеком, которого несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе, чьи книги переведены на десятки языков, а его имя знают далеко за пределами Израиля. Те, кто умеет читать.
— В Москве на русском языке вышла ваша во многом автобиографическая книга «Повесть о любви и тьме». Так чего, в конце концов, в этом мире больше?
— Нет любви без тьмы и, по крайней мере, во всем мире, там, где есть тьма, надо искать любовь.
— А зачем? Разве она тогда не становится наказанием?
— Это зависит от тех, кто любит. Очень легко превратить любовь в наказание, если из нее делают оружие. Особенно, когда она становиться орудием власти или тех, кто у власти. Я не из тех людей, которые думают, что любовь это вещь сладкая. Но, тем более, о ней надо говорить. И особенно во тьме.
— Кому говорить? Разве в сегодняшнем мире кто-нибудь слушает друг друга?
— Я полагаю, что да. Люди говорят, что никто не слышит другого, но, посмотрите, сколько людей любят сплетни, с какой радостью они передают и распускают их вокруг себя. Я в своей книге как раз подтверждаю, что сплетни и литература — это двоюродные сестры. Конечно, они не говорят друг другу «здравствуйте», встретившись где-то на улице и литература несколько стесняется, что она родственница сплетни. Но у них один и тот же интерес — узнать что-нибудь о другом человеке. И даже что происходит на кухне у соседки. Мы хотим узнать, особая ли это тайна, там, у другого или она такая же как моя.
Я полагаю, что человек, который лишен любопытства — аморальный человек. Когда пишешь, есть естественное желание стать тем, о ком ты повествуешь. Если мы вошли в шкуру человека, если одели его одежду, впустили его мысли, то мы не будем ближних своих принимать ни с фанатичной любовью, ни с фанатичной ненавистью. Именно простое любопытство порождает приязнь к другому человеку. А приязнь — мать плюрализма и основа терпимости.
— Почему же тогда вокруг так много ненависти друг к другу?
— Потому что мы продолжаем жить в эпоху фанатизма, который распоясался и бущует во всем мире. Налицо сегодня такая волна в исламе, есть в христианстве и, к сожалению, такая же волна есть в иудаизме. И у крайних «слева», и у крайних «справа».
Есть такие вегетарианцы, которые готовы съесть живьем любого человека, который ест мясо. Так же есть пацифисты, которые с удовольствием пустят мне пулю в лоб, только потому что у меня иные мысли о том, как установить и построить мир в этом мире. Я думаю, что этот ген фанатизма существует в каждом человеке. Бывают такие периоды, когда он вырывается из-под контроля и начинает буйствовать. И мы как раз живем в такой период.
— А как вы относитесь к глобализации? Она-то, вроде, призвана объединять и сглаживать?
— Смотря какая… Если глобализация призвана построить единую мировую семью, то это хорошо. Но, когда она не более, чем иное определение общественного дарвинизма, борьбы за выживание, добра не жди. У глобализации есть и лик великой надежды, и личина зла. И проблема не в форме. Неважно, что люди едят во всем мире: тот же «Макдональдс», или итальянскую пиццу, или фалафель, наш национальный продукт. Не это влияет негативно. Национальные, аутентичные культуры стираются и это очень жаль.
Меня серьезно беспокоит, что происходит инфантилизация всей мировой культуры, постоянная промывка мозгов, которая непрерывно ведется с помощью рекламы.
Когда огромные мегафоны, которым позавидовали бы и Геббельс, и Жданов, дни напролет, бесконечно, убеждают нас только в одной вещи — купите, купите, купите… Это и есть страшный процесс инфантилизации, превращающий весь мир в единый детский сад. Там едят — что скармливают. И верят, что говорит старшая нянечка. И ничего особо не хотят, кроме возможности поиграть в игрушки.
И это совсем не потому, что Иисус когда-то сказал — Будьте, как дети, и вы будете счастливы. А потому что дети — самые замечательные потребители, они готовы купить абсолютно все, что им предложат. И принимать это, как норму. Тысячи лет человечество боролось, чтобы достичь какой-то зрелости, а нынешний глобальный детский сад, с новыми техническими возможностями, возвращает нас к младенческому возрасту. Но этот младенческий возраст человечества очень жесток, в нем нет ни сострадания, ни жалости.
— Ну и кто слушает сегодня писателей, когда пришло время пиарщиков, рекламщиков, менеджеров, а то и моделей?
— Может, никто меня и не слушает — и что? Я должен замолчать, прекратить разговаривать? Мы все время разговариваем, дни и ночи напролет. Независимо о того, слушают нас или не слушают. Так это и в семье, и в политической жизни, и во всем. Но я верю, что прекрасная и живая идея никогда не потеряется. Возможно, она пролежит в земле сто лет, как это случается в пустыне, где мы сейчас находимся. Здесь зерно, заброшенное, может валятся много времени и потом вдруг прорасти. Оно просто ждет своего часа. И в один прекрасный день прольется дождь и зацветет колос. Может быть, меня уже здесь не будет, чтобы увидеть это. Но разве это важно? Может быть, я прийду сюда снова, уже не в своей телесной оболочке и увижу, как это станет красиво и хорошо.
— Вы верите в реинкарнацию или в Бога? Извините, за интимный вопрос…
— Я отвечу уклончиво. Я полагаю, что мы всегда можем пригласить наших мертвых к себе домой и разговаривать, когда мы этого захотим. Когда мои родители были еще живы, мы очень мало общались о самых важных сущностных вещах. Мы всегда говорили о темах, которые не столь важны. Например, о коммунизме, социализме, о Ницше, о Марксе, о каких-то текущих политических событиях. Но мы не разговаривали ни о наших чувствах, ни о наших страхах. Некогда было — за другими разговорами.
И вот, родители мои умерли уже десятки лет назад, и я их приглашаю, как и других знакомых, ушедших в мир иной. Я говорю тем, кто ушел от нас — Присаживайтесь, выпейте чашечку кофе и мы поговорим обо всем, о чем мы не поговорили тогда, когда вы все были живы. А потом я вас познакомлю с женой и моими детьми, которых вы не знали. Не успели узнать. Пришло время, чтобы вы все познакомились. А потом я говорю — Еще чашка кофе и давайте простимся, вы не будете жить у меня. Но вы всегда сюда приглашены и обязательно еще придете. Именно так я написал свою последнюю пока книгу «Повесть о любви и тьме».
— А с Израилем вы успеваете поговорить? Это та страна, который ваши родители и вы хотели построить?
— Израиль родился в монументальных снах. Всякие сны находят свои ворота. Здесь среди первопроходцев были люди, которые хотели возродить библейские времена. Были социал-демократы западного типа. Были и те, кто хотел построить марксистский рай на этой земле. А кого-то устраивало и просто создание еврейского местечка — штетла. Поэтому здесь всего понемногу. Но понятно, что Израиль — это разочарование. Единственный путь, чтобы твоя мечта осталась жива, цела и невредима в том, чтобы никогда не воплощать ее в жизнь. Как только мечта воплощается, вы всегда ощутите привкус разочарования. То же самое происходит, когда ты построишь наконец свой дом, когда ты напишешь роман, когда воплощаются твои сексуальные фантазии. Так же случается, когда ты строишь свое государство. Разочарование в Израиле это не исконное качество этой страны. Это природное качество мечты, сна. Я люблю Израиль, даже в те дни, когда он для меня невыносим. Это маленький дом, с хлипкими стенами, который выстроен из великой мечты. Но я люблю и великие сны, и великие мечтания, и этот маленький дом.
— А как вы относитесь к тем, кто считает, что евреи — избранная нация?
— Если евреи и избранная нация, то только в том, чтобы Господь наказывал ее постоянными ударами. Я не хочу такого избранничества и не верю в особенные народы или расы. Я с трудом верю в избранные мгновения жизни, вот они бывают и, причем, всегда очень личные, а не общественные или государственные.
— Значит ваши избранные мгновения связаны с одиночеством?
— Одиночество это моя верная подруга. Я никогда не бываю один. Я всегда со своим одиночеством. Так что нас всегда двое: я и мое одиночество.
— Но в этой стране невозможно жить только с собой. Какое будущее вы видите у Израиля?
— Я думаю, что нам надо выйти из всех этих драчек с арабами. Теперь это опять стало вопросом жизни и смерти. И для нас, и для арабов. Если мы выберемся из этой потасовки с ними, то Израиль, увы, раем не станет. Мы всегда будем страной криков и противоречивых конфликтов, потому что сам Израиль — производное от мечтания и снов. Но внутренний культурный конфликт — это замечательный климат. Здесь есть семь миллионов граждан и семь миллионов глав правительств, семь миллионов пророков и семь миллионов Мессий. Такая явь производит громадный шум и жизнь порой невыносима. Но это полезно для культуры.
— Какой культуры? В век интернета и, как вы сами сказали, постоянных призывов покупать и снова покупать? И, как правило, не книги.
— Это происходит у нас на глазах, но все равно останутся люди, которые будут по настоящему любить книгу. Не думаю, что библиотеки мира закроются в один день и их двери будут забиты досками. Все равно, туда ворвутся какие-то молодые люди и будут там читать при свете карманного фонаря. Возможно, останется немного людей, которые будут читать книги, но всегда останутся те, кто не сможет жить без них. Это чувственная приверженность, без которой кто-то просто не может жить. Интернет с собой в постель не возьмешь и с ним не испытать ту эротическую радость и наслаждение, когда ты впервые открываешь новую книгу, у нее особый запах, листы ее пахнут типографской краской и клеем. Это почти сексуальное чувство. Те, кто испытал его, эту радость, тот никогда не изменит ему с интернетом.
— У каждого своя любовь. Но в разных-разных странах я встречал очень похожих, внутренним светом, людей.
— Мы ведь все знаем историю про вавилонскую башню. И так же знаем, что в человеке есть и любовь, и тьма. Более того, в самой любви опять есть тьма, эгоизм и насилие. Помните, Карамазов говорит, что душа человеческая слишком широка. Он бы ее немножко подсократил. Я же считаю, что не стоит трогать душу, а принимаю ее такой, какой она есть: и с ее любовью, и с ее тьмой. В моем понимании, это и есть творчество, направленное к человеку и о человеке.
Я сворачиваю интервью и Амос, почувствовав это, спрашивает почему, ведь мы говорим почти час и он совсем не возражает против продолжения разговора. Так и пишет потом в подаренной книге.
Но я же не могу ему сказать, что моя телевизионная программа, согласно каким-то требованиям «детсадовских» форматов, должна состоять из трех сюжетов. А я и так беру на себя риск, отрезав почти половину, разбить в кровь этот разговор на две части, да и то выпустив их с разницей через неделю. Хотя бы по двенадцать минут.
По нынешним меркам он не более, чем «говорящая голова», а это сегодня, похоже, никому не надо. Надо движение, которое — все. И ничего. Так проще жить. И управлять.
— Знаешь, — говорит Оз, ничего не подозревая, когда, сварив кофе, пригласил присесть поговорить ни о чем — До тебя недавно здесь была группа из Би-Би-Си, четыре человека. Там, в Лондоне, есть такая популярная программа «Профиль» — встреча с писателем или художником, знаковым в той или иной стране, почти на час эфира. Так, вот, они писали меня очень много, правда в нескольких местах, больше недели.
— Я бы тоже, если бы было эфирное время, писал бы тебя в киббуце, дома, в Иерусалиме. За день…
— Вот-вот, они примерно так и делали. Но у тебя в разговоре уложилось то, на что им понадобилось несколько часов. Приятно было сегодня работать. А бюджет у вас, телевизионщиков, приличный. У них, я спросил, около ста тысяч фунтов, включая командировочные.
Я сглотнул всю чашку. Это было слишком. Наверное, он оговорился. Но я всегда не ладил с цифрами: считать — не просчитывать.
— Еще кофе? — спросил Оз, долил в чашечку и продолжил: — В Москве, конечно, поменьше платят за хорошую работу, но значит, что-то идет к лучшему, если уже начали снимать у нас не только молоденьких девочек с автоматами и столкновения с арабами. Или это вы сами… за флажки?
Я пожал плечами и посмотрел в окно. Мне было уютно в его песочнице: и в комнате, полной книг вокруг письменного стола, и с ним, одним здесь, но не одиноким.
Наверное, кто-то из его близких или просто им уважаемых людей уже подсел, невидимый, где-то рядом. А может кто-то из моих подтянулся, на огонек.
Уже густо темнело и соседи, пришедшие с работы, зомбировались на ТВ-ящик и отдыхали в его орущем позитиве, наполняясь оттуда детскими желаниями и радостями.
Подальше от ответственности за себя, к игрушкам. Пока не подсунут или настоятельно посоветуют купить какую-нибудь новую. Как у других, чтоб не хуже, любимую, время от времени.
Благо их сегодня много — тьма тьмущая…
Юдифь
Священник шел по улице и смотрел прямо перед собой, даже немного вверх. И не отвлекался по сторонам. Его несло.
А когда-то мы учились вместе. И меня понесло тоже…
В начале семидесятых годов прошлого века в Советском Союзе проводили внеочередную кампанию государственного антисемитизма. Сначала немного приоткрыли ворота из страны и тысячи евреев выехали на Запад и в Израиль. Затем калитку прихлопнули. И начали кого-то «чистить», выполняя заказ. Кого-то осуждать, выбирая неприметных «мальчиков для битья», чтоб отчитаться. А в довесок — разоблачать во всю ивановскую.
К нам, на факультет будущих журналистов, приходил с лекцией о международном еврействе некий Бегун, из местных авторов, подсевших на хлебную для официальных публицистов тему.
Он вывешивал для начала репродукцию картины Джорджоне «Юдифь» по известной библейской книге и объяснял. Нет, не героизм благочестивой вдовы, чей обреченный на сожжение город осадили вавилонские полчища во главе с их полководцем Олоферном. Вдова, напомню, приоделась, пришла в лагерь врага, соблазнила главу войска и, когда он уснул, отрубила ему голову. Тем самым спасла свой город.
— Вы думаете, как обычно думают, что Юдифь героиня? — спрашивал нас Бегун. И объяснял, что совсем даже не героиня. А наоборот. Типичный пример лицемерия еврейской женщины, которая ради своих целей готова на всё, чтобы потом отрезать голову доверчивому инородцу. И еще, как бы писатель, рассказывал нам о кровавом навете и его современных последователях, алчных и хищных.
— Скажите, — вдруг спросил тогда один из студентов, тот самый, будущий священник — А как они забирают кровь у наших христианских младенцев?
И полкурса посмотрели в мою сторону.
А я понял, глядя на лектора, что с крысами надо бороться до последней капли крови.
Сколько бы они её не выпили.
Насильник
— Это он? Вроде, похож.
Их было двое.
Я едва успел войти и даже не присел, когда один из них схватил со стола листок и, глянув на него, впялился мне между глаз. Прямо, но насквозь.
На листке был карандашный портрет какого-то парня. С короткой стрижкой на пробор.
— Разберемся, — второй небрежно отложил листок в сторону. — Сам расскажешь, зачем ты ее насиловал и выбросил из окна?
— Кого ее?
В отличие от кино и прочих глупостей для девочек, они оба оказались злые. Оба представились следователями и даже показали удостоверение. Но я их не разглядел — все поплыло…
За полчаса до этого меня вызвали в деканат прямо с лекций.
— Вам срочно надо в здание студенческого общежития на улице Октябрьской. Знаете, где? Это новая высотка около стадиона «Динамо», — заместитель декана был строг и собран. — Вас ожидают в комнате коменданта. Вещи можете не брать, это ненадолго. Там все объяснят.
Я подумал, что, может быть, мне все-таки решили дать общежитие. После гибели отца было стыдно получать переводы из дома и, чтобы сэкономить, я подселился к более счастливым однокурсникам «зайцем», нелегально.
Приходил как можно позже, стелил на полу, между четырьмя кроватями, матрац и спал, чтобы уйти утром. В библиотеку. Все равно до лекций податься было некуда.
Библиотека мою учебу в университете и погубила. Я читал, открывая для себя мир неизвестных авторов сначала в тематическом каталоге, потом уже с книгами и старыми подшивками газет. Не зря в старые добрые времена их сжигали публично. Много книг — много вопросов. А власть не любит отвечать. Для этого есть подданные.
Через пару месяцев у ребят, приютивших меня, возникли проблемы: мол, нелегала держат, и я переселился на второй этаж того же общежития родного факультета.
Мне повезло. Мне почему-то всегда везло: там затеяли длительный ремонт, и в одной комнате были свалены батареи парового отопления. За ними я прятал матрац и казенное одеяло. На них и спал. Кроме батарей в комнате ничего не было, даже света. Осень тогда выдалась холодная, и, сжавшись каждый раз проскакивая мимо дежурного, поскольку пропуска не было, я даже не раздевался. А просто заворачивался в одеяло, положив под голову портфель.
Одежду держал этажом выше, у однокурсников.
С утра приходить в гости к студентам не запрещалось, и мне можно было аккуратно у них появляться, переодеться и принять душ. По юности мне еще было непонятно, почему и за что тебя выталкивают в изгои. И все, вроде, должны быть равны, но одни имеют права, другие их получают, а третьи, не имея, о них задумываются. Так взрастают революции.
Из «чужих» никто не знал, что на самом деле я ночую здесь же, внизу, этажом ниже. Да никто и не интересовался. Самое главное — конспекты, библиотечные выписки, тетрадь со стихами, зубную щетку и пасту — я всегда носил с собой. А где оставишь?
Это была идеальная студенческая жизнь. Батареи в темной комнате, где можно было свалиться и спать. Ранние морозные рассветы, пригодившиеся потом в армии. Теплая республиканская библиотека, девчонки с подъездами и друзья по всему городу, у которых я иногда, задержавшись, охотно оставался ночевать. И поесть.
Но я все-таки надеялся, что, как иногороднему и малообеспеченному, мне однажды дадут свое место в общежитии. Как положено. Право-то было. Только где его взять?
— Давай, рассказывай. Срок тебе, парень, светит немалый…
Следователи поначалу недоверчиво слушали о том, что я вообще никогда не был в этом здании и понятия не имею ни о девушке из какой-то комнаты, ни о насилии, ни о том, кто ее выбросил. Если такое действительно было.
Через полчаса они все-таки согласились, что портрет подозреваемого на меня не очень похож, особенно пробор, но потребовали подробного отчета за какой-то там день: где был, когда и с кем. В деталях. Еще час я все это описывал уже как показания.
— Ладно, — в конце концов сказали насильники от власти. А кто они еще? — Похоже, это был не ты. Свободен…
Через несколько лет, уже вернувшись из армии, я встретил однокурсника. Случайно, как почти все в этой жизни. Не считая следователей.
— Ты помнишь? — сказал он. — Однажды тебя вызвали прямо с занятий к декану, надолго? Так вот, в перерыве мне сказали забрать твой портфель и отнести его в деканат. Там сидел какой-то штатский. Он и прибрал вещи на обследование. Через лекцию, на другом перерыве, меня вызвали снова, и я отнес портфель обратно в аудиторию. Так что ты, вернувшись, ничего и не заметил. А что у тебя там было?
— Не знаю, — растерялся я, вспомнив карандашный портрет, на один ровный пробор, с головы до самого сзади, донизу. — Знаю только: то, что было — не было.
Работяга
Жил человек. Старался встать на ноги. Учился, работал, покупал. Растил. И детей, и деревья. Наконец построил дом. Думал: теперь можно начать жить. Есть, наконец, под ногами фундамент.
Оказалось, это табуретка.
Крещение
Иногда оглядываешься по сторонам, но вспоминаешь о позитивном мышлении и говоришь себе: «Какие красивые и просветленные морды».
У меня есть только одна хроническая проблема в жизни — не хочу быть несчастным.
А это не прощают.
Песню Владимира Высоцкого «Антисемиты» я написал в свои восемнадцать лет. Записал прилюдно — и ответил за нее публично. Отвечать за других — это стародавняя еврейская привычка еще со времен раннего средневековья.
В более поздний советский период, в сентябре, студентов в Белоруссии направляли «на картошку», помочь селу убрать урожай и приобщиться к настоящему труду. Труд тогда делал из обезьяны человека. И звучал гордо — потому что платили мало или почти ничего.
Гордость — она ведь оболочка пустоты.
Второй курс университета, как, впрочем, и последующие начинался именно с такого спецкурса трудотерапии. В какой-то деревне нас расселили по хатам, где я очутился вместе со своим другом — однокурсником и тезкой, уже отслужившим армию и казавшимся тогда почти «дядей».
— Жизни не видели, — говорил он нам — Армия учит самому важному — подчиняться, а это значит руководить. Не знаешь — научим. Не хочешь — заставим…
Не сомневаюсь, что он выбился в люди. Это трудно, но легче, чем оставаться человеком.
Наши хозяева, державшие свою корову, по утрам после завтрака выставляли на стол парное молоко с черным хлебом. Они были добрыми, потому что многое пережили, назывались поляками и говорили на «тросянке». На русском языке, вперемешку с белорусскими словами и акцентом.
— У войну вось, пол деревни были в партизанах, а половина — в полицаях. Те придут — мобилизация. А потом — эти. Партизан тады много погибло. А полицаи апосле вернулись. Отсидзели свое — и живуть…
С утра мы выходили в поле, копали и собирали картошку, а вечером, прикупив дешевого вина, «чернил», как его тогда называли, разговаривали, заигрывали с девчонками и играли на гитаре.
Гитара была популярным инструментом у молодежи в силу своих сексуальных форм и всеядности трех аккордов, в которых укладывалось все, о чем не говорили вслух. Но можно было спеть. Или выразительно молчать.
Однажды, небольшой компанией, мы устроили посиделки по поводу дня рождения моего тезки. Ребята немного перебрали, мы шумели на завалинке, травили анекдоты, сплетничали и дело плавно перешло к песням.
Я, в принципе, «дрынкать» умел и на шести-, и на семиструнке. Но не пою, поскольку еще в школе, на уроке пения младших классов, учитель как-то вызвал меня к доске солировать. Когда я закончил, класс молчал.
Молчал и учитель.
Потом он похлопал меня по плечу и сказал, обращаясь к одноклассникам.
— Дети, — сказал он — Никогда не обижайте этого мальчика.
С тех пор я пел только дома. Да и то, потому что открыл для себя Высоцкого и тех, кого тогда называли бардами.
Кто-то из ребят взял гитару и вскоре она перешла ко мне, разогретому. По молодости, я тогда думал, что песни Высоцкого знают все. Не учел только одного, но важного обстоятельства — мои однокурсники, будущие журналисты, в массе своей были из белорусской глубинки или после армии.
А Высоцкий тогда еще не особо гастролировал и его песни знали, записывали и переписывали далеко не все. Люди-то живут в своих параллельных мирах, которые часто не пересекаются. Хотя в институте или на работе могут заниматься одним делом. Но мне это и в голову не пришло. Как это, не знать Высоцкого?
Короче, пропустив по-русски свою порцию дружественного, но жестокого азербайджанского «Агдама» за рубль двенадцать бутылка, я выдал сначала «Штрафные батальоны», которые идут на прорыв. Затем о высотке, за которую полегла рота, но начальник получил новую звезду на погоны.
И наконец — «Антисемиты»:
Зачем мне считаться шпаной и бандитом — Не лучше ль податься мне в антисемиты? На их стороне хоть и нету закона — Поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я — ведь надо ж кому-то быть битым. Но надо узнать, кто такие семиты? А вдруг это очень приличные люди. А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет…Это был не концерт и не выступление перед публикой. Номера и авторов на деревенской завалинке я не называл, сначала читал свои стихи, как просили, а потом просто «дрынкал» и пел. И видел, что ребята вокруг меня впервые слышат эти песни.
И девчонки смотрят, и выдыхают красиво так: «Еще… Еще…»
В конце сентября уже быстро темнеет, а осень в том году выдалась холодной и пронзительной. Заморосил дождь — и мы разошлись по хатам. Довольные и подвыпившие.
— Послушай, — обратился ко мне тезка — Это такая сильная вещь, про евреев. А не мог бы ты записать мне слова?
— Конечно, могу. Но сегодня уже устал. Пока работали, пока посидели. Давай завтра?
— Нет, — вдруг решительно и с нажимом сказал тезка — Ты напишешь сегодня.
Мы поругались. Он настаивал, а я, не понимая зачем так срочно, уперся. Дело явно шло к драке. И тут мой друг, молчавший до сих пор, вызвался стать третейским судьей.
— Мы же однокурсники. И будущие журналисты. Что о нас подумают хозяева за стенкой? Для них, крестьян, мы — сливки общества, — сказал он, допив остатки вина в бутылке — Пойдем на улицу, поговорим, разберемся. И все станет на свои места.
Дом был почти на окраине деревни и, разговаривая, вдоль разбитой скользкой колеи, обходя и переступая лужи, мы незаметно вышли за околицу. Дождь перестал, было темно и прозрачная луна маячила над полем, нависшей на горизонте далекой рощей и над нами — в телогрейках и резиновых сапогах.
Я так и не понял, что происходит, опускаясь на землю, когда тезка вывернул мне руку и крикнул: «Да держи ты его…» И мой друг перехватил вторую. Сзади. Не сильно, но все равно не вырваться.
Руки пошли вверх и я встал на колени. Мордой в землю. Зато задницей — к небу. И куда-то ушли все силы. И дурнота, густая, как запах мокрого поля, поползла в зажатый лопатками затылок.
— Пиши…
Один держал фонарик, другой сбоку контролировал плечо, а я, на коленях, потому что встать — «нельзя», выводил в подсунутой тетрадке с пружинками
«Зачем мне считаться шпаной и бандитом…»— Поставь число и подпись, — почему-то неровным голосом продышал на ухо тезка. — Вот так. И рядом фамилию. Свою. Еще раз, разборчиво.
Так я записал песню Высоцкого. Еще не понимая, зачем? Как требовали. За свою. Только много позже я понял, что привластные невежды — одна из главных опасностей сначала для человека. А потом и для людей.
Они убежали, спрятав листок с моими каракулями и подписью у сердца, чтобы не помять и ночевали где-то в другом доме. И правильно сделали.
Умывшись в луже и отдышавшись на мокрой картофельной ботве, отдохнув до мозга костей на природе, я бы точно прибил их тогда ночью табуреткой. И замазал бы родной факультет своим преступным деянием.
А через полгода, в некиношном сериале поэтапных организованных собраний по отчислению из университета этот эпизод всплыл для меня как «написание и исполнение на студенческих сельскохозяйственных работах своих антисоветских песен».
И еще, оказалось, что я еврей.
С тех пор я вообще не пою. Ни с людьми, ни, тем более, в хоре.
Даже в дУше.
Один на один.
Отмываясь от сослуживцев и начальников…
Сосиски с горчицей
— Давай, я тебя познакомлю с русским миллионером? — спросил знакомый, живущий, здесь, в Берлине, уже более десяти лет.
Он удачно продал в Москве большую квартиру родителей, избавив себя и жену от обязательной необходимости работать, чтобы выживать, перевез стариков в Германию под убедителььным предлогом преимущества западного лечения, бесплатного для пенсионеров-эмигрантов, направил их получить государственную квартирку под знаменитый немецкий «социал» и радовался окружающему миру. И себе.
Времена, когда люди гордились тем, что сами построили свою жизнь прошли, как паровозы и выглядели смешно и глупо. Более того, это оказалось так же бессмысленно, как выстраивать свой путь и ехать не по стрелкам, нарываясь. Нужно направить себя конкретно на то, чтобы плыть по течению и срывать бананы, брать, что лежит или лежит плохо. И наслаждаться. Мир — это океан красивых вещей и обладание ими дает уважение других.
— А самоуважение?
— И это тоже. Иметь то, чего у других нет. Или есть, но проще и дешевле.
Мы сидели в кафе недалеко от моей гостиницы, то ли для туристов, то ли почасово — для любовников, пили кофе и я не очень понимал, зачем он мне все это расказывает.
— На работу за заработок ходят неудачники, вырезающие магазинные купоны со скидками, берущие кредиты на телевизор и откладывающие деньги на летний отпуск. Удачливые, деньги не зарабатывают, а делают. Сразу и много. А потом стараются их уберечь, чтоб другие не вырвали или государство не ограбило. Вот это и есть настоящая работа.
Он считал себя уже немцем, особенно когда выезжал из страны в Россию и небрежно оставлял щедрые чаевые.
Чаевые, они же тоже форма самоутвержения.
— Ты не представляешь… — объяснял он — Миллионер приехал тридцать лет назад из каких-то Черновцов, крутился, но потом, на его счастье, русские начали выводить свою армию из Восточной Германии. Генералы рванули распродавать все, что можно, кроме Родины. Она ничего не стоит. Тогда он и поднялся, как многие, у кого хватило ума вовремя оказаться здесь, по западную сторону границы.
— А что в нем интересного? Миллионер — это не показатель. Ну, вилла у него, а не квартира. Дорогая машина, а не «Фольксваген». Унитаз золотой вместо обычного. Какая разница, куда сливать воду. Главное, чтобы был своим и чистым.
— Да я не об этом. «Фишка» для тебя в том, что у него, пожалуй, самая лучшая среди русских в стране коллекция машин. И среди них уникальный кабриолет «Пантера» и настоящий «Форд» 1928 года. Без единой новой детали. Причем, на ходу. Снимешь необычный сюжет в свою программу. Заодно и прокатишься — будет, что вспомнить.
Вот я теперь и вспоминаю…
Уже поутру, у гостиницы, на тенистой берлинской улице, в центре, меня подобрал шикарный кабриолет. Приятель, восхищенный до пунцовости, сидел рядом с водителем, миллионером, скромно одетым, но обутым во внушительное кольцо с бриллиантом.
— Давайте мы сначала заедем в один их моих гаражей, под квартирой, — достойно предложил хозяин машины, в рубашке с бабочкой и соломенном канотье, словно выплывший из столетней давности милого доброго «ретро» — А потом прокатимся по Берлину на настоящем «Форде».
Коллекция раритетных «Харлеев-Дэвидсонов» с серебристыми баками и позолоченными знаками и вправду оказалась замечательной.
— Человек вправе собирать то, что ему нравится. Кто-то марки, кто-то пробки от бутылок, а кто-то редкие машины. Всё зависит от возможностей и интереса, — рассказывал миллионер. И, вправду, не дурак — Стремление к красоте — один из стимулов в жизни. Вот, например, эта модель…
Я записывал его пояснения и в их дыму рубил картинку, как дрова в свой паровоз, летящий вперед безоглядно и яростно.
Затем мы ездили по городу. «Форд» был очаровательным, но жестким. Как Бонни и Клайд.
Прохожие берлинцы часто останавливались и провожали нас любопытными, но не завистливыми, взглядами. Все было пасторально мило. Наставляя камеру, мы несколько раз беседовали о машинах, увлечениях и просто — о смыслах. Без смысла русскому никуда.
Разве, что далеко-далеко. Но это тоже по-русски.
— Закончили? — спросил миллионер, довольный, что показал, как удалась его жизнь.
— Закончили, — ответил я. Довольный, что удался сюжет.
— Тогда давайте пообедаем, — предложил он. И я почувствовал, как под ложечкой засосало. Томно и сладко.
Стол после съемок, когда одна часть мозга работает с камерой, звуком, видеорядом, а другая отслеживает и выстраивает разговор — одно из реальных повседневных наслаждений. И дело не в голоде или хорошей еде. Стол — это возможность оттаять, отдохнуть и поговорить наконец с героем съемок, тоже расслабленном, о нем самом, о ценностях, а не ценниках. И о настоящей стоимости. Человек же не манекен с биркой на лацкане. Он же теплый.
Знакомый мой тоже оживился. И в глазах его уже горели предстоящие разговоры дома и вне дома о том, что такое оказаться за одним столом с миллионером. Самим. Обед с президентом или миллионером — это вам не хухры-мухры. Не каждому сподобится.
Мы поехали по Берлину, проскочив торговую Курфюстердам и выйдя куда-то к новому району больших магазинов и ресторанов. Берлин, он большой, а мы ехали и ехали.
— Я хочу показать тебе настоящую немецкую еду, — переключил скорости миллионер — Но она, эта еда, на уличных стойках, где продают сосиски с горчицей. Это что-то…
Мне было все равно. Тем более, бывая в Германии не раз, что такое немецкие сосиски с горчицей я знал также хорошо, как их свиная отбивная с кислой капустой.
— И здесь, и там лотки почему-то закрылись, — раздраженно сказал миллионер, выкручивая раритетный «Форд», образца 1928 года, с главной дороги на какой-то бульвар. — Посмотрим еще в одном месте.
Мы крутились по центру уже где-то полчаса. Но сосисек с горчицей, похоже, больше в Берлине нигде не было. Приятель ловил взгляды прохожих, насыщаясь. А мне почему-то захотелось выскочить на улицу и пройтись с людьми мимо витрин. Тоже отдых. Но миллионер не отпускал.
— Знаете, — надавил он на газ — Не судьба, выходит, с сосисками. Давайте лучше встретимся в ресторане, недалеко от вашей гостиницы. Часов в семь. Там на втором этаже есть уютные отдельные столики. Это китайский ресторан с великолепной кухней. Вы любите китайскую кухню?
— Я люблю всё… Мне уже было весело.
— И всех, — вставил свое знакомый, явно расстроенный. Облом, он и в Берлине черный.
— Ну, и отлично, — успокоился миллионер — Я приду с женой, там и посидим спокойно. Постарайтесь быть в номере после пяти.
Свой телефон он не оставил. Миллионеры, они же «шифруются», живя в их хищном и опасном мире. С рюшечками.
Мы разъехались — каждый в свою сторону. А куда же еще? Я прогулялся, отдыхая. И снова выпил кофе. С булочкой. Берлин — замечательный, навскидку, город. Спокойный, безопасный и доброжелательный. Есть не хотелось — хотелось жить. Всю работу — и запланированную, и экспромт — я уже сделал и здесь, и в Кёльне. Достаточно. Вечер и завтрашний день можно отдать только себе.
После пяти часов миллионер позвонил и сообщил, что у него возникли какие-то несоответствия планов с женой. Поэтому сегодня ресторан отменяется. И он приглашает меня на завтра, часам в двенадцати, на его большую жилую яхту, за городом, где он намерен дать не какой-то там китайский, а лично свой обед на террасе, под парусом.
— Вы обедали под парусом? — почему-то спросил он. Видимо, чтобы я оценил необычность приглашения.
— В Германии еще не обедал, — откупился я. И пошел ужинать к китайцам.
Знакомый тоже больше не звонил, впечатлительный. И не появился до самого моего отъезда. Пропал.
Видимо, уже взял свои деньги за съемку или, наоборот, миллионер его «кинул».
Я тогда об этом даже и не подумал. И потом не подумал, не раз — не до этого было. Работая, как типичный неудачник, себе на радость, по всему миру.
Но я был доволен, что видеорассказ о русском коллекционере раритетных машин и мотоциклов в Германии будет интересен в моей программе. Особенно мужчинам.
Утром он снова позвонил, как договаривались, пунктуально, по-немецки. Но что-то у него опять не складывалось с яхтой. То ли нужного повара в Берлине не оказалось, а других нет. То ли с продуктами напряженка.
— И что он от меня хочет? — только и подумал я, уже груженый кофе в соседней уютной забегаловке.
— Давайте завтра созвонимся, — сказал миллионер — Мне очень хочется с вами просто посидеть.
— Сядем… — мне было и смешно, и немного грустно. Так бывает, когда становится неудобно за кого-то, дешевого — Но, я же говорил, что завтра уже улетаю, да еще из Франфурта. Так что как-нибудь в другой раз.
— Обязательно, — вздохнул миллионер с сожалением — Ваш приятель бывал у меня и дома, и на яхте. Ему понравилось. Жаль, что вы не живете в Берлине.
— Почему жаль? Я живу, — подумал я, неблагодарный. Но промолчал.
Почти целый день маячил впереди и рука сама набрала номер давнего моего товарища, берлинца, которого не хотел беспокоить, поскольку не знал своего расписания, с учетом практически всегда неожиданных тем и съемок. Товарищ уже двадцать лет принципиально не хотел работать в Германии, «на немцев», но жил на пособие, тот же «социал», катаясь для разнообразия и самоутверждения то в Россию, то в Украину.
— Откуда ты свалился? — завопил он в трубку, не давая даже вставить слово — Бери метро и немедленно приезжай. Адрес простой… Да, чуть не забыл. Ты извини, но у меня в холодильнике только пиво, да еще сосиски. Зато настоящие, немецкие. С горчицей…
Говорить с глухими
Один человек мне сказал, что нет в жизни счастья.
— А где есть? — спросил я и застыдился.
В нашей камере было тепло и мерзко. Маленькое окошко почти под потолком выходило в никуда. В будущее.
Шконка или общие нары, похожие на деревянную эстраду в сельском клубе, располагали к воздержанию. А скупой модернистский интерьер оживлял только ржавый унитаз за бетонной перегородкой, да вечный огонь придушенной «лампочки Ильича» над железной дверью с амбразурой запечатанной «кормушки».
Это был мой первый опыт пребывания в местах не столь отдаленных от тех, кто так думает. Точнее, почти второй.
В своей стране — кто кому считает?
В армии, незадолго до дембеля, я бегал в самоволки на саратовское радио и делал там сюжеты для молодежного вещания. Это было заскорузлое время и удивительные люди, которые, пришедшему с улицы солдату в засаленной стройбатовской гимнастерке, бывшему студенту, в тот же день выдали магнитофон — «репортер» и отправили на задание.
Я переодевался у штатских знакомых, делал запись и, возвращаясь через давно уже не девственный забор в казарму, прямо с магнитофона ночью расшифровывал и писал тексты. А утром, по дороге на работу кто-то из ребят автороты, даже личный водитель комбата, забрасывали «репортер» на проходную телерадиокомитета.
В конце концов, со временем обнаглев, я поучаствовал в телевизионной передаче. На чем и попался какому-то бдительному зрителю из штаба части. И загремел на гарнизонную гауптвахту.
— Мы не потерпим дедовщину, — возмутился застарелый старший лейтенант Лукинский, замполит по прозвищу «триппер».
Тот самый, что сказал мне, просмотрев личное дело:
— Мы, в серых шинелях, вас, интеллигентов, всегда задавим.
— А нам на вас всегда будет наплевать — буркнул я. И немедленно отправился чистить лопатой батальонный сортир.
— Кто-то должен это делать, — напутствовал нас перед строем замполит, вдохновляя на трассу строить им железную дорогу — Кто-то должен это делать. Почему, если не вы?
У «триппера» не ладилась ни личная жизнь, ни продвижение по службе. Женщины и солдаты его боялись, а он ненавидел империализм. И получал за это деньги. По должности. И еще — за звание.
Так платят тем, кто не работает, но есть.
На гауптвахте меня, как родного, приняли караульные курсанты военного училища и я сразу попросился в одиночную камеру.
— Хочу побыть один, а то почти два года все люди вокруг, да люди. Надоело…
Такого у них не было. Но и у меня тоже. Чревато путать камеру с персональным бунгало. Одиночка оказалась мрачным узким бетонным мешком без нар с единственным грибовидным стулом, железным и холодным.
Как генерал без трусов.
— Сам напросился, — кричала как-то проводница поезда Воркута — Москва моему попутчику-шахтеру, когда он, в романтическом подпитии, ночью сходил к ней якобы за чаем и потом не захотел расплачиваться по — честному. Обещал за услугу полтинник, а в темноте, вроде, подсунул двадцатку. За что и получил полотенцем: от неё — и до купе.
Выхода не было, кроме меня самого. Я лег на бетон и стал согреваться видениями скорого возвращения домой, просыпаясь от холода и придумывая все новые и сложные по конструкции горячие мурзилки. Мне хотелось исполнить свой солдатский долг со всеми женщинами одновременно, но взаимностью отвечала только одна Родина. И то не туда.
Это была самая сексуальная ночь в моей жизни.
На «губе» я пробыл тогда всего семь суток, поскольку попал под всеобщую амнистию, приуроченную к очередной годовщине Великой октябрьской революции.
Но пять лет спустя, на гражданке, суток было уже пятнадцать. Достаточное время, чтобы подумать о своем месте на шконке этого мира. Помогли немцы.
Трое их патриотов из города Камышин, где-то в Поволжье, никак не могли воссоединиться со своим историческим фатерляндом. А очень хотели. Они колотились, где могли, составляли петиции, знакомились с другими такими же неуемными и даже писали, отморозки, историю немцев Поволжья.
Оно мне надо?
Где я — а где немцы?
Но я знал в Москве корреспондента газеты «Зюдойче цайтунг» и подвизался его с ними познакомить. А вдруг интервью поможет, когда о ребятах узнают там, в Бундесе?
Это было душное время пожухлой травы и верующих атеистов, которые принимали, не спрашивая о ночлеге. И приезжали, не договариваясь за три недели. И легко сходились, слушая друг друга. И вместе блуждали в тумане невысказанности и значимости полуночного словоблудия.
А потом приходило утро или человек в форме.
На пустынном перроне малорослого провинциального вокзала, тихого как просветленные глаза умалишенного, за пять минут до прибытия московского поезда из ниоткуда возникли милиционеры и попросили показать документы.
Если к вам подходит орган правопорядка, значит вы его чем-то возбудили.
— Это не к добру, — вздохнула как-то уборщица тетя Маша, услышав по телевизору о падении индекса Доу Джонса на Нью-Йоркской бирже. — Он у них падает и падает.
Старший наряда, почему-то майор и рыжий, положил мой паспорт к себе в карман и сказал заветное «пройдемте». Ребята уехали от греха подальше, а я вскоре нашел себя в общей камере местного изолятора. Наутро, покатавшись в милицейском «бобике», мне показали казенную комнату с тревожными зелеными стенами, где тетка, назвавшаяся судьей, объявила приговор в пятнадцать суток за хулиганство. Два неизвестных мужика-свидетеля что-то невнятно подтвердили и я сел.
— Все свободны, — сказала судья.
— Может ты и не виноват, — надзиратель вежливо открыл передо мной железную дверь — Но у каждого своя работа.
С непривычки в камере мутно и даже страшновато только поначалу, первые полчаса, пока тебя расспрашивают. И непонятно кто и зачем. Затем обнюхают и отойдут.
Каждому свое.
Но свое — не каждому.
Меня подселили к двоим квартирантам. Один был тот еще гусь, а может и «утка». Но я не забивал себе голову ерундой. Зачем размышлять о том, что непостижимо.
— Что ты думаешь о перевороте в Таиланде? — позвонил мне как-то приятель и почти обиделся, узнав, что я о нем ничего не думаю.
Первый мой попутчик был квартирным вором и охотно делился опытом, как и где надо обыскивать дома временно отсутствующих граждан. Попался он на женском алкоголизме.
Вместе с подругой они развесили объявления в многоэтажках о том, что, в связи с дезинфекцией подъездов, жильцов просят оставаться у себя — с одиннадцати до часу. А у кого такой возможности нет, работа там и прочая суета, то достаточно выставить у двери трехлитровую банку. Спасибо.
Уже за первый день жатвы стеклотары набралось на целый склад. Дела пошли. И все было бы хорошо, но его гражданская не жена на радостях загуляла. И в ходе их семейного междусобойчика соседи вызвали милицию. А те, поразившись обилию трехлитровых банок, нашли и кое-что из краденого.
Как писали в инструкции к импортным электрическим розеткам «пальцы не совать».
А если сунул, то не плач. Доктор не поверит.
Подруга осталась один на один с личной жизнью, а его на время следствия прибрали, чтоб не сделал ноги.
А куда бежать?
Везде плохо, где люди есть.
В этих стенах, однако, временами бывало почти комфортно. Подкатили и папиросы, и чифирь, и даже косяк травки.
— Жить можно, — как говорила тетя Циля из похоронного бюро города Бобруйска — Работа есть. Работа будет.
Она очень гордилась, что именно ей однажды довелось познакомить нового министра с образцами современных западных гробов для нужд нашего человека.
— У этого направления, безусловно, есть будущее, — согласился министр.
Второй мой квартирант, высокий и по-крестьянски костистый, делился с нами своими ходками за грабеж. Красть и руководить он не умел, работать тоже, но когда кончались деньги, в основном на девок, выходил в ночное. Его обвиняли в грабежах, хотя прохожие все отдавали сами. Кто-то подсказал, что лучше жениться, чтобы было где жить.
Жить не получалось. И тогда, в расстройстве, он как-то ударил тещу табуреткой по голове.
Все бы хорошо, но она приказала ему долго жить.
Предварительное следствие, которое он парился с нами, светило ему чуть ли не «вышкой». Поэтому парня иногда клинило. Он вдруг срывался с нар, где мы сутками сидели или лежали на досках, и с криком и пеной бросался туда, где в поднебесье маячило маленькое окошко. Но потом быстро затихал.
Видимо, бетонные стены — лучшее успокоительное из придуманных человечеством транквилизаторов.
Время от времени мы поодиночке или по двое «в ногу», чтобы не закружилась голова, вышагивали в узком проходе от стены до двери. Шесть шагов туда и шесть обратно. Не заблудишься.
Соседей по шконке то забывали, то по два раза на день таскали на допросы. Но остальное время мы дремали или перебрасывались разговорами. Из всей информации у нас и было-то две устарелые местные газеты. Их однажды, по моей просьба на утреннем обходе, закинули к нам, как диверсантов в тундру.
— Да, плохи дела, — сказал тогда квартирный вор, внимательно прочитав прогноз погоды.
И мы пустили прессу по назначению.
— Что это у вас там? — насторожился много позже офицер на белорусской таможне, открыв мою сумку, полную книг.
— Книги, — сказал я.
— А зачем.?
Зато ни одна женщина, а тем более девушка, не слушали меня так внимательно как сокамерники. Я пересказывал им фильмы и книги, придумывая по ходу новые повороты сюжетов. Вспоминал Шейнина и Сабатини, Тамерлана и Наполеона, Патриса Лулумбу и Калигулу.
— Расскажи еще что-нибудь, — скучал квартирный вор — Об этом, о маркизе-садисте. Как он ее в корзину сажал с голым задом.
— На себе не показывай…
И еще я читал им стихи. И свои — тоже. Даже сочиненные уже там. От беспокойства и ничегонеделания. А когда же еще пишут стихи?
Звук шагов ушедших замер. Оглушительная глушь. И в простенках общих камер Одиночки наших душ. Дней рассыпанные зерна — На потраву всем ветрам. И с ключами коридорный — За апостола Петра. Дух свободный — неугодный. Потому что он везде Под ярмом ходить негодный И кусается в узде.Их это особенно тронуло.
— Непонятно, но сильно — сказал домушник — Мой дед тоже был кавалерист. Тещеубивец молчал, видимо, о своем.
По ночам он подскакивал и кричал что-то, захлебываясь, на непонятном зверином языке. А наутро его вновь забирали на допрос.
Человек, видимо, так устроен, что ушедшего ждут. Все-таки движение и информация, даже если ее и нет вовсе. Чье-то возвращение — это всегда, пусть даже очень короткая, но перемена в жизни. И за решеткой, как на воле.
Однажды его долго не было и наконец в двери залямзили засовы. Прокашлялись и взвыли, нехотя открываясь. Вдруг в коридоре раздались голоса, непонятная суета и выяснения. Дверь хлопнула и затихла. А за ней, удаляясь, ухнули шаги, быстро погасшие в глухом коридоре. И все затихло, и липкая недвижимость тишины снова завернула нас в духоту одиночества и рвань односложных диалогов. Что-то случилось…
Через полчаса снова захлюпала дверь и появился Он. Наш. Третий. Взмокший, на грани очередного припадка.
— Волки, — сказал он, подергивая от злости плечом — Волки, они и есть. Сначала поговорили, как обычно. Потом нарисовалась очная ставка с моей пудреницей. Но дело не в этом. В оконцовке следователь оставил пачку папирос на краю стола и отвернулся. Бери мол. Я вижу, рядом ручка его лежит. Было бы что особенное — обычная писалка. Ну и прихватил с собой. А он не сразу заметил. Но зато, когда понял — бегом и с криком. Вот и дернули обратно, обыскали и все повытаскивали.
— А зачем тебе эта ручка? — удивился я — Ты ее и не раскуришь, и не съешь.
— Как зачем? — не понял убивец и почти обиделся — А чем ты стихи писать будешь? Васей?
Один человек мне сказал, что нет в жизни счастья.
— А где есть? — спросил я и застыдился.
Одному молчать легче, чем вдвоем.
А вдвоем — труднее, чем всем вместе.
Зато молчать всем вместе легче, чем одному.
Это и есть свобода слова.
Два Марка
У него было красивое библейское имя Марк. Мы познакомились в интернете и он писал, что живет в Париже, его мать-француженка, на которой еще до той войны женился отец-еврей, судя по всему, бежавший из СССР.
Когда во Францию пришли немцы, они перебрались в Марокко и отец построил там небольшой автозаводик, помогая пришедшим в Северную Африку американцам воевать с нацистами.
Меня несколько смутили чистые, по написанию, русские послания Марка.
— Но кто знает? — подумал я — Отец мог серьезно натаскивать сына на родном ему языке. А дальше, дело образования, окружения и общения. И еще, в дополнение к рассказам французских бойцов еврейского Сопротивления может быть интересно и мнение коренного жителя страны, по-русски, о том, как чувствует себя немалая, до пятисот тысяч, еврейская община Франции.
По неуловимым нюансам я понял, что Марк или уже на пенсии, или не работает. Значит, свободен. Да какие там нюансы? Если у взрослого человека сегодня нет мобильного телефона, значит он привязан только к дому, никому особо во внешнем мире не нужен или ему этого достаточно.
Ключевое слово «или».
Уже перед Парижем я позвонил и спросил, может ли Марк подскочить со мной к одному из ветеранов, чтобы помочь в переводе.
По — французски я знал только несколько расхожих фраз. Вроде «ищите женщину», «на войне — как на войне» и «мсье, подайте на пропитание».
Если собеседник попадется интересный, то забываешь о подготовленных вопросах и они сами вытекают из его ответов. Вширь и вглубь. Ветеран понимал по-английски, но, понятно, отвечать хотел на родном языке. И ему легче развернуться, а я уже потом, дома, найду переводчика для всего интервью.
А что делать? Ничего не делать? Чтобы работать в нормальных и идеальных условиях, надо быть в системе и ваять что и где скажут.
Но тогда как жить в радость и заниматься делом?
Уж лучше плевать, чем сплевывать.
— Хорошо, — ответил на мое предложение Марк — Французский я знаю, как свою бывшую и незабвенную жену. Но поеду при условии, что ты заберешь меня из дома, а потом отвезешь обратно. Я вспомнил нервный траффик Парижа и размеры этого малознакомого мне города, но понадеялся на навигатор, который никогда не подводил, и с благодарностью согласился.
Его адрес привел меня в самый центр.
Совсем недалеко, по другую сторону Сены маячила Эйфелева башня. Но увидев три высотных современных дома среди старинной французской недвижимости я понял, что интуитивно не ошибся.
Дома были похожи на общежития или, точнее, социальные убежища, набитые однокомнатными квартирками для сидящих на пособии, но контролируемых и оберегаемых государством от криминала людей.
— Я готовлю себе сосиски на обед, — сказал Марк, когда я снова позвонил, чтобы узнать номер квартиры, который он забыл дать — Поднимайся.
— Есть не буду, но чай или кофе выпью после долгой дороги с удовольствием.
— Отлично, — явно облегчился он — Тогда сходи в кафе, там перекуси и попей, а я через минут сорок выйду.
Чтобы оставить машину в Париже вдоль тротуара, просто в автомат за парковку деньги не бросить. Надо где-то купить карточку и еще понять как она работает.
Короче, пока мотор остывал, я снова грелся под щедрым июльским солнцем, но уже не в своем авто на трассе из Германии, а рядом с ним, отдыхающим, почти час. Надо — так надо. Это — по-русски.
Марк пришел пунктуально. Он был деловой и моложавый для своих лет, а в руках у него торчал почему-то русско-французский словарь. Для солидности. Вскоре я узнал, что он живет в этом городе уже 34 года, приехал с семьей из… Средней Азии и их здесь не ждали. Жена с ребенком вскоре ушла и за все это время он, вообще, работал едва ли шесть лет.
— Ничего страшного, — сказал я — Это жизнь, а не кино. Но подумал, правда — А причем здесь Марокко?
— А ты откуда сейчас? — спросил Марк не из любопытства, а из приличия.
— Записывал интервью в Праге, потом — в Париж…
— Паршивый город Прага и люди там дерьмо, — вдруг отрезал он, стервенея — Двадцать лет назад был там и все вокруг пытались обмануть. Гнилой народ.
Я промолчал и подумал, что гнилыми бывают только зубы и власть. Потому их и надо постоянно чистить.
Но зубы для человека важнее, поскольку они ближе.
Дедушка, руководитель организации еврейских партизан — борцов французского Сопротивления, ждал меня в своей громадной квартире из пяти комнат аккуратно одетый в костюм и серую рубашку с отливом. Без пылинки — хоть в гроб ложись.
Ему уже стукнуло сто лет от роду. И я, помню, удивился, когда еще говорил с ним по телефону, договариваясь, услышав, будто он живет совсем один и почти всегда дома. У него тоже не было мобильника. Жена, с которой он воевал вместе в Сопротивлении, умерла почти тридцать лет назад. Сын, моряк, уже на пенсии и при своем бизнесе в Китае. Кому еще звонить в сто лет?
Я, укрывшись за камерой, задал первый общий вопрос, для разминки и не понял, когда Марк, закинув ногу на ногу и отставив руку, как на сцене, вдруг прервал его и начал переводить первые пять предложений. Такой перевод смонтировать в интервью потом невозможно, да еще без второго микрофона.
— Дай ему выговориться, как течет, — попросил я — И потом просто скажи коротко суть, о чем он говорил.
— Но это не перевод, — обиделся Марк и тут я понял, что он приехал не послушать, познакомится с необычным по судьбе человеком и при этом помочь, как я думал, а просто заработать.
Так бы и сказал сразу.
— Во Франции было много коллаборационистов? — продолжил я сначала общие темы — Здесь выдавали евреев или старались спрятать, по возможности?
Марк, словно играя и играючи, тридцать секунд, если не больше, что-то объяснял старику-партизану.
— Подожди, — не выдержал я наконец — Ты можешь просто повторить эти два предложения?
— Не могу, — ответил он — Ты задаешь слишком глупые вопросы. В России не знают, как разговаривать и что понимают люди на Западе.
Я снова промолчал, потому что мне надо было работать. Да и спорить не хотелось — не с кем. И тогда я просто перешел на английский. Только с вопросами. Мне так было проще.
Кассета в камере закончилась быстро. Дедушка отвечал каждый раз на удивление подробно, эмоционально и в конце подарил свою книгу о Сопротивлении. И дал еще три адреса товарищей по оружию: в Париже, Ницце и Брюсселе.
С парижским его другом по подполью, известным врачом мы договорились здесь же, по телефону. А остальным я пока звонить не стал: Ницца и Брюссель — противоположные стороны.
Странно, но уже не в первый раз, прощаясь, я заметил, что от бывших партизан, вроде, очень пожилых, в любой стране, ты словно заряжаешься на жизнь.
Когда я привез Марка обратно к его дому, он почти пулей выскочил из машины, сославшись на срочные дела.
Заработок сорвался, обсуждать ему нечего, не его мир. И он очень боялся, что я попрошусь к нему остаться на ночь, чудак. Мне почему-то было неудобно, что я невольно поставил человека в неловкое положение.
К невидимой границе Франции и Бельгии я подъехал уже под вечер, сошел с трассы и поплелся через сплошные городки и деревни, все более отчаянно пытаясь увидеть недорогой отель или пансион. В трехзвездочном мне уже сказали, что ночь здесь стоит почти сто евро.
А хотелось жить попроще. Особенно, если платишь за всё из личного кармана.
Шел десятый час вечера и морально я решился на любой исход, только бы найти место, как вдруг у дороги мелькнул указатель с магическими буквами «B and B», «Bed and Breаkfast». Сеть недорогих и вполне комфортабельных отелей.
Дорога загнала меня на окраину какого-то города и я встал у… закрытых ворот, за которыми возвышался отель. Уже резко темнело.
Позади тормознул «Ситроен-каблучок», на которых обычно ездят технические службы. Какой-то парень прошел через калитку вперед, набрал код и ворота открылись.
— Вы чего стоите? — спросил он меня сразу по-английски, сообразив суть по номерам на машине.
— Если заеду вовнутрь и не окажется комнаты, то как я потом выскочу обратно?
— Здесь всегда есть номера. Я помогу вам устроиться, — махнул рукой парень и проехал вперед — Давай за мной…
Еще через пару минут я стоял, растерянный, перед закрытой входной дверью. За ней никого не было и только сбоку, в стене, торчал какой-то аппарат, похожий на банкомат.
— Это нормально, — пояснил подошедший парень — Все закрывается в девять вечера и сейчас вы сможете взять номер только электронным способом. Давайте сначала проверим, есть ли места.
Он нажал несколько кнопок и пояснил, что есть свободные номера по 49 евро за ночь. Если нужен завтрак, еше шесть. «Копейки» — по французским понятиям. Но платить надо кредитной карточкой.
Я сунул свою международную «Визу», однако она почему-то не сработала. Что-то мне сегодня не везло в мелочах. Парень нажал кнопку переговорного устройство и попытался с кем-то договориться.
— Не хотят, — повернулся он ко мне и я с тоской подумал, что теперь придется искать тихое место на улице, с опаской на людей и полицию, чтобы прикорнуть в машине.
Как в молодости, когда было все равно где, не говоря уже, с кем.
На улице стало совсем темно.
— Ничего, — улыбнулся парень — Вы можете дать мне 49 евро, а я возьму вам номер на свою кредитную карточку.
Еще через минуту автомат выплюнул квитанцию и один и тот же код доступа: в отель и в свою комнату.
— Спасибо, вы меня здорово выручили, — сказал я, протискиваясь в гостиницу.
— Ерунда, — сказал парень — Я работаю по Бенилюксу и, вообще, много езжу по Европе, не раз попадал с непростые ситуации. Знаю, как это оказаться в чужой стране, да еще вечером. Я свободно говорю на английском, немецком и итальянском. Сам выучил. Мы же европейцы, надо помогать.
Ему было лет двадцать пять, не больше. Он даже не спросил стандартное — откуда я. А зачем?
Мне вспомнился парижский земляк, да еще еврейский, типа брат, из интернета и подумалось, что Бог воздает нам за все. В конце концов. Не только по заслугам, но даже и за мотивацию в этой жизни.
— А как ваше имя? — спохватился я, что ничего не знаю об этом парне.
— Марк, — ответил он и уверенно пошел на свой этаж. Своей дорогой.
Проводы
Свадьба, в изнасилованных натянутых вечерних платьях, была женоподобно плечиста и горласта от взволнованного гонораром ведущего. Всё выглядело натужно прилично, по прейскуранту сценария. Заначенные в сейфах на «черный день» бриллианты здесь светофорили вовсю. Не каждый день такое бывает.
Междусобойчики созданы для показа мод перед своими. Состоятельно состоявшимися. Придет время и можно будет тараканиться совсем открыто, с прессой и ТВ, на жердочках приставных столов. Но и пока жить можно.
— Нам повезло, — радостно светилась мать невесты — Такой большой заказ, что свадебный торт сделали за полцены. Всего за две тысячи евро. — А по расценкам? — А по расценкам четыре. Такая скидка, какое уважение…
Отец невесты, в черном, словно в глубоком трауре, пингвинил ее к жениху через большой бело — розовый, как зефир, зал. Среди гирлянд дутых шаров, достижений стоматологии и застоявшихся в показательных стойлах глубокого, как глотка светской львицы, удовлетворения гостей.
— Вау! — раздавалось то тут, то там — Супер!
Дамы, истощенные диетами и непосильным фитнесом, давясь завистью, радостно облизывали друг друга и даже щупали, молодясь.
Мужчины, это те, кто с ширинками, терпеливо аденомили, переступая с ноги на ногу.
Выгул блистал, пах восторгом и позитивил натруженным счастьем. Было приподнято, шумно и тесно, как на бройлерном птичнике, в середине его жизненного процесса.
Круговоротного и неблагодарного, в сухом остатке. Череды.
Отца невесты, на полусогнутых, трясло от волнения так, что казалось хватит обычная плебейская кондрашка. Она не разбирает кто есть кто, когда приспичит. Но пронесло. Ему было на что, а значит и зачем жить. И кричать — Горько! Теперь с дочкой наконец будет кондыбыться другой. Сам напросился.
Жених бил копытом в шикарных туфлях, на которые, к его сожалению, нельзя наклеивать ценники. Но было сразу видно, что он тоже не лыком шит.
В роли свадебных генералов маячили высокопоставленные чиновники. Скромные, как соучастники, но уже знающие себе настоящую цену. Генералы тоже, если и были, то в штатском. Чтоб не пугать гостей.
Одинокий и гордый, как заслуженный баскак, стол ломился от подарков, чтобы было, что показать, почитать и делить в будущем.
Президентский номер в отеле обещал молодым очередную ночь. Запредельную по цене и потому памятную для разговоров вокруг и после.
Каждая может сказать мужчине — Мой президент. Но не каждая девственно представит его, зажмурившись от понимания, вместо мужа. За то и проплачено.
В продолжение банкета молодоженам светило незамысловатое, для тех, кто много едил, но сложное по названиям еды свадебное путешествие. Экзотическое, с морем шампанского и белоснежной, как зубы, яхтой. С командой, прислугой и поварами. Которые умеют работать и знают свое дело, но не умеют жить. Раз работают.
Они тоже будут счастливы. Чтобы получить, отбегав, своё и жить дальше.
Зато у молодых, пока еще впервой, всё самое веселое, похмельное и непредсказуемое, только начнется. Кондрашке и не снилось.
Один человек мне сказал, что разбогател и теперь счастлив. — Умница, — порадовался я — И какой из бесконечных проектов тебя наконец осчастливил?
— Похоронный марш, — ответил он. И, чуть запнувшись, добавил — Наследства…
Швейцарский транзит
В тот год я первый раз въехал в Швейцарию. На машине. Живя в Лондоне, купил её, новую, по телефону, через каталог, с договоренностью, что заберу в… Бельгии. Заплатил первый взнос, переплыл Ла Манш, а там уже ждал представитель фирмы с моей фамилией на плакатике. Я выписал остаточный чек, а он провел к машине, выдал страховку, ключи. И разъехались.
У меня было десять дней до условленной даты на украинской границе, где ждали близкие, и я решил это время просто покататься по Европе, тем более, впервые. И пошел сначала на Люксембург, потом Германия и далее — к морю, через Швейцарию.
У границы только притормаживали, но документы никто не смотрел и я погнал по продолжению немецкого автобана на юг, в сторону Цюриха и потом — Италии. Мне и в голову не пришло, что дороги в этой стране платные — так швейцарцы доят немецких и французских автотуристов, идущих через них к морю. И стоит это где-то 70 или 80 долларов. Богатая страна, на транзите — и работать не надо. Взымай!
Мне не повезло, потому что где-то впереди произошла авария и возникла пробка. Свернуть на проселочную было некуда, да и горы вокруг. Это потом, в другой раз, я уже петлял по стране, поднимаясь и опускаясь в крутых, но ухоженных закаулках Альп. А тогда дисциплинированные европейцы покорно ждали, пока впереди откроют движение.
На двух местных полицейских, гуляющих вдоль многокилометровой колонны машин, сначала и не обратил внимания. Шляются тут всякие. Но они подошли сами.
Оказалось, что у меня на ветровом стекле нет стикера об уплате пошлины за проезд в Швейцарии. Наверное, это было глупо, но я действительно не знал и объявление об этом на границе не видел. Ехал и ехал. Мы немного поспорили, для приличия. Полицейские качали права на своей большой дороге, для того они и существуют. Я проплатил их святой долг и смысл существования — за стикер и штраф, итого… 200 английских фунтов, как раз обмененных при въездев страну на их франки. Это была тогда пока еще моя недельная зарплата и стоимость видеомагнитофона для родных, лежащего в багажнике.
Еще, минут через сорок, пошло движение, но я понервничал, решил отвлечься и съехал, поднявшись, в какой-то маленький поселок на склоне горы с замечательным видом на Альпы. Неподалеку был и небольшой магазинчик, скорее киоск и я почувствовал, что давно не ел, стоя в пробке, высох и чувствовал себя сухим, без остатка, козлом.
— Чашка кофе, булочка и пакет сока…
— Извини, — сказал хозяин, лет сорока пяти с легким пивным подбрюшьем — Только швейцарские франки.
— А доллары? Английские фунты?
— Не берем. Если вы спуститесь на трассу, то впереди будет бензоколонка и торговый комплекс. Там меняют, при покупке, на кассе любую валюту.
— Черт, — мне явно не везло сегодня во всем — И зачем я поперся в эту Швейцарию, если можно было идти через Австрию. Там, судя по Германии, полиция поприличней. А здесь…
— А что случилось? У хозяина явно было и время, и настроение поговорить. Туристы сюда заскакивали только случайные и не так часто.
— Да ничего особенного. Глупо попал на большой штраф, никто не предупредил о платных дорогах. Да и полицейские, исполнительные, как гестаповцы, попались. Подраздели. И деньги есть, а толку?
— Случается, — кивнул головой хозяин — Как нарвешься. Может в туалет надо? Я бесплатно открою.
— За экологию испугался, — зло подумал я — А может и вправду обоссать хотя бы их дерево?
Но деревьев вокруг околачивалось много, а я был один.
Туалет оказался чистым, как трусы жандарма. Пахло ананасом, а над умывальником висел аппарат с богатым набором презервативов: на любой вкус и цвет. Всё для культурного отдыха. Без лишнего напряга.
Я бережно прикрыл дверь, благодарно отмахнулся рукой хозяину и пошел на травку, вдыхать горный воздух и собираться — опять на трассу. Кататься там я уже мог хоть целый год.
— Эй, — кто-то осторожно тронул меня за плечо — Возьми, перехвати пока поедешь.
Хозяин киоска положил рядом со мной пластиковый стакан с кофе, сок и булочку.
— Так у меня же пока нет ваших франков?
— Ну и что? Возьми…
— Может хотя бы доллары примете? — завел я свою волынку.
— Не надо. Я же не полицейский.
И мы оба рассмеялись. От души.
Люди всегда и везде найдут общее. Надо только обязательно что-то потерять…
Собаки
Она боялась собак и переходила на другую сторону улицы, если впереди появлялась даже зачуханная дворняга. Для нее не имело значения, большое это животное, бойцовское или маленькая болонка. Даже щенок.
Само понятие «собака» было чем-то враждебным и опасным. И ничего хорошего она от них не ожидала. Как, впрочем, и от людей.
Но людей еще можно было предсказать и обезопасить себя. А с собакой она чувствовала беззащитность, как ребенок перед неуправляемым животным, у которого черт его знает что варится в голове. Но уж точно не любовь к ближнему. Так ей казалось.
Она не застала еще моду на домашних собак. В ее времена люди жили небогато, но тянулись друг к другу. После работы сидели во дворах, играли в домино или шахматы, пили вместе, сообща гуляли на свадьбах и на похоронах.
Тогда жили плохо, поэтому много встречались, ходили в кружки в какие-то Дома культуры, пели хором или шили группами, принимали гостей и сами охотно ходили к соседям.
И им не нужны были собаки.
У них и так было с кем поговорить.
Поэтому она нечасто встречалась с собаками, только на улице, но там, как я уже сказал, можно было их обойти или отогнать, закричав как можно громче.
В июне 1941 года, когда началась та страшная война, ей было семь лет и она жила в Бобруйске, маленьком белорусском городке. Чистеньком и тенистом. Словно их дом, который соседи разграбили сразу же, как только он опустел.
Немцы взяли Бобруйск спустя несколько дней после начала войны. Но она с девятилетней сестрой и беременной, почти на сносях, мамой, бежали на восток. Все равно какой дорогой, но на восток, куда уже отступали потрепанные советские части и тысячные рваные колонны таких же, как они, горемык-беженцев.
Ее отец, парикмахер, никогда не державший в руках оружие, сразу после объявления войны взял чемоданчик со сменой белья и пошел добровольно в военкомат за винтовкой, чтобы защищать ее, сестру, жену и Родину.
Больше они о нем не слышали. Но, собираясь, почти не глядя, словно стесняясь, он сказал, чтобы они уходили, бросив дом, все нажитое, и бежали.
Отец говорил, что немцев, если не он, то другие остановят, но только непонятно, когда. Понятно, что где-то на востоке. И они снова встретятся дома.
И ушел на фронт. И они пошли. И немецкие самолеты летали над дорогой, забитой беженцами и военными, и стреляли по ним сверху, как в кино. Но в жизни люди прятались по кюветам и затем, торопливо закопав убитых, если это были близкие, шли дальше.
Солдаты, угрюмые и уставшие, подвозили временами ее и беременную мать на телегах вместе с ранеными. Они не разговаривали даже друг с другом, но всегда давали сухари и что-нибудь поесть. Солдат она запомнила с благодарностью — на всю жизнь. Наши.
А ее сестра, на два года постарше, просто бежала, держась, за телегу, и почти никогда не ехала. Но и не плакала. Вокруг происходило что-то страшное, и надо было просто идти, чтобы выжить. И ни о чем не думать, кроме дороги и еды.
Так они шли и шли несколько дней подряд. У ее матери совсем опухли ноги, и большой живот уже не давал возможности двигаться.
А тот июнь был сухой и жаркий. И однажды мать почти свалилась без сил, и они с сестрой положили ее, пузатую, у дерева и пошли в какой-то хутор или в деревню неподалеку. То ли белорусскую, то ли уже русскую, кто там разберет. Да никто и не разбирался.
Они хотели принести матери воды, а может, если повезет, немного еды. Но главным в жару и в пути все-таки была вода.
Они зашли в крайнюю хату и постучались. На крыльцо почти сразу вышла босая, крупная, как им тогда показалось снизу, довольно молодая женщина с большими и красными ногами.
— Что? — закричала женщина на них, усталых, замученных дорогой и, наверное, грязных детей, семи и девяти лет от роду. — Что, воды захотели? Идите отсюда, жидовки, вам Гитлер подаст.
И спустила дворовых собак. И те сразу бросились, лая.
Собаки как люди, им только дай команду.
И дети бежали, шалея от страха и беззащитности, обратно к дороге, где умирала их мать и пыльные, в обмотках, уставшие красноармейцы плелись куда глаза глядят. На восток.
И с тех пор она всегда боялась собак.
И я — тоже.
Потому что матери передают нам не только свою любовь, но и свои страхи.
В духе времени
Слава шел навстречу по улице как-то странно. Не то, чтобы прихрамывая, но припадая на одну ногу. Несильно. Так не ходят, когда действительно болит нога. Разве что, если немного натер, одев тесноватую новую обувь. — Бандитская пуля? — я попробовал его поддержать, сочувственно — Или подагра долбанула? — Бог миловал пока, — открестился Славик — Это все народное целительство. Исконное.
Он весь, словно засветился изнутри. Ожил и даже поднял указательный палец вверх. Я невольно отследил туда же, но ничего не увидел. Небо как небо. Ни жарко, ни холодно.
Но понял, что дело плохо. Может и не со здоровьем. С ним, самим — А что такое?
— Ты слышал, — завелся Слава — О многообразии человеческой стопы? Там расположены точки всех органов тела. Все.
Он внимательно, даже пытливо, как следователь с похмелья, посмотрел на меня. И я проникся.
— Слышал. Восточная медицина, это как президент — не хухры-мухры.
— Вот… — назидательно продолжил Слава — Но, кроме точек, там есть свои меридианы. Как отпечатки пальцев. Приглядись. И они — его палец уже ходил вправо-влево около моего носа — изнашиваются, как и весь организм.
— Надо ходить везде босым? — вспомнил я где-то прочитанное из актуальной современной литературы. — Нет, ни в коем случае, — победно объяснял Слава — Все проще и целебней.
Он снова выждал паузу. — Слушай и запоминай. Надо нарезать лук, он же тоже меридианами, кольцами произрастает. Это не случайно. В природе ничего случайного нет. Ты это должен знать. Я сразу согласился, раз должен. Но не выдержал — Случайного нет. Кроме человека…
— Так вот, — Слава, к счастью, пропустил реплику мимо себя. Иначе мы бы задержались очень надолго — Надо нарезать лук, желательно красный. Он ближе к крови, потому и красный. Меридианы на стопе стираются, когда ходишь и, таким образом нарушается биоэнергетический баланс и заземление. Человек ведь от матушки-земли свою порцию заряда на жизнь получает постоянно. И эта энергия идет через подошву по меридианам к жизненно важным органам. Стерлись меридианы и сбиваются энергетические потоки, не туда идут. В никуда. Не спиралью, как надо, а прямо. Понимаешь?
— Да мне и так всё параллельно, — удивился я. — И что?
— Вот… — Опять, словно подвел невидимую черту, Слава — Нарезаешь лук и кладешь его на стопу. Как на багет. А побольше кладешь за пяткой, там где ладья, изгиб. Слабое потому что место. И так ходишь хотя бы день-два-три в неделю. Чтоб меридианы сошлись, а сок, как проводник, энергию пропустит. Половина болячек сойдет. Не сразу конечно. Но довольно быстро. Понял?
— Да, — сказал я. Потому что всегда так говорю, если нЕчего. Но понял, почему вокруг Славы шел суровый, как басмач в сапогах, аромат лука и отчего он припадал на одну ногу.
— А почему на одну ногу? — вслух переспросил я.
— Ты тоже об этом слышал, раз знаешь, — обрадовался он — Все должно быть поэтапно. Любое лечение. И профилактика. Сначала одна стопа, потом другая… Народная медицина она, брат, спешки не любит. Но зато давиться в поликлинике за рецептом не надо, в аптеку большие деньги нести. В природе все продумано — все под рукой. Вот, например, у тебя геморрой.
— Нет у меня геморроя, — испугался я.
— Нет, так может быть, — рассудительно продолжал Слава — Сегодня нет, а завтра проснулся утром, потянулся в постели и — оп! Ты думаешь, надо к врачу сразу бежать? Зачем себя мучать? На даче огурцы растут?
— У меня нет дачи. — Хорошо. У кого-то растут? Растут. Тут по телевизору врач-целитель, тоже народный, показывал доступное и эффективное лечение. Берешь свежий огурчик, только не срывая его, чтобы энергетика от земли не нарушилась. Короче, берешь этот огурчик, аккуратно, бережно, как… ну, ты сам знаешь что, самое дорогое для мужчины. Затем присаживаешься, спускаешь портки и вставляешь, куда надо.
— А куда надо, — растерялся я, чувствуя, что теряю энергопоток и земля несколько пошла из-под ног. По меридиану — Огурчик же для закуски. В рот. Выпил и закусил…
— Не всегда, как видишь, — Слава уже торжествовал. — Или вот, кстати, о водке — Тебя замучил алкоголизм и ты хочешь от него избавиться.
— Я не хочу, у меня его нет, — мне уже становилось жарко и без спиртного.
— Ну, хорошо, — примирился Слава — Не у тебя. У жены. Знаешь, какой простой народный способ — и все, как рукой, снимет?
— Какой? — почти прошептал я, сдавшийся.
— Ловишь клопов-малинников, в кустах. Настаиваешь неделю на водке и даешь алкоголику. Можно вместо клопов, червей или жука-навозника.
— Может уж лучше молитвами? — возбудился уже я. — Простенько и со вкусом, в духе нашего времени. — Можно и так, — не сдавался Слава. Он всё уже знал.
— Связываешь вожжами ноги пьяницы и сорок раз быстро читаешь молитву — Течет винная река, бражные берега, на ней мост золотой, бежит по мосту конь гнедой: ноги у него железные, голова каменная, зубы у него костяные, губы у него ледяные, вожжи на коне стальные. Кто тебя, конь, запрягал? — Мертвец. Господи, благослови… Молитв на это дело полно. Есть и попроще. Бутылку водки в карман сунул и дождался пока похоронная процессия покойника мимо пронесет. Потом в свежую могилку ее закопал на сутки. Вытащил. Прочитал молитву или я прочитаю, если надо и налил оттуда в стаканчик. Высокая вероятность, что человек пить бросит. И так на все хвори.
— А ты откуда знаешь? — удивился я.
— Вот видишь, — Слава был на вершине своей славы. Когда-то, в институте, мы его всерьез не воспринимали. Никакой. Даже не активист. Жил, как положено. Как скажут. Потом, когда распалась страна, я встретил его с горящими глазами. Оказывается, он узнал, что при Сталине сажали миллионами и было много невинных. — Виновные, понятно, что сидели в лагерях за дело. Раз суд был. Но невинные? Все же скрывалось. Демократия торжествует и у нас — захлебывался Слава — Как в Америке. А бедные и угнетенные на Западе — чистое вранье.
Я как раз тогда только приехал из Америки-Европы и попытался было возражать, что мол и там не все так просто. Всё есть, разное. И стучат, даже еще больше: только не столько в местное КГБ, сколько начальнику на работе. С той же радостью. И ищи потом ее, работу, когда счета валяться каждый день. На все четыре стороны, на свободе. И… Но он не слушал.
Тогда почти все ничего слушать не хотели. Только себя. И то, что говорят по телевизору. — Через десять лет проснутся, — говорил я жене. Но ошибся — через двадцать.
Хорощо думать о людях — это вечная ошибка. Непреходящая, в отличие от времени.
А Славе потом где-то объяснили, что все зло в мире от коммунистов. А там и до евреев дело дошло.
— Но ты нетипичный. Ты нормальный, — успокоил он меня.
И я впервые, всерьез, занервничал.
Еще через десять лет Слава уже поносил те годы своего «просветления» и снова погнал пургу на Запад и америкосов. Но сначала отправил туда учиться и жить дочку.
— Выйдет замуж, может и мне куда в старости можно будет съездить, подлечиться, — мечтательно сказал он тогда и, помолчав, добавил: — Да и на жилье бабушки претендовать не будет. Пока я жив. А там…
Сначала они зарабатывают деньги «на глупой Америке» или Европе, а потом, скопив капитал, едут туда жить. Но у Славы не получилось. Не подпустили. Кормушек всё-таки меньше, чем ртов.
Последние годы, как оказалось, он отошел от дел и работы по специальности. Все равно уже не брали, по возрасту. Брали только своих. Уже не по принципам, а наоборот, по беспринципности. В духе времени.
Слава погоревал немного над несправедливостью мира и занялся изучением народного целительства. А также, как он объяснил, мудрено, но красиво, энергосбережением организма при недостающих ему компонентах. Путем применения мумие, похожего на обычную смолу, а также подручных овощей, молитв и позитивного отношения к жизни.
Куда ж без него, если больше ничего не остается. Тем более, что жена ушла, забрав квартиру и все остальное. Слава оборудовал дома у матери кабинет, закрывая ее на ключ в часы приема, чтоб не пугала посетителей бодростью своего духа.
Он обставил комнату, убрав лишние, отвлекающие от жизни, книги. Натыкал углы и стеллаж иконами со свечами. Короче, тоже в духе времени. Нановремени. И тихонько стал консультировать, пройдя, на всякий случай, для отмазки от неумолимого соседского доноса, пару несложных курсов. Но зато с мощными сертификатами, чтобы было что повесить на стену вместо устаревшего Хемингуэя и ненужного, кроме положенных по телевизору дней в году, Высоцкого.
И еще, он начал лечить гомеопатией и народными средствами.
Тем более, что народ, в массе, снова стал верить в чудо. Людям же много и не надо. Главное, вера в лучшее и доброе.
Прочее они оторвут друг у друга и так.
— Ты, если что надо, приходи, — сказал он, поворачиваясь вслед за мной. Ищущему пятый угол, где бы ветер, проходящий через Славу, смешиваясь с луком, дул бы мимо. И выходил мне не боком, а по боку. — Проконсультирую бесплатно, для своих. Посмотрим, что у тебя там не в порядке. А у каждого человека, особенно в нашем возрасте, что-то уже надломилось. Или, того гляди, обломится.
— Если обломится, то скорее кому-то, — съехидничал я, прощаясь.
Но он снова не услышал. Да и зачем? У него свое энергетическое поле на личном перископе. С меридианами. Только слушай, удивляйся глубине знаний и крученым спиралям этого мира. Если деньги есть.
От нас, стоящих рядом, похоже, так несло луком, что даже бездомная собака подошла было поближе, но потом замерла и резко, почти галопом, сорвалась в сторону. Потому она, может, и неприкаянная, что живет в своих устарелых координатах и привычках.
Духа времени не знает.
Нелюди
Один человек мне сказал, что все евреи братья. И я сразу понял — антисемит.
На том они и стоят. Только антисемиты выделяют евреев среди других и считают их особенными — самыми талантливыми, самыми инициативными, самыми дружными, самыми плохими, но все равно «самыми».
Только эти люди полагают, что евреи кучкуются из большой любви друг к другу или устраивают мировые заговоры, поскольку живут в разных странах и, в отличие от неевреев, не знают, чем заняться, кроме как плести лапти для остальных народов.
— Они друг другу помогают, — сказал мне один человек. — Пристраивают, расставляют по теплым местам, деньги дают…
— Прямо, нелюди, — искренне удивился я.
Мы сидели в социальной государственной квартире на окраине Берлина, где мне пришлось ждать своего товарища по прошлой жизни. Товарищ задерживался, и его отец, которого я раньше лично не знал, от нечего делать расспрашивал меня о житье-бытье. Он перебрался в Германию несколько лет назад, смотрел эмигрантское телевидение, читал «русские газеты» и, поскольку получал полное государственное обеспечение, считал себя свободным человеком.
Человека звали Адольф, и он был немец, но считай, что русский, хотя и говорил по-немецки. Адольфа в восемнадцать лет призвали в СС, но он воевал недолго и попал в плен. Вместе с другими арийцами его направили в Россию, где они отстраивали разрушенные ими же города. Там он и познакомился с девушкой Марусей, нашел общий язык жестов и остался.
«Дойчланд, Дойчланд юбер аллес…». Только вот кому-то «юбер», а кому-то «аллес».
Он всю жизнь проработал экскаваторщиком на стройке, от звонка до звонка, и ушел на пенсию с чистой совестью.
Но про СС никому не говорил. И про евреев тоже.
В гитлерюгенде его учили, что коммунисты — это агенты мирового еврейского заговора, которые свершили революцию в России. Однако встречая членов той еще партии, он пришел к выводу, что Гитлера обманули.
— Коммунисты тоже не любят евреев, потому что те заправляют в Америке и на Западе. Они поссорили Германию с русскими и спровоцировали войну, а надо было идти вместе.
Я уже понял, что стакан чая на кухне казенной квартиры — слишком высокая цена за поддержание его разговора. Но спорить не хотел. В спорах истину не рождают, а закапывают. Рождают ссоры.
— Вот ты, — продолжал Адольф. — Уехал из страны позже моего сына. Пособий и компенсаций, как он, не получал, а уже пристроился в Англии на хорошую работу. «Ваши» тебе наверняка помогли. Все евреи братья — не то, что мы.
Когда кто-то говорит, что он мне брат, пора срочно проверять карманы. Пока не поздно.
Но я не стал ему это объяснять.
Если люди полагают, что все евреи братья, зачем их отговаривать?
Пусть хоть кто-то считает тебя избранным, ежели Бог попутал.
И уважает, чтобы при случае унизить. Хотя бы до себя.
И опасается, даже если потому и ненавидит.
Стоит ли разочаровывать тех, кто и так никого не любит?
Все в этом мире можно понять. Кроме женщины и антисемита.
Один человек мне сказал, что все евреи — братья.
— Это в нашей традиции еще с библейских времен, — бойко ответил я и, глянув на тронутые артритом времени линялые руки Адольфа, подумал: «Еще от Авеля и Каина».
Бегство
Это была небольшая комната. Одно окно, справа и слева — по две кровати. Железные, с панцирной сеткой, накрытой казенным матрацем, белой простыней и синими одеялами. Больница. Общая палата на четверых. Я уже был здесь вчера. Пожаловался, что мы теперь как-то вдруг оказались уже в независимой Украине и я нигде не смог снять со счетов деньги — не выдают. Говорят — нельзя. А когда можно — неизвестно. Валютные операции, как и раньше, запрещены и подсудны. Троих малых, несмотря ни на что, кормить надо, и четвертый через пару месяцев на подходе, а я бегаю по знакомым с просьбой купить по любому курсу привезенные с Запада доллары и британские фунты.
Зря я ей это рассказывал.
— Тут еще и мои болячки на твою голову, — только и сказала она. И попросила вареной домашней картошки.
Я и приехал утром, с еще теплой, завернутой в полотенце кастрюлькой, огурчиками и фруктами. Но понял уже в коридоре: что-то не так.
— Деньги надо платить. Все, евреи, жметесь, — зло пырнула меня на ходу какая-то нянечка. — Ночью говно за вами убирать…
После шести лет жизни в Нью-Йорке и в Лондоне я и не знал, что нянечкам надо доплачивать в руку за уход, а врачам давать деньги отдельно. И когда мне в больнице говорили, что ей может помочь только новое вливание крови и его введут, если я принесу справку о том, что на станции переливания кто-то сдал свою, мне и в голову не приходило, бегая по городу в поисках доноров, что на самом деле с этими людьми и в этой стране все решалось иначе. Мне просто намекали — дай денег. Так они здесь разговаривают друг с другом и так живут. Одно говорят, а другое думают. И за себя. И за тебя. Додумывают. Но только важно понять — что. И все сделают. И можно не бегать.
А я, выходит, не давал. Более того, по их представлениям, жалел, подонок.
За шесть лет перестройки их уже довели до скотского состояния, чтобы вскоре выпустить на свободу ненавидеть друг друга и рвать свои и соседские глотки, пока пастухи в кабинетах будут прятать свои партийные билеты и делить их пастбища, шкуры и кошары. И сбрасывать в никуда их общее прошлое — во имя очередного, уже личного, светлого завтра.
Для меня завтра и наступило, но сегодня.
Когда я вошел в палату, женщина с одной из кроватей встала и вышла. Больше я ее не видел. Зато другая, помоложе, пристроилась на боку и читала книгу. Я заметил это машинально, не приглядываясь.
А на кровати, той, что ближе к выходу, тяжело дыша и всхлипывая, лежала она.
— Уходит, — сказала медсестра, сделав укол. — Вы вовремя приехали…
Час или два, пока длилась агония, я сидел с ней, держа за руку и бессильно втыкая воздушную подушку в стенной штекер, когда она просила воздуха. Что-то нереальное совершалось вокруг. Что-то само по себе происходящее.
Вдруг ее глаза прояснились, она внимательно посмотрела на меня, приподнялась и назвала по имени. Потом откинулась и затихла, как выдохнула. И маленькая круглая слезинка побежала по щеке, высыхая, из уголка уже закрытой левой глазницы.
— Вы повезете ее в Израиль или мы отправим в морг на вскрытие? — спросила подошедшая сестра.
— Какой Израиль?
Молодуха на соседней койке шуршала листками своей, наверное, интересной книги. Она так и лежала все это время, переворачиваясь поудобнее — к свету. На тумбочке рядом с ней стояла иконка какого-то нарисованного святого…
Я в долгу не останусь
— Справку о смерти мы вам выдали, — сказали наутро в больнице. — А тело надо забрать завтра к полудню. Холодильник забит. Мест нет…
Надо было куда-то идти и что-то делать.
Похоронное бюро размещалось в двухкомнатной квартире облупленного желтого двухэтажного дома, которые строили после войны военнопленные немцы. В комнате с обшарпанными грязными полами, в шелухе семечек, у обогревателя за канцелярским столом сидела, откинувшись, одетая по-зимнему обвислая тетка неопределенного возраста. В углу стояли набросанные пластмассовые венки с матерчатыми цветами-розочками и еще что-то несусветное.
— Хороните где хотите и как хотите, — сказала тетка. — Договаривайтесь сами, где сможете. Гробов у нас нет, материи нет. Машин — тоже. Ничего нет. Вон венки и в соседней комнате — руководитель духового оркестра.
— Отыграем по полной, — жизнерадостно пахнул перегаром свежего портвейна уже с утра свободный музыкант. — У нас клиенты никогда не жаловались…
Бензина в городе не было. Вернее, он был, как и все остальное, но по двойному тарифу и из-под полы. Я рванул к товарищу, местному, и потому знающему, что, где и как.
— Значит, так, — сказал он, вытаскивая из сарая две булькающие канистры, — пока тебе хватит. Езжай на кладбище, договаривайся о месте на могилу. Гроб до утра сделает сосед — он столяр, сколотит, доски у него есть. А нет — так найдет. Только это за срочность будет стоить…
— Да о чем ты…
Товарищ научил, как договариваться с людьми по-человечески. Это оказалось просто. Надо говорить: «Я в долгу не останусь» и, если нет свидетелей, вытаскивать деньги.
Директор кладбища со странным названием «Красный пахарь» сначала сказал, что мест у него нет, но, увидев доллары, передумал.
— С рабочими, которые будут копать могилу, договаривайся сам, — сказал он, довольный. — Учти, что земля промерзшая — работы много. Дашь рублей, сколько скажут, и по две бутылки водки на брата. Можно по три, — крикнул он мне уже вслед.
В большом универмаге, где был специализированный отдел для похорон, у меня случился поначалу полный облом.
— Ничего не получится, — отрезала продавец, вся в белом, с кружевами на форменной синей шапочке. — Мы продаем материю и тюль на гроб только по талонам. Талоны можно получить по месту работы. Если не работаете — это ваши проблемы. Или принесите справку от профсоюзного комитета умершего. А так, частникам, мы не отпускаем…
Она была румяная и белокожая. Хоть в гроб ложись. И очень принципиальная: то ли дура, то ли вымогатель. Их трудно отличить.
— Никакие деньги брать не буду. Ну и что с того, что завтра хоронить… Не суйте мне свои доллары. Думаете, все можно купить?
От срыва и милиции меня спасла заместитель директора. К долларам она относилась более терпимо, чем ее непродажный продавец.
— В долгу не останусь…
Если ты в беде — это праздник на соседней улице. А на нашей — тем более.
В январе темнеет рано, и я еле нашел в районе подслеповатых частных домов адрес столяра, куда наконец отвез рулоны материала и тюли.
— Обобьем, — сказал мужичок, на мое счастье уже нашедший доски, а главное — сам в добром здравии и настрое. — Что подметать и подшить, так это сватья сделает. У нее и швейная машинка есть. «Зингер» немецкий, не абы что. Завтра к полудню и заберешь.
— В долгу не останусь…
Уже вечером я завез доллары и ключи от нашей квартиры товарищу. Он с женой были единственными в этом мире, кто оказался рядом, и главное — мог ли реально помочь.
— Обменяйте деньги, купите, что надо для поминок, и будьте дома. Я с детьми приеду после похорон.
Единственное, что оставалось и, похоже, не имело простого решения — грузовая машина. Да еще завтра до полудня.
— Я не знаю, где взять, — развел руками товарищ. — Поспрашивал, нет ни у кого. Мини-фургон еще можно поискать в службах быта. Но они все по разнарядкам с утра разъезжаются. Можешь не успеть договориться. Поехали, пока не замело, бензин зальем. А то встанешь посреди дороги, запасов у меня уже нет…
Около двух ночи я добрался домой. Дети спали. На кухне еще не совсем остыла картошка. Жена слушала. Я пил и рассказывал. Рассказывал и пил.
А с утра, по морозцу, поехал к… главному мебельному магазину города. Там всегда стояли грузовые машины. Мебель и гробы здесь в маленьких не возят.
Поймать свободную машину оказалось непросто, даже за деньги.
— Ну, это ж часа на два-три, — неспешно прикидывал водитель, принюхиваясь, как бы не продешевить, по максимуму.
— В долгу не останусь…
У больницы на морозе уже ждал Семен Иванович, замечательный русский дядька, бывший шахтер на пенсии, с которым мать встречалась свои последние годы. Он всегда молчал и только смотрел на нее. И в это утро тоже ничего не говорил, но так же молчал и плакал.
Он и повез ее. В кузове грузовика с надписью «Мебель».
Я с остальными — в машине, на хвосте.
За городом к тому времени разгулялась сильная метель. Январский ветер бесплатно выл, как сто нанятых плакальщиц, и поземка крутилась в воздухе, закрывая все на свете белым пронзительным крошевом.
Работяги опустили гроб, получили свои бутылки и стали забрасывать могилу каменистой мерзлой землей.
— Я пойду, — сказал Семен Иванович, — подожду у машины.
Он стеснялся, что слезы сосульками свисали у него на носу. И еще хотел остаться один. Он один и остался.
Мы встали кругом: пузатая, на седьмом месяце, жена, я и еще трое детей, на ветру и вьюге. Мы охватили друг друга руками, как могли, где доставали. Посреди кладбища, одинокие, но единые. Посреди всего этого гребаного мира живых скотов и мертвых людей.
— Ничего, мы-то есть, — сказала старшая одиннадцатилетняя дочь.
Младшие промерзли, но молчали. Нас было уже много, живых, а будет еще больше. И жить мы должны дольше и лучше.
— Конечно, мы — есть. Я в долгу не останусь.
Эта сладкая жизнь
Соседка остановила меня у дома. — Это конечно не мое дело, — комкала она — Но ваша мать была хорошей женщиной, а я слышала в домоуправлении разговор, что квартиру у вас отберут. Жидовка мол умерла и пусть ее сынок убирается в свою Англию или там Израиль.
Наутро, отправив детей в детсад и школу, я сел на машину и поехал за две тысячи километров — в Минск. Покупать квартиру. То, что из Донецка надо уезжать для нас было очевидно.
Осенью я не успел найти жилье. Объявлений было много, цены устраивали, но почему-то, встретившись, когда ты говорил «я согласен», начинались проблемы. То еще квартира не приватизирована, то каких-то разрешений нет. Я совершенно не понимал, как живут все эти люди. Они чего-то хотят, так и не приняв решения и стараются получить, но отдавать при этом не готовы.
Иногда казалось, что они словно играются, себя потешить. Всю жизнь от аванса до получки, а тут раз — и хорошие живые деньги, вот они ходят…
Телеграмма о том, что мать снова попала в больницу, сорвала тогда новые поиски. Но на этот раз, я уже не медлил. И мне как-то сразу повезло. Мужичок, уезжавший в США, срочно искал покупателя на свой кооператив в самом центре города. Я правда хотел купить квартиру в большом каменном доме, «сталинке», но выбирать не приходилось — роды были на носу, а кто останется с детьми дома? Зато в Минске все бумаги у продавца были готовы. Мы быстро заключили сделку. Я расписался за копеечную сумму, а передал ему другую, намного больше. Такие у них здесь игры. И один Господь может знать, обманули тебя, взяв деньги, или нет. На этот раз, не обманули.
Но в Донецке меня уже ждал новый сюрприз. Дверь квартиры была заклеена по всем правилам — бумажка, подпись, печать.
— Вы не наш гражданин, — сказал мне подполковник местной милиции в паспортном столе, предварительно приказав оставить сумку в соседнем кабинете, а вдруг, говорит, там микрофон спрятан — Вид на жительство вы получили полгода назад, еще в СССР, на основнии ходатайства матери. Теперь ни Советского Союза, радуйтесь, ни вашей матери нет. Так что квартиру мы заберем.
Позади него вместо большого красного флага с бахромой уже стоял новый желто-блакитный стяг. А на месте портрета Ленина висела какая-то картинка, но не с выставки. — Власть новая, а рожи те же, только уже наглее — подумал я, но ничего не сказал. Некому. Было тошно…
Еще через неделю мне вырубили проплаченную на полгода вперед сигнализацию и отключили телефон. — Нам так приказали, — объяснили мне в трубку какие-то неназвавшиеся тетеньки. Я подал заявление-жалобу в районный совет — все еще местная власть. Между тем, дома дело уже шло к рождению очередного малыша. Жизнь, забрав одного самого близкого, через два месяца, словно возвращала мне другого.
На заседание их, уже непонятной, власти пришли какие-то квадратные дядьки, похожие на обрубки, с высоко стриженными затылками и недовольными партийными рожами. — Господи, — подумал я тогда — Словно и не уезжал…
Через пару часов, насовещавшись, ко мне вышел… тот же подполковник. Он был доволен собой и жизнью. Она у него удалась. И тогда, и теперь.
— Уезжайте по-доброму, сказал он, наслаждаясь — Иначе будет плохо. «Ваши» уже почти все уехали. Но и продать квартиру мы вам разрешения не дадим, не надейтесь…
И тут жену прихватило рожать. А я понял, это — война. Самая настоящая. Только необъявленная. Кому-то — добыча, а кому-то — головешки. Война, похожая на ту, что была в детстве у моих родителей, когда та же мама, еще ребенком, бросив дом, бежала в эвакуацию. И где-то в Казахстане с сестрой бродяжничала, продавая на базаре воду, пока их не подобрали и не определили в детский дом. Мать рассказывала, что накануне какие-то казахи хотели ее удочерить, и была бы она казашкой, а не еврейкой. Но старшая сестра не позволила. С тех пор звучание «Казахстан» всегда вызывает у меня уважение.
Но здесь — бороться с четырьмя малышами на руках с новой, оборзевшей от запаха передела собственности властью, может, и можно было, но долго, нудно, выматывающе и из положения «снизу».
— Это война, — сказал я себе, — надо брать детей и просто спасаться, увозить. Квартиру другую я уже в Минске купил, не зря в Лондоне работал со сверхурочными. И незачем на ублюдков тратить силы и время. Ни мне, ни детям эта борьба ничего не даст. «Их» власть. Как, впрочем, и была.
А тут родилась девочка. Опять. У детей праздник жизни — сестричка.
У меня — торжество везунчиков.
Надо было видеть лица и глаза соседей, когда два дня они прибегали ко мне, скупая все, что осталось от близких и от нашей, теперь уже, прошлой жизни. Я не очень понимал в ценах с галопирующей инфляцией, да и торговаться не умел, но что такое настоящая алчность в глазах никогда ни до, ни после этого не видел. Это была такая вопиющая влажная и липкая слизь, особенно когда они переглядывались, называя цену и рассказывая как сегодня трудно жить. А потом, видя, что не спорю, снова опускали цену еще ниже. И колотились. Их знобило до самых прожилок — от неожиданно свалившегося праздника везения.
Через два дня в доме не осталось ничего. Пусто.
В сарае, напротив, тоже пустом, разве что с инструментами и лопатой, я поставил дОбытые четыре канисты бензина на дорогу и в последние пару ночей не стал его закрывать, оставив приоткрытую щель. Даже и не помню — почему.
В тот день я взял купе на поезд Донецк — Минск для двух младших, жены и грудничка, нескольких дней от рождения. Затем забрал их прямо их родильного дома и отвез на вокзал. Завтра к обеду они будут в Беларуси, а я, вместе со старшей, на машине покрою почти две тысячи километров и встречу их в Минске.
Канистры с бензином пошли в багажник, заднее сиденье сполна загрузилось радио и видеоаппаратурой, я попрощался с домом — и мы рванули в ночь, через всю Украину, к Киеву — и на север.
Когда мы въехали в гомельские леса было уже вовсю утро и я, похоже, укладывался в график. Мы начинали полностью новую жизнь — одни, опять, с ничего, с нуля. Война…
Но тут произошло то, с чем мне очень многие непростые жизненные обстоятельства и сегодня сравнить трудно. Бензин снова пошел к половине бака. И я, остановившись в лесу, вытащил из багажника последнюю полную канистру. Дочка, уставшая за дорогу, радовалась, что скоро она увидит всех своих вместе, в другом городе и даже в другой стране. Для детей все это было приключением. И хорошо.
Мы тронулись, но неожиданно машина зачихала и встала. Не хватало только на пустой трассе с дорогими вещами и всеми семейными деньгами в кармане встать с поломкой.
Но мне снова повезло. Первый же грузовой трейлер остановился. Водитель, посмотрев на меня и на ребенка, деловито полез в мотор. Повозившись, он выглядел не менее растерянно, чем я.
— Послушай, парень, садись в машину, возьмем трос и я дотащу тебя до Минска, сам туда еду. Но у тебя хлопот не оберешься. Надо будет промывать всю систему заново. Сахар тебе сыпанули в бензин, вот такие дела.
Как же так… С соседями не ссорились, не подсиживали — наоборот. Забрали дом, сбережения, мать, забрали подчистую, что было нажито родными. Забрали новый, только что отстроенный кирпичный гараж во дворе. Всё — кроме детей. И, надо же, залезть ночью в сарай и сыпануть сахар в канистру? А если бы она попалась мне раньше, глубокой ночью, в украинской степи. Что-то хрустнуло внутри.
Один человек мне сказал, что мир погряз в грязи. — А ты сажай цветы, — ответил я. И подумал — Если не задумываться о такой глупости как жизнь, то жить хорошо…
Фима
Фима оставлял машину за городом на бензоколонке, а я подбирал его в условленное время и отвозил домой. Он ложился на заднем сиденье, оглядевшись, бегом пробегал десять метров до подъезда, чтобы нырнуть туда и проскользнуть в квартиру. Дети знали, что двери нельзя открывать никому и говорить нельзя никому, что папа дома. Русская жена Фимы прятала его от соседей и полиции.
Словно жили они в оккупированном нацистами европейском городе времен Второй мировой, а не в Израиле.
Тех, кто прятал евреев от нацистов называли «праведниками мира». «Праведница», — говорил Фима о жене, когда мы молча наливали по рюмке «паленой» русской водки, купленной в близлежащем кошерном магазине.
Настоящего в этом мире мало, даже водки. Точнее, настоящее стоит либо дорого, либо ничего. Фима был настоящий.
Он умел дружить, но не умел делать деньги. Он их зарабатывал, а это значит был обречен иметь то немногое, что имел. Не больше…
Достаточно для умного, но недостаточно — для примирения с жизнью.
В свое время Фима хотел зарабатывать хорошо, подался к нефтяникам, и летал на две недели в месяц на буровую в Сибирь. Это называлось вахтовым методом. Деньги он получал относительно неплохие, но через год такой жизни, его жена, вдруг почувствовав как уходит молодость, тоже перешла на вахтовый метод. В маленьком городке, где они жили, скрыть что-нибудь было трудно, но Фима узнал об этом последним, поневоле застукав ее с другим.
Счастье — это когда меньше знаешь. Только у каждого своя мера познания.
Фима тогда не ушел — некуда. И не выгнал ее. Тоже некуда. Скандал ничем не закончился, у них уже было двое детей: от нечего делать, как у многих мужчин. Или для круговой поруки, как у многих женщин. А может и для самозащиты — как и у тех, и у других.
Но когда они переехали в Израиль, он время от времени вспоминал о непоправимом, про себя и с друзьями, наливаясь сам и наливая сначала нам, по полной.
И однажды сорвался.
— Я скажу тебе прямо: у меня своя жизнь, а у тебя своя, — залепила как-то в него жена, приобщившаяся было к новым эмансипированным женским журналам, где описывалось как надо думать и держать себя в очередном поиске осмысленного женского счастья. И Фима, не подумав, так же прямо дал ей под глаз. Не специально — так попало.
Кто-то из детей, уже прошедших правильную израильскую школу, вызвал полицию и его повязали по статье «за насилие в семье». Жена, правда, полагала, что в полиции его припугнут и отпустят. Но она смотрела русские каналы телевидения, а за окном были в основном выходцы из Северной Африки. Как бы евреи, но арабские, И в полиции тоже. А они думали иначе. Особенно о русских.
Евреи, на самом деле, в изначальном виде сохраняются только в диаспоре.
— Жена в молодости — это цветной треугольник. Затем — серый овал. И наконец — черный квадрат, — загадочно бросил мне Фима, когда его в наручниках и кандалах на ногах, словно опасного преступника, привезли в суд.
А я и не возражал.
Выручили его спасенные от жены деньги. Валюта, что бы ни говорили нищие, лучший друг, особенно в беде. Несколько заседаний и столько же тысяч долларов на адвоката закончились для Фимы на редкость благополучно. Он получил пять лет условно, полгода общественных работ и три месяца не имел права приближаться не то, что к своему дому, но даже к родному городу. Так государство защищало его жену. Нарушение этого постановления грозило ему немедленным полуторагодовым сроком в израильской тюрьме.
Поскольку текущие счета к государству отношения не имели, а в семье он единственный ходил на постоянную работу, то ему приходилось тайно выезжать и возвращаться. Мы же, соблюдая правила конспирации, рано-рано утром и попозже вечером, забирали и привозили его домой от бензоколонки или с окраины города, где Фима бросал на ночь свою «тачку».
Он хотел жить, в еврейском государстве, но не в тюрьме.
А что такое государство без тюрьмы? Даже не прилагательное.
На ночь и в выходные его прятали от чужих глаз домашние. Они уже прочухались, но дети вдруг заговорили о новой эмиграции в ту же Канаду, Австралию или еще куда, где можно зацепиться. И Фима тоже. Он вновь созрел для свежих пейзажей и лиц.
Чтобы стать по-настоящему смелым, надо сначала почувствовать себя беззащитным.
И только русская его жена не очень разделяла эти разговоры. Все равно съемная квартирка, все равно кухня и те же магазины. Все равно постылая работа — на выживание. Все равно тот же Фима, наконец. Какая разница, где распылять оставшиеся годы?
Она уже перестала читать женские журналы и купила калькулятор — главный символ состоявшейся семейной жизни.
Но зато у них появилась новая цель. А разве можно жить без цели? Просто жить, бесконечно вылавливая блохастые скидки в пархатом семейном бюджете, казалось скучным и бессмысленным. Оно так и было, но…
Вечерами они строили планы, пересказывали чьи-то успешные истории и замирали от любого звонка в дверь, переходя почти на шепот. А вдруг соседи услышат, что Фима дома и проявят, присущую в этой стране, гражданскую сознательность?
Так Израиль снова объединил их семью, но они это не оценили.
Дети через несколько лет совсем подросли и, не дожидаясь повестки в армию, уехали. Фима к тому времени серьезно заболел и застрял в очереди на пересадку почки. Наконец он нашел какой-то хитрый вариант со страховками и почку ему пересадили в Питере, в России. Операция прошла удачно и Фима вновь почувствовал солоноватый вкус жизни.
Выйдя из больницы, он, одурев от счастья и свежего воздуха, купил себе водки, консервов и жирной колбасы — как в молодые годы на буровой. Водка была настоящая, консервы хорошие, а колбаса вкусная. И почка не подвела. Но Фима умер. От прободения язвы.
Мало того, что еврей, он еще оказался и язвенником.
И ушел один, в чужой съемной квартире.
Но все лучше, чем среди людей. Как в в общей камере.
Ему нечего было оставить после себя и тем самым радовать или ссорить родственников. Смерть обеспеченного человека — всегда лучшая новость для родни. Подарок с неба.
У Фимы же было все, поскольку ничего не было. И жизнь его завершилось так же просто, как и началось.
Мы хоронили его в Израиле, Дети не приехали, потому что их немедленно забрали бы под суд и в армию. Они учились и работали где-то далеко, выстраивая свою жизнь. Фиму, как оказалось необрезанного, уже равнодушного ко всему на этом свете, обрезали за умеренную плату, завернули в саван и закопали.
— Самое лучшее в его жизни уже случилось, — не выдержал я.
— Зато он на Святой Земле, — подхватила русская жена и заплакала.
Ей еще надо было возвращаться в их съемную квартиру и неизвестно сколько времени ждать возможного приглашения от детей. Но об этом почти никто не знал. Пока мы живы, всегда есть что прятать от окружающих.
— Он меня и не бил, — вдруг сказала его жена — Так, разок… А ведь, бъет — значит любит.
Я почему-то подумал об антисемитах и евреях.
И потому промолчал.
Ничто так не оттеняет тщетность жизни, как пышные похороны. И не стимулирует ее жажду, как поминки.
Пока гости для приличия пропустили по рюмочке, проболтались немного, выдали свою речевки и, отметившись, разбежались по неотложным делам, я напился и хотел было набить какую-нибудь полицейскую морду. Но передумал, потому что мало выпил.
Да и полицейские на дороге не валялись. А вызывать их по этому поводу на дом было глупо.
Но и не умнее, чем жить по законам, которыми они защищаются от нас, от всех. Правда, Фима?
Письмо из армии
Когда имеешь дело с людьми, жаль что интуиция никогда не обманывает. А всё потому, что хочется верить. И не просто, а, тупо, в лучшее. Так и случается.
Лучшее — это когда могло быть и хуже.
Гаркун мечтал стать полицейским. Причем, не просто так, а в дорожной полиции. Там деньги не платят. Там дают. Выйди, как предки, на большую дорогу, включи дурака и останавливай прохожих. Стоять скучно, а жизнь должна приносить радость. Значит деньги. Так он мечтал и говорил пару раз, но только об этом. Больше мы от него ничего не слышали. Да и не хотели.
В армии учат не слушать, а слышать. То, что и нужно человеку в этом мире войны. На то она и армия, «школа жизни».
Гаркуна у нас не замечали. И знали только по фамилии. Поскольку на вечерней поверке перед сном, построив всех, по фамилиям и пересчитывали. Иногда по головам. Чтоб не заморачиваться.
В те дни мы работали где-то в тайге, в Забайкалье. Где — даже не знаю. Нас привезли и сбросили. Сначала в вагончики на железной дороге, которую мы рыхтовали. То есть выравнивали.
Рельсы же похожи на людей. Из сильных. Их только ломом и можно выровнять, как нужно. Шпалы — это другие. Их пропитывали креозотом, вонючим и липким, чтобы хватило подольше. Но они все равно, со временем, гнили. Однако, поскольку их было много и дерево всегда под рукой, растет само, кольцо за кольцом, они и удерживали рельсы. Чтоб не шатались, не отваливались, а тянули на своих спинах идущие куда-то поезда с чужим добром и пассажирами другой жизни. Параллельной.
Короче, всё, как у людей.
А мы были солдатами. Не поймешь что это. Скорее костыли. Так называются железные гвозди, которыми шпалы крепят к рельсам. Чтоб там было единство, а сами они не болтались. Потому, видимо, вскоре нас перевезли из вагончиков в барак. Опять непонятно где. Но нам было всё равно. Совсем всё, кроме дат календаря. Главное, ближе к свободе.
Офицеры приезжали с утра и уезжали вечером. Тоже откуда-то и куда-то. Они были почти, как и мы.
Только с говорящим, временами, ртом.
Гаркуна оставили в бараке, который даже стыдились называть казармой. Тем более, автоматы и оружие мы не видели. Их держали от нас подальше. Или пропили. Было лишь самое необходимое для солдата — лопаты, ломы, тоска и затаившаяся агрессия. Которую потом, когда везли через всю Россию обратно, но на Волгу, ребята, подвыпив наконец, выплескивали на гражданских, попавших к нам и в ближайшие вагоны. Не «тот» взгляд — и бросались. Сначала один. Потом, если пытались ответить, стаей. Несколько секунд.
Это называется жить в команде.
Гаркун, как оказалось, только для нас всех был неприметной тихоней. Хоть и здоровый. Белесый, краснорожий от природы и прыщавый, он был себе на уме. Но не больше. Из таких легко выходили в полицаи или, в мирное время, в люди. Похоже, ему не случайно было о чем мечтать.
Но офицер, приставленный к нам, как-то приказал выпустить стенную газету. Больше ничего и не было, кроме работ. Ни радио, ни ТВ, ни даже припрятанных картинок с девками. Хуже, чем в Монголии. Зато газет и журналов выписывали много. Все, что издавалось. Может, потому и офицеры у нас там были действительно грамотные. Хотя, по сути, тоже ссыльные.
А, может, потому и ссыльные. Не знаю…
Гаркун, выступив из строя, сказал, что умеет рисовать. Буквы и слова. А писать и составлять тексты уже оставили меня.
— Считай это преддипломной практикой, когда вернешься в университет, — пошутили ребята. И пошли далеко, в поле. А мы стали делать эту газету, на стену. Всё лучше, чем на нее лезть. Но делали медленно и с трудом. Кому же хочется опять в мороз, на трассу, ежели повезло пересидеть недельку жизни в бараке?
Вскоре мы разговорились и с Гаркуном. Молчать целый день не будешь. Молчать можно о ком-то. А этого у него не было.
Гаркун оказался земляком, из дальней деревни под Гродно. Ему грозил суд за грабеж и избиение соседа, по пьянке, но отправили в армию, к нам в войска. Тоже на перевоспитание. Таких ребят было много, так что ничего особенного. Но я пару раз ловил на себе его странный взгляд, когда, под настроение, неосторожно говорил что-то о студенческой жизни и, конечно, о своей девушке. Чье фото и избранные письма хранил в гимнастерке с военным билетом, в прямом смысле слова, у сердца. У Гаркуна не было ни такого фото, ни писем, ни даже друзей. Ни там, ни здесь. Без них многим спокойней жить.
— Помоги, брат — как-то сказал Гаркун — Ты же земляк. Я хочу переписываться с тремя «заочницами». Так называли девчонок, которых никто из нас не видел, но они решили писать в армию незнакомым солдатам. Чтобы дружить и, может быть, выйти замуж. Интернет для таких придумали потом. Но, по сути, всё уже было и раньше. — Я достал адреса, но что писать, не знаю, — стеснялся Гаркун — Ты грамотный, надиктуй, а я запишу.
— Жалко что ли? — подумал я и согласно кивнул головой. Товарищам по судьбе надо помогать.
«Дорогая Татьяна, меня очень тронули строки Вашего письма. Так о себе может писать только очень хорошая девушка. Видно, что Вы из таких…»
Письма, хотя и разные, мы написали быстро. Писал я, а он переписывал. Потом еще. Но вскоре Гаркун уже не попросил, а потребовал новое послание. Я предложил сделать это попозже. Но он настаивал. И даже обиделся всерьез. Настолько, что полез в драку. Впервые и единственный раз в армии, неожиданно, мне пришлось бить в морду и отмывать от кровянки свою.
Но стало понятно, что ты снова должен: не только вышестоящей, где-то далеко дома, решающей, как нас побольнее дрючить, нечисти. Не только отбросам, всплывающим наверх, чтобы болтаться в проруби власти и топить других. Но и кому-то совсем близко. Рядом оказавшемуся. По виду и обстоятельствам места, такому же. Собрату.
И всё, потому что помог. Даже в мелочах. И значит, подпустил. А, помогая, ты распахиваешь руки, но оголяешь сердце и лицо. И становишься уязвимым и обязанным делать это снова. Поскольку готовность помочь другому, как правило, принимается за слабость. А слабость наказуема всегда. Как и добро, проявленное бездумно. Неразборчиво, как поспешный почерк.
Вот и выходит, что дающий нередко платит трижды, если не смотрит — кому: и своей помощью, и отданным временем, и, наконец, собой.
Как ни обидно признать, но и поэтому тоже люди придумали для общения друг с другом деньги. И никаких вопросов и обид.
Гаркуна я больше не видел. Точнее, не замечал. Как и другие. Не специально. Просто есть люди, которых нет. Он вернулся в свое состояние затишья и страха. Дожидаясь, похоже, большой любви на гражданке с неумными «заочницами», желающими встретить иных ребят, чем те, что вокруг. И выйти замуж. И жить долго и счастливо. И даже умереть в один день.
Как прописано в книгах с названием «сказки». Потому они и вечные.
А не уставы, инструкции и, тем более, законы. Опасные для человека, как погоны дурака. Потому они и временные. Но на нашу жизнь хватит.
Ребята тогда, вернувшись с работ, после отбоя пожарили подмерзлую и потому сладковатую картошку в огромной сковороде. Потом еще, в ней же. Никто ничего не спрашивал и не замечал. Мало ли, что у кого разбито. Заживет. Реальность нас не интересовала. Только будущее. Никто ничего не делил. Каждый брал себе, чтобы оставить другим. Но тем, кто в незримом круге. Так, кругами и строится жизнь.
Остальные, в большинстве, лежали, укрывшись с головой одеялами. Они уже видели свои сны и себя, у картошки, за сковородой. Дома. Или здесь же, но когда придет их время. Короче, всё, как у людей.
Когда я вырасту, то стану маленьким. И незаметным…
Дочь шпиона
Тогда, в Нью-Йорке, я совершил преступление. Но не знал об этом. Даже не задумался. Тот, кто думает, не совершает ничего. А у меня дела вроде шли нормально. Подворачивались неплохие варианты с лучшей и вышеоплачиваемой работой. Но я отказывался.
— Странные вы, русские, — уважительно пожимали плечами друзья американцы. Большинство из них, даже малознакомые, старались во всем поддержать и помочь. Не деньгами, это смешно и унизительно. Но в главном — с работой. Впрочем, и русские были, как правило, такие же. И поляки, оказавшиеся вне дома. И индийцы.
Жизнь подбрасывала удобные и относительно денежные варианты, но в этом для меня была ловушка. Утонуть в чужом болоте. Победно, при всем своем, то есть при зримом заработке. Но дешево.
На жизнь мне и так уже хватало: небольшой, но свой кабинет в «Комитете абсорбции эмигрантов». И редактура журнала «Новый американец», выродившегося из одноименной неудачной и короткой попытки малоизвестного, но живого и талантливого Сергея Довлатова как-то прорваться в этом глухом, но вечно орущем мире. И копеешные, но набегающие отовсюду гонорары. Под псевдонимом Юрьев. Его и знали. Своя фамилия оставалась только для частной жизни. Но тогда, к текущему заработку реального выживания какая разница, как и где зовут? И даже — куда.
А я хотел только своего. То есть работу по специальности. Причем, в Лондоне или в Вашингтоне. Так и получилось. Легко, впрочем, потом сказать — «потом».
Берегите себя. Всё остальное проходит.
Однажды писатель-авангардист Костя Кузьминский устроил у себя при доме очередной «перфоманс». Это когда хочется сказать, что думаешь, но показываешь жестами. Скупыми и потому понятными всем, но не каждому. Весь вечер мы пили пиво, наливаясь рядом с инсталляцией ванны с Костиной женой под зонтиком. Но в купальнике. К нашему счастью. А к закату устроились под деревьями у какого-то стола. Продолжать.
Я мало кого знал из кампании, но двое, сидящие рядом, затеяли громкий разговор о деньгах.
— Доллар всё, остальное ничто, — они дополняли друг друга — Деньги — это главный смысл человеческого существования…
И так, взахлеб, минут пятнадцать.
Я совсем не против денег и не ханжа. Но было что-то скотское в этом уверенном по тону разговоре. Такие всегда безапелляционны и поэтому быстрее пробиваются в жизни. Им некого терять. Так проще. И нЕчего, кроме денег. При них и остаются.
Соседи по столу взахлеб убеждали друг друга. И я это позже не раз слышал, как якобы американскую присказку. Не по отношению к себе, а вообще. Как некую истину. Причем только от русских — Если ты такой умный, то почему такой бедный?
На самом деле подобное ни в Америке, ни в Англии даже представить себе невозможно. Настолько это противоречит самому духу и взаимоотношениям людей, что в США, что на Западе, где любая работа априори уважаема. А любой работающий тоже.
И это даже я, еще недавно приехавший сюда, уже знал.
А они все говорили и говорили: «Деньги…»
Накачавшись пивом, мне вдруг всё это надоело. Так бывает. Как усталость от чуждого собеседника — сразу, резко и по мозгам.
Подпитый, я молча вытащил наугад купюру из кармана. И надо же, оказалась самая большая. Единственная из всех, что лежали в моем кармане. Тогда её, заработанную непросто, было на что потратить.
Сигареты в Нью-Йорке стоили 1 доллар 25 центов, а галлон, почти четыре литра бензина — едва больше доллара. На десятку баксов я почти заправлял бак машины. Ну и что?
Купюра была уже помятая и пахла почему-то осенью. Под красно-желтыми кленовыми листьями вокруг. Красивыми и густыми, как магазины на Манхеттене. Я подхватил зажигалку, прикурил и поджег бумажку. Буднично. Как-то само собой. Она сразу же схватилась огнем вверх, скручиваясь, как стриптизерша на шесте пальцев.
Стол резко замолк. Кто-то замер от ужаса. Кто-то рядом стал хватать её, чтобы потушить.
— Что ты делаешь? Это же деньги!
— Потому и делаю, что деньги.
— Оставьте, пусть горит, — вмешалась какая-то девушка — Красиво…
— Ты смотри, это же нарушение закона — сжигать государственные знаки, — сказал мне, когда я вскоре собрался уходить, законопослушный до идиотизма, рассудительный знакомый, переехавший в Штаты из Иерусалима и потому ставший здесь большим патриотом Израиля. Во искупление.
— Так это ж мои, личные.
— Всё равно нельзя. Оскорбление государства. Да ладно. Но как тебя поддержала продолжение Маклэйна! Красиво горит… — передразнил он.
— А кто это, Маклэйн? — не понял я.
— Не слышал? Тот самый советский шпион из Англии, который наворотил с Филби кучу дел и ухитрился бежать в Москву перед арестом. А его дочь, вот та, в черной майке, с маленькой внучкой, побыв там, потом уехали на Запад.
— А что она здесь делает?
— Что-то делает. И по-русски понимает, и тянется к русским. Говорит, мы духовно богаче, чем американцы.
— Ей виднее, — сказал я. И подумал: «Она же среди нас не жила…»
Мало ли что?
Дедушка сначала попросил документы, надолго задумался и все пытался взять в толк, у кого я получил разрешение задавать вопросы.
— Без разрешения же нельзя, — повторял он. — Мало ли что?
А я тоже никак не мог взять в толк, кого он имеет в виду, говоря о «разрешении». Но явно не себя самого.
Так мы и толковали.
Его мать в 1938 году забрали в НКВД. Она была шляхеткой, из дворян, но дети об этом не знали. Забрали ее потому, что много лет до того она не раз ездила в Польшу, к родственникам. Тогда арестовывали всех, кто имел родных в этой стране и навещал их, не подозревая, что это аукнется лагерями и смертью. Мать его замучили в смоленской тюрьме. До сих пор не сказали, где она похоронена и кто подписывал смертный приговор.
— Чтобы не было причин для мести, — объяснили.
Видимо, в этом мире палачи живут долго. Им есть, что терять.
Но он и не настаивал. Мало ли что?
Из-за матери его не сразу приняли в пионеры. А он, как и большинство, верил в Сталина. И приходил на уроки, где все вместе они дружно выкалывали иголками глаза в книгах и учебниках, где были портреты Блюхера, Тухачевского, Бухарина, Зиновьева и других предателей, бывших вождей. А их имена и текст замазывали чернилами. Новые учебники не поспевали за разоблачениями.
— И я выкалывал глаза. Старался. Врагов же надо ненавидеть. Все так считали.
— Все, — назидательно сказал дед. — Это и есть народ.
И я настороженно посмотрел по сторонам. Мало ли что?
Потом началась война. Оккупацию они с отцом благополучно пережили в Минске. В школе он вступил в национальную прогитлеровскую молодежную организацию. Там давали дополнительный паек и учили ненавидеть тех же, кого надо было ненавидеть до войны. И еще оставшихся.
Но после разгрома немцев под Сталинградом отец сказал, чтобы он оттуда вышел. Вернутся — спросят. А лучше, когда власть тебя ни о чем не спрашивает. Мало ли что?
После Победы, снова из-за матери, его не сразу приняли в комсомол. Припомнили. Но взяли. И он не сразу вступил в Коммунистическую партию, куда очень хотел. Но допустили. И он учился, занимал должности и служил.
И всегда помнил о матери. В смысле, как о «враге народа», из-за которого у него в любой момент могут быть неприятности.
Мало ли что?
Но все было нормально. Жизнь прошла, дети выросли. Пенсия начисляется. Немного обидно, что ничего особенного не сделал. А что сделаешь?
И своей матери дед уже не стесняется. Даже наоборот, мол, мы из дворян, а не абы — кто, как другие. Есть чем гордиться.
Многое он узнал, о чем теперь можно узнавать из разрешенных, понятно, источников. Раньше все врали, и правда была запрещена. Где ее возьмешь, у кого спросишь?
Да и мало ли что?
— Народ не обманешь, — сказал он, прощаясь. — И сегодня мы, наконец, знаем о том времени. Я жил — и не знал. Теперь вот читаю. И, к слову, пытаюсь выяснить, сможем ли мы, дети репрессированных, получить надбавку к пенсии за своих расстрелянных коммунистами родителей. Пока отказывают. На себя у них деньги есть.
Кстати, у меня не будет проблем из-за того, что я с вами поделился?
— Не думаю, — неуверенно ответил я. — А вы никому не рассказывайте. Мало ли что?
Американская учеба
Он так громко радовался за меня, взахлеб, что я запомнил это на всю жизнь. С Виталиком мы оказались тогда почти на одной работе. Я был помощник декана русского факультета известного в США лингвистического колледжа в Мидделбери, штат Вермонт. Он — заместитель. В принципе, мы делали одно и то же. Только я работал со студентами. А он на побегушках лично у декана. Но разница между нами была большая. Виталик приехал в Америку лет десять назад и уже огляделся. А я всего полгода. И оглядываться здесь мне было еще не на что. Кроме элементарного и жестокого выживания, борьбы за еду, поиски любой работы и ее самой. Разной и всегда для меня благодарной. Потому что она давала возможность оплатить комнатку, купить поесть, подешевле, и сесть в метро или автобус, чтобы, в перерывах, искать новую работу.
Но мне, наконец, повезло.
Помощником декана я неожиданно стал только на летний период специальной учебной программы. Однако мне ясно дали понять, что это шанс отдышаться, зацепиться и идти дальше. Что, собственно, и произошло потом.
Но тогда, в первый месяц, самым важным было то, что у меня появилось фактически двухкомнатное жилье. Отдельный кабинет. Полное обеспечение. И три тысяч долларов, по завершению. Это, в любом случае, был старт.
Тем более, что после привезенного в США рюкзака с печатной машинкой, нищеты, которую я, правда, не осознавал и нуля во всем, кроме того, что на мне надето, у меня почему-то засела в голове именно эта цифра. Я считал, не знаю откуда, что, если в запасе будут именно три тысячи долларов, как подушка безопасности, я смогу чуть расслабится и заняться более конкретно вариантами путей к нормальной работе по профессии.
На той же нью-йоркской Радио «Свобода», до которой, всерьез, у меня просто не доходили руки, постоянно занятые элементарным заработком на жизнь.
Именно три тысячи. Как тут не поверишь в мистику?
Я уже сообразил, что там, кроме белорусской редакции шансов мало. Хотя бы потому, что видел, как часами, на приставном стуле, сбоку припеку, сидит у стола шефа службы, высотный и угловатый Сергей Довлатов, развлекая его и других бесконечными историями и байками. Чтоб не уйти. Ему давали подработать. Как, собственно, и мне белорусы. Газета, которую он запустил с друзьями после приезда прогорела и выбора, несмотря на Нью — Йорк, особо, не было. Это и я уже понял. Но надо было все время торчать в кампаниях, самому их организовывать, быть там активным, разливать и заводить друзей из круга уже устроенных. Нужно было стать нужным. Мне же тогда остро надо было искать любую работу, чтобы прикрыть угол и еду.
На активную социализацию, кроме добрых, светлых и вполне земных, по запросам, знакомых, ни времени, ни сил не оставалось. Получать же, вполне возможное, социальное пособие от государство в 32 года, молодому и отчаянному, было для меня оскорбительным.
Я не для того поехал в Америку, чтобы стать там никчемной содержанкой.
И тогда, уже в колледже, через короткое время я быстро вошел в круг своих несложных обязанностей. Быстро выяснилось, что после обеда, почти до ужина у меня, как правило, особых дел не было. Никто не мешал и ничего не навязывал. В Америке, как я заметил к тому времени, никто не лезет в твои дела и не вникает своими представлениями, что и как ты делаешь. Для этого есть непосредственный начальник. Каждый занят только своим и своей тарелкой.
Хотя присматривают и даже очень внимательно. И «стучат», пожалуй, больше и охотнее, чем в том же Советском Союзе. Без политики, правда. Скорее, чтобы показать начальству, что стараются и готовы бдительно присматривать за дисциплиной труда и поведения. Соседа.
Кроме того, я быстро увидел, что мой привычный легкий бардак на столе в кабинете, ключ от которого был только у меня, нарушался. А работник факультета, русскоговорящая американка, с прозрачными голубыми глазами первый месяц едва ли не выскакивала каждый раз за мной из своего офиса, расположенного через несколько комнат и спешила встать за спиной, когда я шел делать нужные для работы копии. Общаясь со студентами, не у себя, я не раз невольно ловил за спиной ее, откровенно повернутое ухо в нашу сторону. А однажды днем, когда я был в кабинете, поскольку какое-то событие отменилось, закрывшись, чтобы не хлопала дверь от летнего сквозняка, кто-то постучал. Я не ответил. По распорядку студенты могли приходить ко мне в определенное, но не в это время. Вдруг закорячил ключ, дверь открылась и в комнату вошла та самая коллега. Как и зачем? Она растерялась, увидев меня у стола, извинилась и ушла.
После этого я все свои бумаги или записи, тех же стихов, аккуратно оставлял на столе. Пусть читает.
Трудно было только с русскими сотрудниками, которые поначалу откровенно игнорировали, не прощая, как мне пояснили гораздо более доброжелательные и открытые коллеги американцы, что ты недавно приехал, без «крыши», а уже получил приличную работу. Такое легко не прощают.
Я чувствовал эту неожиданную «вату» вокруг, поскольку уже знал ее по своей юности и университету. Когда шли собрания по отчислению и многие старались не смотреть в глаза, замолкали, если я подходил. Или, наоборот, отходили в сторону, как от прокаженного, подальше.
Здесь, правда, было гораздо легче, потому что русских коллег было немного, а студенты тянулись к тебе, любопытные. И постоянно что-то спрашивали, заходили поговорить и приглашали в свои кампании «на пиво».
Я открывал для себя новую Америку, другого уровня и характера взаимоотношений. Уже не выживания, с жестокостью примитивного капитализма. А иную. Американцы были более открытые и, как ни странно, понятные. Не все, конечно. Но по сравнению с бывшими земляками.
Два профессора — слависта, с которыми я быстро сдружился как-то пригласили в бар и, поговорив, впервые тогда, дали совершенно неожиданные для меня практические советы. Все-таки это Америка, а у меня о ней были в России свои представления. Слишком розовые и потому недалекие.
— Не говори сам коллегам, что ты недавно приехал в страну, — сказал тогда Леонард. — Это серьезный минус. Для одних раздражение. Мол, повезло новичку. Для других сигнал. Хочет хорошее место, пусть сначала свое хлебнет.
— Не открывайся, — советовал уже Фредерик. — Улыбаться — да. Но откровенность может тебе дорого стоить.
— Не говори, что был активистом какого-то движения или был связан с советскими диссидентами, — продолжал Леонард. И видя мое удивление, объяснял: — Лояльность в к власти и миропорядку — одна из основ системы. Если ты выступал против силы и правил, значит ты можешь быть неконтролируемым. Это не принято.
— А как же Сахаров, Орлов или Щаранский? — я совсем запутывался в понятиях.
— Сахаров, ученый с мировым именем еще до начала своей деятельности. Академик. Других, немногих, поднимают и поддерживают. Пресса, встречи с лидерами, почетные гости. И у них не будет проблем. «Деньги идут к деньгам». Правильно?
— Да, — соглашался я.
— Так и в карьере. Большинство остальных, даже если сидели в лагерях за свои взгляды, не могут на что-то претендовать. Их поддерживали и помогали. Но пока они были в России. Для нас, для многих — это не мужество, как вы, русские, считаете. А скорее, глупость.
Боролся с тоталитаризмом? Твое право. Пострадал? Знал, на что идешь. Тоже твое право. Приехал? Волен выбирать работу и занимайся теперь своим делом. Или на пособии, борись дальше, если нечем заняться. Есть варианты. Но на обычной работе тебя будут просто опасаться. Так что лучше никому не говори, что ты там был в подпольном движении. Если был. Не поймут, напугаешь и оттолкнешь. А земляки, обыватели, как у вас говорят, те же русские, решат, что хочешь поставить себя выше. Опять не как все. Ну и садись на велфер, на пособие, бери фудстемпы, талоны на продукты для бедных. И делай, что хочешь. Мой посуду или таксуй, для начала. Прочухаешься, займешься собой. То есть работой на свою жизнь. Make for living.
— И еще, важное, — подхватил Фредерик — В России опасно говорить против власти. Америка — свободная страна. Критикуй, ради Бога. Никто не обратит внимания. Твое право. Но, учти, Саша, никогда и никому не говори плохого о начальнике или о фирме, где будешь работать. Президент наш, может, и мудак. Не удивишь. Но он не твой начальник. Перед ним, начальником, чтобы проявить себя с лучшей стороны и закрепиться на работе предадут чаще и подлее, чем за политические взгляды в твоей стране. Бывшей стране, — поправился он. — Донесут сами. Просигналят. Так что, принимай все, как есть. Не ты вводил здесь порядки. Не ты руководишь. Не тебе и критиковать. Русские это любят делать. Можно, конечно, но только не начальников и не с коллегами. И все равно не стоит. Президента — пожалуйста. Хотя не поймут. Какое тебе до него дело? Но вот недовольство тем, что имеешь и тем, кто тебя непосредственно кормит — первый признак неудачника. Нет плохих начальников. Своих. Есть глупые подчиненные. А у тебя все получится. Это видно сразу. Просто будь осторожнее, в мелочах.
Они оба улыбались, по — доброму, глядя на меня, обалдевшего.
Позже я убедился и оценил эти советы. И этих людей за их прямоту и откровенность со мной. Легче было избавляться от иллюзий и возвращаться на землю. Чтобы, если выбираешь, то уже действительно делать это осознанно. А не по представлениям, принимаемым за реальность.
Уверен, если бы я жил в России, они бы так со мной не говорили. И я не понял бы их. Наоборот, разозлили бы.
Все было новым. Самым легким оказалось быстро привыкнуть к полным магазинам, технике и удобствам. Но жизнь, если жить, а не ковыряться в ней, была иная и для меня, хоть и непростая, но интересная.
Как первые компьютеры, при библиотеке, которые я увидел тогда в отдельном зале, куда студенты могли приходить, когда у них было время. Это были простейшие «Эппл-Макинтоши», до интернета. Но я просто сомлел, глядя, как на них можно набирать, править, переставлять и комбинировать текст. Библиотекарь показал мне, как они работают. Но не учил. Я мало что запомнил. И стал приходить туда в то самое послеобеденное тихое время, когда лекции меня не касались.
С Виталиком, заместителем декана, мы нигде не пересекались. Я уже знал, что он ненемного старше, хотя уже почти без волос. Приехал из Украины, кажется, из Черновцов и прорывается в славистику. О своей прежней жизни ему говорить было нечего — институт, потом какая-то невнятная работа. У меня тогда было ровно наоборот. Но Виталика это, естественно, не интересовало. Да и был он из другого мира: работа — для зарплаты. Зарплата — для вещей. Про Америку Виталик тоже ничего не мог конкретно рассказать, кроме общих фраз и восхищения, что здесь все есть в магазинах. Короче, мы обошлись ознакомительной беседой и занялись своими делами.
Только однажды он почему-то вдруг завел со мной разговор по поводу личной жизни. — Ты что. — спросил он — До сих пор один? — А кто мне нужен? — не понял я. — Ну, как… Молодой, симпатичный, глаза синевой горят, — подстелился он. — И что? А у тебя есть кто-то? — Конечно, — чуть не обиделся Виталик — Но не студентки. Это опасно. Я хожу в отель. Там, в баре, есть девушки. Недорого… — Гусары денего не берут, — отшутился я. Но он не отставал — Может тебе парни нравятся? В этом ничего здесь особого нет. А то ни женщины, ни мужчины… — замешкался он — Скользко это.
— Переживу, — обозлился я. Развернулся и ушел. Что-то фальшивое было в его, чужого, вопросах, а не обычный мужской совет. Словно, он меня щупал.
Затем произошло одно неожиданное и загадочное для меня событие, которое немного выбило из себя. Я даже не спал ночь, пытаясь его понять. Но потом просто выбросил из головы, не загружая себя лишним.
Виталик как-то постучался ко мне и вошел в кабинет с мужчиной средних лет, под сорок, упитанным и бесцветным.
— Вот, пришел этот человек со стороны, откуда-то, в студенческий кампус. Сам тоже из России. Хочет с кем-нибудь поговорить. Поговори.
Я напрягся. Если каждый издалека надумает приезжать в колледж с кем-нибудь поговорить, от нечего делать, то для таких есть служба безопасности и полиция, чтобы задержать, опросить и понять, что ему надо. А тут… Спорить не стал и мы беседовали с ним часа четыре, до вечера. Причем, я так и не понял, зачем он к нам приехал. Да и рассказывать ему оказалось о себе нечего. Пару слов. Зато обо мне он расспрашивал подробно.
Уже начинались сумерки, перед ужином, как снова зашел тот же Виталик и больше я этого чудака не видел. Но осадок тогда, непонятный, остался. До утра, не более.
И я снова с обеда пошел в библиотеку, к компьютеру, где мучился, методом тыка и проб, но с интересом, как на нем работать с текстами.
Вдруг туда прибежал Виталик. Он запыхался и радуясь, весь светясь от этого, взахлеб стал говорить, что меня ждет декан. Его буквально переполняло искреннее счастье, как бывает, когда фанат вдруг встречает своего кумира, певца или футболиста. — А в чем дело, не знаешь? — спросил я, невольно подключаясь к волне его радости.
— Может, — подумал, — Хотят поблагодарить, что отвлек на себя и занял странного гостя кампуса. То ли тронутого, то ли провокатора, пока начальство решало, как тактично от него избавиться? Это было одним из моих уязвимых мест, о котором я, шутя, говорил, как об издержках советского воспитания. Любой незнакомый человек априори, заведомо, даже чиновник, вызывал тогда только положительное отношение. Открытое и готовое к восприятию. Так, противоестественно, воспитали родители, книги и школьная мальчишеская дружба. Не по-человечески. За что мне пришлось постоянно расплачиваться всю жизнь.
— Узнаешь сам, зачем, — загадочно и многообещающе так же, светясь, сообщил тогда Виталик и буквально потащил за руку, как на праздник.
Так, улыбаясь оба, мы пришли в кабинет шефа факультета.
Но Дэвид, декан, впервые был неожиданно строг и резок. Он отчитал меня, напугав, за походы в библиотеку. — Ты должен быть на месте, в своем кабинете, даже в свободные часы. До вечера. Все равно это рабочее время. Чтоб больше не повторялось.
— Еще не хватало, — подумал я тогда — Получить в личной файл запись о нарушениях трудовой дисциплины. Ни на одну приличную работу не возьмут. И знать не будешь, почему. Настучал кто-то. Хотя понятно кто. Но я не стал додумывать. Больше всего меня удивила и разозлила та откровенная радость, с которой Виталик тащил меня на нагоняй.
— Да, парень, — сказал я себе — Это конечно не Россия. Но, тем более, следует выбирать с кем и что говорить.
Похоже, в этом мире, нигде век воли не видать…
Кирдык
Что только не приходит женщине в голову глубокой, как глотка, ночью.
— Знаешь, — проснулась вдруг жена — Хочу тебя спросить…
Я сразу расхотел спать, испуганный. И даже более того.
— Можно, — продолжила она, — я буду называть тебя «Дарлинг?» Даже нет, «Да-а-арлниг».
— А почему не Иван Петрович? — меня сразу же отпустило, поднимая.
— Хочешь Иван Петрович?
— Идеально бы короче. Чего тянуть? Нечего.
Я на секунду задумался. И гордо сказал:
— Зови меня просто «Кирдык». Как штыковую атаку на врага.
Она глянула на меня, несмотря ни на что.
— Кирдык тебе, Да-а-арлинг.
И, надо же, как в воду смотрела…
Блютуз
Она выгуливала на аллейке у дома комнатную собаку. Лучшего друга и советчика, умеющего слушать, ничего не говорить, преданно смотреть в глаза и благодарно есть, что дают. Мужчины так не умеют. Потому женщины и заводят себе собак. Хоть одна живая душа в доме. И потом, два раза в день здоровые прогулки на свежем воздухе. Руки свободны, мобильник на бедре, блютуз за ухом. Разговор с подругой о ее проблеме. То есть о муже. О чем еще могут говорить женщины на выгуле?
Навстречу, мимо нее, по своей прямой из подъезда выполз немолодой мужчина, слегка потертый, довольный и одинокий. Мужчины с утра всегда одиноки. Но этим и довольны.
Они видели друг друга раньше, соседи все-таки, но большего не знали. Видели, но не виделись. Даже не принюхивались. Виртуальные знакомые в этом мире стали гораздо интересней — от них легко уходить. К тому же у нее все-таки был свой муж и собака, а у него «бывшая». И им, каждому, этого было достаточно.
Он выгуливал сам себя, а она всё говорила и говорила. Уже остановившись и поворачиваясь, делала несколько шагов, но недалеко от себя: вправо-влево, вперед, назад. Наклоняясь и помогая себе жестами, то убежденно сгибая, то протягивая просящие руки.
Временами она поглядывала на собачку, помечающую свою территорию вне дома. Инстинктивно, но бессмысленно. Как у всех. Но без последствий. Разговор не прекращался — подруге нужна была помощь в борьбе с ее мужем, где бои шли по всем фронтам. А ей, наконец знАчимой, повод выговориться и почувствовать себя кому-то нужной. Временами, увлекшись, она поправляла короткий, как большой палец микрофон блютуза, идущий из-под шапочки к виску. Со стороны — прядь волос, если не сильно вглядываться. Никто и не вглядывался. Для охоты и охотников тоже есть свои проходящие, как люди, временные сезоны.
Между тем, мужчина, уже почти обойдя ее, с удивлением поднял голову и прислушался. Стоит себе на аллейке женщина и что-то говорит сама с собой. И всё о кобелях, бегающих на работу и по хатам. Его «бывшая» тоже когда-то завела аж трех собак, но он не вмешивался и только иногда, пропустив стакан водки, отчаянно говорил друзьям в сауне или на рыбалке — Живу среди сук…
Но как-то выжил.
Он даже притормозил, споткнувшись о ее фразу «эти мужики совсем одурели». Оглянулся осторожно и быстро. Чего это она там, ходит и орет, сама по себе. Еще неизвестно, кто одурел.
Идти просто так расхотелось. Появился смысл жизни. Не своей, но, тем более, осмысленной. Он неловко остановился поодаль, там же, на аллейке, глядя якобы куда-то вдаль и видя, непонятно что, нечто очень важное. Он научился этому еще на работе, когда впервые получил повышение. А потом, уже заматерев, не раз применял дома. Но сейчас, замерев в полоборота, он слушал, словно подглядывал в щелочку. И завидовал. О, как они, женщины, могут говорить вслух, сами с собой, да еще и на улице… Это тебе не дома в телевизор фиги крутить или в интернете, в чате: тыр-пыр, прыг-скок…
А она все говорила, дымя горячим, изнутри, в прохладный утренний воздух. Громко, в тиши аллеи и в никуда.
— Копить надо свою заначку. Сколько ни отложишь, всё будет мало. Терпение и еще раз терпение, потом с ним рассчитаешься. Сполна. А сейчас надо брать, просить, если надо, но все равно брать… Даст. Никуда не денется. Даже если займет где-то — только для того, чтобы ты отцепилась… Бизнес свой замутить не мешало бы. Пусть кредит возьмет, если сразу не потянет. К тому же, когда денег в кармане у него будет меньше, не набегается. Той, куда он ходит, тоже надо. И даже больше: и в ресторан, и в клуб, на поездку, на продукты, не считая подарков…. Непредвиденные расходы опять же всегда пригодятся, как аргументы. Куда он денется? Работу потеряла, косметическая операция нужна, цены растут, мама заболела. Это когда-то, при коммунистах, их, мужиков, встречали, как приехавшего начальника из центра — стол накрывали, бутылку ставили, слушали — кивали, точечный массаж и все такое. Только приходи. И ласку ему, и никакой головной боли, и за повара крутись, и за психотерапевта. Теперь все проще и понятнее: мужик — это грузилово, месяц за месяцем. За то и платит. Пусть ценит, что его хотя бы дома терпят. Пока дамба не прорвет. Времена-то изменились… На два или три фронта сразу он не наработает, не хватит. Отлуп получит по полной. Или шею, дурак, под новый ошейник подставит. Потом все равно прибежит обратно. Думает, они так все думают — где пометил, значит его, навсегда. Осчастливил. Фигушки! Навсегда только фото остаются. И еще посмотрим, кто в дураках окажется. Если конечно не дура и заначка постепенно набежит… Они тоже не торопятся осесть с другой. Кто поумнее. Что, случайно вокруг рекламки квартир и телефоны на заказ по вызову повсюду наброшены? Почасовые. Тоже выход для него. Не хочет мужик проблем и лишних затрат вне дома, пусть, как все нормальные ходоки звонит-вызывает. Час-два и никаких никому забот. Ни отлучек на ночь, ни выяснений. Не понимает по-человечески, пусть выкручивается. Главное, не психовать — свое сначала вырвать, по частям, а потом уже беречь. В первую очередь себя конечно. И любить себя. Так психологи сегодня советуют, а их от юристов уже почти не отличишь. Знают, что подсказать…
Как ни крути, а приличная заначка от мужа — это свобода. И что с ней делать? Покупать, что хочешь. Гулять, где захочешь. И делать, чего не позволяла себе раньше. Битый час уже под нос втолковываю: «Покупать, ездить, знакомиться. Всё еще будет. И не раз. Он не один по миру бегает — таких много. Да, не совсем таких. Есть и похуже, и получше. Но есть. В конце концов, сама будешь выбирать пиджак с телом, но приходить туда, куда надо тебе. Зато, как и они, сама будешь уходить. Когда поешь, свое возьмешь и, главное, захочешь. А не захочешь, то скажешь…»
— Да иди ты… — вдруг тоже громко, вслух, но под ноги, остервенело выплеснул все еще стоявший неподалеку мужчина. Вроде, как бы сам по себе. Сказал и, резко сорвавшись, зашуршал назад. Недалеко, правда. К подъезду. Общему, как и то, что прячется там, в туннеле лестницы, за каждой дверью. Бытообразное, день за днем, шепотное или крикливое. Все равно: чем лучше живут, тем легче друг от друга огородиться. Места больше. Чтоб наконец потом залечь в темноте, не видя. Вместе, но о своём.
Он шел и что-то возмущенно говорил себе под нос. Без блютуза. И даже сплюнул, едва не попав на ботинки. У воспитанных мужчин так обычно и получается. Нет, чтобы подальше, не глядя куда и на кого. Собачка кинулась было ему под ноги, требуя внимания. Сначала повизгивая, но потом, тявкнув от обиды, что на нее даже не смотрят, засеменила обратно к хозяйке.
Она же, почти по солдатски вышагивая по кругу, этого не видела. И ничего не услышала со стороны. Подумаешь, где-то ворона каркнула. Она его даже и не заметила. И все говорила, говорила.
Вечером вернется муж и говорить будет не с кем. Там все уже проговорено, пока еще денег в доме не было. Да и самого дома. Когда ничего нет, всегда есть о чем поговорить. А сейчас, на сытый желудок — что в кастрюлю, что в затылок, что в блютуз…
Да и кому какое дело до того, о чем кто-то говорит на улице.
Проходящие женщина или мужчина.
Тем более, сами с собой.
Мир идиотов
Он всю жизнь до пенсии был военным танкистом, настоящий полковник. И еще, он — единственный внук великого писателя Ярослава Гашека. Так и живет в своей трехъярусной квартире, на окраине Праги: с книгами великого деда и его Швейком. Они здесь везде. Целая комната-мансарда выделена под своеобразный музей Швейка.
По опросам, что ассоциируется у чехов с названием их страны, третье место после чешского пива и хоккейной сборной упорно держит Швейк. Бравый солдат, похождения которого Ярослав Гашек надиктовал перед смертью, надолго пережил своего автора.
Люди живут в конъюнктурном мире. Потому и умирают, одноразовые. Рихард, его внук, говорит с горечью о том, что его дед, уже известный писатель, но дебошир, в духе начала двадцатого века, был коммунистом и участвовал в русской революции. А это сегодня не модно.
Зато его рассказы, Швейк и яркая короткая жизнь так и остались — над временем. Хотя, кроме бумаги и друзей-забулдыг они ничего не имели. Ни Швейк, ни сам Гашек даже на машине не ездили. В небольшой городок Липнице, в глубинке страны, в августе 1921 года они приехали на поезде. Причем, Гашек просто вышел из дома, чуть ли не в халате, за пивом, встретил знакомого, поговорил и… поехал. Он остро захотел сбежать от всех и вся. Подальше от унижений, преследований, нищеты и своих женщин, чтобы написать давно задуманную и уже начатую историю бравого солдата Швейка. Героя всех времен и народов, живущих в том же идиотизме, что и Швейк. И сам Гашек. Тоже, кстати, не подарок.
— Когда мой отец родился, в 1912 году, дед начал праздновать это событие. Взял с собой в шинок новорожденного. Потом пошли в другой, в третий. И везде праздновали, пили за здоровье малыша. Только через три дня, уйдя из дома, Ярослав схватился, что где-то забыл сына.
Ребенка нашел потом тесть и стал, не в первый раз, настаивать на разводе дочери. Моя бабушка, его жена, Ярмила Майерова до этого уже созрела. Они встречались несколько лет, но Гашек сначала был активным анархистом, потом объявил себя буйным атеистом, печатался, издеваясь над государством и всеми, ночевал, где попало и совсем не хотел остепеняться.
После рождения моего отца, своего сына, он фактически не жил с женой до того, как ушел на фронт Первой мировой войны.
Пропавший потом в войне и в русской революции на пять лет Гашек, стал для подрастающего сына геройски погибшем в бою легионером — белочехом, которые воевали с большевиками вместе с Колчаком. Хотя, на самом деле, он был бойцом русской Красной Армии, мечтающим о мировой революции и всеобщей справедливости.
Еще до фронта он как-то поселился в одном отеле Праги под именем… Лев Николаевич Тургенев с целью визита столицы Чехии — ревизия австрийского генерального штаба. Его забрали в полицию. И забирали потом постоянно. Даже свой полк, идущий на фронт, Гашек нашел в военной форме, но в цилиндре и симулировал ревматизм. Его признали дезертиром, но отложили наказание до конца войны. Империи нужны были солдаты, а не заключенные.
— Когда после возвращения из России деда Рихард, мой отец, его до этого не видел и Гашек должен был скрывать перед мальчиком, кто он. Но однажды Гашек сказал, что знет всё на свете. И отец ответил — Господин редактор, вы такой глупый. — Это хорошо. Это мой настоящий сын, — сказал Гашек и, нарушив слово, данное жене, открылся, кто он есть.
Впрочем, это ничего не изменило. До тридцати одного года, до войны, Гашек жил фактически в богемных пражских кабачках, смешил людей, писал, поддерживал анархистов, влезал в проблемы с полицией и разные авантюры. Он везде писал, редактировал газету анархистов, выпускал пять журналов, сочинял рассказы, однажды делал одновременно полностью два издания под разными именами. Известно до ста двадцати его псевдонимов.
Но ответственность за других Гашек брать не хотел. Жена и дети ему были не нужны. Зато он сам оказался нужен сначала на фронте Первой мировой войны, а затем и русской революции.
— Это уже история. И его судьба. У деда был свой путь, который он выбрал. Если бы Гашек не прошел свою одиссею, то не написал бы такую честную и смешную книгу о жизни, как Швейк.
До войны он был анархистом. В России издавал журнал, которым руководил Троцкий. В Иркутске был комиссаром в армии. Служил и с Тухачевским. Был даже комиссаром города Бугульмы, в Поволжье. Гашек потом написал, как проходили эти процессы. А потом к власти в России пришел Сталин. И его Швейка в России бы не узнали, если бы не издали в Чехии. Он написал в смешной форме о том, что происходило в то время и в России, и в Чехии. А власть, любая, хотела своего Швейка, а не того, каким он был в книге.
Гашек прошел путь от Волги до Бурятии. Издавал газеты армии для солдат на венгерском, немецком, бурятском языках. Начал учить китайский, чтобы делать газету для китайских красноармейцев. Русская революция тогда объединила многих и в 1920 году Гашека направили на Родину делать революцию там. Он и сам хотел на Родину. Но опоздал. Возникшая после распада Австро-венгерской империи, Чехословакия не хотела революций.
Из России он привез в Прагу только Шуленьку, новую русскую жену. И больше ничего. Когда он вскоре пришел к своей чешской жене, Ярмиле, моей бабушке, то она спросила:
— Что ты привез с собой?
— Только подушку — ответил он, имея в виду Шулечку.
Разгромленные чешские красные считали его чуть ли не провокатором. А бывшие чешские легионеры, приехавшие из России с деньгами, пытались посадить Гашека по обвинению в измене Родине.
— Был такой Рудольф Лидек. Он добивался ордера на арест Гашека. Они не давали ему прохода, едва не избили однажды. Во время русской революции из чехословацких военнопленных был создал легион, сорок тысяч бойцов и через Сибирь их направили… домой. Чехи восстали. В Казани они захватили часть золотого запаса России. И в Чехии потом не случайно были банки легионеров, бывших белочехов, как из называли в России. А Гашек все знал и потому был опасен для них. Но он оказался снова одинок и без денег. И ему было не до борьбы. Да и объединяться уже было не с кем. После русской революции вокруг были одни болтуны. И он, который не пил пять лет в России, снова запил и пошел по шинкам.
Чешская жена пыталась помогать ему как редактор. Русская жена бегала по кабакам и вытаскивала его оттуда домой, хотя своего дома у них не было. Вскоре Гашек просто сбежал из Праги, как был, в домашних тапочках. Он безденежья, одиночества, обвинений в кровожадности красных комиссаров-людоедов и отвернувшихся болтунов-товарищей. Он уже болел. Алкоголь разрушал организм. Но и тогда Гашек все равно постоянно шутили устраивал мистификации. То появлялся в женском платье. Но объявлял о своей смерти.
— Он даже создал в шинке свою «партию умеренного прогресса», которая потребовала введение в Чехии рабства и учреждение инквизиции. На выборах за нее проголосовали 38 человек.
И еще, дед трижды объявлял о своей смерти. То его якобы убил в корчме русский моряк бутылкой рома. То разорвали дикари в монгольских степях. Поэтому когда он на самом деле умер, никто в это сначала не поверил. Ему не было и сорока лет.
За три месяца до смерти он наконец впервые переехал в свой домик в Липнице, купленный за гонорары от первой книги о Швейке. Правда книгу все отказались издавать, назвав аморальной. И тогда дед, без денег, как-то создал свое издательство и издал Швейка сам. Весь тираж сразу раскупили и первый том переиздавался подряд четыре раза.
Перед смертью за ним ухаживала русская жена Шуленька, ласкательное от «Шурочка», которая только через три недели, не зная ни языка, ни страны, узнала, куда сбежал её муж. Шуленька вышла потом замуж за молодого врача, который ухаживал за тяжело больным Гашеком. Она помогла ему получить образование и пока шли деньги за издания Швейка, врач жил с ней. Но после немецкой оккупации Швейка издавать запретили, денег не стало и она тронулась умом. Муж передал её в психиатрическую больницу, до конца жизни.
— Мой отец, сын Гашека, был архитектором. У мамы тоже была техническая специальность. Но она была дома. В пятидесятых годах, на волне сталинских репрессий, отца арестовывали. А я родился в 1949 году. Отец тоже пытался быть как мой дед, писал, показывал кому-то, но… Я же полковник-танкист в отставке, хотя на самом деле всю жизнь проработал в военной чехословацкой газете. Со мной, как с внуком, и раньше, и теперь тоже многие хотят выпить пива, подружиться, как с Гашеком. Но я говорю — В семье достаточно одного гения…
О Ярославе Гашеке написано более тридцати книг. Его Швейка перевели на 58 языков.
Памятнику самому Гашеку почему-то в Чехии не было, кроме одного, едва созданного и выброшенного после ухода от власти коммунистов. Гашек, как анархист и троцкист в русской революции, но пьяница и неудобный для всех гений — разгильдяй, до и после нее, официальной власти не нравился. Не вписывался в нужные (и нудные) каноны.
Только в 1989 году в Праге была названа улица его именем. В 2005 году в Липнице поставили статую писателя напротив его первого и последнего дома. Но она поначалу долго лежала у местного аэродрома, сваленная вместе со статуей Ленина и чешского коммуниста-вождя Готвальда…
«Человек может остаться свободным на этом свете только в качестве идиота».
Ярослав ГашекПоследний подпольщик Чехии
Человек с красивым именем Богуслав живет в небольшом крестьянском домике на живописном склоне Судетских гор, почти на границе с Германией. Найти его здесь, на крутых поворотах и въездах было непросто. Но стоило.
Богуслав Бубник — последний боец сети подполья чешского Сопротивления, участвовавшего 27 мая 1942 года в покушении на Рейнхарда Гейдриха — начальника управления имперской безопасности нацистской Германии, создателя политической полиции, гестапо и фактически главу протектората Богемии и Моравии, бывшей Чехии.
Эта акция стала одним из ярких событий времен Второй мировой войны. Реальной символикой подлинного героизма и, не менее жизненного, предательства.
Гейдрих — создатель политической тайной полиции, гестапо. Организатор спецоперации по уничтожению советского генералитета руками Сталина — дело Тухачевского. «Архитектор» Холокоста.
За исключением двух добровольных изменников, погибла вся небольшая группа чехов, британских парашютистов, задействованных в той операции. В 1946 году предателей казнили в Праге. Нацисты показательно сожгли деревню Лидице, расстреляв всех мужчин, старше 16 лет, а женщин отправили в лагеря уничтожения. Разгромили и подполье. Сотни людей были арестованы, большинство расстреляны или уничтожены в лагерях.
Из тех, кто непосредственно помогал диверсантам, прятал их, случайно выжил только один, руководитель подпольной группы. При аресте он проглотил две самоубийственные капсулы с героином, немцы успели его «откачать», ничего не добились на допросах, приговорили к смерти, но ажиотаж к тому времени спал и он «дотянул» до Победы.
Богуслав — единственный из тех подпольщиков, связанных с делом покушения на всесильного шефа гестапо, тайной полиции Рейха, доживший до наших дней. Тогда ему был 21 год.
— Почти все антифашисткой подполье, не коммунистическое, оказалось связанным со спортивной организацией Чехословакии «Сокол». Я пришел туда еще в пятилетнем возрасте. В «Соколе» молодежь не только занималась различными водами спорта, но и воспитывалась в любви к демократической республике и к Родине. Жил я в городке Мельник, рядом с которым проходила граница с Германией. И, надо признаться, немцев мы не любили. Дрались с ними. Но так и жили. Немцы, а их в Судетах было почти три миллиона, и чехи.
Оккупация в марте 1939 года прошла тихо и мирно, но у меня она вызвала резкое неприятие. В то время я был студентом, учился в институте и для многих из нас происходящее было унижением. Кроме того, учебу немцы сразу отменили и я успел сдать только два экзамена. Закончил я институт, кстати, только в 1968 году.
C приходом немцев закрылись и отделения спортивного «Сокола», где в местном филиале я был заместителем председателя. Вскоре я встретил товарища по «Соколу», с которым выступал и завоевывал медали на соревнованиях гребли на каноэ и посетовал, что ищу работу. Товарищ предложил варить мыло. Выбирать не приходилось и так я стал рабочим мыловарни, а потом на мельницах. Но работали мы и держались вместе, потому что знали друг друга по спортиным занятиям в клубе.
И вот как-то, в сентябре 1941 года мой друг Вацлав Марачек получил письмо из Праги из которого понял, что «Сокол» связан с подпольем и есть боевая группа. Вацлав сказал и мне, и ребятам, что, если хотим, можем присоединиться. Мы согласились. Но не знали что делать. Все это было конспиративно. Затем получили первое задание: отслеживали какие поезда проходят через станцию, как выглядят, что перевозят. Дважды я носил пакет с информацией в тайное место. Боевых акций не предпринимали. Не было команды, да и условий. Они тогда были бы бессмысленны и опасны и для нас, и для населения.
В конце 1941 года в Чехии высадились парашютисты из Англии и связались с ребятами бывшего «Сокола». 27 мая 1942 года, в день покушения на Гейдриха, я был Праге — отвозил на явочную квартиру пакет, но не мог вернуться, потому что город уже был закрыт. Cвязной сказал, чтобы я переждал, потому что будут аресты. Немцы искали свидетелей покушения и вскоре вышли на нас. Дочка одного из подпольщиков отнесла с места покушения брошенный парашютистом велосипед, залитый кровью. Ее видели и описали бдительные и лояльные к власти чехи. Так гестапо вышло на подполье. С июня начались повальные аресты.
К тому времени я вернулся в Мельник и однажды, когда меня дома не было, к нам пришли гестаповцы, чтобы арестовать. По совету родителей мы спрятали мой пистолет в огороде, закопали. А я пошел в здание суда, где располагалось гестапо. Сам пошел. Мол, искали, что случилось? Все равно найдут. Бежать было некуда — в Праге людей арестовывали сотнями.
Из гестапо меня, понятно, не выпустили. Посадили в одиночную камеру, начали допрашивать, но я ничего не знал. Ни о подполье, ни о покушении на Гейдриха. Вскоре меня и еще троих ребят из «Сокола», уже арестованных, повезли в гестапо в Прагу. В центральную тюрьму страны Панкрац. Там на первом допросе сразу предупредили, что к ним легко попасть, но трудно выйти. А затем следователи заявили, что я передавал в одну пражскую семью, Новаков, продукты для парашютистов, которые там прятались. Так и было. Но я объяснял, что просто якобы давно знаю эту семью и привез продукты в помощь из провинции друзьям в большом городе. Гестаповцы не верили. Начали сильно бить. Новый допрос и новые пытки. И снова. Так продолжалось несколько дней. Но я стоял на своем.
Тогда они показали мне бумагу написанные от руки показания, но закрыли лист с текстом и оставили только подпись. — Знаешь кто это? Я подпись узнал. Это был руководитель отделения нашего «Сокола». Немцы сказали, что он подпольщик и во всем признался. А поскольку я был его другом и помощником, то тоже должен был что-то или кого-то знать. Они провели еще четыре допроса и опять сильно били. Я был весь в синяках и крови. Спасло то, что был молод и с детства занимался спортом. Охранник, когда я оказался в камере, поделился, провокатор, что видел моего друга и тот советовал всем говорить правду. И как бы даже просил это передать. Но я ничего не признавал, что меня и спасло.
Мой друг, наш связной, тоже обо мне ничего не сказал. Его отправили в тюрьму в Терезин и вскоре он оттуда аккуратно написал письмо на третий адрес, так как знал, что адресат не будут отслеживать. Не за что. А те люди передали то, что касалось меня моей маме. Он также сообщил, что кто-то назвал Вацлава Марочека, руководителя нашего «Сокола» подпольщиком, а меня взяли, как его близкого друга. И у немцев на меня ничего реально нет.
Когда меня в конце концов освобождали, то гестаповец приказал снять одежду, а у меня все тело было в кровоподтеках и синяках. Он спросил — откуда это? Я ответил, что неудачно упал, когда водили в душ и еще раз, когда вели в камеру, в подвал. Гестаповец спросил также как ко мне относились у них. Я ответил — Замечательно. В Панкраце хорошо.
Тогда он сказал, что мне надо работать и думать о жизни. Но, если теперь никуда не возьмут, то вот его телефон — он с удовольствием готов встретиться и помочь. Меня в гестапо выручило, что был молодой, здоровый и упорный. Целый месяц допрашивали и били. Если бы признался, то не вернулся бы домой. Но таких, как я оказалось не много.
Гестапо к тому времени вернулось за женами тех, кого признали подпольщиками. Из Терезина их, 240 человек, потом отправили в лагерь Маутхаузен, где и убили. В живых тогда из всех осталось только несколько человек — немцы надеялись, что через них смогут еще что-то прояснить. Кроме моих нескольких знакомых по «Соколу», пражские члены из нашей сети все погибли.
А в семье Новаковых действительно прятались диверсанты-парашютисты. Я дважды был у них, привозил продукты, прямо с поезда. Один раз видел двоих парней-парашютистов. Но не говорил с ними и не оставался. У нас было запрещено говорить при свидетелях. Только один на один.
Конечно, большинство и не помышляло о сопротивлении. Но у меня ненависть к оккупантам моей страны была такая, что не думал об опасности. Вскоре после возвращения домой в Мельник, на меня опять вышли подпольщики и я был с ними уже до восстания в мае 1945-го года. Мы всё начинали заново, потому что немцы взяли всех руководителей нашего «Сокола» в Чехии. Никто из них не не выжил. Репрессии выкосили подполье, но посеяли настоящую ненависть. Мы не шли на боевые акции и ждали, когда приблизятся Красная армия или американцы.
А пока обменивались информацией, старались достать и искали в лесу оружие. Руководил нами потом бывший капитан чешской армии Ленский. После оккупации он ушел в Россию. И оттуда его к нам сбросили на парашюте с передатчиком, уже в конце войны. В Мельнике стояла часть СС и размещались чешские рабочие службы.
Когда в мае 1945 началось восстание, мы вытащили оружие и осадили эсэсовцев. Но сначала взять не могли — у нас были в основном охотничьи ружья. Cо второй атаки эсэсовцы сдались. Всех разоружили и отвезли на сахарный завод.
Наши патрули блокировали дороги и переходы. Потом нам сдались и другие немцы — почти пятнадцать тысяч человек. Два часа они переправлялись через пограничную реку и потом подняли руки.
10 мая пришли советские и польские солдаты. Мы им и сдали немцев. Но накануне, девятого мая, город бомбили, хотя мы уже ждали русских.
Жаль, лучшие погибли. А после Победы все вокруг вдруг оказались патриотами и чуть ли не участниками Сопротивления. Они потом в один голос стали говорить, что мол не надо было убивать Гейдриха. Не было бы столько жертв. Конечно. Не надо сопротивляться — и при нацистах жить можно. Кому можно, а кому и нет. Они считают, что пусть только русские, англичане и американцы сражаются. А мы переждем и станем судить, кто и что правильно или неправильно сделал.
После войны я женился на замечательной девушке Анне. Мы и сейчас с ней. Так вот она бегала на станцию через которую везли заключенных и, рискуя, передавала людям сколько можно еды. И мы оба так, как те, не считаем. Я выполнил свой долг, как мог и рад, что моя Родина свободная страна.
Они оба, по провинциальному, долго стояли у дома, провожая. Одни. Но это понятно — из-за возраста. И не одинокие, потому что вместе.
— А где вы это покажете? — не выдержала Анна — У нас брали интервью и наши, чехи, и англичане, и немцы. Хотя русским, тем более, близко. Столько вынесли.
Иногда просто невыносимо говорить правду. Лучше пожать плечами.
Я съезжал по дорогам вниз, на равнину Чехии и думал, что все-таки у каждого в этом мире свое понятие о состоятельности жизни. Тех, у кого она состоялась, нередко и не увидишь, и не услышишь. Особенно, когда всплывает время барабанов, как сейчас. Ничего. Пусть гремят.
Важно, чтобы не маршевые…
Русские иудеи
«Шли два героя с турецкого боя. С турецкого боя — домой…»Бабушки, расцветая многоголосием, были красивы и светлы. Каким-то внутренним светом, свободным, словно громадные поля за околицей, переходящие в горную гряду. Уже Ирана. Все они были исконно русскими: и по виду, и по разговору, и по крестьянским платкам. Разных по узору, но обязательно с преобладанием белого цвета. Мне кажется, надо еще поискать такие просветленные славянские лица в российской глубинке. Но все они были иудеями. А себя с гордостью называли «геры». Последние — из последней общины. В приграничном азербайджанском захолустье, под нависшим с юга персидским соседом.
Я узнал о русских герах, как это часто происходит, случайно. Хотя и не совсем. Люди случайными не бывают. В ту поездку, с камерой в сумке и штативом за плечами, я уже пять дней снимал в Баку и в Кубе, моей главной цели и давней мечте: посмотреть и снять единственный город в мире, кроме Цфата, но то — в Израиле, где почти триста лет, живут одни евреи. Таких городов больше не осталось. В самом конце поездки, организованной, как всегда, без командировки, почти за сутки до обратного самолета мы с друзьями сидели в восточном ресторанчике, где между мясом и овощами я «рубил» азербайджанского певца с его удивительно мелодичными, под национальный инструмент, песнями. Где я потом дома буду искать народные напевы этой страны?
— Значит, так, — говорили друзья — Завтра у тебя последний день, ночью — самолет. Будем гулять, есть вкусное и париться в нашей бане. С мастером-банщиком, чтоб запомнил.
— А далеко отсюда, — ответил я — деревни молокан, русских духовных христиан, отвергающих иконы? Вроде, есть несколько. Интересно, как они живут сегодня, в независимой мусульманской стране.
— Далеко, — объяснили мне — Но главное, мы никого там не знаем и не сможем помочь организовать встречу. А так, с улицы, они разговаривать не будут.
И тут один из гостей в кампании сказал — Есть другое, совсем неизвестное. О герах слышал? Руссие по национальности, но иудеи, по Вере, которые живут на границе с Ираном. Я знаю руководителя общины. Только туда дорога плохая, часа четыре ехать, но, если хочешь, могу позвонить, хоть сейчас. А завтра рано утром, пришлю джип с сопровождающим.
— Ну, какой тут разгрузочный день отдыха? И я пошел на юг, к Ирану.
Одноэтажное село геров оказалось, на удивление, большим и не бедным. Правда, уже, в основном, азербайджанским. В советские времена здесь было богатое хозяйство, выращивающее овощи, табак и даже свой сорт винограда. Было — да сплыло. Вместе с коренными жителями. Во дворе обычного, вроде, дома, который оказался и центром общины, и синагогой, меня уже ожидали геры. Русские бабушки, сдержанные, деликатные, но, как оказалось, скорые на язык и, на удивление, свободные мужчины. Никакой позы и стеснений. Словно всю жизнь их снимали журналисты, а не в первый раз.
Все они — остатки некогда большой и процветающей группы русских иудеев из Поволжья.
Еще в 17 веке их предки, свободные крестьяне, приняли иудаизм, посчитав, что Ветхий Завет, то есть Тора — данная, через евреев, миру Книга Книг. А евангелие уже писали люди. Потому они и приняли иудаизм, как первоисточник веры от Всевышнего, вопреки всем своим, таким же русским, но православным соседям. В конце 18-го века гонения на них приняли серьезный характер. Всех русских, соблюдающих Закон Моисея из их деревень, подчистую, многих в кандалах, чтоб не сбежали, погнали на юг, на границу с Персией. От православных подальше, чтоб не смущали и как заслон. Если и вырежут, то не жалко.
Их оставили у большого дубового леса, из которого потом и поднялись дома русского села Привольное, иудейской веры. Название дали такое, потому что власти оставили ссыльных в покое, не вмешиваясь и даже не забривая в рекруты. Еще бы, геры соблюдали все 613 иудейских заповедей еще более тщательно, чем ортодоксальные евреи. Вскоре сюда же выслали и других русских иудеев, субботников. Несмотря на незначительное различие в вере, они старались не смешиваться.
Земля здесь оказалась плодородная и община процветала. Накануне русской революции это село нередко называли «маленьким Иерусалимом». Здесь действовали две синагоги и говорят, что Привольное было самым большим поселением русских иудеев в царской России. Сами по себе. Среди мусульманского окружения. Геры женились только на своих и на еврейках, с этим было строго. Браки организовывали родители, учили иврит, соблюдали традиции, на косяке дверей обязательно прибивали мезузу, старательно возделывали землю. Хотя песнопения пели еврейские, а песни — русские. Женщины, выйдя замуж, занимались подготовкой к субботе, пекли хлеб, следили за кашрутом и покрывали голову.
— А как же, — объяснила мне одна из них. — Чтобы свекр мои волосы не увидел. Грех это.
Революцию они поддержали. И даже воевали в этих же краях с мусульманскими националистами. Уже на посиделках, бабушки вдруг предложили мне показать «их» песню, о своем и соседнем селе, где поселились, кстати, тоже сосланные русские духовные христиане-молокане.
После бодрого запева, они неожиданно хором затянули: «Грянем, ура, чекисты боевые, за новую республику, за новые права…»
Советская власть, оклемавшись, отблагодарила по-своему. Кого-то вскоре раскулачили и сослали. Закрыли синагоги, пристроив здания под складские нужды. Как везде и со всеми в стране. Свитки Торы и выброшенные на улицу книги геры попрятали по домам, сохранив. Им также запретили учить иврит. И даже — молиться.
Во время войны многие геры были призваны на фронт и общий памятник погибшим землякам до сих пор стоит в селе. С русские фамилиями и инициалами. Имена-то у всех еврейские. После смерти Сталина жить стало легче. Они, по-прежнему, старались не пускать чужаков в село, а их коллективное хозяйство под названием «Красный партизан», в память о временах Гражданской войны, было одним из передовых в Азербайджане. Власти, правда, ходили по домам и брали расписки, что эти странные русские не будут молиться своему еврейскому Богу. Они давали — а что делать? Но молились тайно и свято соблюдали субботу. Правда иврит забылся и они уже давно произносят молитвы в переводе на русский язык или читают русскую транскрипцию еврейских молитв.
Все рухнуло, как они рассказывают, после распада Советского Союза. Сначала армянский погром в Сумгаите, затем в Баку. Из республики в массовом порядке стали уезжать русские — туда, где можно было зацепиться. И евреи — которым разрешили выезд куда угодно. Многие геры съехали тогда в Израиль, Германию, США. Их, как евреев, хотя они и русские, признавали везде. В начале девяностых в Азербайджане произошел экономический коллапс, усугубленный войной с армянами за Нагорный Карабах. Колхоз распался, поля стали зарастать, работы не было и практически все молодые и трудоспосбные геры разъехались окончательно.
Последняя свадьба в их селе была в 1994-ом году. Немного смешно, но еврейское брачное свидетельство, ктубу, они называют «ксивой». А «хупу», балдахин, под которым женят молодых, «венчанием». Почти бросаемые дома стали массово скупать азербайджанцы. Новая власть дала людям местную «золотую» землю, колхозное прихватили, по дешевке, приехавшие из города с деньгами. Тоже почти как везде. А из геров в родном селе остались только пенсионеры. Те, кого бросили, забыв, выросшие и устроившиеся где-то дети и те, кто принципиально отказывается уезжать. «Здесь, — говорят, — в этом селе наша Родина, наши предки и родители. И мы останемся с ними».
Живут они за счет приусадебных участков и при помощи еврейской благотворительной организации «Хесед» в Баку, которая привозит в общинный дом-синагогу, продуктовые посылки, медикаменты, одеяла, короче, то что жизненно нужно. Их-то за двадцать последних лет осталось менее тридцати человек. Из примерно пяти тысяч, в основном, новых жителей села — азербайджанцев.
— С мусульманами мы раньше не очень сталкивались, — объяснили мне — Держались сами по себе. Но азербайджанцы толерантны к евреям и, значит, к нам. Никаких национальных трений не было и нет. Но в России многим уехавшим повзрослевшим детям пришлось трудно. По паспорту они русские. Русские и есть. А веру иудейскую как там соблюдать? Не поймут.
— Но ведь все ваши мужчины обрезаны?
— Конечно. Как положено по Закону. И не в больнице, — объяснил один из геров. — Старики наши все делали сами. Пацану грудному губы водкой помазали, он закричал. Обрезание сделали, сиську дали. Он замолчал. На другой день уже словно ничего и не было.
Последние геры держатся за свои традиции. Может, поэтому и стесняются признаться, что их не забрали к себе дети. Тогда, на новом месте, соседи сразу увидят и узнают, что эти русские — совсем как бы не русские. А непонятно как, но евреи.
Дело шло к сумеркам. Надо было возвращаться в Баку — к самолету. Они толпой вышли провожать к машине и долго смотрели, я видел, вслед. Мне было тепло с этими людьми. И легко. И грустно. Но я не почувствовал, что они одиноки. Ни разу, ни с кем.
У них, пока живы, есть свои могилки, своя история и жизнь. И тающая на глазах, но еще живая община. Главное, есть своя вера, почти двести пятьдесят лет. Которой три тысячелетия. А с верой не бывает одиноких. Какому бы Богу человек не молился.
Даже если он и не молится.
Жизнь удалась
Нельзя сказать, что он вызвал отторжение. Другой — это не опасно, ежели не лезет. Просто точки отсчета разные. И видение света и темноты. Таких в делах лучше обходить. А так… Разве, что не спорить. Было в нем нечто неприемлемое и вызывающее легкую брезгливость. Но именно он подсказал вовремя идею, простую, как почти всё в этом мире. Если особо глубоко не заглядывать в унитаз или, наоборот, закатив глаза, восхищенно не занюхивать нарциссы. Так что я ему скорее благодарен. За новый стимул строить дома для подрастающих детей. И им. И себе.
А в остальном, мы просто разной породы. Не больше.
Свел нас, накоротке, но взаимно вежливо, один из Центров отдыха города, куда я сдуру, приехав в Израиль, записался и сразу взял годовой абонемент. Там, недалеко от дома, на пять минут пешком ближе, чем море, имелся бассейн с сауной и фитнесс-центр. Я почему-то решил, что в Израиле буду работать и отдыхать. Не подумал, что здесь быстро появятся русские товарищи и друзья. И все — с закуской. Так что, если об отдыхе, то до какого-то Центра мне уже оказалось не добраться. Но в бассейне несколько раз, вначале, все-таки заплывал. Там мы с ним и встретились…
Оказалось, что земляк. Из Беларуси, из Гомеля. Он был постарше, тогда лет за шестьдесят. И гражданин Германии. На лето — весь в китайском, с головы до ног. Типичный немец. В Израиль прилетел к сестре. Поскольку она жила в недорогом районе, далеко от моря, предпочитал бассейн: и ближе к ее квартире, и не платить за автобус, и есть, где укрыться от солнца. Да и сауна — тоже хорошо греет душу, хотя здесь через вечно полуоткрытую дверь. Зато, сама по себе, факт.
— Жизнь удалась. — сказал он, кивнув на воду под пальмами. И вопросительно посмотрел в мою сторону. Все равно вокруг больше никого не маячило.
— Это как? Мне тоже было скучно. СолнцедАрил выходной, уже пекло довольно ранее утро и народ, оголтелый от прошедшей недели, да еще с детьми, похожими на громкоговорители, пока не набежал.
— Хорошо жить, говорю… Он сел на полотенце и начал растирать пальцы ног, клювастые и желтые, как мандарин.
— Когда ничего и ни у кого не болит, это да, — поддержал я — А было плохо?
— Что мне, «кто-то»? — удивился он — Хотя я везде, у нас, активно поддерживаю Израиль. Это святое. А так, мне и себя достаточно. И всегда хорошо.
— Значит, заслужили, — я подкинул поленце в костер самолюбия.
— Не-а, — клюнул он и наконец перестал возиться с пальцами — Сами дали…
Земляк когда-то в армию не пошел. Зачем тратить годы жизни на то, что не приносит человеку пользы. А только одни проблемы и даже опасности. Не теряя время на глупости, он, закончил институт, поскольку «без бумажки никуда». Затем нашел, не без помощи родных, непыльную работу, где и продвигался еще много-много лет, отведенные на жизнь. А чего дергаться? Со временем, получил квартиру, участок за городом, построил дачу. Немного не повезло с женой. Она долго не удержалась. Родила, что-то стала хотеть от него, на себя, наконец сбежала обратно к маме.
— Не захотела одеяло, — хмыкнул он — Пусть ходит голой. Я предусмотрел.
Сын за годы где-то вырос, у нее и с ней. Теперь он военный моряк и предмет особой гордости отца — Вот какой у меня сын… Но ей он так не говорил. Не до них было. Да и не решился бы. Хотя вспоминал и о сыне, когда сходился, временами, с женщинами. Надо же было как-то обосновывать, что денег на все не хватает.
Зато в остальном он жил честно. Взяток, по должности, не брал, только мелкую благодарность, да подарками, в натуре. Боялся, что посадят в тюрьму.
— Время было такое, суровое — вздохнул он, вспоминая — Эх, мне бы родиться лет на двадцать позже. Повезло тем, кто к распаду Советского Союза оказался в свои тридцать-сорок лет в служебном кабинете…
Уезжать, куда глаза глядят, не захотел. Провожал других, слушал, узнавал, переписывался. Уже было не опасно. Но привычную работу не оставлял, раз не гнали — переползал с полки на полку, благо, что не в общем вагоне. Дожидался до пенсии. Никому не мешал, никуда не лез — на жизнь хватало. Но не больше. А больше, без гарантий — и не надо.
Наконец, оформив пенсию, решил-таки подсесть на поезд еврейской эмиграции в Германию. Терять уже было нечего. Вывез, что мог и себя — необходимый минимум для максимума. Немцы, в память о его погибших в войне, безымянных для него родственниках, дали заботливый «социал», бесплатную квартирку и медицину. Свою квартиру в Гомеле он продал, но никому не говорил, чтоб не позавидовали и не сглазили. Да и не очень большие это, для него, жившего от зарплаты до зарплаты, отвалились деньги. Зато существенная прибавка себе, к уверенности. Все равно тратить больше не на кого. И незачем.
А теперь самое главное. О «жизнь удалась»…
— И вот я, уже пятый год живу на три страны в полное свое удовольствие и радость, — объяснял земляк. — Зиму провожу в Германии, без хлопот, в экологически тихом районе и среди таких же приятных спокойных соседей. Откладываю с пособия понемногу.
Летом выезжаю в Беларусь, где сохранил дачу, поскольку за нее все равно толком ничего не получишь. Она и пригодилась. Белорусские знакомые и соседи встречают, как короля. Я же из самой Германии! Угощают, приглашают в гости, чтоб посмотреть на меня и услышать, как люди живут. И умеют жить. Подставляют одиноких родственниц, в возрасте. Натерпевшихся, но ухоженных и умеющих готовить домашнее. А вдруг увезу? Так что летом я ем, пью и гуляю.
Затем возвращаюсь в Германию. Если скучно, можно взять с группой пенсионеров недорогой, со скидкой, тур в Италию, Словению или Чехию. Проветриться. Но, поздней осенью, выезжаю «на юга», в Израиль. Много места на ночь у сестры я не занимаю. Продукты себе покупаю сам. Утром ухожу на море или в бассейн. Гуляю и дышу. Сразу говорю, что из Германии. И вместо, отработавшего свое, никому не нужного дедушки, становлюсь уважаемым «хером». Сижу с другими русскими пенсионерами за шахматами или еще как.
Тут тоже знакомят с кем-нибудь, кто вдова или одинокая. И не прочь бы уехать в Германию, в Европу вместе. Пособие там капает, а у меня здесь расходы небольшие. Никто от меня не просит, да и некому.
Так и живу: то в Германии, то в Беларуси, то в Израиле. В шоколаде и среди невест. Никакого надрыва и проблем, кроме некоторых возрастных болячек. Ну и как — «жизнь удалась?»
И добавил, почти вопросительно, но уже подразумевая ответ — Подсчитайте…
— Ух ты… — только и выдохнул я, в подкидного. И отвлекся, присматриваясь. По ветке кустов, неподалеку, ползло что-то живое и безобидное. Насекомое. Там всегда, по зелени, что-то ползает на своем поле. Главное, чтоб не змея. Я, с юности, боюсь змей, теток в кабинетах и, временами, женщин. А так, жить можно.
Это нашим детям еще предстоит толкаться и толкаться — никуда не денешься — среди всех этих удачливых, неудачливых, чиновников, полицейских, гусениц, богомолов, жуков, змей и прочей разной живности.
Не перечесть…
Дымок мангала
Как мудро устроены встречи без разочарований:
Поговорили — и разошлись.
Машине надо было отдохнуть. От приволжского Саратова на север, уже в Мордовии, черт меня дернул сократить путь по карте и сойти с основной дороги. Местные проселки оказались похожими на асфальтовую колею после густой, как окрестные леса, «ковровой» бомбардировки. И глубокой, как дыра, в которую я загнал себя сам. Стало понятно, почему по пути меня никто не обгонял и не ехал навстречу. Лес, придорожные поля, далекие темные, с одним горящим окном, глухие деревушки. Неожиданный кровавый закат застал меня врасплох. И я уже внутри порадовался, что ни впереди, ни сзади не было никаких машин. Только воронки на дороге. Когда-то же это должно было закончится? Наконец, как потом оказалось, угробив всё-таки в ямах колесо, я неожиданно выскочил к Пензе. Столице республики. Но в центр не поехал, заправился на окраине, не смотря в сторону на пару стоявших машин с пацанами в одинаковых кожаных куртках и наконец, по навигатору, вышел на трассу в сторону Москвы.
Было уже поздно, почти полночь, отелей вокруг не предвиделось и мне не хотелось даже думать, где проведу ночь. В дороге — значит в дороге. Прижмусь к фуре дальнобойщиков на парковке на час — полтора сна и будет достаточно. Я знал, что впереди, под Москвой, меня ждет Саша Ступников, фотокорреспондент футбольного клуба «Спартак». Он предупредил, что у них в доме можно будет остановиться. Значит там и отдохну нормально.
Когда знаешь «зачем», можно выдержать всё. И даже больше. Иначе и не выезжай, с дивана и окрестностей, на дальнюю дорогу.
Вдруг из ниоткуда, из темноты, вдоль асфальта пошел ряд придорожных магазинчиков, похожих на сараи, те же дальнобойщики, а в самом конце ряда засветился надписью небольшой отель. Оказалось, что пустой. Две комнаты и те свободны. Причем с душем и оббитом по стенам деревом, пахнущим клеем и сауной. Бесцветная, как все не познавшие любовь люди, женщина, лет сорока, лишенная каких-либо эмоций на лице и потому следов хоть какой-либо красоты, глядя куда-то в сторону, равнодушно, почти небрежно сунула себе в карман 20 долларов. И протянула в мою сторону ключ.
Я решил сразу не подниматься наверх в довольно душную комнату, без телевизора и решил просто размяться. У входа стояла молодая женщина с мангалом, предлагая пожарить на открытом огне шашлыки, заготовленные рядом на небольших шампурах. Я еще подумал, сворачивая к придорожному двухэтажному дому-отелю: «Поздно. Прохладно. Машин почти нет. Чего стоять?»
Вид у нее был усталый, даже потрепанный, а на скуле то ли небольшой синяк, то ли ссадина. Есть я не хотел, от переутомления. Но понял, что долгая дорога за рулем и неожиданная удача с ночевкой сразу не свалят в сон. Лучше сначала перекурить и хотя бы постоять.
На другой стороне дороги шевелилась отдельная парковка. Там, среди фур дальнобойщиков мигали синими огоньками две машины: полиция и скорая помощь.
— Что-то случилось? — спросил я у мангальщицы.
— Да, водитель сильно побился.
— Вы уверены?
— Конечно, я сама там была, — обиделась она. — Свалился со второй полки и неудачно.
Женщина вдруг потрогала синяк на скуле.
— Ребята брали у вас шашлыки?
— Брали. Выпившие уже. Особенно тот, который упал плашмя. Повернулся неудачно, — сочувственно сказала она. — А вы будете есть?
— Нет, спасибо.
— И много удается заработать на шашлыках ночью? Людей-то не видно.
— Никого, — в тон сказала она.
— А сколько, извините, зарабатываете?
— Почти ничего… — это по поводу «извините». Ей тоже было скучно. — Пять рублей с шампура. Но и выхода нет. Я живу в деревне неподалеку. Работы у нас нет. Ребенка кормить надо. Вот и выходим к трассе.
— А муж? — наивно спросил я.
— Муж? — удивилась она. — У нас женщины, в основном, с детьми. Мужья кто в городе, кто в тюрьме. А у меня и не было. Ходил один, но потом уехал, даже не знаю, где он. Все уезжают, кто может или решается.
— А вы?
— А куда мне с ребенком. И от дома? Работу еще можно найти, а где жить и на что? Трасса и кормит, слава Богу.
Мы еще немного поговорили о мордовской деревне, беспросветной какой-то жизни, но без жалоб и сожалений. Как о данности, в которой даже не надо выживать, а просто живут, как есть, буднично, какие-то обычные люди. Чтобы есть, что есть. И пить, что есть. Совсем из другого параллельного мира.
Я, в который раз удивился, сталкиваясь с российской глубинкой. Там никто не жалуется на жизнь. И даже о местной власти не говорят — не то, что о начальниках в Москве. Там просто живут, в заданных Богом обстоятельствах. Просто живут — и всё. Без обид и нытья.
— И вы вот так работаете в любую погоду?
— Конечно. Если бы не трасса, даже не знаю что бы делали. Но сегодня, — она посмотрела на отъезжающую от фур милицию и «скорую», — долго не буду. Скоро пойду домой, а утром приду снова.
Она вопросительно посмотрела на меня и я резко захотел спать. Так бывает при встрече с некоторыми людьми и без усталости. Скажут что-нибудь о себе или о ком-нибудь, одной фразой. И вдруг наваливается сонливость или желание отойти подальше. И посылать не надо.
В номере я выключился моментально. С утра принял душ, спустился вниз, сдал ключ и присел там же, в кафушке, выпить бурду, под названием «кофе». Было уже около девяти утра и начинало припекать. Пора ехать. На ступеньках я едва не столкнулся со вчерашней мангальщицей.
— Вы уезжаете? — с видимым сожалением сказала она.
— Ну, да… Опять на работу, так рано?
— Вы какой-то странный человек, — сказала она, поеживаясь и глядя мне прямо в глаза, почти не моргая. — Я сегодня заснуть не могла. Таких не встречала. Со мной никто и никогда так не разговаривал.
— Как это? — удивился я, соображая что же такого особенного спрашивал.
— Никто, — повторила она.
— Долгое прощание на ступеньках? — откуда-то сбоку выплыла тетка, панибратская и жизнерадостная, как проходящая мимо трасса, уже нескучная от машин. Она понимающе что там, по-своему, кивала головой и радовалась. С утра. Кофейная бурда, вместе с неожиданной неловкостью, встала у меня в глотке. — Ну, всего вам хорошего.
И тут почти произошло неожиданное. Женщина, так же, не отрываясь, подалась было вперед на шаг, потянулась, словно хотела поцеловать на прощание. Но, схватившись, смутилась и, разыскав зачем-то замок куртки, подтянула его до самого верха, почти до синяка.
— И вам. Тоже.
Машина, отдохнув, радостно завелась. Майское, яркое от жизни, солнце уже слегка топило воздух, еще не загаженный дымом от придорожного мангала, а управляющая отеля стояла у окна и глядела перед собой куда-то на пустую дорогу. Ни грустно, ни весело. Ни даже в себя. Никак.
И только мангальщица, снова одна перед еще непроснувшейся цепью магазинов и домов отчаянно махала мне рукой. По-русски. Это значит, вперед-назад. Одновременно: и счастливого пути, и уезжай подальше отсюда.
Как глупо устроены встречи без разочарований:
И не поговорили, а — разошлись.
Еврейский солдат вермахта
Война застала его в украинской Шепетовке, где молодой учитель едва начал работать в школе. Мобилизованный, он отступал вместе с армией, пока не был ранен и не оказался в ростовском госпитале. Там к нему обратился офицер советской разведки с предложением после выписки пройти курс в диверсионной спецшколе.
— Нас пекли как блины, — вспоминает Ингерман в своей небольшой, но уютной квартире в престижном районе северного Тель-Авива. — Курс занимал всего несколько месяцев. При этом никто не знал, какое конкретно задание и где он будет выполнять. Никаких подробных «легенд» не разрабатывалось. Нас готовили для диверсионной работы в тылу немцев. И вдруг по завершении курса мне, как и другим, выдали конверт, где было указано задание и место заброски. Я чуть не упал в обморок от неожиданности. Командование направляло меня за линию фронта в район Таганрога с целью внедриться в фашистскую армию.
Была «явка» — якобы дальние родственники — и история о том, что, мол, моя мать немка, а отец — репрессированный коммунистами казак. Отсюда и хорошее знание немецкого языка, и ненависть к режиму. На самом деле немецкий я действительно знал хорошо, вырос в среде идиша и немецких поселенцев-соседей в Молдове, затем серьезно учил его. Но одно дело — партизанская и подпольная работа, а другое — хоть и голубоглазый, но тем не менее чистокровный, да еще обрезанный еврей. Цель заброски — вермахт — показалась мне самоубийственной. Командир, услышав мои доводы, только махнул рукой: мол, двум смертям не бывать…
Так летом 1942 года Якова Ингермана и еще одного выпускника разведкурсов забросили в тыл врага. У каждого было свое задание, но так случилось, что судьба через какое-то время трагически свела их вместе. Для начала Ингерман обосновался у якобы дедушки, оставленного для подпольной работы.
Оглядевшись, он однажды подошел к немецким солдатам и попросил у них почитать газету на немецком языке. Слово за слово — и вскоре Якова пригласили работать переводчиком. Это был первый шаг к выполнению задания.
Еще через какое-то время его, как переводчика, востребовало местное гестапо. И именно там он вновь встретился с товарищем по заброске. Захваченный в плен разведчик был так избит, что не мог говорить, но показал, что узнал Якова. И не выдал. Вскоре его расстреляли.
Ингерман между тем продвинулся до настоящей военной службы. Разбитного молодого парня, «фольксдойче», взяли во вспомогательную строительную часть, с которой он пошел на восток, оставаясь переводчиком и старательно избегая совместных бань. Он настолько приглянулся командиру роты, что тот перед строем объявил о намерении после войны забрать парня в свою семью и считать его приемным сыном. Яков же тем временем связывался с подпольем, передавал информацию, документы, а по случаю — и оружие.
— Меня все время мучила одна и та же мысль: что я делаю здесь, рядом с врагом. На фронте люди гибнут. А я что-то передаю, какую-то мелочь. Мне казалось, что я слишком мало делаю для Родины. Но Центр запретил мне даже думать об уходе к партизанам.
Его часть ремонтировала линии электропередачи и водопроводы, несколько раз их привлекали к охране советских военнопленных, но фронт был где-то далеко. В 1943 году он стал отступать почти тем же путем, как отступал вместе с Советской армией в сорок первом. И везде были связи с подпольщиками, перед которыми Яков всегда представлялся как просто «друг».
— Была еще одна проблема, о которой я не забывал никогда. Меня забросили в тыл к немцам, не подумав, что я — обрезанный. Что только не пришлось придумывать, чтобы не оказаться в бане или раздетым вместе с другими солдатами.
— А медицинский осмотр? Или его не было в полевых условиях?
— Было… Но я подружился с нашим врачом, заскакивал к нему, болтали обо всем, на здоровье не жаловался и как-то «проскакивал» формальности. Обрезанный солдат гитлеровской армии — это было невозможно…
Сейчас он осознает, что далеко не всегда был осторожен, и потому верит в ангела-хранителя. Но признает, что тогда, во время войны, ненависть почти заглушила страх. Когда часть проезжала родную Шепетовку, Яков не выдержал и удрал в самоволку — чтобы узнать о судьбе своих родственников. Они все погибли — сказали соседи.
А потом немецких «стройбатников» перебросили в Италию. Яков к этому времени уже был ефрейтором, чувствовал себя уверенно, но, потеряв связь с Центром, сам вышел на местных подпольщиков. Сначала присматривался к людям, потом заговорил. И не ошибся. Передавал оружие и информацию, однажды помог переправиться в горы группе бежавших советских военнопленных. И по сей день документ — благодарность от партизан-«гарибальдийцев» Ингерман считает своей самой высокой наградой.
Американцев, освободивших Италию, он встречал уже вместе с товарищами, в гражданской одежде, с оружием, трехцветной национальной повязкой на рукаве и с молодой женой, дочерью итальянской графини Ольги Марино, которая участвовала в Сопротивлении и прятала партизан.
В то время в Италии были очень сильны коммунисты, Советский Союз уважали, и Яков не чувствовал себя чужим, хотя и хотел вернуться на Родину. После победы он вместе с женой направился в Милан, узнав, что там открылась советская миссия. Они хотели вместе вернуться в СССР. Но тут произошла удивительная встреча, которая вновь в корне изменила его судьбу.
Молодые решили добираться в Милан через Венецию. Просто чтобы по дороге посмотреть этот город. И вдруг на улице Яков увидел группу молодых парней в английской военной форме с еврейскими шестиконечными звездами. Он не смог пройти мимо. Это были солдаты Еврейской бригады, сформированной в Палестине во время войны, когда войска Роммеля рвались в Египет. Теперь эти парни занимались отправкой уцелевших евреев в будущее еврейское государство.
— Куда тебе возвращаться, — сказали они. — У тебя ни дома, ни близких. Оставайся, помоги нам. И таким, как ты. И себе.
Яков остался с ними. А вскоре вместе с женой нелегально прибыл в Палестину. Они поселились в кибуце — сельскохозяйственной коммуне, где все работали, заменяя друг друга, ели в одной столовой, не получали зарплаты и верили в создание своего государства и… в Советский Союз.
— Мне и сейчас больно, когда я думаю о распаде СССР, — признается Яков. — Социализм — это не картошка, нельзя просто так все отбросить. Я хорошо помню, как в кибуце висели портреты Ленина и Сталина. И мы хотели построить светлое социалистическое будущее на этой земле. Поэтому я окончил офицерские курсы и в 1948 году воевал за независимость только что провозглашенного Израиля в чине майора. Мы хотели построить справедливый и единый Израиль — как для евреев, так и для живущих на этой территории арабов. Не вышло.
Они расстались с женой. Жить и работать с утра до вечера после Италии в кибуце, могли те, кому уже нечего было терять. Но неожиданно выяснилось, что его мать выжила в войне, и ему удалось переправить ее в Израиль, где она прожила до 96 лет и очень гордилась сыном. Тем более что три десятилетия, до пенсии, Яков проработал в израильской разведке. Чем он занимался, не говорит и сейчас. Известно лишь, что в начале шестидесятых получил награду «За вклад в укрепление безопасности страны».
В разведке он встретил и свою вторую, нынешнюю, жену. Они живут вдвоем, читают друг другу вслух его любимого Гейне на иврите и обсуждают политику. Он ни разу не был ни в Союзе, ни в СНГ, хотя каким-то образом сохранил прекрасный русский язык. Их дочь — профессор университета. Другая дочь, от первого брака, перебралась в… Германию. А внук на момент нашей встречи сидел в военной тюрьме за отказ служить, как он считает, на «оккупированных территориях».
— Я горжусь этим мальчиком, — говорит Яков. — У него есть характер. Мы воевали всю жизнь и построили то, что построили. Мы воевали с фашизмом, у нас была мечта и была идея. Сегодня я этого не вижу. Что будет с миром, с нашими внуками, с Израилем через пятьдесят лет? И будет ли Израиль? Я в этом не уверен.
Неверный выбор
— Почему бы вам не продавать бижутерию? — спросил меня израильский лоточник, с товаром на земле, около которого я неосторожно остановился. А он спросил откуда, мол, приехал.
— Мне? — я огляделся по сторонам и подумал, что надо было посмотреться в зеркало перед тем, как выходить на улицу.
— Конечно, — утвердительно закивал он — Вы возите к себе домой, друзья продают, а я поставляю товар. Чистый бизнес, без налогов. — Друзья — то у вас есть?
— Может, лучше чайники возить? — ответил я, помятуя, что мы в Израиле и мой ответ поймут правильно.
— А что, там и чайников нет? — обрадовался лоточник.
— Есть. Но почему я? — мне стало интересно.
— А у вас лицо располагающее. Как у Де Ниро.
— Но Де Ниро же не торговец. Он актер.
— И что? У него бы все покупали. Но он не захотел стать тем, кем мог бы стать.
На том мы и разошлись. Не торгуясь…
Кино и жизнь
Донатас Банионис — один из любимейших актеров некогда еще советских зрителей. Культовые фильмы «Никто не хотел умирать», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Мертвый сезон», «Солярис»… Всего — около семидесяти киноработ.
Последнее время его было не видно в новых ролях. И время великих режиссеров, у которых он снимался прошло. И Литва уже не просто самостоятельная, а в Европе. Да и сердце стало подводить — все-таки родился актер в 1924 году. Не вчера.
В его небольшой квартире, в Вильнюсе, хотя обычно Баниониса связывают с театром в небольшом городке Паневежис, каждая деталь в доме говорит о том, что здесь живет мастер. И оказалось это незадолго до его ухода.
— Неужели никогда не возникала мысль покинуть Литву? Ну, когда Советы пришли, или немцы, или потом…?
Банионис: — Было такое. Впервые вам расскажу.
В 1944-ом бежали мы, вместе с режиссером Мильтинисом и еще одним человеком, на Запад, от Красной армии, но нам перекрыли дорогу почти у границы с Германией (Восточной Пруссией) и не успели проскочить. Но, может, как повернулась жизнь, и хорошо, что не получилось.
— Не думал, что Банионис пытался бежать от русских. А чего вам-то бояться было?
— Во время немецкой оккупации в Литве не было культурных государственных институтов, ни министерства, ни объединений. А мы работали в Паневежисе как литовский городской театр, ставили пьесы, играли на родном языке. В основном литовскую классику. Русских авторов, понятно, нельзя было. Но немецких авторов тоже не играли. Собственно, я там и начинал как актер. Труппа была, главным образом, из студентов. Вот и получалось, что работал «при немцах».
А мы очень боялись большевизма. Перед самой войной, за неделю, с четырнадцатого по шестнадцатое июня, в течение трех дней, по всей Литве прошли массовые аресты и депортации. И все думали — Господи, пришли бы немцы, спасли бы… Высылали за три часа. Ночью по городу ездили на грузовиках, со списками и забирали людей. Без суда, без объяснений. — У тебя, — говорят — Дядя враг народа. Или что-то подобное.
Это был приказ Сталина и разнарядка «выселить десять тысяч». Вот и выселяли. Хватали, чтобы отчитаться. Чтоб самих потом не обвинили в подрывной деятельности. Три ночи в Литве страшное, что творилось. Боялись и потом, что НКВД вернется. Я, собственно, протянул время — можно было и раньше бежать.
Но мы ждали, что у нас американцы высадятся. А, когда поняли, что их не будет, то уже поздно оказалось. И впервые я выехал в ту же Америку только в семидесятом году. Сложно было выехать. Приглашали не родственники, а одна организация. Так просто не выпускали. То — да, то — нет. Тянули долго. Но потом вмешались сверху, мол, пусть едет. И все равно, меня инструктировали в ЦК партии Литвы — Ты там лишнего не говори. Но им уже надо было выпускать. Чтобы показать миру, что в стране якобы нет «железного занавеса». Поездил я тогда по приглашению по всей Америке: от Лос-Анджелеса до Балтимора и Нью-Йорка, посмотрел и подумал — Хорошо, что «тогда» убежать не получилось. «Не мое». Конечно, люди там богаче жили, чем в СССР. Ну что бы я, актер, делал бы в США? Там можно и на заводе работать — хорошо зарабатывать. Конечно, там даже тот, кто заборы красит, получал больше, чем я, уже известный в СССР. Но я-то понимал, что даже сейчас меня пригласили в Америку именно как актера, снявшегося в «Солярисе» Тарковского, у режиссера Жалакявичюса. В Голливуде, я посмотрел, хорошо работают. Но что я там буду делать, кому я там нужен?
Хорошо, что не удалось сбежать в сорок четвертом. Какой толк от этих денег, если не занимаешься своим любимым делом. Если ты никто.
— А как вы относитесь к распаду Советского Союза? Вы ведь любимы…
— Очень хорошо отношусь. А зачем такой Союз нужен был? Это потом, «оттепель» пошла, стало легче. Но все равно закрытое общество. Тебе там из Москвы звонят и говорят, что показывать. Да еще такие были, кто считал, что, мол, ты тут правду хочешь показывать? А разве партия не выше правды? Нет, я бы не хотел прежней системы. Хотя кто меня спрашивал? Кто нас спрашивал? Я что, хотел, чтобы был сороковой год, когда пришли Советы? Иди позже — когда ворвались немцы в Литву или Сталин хотел? Но это было. Без нас все происходило.
— Но сейчас, после революции, в Литве, возможно, как и в других постсоветских странах, похоже, какое-то затянувшееся время культурного безвременья…
— Конечно. Только почему «после революции?» Это не только у нас. Это везде, такой глобальный процесс. Я много бываю на фестивалях, езжу, но телевизор уже даже не включаю. Я уже знаю, что там будет: или кто-то морду бьет, или взрывает или стреляет. Больше ничего. Даже анонс, мол, что будет интересного — это мордобой, секс, убитые. Не показывают там сегодня Феллини, Бергмана или Тарковского…
— Рейтинг — глас народа. А что остается?
— Ничего, кроме как создавать настоящие произведения — в знак протеста. Работать в знак протеста. Вопреки. Посмотрите, и раньше так было. Все лучшие пьесы — это протест против того, что происходит. В этом смысле ничего не изменилось. Вместо запретов пришел мусор.
— Но раньше было трудно протестовать..
— Так ведь и кричать необязательно. Надо просто заниматься своим делом. Тем, которое знаешь, умеешь и, что очень важно, в которое веришь. Но разве пошел у кого-то на поводу Тарковский? Или Желакавичюс? Многие не пошли. Не смотря на то, что мешали, закрывали. А мы делали по-своему, по-другому… Даже когда снимали вместе с немцами «Гойя», нам навязывали образ художника, как марионетки. А мы делали как считали нужным. У меня есть свой взгляд и свои мысли и по поводу того, что сегодня происходит с культурой. И у нас в Литве. Но я также знаю, просто кричать бессмысленно, не стоит суетиться. И я рад, оглядываясь, что у меня были такие работы, шесть — семь фильмов, которые оставили след в мировом кино, и у зрителей. Те же «Никто не хотел умирать», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Гойя», «Солярис». Это останется и я в них делал то, что мне по душе.
— Но у вас были сильные работы и в советских патриотических культовых фильмах, «Мертвый сезон», например.
— «Мертвый сезон»? А вы знаете, что мы не успели снять и трети этого фильма, как его было, закрыли, меня сняли с роли. Потому что мы правду играли. А «им» она была не нужна. Нужно — как надо. Но помогли наши прототипы из жизни, из советской разведки. Мой прототип выступил, что мы не играем тут какие-то патриотические лозунги, а реальных людей. И он поехал на Запад тогда работать на разведку, хотя и не был уверен, что прав. Но работал честно. И он защищал нас и правду. Вмешался великий Михаил Роом, свое весомое слово сказал разведчик Конон Молодый. И «они», кто мешал, отступили. Директор картины сказал «я умываю руки», раз вы все настаиваете, но, если будут неприятности и обвинят в «антисоветчине», пеняйте на себя. Правда, когда фильм и наши работы оказались успешными, он уже молчал и радовался. Это же был и его успех.
— А кому она нужна была — правда? Она и сегодня никому не нужна.
— Может кому-то и не нужна. Но мне и вам — нужна. Её трудно доказывать. Кто-то всегда считает, что она другая. Потому что у каждого своя правда. И навязывать ее можно по-разному. Можно силой, а можно тем, что показывают сегодня по телевидению. Другое дело, что молодежь запуталась уже в правдах. И я не вижу вокруг настоящего, что-то сделанного в кино или театре вечного, на уровне. Как я называю «от Софокла…» И до сегодняшнего дня через Шекспира, Мольера, Чехова. Может где-то подпольно, невидимо для нас и творят люди, делают, но их не видно. Помню, еще в юности, еще до войны, я впервые увидел в Литве фильм «Веселые ребята». И мне показалось — как хорошо в Советском Союзе жить. Как здорово. И мне казалось — вот она, правда. А как же? Если в кино врут, то в газете бы сразу написали об этом. Разве можно не верить тому, что пишут для всех или всем показывают.
Ложь ведь сразу бы разоблачили — такого, мол, нет, это все сказки. И только потом разобрался, с всякими там Лениными-Сталиными, что на самом деле и что такое неправда, но — для всех. Это было так тогда, а сегодня другое…
— Реклама, мишура, покемоны. Уйдет ваше и среднее поколение, со своими ошибками и успехами. Но мне кажется, что складывается реальная ситуация, что и «школа» уйдет, разве нет такой опасности? И где выход?
— Посмотрите телевизор. Включите, сразу все видно. Если человек мыслящий, читающий — то он разберется. А, если он все время сидит у компьютера и смотрит только то, что ему дают, приносят на блюдечке, даже пережевывать, напрягаться не надо. И получается этакий нереальный, виртуальный мир. Меня беспокоит, что молодежь мало читает серьезное и настоящее. Ну, не очень знают сегодня, кто такой Достоевский, а больше интересуется, какая должность, чем занимается, сколько он зарабатывает? Только это. Успешный что, занимается компьютерами? Вот, попробуйте, спросите на улице. Что там, спрашивать сегодня о Достоевском… О Бальзаке и не говорю. Ну и что? Это у меня такой пессимизм, но с юмором, легкий. Я не жалуюсь, нет вроде оснований, но нет сегодня для меня такого, что бы я делал с такой радостью и отдачей, как было, когда работал над настоящими ролями и в настоящем театре и кино. И дело не в том, что времена изменились. Оно конечно — меняемся и мы, и время. Я о другом. Изменились приоритеты, оценочные и нравственные критерии.
Раньше мешали напрямую, старались навязать свое, какие-то штампы. Диктовали и вмешивались. Причем те, кто мало что понимал в том же театре, но считал себя по должности знатоком. Но настоящие творцы свое дело делали честно и сильно.
Помню, вдруг появился фильм «Сорок первый». Любовь. «Белый» офицер и убивающая его в конце, как врага, но ни за что «красная» девушка. Это было уже шагом. И высоким языком. Также происходило и с Тарковским. Мешали, ругали, замалчивали. И что? Я помню, как Тарковский дал мне ключ от какого-то маленького зала на «Мосфильме» и я тайно там смотрел его «Андрея Рублева», уже запрещенного. Он еще предупредил: «Если кто спросит, что здесь делаешь, скажи, что смотрю отснятые материалы». Такая была жизнь в чем-то. И где «они» — те, кто диктовал? А «Андрей Рублев» останется. Наш с ним «Солярис», кстати, зритель и тогда очень плохо принял. Ну как же, действия нет, «экшен» нет. Даже на Каннском фестивале плохо принимали — дали нам «Серебряную пальму», но это жюри словно компенсировало. Оценило. А зрители не приняли. И пресса была вялая. Но через несколько лет загремело везде. А сегодня все наоборот. Тарковский как эталон. И заслуженно. Вот пересняли американцы с Клуни свой «Солярис», деньги вложили, реклама, актеры дорогие, но критики фильм очень нелицеприятно сравнивают с работой Тарковского. Значит, истина была «тогда», у него. Хотя у новой версии, может быть, коммерческая цель — основная, как и во всем. Вернуть свое и заработать. И достаточно. Но главное, все-таки, что правда и творчество были всегда — «несмотря на обстоятельства».
— Так что, можно сказать, что культура сегодня — это «Мертвый сезон»?
— Что говорить. Оглянитесь. А в России? Да во всем мире так. Коммерция во всем — деньги зарабатывать. А зарабатываются они только на очень низком уровне. В России, как я вижу, в этом смысле еще хуже. А вы посмотрите классику, у Софокла, у Эврипида — те же проблемы, теми же вопросами человек задается и мучается, решает. Все то же, что с ним и сегодня. Но как это было написано, как сделано! Тогда, в Древней Греции. А Шекспир? Человек и его бытие за две с половиной тысячи лет не изменились. То же самое находишь там, что и сегодня волнует. Жизнь, она меняется, но человек и его стремление познавать и страдать, и радоваться осталось тем же. Потому что писали о вечном, хотя вроде о своем времени. Вот, вспомните, «Макбет» Шекспира. Это же не просто интересная история о том, как нормальный, в смысле не злодей, человек брал власть. Потом убил короля Дункана, потом еще, и еще… И чем это закончилось, мы знаем. Но ведь это же история про Сталина — надо только посмотреть, не акцентируя внимание на костюмах, а на суть… Но ничего, все настоящее вернется, никуда не уйдет навечно — так уже было. И в Греции, и в Древнем Риме. Период упадка культуры не в первый раз в истории. Конъюнктура, конечно, всегда на плаву. То политическая, то коммерческая, ниже пояса. Ее легче переваривать — не надо напрягаться. Но настоящее снова поднимется.
— А в Литве что происходит с творчеством? Наверное, создается новое?
— Что говорить. Кино и кинопроизводства своего нет. Но в театр, я это вижу по Вильнюсу, на новые постановки зритель ходит. И ставят старые интересные работы. Лично я играю «по договору» и уже не состою в штате театра. Предлагают — работаю. Пьесу и роль выбирает не актер, а режиссер. Он определяет, а мое дело правдиво раскрыть образ, а не спорить о творчестве. Раньше актеры вообще не спорили с режиссером. Тебя не спрашивают — нравится роль или нет. Режиссер ее давал и ты должен играть. Вот так у нас было, еще у Мельтиниса. Не нравится? Не устраивает? А чего ты тогда в нашем театре делаешь? Ищи другой. Нравы были, по-своему, суровые.
— Тоже тоталитарный режим?
— А как же. Так и должно быть в театре. Здесь демократия другая. Зато посмотрите, он держится на режиссере, прежде всего. Был Товстоногов — был замечательный театр. Не стало Товстоногова и этот театр закончился. Название осталось. Так же было у Станиславского, и у «моего» Мильтиниса. Да, во всем мире так.
— Я вот посмотрел на вашу визитную карточку. А на ней написано просто «актер». А где регалии, звания? Это тактический ход или…
— Нет, это принципиально. На Западе тоже на визитках достойные люди «красивое» не пишут. Помню, еще с итальянцами мы снимали фильм «Красная палатка», так они смеялись над нашими титулами. У меня много зримых наград, но я никогда в жизни их на пиджак не вывешиваю. Спасибо, конечно, что оценили — вот оно у меня и для меня останется. Это и есть принципиальный подход к своей профессии. Актерская школа еще со времен начала моей работы в театре в 1941 году. Ты — это только то, что ты на сцене. Награды, оценки — хорошо, но показывать всем, что они у тебя есть… Не правильно, не мое.
А вообще, я верю в судьбу. Надо же было попасть именно к такому режиссеру как Мильтинис, в маленький город, да еще во время оккупации. И дальше, и дальше.
Ты хочешь изменить судьбу, а она меняется так, как сама должна меняться. Как у многих героев Шекспира. Если ты сопротивляешься судьбе и хочешь ее изменить по-своему — оказывается, что это и есть твоя судьба, на самом деле.
Свобода выбора
В американских библиотеках не требуют ни записей, ни формуляров. Вход и доступ свободный. Я не без труда нашел одну из них. Методом тыка в поиске и жестов в общении вскоре нащупал нужные адреса. Получился некий список правозащитных организаций и институтов, работающих по Советскому Союзу. Одна из таких организаций со звучным названием «Комитет защиты прав человека в СССР» оказалась неподалеку от Филадельфии, в небольшом городке той же Пенсильвании.
— Дорогу мы вам оплатим и за небольшую работу тоже. Приезжайте, — сказал мне по-русски неизвестный господин по телефону. Весь мой бюджет укладывался на автобусный билет, сигареты и даже на гамбургер с кофе. Но зато не надо было ни у кого просить. Впрочем, и просить было не у кого.
Права человека в СССР защищали в типично американском двухэтажном деревянном доме милого и чистенького поселка, словно выписанного с пасторальной картинки. Весь комитет на самом деле состоял из двух человек — очень отутюженного, с франтоватым цветным платком на шее, пахнущего наверное дорогим лосьоном американца, не говорящего по — русски, но с красивой итальянской фамилией Распонти и архитектора из послевоенной русской эмиграции.
— Мы существуем всего три года, — объяснил архитектор после того, как мы пообедали в «Макдональсе» и заодно поговорили — Головная организация работает во Франкфурте — на — Майне, в Германии. Можно сказать, на второй Родине. Я там пережил войну, потом учился и жил до Америки. А здесь мы уже создали солидный попечительский совет, связались с аналогичными организациями, обратились за финансированием к правительству и скоро получим деньги. Месяца через три-четыре возможно предоставим Вам работу. Но уже сейчас можем предложить должность заведующего отделом Восточной Европы и СССР. Правда, пока на добровольных началах. Мне нужно разложить и разобрать по темам вырезки из газет, но это завтра. А сегодня надо привыкать к тому, что в Америке не чураются любой работы. У меня перед домом на лужайке много опавших листьев. Вот пластиковые мешки, грабли — и вперед.
Так я заработал свои первые американские деньги — восемь долларов за два с половиной часа.
На втором этаже дома был маленький флигель и груда газетных вырезок на столе. Под вечер архитектор дал мне одеяло и спальный мешок, который я расстелил на пол. Если бы не холод под утро, было вполне прилично. Почти свежий воздух, пахнущий пряной травой — прямо как в пионерском лагере летом много лет назад.
Я мог бы рассортировать ему весь архив и перевести несколько писем на русский за один день, но понял, что платить будут по американскому минимуму не за работу, в целом, а, как здесь, к счастью, принято, что называется, в час. Смертельно не хотелось возвращаться в Филадельфию, и надо было оставить что-то для следующей поездки.
Архитектор оплатил мне затраты на дорогу и восьмичасовой рабочий день. На обратном пути в кармане у меня было уже почти сорок долларов и я впервые за несколько последних дней почувствовал себя увереннее. Чтобы не расслаблялся на радостях, Господь к полуночи забросил меня, запутав в автобусных пересадках чужого города, в полутемный и почти безлюдный трущобный район. Кирпичные стены, мусорные баки, чахоточный на фоне ночного дождя свет окон, ни деревца — одно и то же на все четыре стороны.
Мужик в темноте возник как из-под земли на расстоянии вытянутой руки. Он был совсем «черный» на фоне черной стены черной улицы черного города.
— Эй, — сказал он беззлобно, — ты гей?
Я тогда не знал, что это такое, но на всякий случай, не останавливаясь, сказал:
— Нет.
— А доллар есть?
— Нет
— А ты подумай?
Он пошел за мной, пристраиваясь сбоку.
— Сказал же тебе: нет.
Мужик поднял с улицы приличный камень.
— На, — я сунул ему пятерку, отложенную в расходы на завтрашний день.
Он словно растворился в темноте. Мне повезло — это был одиночка-наркоман. Позже, уже в Нью-Йорке, мне объяснили, что, если уж нет машины, в кармане всегда надо носить с собой не менее пятнадцати долларов. На случай грабителей или наркоманов. Меньше не рекомендуется — могут обидеться и ударить ножом.
И все-таки первый заработок окрылял. Чтобы начать жизнь в Штатах с нуля, как минимум, надо было где-то заработать первые двести-триста долларов.
Наутро я попытался устроиться на любую работу в одну из местных газет — курьером, посыльным, уборщиком. Мне повезло. Заведующий международным отделом солидной «Филадельфии энкваэрер» оказался совсем нетипичным американцем. Он не мотал поощрительно головой, не скалил зубы, не излучал активную доброжелательность.
— Послушай, парень, — сказал он просто — Тебе надо идти обычным путем эмигранта и переучиваться или, а это, как мне кажется, у тебя получиться, переезжать в Нью-Йорк. В озере легче выжить обычным рыбам, там мало хищников. В океане гораздо опаснее и труднее, но и воды больше. И возможностей тоже, если есть желание жить.
Он не послал меня в «гуд лак», этот коллега американец, но обосновал то, о чем я уже думал — вырваться.
На самом деле это одно из ключевых понятий в жизни. Вырваться из школы, из дома, из одиночества, из рутины, перемалывающей год за годом выделенное нам Богом время. Вырваться из обстоятельств, в которые человека ставит государство или он загоняет сам себя. Вырваться из бедности, ставшего наказанием. И из благополучия, означающего нередко не более, чем плату за поражение в жизни.
На главное, нужно было вырваться. Даже в никуда.
А это всегда означает — подальше.
Кобра на сковородке
Она смотрела на меня, не мигая. Томная, но отстраненная — вся в себе. Парень-вьетнамец вытащил ее из тонкого полупрозрачного мешка, валявшегося около лестницы, ведущей на второй этаж после того, как мы сторговались о цене. Начали с сорока, но «закрыли» на шестнадцати долларах.
Мешков было несколько, и они все шевелились. Как гены — во мне. Уползающие куда-то вглубь миллионами лет назад. Я смотрел и на кобр в руках парня, и одновременно на живые мешки в углу. Старался не отвлекаться по сторонам, но мельтешил все больше и постыднее. Вправо — влево. Чтоб уследить за всеми. И, по нарастающей, чувствовал себя встревоженной обезьяной, затрепетавшей из прошлого где-то во мне.
Первобытный страх — это явный признак живого. Ищи, хватай, держи, защищайся, бей, беги. Но почему тогда так хочется происходить от Бога?
— Выберешь, какая понравится, — скупо показал жестами верящий только в себя вьетнамец и начал смотрины.
Я вытащил видеокамеру. «Змей можно вставить, при случае, — подумал тогда, — в любой сюжет о политиках или крупных бизнесменах. Особенно если они в куче». Горные и просто козлы, а также дерущиеся ишаки подходили под эту тему идеально. Хотелось чего-то новенького и животрепещущего.
Между тем, таких кобр, как та, что пошла ко мне, оказалось несколько. Все похожие внешне, но по характеру разные. Сами черные, в полумраке дома, с блекло-желтым подбрюшьем, они стремились куда подальше, не особо разбираясь в направлениях.
Одна сразу встала в стойку и начала бросаться в стороны, шипя от злости. Наверное, самка. Две другие выворачивались на полу, расходясь в разные стороны. Они были относительно небольшие, метра полтора-два. Упругие и самодостаточные.
Та самая, что смотрела, вдруг поползла прямо на меня. В видоискателе камеры они все сначала казались дальше, чем были на самом деле. В реальности оказались метрах в трех.
В долю секунды я взлетел на стул, прикидывая по ходу, что стол — выше.
Вьетнамец меланхолично схватил двух тварей за хвост, а на третью наступил. Кобры пытались уйти, но он балансировал и держал их крепко, переплетая. А затем, вывернувшись, вдруг поднял пару и бросил, держа, на стол. Прямо передо мной. Он дал мне поснимать их с разных сторон и вновь спросил — Какую выбираешь?
Мне было все равно. Твари, они на одно лицо. Только размеры разные. Парень затолкал двух кобр в мешок, а третью на весу вынес на улицу. Держа ее за глотку с раскрытой пастью, ножом, вживую, вскрыл сверху донизу, как расстегиваемый замок. Я на секунду почувствовал себя защитником животных, но передумал.
В поставленный внизу большой стеклянный бокал шустро потекла кровь. Красная и густая. Затем парень пальцами вырвал ей сердце и бросил в тарелку.
Еще через несколько минут, когда вся кровь стекла, вьетнамец, как чулок, снял кожу, отрубил ножом зубастую оскаленную голову и промыл змею в тазике с водой.
Он жарил ее порубленное мясо на открытом огне, играючи. И вскоре мы вместе сидели за столом и в стакан крови кобры доливали рисовую водку.
Вьетнамец показывал, поднимая большой палец вверх, что такая смесь — натуральная виагра и естественный тонус. Это был аргумент.
Я на секунду замешкался и выпил. Затем, опять же под водку, хлопнул ее сырое сердце и насел на мясо, похожее на рубленую свинину.
Ночью мне снились кобры и женщины, ползущие на меня в едином строю. Упругие и черные. И я, окруженный, не мог нащупать спасительный стул. И кричал им, мол, не верьте в байки о тонусе.
А они ползли, гадины, и не слушали.
Хорошо, когда можно проснуться. В соседнем номере, сдаваемом, судя по всему, на почасовой основе, извивалась и стонала, отрабатывая свое, профессиональная вьетнамка.
«А насчет тонуса он не соврал, — подумал я, ощущая боевую готовность. Беспощадную, но бессмысленную. — Живу…»
Англичанин в Лаосе
Во Вьентьяне, приехав туда на автобусе из Таиланда через Меконг, я быстро нашел недорогой хостел, бросил рюкзак и, пройдя немного по куцей, но уютной улице, присел за столик солидной гостиницы в колониальном французском стиле. Без колонизаторов здесь, похоже, было бы смотреть почти нечего. Разве что сразу ехать в душном автобусе через джунгли на самый север страны, в глубинку, в Луангпхабанг, к пагодам.
Но сначала, где бы то ни было, надо оглядеться и решить куда идти. Когда можешь идти на все четыре стороны — это труднее, чем направиться куда-то по команде сверху. Быть ответственным за себя, за свою жизнь и ее время — это и есть свобода. Но зато она не оплачивается, поскольку ничего не стоит. Одно слово — бесценная. Для тех, кто знает ее цену.
Пока я так сидел и раздумывал, рядом за столик присела пара из отеля. Молодая ухоженная таиландка, сдержанная и женственная, как многие на Востоке женщины. И большой шумный англичанин, с четким раздельным произношением образованного человека, седой и размашистый. В белой расстегнутой рубашке и в соломенной шляпе, под шорты и кожаные сандалии. Такой же «колониальный», как и отель, откуда они вышли то ли позавтракать, то ли уже пообедать.
Мне симпатичны такие мужчины — раскованные, но не развязные, мощные, слегка небрежно одетые, из сибаритов, любящие жизнь, еду, смех и женщин.
Он размашисто сделал заказ, вытащил трубку, набил ее табаком и замешкался. — Не дадите зажигалку? — повернулся ко мне, тискающему сигаретку, даже не двигая стул. Мы сидели рядом, дыша друг на друга спинами — Совсем расслабился, забыл…
— Нет необходимости быть напряженным, — подыграл я, чувствуя пришедший отходняк от ночного переезда из Бангкока в Лаос. Голова была тяжелая от недосыпа и предвкушения новой страны.
— Боб, — представился он и добавил, поймав мой взгляд на женщину — А это подруга, можно сказать жена, из Таиланда. Я там живу.
— А сюда какими судьбами, посмотреть?
— Да нет. Каждый полгода, когда истекает туристическая виза, приезжаю на пару дней, пока не получу новую. Законы надо соблюдать — хмыкнул он, — А сами откуда? — он мне все больше нравился. Открытые люди, как правило, умны и интересны. Им всерьез некого бояться. Кроме себя.
— Из Бирмингема, — пыхнул душистым табаком Боб и добавил — Англия. — Хорошая страна, — польстил я, искренний — Жил там, в Лондоне, четыре года. Люди хорошие. — Пожалуй, — поддержал он. И вдруг добавил — Только бабы — стервы… — А где не стервы? — я подстроился под волну и окончательно расслабился. Официант, в полупоклоне, принес им салаты и пиво. А мне кофе с молоком в большой чашке.
Кофе был хорошим, густым и сладким. Как оказалсь позже, Лаос — единственная страна, где его подают не с сахаром, на выбор, а с русской «сгущенкой», тягучим сладким концентрированным молоком, налитым в кувшинчик. Воздух после недавнего тропического дождя раздувал легкие и вокруг пахло пряным и густым воздухом. Хотелось дышать.
— На Востоке, в том же Таиланде, — серьезно ответил Боб и повернулся ко мне еще больше. — Так это не жена? — я показал на таиландку, которая аккуратно, как на дипломатическом приеме, но глаза в тарелку, а не по сторонам, ровная на стуле, как под линейку, уже цепляла салат. — Нет. Подруга. Мы с ней уже несколько лет. Она смотрит за домом, который я снимаю. И за мной. На пенсии в Англии оставаться глупо. Те же и там же. А здесь и тепло, и ласково. — хмыкнул он — И недорого. Та же жена, только без особых претензий и главное благодарная. — А в Англии оказалась неблагодарная? — я снова подал ему зажигалку, раскурить погасшую трубку — Оставьте себе, у меня еще есть.
Таиландка, кажется, впервые ревниво глянула на меня.
— Конечно, нет — затянулся Боб — Первая жена была «по молодости». Гормоны играли, вот нас и затянуло. А потом и втянуло глубоко. Я в ней души не чаял. Но был настроен на карьеру, хотел заработать и состояться во всем. Служил в армии и когда началась война с Аргентиной за Фолклендские острова, оказался там. Мы высадились и сразу попали под артиллерийский обстрел. Получил ранение, долго лежал в госпитале. А, когда вернулся домой, то оказалось, что мой друг, сосед, подсуетился с заботой о жене. Поддержал ее в трудную одинокую минуту. Они как-то здорово выпили за мое здоровье и она перепутала меня с ним. Я ушел, оставив ей половину нажитого к тому времени. — Но ведь она не ушла к нему? — Не ушла. Он и не брал. Ему и своей хватало, под завязку.
Боб прихватил со стола стакан с соком и глотнув, сломал соломинку и выбросил.
— Не простили?
— Не смог. Им это трудно понять, но мне стало казаться, что от нее пахнет чужой спермой. И этот запах преследовал меня каждый раз, когда я ее видел. И что значит простить? Прощают те, кто не любил. Поменял, как носки, и ходи в новых. Стер, как не было. А у меня она была. И серьезно. Сам не ожидал…
Таиландка нежно тронула его за плечо и показала на тарелку с салатом. — А, потом… — отмахнулся Боб. И я вдруг понял, что он давно ни с кем не говорил о себе. Очень давно. С подругами живут, но не разговаривают. — Была еще одна жена? — Да, но из Восточной Европы, из Украины. Я занялся бизнесом, дела пошли удачно. Наследство привалило. Встретил женщину, дал возможность учиться, но с работой у нее не заладилось. Да и необходимости особой не было. Я зарабатывал прилично. А просто работать она не захотела. Мне это было понятно и все устраивало. Родился сын и она была с ним. Возилась с цветами у дома, магазины, покупки, гости, в отпуск ездили то в Гамбию зимой, там хороший курорт, то в Италию, Испанию или еще куда в Европу, летом. Все было хорошо. Но она заскучала, особенно когда парень пошел в школу. И я опять это понял. Дал ей денег, дурак, под собственный бизнес, цветочный. Думал, будет при деле. Всем же хочется уважать себя и что-то делать. Это нормально. Не учел только типичную мужскую ошибку тех, кто хорошо стоит в жизни — своей женщине нельзя отдавать полную финансовую независимость. Подкинул ей, как просила, еще — на развитие бизнеса. Появился другой новый магазинчик. Служащие, бухгалтерия, контакты, поездки, переговоры, тюльпаны. Я в ее дела даже и не совался. Сколько и чего не знал. Дом финансово оставался на мне. Только проблемы ей разруливать помогал. Она изменилась. Появился свой круг интересов и знакомых, куда ехать утром и где задерживаться вечером. Мы почти перестали разговаривать. Не ссорясь. Сначала, до своего бизнеса и денег, она всегда встречала меня вопросом «как дела?» и готовила ужин, что нибудь новенькое. Я делился что и как. Она слушала. Потом вопросов как-то не стало вообще и говорить оказалось не о чем. В один не прекрасный день, когда уже сын уехал учиться в университет, оказалось, что я совсем не нужен. И без меня ей хорошо. Я в своем мире. И вне дома, и в доме. Она — в своем. Я же сам дал ей его построить. Ни благодарности, ни поддержки. Жизнь стала бессмысленной, как домашние сериалы для домохозяек. Продал бизнес ближе к пенсии. Вложил деньги в акции. Оставил все и переехал в Таиланд. Теперь вот живу и радуюсь.
— Чему? — ляпнул я, совсем расслабившись на солнце, всплывшем из ушедших дождевых облаков.
— Как чему? — переспросил Боб — Теплу, массажи каждый день, вот этой женщине, которая благодарит за подарки. Денег я уже не даю, только на хозяйство — много не украдет, не жена, — хохотнул он — Вкусной еде, поездкам на море, в Камбоджу или Малайзию, проветриться и визу переоформить. Если задержались дома, то Лаос под боком. Здесь можно это сделать.
Таиландка опять легко тронула его за плечо, подвинула салат и укоризненно посмотрела на меня.
— Да, сейчас, — словно проснулся Боб — Давай вместе погуляем, поужинаем. Мы в девятом номере, в этом отеле. Приглашаю. Ей надо шопинг сделать — он показал на женщину — Чтоб успокоилась. Молодая, подарки любит. Я у нас нормальных русских не встречал. В Лондоне их полно, но какие-то искусственные. А в Бирмингеме хватает пакистанцев, литовцев встречал и еще кого-то «из ваших».. Расскажешь о себе? И что у вас там делается? Мужики русские, говорят, жесткие, крутые. А женщины заботливые и бескорыстные. Как в «Докторе Живаго».
— Конечно, — впервые соврал я и подумал — Пора гулять, пока погода не изменилась и не ушла. «Погода», она же женского рода.
Что в Англии, что в России, что везде.
Вскоре, выскочив на рынок Вьентьяна, столицы этой страны, меня поразило, что то там, то тут сидели солдаты-охранники с «калашами» на коленях. Я увидел у одного из них, над сердцем, лакированный, на винте, значок в виде красного знамени с серпом и молотом посередине. Вспомнил молодость. С Верой без Бога, но в людей. Мужчин и женщин.
Показал: «Продай». — «Нет», — жестом ответил он, смущенный.
— 3 доллара.
— Нет.
— 5 долларов.
— Нет.
— 10 долларов?
Он бросил автомат и схватился за значок двумя руками.
— Нет, это не продается.
— Нерусский ты… — сказал я ему и пошел дальше. В Лаос.
Домогательства
О правах и человеке в Канаде я услышал дважды. Накоротке, потому что подробнее поговорить не было возможности.
Но не расспрашивал, не провоцировал. Сами вдруг заговорили. Первый раз.
Она работала в охране большого полупустого здания, полного офисов и бездельников при деле. Дежурила на этаже. Ей уже сообщили снизу, с проходной, что едут гости и едва открылись двери лифта, как вдалеке из-за стола к нам с приятелем поднялась фигура охраны.
Надо сказать, что «внизу» задержек не было, даже документы не спрашивали. — Куда? — Это туда.
Правда в лифт, за кампанию, как бы случайно заскочил охранник и поехал этажом выше.
Всё ненавязчиво, но четко. Контроль и учет. Не считая видеокамер.
Несколько минут заняло осмотреть то, что нужно. Маленький, однокомнатный, но хорошо сделанный в дизайне, местный музейчик с десятком старых фотографий. Не Европа.
Чтобы туда заглянуть в сопровождении охраны, понадобилось разрешение служащей, скучающей за большим столом с бумагами.
Служащая улыбалась, почти лучилась.
Но, когда через пару минут, глянув и вернувшись, я спросил — А можно ли сделать несколько снимков в музее? — улыбка не просто сползла. Сразу возникла жесткая безликая стеклянная стена.
Я такие лица видел только у «марокканских» чиновниц в Израиле, когда к ним приходят русские.
Ноль эмоций, кроме вселенского недовольства.
— Это запрещено.
— А у кого можно спросить разрешение? — еще не удивился я.
— У директора. Но, во-первых, ее нет. А, во-вторых, надо получить и разрешение начальника здания.
— Но там переснять всего несколько фотографий к фильму, который мы делаем. Что секретного?
— Тем более. Надо получить разрешение от людей на снимках.
Я хотел было сказать, что тех людей, и она это должна знать лучше меня, уже давно расстреляли нацисты. В варшавском гетто. Но передумал. Нет — так нет.
Инструкции редко пишут умные. Они живут по своим законам. Потому и преуспевают, не высиживая свою жизнь. Удивило другое.
Стена между нами была из стеклобетона. И уже без улыбок. Из ничего.
Мы с приятелем пошли к выходу.
— А я вас знаю, — неожиданно сказала охранник — Я ваши передачи смотрела в Израиле.
— Спасибо, что помните. Уехали оттуда?
— Да. Мужу надоел «восток». Хотя работа у него была по специальности, научная и не плохая. Мы, кстати, из Беларуси…
— И как здесь?
— Ему пришлось трудно. Вроде, было пять вакансий, близких к его деятельности, с хорошей предлагаемой зарплатой. Но, когда узнавали, что только приехали, сразу ставили оклад на уровне уборщицы. Хотя и в Беларуси, и в Израиле он успешно занимался наукой. Так что работает, но…
— Понятно. Но зато в Канаде демократии побольше.
— Что вы… — вдруг заспешила она, видя, что мы продвигаемся обратно к лифту — Какие здесь права человека?
— Какие?
— Да вы больше двадцати секунд на канадскую женщину смотреть не должны. Может засудить за сексуальные домогательства. Здесь это запросто. И не отмоетесь. У нас есть знакомые врачи, русские, дантист, например, так они держат ассистентку в офисе не потому, что нужна, а чтобы постоянно свидетель был рядом. Чтобы не обвинили.
— Давай, пора, — заторопил приятель, придерживая лифт кнопкой.
Так мы и не договорили.
— Господи, — подумал я, спускаясь и уже ностальгируя по дому — Хорошо, что с домогательствами к служащей со съемкой быстро отстал. Она и слова вроде грубого не сказала, а меня почти вывернуло. К счастью. Кто её знает. что там, в головенке варится?
Вон, приятель, договорился на днях по телефону на деловую встречу с социальным работником. Опекает ныне пенсионеров — «спрятанных детей» во время войны. Это тех, кого родители, в основном, погибшие потом, в отчаяние, отдавали христианам, кто не побоялся, в Бельгии, Франции, Польше, Голландии. О них я и делал фильм в Канаде.
Дама предложила встретиться в обед в кофе-кафе. Сказала, что кудрявая. Приятель себя обрисовал. Приехал вовремя, а там тридцать женщин. И половина кудрявые. Походил, покрасовался впустую и вернулся в офис. Звонит опять даме. Та говорит — Да, видела вас, узнала по описанию.
— Там почему не позвали?
— А почему я вас должна звать? Не вы мне, а я вам нужна. И бросила трубку.
Ну, не тронешься тут, в Канаде?
На здоровье
— Если где-нибудь встретите монголку, то надо быть предельно осторожным, — напутствовал нас старший лейтенант перед отправкой в степь, на железнодорожную трассу. — Можно легко подцепить болезнь. И не какой-нибудь там «французский насморк», — он вытащил платок и высморкался, — или говоря проще, триппер. А сифилис. Здесь это распространено.
— Так что, надо гандоны покупать? — уточнил красавчик — татарин Коля из Бугульмы. Ему, судя по однотипным разговорам, в армии было труднее всех. — А где купить?
Ребята зашумели за ним, обдумывая.
— Сами вы… — пресекся старший лейтенант. — Ничего покупать не надо. Да и негде. И незачем. Просто иногда к трассе может подъехать на коне женщина-арат из какой-нибудь юрты. Так что поосторожней. Ступников, что вы там записываете за мной? И для чего?
— Чтоб не забыть. Так, на всякий случай.
— На всякий случай помните обязанности солдата. Не вступать.
— Ногой или куда?
— Куда не надо. И не выступать. Здоровее будете. И в армии, и дома.
На триста километров вокруг нас пела, завывая густой метелью, голая и страшная, как правда, беспощадная, с белесыми снежными глазами, одинокая монгольская степь…
Встреча в горах Атласа
Не стоит теребить тех, кто спит с черной вдовой революции. Она ложится бескорыстно, но согревает до пепла, и, в отличие от других женщин, предает только победителей.
Если доживут.
В ту ночь я так и остался в странном доме где-то в глубине Марокко.
Конечно, с моей стороны это было неосторожно. Если не сказать — глупо. Но в 36 лет еще нет никакого страха ни перед чем. И до этого возраста, и позже бывает только боязнь — не суметь, подвести. Боязнь стыда. Но это не страх. А как раз наоборот — страхоутоляющее.
Сначала я шел на машине от Маракеша с его резными глиняными башнями в сторону Сахары до тех пор, пока не закончился асфальт и густо-красная холмистая земля вокруг выровнялась до горизонта сплошной плоскодонкой. Даже мне стало понятно, что дальше дороги нет и будет хуже, и надо поворачивать обратно, на горный Атлас и через перевалы на север, к Средиземному морю.
До захода солнца оставалось немного, когда я решил остановиться в небольшом марокканском городке.
Тем более, что он стоял вдоль дороги и в центре, у традиционной небольшой площади оказался указатель на маленькую придорожную гостиницу. Хозяева были очень рады, потому что иностранцев здесь не было, и только удивились.
— Вы один?
Я и был один во всей гостинице. Комната оказалась недорогой и чистой, а машину, чтоб ничего не случилось, попросили загнать с улицы вовнутрь двора.
Взяв деньги, никаких записей хозяева не делали. Даже документы не проверили. Ночуй и езжай дальше.
Отдышавшись, я вышел в холл и с удивлением увидел типичный западный бар. У стойки сидели местные мужики, половина в национальных полосатых робах с капюшоном, а половина — как везде по миру, в чем попало. Мне сразу уступили место и стали расспрашивать: кто и откуда. И какими судьбами я попал в их аллахом забытое место.
Этот бар оказался главной точкой встреч после работы, в основном неместных арабов и берберов. Тем, кому негде и незачем было сидеть по домам. Через пять минут они проставили пиво, а я вытащил из кармана фляжку с виски, залитым из бутылки, заначенной в дьюти-фри аэропорта. В баре крепкого спиртного не было.
250 граммов моментально разлетелись по стаканам, и около меня вновь возникла новая банка «Хайнеккена».
— Угощайся…
Двое молодых мужчин, бородатый в национальной робе и его товарищ в кожаной куртке, довольно прилично говорили по-английски. Они удивились, узнав, что уже почти две недели никто из моих родных не знает, где я, после того, как уехал в Марокко. Бородатый работал на местной телефонной станции и предложил позвонить домой, чтоб не волновались.
Я сбегал в номер, залил новую порцию виски, и мы пошли. Куда-то.
На станции у нас получился полный облом — номер не набирался. И мы распили новую фляжку уже на троих.
— Пойдем к нам, — сказали они, явно расстроившись, что не смогли угодить со звонком. — Бар уже закрывается, а мы сделаем для тебя настоящий марокканский кус-кус. Это близко…
Еще через пятнадцать минут, в сумерках, мы подошли к небольшому домику из нескольких комнат, спартанских и явно холостяцких. В полупустом салоне стоял стол, а не лежали вальяжные ковры с подушками, на которых, как правило, едят местные. Бородатый сразу пошел готовить, а его товарищ рассказал о себе.
Оказалось, что они палестинцы. Но это уже не удивило. На стенах комнаты висели плакаты с портретами Ясира Арафата и зелеными надписями о свободной Палестине. Чеканка с видом Аль Кудс да портрет Че Гевары.
Они были вынуждены уехать и поселились здесь, поскольку нашлась работа и можно было ждать.
Чего ждать, я так и не понял.
Понял, что уйти отсюда мне будет трудно. Такси в этих краях не было совсем, машины даже не проезжали мимо. Улица за окном вскоре оказалась темной до безобразия и пустой, как взгляд офицера безопасности, который позже, уже перед посадкой в самолет, пропускал всех пассажиров через будку со шторками и без лишних слов спрашивал, есть ли марокканские деньги. А затем, не дослушав, вытряхивал все из карманов в свою мохнатую, в прямом смысле слова, лапу.
Государственный человек: где работает — тех и имеет.
Под кус-кус парни рассказывали, как они скучают по дому, по родным, и спрашивали, что судачат в Европе и России о борьбе палестинского народа. Люди почему-то всегда думают, что о них думают. А не просто от скуки говорят.
— Боюсь, мы нескоро вернемся, — сказал один из хозяев. — Работы в Палестине нет. Государства своего тоже.
— А когда появится, — добавил второй, — вместо оккупантов придут муллы.
— Почему же вы уехали?
— Не могли оставаться в стороне от борьбы, — уклончиво ответил бородатый. — Вам этого не понять. Вы сытые. А сытые способны думать только о новой еде.
— Для себя… — вставил второй. — А мы думаем о Родине, которую вернет только борьба. До победы.
Он встал и принес мне цветную шерстяную накидку. В Марокко ночью становилось очень холодно, а отопления не было. Было странно слышать все это где-то в предгорьях Атласа, на краю света.
В полночь, видя, что я уже валюсь с ног, они показали кровать в комнате, и я почти сразу выключился, не раздеваясь.
Мне снились революционные сны: женщины в парандже, но без трусов. Я подскакивал в темноте, оглядывался, ничего не понимая, и валился снова.
Уже рано утром мы пили сладкий мятный чай в стеклянных стаканчиках — местная традиция по любому поводу, и затем парни провели меня к гостинице.
— Тебе хорошо, — сказал один, прощаясь. — Тебе есть куда возвращаться.
— Нам тоже, — взбодрился второй.
«Не имеет значения, куда, когда есть к кому», — хотел было ответить я. Но передумал.
Первый урок
Наша комната в коммунальной квартире военного гарнизона была тогда на первом этаже дома. И я, еще младший школьник, как то придумал вырезать из журналов и газет, а их отец выписывал много, небольшие информационные заметки. Тексты там печатали узкими полосами. И приклеивал их с внутренней стороны окна, на его четверть — с видом на улицу. Иногда понравившиеся фото. Иногда одну — из нескольких. Особенно «курьезы» из «Наука и жизнь». Чтоб проходящие мимо, обратили внимание и читали. Ребенок, что взять.
Родители не мешали. Только отец как-то сказал — Это ты хорошо придумал, сынок. Но делиться с другими, если делишься, надо своим. Тем, что ты увидел, узнал или думаешь. Повзрослеешь, поумнеешь и сам поймешь. А так, самоделки с ножницами. Но учись, раз тянет…
И тогда, вскоре, я пошел дальше. В классе у нас была своя «стенная» газета. Но скучная. Делали ее назначенные несколько одноклассников. Рисовать я не умел и было трудно. Но, накануне 7 ноября, Праздника революции, купил большой лист ватмана, написал цветное название «Аврора», приклеил фотографии, а под ними сочинение на тему солидарности с ангольскими и вьетнамскими борцами за свободу. А также свои стихи. С подписью редактора издания. Понятно, с какой.
Затем, прижимая свернутый ватман к груди, пришел с школу перед занятиями, когда никого в классе еще не было и, умирая от страха, но повесил эту газету на стену, рядом с официальной. И ушел. А, когда вернулся, весь класс, кто с удивлением, кто спорно, смотрел на меня два урока. И толпился у газеты.
На третьем уроке, в гробовой тишине, ее сняли со стены учителя. И вызвали родителей в школу.
Соседка по парте, круглая отличница, на всякий случай пересела на другое место.
Директор школы беседовал сначала с мамой, которую я, девятилетний пацан, ждал на лестнице. Но помню. Потом вызвали и меня, где объяснили, что пока наказывать не будут. Но без разрешения делать свои газеты и вывешивать их в школе нельзя. Это злостное хулиганское нарушение порядка. Напуганная мама один раз, по дороге домой, дала по шее, а отец, выслушав её, купил мне мороженное и шоколадку «Аленка», большую.
А еще, он сказал — Пиши и выставляй на окне, раз хочется. А в школе не надо. Ничего с ними не сделаешь.
Один человек мне сказал, что ему не дают сделать то, что он хочет. — Раз не дают, значит дай сам, — ответил я. И подумал — Если ничего поделать нельзя, обязательно надо что-то делать.
Пешмарга — идущие на смерть
«Выходил» я на него не просто и конспиративно. Время было такое. Для него и для его людей. Их душили газом, расстреливали, пытали в Ираке. Даже их язык, принадлежащий к индоевропейской группе языков, запрещали в Турции. Наказывая от штрафов до тюремного заключения. Разгромленные когда-то, они затихли в Иране. Хотя Тегеран поддерживал их борьбу, давая оружие и возможность для тайных баз. Просто курды десятилетиями оттягивали на себя значительные силы иракской армии.
И все новые и новые волны молодежи шли в их боевые отряды. Их называли «пешмарга». Что значит «идущие на смерть».
Джалал Талабани, ставший потом президентом Ирака, тогда даже и не помышлял о подобном повороте своей судьбы. Ему было трудно: и вести, как сегодня бы сказали, сепаратистскую борьбу, и искать поддержку Запада. Ни поздний Советский Союз, ни потом Россия на курдов не ставили. Предпочитали тех, кто у власти.
Плевать, что кто-то диктатор. Зато при нефти и щедрых госзаказах под «откаты». Деньги для чиновников не пахнут. Ничем. Кроме крови. Но она для них пахнет иначе, чем для подданных.
Мне никто не давал редакционного задания на Би-Би-Си работать с курдами. В то время почти все темы и возможные интервью мы предлагали сами. Только те, у кого не было своих идей, получали задание. Или — когда не было, что предложить.
Я сам сходил в арабскую редакцию и спросил, кто ведет дела курдов. Мне хотелось бы рассказать русским об этом народе и его борьбе. Там ничего об этом не знают.
Худощавый и эмоциональный Саид, специалист по Ираку, сам курд, пригласил сначала посидеть в баре и в конце знакомства предложил для интервью Джалала Талабани. Он руководил народно-патриотическим фронтом иракского Курдистана и объединял левые и центристские партии. Но самое главное, именно Талабани тогда смог заставить Саддама Хуссейна пойти на переговоры по установлению автономии для своего народа и прекращению карательных операций против мирного населения курдского региона.
Он как раз тайно приехал в Лондон на переговоры с британским правительством о поддержке их борьбы в Ираке и Турции. После газовой атаки карателей Хуссейна на курдский город Халаджа, где погибли от пяти до восьми тысяч жителей, мир снова на время обратил на них внимание. Талабани, как оказалось, был прав, полагая, что военная конфронтация Запада с режимом Хуссейна может привести к решению курдской проблемы. Хотя бы в Ираке.
После первого моего контакта, сначала была череда нескольких «третьих» телефонов. Наконец мне позвонили и сказали, что через несколько часов Талабани сам приедет на встречу. Иначе и быть не могло. Накануне в Вене, в гостинице, был убит один их лидеров иранских курдов и обычная схема договоренностей об интервью здесь не работала. Только спонтанно, неожиданно, быстро и с инициативой их стороны.
Талабани выглядел разочарованным.
— Мы никому не нужны, — сказал он. — Никому в этом мире. Одна из самых распространенных пословиц нашего народа гласит «у курдов не бывает друзей». Нас много, почти двадцать пять миллионов, но мы слишком раздроблены между Ираком, Ираном и Турцией. И обе последние крупные региональные державы никогда не допустят отторжения своей курдской территории под наше независимое государство. Поэтому реально мы выступаем только за автономию. И прежде всего в Ираке и Турции. Было время, когда мы создавали крупные воинские подразделения, но отказались от этого из соображений тактики партизанской войны. Оставили небольшие отряды. Удар — отход. Только так можно подтолкнуть Саддама к переговорам. Потому как рассчитывать нам не на кого.
Еще в 1919 году Лига Наций, предтеча ООН, пообещала курдам свое национальное государство. Обманули. Потом убеждали, что курды — не единый народ. Несмотря на их общий язык, культуру и традиции. Потом просто забыли о них.
В 1946 году курды, однако, впервые создали свою республику. В Иране. Республика называлась Мухабад и была… советской. Когда армейские части СССР были выведены из Ирана, Москва поддержала курдское восстание Мустафы Барзани. Но затем деньги повстанцам давало уже американское ЦРУ и, как мне позже рассказывал, уже в Тель — Авиве, второй во времени руководитель Моссада Меир Амит, методам партизанской войны их обучали и израильтяне. Таковы перипетии борьбы за свободу.
Сам мулла Мустафа Барзани, кстати, действительно был легендарной личностью. Военную подготовку он проходил в СССР, воевал в иракском Курдистане, неоднократно бывал в Израиле, а умер в больнице в Вашингтоне. Три его сына пошли разными путями. Старший, Идрис, воевал. Младший предал отца и занимал высокий пост в правительстве Саддама Хуссейна взамен на осуждение вооруженной борьбы своего народа и информацию о связях повстанцев с еврейским государством. Курдский квислинг, короче. Зато третий, Максуд Барзани, стал одим из лидером Сопротивления. В отличие от Талабани, сторонника тогда левых взглядов, он опирался на помощь Ирана.
Сегодня иракский Курдистан формально автономия, а фактически государство в государстве. И серьезное беспокойство для Турции, куда выходят боевые отряды уже новых «пешмарга». Но об этом на Западе стараются не говорить. А в России — тем более. Иракский Курдистан-то опекают американцы, проморгали. А Турция — торговый партнер.
Тогда, в Лондоне, прощаясь, будущий президент Ирака Талабани, чтобы не быть голословным, пригласил меня пройти с его «пешмарга» через третью страну в горы иракского Курдистана, обещая безопасность и полную открытость информации.
— К нам не хотят идти журналисты, — посетовал он — Потому что за нашей борьбой нет великих держав.
— И справедливости, — вдруг вставил охранник, поправляя пистолет, с которым он так и зашел в здание «Буш Хауса» Би-Би-Си. Правда вечером, когда уже мало кто был в редакциях.
— Уж лучше в вашем открытом офисе, где-нибудь в Мосуле или Киркуке, — полушутя ответил я, понимая, что «третья страна» — это Сирия. И в этом моя проблема, о которой я не могу ему сказать. Поскольку тоже живу в мире, где правят чиновники и предрассудки. Достаточно только выйти из редакции.
— Ничего, жизнь длинная, — Талабани грустно улыбнулся.
— «У курдов не бывает друзей»…
Моссад начался с…
Маленький ростом, ушастый и щуплый, еще в уличных драках он часто побеждал. А на вопрос «почему?» ответил мне коротко и характерно: «Если я видел, что противник намного сильнее, то не раздумывая брал в руки то, что подвернется — палку или камень».
Настоящая фамилия Хареля — Гальперин и он родился не Исером, а Изей. В Израиле репатрианты нередко брали и берут новые «ивритские» имена. Словно начинают новую жизнь.
Изя Гальперин свою «первую» жизнь провел в Витебске и Двинске (Даугавпилс, Латвия). По отцовской линии он был из семьи верующих. Отец закончил знаменитую ешиву в белорусском городке Воложин. По линии матери — из мира бизнеса в Двинске.
Формально первым шефом Моссада был Реувен Шилоах, но у молодого, находящего в состоянии «горячей» и «холодной» войны государства еще не было ни опыта, ни средств, ни возможностей всерьез заниматься внешней разведкой. К тому же, ее первый шеф болел и не отличался большой инициативностью.
Харель же после образования Израиля стал первым руководителем службы внутренней и внешней контрразведки страны (теперь — ШАБАК).
Поэтому именно Хареля, ставшего через несколько лет щефом Моссада в сентябре 1952-го и считают создателем этой спецслужбы. Реально, так оно и было.
Вплоть до 1963 года Харель одновременно был и руководителем всех спецслужб Израиля.
И вообще, пусть Харель, проживший 91 год, сам говорит за себя. Тем более, что публично, с журналистами, да еще в своем небольшом типовом особнячке на окраине Тель-Авива он делал это крайне редко. Но лично вышел к калитке, в цветнике, чтобы встретить и проводить гостя в дом.
Харель — Вы можете задавать мне вопросы по-русски. Я понимаю… Моя семья переехала в Палестину из Витебска, из Беларуси. Что касается меня лично, то я был настроен и хотел, как многие первые репатрианты, работать на земле и получить соответствующее образование. Но во времена британского мандата организация еврейской самообороны направила меня на побережье — встречать нелегальных эмигрантов, которых «по цепочке», из рук в руки, принимали и помогали обустраивать в Палестине. И вот тогда у меня произошла памятная стычка со старшим британским офицером, который позволил себе антисемитскую реплику. И я избил его. Это был, кстати, единственный случай в Палестине, когда на британского офицера кто-то прилюдно посмел поднять руку. Мне грозил суд и наказание. И товарищи тогда перевели меня на нелегальное положение. Так изменилась моя судьба, а я начал заниматься вопросами безопасности нашей организации.
Сначала я отвечал за район Тель-Авива, а после образования Израиля мне поручили организовать систему контрразведки. С 1952 года, став во главе Моссада, одновременно руководил всеми секретными службами страны. В серьезных операциях, чтобы координировать работу и нести ответственность, я предпочитал участвовать лично. Непосредственно при проведении операция. Я никогда не оставался в офисе в это время. Для меня было принципиально важно оказаться на месте действия. Например, при похищении из Аргентины и переправки в Израиль нацистского военного преступника Эйхмана. Вы знаете, что этот человек ответственен за непосредственную разработку и проведение «окончательного решения» судьбы еврейского вопроса в Третьем Рейхе во время Второй мировой войны. Я находился со своими людьми нелегально в Аргентине, пока мы наконец не захватили Эйхмана и не вывезли его в Израиль для суда.
— Вы не доверяли своим людям, что так рисковали?
— В этой, довольно сложной операции я должен был контролировать все. Тем более, в оперативной обстановке. Конечно, мы могли просто убить Эйхмана и, таким образом покарать его за шесть миллионов погибших евреев. Но для нас было принципиально важным публично судить этого человека, показать всему миру, что убийца евреев, поскольку уже есть государство Израиль, не избежит наказания.
— Но, когда вы выкрали Эйхмана, то тем самым нарушили международные законы?
— Мы понимали это изначально. Но ситуация была безвыходной. Когда мы идентифицировали Эйхмана, а он тихо жил в своем доме, как простой человек под чужим именем — можно было обратиться к Аргентине. Допустим, что его сначала заставили бы признаться, что он — Эйхман, и только затем мы могли требовать его депортации для суда в Израиле или Германии. Был и такой вариант. Но на практике, при первом же тревожном сигнале Эйхман бы снова растворился в Латинской Америке.
На самом деле, операция была конспиративной не только по отношению к бывшим нацистам, но прежде всего — к тогдашнему правительству Аргентины. В стране «под прикрытием» находилось 10–15 сотрудников Моссада и ни местные спецслужбы, ни власти не подозревали, что мы здесь работаем. Узнали только, когда Эйхман уже оказался в Израиле, полностью под нашим контролем. Нам было очень трудно готовить и проводить операцию, поскольку спецслужбы Аргентины боролись тогда с терроризмом, работали активно и особенно старались контролировать приезжающих иностранцев. Но мы его взяли сами.
— А что сказал Эйхман и как вы добились, чтобы он признался, раскрыл себя?
— Мы не использовали при допросе силовые методы. Это был мой личный приказ. Когда его взяли и отвезли на конспиративную квартиру, он не знал кто мы и что происходит. И сначала выдал нам свою «легенду». А мы не перебивали — только слушали и спрашивали. Даже его настоящего имени не упоминали. А потом предъявили документы — вплоть до его медицинской карточки времен войны. А там — все его шрамы, операции. Напомнили, с бумагами на руках, его карьеру. Нам обязательно надо было, чтобы он сам признался. Мы, повторюсь, принципиально не хотели выбивать признание. Через пятьдесят минут допроса он сказал: «Да, я и есть Эйхман». Он правда уже понял, что мы — израильтяне и у него нет выбора.
(Примечание. Эйхмана после публичного суда в Израиле казнили ровно в полночь, в Рамле, в мае 1962 года).
— Вы имели файлы на всех нацистских преступников?
— Нет, только на главных. И тех, кто принимал участие в уничтожении евреев. Поскольку Гитлер и Геббельс были мертвы, мы, главным образом, сосредоточились на Эйхмане, хотя и не только…
— А доктор Менгеле? Правда ли, что он сбежал через окно, когда Моссад его выследил в Аргентине и собирался захватить?
— Это история «охотника за нацистами» Симона Визенталя. На самом деле мы опоздали. Мы затратили много усилий и средств, чтобы найти Менгеле в Аргентине. Но «брать» их обоих одновременно было невозможно. И он скрылся сразу же, как только мы «взяли» Эйхмана. Он бежал в Парагвай, где режим Стресснера предоставил ему «личное» убежище. Его немедленно стала опекать в то время сильная немецкая колония страны, сразу же дали персональную государственную охрану. Мы потом несколько раз пытались приблизиться к Менгеле, но не смогли. Просто «убрать» его не хотели — он нам нужен был для суда, но ничего сделать не удавалось. Полагаю, что он уже действительно мертв. (примечание — В 1979 году в Бразилии Менгеле неожиданно утонул у берега при неизвестных обстоятельствах).
— А Борман или шеф гестапо Мюллер? Вокруг них ходит много слухов и домыслов. Говорят даже, что кто-то из них был связан с советской разведкой?
— Борман, насколько мы выяснили, погиб в 1945 году в Берлине. В те же дни, что и Гитлер. Что касается Мюллера, то мы его серьезно и долго искали. Предположительно, скорее всего, шеф гестапо попал в руки русских. Его, возможно, использовали и «убрали».
— Раз уж вы упомянули русских, то у Моссада были какие-либо рабочие контакты с ними? Тем более, что Советский Союз поддержал образование Израиля и, тем самым, можно сказать решил его судьбу.
— Мы никогда не имели оперативных контактов с советскими спецслужбами. Сталин поддержал в ООН образование Израиля. Но не из — за любви к евреям, а как противовес Великобритании. Это было его стратегическое решение. В то время арабский мир был слаб и арабы не могли противостоять Британской империи к югу от границ Советского Союза. Поскольку еврейская община и ее государство на Ближнем Востоке могли бы положить начало изгнания британцев из региона, Сталин и поддержал создание Израиля. Собственно, так и получилось. СССР именно поэтому допустил поставку нам необходимого оружия для войны за Независимость из Чехословакии.
— Но потом, как утверждают, у Сталина был план о депортации всех советских евреев в Сибирь. Вы знаете что-нибудь об этом?
— Мы подозревали это, исходя из ситуации и событий вокруг еврейского вопроса в СССР. Репутация Сталина и предыдущие депортации малых народов указывали на возможность такого поворота событий. Но подтверждающих это документов, честно говоря, у нас не было. Не было выхода на Кремль.
— А распад Советского Союза? Некоторые в России говорят, что сионисты приложили к этому руку.
— Это абсурд. Важно понять, если не знаешь — Израиль и Моссад всегда интересовались только евреями, условиями их жизни и связями с еврейским государством. Говорю авторитетно, мы не проводили разведывательных операций против Советского Союза. Мы всегда опасались, и это было очень важным фактором, что любые наши действия, даже намек на подобную операцию, ударит по советским евреям. Для нас это было недопустимо. Мы слишком малы и заняты «своими» делами, чтобы еще бороться с Советским режимом.
— Моссад маленький, по сравнению с КГБ, ФСБ или ЦРУ. Но Моссад, похоже, везде?
— Это легенда. Сила Моссада всегда была в стремлении обеспечить реальную безопасность Израиля и мы концентрировались только на этом. Операции, связанные с арабскими странами и контртерроризмом — это отдельный разговор.
Знаете, я был единственным, кто задолго до Горбачева говорил о распаде Советского Союза. Я говорил об этом американцам, но они не слушали. Не верили. Они были слишком заняты борьбой с СССР в стиле «холодной войны». Я же был уверен, что распад СССР неминуем на основании информации об этой стране. Диктатура и контрасты, которые были там, не могли долго сосуществовать. Это стало понятно еще после разоблачений Хрущева, когда стало известно, что творилось наверху, в Кремле, в структурах. Такое не могло продолжаться долго. Но мы опасались принимать участие даже в операциях американцев против Советского Союза, опасаясь за судьбу репатриации и евреев.
— Но ведь именно Моссад смог достать секретный доклад Хрущева, разоблачающий культ личности Сталина еще до его обнародования?
— Это не наша заслуга. Это все получилось случайно. Доклад попал в ЦК компартии Польши, а там многие недолюбливали русских. И один израильтянин из нашего посольства имел личные дружеские контакты с польским высокопоставленным чиновником. И тот счел нужным самостоятельно отдать этот доклад Хрущева на запад. Он добровольно передал его израильтянину, не осознавая даже значение этого документа. (примечание — Интервью с Виктором Граевским, выкравшем секретный доклад Хрущева, мне удалось взять незадолго до его ухода из жизни).
— А советская разведка работала в Израиле? Или КГБ тоже концентрировался, в основном, на США и западных странах?
— КГБ работал в Израиле активно с самого начала. Первые репатрианты, приехавшие в Палестину, были, в основном, из России. Они хотели строить свою страну. И они знали русский язык, русские песни, культуру, с симпатией относились к русским. Русские стали героями в Израиле после победы во Второй мировой войне. Во многих кибуцах (прим. поселениях-коммунах) Израиля уже даже после смерти Сталина долго висели его портреты.
В Советском Союзе людям говорили о врагах — сионистах, а в самом Израиле сторонники Советского Союза были очень сильны. Святее Папы Римского, на мой взгляд. Они искренне верили в светлое будущее коммунизма. Парадокс в том, что израильские коммунисты, имевшие большое влияние в стране, были самыми преданными сторонниками Советского Союза, а Москва именно их не позволяла включать в международное коммунистическое движение — чтобы не оттолкнуть арабские режимы. Поскольку игра тогда пошла против США. КГБ имел почву для работы в Израиле и советский шпионаж против нас был очень активен. Больше, кстати, чем в других небольших странах мира. Мы были одной из первых целей советских спецслжб и одновременно транзитом — для работы в тех же Соединенных Штатах или в Европе. Через Израиль, как считали в КГБ, можно было легализовывать «своих» людей и затем проводить операции против их основного противника — США. Мы пресекли ряд таких операций, извещая об этом американцев. То есть мы хорошо работали.
— Подозреваемых советских разведчиков вы разрабатывали уже здесь, в Израиле?
— Некоторые приходили сами, признавались — Чтобы эмигрировать, мы шли на сотрудничество с КГБ.
— Но ведь были и Калманович, отсидевший в Израиле за работу на СССР, и Клинберг…
— Они были не репатрианты, а профессиональные разведчики. Их специально засылали в страну и идеи их операций заранее разрабатывались в Москве. Они уже тогда знали и Израиль, и структуру общества, и пути своего продвижения.
— Но самого известного советского разведчика в стране — Исраэля Бера разоблачили вы лично?
— Бер занимал высокий и ответственный пост в канцелярии первого премьер — министра страны Бен-Гуриона. Был его другом. Но я подозревал Бера. Был против его допуска к секретным материалам. Но не мог сам решать этот вопрос, поскольку сомнения — не доказательства. Об этом не говорят в СССР и России, но Бера провалил сам КГБ. Они там очень хотели выйти на шефа немецкой разведки Гелена, но не могли это сделать. И вдруг я узнал, что, несмотря на мой запрет, Бер был в Германии и лично общался с Геленом. Только один фактор мог заставить его пойти на это нарушение — знаменитое русское «надо». Мне удалоь придержать затем Бера от дальнейших поездок за границу и он был вынужден пойти на встречу с советским разведчиком. А за ним мы следили. И их обоих «взяли» при встрече. Это бы самый серьезный провал КГБ в Израиле и наш успех.
— Когда-нибудь еще вы переигрывали КГБ?
— Был личный, можно сказать, случай, когда я сам разоблачил советского агента. Это был молодой и очень преуспевающий израильский дипломат. Его семья — коммунисты жили когда-то в Швейцарии. Русский язык им преподавал советский гражданин, который и завербовал парня. Он репатриировался в Израиль и сделал блестящую карьеру. А затем уехал работать в наше посольство не куда-нибудь, а в Англию. Короче, очень опасный парень. Из Лондона он вдруг предложил свои услуги Моссаду и запросил личной встречи со мной. Дипломаты обычно избегают связей с Моссадом, чтобы не повредить своей репутации и работе. Затем этого парня перевели в наше посольство в Югославию и он снова запросил о личной встрече — мол, надоела дипломатическая работа, скучно. Он стал давить, говорить о необходимости создания спецотдела Моссада по Югославии, якобы это важно. А я не люблю добровольцев-«инициативников», которые сами приходят и предлагают услуги. И потом, он слишком шустро лез не в свое дело. Отслужи в МИДе, а потом посмотрим. Короче, он повторно настоял на встрече, которую я организовал на конспиративной квартире здесь, в Израиле. И тут я ему сразу заявил в лоб: «Я знаю, что ты советский шпион. Подожди — не оправдывайся, не суетись. Если признаешься, я тебе помогу.» Он растерялся — и сдался… Получил за шпионаж восемь лет, но мы потом помогли сократить его срок — и он вышел.
— Это правда, что на Моссад люди порой работали не из-за денег?
— У нас не было денег. Моссад всегда поддерживали люди, которые хотели, чтобы Израиль выжил во вражеском окружении, выжил как государство. Это мотивация лучше, чем деньги и в большинстве случаев люди работали на нас бесплатно. Кстати, и на КГБ — тоже.
— А были ли предатели, перебежчики, двойные агенты в израильских спецслужбах?
— Практически нет. В Моссаде не было предателей. И вообще, в спецслужбах. Был только один случай в пятидесятых годах в Шабаке, в службе внутренней и внешней контрразведки. Польский агент был заслан с этой целью и сумел проникнуть в Шабак, но такое было только однажды.
— А Виктор Островский, бывший агент Моссада, живущий в Канаде и написавший скандальные воспоминания о работе в системе?
— Патологический лгун. Такие просто неспособны говорить правду. Косвенно, кстати, он кое-что и выдал.
— Вы ликвидируете физически противников и предателей?
— Если не говорить о террористах, опасных для Израиля и его жителей, вряд ли кто-нибудь в мире нас может обвинить в том, что мы повинны в целенаправленной гибели невинных людей. Если бы я узнал, что кто-то предает нас, то приложил бы все силы, чтобы доставить человека в страну и здесь судить его.
— У вас, наверное, вся грудь в орденах?
— Я создавал Шабак и Моссад, плодотворно работал там много лет. Если бы я получал награду за каждую удачную операцию в тех же арабских странах, то их было бы очень много. Но я отказывался. Даже после поимки Эйхмана. У меня на пиджаке нет ни одной награды. Потому что главная награда для меня — это существование моего государства.
Права человека
Объявление о том, что в лучшем зале миллионного Окленда хор гомосексуалистов и лесбиянок исполняет на гала-концерте седьмую симфонию Бетховена, вызвало у меня подзабытый здоровый холостяцкий интерес. Но так случилось, что в этот вечер мы договорились встретиться с мужиками из новозеландского «Фронта освобождения мужчин». Да еще на острове Вайоки, в получасе езды на катере от гавани Окленда.
На этом острове, одном из многих в округе, проживает несколько тысяч жителей. А первые поселенцы, согласно легенде маори, спустились сюда с неба в XIII веке. На одном из мысов они построили бастион, где поначалу жили только изгнанные из общины. Много позже невысокий каменный полукруг стал местом обороны от врагов. Куда бы человек ни ступил на этой земле, выйдя из своего дома, он сразу же наживает новых врагов. Маори, как пришельцы, тоже кому-то мешали. Как им, много веков спустя, белые.
В 1820 году сюда, на эту землю, ступил и первый европеец, английский священник-миссионер. Что с ним стало, неизвестно. Съели, наверное. Но за ним появились другие, которые тоже хотели есть.
Местные сегодня здесь живут туризмом и ремеслами. Каждый третий занимается на дому каким-либо делом. Я видел домик преподавателя университета, чья жена большую комнату оборудовала под мастерскую керамиста. И лепит себе в удовольствие. Что-то для местных туристических лавочек, что-то — в дом. Один рисует, другой вяжет, третий плетет, а государство вкладывает деньги в стимулирование туризма. И ему хорошо, и людям. И все при деле.
Но по-настоящему я зауважал Новую Зеландию, когда в просторном центре, среди бесплатных буклетов и информации о стране, увидел специальную карту миллионного города со множеством указателей и подписью «Где пописать?»
«Фронт освобождения мужчин» объединял около двухсот несчастных, которые хлебнули лиха либо от нынешних, либо от прошлых жен. В конфликтах сторон закон, как правило, на стороне женщин, и многие из них, особенно при разводе, обдирают своих бывших, как хозяйка репчатый лук.
Мужчины собираются в небольшом доме основателя «Фронта», учителя по профессии, жарят шашлыки, пьют пиво и отводят душу в поздних разговорах. Говорят и о политике, но почему-то о далекой от них.
— А что вы думаете о своем премьер-министре? — спросил я, обозлившись на вопросы о властьимущих то в России, то в Израиле.
— А чего нам о нем думать? — удивились новозеландские мужики. И даже как бы обиделись.
— Вот и я не думаю. Зачем забивать себе голову ерундой.
Мы живём в мире идиотов. И в этом легко убедиться, если посмотреть на тех, кто нами управляет.
Там, где дают по мордидас
Теперь бы я сказал — Это был знак свыше. Знаки надо, если не читать, то прислушиваться к ним. Сказал не потому, что верю. Но так бы сегодня поняли. В мире абсурда на первый план все больше выходят полицейские порядки и беспорядочные знаки-символы. А ты между ними.
На самом деле там, в Мехико, тогда я понял только одно: надо быть внимательным и, если ты один и все свое носишь с собой в этой стране, то вытаскивай деньги на безопасность.
Мехико мне понравился, даже очень. В аэропорту, прилетев рейсом из Лос-Анджелеса во второй половине дня, я понятия не имел, где буду ночевать. Поменял небольшие деньги на мексиканские песо, чтобы чувствовать себя уверенее и заехать в город. Мне повезло сразу. Недалеко от остановки, на главном авеню этого громадного мегаполиса, за углом стояли две проститутки.
— Девочки, спросил я по-английски — Не подскажете мальчику, где поблизости недорогой отель. Переспать.
Они сначала удивились, хохотнули, попытались, правда, пристроиться, но быстро поняли, что я не «в бизнесе». А это значит, как и почти всё, троедино: жлоб, жадный или бедный. Поэтому просто показали рукой на трехэтажное здание колониального типа неподалеку, но попросили задуматься над жизнью.
Уже в первую ночь, по соседям хлопкам дверью, я понял, что в этот отель девочки и водят клиентов.
Но номер, недорогой, со старой, но помпезной мебелью, дали сразу.
Утром, как везде: изучение карты с основными достопримечательностями города. И вперед, куда глаза глядят, но по направлению к тому, что заинтересовало. В Мехико замечательные парки, доброжелательные люди, типажная толпа на улице: от натыканных повсюду полицейских и охранников, с оружием, до индейцев, лоточников и палаток протестующих. Соберутся, покричат и опять отдыхать. Демократия.
Кроме центра с его Дворцом, площадью и, само собой, внушительным Кафедральным собором, широкие проспекты ведут в разные стороны. Если очень долго, глазея и перекуривая, идти по одной из них, то попадешь в парк, где, на мой взгляд, один из лучших музеев мира. Антропологии. Однако есть достаточно много — о загадочных ацтеках и их великой цивилизации, уничтоженной Кортесом: экспонаты, статуи и, что удивило, довольно много золота. Но охрана не стоит над душой и, самое удивительное, можно было свободно фотографировать или снимать не видео.
Город, если сворачивать с главных артерий, оказался, как Париж или тот же Рим. Чуть в сторону — и довольно тихие, умиротворенные улицы с красивыми старыми домами и католическими храмами. Но для меня — это не хаотическое шатание, броуновское движение, а всегда по дороге куда-то. Не прямо, но обязательно по направлению.
Это, видимо, вопрос психологии: что по незнамым городам, что по жизни. Главное, не бессмысленное гуляние. Но и без обязательного списка, беготни в режиме, без запоминаний названий и, конечно же, без группы.
К сумеркам я возвращался в отель, но так везде, поскольку имея с собой документы, аппаратуру и наличность, не хотел ходить по темным и, как правило, полупустым проселочным улицам. Хотя на проспекте, в центре, было оживленно и с темнотой. К тому же, находившись и насмотревшись целый день, только и оставалось, что спать.
Проверяя замок, когда ночью женщина где-то вдруг начинала ругаться с клиентом или эмоционально обсуждать в коридоре с подругой и другом сложности своей пархатой жизни.
Недалеко от Мехико расположен и комплекс ацтекских пирамид Теутеокана. Города, где, пока половина Европы сидела в лесах, за деревянными стенами небольших укрепленний и отбивалась от диких кочевников и еще более диких соседей, здесь жили почти 200 тысяч человек. Остались две большие пирамиды — храмы Солнца и Луны, серые от вековых дождей. Строения и пониже. И дорога Мертвых, в пять километров, через весь бывший город-государство.
Правили здесь, как всегда, богатые властители, способные оплатить воинов, чтобы легально грабить неорганизованных и потому беспомощных подданных. В цивилизованном обществе это называется налогообложение.
И еще торжествовали жрецы — идеологи. Кто-то же должен обси… ть соседей и засир… ть мозги.
Остальные работали и молились. Пока не умрут.
Короче, ничего нового.
Но в Мехико были еще одно место, куда я обязательно хотел попасть. Тем более, что оно находилось в северном районе города, далеком от шума и зрелищ, рядом с другим, музеем. Легендарной Фриды Кало. Экстравагантной художницы, умной и этим привлекательной. Одним из символов Мексики 20-го века. Хотя она сильно хромала, поскольку в детстве перенесла полиомиелит. Коммунистка, она была замужем за другим известным художником века, тоже, политизированным, единоверцем Диегой Ривера.
Они приютили на пару лет Льва Троцкого с женой, когда те, помыкавшись по миру после депортации по приказу Сталина из СССР, приехали в Мехико. А потом купили дом и переехали в него буквально рядом. Где-то мне встречалось, что Троцкий имел роман с молодой тогда Кало. И что?
У них, у всех там были романы друг с другом и непонятно с кем. Мексика. Жарко. Телевизоров и интернета еще не было. Люди общались глаза в глаза. Как живые. Живыми и были.
А рядом, в доме Троцкого, его и зарубил ледорубом Меркадер. Здесь он и похоронен. Быть в Мехико, смотреть город, пирамиды, парки, людей и не зайти?
Автобусы останавливались довольно далеко от этих двух примечательных мест столицы. Но район был очарователен, тихий и тенистый. Район старых вилл.
У музея Кало уже стояли люди, группы туристов. Еще бы, картины стоят сегодня миллионы долларов. И потом, женщина. Риверы у нее, Троцкий, революция.
Чтобы войти в музей и там же ее прах, дома, надо было ждать в очереди. Вилла маленькая. Оставил «на потом».
Зато у дома Троцкого никого не было. Надстроенная башня над стеной после первого покушения, заложенные, еще тогда кирпичом, окно, ворота. Я вошел свободно и женщина, вышедшая навстречу пояснила, что внука Троцкого, Севы-Эстебана Волкова дома нет, в отъезде. Но, если хочу посмотреть, то пожалуйста, ходите сами, где понравится.
Во дворе среди зелени стоял скромный памятник, стелла с серпом и молотом. Здесь лежит Троцкий, убитый в 1940 году, и, позже, его верная жена, настоящая спутница тревог, Наталья Седова. Я походил по дому, зашел в кабинет, где «демон революции» и «отец Красной армии» работал каждый день, разоблачая Сталина и его бюрократическое перерождение рабочей власти в аппарат чиновников и полицейских.
Троцкий работал каждый день. В прямом смысле слова, на свою голову. Хотя первое покушение и расстрел дома был из оружия. И, как известно, руководили операцией далеко не простые люди, тупые исполнители. А автор неплохох книг по истории Латинской Америки нелагальный резидент Григулович и действительно большой художник Сикейрос.
Книга Григуловича «Инквизиция» и сегодня одна из лучших популярных исследований этого явления. Но он стал писать, уже когда вернулся после работы на советскую разведку и в Аргентине, и в Мексике. Странно, что не расстреляли. Пародокс: буржуазное правительство этой страны дало и приют, и кров Троцкому. А убивали и убили его как бы «свои». Коммунисты убивали коммунистов похлеще их классовых врагов.
Это очень по-сталински.
Троцкий жил скромно и почти бедно. Даже их ванна была похожа на ванну в советской коммунальной квартире. В кабинете, с жесткими простыми стульями, где он работал и был убит, я тоже был совсем один. Можно было даже и потрогать, но не решился.
Перед тем, как уйти из дома-музея Троцкого, пришлось кричать, чтобы кто-то появился и видел, что я ухожу. С пустыми руками. Но наполненной впечатлениями душой.
У Дома Фриды Кало, по-прежнему, стояли люди, уже новая группа туристов. Отметиться и сфотографировать пару миллионных картин.
И тут произошло непредвиденное.
Я пошел на автобус, чтобы вернуться в центр и самоуверенно сел в первый попавшийся. Думая о неблагодарной памяти тех, во все века, кто хотел лучшей жизни не для себя лично, а для «всех». Миллионов. И угнетенных, и крепостных, и рабов. В итоге, лучшие погибали. А, если и нет, то пытались строить тот же курятник, только заново и с еще более жестким распорядком жизни и смерти.
Я и не заметил, что мы ехали довольно долго. И обратил внимание, «что-то не так», когда увидел, как вдруг смотрят на меня сидящие в салоне люди. Непонимающе. И чем больше их выходило по пути, тем более странно они на меня обращали внимание. Это было странно. В Мехико привыкли к иностранцам-туристам, как в бродячим собакам неподалеку от шумных улиц.
Мне стало не по себе, а автобус уже ехал и ехал по долинам, и по взгорьям. Наконец он закатил в городок, весь каменный, бурый и почти без деревьев. На пустой площади остановился и немногие оставшиеся начали выходить. По-прежнему удивленно глядя на меня.
Двери позади захлопнулись и машина уехала. Я стоял один посередине этой площади, окруженной старыми потрепанными домами. По углам, с трех сторон, у домов маячили праздные группки местной молодежи. Многие по пояс почти голые, в классических майках-«алкоголичках». Рожи и жесты у них были, словно из нынешних гангстерских фильмов про латиноамериканскую уличную наркомафию. И никаких даже прохожих. Видимо, сиеста.
Они тоже увидели меня — типичного «гринго», да еще сумкой из желтой дорогой натуральной кожи, где лежала камера. Кошелек с деньгами и документами, под брюками, на яйцах, чтоб всегда чувствовать, моментально взопрел. Вместе с ними.
Обычно, в сложных подобных ситуациях, в других странах, я уверенно шел навстречу. И… проходил мимо. А в Польше, ночью, как-то даже сдружился с догнавшими меня крутыми парнями, которые было подскочили, но, нарвавшись на вопрос, типа, «как пройти в библиотеку», да еще прямо в лицо, по-русски, в итоге, потащили с собой в ночной клуб.
За счет приглашающей стороны, разумеется.
Здесь всё было совсем для меня плохо. Я это видел и, доверяя интуиции, даже не чувствовал, а знал. Одна из групп, замерев на минуту, перекинувшись пару слов, вразвалочку пошла прямо в пустой центр площади. То есть ко мне. Говорит нам было не о чем. И так все понятно.
Вдруг откуда-то, с визгом тормозов, передо мной встало желтое такси. Водитель открыл дверь и приказал — Садись. Я только увидел, что идущие ко мне парни остановились и, похоже, с сожалением смотрели, как мы сразу же отъехали. — Куда? — спросил таксист, явно нервничая. — В Мехико, в центр.
Через пять минут молчания он спросил, на плохом английском:
— Лост? Заблудился?
— Заблудился, — ответил я. Мы снова поехали молча.
И тут он повернулся, толкнул меня в плечо и, кивнув головой, красноречиво провел ладонью себе по шее. Крякнув. И снова посмотрел. Я согласно кивнул головой.
Так, думая каждый о своем, но об одном и том же, водитель проделывал это еще пару раз. Мотая головой и показывая своё недоумение. Меня отпустило, когда мы въехали на проспект.
Лишнего он не просил, но чаевые я отвалил по совести. Расплатившись, по пути, зашел в агентство авиакампании, чей открытый билет до Нью — Йорка уже выпаривался от соли, подсыхая у меня на пупке. В Мехико первое, что я сделал, выйдя утром на улицу, так это нашел офис авиакампании на «дальше». Места были на завтра и мне сразу оформили рейс. А вечером я вышел на проспект допоздна, чтобы у лоточников на тротуаре подыскать последние сувениры.
Слетать из Мехико на Юкатан, к храмам Чичен-Ицы, передумал. В конце концов, на Юкатане такие же пирамиды, как и в Теотеукане.
А в Мексику, как захочу, можно и еще приехать. Не соскучишься.
Жить буду
— Где ваш военный билет?
Я оглянулся.
На двери кабинета, но уже с обратной стороны, висела табличка «Хирург. Нервопатолог». Так читается, когда астралируешь в очереди.
— В одном флаконе? — я почувствовал неладное, но мужественно шагнул вперед.
Назад пути не было.
Каждые пять лет водителям этой страны надо побегать и заново проходить медицинскую комиссию, чтобы иметь право ездить на своей или чужой машине. И на технический осмотр своего транспорта. А, главное, на случай неожиданного штрафа, когда забирают автомобильные права или специальный талон к ним. Без оплаты и действующей справки о хорошем состоянии здоровья ездить не сможешь, талон не вернут.
Короче, за рулем здесь ездят только здоровые люди. Больные массажируются в автобусах или ходят пешком, здоровея.
Я зашел в кабинет и протянул свою карточку с уже пройденными врачами. Хирурга и, тем более, нервопатолога мне опасаться было нечего. Хотя и врачи. У меня другие патологии.
Два дядьки, причем, моих лет сидели молча, прищуриваясь. Придуриваться в начальника им, казалось бы, уже поздно. Не останется времени каяться.
— Садитесь, — вдруг сурово, как солдату-призывнику сказал один из них, — Где ваш военный билет?
— Какой билет? Я армии сорок лет назад отслужил.
— Ничего не знаю, — сказал врач, матерея — Где ваш военный билет?
— Вы хирург? — спросил я, осознавая, что говорю «что-то не то».
— Хирург. Без билета сюда приходить нельзя.
— Посмотрите в мой паспорт. Это я просто хорошо сохранился. Какой военный билет?
Я почувствовал, что у меня начинает «коротить» в голове. Или я, опять, идиот. Или…
— Если нет военного билета, то идите в военкомат и получайте новый. Если, по состоянию здоровья, его нет, то проходите сначала там медицинскую комиссию и получайте справку о своих прежних болезнях.
— В нашем возрасте, — попытался подстелиться я — Уже не то, что в армию, на военные сборы не берут. Не тех постреляем.
— Ничего не знаю, такой закон — сказал хирург, не оценив. И я понял, что возраст — это не защита от дураков. Возраст — это возможность свести общение с ними до минимума. Другое дело, что уже много и не надо.
— А что это у вас? Вид на жительство иностранца? Ну вот, — облегчился врач и я осознал, что с ним еще не всё потеряно — Россиянин… Наши братья… Переломы, операции?
— Не было. Я подумал, что сделал правильно, оформляя документ на российский паспорт. С иным на «брата» я бы точно здесь не потянул.
— Идите ко мне, — приказал второй доктор, наверное, сержант в отставке. И я уже не сомневался, что это невропатолог. Он был с молоточком. Но не бил.
— Послушайте, — спросил я у дедушки восьмидесяти лет от рождения, стоя вместе с ним уже на другом этаже у двери с надписью «Нарколог». — Военный билет для военнообязанного у вас спрашивали?
— Конечно, — без доли иронии ответил он. — Только билета у меня нет.
— И как вы выжили?
— Я когда-то был офицером в армии и более тридцати лет назад ушел на пенсию по возрасту. С 1983 года у меня сохранилась офицерская книжка. Она и пригодилась.
— Хранить вечно. А вы курите?
— Нет, не курю, — не понял дедушка.
— А колитесь?
— Бывает, когда спину хватает.
— Наркологу от этом не говорите…
Последний кабинет комиссии казался самым легким — там, по идее, после всех врачей выдавали заветную справку. «Проскочили» сразу только двое: я и дедушка. Правда, фотографии к справке у меня оказались обычные. А надо было какие-то специальные, матовые.
Не всем так везло. Один, сорокалетний мужчина, с которым мы, кодлой, ходили по кабинетам вышел, расстроенный… на жену.
— Три месяца назад мне на голову, — говорит — упала дома доска. Жена настояла, дура, пойти в поликлинику, провериться. Головокружений нет. Обмороков нет. Темноты в глазах нет. Только шишка большая. Я уже и забыл об этом. А теперь надо ехать в специальную клинику на томографию или, в дорогущую, частную. Привезти оттуда справку. И только потом опять сюда. Как услышал, темно в глазах стало. Пойду домой — сначала жене покажу, по полной программе, где раки зимуют.
— Только не по голове, — сказал я, сочувствуя, но вдвойне сладострастно прижимая к сердцу уже полученную свою пятилетнюю справку. Жить буду
Горбун
Он подошел к ним на улице, в Амстердаме. Их родном, но уже не совсем привычном и близком городе. Сам подошел, пока они разглядывали витрину магазина. Аккуратно одетый в отглаженный костюм, при галстуке, он все равно выглядел нелепо. Не смешно, нет. Но нелепо. Потому что он был горбун. Маленький ростом, с кривыми ногами, вдетыми в болтающиеся брюки и, к тому же, с некрасивым искаженным природой лицом. Грубым, рубленным, крестьянским. Даже хороший пиджак топорщился у него не на спине, а на загривке. Но это был лучший голландец. Точнее, один из лучших. Относительно немногих тогда, осенью 1941 года.
Леону было уже одиннадцать лет и он запомнил и разговор, и этого странного человека, и младшего на три года беззаботного еще брата. И растерявшегося было отца.
Ни в колледже, ни в университете, ни даже самостоятельно в этом мире нет официальных учителей по весьма насущному, временами, для человека предмету — как прятаться от полиции, соседей и от всех на свете. В этом прекрасном и одновременно проклятом Богом мире. Смотря где и когда ты живешь. Но вернее сказать, существуешь. Повезло — не повезло. И даже выживать, если приходится, то надо по-разному. Если пришла война. А она, как болезнь, почти всегда приходит вдруг. И так же вдруг мгновенно меняет и соседей, и родных, и просто разных людей. Еще вчера таких красивых, дружных, веселых и открытых, в большинстве своем. В своём каждый и остается: работать, служить, красть, продвигаться, выслеживать, арестовывать, прятаться. Жить…
Голландия уже была под оккупацией почти год. Немецкие танки рвались к Москве. И что-то с кем-то, с миллионами, уже происходило. Но там, далеко. Здесь, в Амстердаме, по сути, еще мало что изменилось. Магазины работали, рынки и рестораны тоже. Ужесточились какие-то правила контроля, но не смертельно. Местные нацисты вышли на улицы и в администрацию. Прежде всего, в полицию и управление. Почти 40 тысяч, из них, а это немало, потом вступили в добровольческие формирования СС и уехали на Восточный фронт. И у каждого благополучно оставались семьи и родственники.
Если бы не демократы, коммунисты и евреи жизнь была бы вполне нормальной. Для большинства она нормальной была и оставалась.
Когда власть начала, по команде немцев, прижимать евреев, увольнять с работы и службы, забирать бизнесы и даже дома, то рабочие профсоюзы, ведомые коммунистами, в начале 1941 года даже устроили всеобщую стачку протеста. Не поняли еще, что вчера — это не сегодня. Полиция навела порядок пулями и арестами. Руководителей казнили, сотни активистов направили в лагеря. А буржуа, основное население городов, признало, как всегда — Закон есть закон. Такие правила. Надо их соблюдать и не нарушать. Кто нарушает, сам виноват.
Евреи, порядка 150 тысяч, вместе с уже сбежавшими из Германии, остались как раз под Законом: нельзя, нельзя, нельзя. И большинство их стало просто обходить стороной.
Лео до войны учился в еврейской школе, хотя семья была не религиозной. Но соблюдала праздники и входила в общину. Школу закрыли, а в обычную уже не принимали. Но и после этого, его одноклассники и просто соседи ни разу так и не спросили — А как ты теперь? А где? Что с тобой и с вами?
Просто обходили — и всё. И других тоже. Как больных, о которых власти сказали, что они больные. Может что-то и есть, раз так. На здоровых-то не скажут.
Еще в документах им не проставили специальную отметку, но уже постепенно, хотя и быстро, оказалось, что нельзя не только учиться, учить или ходить на службу, но и появляться в общественных местах: в кинотеатре или в обычном ресторане. Даже в гости, оказалось, мало к кому можно было идти. Чтоб не увидели соседи и не написали в полицию о подозрительных связях нормального, а это значит законопослушного гражданина.
Вот они с отцом и гуляли. Одни. Недалеко от дома. Это еще было можно.
Но уже все знали, что немцы собираются перевезти всех евреев страны куда-то на Восток. Чтобы они там жили отдельно от всех остальных, признанных и нормальных. Это будущее уже имело и свое название — переселение. Чего к ним, тем более, подходить? Дома и бизнесы оставят. Деньги тоже. И будут там, в той же, как поговаривают, Польше. Сами с собой.
Поэтому горбун — голландец для Лео уже был необычным собеседником.
— Извините, я могу задать вам один вопрос? — спросил он, буквально перекрыв собой тротуар. — Да, — ответил отец и Лео почувствовал, как он сильнее сжал его руку. Но не одернул. — Вы евреи? — продолжил странный человек со странными вопросами. Он смотрел доброжелательно и даже сочувственно. — Да, — снова коротко бросил отец. Но Лео заметил, что он уже не волнуется, хотя и не очень понимает зачем все эти вопросы.
И вдруг этот странный, полусогнуты незнакомец спросил то, что никто и нигде не спрашивал. Даже сами евреи друг у друга. Ведь переселение — это пока только разговоры. И все может пройти и не случиться. Мало ли что говорят о том, что даже трудно себе представить.
— А как вы, — прямо в лицо им спросил горбун. — Собираетесь избежать переселения на Восток?
— Понятия не имею, — в том ему ответил отец. — И другие евреи не знают. И не евреи, большинство, смотрят на это со стороны и тем более, не знают. И знать не хотят.
Горбун кивнул головой, словно услышал подтверждение своим мыслям и произнес самое удивительное, что мог бы сказать незнакомый человек совсем незнакомым людям. Которые не просто в беде, но уже громогласно объявлены чужаками и прокаженными и от которых общество, при помощи власти, собирается избавиться.
— Можно я помогу вам? — просто сказал он.
И не то, что помог. Спас.
Он предоставил место, где вся семья смогла спрятаться и избежать того самого переселения, что вскоре получило страшное название «депортация». Прямо в лагеря уничтожения. Эшелонами.
А оно, как завершающая стадия нацистского плана, началось в Голландии через полгода, весной 1942-го.
Их сначала прятал у себя сам горбун. Он же потом нашел и других, готовых рисковать собой и прятать обреченных. И объяснил это как-то отцу Лео очень просто и понятно:
— Я, в сущности, такой же на всю жизнь, как и вы сегодня.
Во дворе и потом в школе над ним смеялись, а то и толкали. Он был другим, неповоротливым, неловким, уродливым для многих и уже одним своим видом, согнутым, как немощный старик, с впалой костистой грудью, давал другим ощутить власть, а значит и право чувствовать превосходство во всем. Популярный у молодежи красивый и мужественный спорт был не для него. Девчонки тоже. Он всегда ощущал за искривленной спиной насмешливые или сочувственные взгляды.
Красивые могут быть глупы. Но им это прощается. И люди будут восхищаться, даже завидовать, но отмечать и тянуться, чтобы быть с ними рядом. Умные могут позволить себе быть некрасивыми. И к их магнетизму тоже будут стремиться подстроиться поближе. Даже без особых качеств, люди хотят носить красивые модные одежды. Или вещи. Садиться в новые машины или совершенствовать свое тело, фигуру, грацию. Он был лишен всего этого. Но смириться не мог. Как не мог писать стихи, петь, рисовать или лепить.
Он, как многие, тоже был простым парнем, без каких-то особых талантов, способных отвлечь и даже придать шарм своему искривленному телу.
Тогда и понял, что надо найти ключ к тому, чтобы стать… нужным. Без которого обойтись трудно, а замена все равно будет «не то». И еще, он, изгой, но хотел быть среди людей, со всеми и как все.
Еще в школе, в старших классах, оказалось, что на танцевальных вечерах играл либо патефон, либо духовой оркестр, в лучшем случае, аккордеон. Это ему не походило физически. Но зато, даже с короткими ногами, если изловчиться, можно было играть на пианино. Как и в накуренных народных барах или ресторанчиках. Он отдал себя полностью и научился, и стал играть музыку для танцев или просто для отдыха. Несуразная его фигура и мимика только оттеняли легкие на слух, ритмичные аккрды.
Так, на танцульках и вечеринках, он стал незаменим. А потом, повзрослев, и в ресторанчике. Все в жизни более-менее встало на свои места. Кроме личной жизни и пережитого, но живого, пока он есть, понимания, что значит в этом мире оказаться чужим. Ни за что, по сути. И независимо почему: из-за иной веры, цвета кожи, даже политических взглядов, которые его особо не интересовали.
— Только тот, — пояснил он — Кто сам прошел через постоянные унижения, но остался человеком, способен понять и поддержать другого, на его же месте. А тем более, когда вопрос касается таких ублюдков, как нацисты и жизни людей, виновных, только в том, что они есть. И в чем-то не похожи на большинство.
Вот таким он оказался, это горбун. Голландец.
Одному, без семьи, с вечерними и ночными работами было опасно держать у себя дома людей, которых даже и не покажешь никому. У него заметный горб. Но с ним можно жить. А у них — заметные носы и лица, с которыми лучше, вообще, не показываться никому. И он перевел их в другую семью, своих друзей. Потом в еще одну.
Все эти люди не были в Сопротивлении. То, что потом стали называть Сопротивлением, после Победы, на самом деле в Голландии почти не существовало. Все, непосредственно участвовавших в той или иной борьбе с нацистами, немецкими, но, в основном, «своими», измерялись пятизначной цифрой. Тысячами. На 10 миллионов населения.
И эти тысячи, разные, тогда абсолютное меньшинство, либо уже знали друг друга, либо узнавали по какому-то невидимому коду, разговору или запаху.
Те, кто прятал Лео и его брата, были нередко далеки от политики, от «левых» или «правых». Они просто жили, имели свой бизнес, дело и, при этом, скрывали евреев у себя. Хотя и знали, что за это власть, не колеблясь, отправит их всех, всю семью, в концентрационный лагерь. Поэтому, на случай незваных соседей или гостей, в доме были места, где можно спрятаться от чужих глаз. Это не было организацией. Только личные знакомые и доверие.
День же у затворников превращался в тягучее время между завтраком, ужином и сном. Праздность и разговоры. Это были месяцы и годы, с одной стороны, насыщенной интеллектуальной внутренней жизни. С другой — полного отупения. Но они жили.
Однажды Лео перевели в дом, где его хозяева, католики, прятали сразу 29 евреев. Трудно укрыться, когда живешь среди людей. И в ближайшей лавке, и зеленщик, который привозил по заказу овощи в дом подозревали, что там что-то «не так». Дураков нет.
— 12 рулонов туалетной бумаги на неделю, — смеется Лео — Разве это не подозрительно? А килограммы овощей? Но эти люди ничего не спрашивали и не выдали полиции. Как она ни старалась вынюхать и выслужиться, проходя по квартирам кварталов, арестовывая и отправляя евреев на места сбора депортаций.
Те, кого прятали не платили за это. У них никто и не требовал денег или золота. Но продукты для себя они оплачивали сами. Из того, что имели и унесли из своего дома. Не больше.
Интересным и необычным оказалось другое. Человек, который бескорыстно прятал у себя почти тридцать евреев, рискуя своей жизнью, явно был нетипичным голландцем. Хотя и католиком. Он сделал то, на что средний житель страны никогда бы не пошел, будучи в зравом уме. А именно, он врал властям. Нагло, почти смеясь. Врал даже, что… голландец.
В его паспорте не было положенного по правилам штампа с буквой «J», еврей. Он не нашил шестиконечную звезду. Но на самом деле, он был тоже евреем. Светлым и голубоглазым. Не богатым. Обычным. Далеким от общины. И женатым на христианке.
Смешанные пары в Голландии не разрушали и не депортировали. В 1942 году ему позвонила сестра и сказала, что им пришло уведомление явиться на вокзал для переселения. Вскоре позвонил брат с тем же. Так он собрал у себя первых приговоренных и спрятанных. У них с женой, у самих было четверо детей. Однако это не остановило этих людей от укрывательства евреев. Государственных преступников, поскольку они не подчинились указаниям о переселении «на Восток». Но он и сам был преступник, поскольку обманывал полицию, гестапо и власти. Не законопослушный.
Первые три года оккупации голландцы, в массе своей, особо ее и не почувствовали.
Разве что с Восточного фронта далекой России повалили тысячи похоронок и из танковой дивизиии СС «Викинг». И из разгромленной такой же дивизии СС «Нидерленд».
Подполье, связанное с Лондоном, постоянно теряло людей и целые, и без того немногочисленные, сети патриотов-антифашистов. Разведчики и диверсанты, посланные из Англии, фактически все были схвачены и казнены. Начались перебои с продуктами, топливом. Но все это не походило на приближение настоящего голода и холода. Страна заворчала и почувствовала, что это мировая война, когда немцы стали мобилизовывать и забирать молодых здоровых мужчин на работы в Германию. И наконец, всех парней-студентов. Там уже не хватало рабочих рук, особенно мужских. Но в Германии могли и убить. Немецкие города подвергались все более сильным бомбардировкам самолетами союзников. Немцы уже не церемонилась с рассово близким народом и его местным фюрером, стараясь взять все, что им нужно. А нужно к концу войны было все больше и больше.
Летом 1944 года союзники наконец высадились в Нормандии и пошли за восток. Лео помнит, как в сентябре они ожидали встретить освободителей. Тысячи чиновников и службистов режима бежали в Германию. Чтобы потом вернуться. Патриотов, возмущенных немцами, по мере приближения англо-канадских войск, становилось все больше и больше. Пока наконец не пришло освобождение, а вместе с ним оказалось, что почти все вокруг сочувствовали и чуть ли не помогали Сопротивлению. Как обычно.
На самом деле, в Сопротивлении погибло от рук гестапо до двух с половиной тысяч героев. Коммунисты страны потеряли половину. Из 150 тысяч евреев осталось более четырнадцати, хотя нашлись голландцы, которые спрятали почти вдвое больше. Половина укрывшихся погибли. Как и те, кто дал им убежище.
В этом мире достойным людям выжить трудно. Везде и всегда. Даже высшие награды за героизм почти все получившие их голландцы были награждены… посмертно.
Лео спрятали в 11 лет, а вышел он на улицу, когда ему почти исполнилось пятнадцать. Но, благодаря горбуну и его друзьям, все его близкие остались живы. Отец взял в семью племянника, которого его родители отдали друзьям-христианам. А сами погибли в Освенциме.
Чтобы не травмировать парня в их семье дети больше никогда не называли своих родителей папа и мама. Только по именам. Как и он.
Но один их страшных, по-своему, парадоксов Лео узнал еще тогда, сразу после войны.
Однажды он купил книгу, из редких тогда, о нацистских концлагерях и уничтожении там людей. Это были воспоминания, по свежим следам, выжившего. Его мать очень расстроилась этим и долго не могла успокоиться. Она не хотела ни сама читать в подробностях, ни думать о том, что было с другими, погибшими. С абсолютным большинством голландских евреев.
В то время, как они мучались от безделия, одиночества и страха в квартирах, где их скрывали. Но жили и выжили. Хотя должны были оказаться в эшелонах смерти.
Более, чем из ста тысяч евреев страны и нескольких десятков тысяч, таких же, беженцев из Германии, осевших ко времени оккупации в стране, из лагерей на Востоке домой вернулись всего пять — шесть тысяч несчастных. Они работали там и остались живы, благодаря Красной армии и солдатам союзников.
Вернулась одна из сестер отца. Единственная из всей ее семьи. Одинокая, она нередко приходил к ним в гости в будни и регулярно в пятницу, на шабатний ужин. Но в их доме был неписанный и жестко соблюдаемый закон — никогда не спрашивать ничего, что она видела, слышала, претерпела, как выжила в лагере.
Так же было и в других семьях, не попавших под депортацию и уничтожение.
Они сами не хотели ничего знать, невольно сразу проецируя это на себя и испытывая раздражающее изнутри чувство вины, что и без лагерей, без подполья и борьбы остались живы.
Да и рассказывать, особо, было нечего. Кроме тянущего постоянного страха.
Рассказывать было нечего. Почти как и тем, кто ходил и сидел на улицах, в домах и в ресторанчиках, далеких от евреев и Сопротивления, уничтожаемого волна за волной. Они, живые, поделятся потом дома, внукам и правнукам, что нацисты ничего особенного плохого не делали. Не грабили и не насиловали. С ними же этого не было.
Разве что, кто-то из соседей мог оказаться заложником, взятым на улице. Но в этом виноваты те, кто стрелял в оккупантов и, тем самым, провоцировал немцев на убийство. Они же тоже должны были защищаться. А так, жить было можно, хотя, конечно, и хуже, чем в мирное время.
Зачем думать о страшном и запредельно жестоком, если это было не с тобой. Когда вокруг жизнь, солнце, цветы, дети, радости и вкусности. Да и выжившие… Кому рассказывать? Таким же, вроде, как и ты, но из иного, реального и параллельного мира?
Сестра отца Леона, пережившая лагерь уничтожения и навсегда носившая выколотый на руке номер вместо имени, вышла замуж и родила детей. Но, даже когда она ушла из этого мира, никто из них ничего не узнал о ее депортации и пережитом. Делиться можно с внуками и школьниками третьего поколения. После. Если пригласят. А так, рассказывать — словно объяснять здоровым, какие у тебя болячки и как проходила операция.
Современникам, в той же Голландии, и не только, это было неинтересно, слишком мрачно и удушающе. У них была другая жизнь «под немцами» или без них.
К тому же, у каждого, живого, всегда хватает своих проблем. В текущем для них времени и обстоятельствах.
Интересуясь все-таки, что могло случится и с ним, и с ними, и с миллионами других людей, Лео увидел и осознал, что уничтожение евреев, как и движение Сопротивления было и осталось чуждым большинству. Носятся со своей памятью — война, аресты, конспирация, пытки, лагеря, нацизм. К тому же таких, после репрессий и борьбы, таких осталось относительно мало.
Тема Холокоста всплыла уже через двадцать лет после войны. И была, отчасти, едва ли не навязанной. Об этом не знали, потому что не хотели знать.
Тот же знаменитый Дневник Анны Франк, одна из пяти самых известных книг в мире, — говорил Лео скорее себе, чем кому-то — Дневник этой талантливой голландской девочки-еврейки, прятавшейся, как и они, в семье друзей. Но выданные все-таки, уже в 1944 году, и погибшие, кроме ее отца, в лагере. Когда он после войны попытались издать книгу-дневник, то разные издательства отказывали 15 раз. Кому это интересно? Никому. И только потом…
Очередное чудо: то ли издатель — человек, из Сопротивления. То ли, скорее всего, сработали чьи-то вложенные в популяризацию книги деньги.
Лео жил в том времени и в первые десятилетия после войны. И видел сам, как возвращающиеся выжившие евреи, немногие, в той же Голландии смогли вернуть свои квартиры и дома. Но редко, кто получил сбережения или семейные ценности обратно от тех, кому их доверили. На случай, если получится вернуться домой кому-то из семьи.
— Не знаю, как в Польше или в той же России, — рассуждал Лео — Смогли ли они забрать обратно хотя бы свои дома, но в Голландии каждый вернувшийся живым еврей становился экономической несуразицей и лишней проблемой. Деньги не возвращали или врали, что ничего не было.
Общее и точное отношение к выжившим выразил как-то, без злобы, один из руководителей местного бюро регистрации имущества, куда обратился отец Лео.
— О… — сказал он жизнерадостно и удивленно — Вы всё еще здесь?
Это было что-то вроде «Добро пожаловать».
В начале пятидесятых годов, пять-шесть лет после войны, в стране начался процесс реституции, возвращения имущества тем, кто выжил. Оно уже давно принадлежало другим. Политкорректная, уже тогда, Европа словом «возвращение» заменило простое и откровенное «украденное».
Один из его лучших послевоенных друзей, голландец, оказался на самом деле сыном крупнейшего уголовного авторитета страны. Тот был солидным уголовником еще до войны и его звали голландский Аль Капоне, поскольку он всегда носил в кармане пистолет. Друг Лео, тоже мальчишка времен войны, не знал кто был его отец, который в конце войны уехал в Аргентину. Сын вырос в богатой семье и стал не просто кем-то, а вице-президентом известной корпорации «Филиппс». Но однажды, много лет спустя, появилась скандальная книга о его отце и сын вынужден был оставить свое место. Узнав об этом, Лео пошел в магазин, купил эту книгу и потом позвонил другу в Париж. Он сказал, что для него не имеет значения кто и что сделал его отец. Друг, как был, так и остается его другом.
Но, как оказалось, голландский Аль Капоне, разбогатевший во время войны и процветающий в бизнесе после нее, был лично ответственен за гибель более двухсот евреев. Он обещал им, из богатых семей, что переправит в Швейцарию и спасет. А затем убивал и забирал деньги и драгоценности. Так он сколотил свое состояние. Ну, не работй же. Потому, на самом деле, и бежал в Аргентину.
Сам Лео прожил далее спокойную жизнь. Родители встали на ноги и не вспоминали войну. Дом стал кошерным. Поскольку именно та война снова толкнула многих евреев к вере, традициям и некоему единству. У большинства живых тогда почти все родные, близкие и друзья погибли. Соседи остались те же. Их дети, а потом и внуки гуляли по тем же улицам и паркам. Все пошло по новому кругу. Он, амбициозный, завербовался в армию, во флот и служил там, пока, уйдя на пенсию, не перебрался в Канаду.
Они дружили и со своим спасителем — горбуном, и с теми, кто их укрывал. Но встречались редко. Это было напоминание о страшном для них времени. А страшного не хотелось. Хотелось жить.
Горбун еще долго играл в ресторанчике на пианино, но никакой награды от государства не получил. Не за что. Так и прожил. Как смог.
Согнутым и уродливым прекрасным человеком.
Отец Лео, однако, уже много лет после войны, когда наконец и вдруг вспомнили и громко заговорили о Холокосте, добился предоставления ему Звания праведника мира в Музее Яд ВаШем в Израиле. Таких голландцев оказалось более пяти тысяч. И выживших, и погибших.
Уйдя из армии, Лео не раз встречал тех, кто выжил и рос в чужой, формально, семье. Не зная, а иногда и узнав уже взрослым, что их когда-то отдали погибшие потом родители. Порой эта правда становилась новой трагедией.
Однажды Лео познакомился с женщиной, зеленоглазой, светлой, идеальной, как он автоматически увидел, для того, чтобы ее можно было спрятать. Ей было всего семь месяцев, когда чужие люди согласились, перед депортацией родителей, забрать ребенка, опасного ребенка, к себе. Они вырастили ее в любви и благополучии. Но в совершеннолетие эти очень добрые люди решили сказать дочери правду. И то, что она приемная, и то, что они ее спасли, и, наконец, то, что она еврейка. И все в их и ее жизни рухнуло.
В ответ, неожиданно, дочь возмутилась — Как вы могли столько лет лгать мне, скрывая правду?
Она порвала с семьей и больше никогда не общалась и не возвращалась домой. Уже давно немолодая и вечно нервозная, она так и не поняла, как разрушила не только свой мир благодарности и тепла, но и жизнь тех, кто ее принял, рисковал, выхаживал, растил. Она не смогла перенести осознание, что оказалась другим человеком, из другого мира и с другой биографией. Бывает и так.
Иногда Лео сожалеет только об одном: и он, и другие в Голландии, много лет, говоря о своих родных и погибших другим и даже себе говорили — Умер. Или ушел. Или еще как-то.
Вместо прямого, жесткого, острого, но честного — Убили…
Наследство
Один человек мне сказал, что ему звонят только, когда от него что-нибудь надо.
— Радуйся, ты нужен людям, — ответил я и подумал: «Хуже, если наоборот».
— Почему вокруг говорят только о ком-то? — удивлялся Илья. — О каком-то политике, о вечном росте цен, о брэндах, о том, что певица вышла замуж и муж сделал себе имя, а потом развелась и сделала на этом деньги.
Илье было под тридцать. Он работал, трахался и спал. На большее времени не оставалось. И ничего в его жизни не происходило. А хотелось бы.
— Когда нет своей жизни, то ничего не остается, как пережевывать чужую. Надо же о чем-то разговаривать. Все еще хочешь, чтобы и о тебе говорили?
— Конечно, хочу.
— Скажи, что получил наследство. 200 тысяч евро, — я почувствовал себя Мефистофелем. — От какого-то дядюшки из какой-то там Швеции.
— Может, миллион? — спросил Илья.
— Нет, миллион — это много. Не переживут.
Иногда так просто сделать человека счастливым. А его ближнего — несчастным.
Илюша пропал на две недели. Ему звонили друзья и знакомые. Одни поздравляли, плохо скрывая раздражение, и просили записать их телефон. Вдруг понадобятся. Мало ли что… Другие настойчиво приглашали на шашлыки и просто пообедать вместе. За их счет. А чего мелочиться? И все спрашивали, как он намерен распорядиться деньгами.
— Я устал, — сказал он при встрече. — Они мне надоели. Говорят о своих планах по бизнесу, приглашают в инвесторы. Рассказывают о мечтах, о домах в Майами и несбывшихся путешествиях. Сватают и сватаются. И все — о себе и о моих деньгах.
Мне показалось, что он сам в это поверил.
— А ты скажи, что отдал все на борьбу с тем же СПИДом. Тебе, мол, и так хватает.
И они враз оставили его в покое. Как отрезало. И он ожил. И, забив косячок на всех и вся, рисует тушью свои дзен-картинки за столиком в мастерской моего друга-художника, где почти вчера мы вечерами пили дешевый молдавский коньяк и вспоминали разное из своей жизни. А он сидел рядом, слушал и смотрел, радостно за нас и отстраненно — за себя. Еще бы.
— Дурачок, — сказал один из его знакомых. — Полмиллиона евро взял и выбросил. Уж я бы их потратил с умом. Купил бы…
— Полмиллиона? — переспросил Илья — Больше.
Один человек мне сказал, что можно хорошо заработать, если найти деньги.
— А зачем тогда зарабатывать? — ответил я и подумал: «Было бы, что терять».
Сила творчества
Дорогая редакция.
Я послал вам рассказ о своем первом сексуальном опыте. И это мой первый литературный опыт тоже. Ведь чем писатель отличается от читателя? Он пишет то, что другие только говорят. А потом прочитают где-то и вспоминают, что они тоже все знают. Только писатели под этим всем ставят свои имена, чтоб заработать. А героев называют, как захотят. Вот я и подумал, что тоже так могу.
Напомню содержание моего рассказа. Эксклюзив для Вас.
Тогда был вечер и я шел домой из бара, где мы с ребятами сидели после футбольного матча «Спартак» — «Динамо». Я болею за «Спартак». Так и сказал девчонкам, которые тоже сидели в баре и пили пиво рядом с нами. Одна еще переспросила «чем-чем?», но я уверил, что здоров. И заказал им еще пива. Они посмеялись и та, что спрашивала, попросила провести её до дома. Она живет на улице Молодежной, дом 4, квартира 18. Но это не важно. Я конечно всячески заинтересовал ее, рассказывая о компьютерных играх и о разных смешных роликах в интернете. Женщинам это нравится и выглядит солидно.
У подъезда она сказала, что родители уехали на дачу, за город и можно пойти к ней выпить кофе. Я подумал — Почему не выпить? И пошел. Но сначал сбегал в магазин, купил бутылку водки. Сказал ей, что кофе с водкой. Это как Рижский бальзам. И так пьют в Европе.
Дома у нее никого не было, мы смотрели телевизор, слушали музыку и нашли много общего. Например, рэп и легкую закуску. Потом я плохо помню, все-таки пил пиво до Бальзама, но мы целовались. И легли в постель ее родителей. Как-то само — собой.
Она сначала сомневалась и повторяла, что в первый вечер с незнакомыми ребятами не ложится. Но я ее убедил, что не имеет значения в первый вечер или во второй. Жизнь коротка и ее надо пить. Как водку с кофе. В смысле, как Рижский бальзам.
А дальше, она как-то так вывернулась в постели, что все получилось само собой. И еще раз. И еще. Потому что молодой и еще ничего не жалко. Но у меня это случилось впервые. И, как часто говорят сегодня — Все в жизни случается в первый раз. Чтобы сразу было видно, что это умный говорит.
Я слышал ее дыхание и слова о любви. С первого взгляда и ночи. Но все хорошее кончается. И это еще одна мысль моего произведения.
Утром вдруг загремела входная дверь и вскоре в спальню ввалился какой-то дядька. Здоровый и наглый. Оказалось, это ее отец. Они с матерью что-то забыли важное взять на дачу и решили вернуться.
Отец посмотрел на меня и сразу сказал — Женись теперь. Я удивился — С чего вдруг так сразу? Он ответил, что вызовет полицию и я надругался над его дочерью. А это срок и мне век воли не видать. Она же молчала и слушала. Типа, напуганная. Я тоже испугался и согласился. И стал торопиться по своим делам. Хотя, на самом деле, никаких хлопот у меня не было. Какие дела могут быть в воскресенье?
Её отец оказался тем еще боевиком. Он сказал, чтобы я вывернул карманы и забрал у меня все деньги. И льготный проездной в транспорте, как залог, что я вернусь. Но деньги мне родители еще дадут, а про билет я объяснил дома, что потерял. Потому что в баре заступился за девушку. Один против всех. И отец, уже мой, растроганный, дал мне даже больше, чем надо, на карман.
В общем, дорого мне обошлась первая ночь любви. Но за все в жизни надо платить. И это главная мысль моего рассказа. Как напутствие всем тем, кто ищет любви и много раз ошибается. И платит. Но когда-нибудь найдет. Надо верить в лучшее. И все будет хорошо.
С уважением Максим Сидоров, будущий студент.* * *
Уважаемый Сидоров Максим.
Мы получили Ваш рассказ и долго совещались, что с ним делать. С одной стороны, в нем много «я», а люди любят, когда читают «мы» или видят нейтральное имя или фамилию. Но, в конце концов, мы пришли к выводу, что Ваш рассказ о первом сексуальном опыте будет интересен читателям. Они захотят обменяться, рассказать о своем, самом главном. О том, чего другие не знают и не испытывали никогда. А, если и испытывали, то все равно по-своему. И это даст взлет интереса к новому, повысит наш рейтинг и послужит толчком к дискуссиям о проблеме первой любви и ее проявлениях в жизни целого поколения. Так что, ждите. Скоро появится у нас и Ваш замечательный и актуальный для всех рассказ.
* * *
Дорогая редакция,
После того, как Вы поместили мой рассказ, тысячи откликов и писем, по Вашим же словам, хлынули на электронную почту издания. Я рад, что мое произведение стало таким популярным и нашло живой отклик и множество кликов. А также своих историй на эту тему.
Но и во дворе, и на улице, и у Вас некоторые стали обвинять меня, мол, у них все было почти так же. А я взял и написал. Как любой мог бы написать. Но они сначала прочитали — и написали уже вам.
Кто-то даже грозится подать в суд.
Хотя, как сказала моя школьная учительница, если бы Пушкина не убили, он тоже подал бы в суд на Гоголя. Потому что это поэт, за бутылкой вина, рассказал прозаику историю о ревизоре. Которую Пушкин тоже услышал, но не помнил от кого. А деньги от таких судов не бывают лишними. Все лучше, чем ишачить каждый день за копейки, изгаляясь. Да и любой такой суд — это «пиар» для его участников.
Но Пушкина убили и, возможно, именно поэтому. За длинный язык. Зачистили концы. С подачи или по заказу Гоголя.
Но, есть и другое. Прочитав мой рассказ, вместо гордости, тетка, закостенелая в своем отсталом прошлом, заявила, что я оклеветал весь женский род: от будущих матерей до жен.
И еще, я выставил отца — защитника и кормильца семьи в роли вымогателя. Я вынужден объяснить, что никого не выставлял. И не позорил. Я просто написал, как у меня было. Даже без гонорара.
Кстати, о деньгах. Раз так, то, как говорит мой бывший одноклассник, а сегодня «мажор», я могу подать на Вас в суд за нанесенные мне нравственные унижения и возмещение морального ущерба.
Честь — это не только главное, но и самое дорогое. Если вы мне заплатите круглую сумму, я плюну на то, что говорят во дворе и пишут у вас обо мне другие. В конце концов, творчество все перетерпит, если знает, что получит своё.
Не зря же я обрел свой первый сексуальный опыт — как делать. А уж куда и к кому теперь его применить, жизнь и добрые люди подскажут.
С уважением Максим Сидоров, писатель, публицист, общественный деятель и сексопатолог.* * *
— Что будем делать? Вы что, сами вспомнить не могли? — главный редактор жестко окольцевал всю редакцию, отчаянно шарящую глазами по стенам и потолку. — Срочно пишите о первом французском поцелуе, «арабской весне» в гареме, русской любви до гроба, кучерявой еврейской свадьбе и погромном украинском разводе. В тренде. Можно и наоборот. Если будут проблемы с сюжетами, возьмите Библию. Там все есть. Сидорова оформим консультантом и выплатим за пару месяцев зарплату. К тому времени о нем все забудут. А дискуссии о первом сексуальном опыте раскрутим сами еще раз. Но позже. Пусть подрастет новая волна озабоченных подростков и пенсионеров, которым не с кем поделиться. Но уже есть, что вспомнить. Вопросы?
Залетная муха звенела, метаясь в своих потемках от счастья неопытной тишины и вседозволенности инстинкта. У нее уже все было. И все есть. И все будет. А, если и не будет, то она это не поймет. Где первый раз — где последний. И хорошо.
Немцы в городе?
Один человек мне сказал, что приглашает на свой юбилей пятидесятилетия от рождения.
— Это дата отчетного периода в жизни, — серьезно отметил он, — и мне хочется сделать праздник для других. Благо бизнес идет хорошо и деньги тоже.
Жизнь удалась…
Для начала он арендовал единственную в стране машину типа «Чайка», на которой в советские времена лично ездил первый секретарь ЦК партии. Мог бы заказать и пятиметровый западный лимузин — символ преуспевания.
Но юбиляр хотел проявить патриотизм и духовность. Все равно по цене выходило почти одинаково.
Один человек вдвоем со своей женой сел в «Чайку», украшенную бантиками и заветной цифрой пятьдесят, и проехали по всему центру города, временами останавливаясь и выходя, чтобы дать полюбоваться на себя неудачникам — зевакам.
К ресторану, где проходило торжество и куда уже приехали почти две сотни гостей, приглашенные по такому поводу почти со всего света, их машина, как и положено, слегка запоздала. От нее до двери была выстелена настоящая красная дорожка, а по сторонам стояли актеры местных театров в виде замерших живых статуй, все в золоте. Точнее, в позолоте. Потом статуи перешли в зал, и гости парочками проходили вдоль них, фотографируясь, наслаждаясь, охая и чувствуя себя, как в Лувре или в Британском музее, не мельче.
— Ах, — восклицали одни на французском.
— Фантастиш, — качали головой по-немецки другие.
— Супер, — восхищались по-американски третьи.
Остальные смотрели чопорно и молча. Было понятно, что на английском.
Пахло фальшивыми деньгами и кислым вином.
Каждый приходящий должен был оставить свою запись в специально изданной книге поздравлений и по настоянию хозяина торжества делать вид, что с интересом читает предыдущее. Стол был хороший, хотя сам виновник много не ел, поскольку сел на очередную диету. После положенных длительных здравиц он с неподдельным восторгом полчаса смаковал технику очищения желудка.
И я понял, что клизма для него — самое полезное в этом мире. После еды.
Вдруг на улице ухнуло и затрещало.
— Немцы в городе? — спросил я соседа по столу, бизнесмена то ли по яйцам, то ли по пиву.
— Если бы… — почему-то грустно вздохнул он. Но оглянулся по сторонам.
А неподалеку, над Дворцом спорта, почти в самом центре столицы некогда партизанской республики, над засыпающим городом и уже сонной рекой, с грохотом летели в небо петарды и клочья цветных огней. Прохожие ошарашенно останавливались на улице и спрашивали друг друга, что это за праздник на дворе.
А это был финал пятидесятилетия от рождения, заключительный такой клизматический аккорд. Чтобы помнили.
— Салют Победы, настоящий салют Победы, — во всеуслышание шептали вокруг сопровождающие жены и любовницы, а самые глупые вытаскивали из карманов и сумочек навороченные стразы крутых своих мобильников и как бы делали снимки на вечную, понятно, память. Детям детей расскажите о них.
Из дверей бисером разбегались уже переодетые и сытые, но довольные актеры.
Один человек спросил:
— Ну как?
— Еще бы, — ответил я и подумал: «Пропал вечер…».
Мужское достоинство
Слава был радистом пассажирских рейсов международной авиации и летал далеко-далеко. Престижно и сытно. Далеко и оказался. Из-за того самого куда, по-русски, и посылают. Мы встретились с ним на Новой Земле, у Северного Ледовитого океана, в белой звенящей на морозе тишине. Вечной, как здешняя мерзлота далеко вглубь земли и на север — до самого полюса.
А геофизики ставили свои вышки и бурили ее в поисках и нефти, и газа, и чего угодно тем, кто сидел, в тепле, в Москве. Но тогда мы думали, что это — для всех, для нас.
Посреди тундры, которой и тундрой не назовешь, поскольку до горизонта везде была только заснеженная земля с крутыми поземками и грудами запорошенного льда, ставили балки — это деревянные домики на полозьях. Чтобы можно было перевести их в другое место и снова долбить землю. До победы. В поселке было всего несколько таких балков. А необходимое для работы и жизни спускалось с неба. Время от времени.
Нас с оператором с неба и забросил вертолет. Или, говоря на понятном языке «борт». На два дня: подснять и рассказать, как работают в этих условиях люди.
Слава жил в отдельном домике, где размещалась документация и рация. Единственная ниточка к больщой жизни где-то. Там же разместили и нас: меня и оператора Йонаса, с литовской фамилией. Йонас был удивительно спокойным и молчаливым. Но такие поездки, вдвоем, располагают и я уже знал, что его родные были в этих краях, только гораздо «южнее», в Воркуте, в одном из лагерей, построивших этот шахтерский город. На вечной мерзлоте, костях погибших и упорстве выживших. И приехавших новых жителей. Не от хорошей жизни, конечно. Но уже свободных.
Йонас в Воркуте родился, и, после освобождения родителей, остался. Таких тогда было еще довольно много.
А севернее, в глубине белой мглы, у Ледовитого океана, кое-где копошились только геологи со своими буровыми вышками.
— Ну, что, — встретил нас Слава — Темнеет быстро. Снимать явно будете завтра, а пока давайте за встречу. Мы что, не русские? И выставил на стол трехлитровую банку спирта.
Уже имея опыт северного гостеприимства, мы записали сначала небольшие интервью и с ним, и с работягами. В столовой давали разогретые большие куриные окорочка. Так что закуска оказалась почти праздничной. А наутро выдвинулись к буровой. Йонас завернул камеру в подобие ватника, но на воздухе сделал только несколько планов. Было солнечно и ярко, до рези в глазах и шарф, натянутый на нос, не очень спасал от холода и разряженного воздуха.
Я хотел было сделать фото на память и спрятал в тепле, на груди, фотоаппарат. Но при первом же переводе пленки на новый кадр, она лопнула от мороза. Йонас невозмутимо снимал, как снайпер, спрятавшись в пристройке к буровой вышке.
— Ну, что, ребята — сказал Слава, дождавшись нас с нетерпением. Ему больше всего хотелось просто поговорить — Теперь уже можно и нагнать вчерашенее. Не уроните честь и достоинство.
— А чего ронять? Никуда они от нас не денутся. Правда, Йонас?
— Так, — поддакнул оператор — Все правда, кроме правды.
— Не скажите, — завелся Слава — Я на северах уже два года. А все потому что купил и уронил мужское достоинство.
— Это как? — я попытался представить, но не смог. Наверное, еще мало выпил.
— А вот как, — продолжил Слава. — Мы летали то в Европу, то в Америку. Мне повезло и с работой, и с экипажами. Бывала возможность и город посмотреть, и прикупить что-то для себя или для подарков. И вот однажды я нарвался на секс-шоп. Интересно всё-таки, согласитесь.
Мы согласились.
— Ничего там полезного, как оказалось, для нормального мужика нет, — продолжил Слава — Но я вдруг решил взять несколько искусственных членов. Совсем дешевые. Один себе, для смеха, ребятам показывать. И пару для стебных, но ценных, подарков. Всё в пластиковой упаковке. Приятно в руки взять.
— Особенно с утра, — вдруг оживился Йонас.
— Да, ладно вам … — почти обиделся Слава — Небось ни разу не видели. Искусственные. Вот и я так же. Короче, экипаж после полета обычно не досматривают. У нас свой коридор. Но тоже не сквозняк. На всякий случай я засунул эти члены под форменный китель, в брюки. Чтоб лишних вопросов не было. Так и сделал. Но, когда проходил при въезде формальности, то ли напряг живот, то ли, наоборот, ослабил. И прямо перед всеми, на пол, у меня эти члены и выскочили на свободу. И рассыпались. Народ так и замер вокруг. Сначала не понял что к чему. А потом ахнул…
— И что, посмеялись? — не понял я.
— Если бы, — вздохнул Слава — Пришили аморальное поведение. Чуть ли не извращенца. Исключили из партии. Сняли с международных рейсов. Но начальник, неплохой дядька, сказал — Езжай-ка ты куда-нибудь подальше, лучше на Север. Года два-три пробудешь там, подзабудется, может и вернешься. Северян уважают везде. Вот я и отрабатываю воздержанием и наземной рацией эти самые искусственные члены. Еще и полетать хочется. По — настоящему…
Слава разлил спирт по кружкам. И затосковал. В балке было тепло. По сравнению с тундрой. За окном стояла промерзлая, но какая-то удивительно прозрачная, завернутая во мглу, тишина. Звездная, как живые, не пластмассовые люди.
— Пойдем, снимем огоньки и наше окно в ночи, — сказал Йонас, укутывая камеру — Завтра возвращаться.
Мы выскочили в сумасшедший, даже для нас, мороз, но поскольку вся природа вокруг онемела, замерзшая, мне пришлось сбоку, быстро, почти по-собачьи, покидать снег, устроив на фоне горящего окна что-то вроде живой движущейся поземки.
Иногда правду надо всколыхнуть. Иначе будет не правда.
А в балке нас уже ждали принесенные теплая курица и тот же спирт. Слава рассказывал об аварийной посадке и ребятах из его бывшего экипажа. Йонас — о поселке Халмер-Ю, где работал в лагере его отец и о воркутинском оркестре, где играли едва ли не лучшие музыканты со всего Союза. Я, как молодой еще, о своей Монголии, без туризма.
Ночью вдруг поднялась пурга и мы неожиданно для себя просидели здесь еще несколько дней, пока борт наконец смог нас забрать. Зато спирт допили до капли. Напелись под гитару, отоспались и наговорились. На двадцать лет здешних лагерей, как было в давние времена, без права переписки.
— Еще полетаем, — сказал, провожая нас к вертолету, погрустневший Слава. Но с достоинством. Мужским.
Пофигист
Впервые настоящего пофигиста я встретил у друга-художника. Слава снимал комнату. И этого было достаточно. Ему, вообще, всего было достаточно. Я встречал таких людей только среди умных, от природы. И среди верующих. Но у них есть какая-то самооснова для этого. А у него было ничего. В мире, где пофигизм стал уже нормой, он принципиально отличался и от ему подобных: не был паразитом, живущим за счет работающих других, наследства или пособий от другого монстра-паразита, государства.
Слава ничего не просил и не брал. Но и ничего не хотел. И ни от кого. Он просто жил, как есть. И это было даже просветленно.
Правда, он был наркоман. Тихий. И тоже странный, даже для них. Я никогда не видел его вне сознания. С улетевшим взлядом или несвязной речью. А отупелые стеклянные глаза потустороннего мира пустоты встречал только у чиновников за их ненасытными столами, двуногих в какой-либо униформе, символизирующей власть, алкоголиков и тех же настоящих наркоманов, ищущих очередную дозу «дури» или уже парящих под ней, как сигаретный пепел на ветру.
Славе было уже прилично за тридцать. Он уехал из Эстонии, где, по молодости, даже женился и сделал дочь. Но оно ему не надо было, изначально. Как любые прошлые обязательства и придуманные понятия «должен». Такого слова в его лексиконе и в голове не было. Он уже тогда просто жил. Встреченная им тоже совсем еще молодая женщина хотела самоутвердиться дитем, привязать Славу к себе и разложить ответственность за него на своих родителей и какие-то государственные конторы. И все были ей обязаны. За удовольствия. По закону и нормам от подзаконных нормировщиков. Все и были. Кроме Славы. Он так и не понял, что собственно произошло. А, когда произошло, то и случилось. Ну и что? Он же не хотел и не брал. Он дал то, что она попросила. И получила. И очень удивился, когда затем последовали запросы. Слава же ничего не требовал. Ни тогда, ни потом.
Он развелся, отдал ей квартиру, к его счастью, умершего дедушки и уехал. Не потому что очень хотел, а подальше от претензий, требований и надоеданий. Слава не понимал, что она от него еще хочет. У него уже ничего не было. Да и не надо.
На новом месте, обосновавшись, он начал работать. Что-то сортировать на складе большого магазина. Аккуратно, спокойно и так же тихо. На эти деньги и снял комнату. Но ненадолго. Он раздражал и хозяина, и соседей тем, что ни о чем не хотел разговаривать, обсуждать политиков, сериалы и кого-то незнакомого. Да и знакомого тоже. Слава приходил после работы, забивал косяк конопли, покуривал и рисовал. Часами. И ему было плевать на рост цен, на премьер-министров, санитаров леса и общества, врагов народа и его кумиров. На всех. Впрочем, «плевать» это уже глагол действия и отношения. У него не было ни того, ни другого. Не было и всё.
Слава брал тушь, кисточку, нарезал листки и водил по ним, создавая удивительно тонкие работы, похожие на японскую и китайскую графику природы. Но он об этом не знал. Не учился где-то и не подражал. Слава не смотрел телевизор, не читал книги и, тем более, газеты. Ему было пофиг.
— Наркоман, — начинали злиться соседи и хозяева, бессильные — Еще украдет чего-нибудь…
Это им было понятно и близко. Так что он долго не задерживался нигде, пока не встретил художника. И застрял у него надолго.
Художник тоже жил в своем мире, хотя читал и думал, и сравнивал. И выплывал из него, когда выходил к людям. А куда ж без них? Художник не был наркоманом и даже бытовым алкоголиком. Случается и такое с талантливыми людьми. Они живут среди других. И терпят. Но не всегда выдерживают. Художник тоже был талантливым и картины помогали ему выжить, и жить. И еще, он был хорошим другом. Значит умел отдавать, не спрашивая. И терпеть таких, как я. И Слава.
А Славе нечего было терпеть. Он ни с кем даже на заговаривал, хотя и отвечал, если спрашивали или лезли со своим. Но быстро отваливали. Ему-то было пофиг всё, что они говорят и от него хотят. Работал, покупал поесть, платил за комнату, тушь с бумагой и улетал в своё. Чем не жизнь?
Однажды из Эстонии прилетела уже выросшая дочка. Она хотела увидеть отца. Увидела, наговорила о себе, маме и стране три короба. Посидела рядом. И быстро поняла, что ни интереса ко всему этому, ни денег у него нет. Она оказалась умной девушкой. Видимо, в папу.
— Хотела встретиться. Встретилась, — сказала она — Главное, что ты есть. Уже хорошо, что я не одна.
И улетела обратно. Он только растерянно улыбнулся и ответил — Я рад. Но облегченно вздохнул, когда она ушла.
Я, по наивности, пытался узнать, какой эпизод в жизни ему больше всего запомнился? За что, может быть, стыдно? Какой скелет в его шкафу остался за тридцать пять лет? Но он долго не мог вспомнить ничего, хотя старался изо всех сил. Вокруг него были или никто, или те, кого он уважал. Тоже просто так. Вот он и старался мне ответить. Но так и не смог. Не потому что прятал. А нЕчего. Он никого не обманывал. А трудности, жизненные, воспринимал как данность. Не более.
Трудности, они же только у тех, кто хочет больше, чем имеет. А ему было пофиг. Все, всё и даже он сам.
— Опустился, — говорили соседи. Приличные, вечно бегающие, что бы где взять, урвать, откусить и как бы утащить в свою нору, соседи. Обижавшиеся, что он ни о ком и ни о чем с ними не хочет разговаривать.
— Так не о чем, — пояснил он мне, как-то, улыбаясь — Они все что-то хотят.
И утыкался в бумагу, выводя кисточкой с тушью, не отрываясь, какие-то дивные горы, которые я увидел, воочию, только в Южном Китае. Где Слава никогда не был. И вряд ли знает, даже где это на карте.
Если бы не был падшим ангелом, так и жил бы он, вместе со всеми. Как свинья в апельсинах…
Ничто
В то пасхальное воскресенье, с утра, около девяти, мне вдруг позвонили в дверь. Пришел давний приятель. То есть человек, которого ты знаешь, но он не сделал тебе ничего плохого.
— Ну вот, Христос воскрес, — мне было лень идти делать второй кофе.
— Если бы.. — сказал он, который приятель. Но давний. — Есть разговор.
И я понял, что придется нести свой крест. Хотя бы до обеда.
— Понимаешь, — он скинул куртку и освободился, заняв меня. — Жена, подвыпив где-то, вдруг заявила, что ненавидит. И повторила это не раз. Я не спал всю ночь. Места себе не нахожу вторые сутки. Нужен твой совет, что делать?.
— Подожди в кабинете, пока сварю кофе.
Я все-таки прошамкал на кухню.
За последние почти десять лет мы виделись два раза. В моем доме. У него были странные предложения по нефтянке и торговому бизнесу. Словно это я, а не он, заканчивал торговый институт. Чтобы кататься в масле необходимости людям. Но времена изменились и оказалось, что вокруг все есть. Люди уже не искали, где купить. А наоборот, пришлось работать, чтобы заставить их это делать. Все стали продавать все и всех. Это называется капитализмом. Тоже неплохо. Если хорошо живешь.
Приятель этот жил хорошо, но в квартире, которую ему купили еще в те времена родители. И пока хватало денег, а родители не стали пенисонерами. Потом они перестали давать и стало плохо. Точнее хорошего — понеможку.
Где он жил я так и не знал. Жену в глаза не видел, не говоря уже об остальном.
Утренний кофе, между тем, закипел, бурлявый. Я успокоился.
— Так что случилось?
— Ничего. Жили — и вдруг. За что она меня ненавидит?
Сначала я хотел посоветовать ему полюбить и её разочек, «по русски», но не стал — обвинят еще, саблезубые апостолы, в провоцированиии насилия в семье. Ссылайся потом перед архангелом в казенной мантии на народную мудрость. Где казна — а где народ.
— Может, не то сказал, обидел? — я зашел с другой стороны.
— Нет, все по-старому.
— Деньги перестал давать? Они это не прощают…
— Даю, что есть, чтоб не грузила. Заначку придерживаю. Но так было всегда. Она тоже придерживает. Сегодня это называется «тырить у мужа». По телевизору так учат, сам слышал. А я и не выступаю. К тому же повышение на работе получил. Не страшно, нам хватает. Не так, как прежде, но достаточно, чтобы быть на плаву. На спине.
— Ну, тогда не знаю. А не «замкнуло» её? Твоей жене лет пятьдесят — это бывает, хотя, на самом деле от возраста не зависит. Не стоит обращать внимания на всё, что говорит жена. Иначе рехнешься раньше времени.
— Да я места себе не нахожу. Заявить такое — ненавижу, — он уткнулся в кофе с таким остервенелым видом, что я заглянул в чашку.
Там была только гуща.
— Что гадать. Сам говоришь о повышении. Успех и бескорытие — это то, что не простят завистники-враги. И, прежде всего, жена.
— Вечно ты… — вдруг обозлился он — У меня нет врагов. И завистников нет. Я со всеми в нормальных отношениях, никуда не лезу, с начальством не спорю, в гости почти не хожу, политикой не интересуюсь. Курить даже бросил — дорого. Плазму ТВ будем покупать большую. Как все. Чего мне завидовать?
— Подожди, — меня осенило — У тебя нет недругов? И завистников? Так ты для нее никто. По молодости, дети малые, квартира, быт, она этого не замечала. А вокруг твоего календарного полтинника задумалась. Жены в этом возрасте, после сорока, либо резко глупеют, либо умнеют.
— Так не дура, вроде.
— А я о чем? Накопилось, вот и прорвало её. Бежать-то с корабля поздно. Вот если бы ты, с чемоданчиком…
— И оставить все этой крысе? Подожди. — подскочил он, окрыленный — Точно. Приключений ей захотелось. Скучно со мной стало. А если мы, в Анталию, в турецкую, в отпуск поедем? Там хорошо. Или в Черногорию, это модно. Но лучше в Крым, там дешевле.
— Дешевле, — обреченно согласился я, пригубил кофе, прикурил очередную сигаретку, утренний кайф, и посмотрел в окно — Воистину воскрес…
А он еще долго рассказывал, что купил ей за годы совместного проживания. И как трудно сегодня заработать и отдать. То есть жить и ездить на уже стареющей, как жена, машине. В ржавчине непонимания и разболтанных молчанием тормозов. Вместо благодарности за терпение и отстежки заработка.
Майское солнце уже веяло благодатным огнем весны и жизни. Хотелось чего-то крепкого и в меру.
Безмерными в этом мире бывают только счастье и водка.
Счастье реже.
Но его и не должно быть много. Все-таки, оно не водка и не свечи. Надолго не купишь.
Под лестницей
Мне нравится любое время, в котором я живу. Даже если это безвременье.
Его лавка была в подъезде старого английского дома с небольшим, но просторным холлом на первом этаже, откуда наверх шла узкая и крутая лестница. Под этой лестницей он и торговал, разложив журналы и книги на небольшом прилавке. Скорее всего, он и жил в этом доме из нескольких квартир, а может быть, даже был хозяином, наследником старой еврейской семьи.
В Англии я встречал немало молодых людей, которые и сами не знали, что такое аренда жилья, и нередко сдавали часть домов, доставшихся им от родителей, дедушек и прадедушек. В этой стране веками не было войн. А люди рождались и старели, работали, крали, строили, копили и передавали это своим потомкам.
Его звали Моше. И он был хозяином единственной в Лондоне подпольной лавочки продажи нацистской литературы. И еще он был еврей.
О Моше мне случайно обмолвились молодые наци, когда в баре, где они собирались, я завел разговор об антисемитизме. В России и рядом с ней он был какой-то другой по сравнению со взглядами западных сторонников Гитлера. В России антисемитизм почему-то гораздо ближе к зоологии и иррациональным отклонениям от человеческих понятий. В Англии наци говорили о сионистской экспансии, мировом еврейском заговоре капитала и монополий, в крайнем случае, отрицали Холокост, но никакой особой ненависти или неприязни к обычным евреям на улицах и в соседних домах не проявляли.
— Да вон, — сказал мне один из них, молодой рабочий из Ковентри, — единственный наш книжный магазин в стране держит еврей. И ничего…
Моше оказался, что называется, типичным. Разве что без кипы на голове. В небогатый ассортимент его бизнеса входили книги, мемуары, неонацистские журналы разных стран, «Протоколы сионских мудрецов», кассеты и диски с выступлениями соответствующих групп, в основном хард-рока, и хроника немецких киножурналов времен войны.
— Я еврей, — просто сказал Моше, тут же спросив меня по-одесски: — И что? Ребята ко мне относятся с уважением, и только обыватели гоняют с места на место. Нигде с товаром постоянно осесть невозможно. А то, что я торгую нацистской литературой, так это обычный бизнес. Зарабатываю на хлеб и на семью. Немного, но хватает. Слава Богу, не оружие и не наркотики…
Он был открытый и общительный, этот Моше. Без агрессии и грубости. И даже, похоже, без политики.
— Я не разделяю этих взглядов, — сказал он, махнув рукой на прилавок. — Но кто-то это покупает. Значит, кто-то и должен продавать. Почему не я? — снова спросил он, и мне стало понятно в который уж раз, что все в мире гораздо проще, чем кажется по незнанию. Или наоборот.
— А родители ваши догадываются, чем вы занимаетесь? Или друзья?
— Знают, что продаю книги. Они рады, что я у них мало прошу. А друзья — это для молодости, простая трата времени. В пятницу вечером всегда найдется, с кем поболтать в пабе…
Я купил у него почему-то запрещенный в Англии фильм «Заводной апельсин» с Макдауэлом в главной роли — якобы пропаганда насилия. Но отказался от карманного издания, из-под полы, «Моей борьбы» Гитлера, со скидкой.
— Для вас, — добавил Моше и наклонил голову, почти интимно. — Это надо знать. И куда идет мир?
Гитлера я купил позже, в Москве, недалеко от Красной площади. И не из-под полы.
На улице моросил английский дождь, густой и по-летнему прозрачный. Туманные Альбионы — это все мифы. Пудра для мозгов. Как французские красавицы, гордые испанцы, еврейский ум или загадочная русская душа.
Вода выпадет. Солнце высушит. И снова намокнет. Все то же и те же. Только одежда, оружие и календари разные.
— Оно конечно, — сказал я себе, переступая через лужи. — Проще надо жить, Вася, проще.
Но некуда.
Стоп-кран
Хотел было сказать, что думаю. Но съел жареного свежего карпа на оливковом масле, под протертую репу с лучком, сладкий перец и молодой малосольный огурчик. Запил «Боржоми» и светлым чешским пивом с воблой. Закусил вяленой ветчинкой с хреном. Отполировал это чашкой душистого кофе со сливками под адыгейский сыр и лимон на «фруктозе». Забил трубку с табачком «черной ваниллы». Задобрил десертом из цитрусовых, черешней и клубникой с кремом.
И все это у монитора c хорошими фильмами.
Сауна дома греется. Ванная с морской солью и эвкалиптом — на «потом».
Высказаться и расхотелось.
Сытость — это всегда соглашательство.
Правду когда-то о таких говорили — «буржуазная свинья».
Оно и есть.
Послесловие
Я задавал этот вопрос себе едва ли не каждый день, где бы ни жил, работая: в России, в Беларуси, в Монголии, на Крайнем Севере, на Украине и в Нью-Йорке, в Лондоне и в Израиле.
Причем прорвавшись. И вполне преуспев в очередной своей жизни.
Но только недавно узнал, что это был первый вопрос инквизиторов на допросе:
— Вы знаете, почему вы здесь?


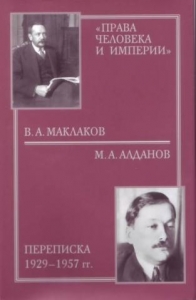


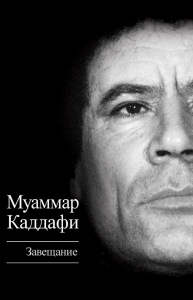

Комментарии к книге «Сдохни, но живи…», Александр Юрьевич Ступников
Всего 0 комментариев