Избранное
ИВАН ОЛЬБРАХТ
Осенью 1940 года по всей Чехословакии распространилась листовка, страстные и мужественные строки которой звучали клятвой верности народу.
«Мы, идейно руководящий отряд народа, — говорилось в ней, — связаны глубокими и нерушимыми узами с народом своей страны. Но не потому, что мы внушаем народу свои взгляды, а потому, что мы выражаем его взгляды. Мы, люди культуры, связаны не на жизнь, а на смерть с самыми прогрессивными силами своего народа».
Эти слова, написанные Юлиусом Фучиком от имени передовой интеллигенции Чехословакии, могут служить ключом к пониманию жизни и творчестве Ивана Ольбрахта, одного из лучших ее представителей.
Вся жизнь Ольбрахта безраздельно отдана борьбе против капиталистического строя. Вдохновенные книги писателя всегда выражали мысли и чувства народа, которому он щедро отдал свой талант, опыт, знания, свое страстное и любящее сердце. Произведения Ольбрахта, как и его жизнь, неотделимы от судьбы страны и народа. Ольбрахта с гордостью называют в Чехословакии Народным художником.
Иван Ольбрахт (Камил Земан) родился 6 января 1882 года в Семилях. Это был промышленный район Подкрконошья.
«Обнищавшие рабочие, — писал он впоследствии, — вели борьбу с крупными предпринимателями заводов Шмидта, державшими в своих руках весь край. Здесь часты были забастовки. Мой отец работал в Семилях адвокатом и во всех спорах рабочих с фабрикантами всегда стоял на стороне рабочих. За это фабриканты его ненавидели, и поэтому мы были бедны».
Национальная и социальная борьба рабочих, в гуще которой с детства оказался Ольбрахт, произвела на него неизгладимое впечатление.
Много значила для него также личность отца — писателя Антала Сташека. Страстный защитник угнетенных, друг Яна Неруды и Сватоплука Чеха, — передовых поэтов своего времени, ставших на сторону бесправных и обездоленных, — Сташек учил сына любить народ, уважать его культуру.
Под влиянием отца Ольбрахт рано пристрастился к чтению. Особенно зачитывался будущий автор знаменитого «Николы Шугая» книгами о «благородных разбойниках», бунтарях.
«Мне особенно нравились их бесстрашие и сверхчеловеческая сила. Я как-то наивно представлял себе, что Яношик и Козина могли бы и теперь помочь народу в его борьбе против фабрикантов. Я очень сожалел, что в наши дни нет таких смелых бунтарей», — вспоминал в 1932 году писатель.
Во время учебы в гимназии, в Краловом Дворе, Ольбрахт познакомился с Иозефом Резлером — пионером чешского социал-демократического движения, — сблизился с рабочими, стал посещать их собрания. Под впечатлением бесед с Резлером и рабочими Ольбрахт заинтересовался политической литературой. Еще в гимназии он прочел «Коммунистический манифест», который позже, в 1921 году, перевел на чешский язык.
Из художественной литературы его пристальное внимание в это время привлекают произведения русских писателей — Толстого, Тургенева, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Чехова, Горького, начавшие выходить в 90-х годах в серии «Библиотека русских писателей». Эти книги, по выражению академика Неедлого, «были лекарством против декаданса, хлынувшего уже тогда с Запада». Особенно Ольбрахт ценил революционные произведения М. Горького. «Песня о буревестнике», «Песня о Соколе», «Мещане», — отмечал он, — указали мне мое место в жизни».
В бурный 1905 год, когда под воздействием русской революции во всех землях Австро-Венгрии проходили массовые политические выступления народа, студент Пражского университета Иван Ольбрахт принимал в них самое активное участие.
Интерес к политической жизни, внутренняя потребность писать привели Ольбрахта на путь журналистики. В его первых произведениях, печатавшихся с 1905 года в различных журналах социал-демократического направления — «Звон», «Руде кветы», «Копршивы» и др., чувствовалось горячее стремление высказаться по самым острым вопросам современности. С 1909 по 1916 год, живя в Вене, он сотрудничал в чешской социал-демократической газете «Дельницке листы». В ту пору Ольбрахта можно было видеть и среди рабочих — на заводских окраинах Вены, и в рейхсрате — в ложе для журналистов, и в зале судебных заседаний, и на собраниях социал-демократической партии.
Ольбрахт поднимал свой голос в защиту трудящегося люда Подкрконошья (очерки «Местная промышленность Подкрконошья», «Спириты»), выступал против милитаризма (цикл рассказов «Записки резервиста»), высмеивал беспринципность буржуазных партий («Универсум, или Торговля всем»), издевался над мещанской моралью («Бремя», «Зимой», «Дамы» и др.). Однако в его ранних произведениях критика буржуазного общества граничила еще с анархистским бунтарством, политические взгляды молодого автора были еще нечеткими, расплывчатыми. В это время Ольбрахт еще не понимал сущности анархизма и не пытался освободиться от его влияния.
Следует также сказать, что многим произведениям раннего периода не хватало и широты обобщений, умения отобрать самое главное. Нередко автор, желая изложить все свои впечатления, шел по пути простого описательства. Иногда, сочувствуя герою, Ольбрахт впадал в сентиментальность.
Однако уже и ранние произведения Ольбрахта свидетельствовали о несомненной его талантливости. Они несли в себе здоровое жизнеутверждающее начало, по тематике и общей идейной направленности были близки произведениям молодых тогда прозаиков — М. Майеровой и Я. Гашека, творчество которых явилось продолжением прогрессивных традиций чешской демократической литературы. Рассказы Ольбрахта, Майеровой и Гашека противостояли упадочническим декадентским произведениям, заполнявшим в те годы книжный рынок империи. В этой связи следует особенно отметить юмористические рассказы Ольбрахта на военную тематику. Хорошее знание армейской жизни (Ольбрахт служил на действительной службе и был разжалован из кадетов за «крамольные» высказывания), сочный юмор при описании военно-бюрократической машины империи, переходящий в сатирический гротеск, — все это принесло писателю заслуженный успех.
В одном из лучших рассказов Ольбрахта, написанном для календаря, выходившего как приложение к социал-демократическому журналу «Зарж» — «О любви к родине, фамилиях начальства и образованности» (1910) метко высмеивается австро-венгерская военщина и казенный патриотизм. С большим чувством юмора описывает Ольбрахт урок «по патриотизму», на котором выясняется, что не только ученики-солдаты, но и сами учителя-офицеры, самодовольные и чванливые, толком не знают, что такое патриотизм, родина, честь и другие «отвлеченные» понятия.
Этот рассказ напоминает рассказы Гашека о бравом солдате Швейке, вышедшие тогда (1911) впервые отдельным сборником.
В нем Ольбрахт протестует не только против армейских порядков и издевательств над солдатами. Он ясно сознает, что следует бороться с самим строем, породившим такие порядки. Недаром в финале рассказа один из солдат убежденно говорит: «Думаете, вечно будет продолжаться это издевательство? Думаете, вечно нас будут лупцевать эти идиоты? Надо только не остаться в стороне, когда начнут с ними расправляться».
Так, еще в 1910 году в образах забитых солдат Ольбрахт показал людей из народа, которые, несмотря на мордобой бравых австрийских шовинистов, понимают, что крах «родины», любить и защищать которую так рьяно призывает военное командование, — неминуем.
Сатирическая острота характерна и для другого рассказа — «О старичке, увенчанном лаврами венской славы» (1913). Смешная и забавная история о старичке Ноови, разбогатевшем на жульнических предвыборных выступлениях, не имеет ничего общего с зубоскальством и анекдотом. Благодаря большой силе обобщения она звучит гневным разоблачением махинаций буржуазных политических партий.
В том же, 1913, году увидела свет первая книга рассказов Ольбрахта — «О злых нелюдимах». В нее вошли произведения, печатавшиеся ранее на страницах журнала «Звон» в 1908—1909 годах, — «Езка, Форко и Паулина», «Брат Жак», а также рассказ «Живодер и пес», написанный несколько позднее.
«Злые нелюдимы» Ольбрахта — это бродячие цирковые артисты, бедные комедианты, деклассированные крестьяне, бродяги, босяки, — словом, люди, в силу различных причин выброшенные на дно жизни. Полуголодное бесправное существование, беспрестанные гонения, враждебное любопытство мещан ожесточили их, сделали злыми, нелюдимыми. С большой чуткостью относится к ним автор. Однако это не мешает ему показать их пассивность, неспособность изменить существующий порядок вещей. Беспочвенен и бесперспективен их бунт, выражающийся в озорстве, хулиганской проделке или жестокой мести. Эти рассказы напоминают иногда произведения Горького о босяках, но, в отличие от Горького, Ольбрахт заостряет внимание читателя не на социальных причинах, приведших босяков на дно жизни, а почти исключительно на внутреннем мире «злых нелюдимов».
Тему «злых нелюдимов» Ольбрахт продолжил в своем первом романе «Тюрьма темнейшая» (1916). Только такой «нелюдим», одиночка здесь уже не босяк, а мелкобуржуазный интеллигент. Ольбрахт показывает духовную драму эгоистичного человека, занятого целиком и полностью самим собой. Однако анализ болезненно утонченных переживаний героя поглощает все внимание писателя, и ему не удается сделать больших социальных обобщений, показать типичные стороны жизни мелкобуржуазной интеллигенции.
В следующем романе «Удивительная дружба актера Есения» (1918—1919) Ольбрахт снова сосредоточивает свое внимание на причинах духовной трагедии индивидуалиста. Но тут он обращается также и к актуальным проблемам дня.
Действие происходит на широком фоне первой мировой войны, а затем национально-освободительного движения чехов и словаков за образование самостоятельного независимого государства. В этом романе, отмеченном поисками положительного идеала, автор выводит своих героев на арену общественной борьбы, связывает их жизнь с судьбой народа и страны. В образе артиста Иржи Есения писатель пытался показать, что жизнь, замкнутая в узком кругу личных переживаний, неизбежно приводит человека в тупик. Но Ольбрахт не сумел предложить правильного выхода из туника, и это отразилось как на выборе конфликта романа, так и на развитии характеров. В основу произведения положена мысль о том, что в жизни постоянно происходит борьба двух извечных начал — «добра» и «зла». Иржи Есений, по замыслу писателя, воплощает в себе «добро» и пассивность, его друг Ян Веселы — «зло» и активность. В преодолении зла и пассивности и заключается счастье человека. Доказательству этих идей искусственно подчинена вся логика развития романа. Так, характеры раскрываются в основном через показ подсознательных, интуитивных чувств. Роман перегружен случайными, нежизненными ситуациями, роковыми недомолвками. Все это делает неубедительным и художественно мало мотивированным духовное возрождение главного героя — Иржи Есения, преодолевшего пассивность и ставшего в ряды народа, борющегося за свои национальные права.
Однако Ольбрахт был наблюдательным, пытливым и ищущим писателем. Он никогда не переставал учиться у жизни, не боялся порвать с тем, что мешало ему, тянуло его назад. Ему пришлось пройти через большие идейные и творческие искания, прежде чем он в своем мировоззрении и творчестве полностью освободился от груза мелкобуржуазной идеологии и анархических настроений и твердо встал на позиции пролетариата. Большую роль сыграла в этом Великая Октябрьская социалистическая революция, которая вызвала могучий подъем революционного и национально-освободительного движения и способствовала освобождению чешского и словацкого народов от гнета Австро-Венгерской монархии.
Победа Великого Октября и рост революционного рабочего движения в Чехословакии резко разделили писателей на два враждебных лагеря. Один лагерь, куда входили передовые, демократически настроенные писатели, ненавидевшие царское самодержавие и сочувствовавшие борьбе русского рабочего класса против царизма, с радостью встретили весть о победе революции в России. В своих политических выступлениях и в творчестве эти писатели прославляли ее великие начинания. Октябрьская революция усилила демократические тенденции в творчестве А. Сташека, Ф. К. Шальды, М. Тильшовой, К. Томана и других писателей; вызвала к жизни боевую революционную литературу, представленную именами С. К. Неймана, И. Волькера, Я. Гашека, М. Майеровой, критиков З. Неедлого, Б. Вацлавека, Ю. Фучика.
Другой лагерь объединял писателей, находившихся во власти шовинистического угара, вызванного образованием буржуазного государства (В. Дык, Р. Медек и др.). С недоверием, настороженностью и просто с открытой враждебностью отнеслись они к событиям в России, видя в победе Октября угрозу для существования своего класса.
Для Ольбрахта, как и для многих прогрессивных писателей Запада, Октябрьская революция была решающим этапом в жизни и творчестве. Он неоднократно подчеркивал, что своими лучшими книгами обязан Октябрьской революции. Непременно желая собственными глазами увидеть завоевания революции, в начале 1920 года Ольбрахт нелегально отправился в Советскую страну и пробыл в ней шесть месяцев.
Обстановка в Советской России была напряженной. Страна только оправлялась после тяжелых лет гражданской войны и интервенции.
Те немногие иностранные наблюдатели, которые побывали тогда в Советской стране, как правило, утверждали, что дни России сочтены, что советская власть не выдержит интервенции, разрухи и голода и неминуемо падет.
Ольбрахт не был таким «наблюдателем». Он предпринял поездку в Россию как ее искренний друг, с радостью встретивший и верно понявший ее всемирно-историческую победу. Он увидел, как «миллионы рук интенсивно работают над восстановлением того, что уничтожила мировая и гражданская война, возводят фундамент, на котором будет построено нечто более грандиозное, чем когда-либо существовавшее до сих пор»[1].
«В Москве я много читал, писал и учился»[2], — рассказывал писатель. В Москве у него возник замысел написать книгу о Стране Советов. Ольбрахту было хорошо известно, как в европейской прессе освещалась жизнь Советской России. Он читал немало статей, написанных по заказу господ, щедро оплачивавших клевету на Советскую республику. Вот почему Ольбрахт поставил перед собой цель — разоблачить лживые измышления о России и остановить внимание читателей не на мусоре разрушаемого старого, — как можно было бы сказать, перефразируя Горького, — а на фактах новой стройки. Этот замысел был осуществлен им в очерках «Картины современной России».
Ольбрахт нарисовал картину трудовых будней Советской страны. На убедительных примерах он показал, как складываются новые отношения, рождается новая, социалистическая мораль. Как писатель, он, естественно, не мог не интересоваться вопросами культурного строительства. Много нового о советском театре, кино и изобразительном искусстве (в первую очередь о плакатах окон РОСТа) рассказал Ольбрахт в своих очерках чешскому читателю. Говоря о том, что пролетарское государство издает классиков не только русской, но и западной, в том числе и чешской, литературы, Ольбрахт подчеркивал, что бережное отношение к сокровищам национальной культуры любого народа — характерная особенность пролетарского интернационализма.
Много вдохновенных страниц посвятил Ольбрахт основателю Советского государства — В. И. Ленину, которого писатель несколько раз видел лично.
Правильное понимание сущности происходящего, умение не только наблюдать, видеть, но и предвидеть, обусловили правдивость очерков, их большое агитационное значение.
Эта поездка в Советскую Россию, в Москву, сделала писателя до конца его дней искренним и преданным другом Советской страны. Ольбрахт отмечал, что СССР является для него «очень многим: исполнением мечты, когда я в 1917 году как социал-демократический журналист читал и переживал первые известия о победоносной Октябрьской революции; познанием, когда я в 1920 году как делегат еще не организованной чешской Коммунистической партии отправился нелегально в СССР, участвовал в заседаниях второго конгресса III Интернационала и шесть месяцев жил и работал в социалистической республике; …новой надеждой, ибо тактику СССР я считаю единственно правильной и верю, что она поведет к созданию нового мира и к счастью также моего народа»[3].
С этой внутренней убежденностью в победе нового мира и возвратился Ольбрахт из Советской России. Энергично он отдается политической работе, часто выступает на собраниях и митингах, посещает Кладно, Моравскую Остраву, ряд городов Словакии. В статьях и докладах он разоблачает ренегатство лидеров правой социал-демократии и призывает рабочий класс создать свою революционную партию. Он рассказывает правду о Советской России, где «создается новый мир и рождается новая культура». Ольбрахт принимает активное участие в борьбе левой социал-демократии с оппортунистическим руководством партии. В мае 1921 года, когда образовалась Коммунистическая партия Чехословакии, Ольбрахт одним из первых вступил в ее ряды. Он вошел в первую редколлегию газеты «Руде право» — центрального органа Коммунистической партии Чехословакии. За свою активную политическую деятельность он подвергался преследованиям и неоднократно сидел в тюрьме.
С середины 20-х годов в Чехословакии начался временный спад рабочего движения и частичная стабилизация капитализма. В этот период кажущегося «благоденствия» и «затишья» буржуазная литература переживает период глубокого разложения. Отказ от больших дел, проповедь аполитичности, уход в область интимных переживаний характерны для произведений буржуазных писателей. В это же время пышным цветом расцветают такие «модные» западные формалистические течения, как конструктивизм, поэтизм, сюрреализм. В борьбе с буржуазным искусством росло и крепло творчество подлинно народных писателей. Оптимизм, вера в народ, в его будущее придают силу и значительность произведениям С. К. Неймана, М. Майеровой, М. Малиржовой, Ю. Фучика. В борьбе против буржуазного искусства крепнет и мужает талант Ивана Ольбрахта.
В 1927 году выходит в свет сборник Ольбрахта «Девять веселых рассказов об Австро-Венгрии и республике». В сборник Ольбрахт включил написанные ранее юмористические произведения «Папа», «О любви к родине», «О старичке, увенчанном лаврами венской славы», «Девушка с пистолетом», «Вечное сердце», а также новые, созданные уже в период буржуазной республики, — «Карьера Эдуарда Жака» (1921), «Неизвестный солдат» (1922), «Добрый судья» (1926), «Плотина на Изере» (1926). Рассказы, созданные на протяжении большого промежутка времени, объединяет общая идея: буржуазная Чехословакия, сохранившая старые монархические порядки, так же враждебна интересам народа, как и Австро-Венгерская империя. Ведь в республике, как пишет Ольбрахт в предисловии ко второму изданию книги, «расстреливали коммунистов и рабочих, тюрьмы заполнялись честными людьми, цензоры умудрялись не пропускать даже цитаты из Карела Гавличка Боровского и Яна Гуса».
В рассказе «Карьера Эдуарда Жака» средствами гротеска, сатирического памфлетного слова обрисовывается мрачная австро-венгерская и чехословацкая действительность. Ольбрахт высмеивает буржуазный гуманизм, который был «только новым словом для обозначения старого понятия властвовать». Не щадя красок, рисует Ольбрахт одного из таких «восторженных» и «преданных» поборников гуманизма — тупого солдафона, доносчика и жулика Эдуарда Жака. С чувством горечи и негодования прослеживает писатель, как продвигался по служебной лестнице Жак, как звериная жестокость и беспринципность снискали ему расположение высокого начальства, как благодаря своим «талантам» он стал таким же необходимым человеком в «демократическом» Чехословацком государстве, каким был и в монархической Австро-Венгрии. Уже одно то, что человек, который жестоко подавлял забастовки, зверски избивал политических заключенных, фабриковал подложные документы, занимался шантажом, смог сделать блестящую карьеру в демократической республике, — говорит о характере этой демократии.
Протестом против строя, обрекающего трудящихся на голод, безработицу и нищету, против буржуазии, посылающей народ умирать за чуждые ему интересы, проникнут рассказ «Неизвестный солдат» (1922).
В этих и других произведениях сборника поднимаются темы большого политического звучания. Горячо и непосредственно чувство писателя. Смелее и целеустремленнее вносит он в рассказы политическую публицистику, цель которой — поражать общественное зло в самом его корне. За это буржуазная критика объявила рассказы Ольбрахта малохудожественными агитками. Возражая критикам, Ольбрахт убежденно защищал право писателя активно вмешиваться во все сферы общественно-политической жизни. «Как будто бы классовая и политическая борьба наряду с любовью и трудом не является одной из составных частей жизни! Как будто бы у художника не должна кипеть кровь при виде мерзких дел тех, кто во что бы то ни стало хочет приостановить движение мира к лучшему!» — писал автор в предисловии ко второму изданию сборника.
«Грубой агиткой» назвала буржуазная критика и один из лучших чешских романов о революционном движении 1920 года — «Анна пролетарка». Он вышел в свет в 1928 году, когда усиливалось преследование коммунистической печати, когда книжный рынок Чехословакии наводняла порнографическая и пошлая детективная литература, когда буржуазные критики восхваляли равнодушного и сытого мещанина и проповедовали неверие в творческие силы народа.
От новой книги писателя-коммуниста Ивана Ольбрахта веяло свежестью, оптимизмом.
Развивая передовые революционные традиции чешской реалистической прозы, творчески используя опыт М. Горького в создании положительного героя-рабочего, Ольбрахт написал роман, явившийся вехой в истории чехословацкой пролетарской литературы.
В основу его положены события, происходившие в 1919—1920 годах, когда рабочий класс Чехословакии поднялся на борьбу против правых лидеров социал-демократической партии. Эти важные для истории Чехословакии события определяют идею романа — рост политической сознательности масс под влиянием Великого Октября и революционного движения в стране. «В 1920 году, — писал Ольбрахт в предисловии ко второму изданию «Анны пролетарки», — подал свой голос мощный авангард рабочего класса. Революционные чешские рабочие, по примеру своих русских товарищей, отмежевались от старой партии и в тяжелых боях с ней… создали новую партию». Накал этой борьбы, важность задач, стоявших перед пролетариатом, определили характер выступления трудящихся. Бурные собрания в Народном доме, куда по вечерам приходили рабочие, массовые демонстрации трудящихся и вся напряженная трудовая жизнь Праги, где на каждом шагу сталкивались интересы рабочих и буржуазии, — все это носит на себе печать духа времени. Революционное настроение эпохи автор передал также в боевых призывах, революционных стихах и песнях, в эмоционально-приподнятом тоне речи.
Сам непосредственный участник декабрьских событий, Ольбрахт очень хорошо знал людей, поднявшихся на борьбу за подлинно демократическую республику. Пролетарское мировоззрение, опыт политической борьбы и возросшее мастерство дали ему возможность отразить новое в стране — борьбу трудового народа за социалистическую республику. Поэтому его герои — «это уже не пролетаризирующиеся кустари поколения наших дедов… Это уже не беззащитные рабы тринадцатичасового рабочего дня, отупевшие, вечно голодные люди, которых сваливала с ног первая рюмка в день получки; уже прошло то время, когда из этой порабощенной массы только еще начинали выдвигаться будущие бойцы, мученики и герои».
Герои Ольбрахта — высокосознательные рабочие, активные, целеустремленные личности, «творцы и хозяева всех вещей на земле, и созданное их руками должно принадлежать им», — утверждает автор.
В образе рабочего-коммуниста Тоника Кроусского Ольбрахту удалось запечатлеть то новое, что рождалось в народе, заявлявшего о своих правах. Тоник — живая, деятельная натура, раскрывающаяся в борьбе. Он глубоко убежден в правоте своего дела, и это придает его поступкам решительный, наступательный характер, роднящий его с героями М. Горького — Нилом и Павлом Власовым. Но, несмотря на удачное в целом решение образа нового героя, следует отметить и некоторую его схематичность. Стремясь преодолеть излишнее психологизирование, характерное для своих ранних произведений, писатель не достиг той глубины, которая отличает другие образы этого же романа — например, Анны.
С первых же страниц романа перед читателями раскрывается внутренний мир вначале рабски покорной и по-детски доверчивой служанки Анны. Но жизнь меняет ее. Она не может оставаться равнодушной к выступлениям рабочих, рассказывающих правду о тяжелой жизни народа, борьбе, которая развертывается вокруг нее. Трудный путь проходит Анна, прежде чем побеждает в себе мелкособственнические инстинкты и страх. Под влиянием Тоника она начинает по-новому воспринимать окружающий мир, начинает понимать, кто ее друзья, а кто — враги, и становится в ряды борцов. Путь Анны глубоко типичен для той части народа, которая под влиянием революционных событий включалась в активную борьбу против буржуазного строя.
Когда много лет спустя Ольбрахт вернулся к роману, он встретился со своими героями, как со старыми друзьями, которые не обманули его ожиданий.
«Я думаю о героях этой книги, — писал он в предисловии к ее второму изданию, — русой служанке Анне и Тонике, литейщике с завода «Кольбен». Наверняка они еще живы, ведь тогда они были совсем молодыми. В последний раз я видел их, когда они рядом, плечом к плечу, с голыми руками, вступали в бой против вооруженной полиции… Вперед, вперед, Тоник и Анна!.. Тогда — на борьбу за лучшую жизнь, ныне — к ее созиданию».
Наряду с рабочими Ольбрахт изобразил в романе и представителей других классов, прослоек и партий. Одним из запоминающихся образов романа является депутат Яндак. История предательства бывшего активного члена «левой» социал-демократии, раскрытая с большой убедительностью, во многом поучительна. Она воспитывает у читателя чувство политической бдительности и непримиримости к врагам, призывает партию очищать свои ряды от морально неустойчивых, беспринципных людей. Не менее убедительно показано и семейство архитектора Рубеша, где все так непохожи друг на друга и все же вместе создают типичную картину разлагающейся буржуазной семьи.
Высокая художественность романа, правдивое изображение жизни в ее революционном развитии, светлый социалистический идеал, воплощенный в реалистическом образе положительного героя, высокая идейность и народность произведения, его жизнеутверждающий оптимизм — все это дает возможным считать его одним из первых произведений социалистического реализма в чехословацкой литературе.
Но о следующем романе — «Зеркало за решеткой» (1930) — этого сказать нельзя. Книга была написана Ольбрахтом по воспоминаниям о пережитом в Силезско-Остравской тюрьме, куда писатель был заключен в 1928 году за опубликование на страницах газеты «Руде право», редактором которой он был, работы Ленина «Советы посторонним». В книге «Зеркало за решеткой», как и в сборнике «О злых нелюдимах», в центре внимания писателя психология босяков, бродяг, уголовников, мещан. Ольбрахт не вскрыл за отдельными эпизодами, характерами, конфликтами их социального содержания. Это в известной мере определялось тем, что в момент написания романа Ольбрахт вместе с несколькими другими писателями на время отошел от активной деятельности в Коммунистической партии. Но, как подчеркивал президент Чехословакии А. Запотоцкий, хорошо знавший Ольбрахта по совместной борьбе в рядах рабочего класса, — «это колебание было только эпизодом». Глубокие корни связывали Ольбрахта с рабочим классом и его Коммунистической партией.
И когда в начале 30-х годов Закарпатье, как и всю Европу, охватил тяжелый экономический кризис и коммунисты направили все свои усилия на то, чтобы оказать посильную помощь населению, Ольбрахт был в числе первых, кто отправился в Закарпатье. Много раз в течение 1930—1935 годов Ольбрахт приезжал в Закарпатье и подолгу там жил. Он исколесил почти весь край, где свирепствовал тогда страшный голод, где смертность достигла невиданных размеров, где безработица и нищета были обычным явлением. Ольбрахт стал активным участником борьбы населения против голода, налогов, безработицы. Он помогает верховинцам бороться против чиновников, он требует у окружного начальства оказать немедленную помощь голодающим, он является инициатором создания «Комитета спасения закарпатцев от голода», куда вошли З. Неедлы, Ф. К. Шальда, С. К. Нейман, М. Майерова, К. Чапек, Б. Вацлавек и многие другие.
Советчик и близкий друг крестьян и лесорубов, Ольбрахт делает все возможное, чтобы помочь им в их справедливой борьбе против ростовщиков и панов. Недаром имя его с любовью произносили жители Закарпатья и так ненавидели закарпатские жандармы.
В 1931 году, побуждаемый необходимостью рассказать о виденном, Ольбрахт выпускает в свет репортажи о «Стране без имени», как он назвал Закарпатье. Писатель раскрыл глаза общественности на страшную, беспросветно тяжелую жизнь верховинцев, забитых жандармами, замученных ростовщиками, обманываемых попами и знахарями. Очерки страстно и гневно разоблачали колонизаторскую политику Чехословацкого правительства в Закарпатье. Они были большим вкладом в борьбу закарпатского населения против чехословацких империалистов и всколыхнули передовую общественность Чехословакии.
За сравнительно короткий срок Закарпатье посетили многие общественные деятели и писатели Чехословакии: адвокат-коммунист И. Секанина, писатели В. Каня, В. Ванчура, К. Новы, И. Марек, поэты С. К. Нейман, К. Библ. Посетил Закарпатье и К. Чапек. Картина тяжелого положения закарпатского народа взволновала писателей. Они не могли молчать. Так появились очерки С. К. Неймана, В. Кани, стихи К. Библа, И. Марека, роман К. Чапека «Гордубал».
Не мог молчать и Ольбрахт. У него давно возник замысел написать роман о стойкости и силе закарпатцев, об их самоотверженной борьбе за лучшую жизнь. Изучая быт закарпатцев, их нравы и обычаи, Ольбрахт заинтересовался распространенными здесь легендами и песнями об «опришках» — благородных разбойниках Закарпатья. Особенно много удивительно красивых легенд сложилось вокруг имени погибшего в 1921 году закарпатского крестьянина Николы Шугая. Это он, Шугай, в 1919—1921 годах совершал здесь набеги на богатеев и делился добычей с бедняками; это он, Шугай, хотел помочь бедному люду; это о его бесстрашных славных делах ходили слухи по всему Закарпатью; это о его бессчетных кладах рассказывали люди; это Шугая они наделили беспримерной храбростью и неуязвимостью. Шугай, мститель за униженных и оскорбленных, жил в памяти народа, помогал людям в их борьбе против голода, нищеты.
Ольбрахт понимал, что у Николы Шугая не было никаких политических идеалов и убеждений, во имя которых он боролся. Но он видел, что Шугай «осуществил иное, действительно прекрасное предназначение… — оплодотворил народную фантазию», пробуждал гражданское сознание народа.
И Ольбрахт решает создать в возможно короткий срок роман о Шугае. В письме к писателю В. Ванчуре он сообщает: «Последние события в Закарпатье убедили меня в том, что мой Шугай очень нужен. Он нужен таким, каким знает его душа закарпатского крестьянина. Вместе с тем он должен быть живым человеком, простым крестьянином, плоть от плоти, кровь от крови русинского народа».
О большой подготовительной работе, которую проделал писатель, он рассказал в очерке «Разбойники».
Роман Ольбрахта «Никола Шугай, разбойник» появился в свет в 1933 году. В этой книге с удивительной свежестью и новизной Ольбрахт проводит мысль о никогда не прекращающейся в народе борьбе за лучшую жизнь. И Шугай — символ этой борьбы народа за справедливость — рисуется Ольбрахтом в соответствии с народными легендами, как личность вечная, переходящая из века в век, из поколения в поколение с ее действенной любовью к народу и ненавистью к угнетателям. Рисуя обобщенный образ благородного разбойника, олицетворившего стихийное сопротивление народа, Ольбрахт показал Шугая продолжателем дел легендарного бунтаря Олексы Довбуша. Так же, как и Довбуш, Шугай — друг угнетенных и враг панов; так же, как и Довбуш, Шугай стал «легендой, стал сказкой в борьбе за свободу». Никола — хранитель бунтарских традиций, продолжатель дел своих предшественников, и, когда он ушел в горы и начал нападать на панов, люди подумали, что «из-под земли вышел мушкет славного разбойника Довбуша».
Ольбрахт справедливо не сделал Шугая вождем народных масс. Он бунтарь-одиночка, «благородный разбойник, который у богатых брал, а бедным давал и мстил за свою беду и за горе простого люда». Судьба такого одиночки трагична, гибель его исторически неизбежна.
Но, правильно показав причины обреченности и гибели Шугая, Ольбрахт высказывает ошибочную мысль о том, что «разбойничество» — стихийное сопротивление — единственно знакомый крестьянам способ самозащиты. На самом же деле в те годы в Закарпатье уже развертывалось организованное рабочее движение, в которое вовлекались и крестьяне. Ольбрахт, правда, вводит сцену забастовки рабочих, выступивших под лозунгом «Никола Шугай поведет нас», но факт этот, действительно имевший место в жизни, не был типичным для рабочего движения Закарпатья, и хотя он не снижает подлинно народного духа произведения, выглядит в романе ненужной, излишней деталью.
Роман покоряет читателя правдивостью мыслей и чувств, глубиной эмоций; в индивидуальной судьбе героев раскрыты типичные черты того или иного класса, социальной среды. Особенно рельефно вылеплен образ главного героя — Шугая. Шугай не только храбрый разбойник, он и обыкновенный крестьянин. Это нисколько не снижает эпического величия образа, а делает его более жизненным, реалистичным. Читатель видит в Шугае сказочного, удалого разбойника, тоскующего возлюбленного, заботливого и нежного брата, великодушного и доброго друга бедняков, беспощадного и сурового врага богатеев.
В романе достигает совершенства мастерство проникновения писателя во внутренний мир человека. Необычайно пластичны, почти зрительно осязаемы и другие образы романа — такие, как преданная и страстная Эржика, порывистый и смелый Юрай, хищный и жадный Бер, добродушный Свозил и другие.
Сочетание реализма со сказочной фантастикой, почерпнутой из богатого источника народной поэзии, эпический стиль повествования, изобилующего элементами легенд и сказаний, обусловили изумительную красоту этого произведения Ольбрахта.
Официальная пресса встретила книгу в штыки. «В министерство, — вспоминает Ольбрахт, — было подано предложение запретить книгу и изъять ее из продажи. Когда это не удалось сделать, книга была запрещена в средних школах Закарпатья, а ее украинский перевод конфискован. Но это уже не относится к области литературы»[4], — иронически заключает писатель.
Несмотря на отрицательное отношение буржуазии к роману, в 1933 году Ольбрахту за него была присуждена государственная литературная премия. В статье «Плач чешской культуры» Ю. Фучик объясняет, почему жюри, состоявшее из реакционных писателей, в числе которых были и те, кто поддерживал разнузданную политическую кампанию против «Николы Шугая» и его автора, все же присудило Ольбрахту премию. Жюри не могло решить иначе: «Оно должно было уступить общественному мнению о произведении Ольбрахта; оно ничего не могло поставить рядом с его романом, ничего, что могло бы сравниться с ним, не говорю на сто процентов, но вообще выдержало бы сравнение. Роман Ольбрахта о Шугае является не только произведением удивительной силы и красоты, но, кроме того, стоит на редкость одиноко в чешской литературе последних лет. Почему одиноко? Потому что оно жизненно, потому что оно черпало жизнь в родниках, бьющих из скал нищеты и сопротивления, потому что оно не боялось перейти узко определенную границу официального искусства. А за последние годы это стало непривычным в литературной жизни Чехии»[5], — с горечью добавляет Фучик.
Роман «Никола Шугай, разбойник» и очерки о «Стране без имени» не исчерпали всего материала, собранного Ольбрахтом. В 1933 году он пишет «Марийку неверную» — рассказ о трагической судьбе верховинца, отправившегося на заработки в чужие края, и о стихийном выступлении лесорубов против панов. Вместе с Карелом Новым Ольбрахт летом 1933 года переделал рассказ в сценарий, а в августе этого же года в Закарпатье приехал Владислав Ванчура и были начаты съемки по этому сценарию фильма, имевшего большой успех у зрителей.
В 1937 году появляется сборник рассказов и повестей из жизни закарпатских правоверных евреев — «Голет в долине».
Намеченные еще в романе «Никола Шугай, разбойник» образы представителей еврейской общины — богатых ростовщиков и бедняков — нашли свое законченное воплощение в этой новой книге Ольбрахта.
Беспощадно разоблачает он всесильного ростовщика Фукса. Строгое соблюдение религиозных ритуалов не мешает Фуксу безжалостно разорить лавочника Шафара, одурачивать бедняков.
С мягким юмором рисует Ольбрахт обитателей Поляны: бедняка Байниша Зисовича, отца семерых детей, сапожника, местного мудреца, еврейскую молодежь, стремящуюся вырваться из затхлой атмосферы религиозного фанатизма и искусственной обособленности. Немногословно, но выразительно воссоздал Ольбрахт картину беспросветной нужды и темноты населения.
Писатель показал, что реакционнейшее буржуазно-националистическое течение — сионизм — был нужен только эксплуататорским классам, использовавшим его для большего закабаления трудящихся, — недаром апостолом сионизма в Поляне является богач Соломон Фукс. Для этих же целей евреи-ростовщики, купцы и раввины сознательно культивировали и религиозный фанатизм.
Обличению этой изуверской религиозности, этого страшного мрака, в котором так хорошо чувствуют себя Соломоны Фуксы, и подчинен замысел произведений, включенных в сборник «Голет в долине».
Выход из тяжелого, бедственного положения не в сионизме и не в национальной обособленности — утверждает Ольбрахт повестью «О печальных глазах Ганы Караджичевой». В этом произведении (прообразом главной героини которого явилась мать писателя) Ольбрахту удалось создать волнующий, глубоко драматичный образ женщины, осмелившейся восстать против религиозных канонов, порвать с общиной, мешающей развитию в человеке лучших чувств и возможностей, и нарушить тем самым привычный уклад жизни, заведенный прадедами и дедами. С необыкновенной простотой и силой писатель сумел обрисовать конфликт между идущей вперед жизнью и умирающей в своей искусственной изолированности от окружающего мира общиной хасидов, держащих в угнетении и религиозном страхе своих соплеменников.
Эта повесть, писала критика тех лет, «открыла многим глаза на реакционную роль «хасидизма».
Сборник «Голет в долине» явился смелым выступлением против антисемитизма и расизма, шедших из фашистской Германии.
Тяжелые годы фашистской оккупации Чехословакии застают Ольбрахта на юге страны — в деревне Стршибрце. Он — член нелегального фронта работников культуры — участвует в партизанском движении, руководит подпольным национальным комитетом в Южной Чехии. В годы оккупации Ольбрахт не прекращает литературной работы. Не имея возможности писать о современной жизни, Ольбрахт обращается к обработке древних сказаний и легенд, чтобы напомнить народу о его героическом прошлом, укрепить его веру в победу. Так возникают книги «Библейские сказания», «Из старинных легенд».
После освобождения Чехословакии Советской Армией за участие в партизанском движении Ольбрахт был награжден медалями. В числе первых шести писателей ему было присуждено почетное звание Народного художника Чехословакии (1946).
В последние годы жизни Ольбрахт много сил отдал переработке своих романов, рассказов, очерков. Так, он стилистически отшлифовал роман «Анна пролетарка». Задачу очищения языка от избитых эпитетов, архаизмов, повторов, книжных оборотов речи он подчинял заострению идейного содержания произведений. Стремление к точности, конкретности заставило Ольбрахта переосмыслить ряд своих произведений. Так, очерки «Картины современной России» он переименовал в «Путь к познанию», что точнее определило цель его поездки в Советскую Россию; «Девять веселых рассказов об Австрии и Республике» он сократил до семи и выпустил их в 1949 году под заглавием «Так бывало…» Роман «Анна пролетарка» в 1946 году он снабдил подзаголовком «Роман о 1920 годе», подчеркнув тем самым, что среди различных тем и сюжетных линий романа самая главная — тема революционного 1920 года. Ко всему этому побуждал Ольбрахта возросший с годами творческий опыт, требовательность к себе как к художнику. Ольбрахт всегда испытывал большое чувство ответственности перед народом, отсюда на всех этапах его творческой биографии — постоянное «доделывание» своих книг, постоянная работа над языком и стилем.
Об умении Ольбрахта подчинить богатые языковые средства ясному и убедительному раскрытию идейного содержания произведений хорошо сказал современный чешский писатель Вацлав Ржезач:
«Не только форма, но и сам язык произведений Ольбрахта зависит от их содержания; в каждом произведении художник как бы открывал новые и богатейшие возможности родной речи. Язык Ольбрахта так совершенен потому, что писатель никогда не занимается бесцельной игрой в слова, не употребляет слова для того, чтобы они вызвали впечатление воображаемой красоты, — потому что Ольбрахт стремится подчинить язык задаче наиболее точного выражения своих мыслей, чувств, событий и всей атмосферы действия»[6].
В последние годы Ольбрахт вел активную работу в министерстве информации, часто выступал в периодической печати. В своих публицистических статьях «Ошибочные расчеты», «Народ Кореи будет свободен» и других писатель — активный борец за мир — разоблачал происки поджигателей войны, призывал народы всех стран бороться за мир, демократию и социализм.
30 декабря 1952 года Ольбрахт умер.
Центральный комитет Коммунистической партии Чехословакии в своем письме по поводу кончины Ольбрахта указывал, что творческий путь писателя является примером самоотверженного служения народу и его Коммунистической партии.
П. Клейнер
ТАК БЫВАЛО…{1}
КОМЕДИАНТЫ{2}
На этот раз они играли в Збироге. Староста, к которому пришлось зайти тотчас по приезде, разрешил выступление, потому что они не были шарлатанами и документы у них оказались в порядке.
Все шло обычным чередом, так, как это всегда бывало, когда приезжали на новое место. Комедианты расположились с фургоном в углу площади, маленького пони и большого козла Сарданапала поместили в конюшню постоялого двора, а ящик, брезент, барабаны и шарманку аккуратно сложили около фургона, чтобы завтра, принимаясь за работу, найти все на месте. Затем готовили ужин. Отец, мать, взрослый сын Жак и маленький Фрицек, усевшись на крыльце и на низеньких скамеечках вокруг котелка и корзины, чистили картошку. Десятилетняя Ольга, существо некомпанейское, облюбовала себе самую верхнюю ступеньку и, пристально глядя куда-то перед собой прозрачно-голубыми глазами, старалась припомнить имя девочки, с которой она познакомилась, когда ходила несколько дней в здешнюю школу во время их последнего приезда три года назад. Однажды девочка пригласила ее к себе домой и угощала кофе с булочками. При этом воспоминании Ольга облизала губы.
Поужинав, они привязали к тормозной колодке белого пуделя Ромула. Ольга и Фрицек расстелили себе на тряпье под фургоном перину.
Утром все принялись за дело. В счет бесплатных семейных билетов удалось раздобыть напрокат доски и пивные бочки; из них соорудили места для сидения, расположив ряды полукругом в виде подковы, потом расчистили площадку, вырыли гнезда для турника, установили шарманку, а из нескольких кусков брезента устроили возле фургона закуток для переодевания. При этом никто не командовал. Мнения выражались только глазами.
Перед вечером комедианты предприняли торжественное шествие по улицам местечка. Они уже переоделись в артистические костюмы, и лишь на ногах были у них обыкновенные штиблеты, несколько потрепанные у резинок. Впереди, под бой барабана, маршировал Жак, лихо подбрасывая палочки. За ним в шутовском наряде и высоком цилиндре шествовал отец. Его громовые удары в барабан, размалеванный красными и синими треугольниками, заставляли дребезжать стекла в окнах приземистых домиков. Следом шли Ольга, в светлоголубом трико с золотой бахромой вокруг худеньких бедер, и Фрицек, в таком же, как и брат, розовом облачении. Комедиантов, подобно пчелиному рою, окружала все возраставшая толпа ребятишек, возбужденных таинственностью предстоящего события. Некоторые из них, волнуясь, сжимали крейцеры в карманах курточек и синих ситцевых передничков. Из мастерских выбегали проказники-ученики, еще не умытые, с сажей под носом и на висках. Смех, который они сдерживали в течение одиннадцатичасового рабочего дня, теперь буквально распирал их груди, и они, ошалев от душистого летнего вечера, не знали, как только им подурачиться в свои пятнадцать лет.
В сумерках процессия обогнула площадь. Когда она приблизилась к фургону, Фрицек взял у отца большой барабан, мать, обвязав голову мокрым платком, завертела шарманку, а отец пошел за кларнетом. Ах, конечно, это была ужасная музыка! Прерывистое от медленного и неровного вращения завывание шарманки, хриплые, захлебывающиеся звуки кларнета, дробь маленького барабана Жака и гул барабана Фрицека. И все-таки ария из «Марты» звучала чудесным гимном теплому летнему вечеру, напоенному сладостью липового меда и ароматом роз. Пока они играли, стемнело. В двух углах площадки мать зажгла сильно коптившие керосиновые факелы. С них падали большие горящие капли и, касаясь земли, гасли.
Потом началось представление с участием отца, Жака и маленького Фрицека. Ольга тоже им помогала. Она уже многому научилась, а со временем из нее выйдет отличная «женщина-змея»!.. Мать не принимала участия в представлении. С весны она постоянно носила на голове мокрую повязку и выступала только в пантомиме. Шарманку она еще вертела, но была вынуждена сидеть при этом. Фрицеку было двенадцать лет, однако для своего возраста он умел делать многое. Жак работал на турнике, ходил по канату, дрессировал пони Сашу, Сарданапала, Ромула и исполнял самые ответственные номера программы. Отец все делал нехотя, казалось он сроду ни на что путное не был способен; а сейчас, подвизаясь в роли глупого клоуна, глотал камни, втыкал себе в горло меч и железные прутья, пил горящий керосин, вращал на обруче стакан с водой, играл дурака гостя в пантомиме и выкидывал прочие избитые штуки. Вообще его считали десятой спицей в колесе. Душой театра был Жак.
Незадолго до их приезда в Збирог он разучил с Фрицеком опасную комбинацию.
Повиснув на турнике так, чтобы перекладина проходила под коленями, оба начинают вращаться на триста шестьдесят градусов. Деревянный снаряд скрипит под напрягающимися мускулами, а они летят в центре пестрого шара сливающихся красок, то вместе, то навстречу друг другу, утрачивая всякое представление об окружающем пространстве. В один из тех моментов, когда головы их оказываются рядом, Жак щелкает языком. В следующее мгновение они отпускают тонкую ясеневую перекладину и, описав в воздухе мертвую петлю, разлетаются в разные стороны, приземляясь в песок на носки.
Когда в Пршештицах они впервые показали новый номер, публика наградила их аплодисментами. Утомительные тренировки проходят большей частью незамеченными, но на этот раз зрителей подогрели какие-то парни, явно знавшие толк в гимнастике. Фрицек гордился своим первым большим выступлением и первым успехом и после представления, уже сидя в фургоне, так и норовил завязать с Жаком разговор на эту тему.
Жак мылся, освежая пригоршнями воды голое белое тело, на котором солнце коричневой краской нарисовало вырезы его трико. Даже не обернувшись, он равнодушно бросил:
— Ну и что из этого? Отец им покажет язык — они тоже хлопают. Так и надо. Если уж делать что-нибудь, то как следует.
Жак говорил мало, а когда говорил, то обычно хмурился и произносил фразы таким тоном, точно угрожал кому-то. Зато уж слов на ветер не бросал.
Однажды они сидели на подножке фургона — Жак, Ольга и Фрицек. Это было в какой-то горной деревушке. Мимо прошел староста, столяр, неся подмышкой оконные стекла.
— Целую руку, ваша милость! — поздоровалась с ним Ольга так, как ее учили, а Фрицек снял шапку.
Староста не ответил.
Жак, зажав коленями барабан, подкручивал винты, и только когда староста давно уже скрылся из виду, сказал как бы самому себе:
— Подумаешь, столяр! Встает в шесть утра, в десять вечера ложится спать. За шестак{3} вставляет стекла в хлевах, покрывает крыши соломой и воображает, что он царь и бог. И так изо дня в день. Свободного времени он оставляет себе ровно столько, чтобы успеть досыта наесться картошкой и простоквашей. Ми за что не хотел бы я быть на его месте! Какие это противные и глупые люди! Жаль, что я не Ринальдо Ринальдини…{4}
Да, Жак любил только свое ремесло, и, казалось, все, что не относилось к нему, он ненавидел. Фрицеку трудно было понять брата. Правда, люди плохо относились к ним, но разве не эти же люди ходили на представления, разве не их двухгеллеровые монеты звякали о жестяную тарелку на шарманке? Да и к чему были бы все их усилия, если б никто не похлопал в ладоши за то, что они с такой радостью разучивали? И разве это не прекрасно — заставить недругов аплодировать? Но Жак не заботился ни о деньгах, ни об овациях — и это было очень странно. В нем жила только гордость. А может быть, и что-нибудь другое…
В небольшие местечки они приезжали по пятницам. В субботу вечером при свете факелов устраивали первое представление. Потом играли в воскресенье — днем и вечером, исполняя свои лучшие номера, так что в понедельник им приходилось напрягаться из последних сил, чтобы немногочисленные парни и девушки, пришедшие посмотреть на их искусство, не говорили потом, будто выбросили деньги зря.
Плохо, что здоровье матери ничуть не улучшилось. Вообще нужно было удивляться, как только они сводили концы с концами!
Кстати сказать, Збирог оказался удачным пристанищем, и суббота выдалась великолепная!
Сегодня было воскресенье, и они давали дневное представление.
Доски, то есть передние места, заняли в основном зажиточные люди, которые не относились к числу зрителей наиболее желательных. Честь ремесла и достоинство фамилии требовали от них не только того, чтобы они, решившись вывести своих «милых» на воскресную прогулку, глубже обыкновенного запустили руки в бумажники или в плетеные портмоне с кольцевидными застежками, но также и того, чтобы они корчили из себя людей, видавших на своем веку кое-что почище, и ничем не проявляли ту радость, которую доставлял им смех, вытряхивавший пыль из их непроветренных внутренностей. Однако это были люди, платившие больше всех. Для них Ольга, ловко перебирая пальцами, выдергивала покрывало из оберточной бумаги, у них в карманах пудель Ромул отыскивал носовые платки, перед ними опускался на передние ноги Саша, из их числа отец выбирал тех, кому пони гадал, — какой-нибудь мужчина или женщина писали на доске цифры, которые Саша читал и нужное число раз скреб копытом по земле. Чего бы только не отдали за участие в этих чудесах мальчишки, возвышавшиеся позади сидящих грудой плеч и голов, те самые мальчишки, одни из которых были менее оборваны и платили два геллера, а другие были более оборваны и удирали от жестяной тарелки чуть ли не на другой конец площади. Прогоняемые по десять раз, они возвращались снова и снова, своими выходками заставляя ругаться шарманщицу. Но были в программе номера, предназначавшиеся и для них. Именно для них, этих благодарных ценителей его проделок, отец кривлялся и гримасничал, просунув обсыпанную пудрой голову между расставленными ногами. Ребячьи восторги и ликование достигали предела, когда Ромул начинал таскать кого-нибудь из них за штаны, а Сарданапал бодал счастливчика так, что тот отлетал на внушительное расстояние.
Представление было в разгаре. Козел Сарданапал вертелся на маленьком кругу подставки, пудель Ромул, одетый барышней, в соломенной шляпке с резинкой, расхаживал на задних лапах, кувыркался и прыгал через обруч. Фрицек и Ольга исполнили несколько акробатических номеров. Ольга поблагодарила за аплодисменты мягкими движениями будущей «женщины-змеи». Серьезный вид этого ребенка, до того худенького, что под трико можно было сосчитать все ребра, и ее косичка, похожая на мышиный хвостик, вызывали на лицах женщин ласковую улыбку.
Мать сыграла на шарманке «Плутишку». Следующим шел номер Жака. Один из лучших, какие только были у него, — балансирование на спинке стула, поставленного на четыре бутылки, три из которых убирались одна за другой. Номер трудный, требовавший большой гибкости и присутствия духа, так как потеря равновесия во время стойки на руках грозила обвалом всего сооружения и смешным падением. Номер не вызвал никакой реакции. Но Жаку было все равно. Он смело перемахнул через падающий стул и, не поклонившись на одинокий хлопок, повел Сашу и Сарданапала через площадь в конюшню.
Тем временем отец, в широких розовых шароварах, в кофте с солнцем на груди и луной на спине, выкидывал свои старые штуки: спотыкался и падал или, распластавшись на земле как лягушка, строил гримасы, хихикал, высовывая язык, и сверлил цилиндром песок. Детская публика визжала и приподнималась на носки.
Фрицек, не любивший отцовские ужимки, кувыркался вблизи от места представления, не на потеху зрителям, а просто так, для себя. Вдруг, припадая к земле, он почувствовал удар в грудь. Точно кто-то швырнул в него камнем. Фрицек вскочил. Мальчишки, стоявшие за скамейками, смеялись. Видимо, кто-то из них запустил в него из рогатки желудем.
Кровь бросилась Фрицеку в лицо.
Он подбежал к фургону, выдернул кнут, перескочил через скамейки и, не смущаясь тем, что ему придется иметь дело с мальчишкой много старше его по возрасту, схватил за шиворот ученика-ремесленника, который смеялся громче всех.
Кнут щелкнул.
Но тут же мальчишка поймал Фрицека за руку. Он оказался сильным. Скрутив руку так, что Фрицек не мог пошевельнуться, он вырвал у него кнут, отстранил противника от себя, размахнулся и принялся хлестать его по спине и ногам.
Толпа детей зашумела, заволновалась. Кто-то вскрикнул. И тотчас же начали кричать остальные.
— Брось его! Брось его!
— Это не он стрелял! Тот вон… вон удирает!
— Пан комедиант! Пан комедиант!
Люди вставали.
Клоун перепрыгнул через доску, расчистил дорогу в клубке мальчишек, вытащил Фрицека, ударил его по шее и поддал такого пинка, что тот перелетел через скамейку и врезался ртом в песок.
Мальчишки испуганно замолчали. На их лицах появилось болезненное выражение, словно это им достались подзатыльники. Но кто-то на скамейке засмеялся, и все дети, которые так не любят быть печальными, охотно позволили соблазнить себя смехом.
Старик поднял руку и дал задире звонкую пощечину. Мальчишка закачался, схватился за лицо и хотел было зареветь, но раздумал и сделал вид, что уходит. Отойдя на несколько шагов, он неожиданно нагнулся к куче булыжников, обернулся, швырнул камень в комедианта и бросился наутек.
Мгновенье старик не мог прийти в себя.
Потом из его груди вырвался дикий вопль, и он припустился вдогонку за мальчишкой.
На помощь подоспел Жак.
Они пересекли площадь и побежали по улице.
Публика разделилась. Одни, в их числе были все ребятишки, погнались за актерами. Другие, более степенные, остались на месте. Они охали и ахали, призывая городского стражника. Никто не знал мальчишку, которого преследовали комедианты, но он принадлежал к их среде и нельзя было допустить, чтобы какие-то бродяги избивали городского ребенка. Несколько избалованных детей кричали и хныкали, что хотят домой. Матери и сестры успокаивали их, а когда уговоры не помогли, нашлепали.
Вскоре городской стражник вывел из переулка на площадь отца и Жака. Толпа вокруг них увеличивалась. Люди распахивали окна и спрашивали: «Что случилось? Что такое?»
Комедианты приближались к месту происшествия.
— Сматывайте удочки! — заорал полицейский. — Чтоб через час духу вашего в городе не было! Доски развезти! Деньги вернуть людям!
Старик попробовал было возразить.
— Нечего, нечего там! Возвращай деньги! Да побыстрее, не то всех вас посажу!
— Я бы им показал! — не удержался столярных дел мастер и погрозил комедиантам кулаком.
— Живо, живо, живо! — покрикивал стражник.
Жак был бледен, как стена, а глаза его горели зеленоватым огнем.
Обсыпанный пудрой паяц с красными кругами на щеках под наблюдением стражника раздавал зрителям деньги, вырученные за билеты.
Дети, окружившие его, толкались и кричали:
— Эй-эй! Этот не платил, а тоже получает!
— Пан комедиант…
— Э-э-э! Не заплати-и-л… Не заплати-и-л…
Комедианты побросали в ящик вещи, запрягли пони, привязали к повозке Сарданапала и поехали.
Лишиться дневной воскресной выручки, на которую надо жить и из которой нужно еще что-то сэкономить на зиму, не иметь даже возможности устроить вечернее представление — вещь серьезная. Настолько серьезная, что в первые мгновения человеческая ярость не в силах вырваться наружу. Комедианты шли возле покачивавшегося фургона мрачные и понурые. Позади всех плелся Фрицек.
Под вечер они остановились на обочине дороги у небольшого соснового бора. Все молчали. Браться за ужин никому не хотелось. Жак, угрюмый, пошел в лес посмотреть, нет ли грибов. Фрицек забрался в фургон и забился в угол.
Тогда отец, пользуясь отсутствием старшего сына, тоже влез в фургон и кивнул Фрицеку. Мальчик понял, что это означает, и побледнел. Отец привязал его ремнем к стулу, взял кнут и, мстя за утраченный воскресный заработок, тупо бил сына до тех пор, пока не исполосовал ему в кровь спину, бока и ягодицы. Фрицек не мог уже даже кричать. Старик, вероятно, забил бы его до смерти, если бы из леса на вопли брата не прибежал Жак. Он вырвал из рук отца кнут.
Примерно через неделю комедианты собрались уезжать из окрестностей Чистой. Играть в городе они не решались, а представления в деревнях получались неудачными: двух мужчин и одной маленькой девочки было мало для комедии. Фрицек же еще не оправился настолько, чтобы работать на турнике.
Дорога проходила по равнине, и нанимать лошадей не понадобилось. Если она где-нибудь и поднималась в гору, можно было опереться о фургон плечом и немножко помочь Саше. Накануне прошел дождь, и зеленая колымага оставляла на мокрой земле широкие колеи, переваливалась с боку на бок, и шесты, укрепленные на фургоне, раскачивались при этом. Следом на привязи, понурив голову, лениво ковылял Сарданапал, а возле него вертелся Ромул. В фургоне находилась только мать. Она лежала, обвязав голову мокрым платком, и причитала, когда колымагу встряхивало на ухабах. Остальные шли пешком. Отец подгонял кнутом пони. И, право, эти скитания по летним просторам на свежем воздухе были одной из приятных особенностей их профессии!
Неожиданно Жак вздрогнул. Он быстро окинул взглядом дорогу, будто искал что-то, потом вскочил в фургон, тотчас же выпрыгнул обратно с жестяной тарелкой в руке, размахнулся и швырнул.
Фрицек посмотрел в том направлении. На расстоянии примерно пятидесяти шагов по тропинке шел тот самый мальчишка, который был причиной происшествия на Збирожской площади.
Вращающаяся тарелка сбила у него с головы шапку. Мальчишка удивленно оглянулся.
Фрицек уже сделал движение броситься к нему, но брат удержал его. На тропинку, как раз около мальчишки, вынырнуло из бурьяна несколько женских косынок. До этого женщины шли оврагом, и их не было видно. За ними с ношами на спинах появилось двое мужчин.
Мальчишка им что-то говорил, показывая на фургон, на шапку и тарелку, зарывшуюся в землю. Взрослые кричали и грозили кулаками.
Мальчишку этого, ученика, звали Иозеф Гавранек.
Об этом сказали Фрицеку ребята в Збироге.
Прошло три с половиной года. История эта не была забыта, но о ней не вспоминали.
Многое изменилось с тех пор. Не стало матери. Отец поседел, и если он и раньше был мало на что способен, то теперь умел делать и того меньше, а при каждом удобном случае напивался. Фрицек вытянулся, стал большим мальчиком, ему шел шестнадцатый год; Ольге минуло тринадцать. Они многому научились за это время, стали еще более искусными акробатами, приобрели две трапеции и добивались на них неплохих результатов. Теперь Фрицек занимался жонглерством. Из Ольги выросла образцовая «женщина-змея», обладавшая гибким телом и податливыми суставами, и Жак учил ее ходить по проволоке. Искусство их, бесспорно, превышало уровень деревенских комедий. Казалось, это понимал и отец. Во всяком случае он никогда не переставал мечтать о парусиновой палатке настоящего цирка. Но дети не очень-то интересовались мнением отца. Они и не помышляли о том, чтобы бросить совместную работу и приют зеленого фургона.
— Молодцы! Вы кое-чего добьетесь! — сказал как-то Жак Фрицеку и Ольге.
Они гордились его похвалой. Ведь Жак никогда не бросал слов на ветер.
Однако, возможно, именно брат Жак, со своей страстью покупать новые снаряды и красивые вещи, не задумывавшийся над тем, что конец лета может быть дождливым, а осень нагрянуть раньше обыкновенного, был иногда причиной их бед. И бед немалых. Во всяком случае этот январь в Краловом Дворе на Лабе запомнится Фрицеку на всю жизнь.
Они остановились тогда на дороге, которая вела из города в деревню Ворлех, в степи, возле кладбища. Было морозно, термометр на дверях аптеки показывал двадцать восемь градусов. Снег, затвердевший, как металл, звенел под ногами. Вокруг сверкали мириады снежинок. Люди не вылезали из своих жилищ, а глядя на кладбищенские ворота, казалось — дотронься до них рукой — и рука примерзнет. По ночам доски фургона потрескивали, а к утру воздух становился таким колким, что обжигал ноздри, замораживал слизистую оболочку, и от этого было больно дышать.
Они голодали. Не на что было купить еды. Нечем было обогреться. Несколько хрустящих венков, выкопанных на кладбищенской свалке, вспыхивали и угасали прежде, чем успевали согреться закоченевшие руки. Просить милостыню они не хотели, а устраивать представления в трактирах им не разрешали.
Голод — вещь опасная и в то же время странная. Нельзя пожаловаться ни на боль, ни на определенные ощущения, и тем не менее все твое существо вдруг нежданно-негаданно начинает бунтовать, кричать, и кричать так громко, что нет никакой возможности сосредоточиться на чем-либо другом, кроме этого, все заглушающего, требовательного зова, который становится просто невыносимым. И голод, который минуту назад можно было унять несколькими кусочками пищи, теперь уже ими не уймешь. Обычная порция успевает стать слишком ничтожной в сравнении с силой его желания; он требует теперь большего, словно стыдясь за малейшее подозрение в том, будто из-за кусочка хлеба и нескольких холодных картофелин он был способен на такой бунт.
Уже смеркалось, а они продолжали лежать, как лежали еще со вчерашнего вечера — отец и Ольга на постели, а братья на полу, на соломенном матраце — в одежде, с головой закутавшись в одеяла и все свои костюмы, предпочитая дурманящую теплоту морозу и необходимости думать о том, как выбраться из создавшегося положения. Когда уже совсем стемнело, Жак внезапно вскочил, резким движением стряхнул с себя тряпье и надел шапку. Все удивленно наблюдали за ним, не понимая, откуда у него взялось столько энергии.
Жак сходил в конюшню, взял там две последние охапки сена и отправился в город. Фрицек, Ольга и Ромул, который весь день пролежал у Жака в ногах, увязались за ним. По дороге они заглянули к возчикам.
— Сена не надо?
— Нет. А вот арапником можем угостить! Вон в углу лежит…
Они ходили из трактира в трактир, и пока оба брата и сестра отыскивали вход, Ромул забегал во двор, вынюхивая на помойке кости и остатки супа.
— Где украли? — кричали комедиантам.
Отовсюду их выгоняли или не впускали вовсе.
Глаза Жака горели, и Фрицек чувствовал, что у брата внутри все клокочет. Они брели по городу. Уже зажигались газовые фонари, вспыхивали витрины колбасных и мануфактурных лавок. Им встречались люди, одетые в меховые пальто, повязанные шарфами, с облачками пара у рта. Засунув руки в карманы, люди шли не спеша, не понимая, как опасно встретить трех продрогших комедиантов, которых ожесточил двухдневный голод.
Комедианты пересекли площадь. В вестибюле отеля, куда они вошли, швейцар зажигал газ.
— Куда? — заорал он на них со стремянки.
— Вы не купите сено?
Дверь ресторана открылась, в вестибюль проник свет, шум голосов и клубы табачного дыма.
— В чем дело?
— Пан хозяин, купите две охапки сена!
Хозяин презрительно смерил их с головы до ног.
— Где стащили?
— Это наше. У нас лошадь.
— Ладно, положите сюда! Сколько просите?
— Шестьдесят геллеров.
— Что? Десять! Не хотите?
Мгновенье Жак раздумывал.
— Ну, тогда забирайте обратно!
— Давайте! — хрипло произнес Жак.
Когда они вышли из вестибюля, Фрицек при свете фонаря видел, как у брата дергалась щека и дрожала рука, сжимавшая монету. Он испугался, как бы Жак не выбросил ее.
Но Жак засунул монету в карман.
Снова они шли по площади. Все молчали. Всем было холодно. Фрицек чувствовал, как у него в разодранных башмаках коченеют ноги, а Ольга плакала от холода и от злости.
— Вот видишь! — вдруг проговорил Жак и остановился.
Но он не сказал, кто должен был видеть и что.
Падал снег. Крохотные, редкие снежинки кружились у фонарей и витрин.
— Вот видишь! — повторил Жак. — Одного убьешь… А сколько их еще останется… Поджечь?.. А что толку?
Затем он обернулся к Ольге и стукнул ее кулаком по спине.
— Не зли меня! Не реви! Или я разорву тебя на куски… Так и знай — на куски разорву!
Они купили хлеба, свою долю съели по дороге, немного дали Ромулу и ломоть принесли отцу.
Но на другой день голод их мучил опять. Еще больше, чем накануне.
— А что, если выступить? — предложил к вечеру Жак. — Пусть забирают! Это не так уж страшно! Пошли! Только не в город, а в Ворлех! Пони должен жрать, и мы тоже.
Старик валялся на постели под грудой тряпья, из-под которого торчал только его покрасневший нос. Сверху лежала клоунская кофта, и когда Жак чиркнул спичкой, чтобы найти в этом хаосе хотя бы самое необходимое, на него воззрилась вышитая на материи смеющаяся луна. Фрицек при свете спичек с лихорадочной поспешностью натягивал на себя трико. Было больно подставлять тело морозу. Зуб не попадал на зуб. А Ольга, в одной только кофточке, едва сдерживая слезы, металась по фургону, тщетно пытаясь найти свой костюм.
Жак с остервенением сорвал с отца тряпье.
— Приподнимитесь же, черт возьми… Ведь видите…
Трико Ольги действительно оказалось под ним.
Наконец, приготовления закончились, они обулись, а поверх костюмов надели пиджаки, братья — свои, а Ольга — отцовский, который был ей очень велик.
Трещал мороз, светила луна. Комедианты спешили к Ворлеху. Вдоль путевых столбов, покрытых окаменевшими снежными шапками, они добежали до деревни за десять минут.
С трудом переводя дыхание, они остановились у первого трактира, а пока Жак стерег пиджаки и обувь, Фрицек и Ольга попытались пробраться внутрь дома, но какая-то женщина сразу же выгнала их из сеней. Все трое побежали дальше.
— Брысь отсюда! — гаркнул на них владелец другого трактира и сделал движение, словно собираясь схватить палку.
— Да оставьте их! — заступился чей-то голос от стола, когда они уже были у дверей.
— Ну-ка, живо покажите, что умеете! Да ведь ты, девчонка, совсем в сосульку превратилась!
Не мешкая, комедианты проскользнули внутрь.
Железная печка в углу излучала приятное тепло. Они вдохнули его в себя, и это определило впечатление, которое произвел на них трактир. Была суббота, день получки, и за столами густо сидели ткачи, фабричные мастера, которые пришли сюда прямо с работы, — с черными от масла руками, с ворсинками хлопка и джута на одежде. Над ними жужжали полукруглые языки газовых рожков, и яркий свет, пронизывавший клубы табачного дыма, тоже был очень приятен.
Хозяин оказался не таким уж злым человеком. Он вынес комедиантам треногую табуретку, на которой Фрицек показал несколько эквилибристических номеров, после чего они с Ольгой перешли к акробатике. Рабочие, хорошо понимавшие, что значит иметь щеки, зеленые от голода, и красный от холода нос, были щедры, и когда Ольга обходила с кепкой Фрицека столы, кучка двухгеллеровых монет на дне шапки быстро росла.
Жак ожидал их с одеждой в сенях. Он купил хлеба, колбасы, стопку водки и дешевых сигарет — себе и Фрицеку. И у них еще остались деньги.
Что же делать теперь? Домой? Нет! Надо заработать еще для животных! Авось не схватят!
Они оделись и снова вышли на мороз.
— Зайдите еще сюда, — сказал Жак, когда они очутились возле следующего трактира, — а потом — домой! Я забегу за вами. Погляжу только, нельзя ли тут в деревне купить сена. — И ушел.
Их снова хотели прогнать, но Ольга стояла у двери и не двигалась с места. И снова нашлись заступники…
Девочка вплеталась в спинку стула, легко кувыркалась в воздухе, делала мостик и, просунув голову между коленями, улыбалась присутствующим. Фрицек ждал, пока она кончит.
Вдруг сердце его учащенно забилось.
Он увидел Иозефа Гавранека. Тот сидел за последним столом.
У Фрицека перехватило дыхание. Он чувствовал, как в нем оживает ненависть, ненависть, зародившаяся еще тогда, когда он, упрямо сидя на ступеньке фургона, наблюдал за стражником, конвоировавшим по улице его отца и брата; когда у маленького соснового бора на его спину со свистом опустилась отцовская плетка. Ненависть эта была, пожалуй, сильнее прежней. За четыре года она выросла вместе с ним. Все вокруг завертелось в каком-то тумане.
Выступать Фрицек не стал и, когда Ольга кончила, с шапкой в руке стал обходить столы. Сестра удивленно посмотрела ему вслед. А он шел, как во сне, мимо посетителей, протягивавших к нему руки с крейцерами, ни в чем не отдавая себе отчета, и видел только синеватую дымку, освещенную газовыми рожками, да расплывшуюся в ней путаницу голов.
К столу, за которым сидел Гавранек, Фрицек не пошел. Приблизясь к Ольге, он высыпал ей на ладонь деньги.
— Ступай домой! Меня не жди! — шепнул он ей и сам при этом услышал, как странно и прерывисто звучал его голос. — Я скоро приду!
— Ты пропустил один стол! Иди получи! — крикнул кто-то.
Фрицек обернулся. Видимо, он был ужасно бледен, потому что люди смотрели на него с удивлением.
Твердыми шагами он подступил к столу Иозефа Гавранека.
Тот полез в карман за монетой.
Фрицек сжал кулак, размахнулся, ударил его в лицо и бросился к дверям.
Но тут же кто-то входивший в трактир крепко схватил беглеца за руку.
Фрицек попытался вырваться, но сильный кулак сжал и вторую руку. Он укусил кулак, человек вскрикнул.
Однако было поздно. Люди бросились на него. Фрицек отбрыкивался ногами и мотался из стороны в сторону. Мельком он заметил, как Иозеф Гавранек утирал кровь с губ. Фрицека били по голове, а он защищался, как хорек, пойманный в ловушку. Та самая рука, которую он укусил, опрокинула его на пол. Теперь он уже видел над своей головой только каблуки и чувствовал их удары.
Фрицека вышвырнули из трактира и оставили лежать на дороге.
Неслыханно! Так отблагодарить за милостыню, которую предложил ему человек от чистого сердца! Да нынче вообще о какой-нибудь плате за развлечение даже говорить не приходится…
Фрицек уже не сознавал, что валяется на дороге, так как пришел в себя только в фургоне, от тряски. Он лежал на постели, закутанный в попону, а сестра прикладывала к его голове платки со снегом. От трактира его принес на руках Жак: Ольга так истошно визжала на всю деревню, что не услышать ее было нельзя.
Комедианты бежали по направлению к Жирке.
Перевод И. Иванова.
О ЛЮБВИ К РОДИНЕ{5}
В один из дождливых ноябрьских дней пан лейтенант Мазанец проводил занятия с чехами 3-й роты 74-го императорского пехотного полка, дислоцировавшегося в Либерце. Он читал лекцию о любви к родине — третью трехчасовую лекцию на эту тему.
Две недели тому назад пан капитан вызвал его в ротную канцелярию, услал в коридор рехцумака (так звучит чешское сокращение немецкого «Rechnungsunteroffizier»[7] и сказал:
— Послушайте, господин поручик! В полку опять затеяли какую-то реформу. Глупость невообразимая. Нынче каждый дурак считает себя спецом в военном деле. Необходимо, видите ли, подвести под военную службу идейный базис, — красиво звучит, не правда ли, «идейный базис»? — привить солдатам любовь к родине. Блестящая идея! Разводить философию с солдатней! По-моему, это наилучший способ превратить роту в стадо свиней. Солдат должен научиться стрелять и повиноваться. Только этого я требую. Больше мне от него ничего не надо. Все остальное — чушь. Но в полку загорелось. Так вы уж привейте своим часиков за пятнадцать эту самую любовь к родине. Используйте для этого послеобеденное время, дождливую погоду. Кое-какой материал найдете в уставе, кое-что придется самому придумать. А если кто-нибудь из ваших молодцов будет чересчур умничать на занятиях — сажайте немедленно под арест!
Легко сказать, господин капитан, «часиков за пятнадцать»! Пятнадцать часов это все-таки пятнадцать часов. Тем более что сейчас идет только девятый час. Не может же человек без конца что-то выдумывать!
На скамье у стола и на черных сундучках возле коек сидят тридцать девять солдат. Помещение наполнено запахами пыли, холодного дыма и хлеба. Главным образом — хлеба: кислым ароматом черствого, сладким благоуханием свежевыпеченного, удушающей вонью переваренного. Пан поручик стоит посреди комнаты, широко расставив ноги. Одной рукой он держится за саблю, а другой подкручивает усики. Судя по всему, у него приподнятое настроение.
— Ну-с, рядовой Хомяк!
С сундучка вскакивает солдат, вытягивается в струнку и впивается в поручика голубыми испуганными глазами.
— Ну-ка, расскажи, что такое родина?
Хомяк не понимает офицера. Он рекрут, русин из Прикарпатья, один из многих, кто составляет контингент этого текстильного, а вернее сказать — туберкулезного, края. В армии он всего шесть недель.
— Ну-с? — произносит поручик и складывает руки на груди, словно желая показать этим, что он готов немного подождать.
— Ну-с? — повторяет он минуту спустя снисходительным тоном, чуть приметно улыбаясь уголками рта и раскачиваясь. Он прекрасно понимает, что и это второе «ну-с» ни к чему не приведет, но испуг в голубых глазах русина и трагикомическое выражение его лица забавляют поручика.
Однако постепенно улыбка исчезает с лица поручика, оно становится серьезным и назидательным, полным доброжелательности и сознания важности момента.
— Ну-с, Хомяк! А ведь я говорил вам об этом на прошлом занятии. Ну-с, ладно. Итак — родина… Что же такое родина? — говорит он мягко.
— Чехи! — выдавливает из себя Хомяк.
С минуту поручик стоит неподвижно, потом безнадежно вертит головой:
— Trottel blödes! Болван!
На душе у него становится легче. Некоторое время он молчит, раздумывая, что же теперь предпринять: продолжать ругаться, смеяться или возобновить беседу в серьезном педагогическом тоне? Поручик выбирает последнее.
— Сейчас увидишь, Хомяк, какую ты сморозил чушь… Ну-с… скажи мне, кто ты?
Хомяк молчит.
— Ты, ты… Понимаешь? Кто ты? — при этих словах поручик тычет в солдата пальцем.
Наконец, парень понимает, чего от него хотят.
— Пехотинец Василь Хомяк!
— Ну-с, Gott sei dank! Слава богу! Знает хоть, как его зовут! Но я тебя не об этом спрашиваю! Вот скажи мне — ты итальянец?
Хомяк тревожно оглядывается на товарищей. Кто-то сзади отрицательно мотает головой и моргает ему.
— Нет… — отвечает он, наконец. Говорит и не знает, то ли он говорит. Но — оказывается, правильно.
— Ну-с, хорошо! А кто же ты? Немец?
— Нет.
— Чех?
— Нет, — помолчав, неуверенно произносит Хомяк.
— Ну-с, то-то! Кто же ты все-таки? Русин?
— Нет! — на сей раз «нет» звучит чуточку уверенней.
Пан поручик упирает руки в бока и покачивает головой, словно удивляясь, до какой степени может дойти человеческая глупость.
— Не «нет», а «да», приятель! Ты русин. Русин! К тому же глупый, как пень. Ну, что ты на меня уставился? Ей-богу, ты русин!
Солдаты разражаются смехом. Пан поручик тоже смеется.
— Ну-с, как же, по-твоему, — ты русин?
Широкое лицо Хомяка неожиданно проясняется, словно только сейчас он понял смысл этого слова, и на него нахлынули воспоминания о поросших лесом горах, о бревенчатой халупе, о матери, о любимой девушке.
— Русин, — говорит он, голос его весело звенит, и глаза сияют.
— Ну-с, то-то! Стало быть, русин!
— Русин, — радостно повторяет Хомяк.
— Ну-с, ладно… А может, у тебя нет родины. — Голос и взгляд поручика становятся необычайно строгими, гневно отвергающими подобное предположение, его указательный палец поднимается к груди Хомяка, как бы давая понять, что он, пан поручик, ни за что не примет всерьез заблуждение солдата.
Лицо последнего утрачивает веселое выражение. Он чувствует, что от него ждут ответа.
— Нет, — выпаливает он наобум и тут же убеждается в том, что говорить этого не следовало. Но уже поздно.
Пан поручик в отчаянии шлепает себя по бедрам.
— Фу, — шумно выдыхает он и, расстроенный, начинает возбужденно ходить по комнате. Это длится долго. Наконец, поручик останавливается у дверей.
— Да, милые мои, тяжелый случай! — И снова хлопает себя по бедрам, так, что звенит сабля, и вновь принимается колесить по комнате.
— О чем вы, собственно, думаете! Неужели вы воображаете, что с такой армией можно выиграть войну? Как бы не так, господа пехотинцы! Пусть офицеры будут какими угодно смелыми, образованными… Пусть даже генералы будут ангелами — войны с такой армией не выиграть! Это вам не средневековье, когда исход сражений решался голой физической силой. В наше время войны выигрываются знаниями… А с таким сырьем…
Сабля бренчит о пол, а из плотно сжатых уст поручика исторгается что-то, не похожее ни на пыхтение, ни на попискивание, но что означает презрение, гнев и отчаяние в одно и то же время. Пан лейтенант в глубине души жалеет себя, ибо тот генерал с украшенной регалиями грудью, который в грядущих боях будет командовать бригадами, дивизиями и армиями, — это он сам, поручик Мазанец. Это на его мундире рядом с другими орденами будет сверкать орден Марии-Терезии{6}.
Поручик останавливается у окна, прислоняется лбом к стеклу и, нервно играя пальцами за спиной, смотрит куда-то вдаль.
А над солдатами, которые, скрестив ноги, с тоскливыми лицами сидят на черных сундучках, возвышается, как свечка, Василь Хомяк, устремив в пустоту взгляд своих прозрачно-голубых глаз. Это продолжается долго.
Пан поручик смотрит в окно на пустынный казарменный двор и совершенно не думает о занятиях. Ему вспоминается городской парк, пруд, кусты, окрашенные ноябрем в бледно-красный цвет, гувернантка у фабриканта Лейбига и ее темные, как сливы, глаза, «Ты меня любишь, моя маленькая ящерка?» — «Одного тебя, одного тебя на целом свете, Фаноушек!» Поручик вспоминает заросли акаций, где под ногами шуршат опавшие листья. Губы его слегка улыбаются, и на лицо ложится печать мечтательной мягкости.
Кто-то проходит по двору. Верхняя губа поручика приподнимается, обнажая прекрасные зубы. Кивком головы Мазанец дружески отвечает на приветствие. Он оборачивается и видит устремленные на него тридцать девять пар глаз, среди которых выделяются большие голубые глаза стоящего навытяжку Хомяка.
В конце концов не так уж несуразен этот Хомяк! А его загорелое лицо, пожалуй, даже приятно. Но вообще, что и говорить, убогий народ русины. Офицеров своих нет, священников нет, интеллигенции нет, даже школ — и тех нет. Обитают где-то на востоке монархии в лесах, в горных пещерах, в соломенных хижинах, питаются кукурузой и пьют самогон. Летом пасут свиней, а зимой травят волков. Попасть в армию — великое счастье для такого свинопаса. Там по крайней мере его хоть немного человеком сделают.
Поручик разглядывает Хомяка.
— Ну-с, Хомяк, — говорит он, — что такое родина, ты не знаешь… А фамилии своих начальников ты знаешь, а? Мою фамилию, например? Мою, мою! — Поручик тычет себя пальцем в грудь. Ну?
Хомяк улыбается.
— Герлетенант Франц Мазанец.
— Ну-с, хорошо. А как зовут нашего пана капитана?
— Геркаптан Кал Бавер.
— Ну-с, так. Герр капитан Карл Бауер. Ладно. А как фамилия нашего полковника?
— Геробст литер фёдор гртфрт рт гртфртквер.
Пан поручик несколько ошеломлен. Он разевает рот, таращит глаза и хватается за голову. Полное имя пана полковника — Теодор Риттер Грассерн Эдлер фон Штрандвер.
— Иезус Мария!.. Иезус Мария! Садись, осел! Садись! Получишь завтра взыскание. Садись!
Хомяк в отчаянии озирается по сторонам.
— Сесть… Сесть! Nieder![8]
Хомяк знает, что такое «нидр», но ему как-то в голову не приходит шлепнуться прямо на пол среди сундучков, да и места здесь маловато. И он стоит, не понимая, почему, собственно, на него кричат и чего от него хотят.
— Schrecklich! Schrecklich! Ужас! — надрывно кричит пан лейтенант. — Посадите этого вола!
Сосед берет Хомяка за рукав и притягивает к себе на сундучок, а бедняга русин, теперь уже совершенно растерявшийся, еще долго не может взять в толк, что это происходит.
— Капрал Граздера, подайте на Хомяка рапорт за леность и нерадение и вечером научите его говорить «Dass ich zum Rapport befohlen bin»[9] или я вас посажу вместе с ним!
— Melde gehorsam[10] подать на Хомяка рапорт и научить его говорить…
— Gut. Setzen. Сесть.
Тут поручик вспоминает, что нужно еще как-то убить оставшийся час злополучной любовью к родине.
— Ну-с, пойдем дальше, — говорит он. — Ефрейтор Чижек!
— Хир![11]
— Что такое родина?
— Родина — это страна, в которой мы родились.
— Ну-с, Gott sei dank! Ладно. Ты слышал, Хомяк?
— Хир! — Перепуганный Хомяк вскакивает с сундучка.
— Сиди, дурак! Итак, родина — это страна, в которой мы родились. Ну-с, хорошо. Скажите, ефрейтор Чижек, где, например, родились вы?
— Осмелюсь доложить — в Румынии!
— В Ру-мынии? Гм… Да… Значит, в Румынии? Хорошо… А знаете, ефрейтор Чижек, я нарочно подстроил вам ловушку. Сейчас я все объясню… Скажите только сначала, как случилось, что вы родились в Румынии?
— Мои родители работали там на строительстве дороги.
— Гм!.. Ja…[12] Это верно, в Румынии сейчас много строят. Между прочим, из Румынии также вывозят скотину. Вы, надеюсь, знаете, ефрейтор Чижек, что из Румынии вывозят ско-ти-ну, а?
Молодцы считают своим долгом посмеяться этой великолепной остроте.
— Ну-с, ruhe, ruhe! Спокойно! Теперь я вам все объясню. Значит, ефрейтор Чижек родился в Румынии, так?
— Так точно!
— Хорошо, скажите мне, ефрейтор, — значит, Румыния — ваша родина?
— Никак нет!
На лице поручика мелькает улыбка одобрения. Он кивает головой.
— Ну-с, то-то… Очень хорошо. А скажите, есть вам какое-нибудь дело до Румынии?
— Никак нет!
— А почему вам нет никакого дела до Румынии?
Этого ефрейтор не знает.
— Ну-с… Вам потому нет никакого дела до Румынии, что Румыния не ваша родина, так ведь? А до этого, как его, румынского князя Александра вам есть какое-нибудь дело?
— Никак нет!
— Ну-с, хорошо. Скажите мне теперь, подданным какого государства вы являетесь?
— Австро-Венгрии!
— Стало быть, Австро-Венгрия — ваша родина?
— Так точно!
— А почему Австро-Венгрия ваша родина?
— Потому что я подданный Австро-Венгрии.
— А почему не Румыния — ваша родина?
— Потому что мне нет до нее никакого дела!
— Так-с… повторите им еще раз, что является нашей родиной?
— Нашей родиной является Австро-Венгерская монархия!
— Так-с.
Пан поручик, упоенный победой над Румынией, пускается в триумфальный марш к дверям.
— Опять этот балда с ума сходит, — шепчет своему соседу по сундуку, ефрейтору Мацеку, старый тертый калач Пекарек, тот самый Пекарек, который в наказание служит в армии уже четвертый год.
— Угу, — равнодушно отвечает Мацек.
Дойдя до двери, поручик оборачивается и впивается в Чижека строгим взглядом.
— Откровенно говоря, ефрейтор, меня радует, что вы сами до этого додумались. Ну-с, gut, setzen!
Ефрейтор Чижек краснеет и садится.
— Запомните раз и навсегда, что такое родина! — вдруг начинает кипятиться поручик. — И чтобы мне в другой раз никто не болтал, что наша родина там, где мы родились! Этак, чего доброго, рядовой Вопршалек может родиться где-нибудь в Трамтарии{7}, а рекрут Блбоунек вообразит, что его родина — какая-нибудь Зламана Льгота!{8} Ну-с… повторим еще раз. Рядовой Мах, что мы называем своей родиной?
— Своей родиной мы называем Австро-Венгерскую монархию.
— А почему?
Солдат молчит.
— Ну, потому что мы являемся ее под… подда…
— Потому что мы являемся ее подданными.
— Ну-с, а как мы обязаны относиться к ней?
Солдат не знает.
— Как мы обязаны относиться к ней? — угрожающе повторяет поручик.
— Мы должны уважать ее, любить, воевать за нее, — неожиданно вспоминает Мах.
— А почему?
— Во-первых, потому, что солдату приказывают это делать…
— М-м… Так говорить не следует. Во-первых, потому, что это долг солдата. А во-вторых?
— А во-вторых, потому, что солдату это на роду написано!
— Blöde! Болван! А не солдату — не написано, так, что ли, по-твоему?
— Никак нет! Тоже написано!
— Ну-с! А ты вообще знаешь, что значит выражение «написано на роду»?
— Так точно. Знаю.
— Ну-с… Возьмем хотя бы, к примеру, грудного ребенка. Вот он сосет у матери грудь, а ведь его никто не учил этому, стало быть тут и можно сказать, что это ему на роду написано. Или вот другой пример: два человека любят друг друга. Она — миловидная девушка с темными, как сливы, глазами, а он — красивый, интеллигентный юноша. — При этих словах пан лейтенант блаженно и двусмысленно улыбается, так, чтобы ни одна душа не сомневалась в том, что красивый, интеллигентный юноша это он сам, а миловидная девушка с глазами, темными, как сливы, не кто иная, как — «она». — Оба сидят на берегу пруда. Уже вечер, на небе мерцает желтым светом луна, все вокруг благоухает. Какая-то сила притягивает их друг к другу все ближе, ближе… Она склоняет ему голову на плечо и… — и неожиданно эту безмятежную лунную лирику поручик потрясает громом и молнией: — Кадержабек! Lausbengel! Mistkerl verfluchter! Zum Rapport![13] Паршивец!
Кадержабек вскакивает.
— Над чем смеялся? — вопит поручик.
— Осмелюсь доложить, пан поручик, я не смеялся!
— Над чем смеялся, тебя спрашиваю? — не унимается разъяренный офицер.
— Осмелюсь доложить, пан поручик, я не смеялся!
— Рапорт!
Сложив руки на груди, насупившись, поручик мечется по комнате. Глаза его сверкают. Он взбешен не на шутку.
— И после этого от нас еще требуют, чтобы мы с такими кретинами выигрывали войны! С такой сволочью! — Поручик хохочет дьявольским смехом отчаявшегося человека. — Ты им говоришь о самых возвышенных, о самых идеальных вещах, какие только могут быть в жизни, а они и тут вечно откопают какую-нибудь мерзость. Сволочи!
Он бегает по комнате, громыхает саблей, а глаза его мечут молнии на сундуки, койки, стены и пол, явно выискивая, к чему бы придраться. Но безуспешно. В помещении образцовый порядок. И хотя стоит гробовая тишина, всем ясно, что это — затишье перед бурей. Поэтому новобранцы дрожат от страха, бывалые солдаты ожидают, чем все это окончится, с любопытством, а старый тертый калач Пекарек, тот самый Пекарек, который в наказание служит в армии уже четвертый год, опять размышляет о чем-то непристойном.
И буря разражается. Повидимому, додумавшись до чего-то, поручик резко останавливается, подается всем телом вперед, хмурит брови и, не говоря ни слова, пронзает солдат страшным взглядом.
— Herstellt![14] — вскрикивает он вдруг. Его указательный палец впивается в воздух и застывает в таком положении.
Поручик стоит как вкопанный. Ни один мускул не дрогнет на его лице. Ни дать ни взять — статуя мести.
— Капрал Граздера!
Капрал вскакивает.
— Хир!
— Рядовой Хомяк!
Хомяк взлетает пробкой.
— Хир!
Этим поручик ограничивается. Он постукивает носком сапога о пол и пожирает глазами двух солдат, которые стоят, вытянувшись, как штыки на винтовках.
— Капрал Граздера… — и молчит.
Теперь уже в комнате — не просто трепетная тишина, а та тишина, какая обычно бывает на императорских маневрах, когда к войскам приближается самый главный начальник на войне. Поручик упивается этой тишиной, тишиной, вызванной им, поручиком Мазанцом, и пристально разглядывает то капрала, то Хомяка, продолжая при этом постукивать носком сапога о пол.
— Капрал Граздера, — повторяет он через минуту медленно и раздельно, — капрал Граздера! Рядовой Хомяк, если вы помните, сказал глупость… Вернее, я склонен считать то, что он сказал, глупостью. Склонен считать, хотя… хотя это вовсе и не глупость. Вовсе не глупость!.. — Глаза поручика впиваются в капрала. — Но после того, что здесь произошло, у меня нет ни малейшего желания быть к вам снисходительным… Этот человек сказал, что родина его — чехи!.. Так вот доложите мне, капрал Граздера, говорил я что-нибудь подобное?
— Осмелюсь доложить, пан поручик, я ничего не знаю!
— Что?! Вы ничего не знаете? Не знаете, да?
— Осмелюсь доложить, не знаю.
— Не знаете… Стало быть, не знаете? Ну-с, хорошо. Рядовой Хомяк!
— Хир!
— Кто тебе сказал, что наша родина — чехи?
У русина начинают дрожать коленки. Он пялит на офицера голубые, полные ужаса глаза.
— Кто тебе это сказал? — орет поручик. — Кто сказал, что родина — чехи?
— Рядовой Прашек, — запнувшись, отвечает Хомяк, не совсем понимая, о чем его спрашивают.
— А-а-а! — поручик обводит взглядом сидящих солдат. — А-а-а! А вы об этом не знали, капрал?
— Не знал.
— Рядовой Прашек!
Нечто синее взмывает над глыбой солдат и сундучков.
— Хир!
— Вы говорили это Хомяку?
— Осмелюсь доложить, пан поручик, говорил. Только так, шутя.
— Zum Rapport! — ревет поручик, сверкая глазами. — Alle drei setzen![15]
За оскверненный пруд, за лунную ночь, за девушку, с глазами, темными, как сливы, за свои нежные чувства лейтенант отомстил и теперь снова намеревается повести разговор о любви к родине. Но тут в коридоре раздаются шаги и звон шпор. Дверь распахивается, на пороге появляется пан майор в сопровождении пана капитана.
— Habt acht![16] — командует поручик.
Солдаты вскакивают. Офицер щелкает каблуками и докладывает:
— Herr Major, ich melde gehorsam neununddreißig Mann[17].
— Danke. Ruhen lassen[18].
— Ruht![19]
Дело в том, что обучение новобранцев подходило к концу, и в ближайшие дни должен был прибыть сам пан полковник, чтобы лично проверить, умеют ли солдаты надлежащим образом сдваивать ряды, постигли ли они искусство рукопашного боя и приобрели ли соответствующие теоретические познания, гвоздем которых были фамилии начальников. Пан майор обходил сегодня роты своего батальона, контролируя подготовку. Майор бегло говорит по-чешски, и его знают как хорошего человека.
Вообще, надо сказать, все майоры слывут хорошими людьми. Если поручики существуют для того, чтобы наводить ужас на подчиненных, а цель жизни капитанов — умопомрачительный авторитет, то майоры рождаются на свет божий лишь для той надобности, чтобы быть ласковыми и обходительными с солдатами, а строгими и свирепыми только с капитанами и младшими офицерами.
Вот и сейчас пан майор отечески расспрашивает солдат, и те, оказывается, знают, что его, пана майора, зовут герр майор Готтлиб Подградский фон Влчи Гора, а пана бригадного командира — герр генерал-майор Юлиус Латшер фон Лауэндорф, пана полковника — герр полковник Теодор Риттер Грассерн Эдлер фон Штрандвер. Майор утвердительно кивает головой и рассказывает, как папаша пана полковника во время итальянской кампании героически оборонял осажденную приморскую крепость, о том, что берег по-немецки называется «штранд», а оборона — «вер», что это «вер» не имеет ничего общего с «квер»[20], что нужно говорить не «штамквер», а «штрандвер», и что, хотя он и знает, сколь трудно выучить двадцать подобных фамилий, солдатам все же надлежит знать их, так как, не сделай они этого, в случае войны им будет очень плохо, очень плохо… Затем он спрашивает по-немецки поручика, о чем была сегодняшняя лекция, и, узнав, что лекция была о любви к родине, говорит, обращаясь к одному из солдат:
— Ну вот вы… У вас такое сообразительное лицо. Как вас зовут?
— Рядовой Пауль Сомец.
— Старый служака, не так ли?
— Так точно!
— Сразу видно! Так вот, скажите мне, рядовой Пауль Сомец, что же такое родина?
— Родина — это страна, в которой мы родились.
Поручик, стоящий у двери, злобно хмурится и делает солдату знаки. Но пан майор как будто удовлетворен.
— Ну так, хорошо! Только, знаете ли, рядовой, под словом «родина» я подразумеваю и кое-что еще. Нет, то, что вы сказали, вполне правильно, ничего не могу возразить. Но в моем представлении понятие «родина» является синтезом самого прекрасного, самого светлого, самого дорогого из всего того, что у меня есть. И земля, завещанная нам отцами, которую мы обрабатываем, и ремесло, которым мы занимаемся, и родители, и честь, и любимая девушка — все это для меня входит в понятие «родина». — Пан майор улыбается. — Ну, а у вас, рядовой, есть любимая девушка?
— Осмелюсь доложить, есть!
— И вы ее любите?
— Люблю.
— Ну, вот видите. И если бы кто-нибудь захотел ее у вас отнять или обидеть, оскорбить, вы бы, конечно, стали защищать ее, так ведь?
— Осмелюсь доложить — стал бы защищать!
— И своих родителей, отца и мать, и родные поля вы бы тоже, конечно, защитили… А честь? У вас есть честь?
— Так точно!
— Ну, разумеется, разумеется. Ведь вы же солдат! А знаете ли вы, что такое честь, знаете?
— Осмелюсь доложить, — это когда кто-нибудь меня обзовет…
— Хорошо. Стало быть, если кто-то вас обругает, назовет дураком или еще как-нибудь почище, — этот человек, следовательно, оскорбит вашу честь, не так ли? А вы, разумеется, станете защищать ее?
— Так точно!
— Разумеется! Настоящий солдат, всегда защитит свою честь… Ну, а теперь скажите мне еще раз, что такое родина?
— Родина — это моя любимая девушка…
— Девушка, естественно, на первом месте, — улыбаясь, говорит майор по-немецки обойм офицерам, и те спешат угодливо осклабиться. — Так, хорошо, продолжайте!
— …мои родители, мое ремесло и моя честь.
— Очень хорошо! А кем вы были, рядовой, до армии?
— Музыкантом.
— О! — радостно восклицает пан майор. — Это интересно! Смотрите-ка, а мы совсем забыли! Музыка, искусство, культура — это ведь тоже входит в понятие «родина»! Тем более что наша родная Австро-Венгрия славится своим искусством. Венская музыкальная традиция! Чешская музыкальная традиция! Почти все великие музыканты — наши соотечественники. Вот видите, рядовой, а мы едва не упустили этого из виду. Ну, ладно. Давайте побеседуем немножко о том, в какой взаимосвязи находятся любовь к музыке и патриотические чувства! Вы мне назовите ваше любимое музыкальное произведение, пусть это будет народная песня или еще что-нибудь, и мы постараемся выяснить, почему именно оно вам нравится.
— Осмелюсь доложить, — наш оркестр пожарной команды в Пршикерске играет одну вещицу, называется она «Орфей в аду»{9}. Вот ее я люблю больше всего, потому что там у меня соло на кларнете, — говорит Сомец, явно довольный тем, что ему дозволено так долго беседовать с паном майором.
А майор, улыбаясь, опять обращается по-немецки к офицерам:
— Ну, господа, считайте, что тут я потерпел поражение. Никогда не следует предаваться чувствам во время исполнения служебных обязанностей. Каждая тактическая ошибка, господа, мстит за себя.
«Господа» опять считают нужным угодливо осклабиться, а пан капитан думает при этом: «Само собой разумеется. Тоже мне гениальное открытие».
Между тем пан майор снова оборачивается к Сомецу:
— Ну, хорошо! Скажите мне еще только, рядовой, каким образом вы будете защищать родину?
— Я буду стрелять.
— Хорошо. А если у вас кончатся патроны? К сожалению, на войне бывают такие случаи.
— Тогда, если неприятель далеко, я буду швырять в него камнями, а если близко — колоть штыком и бить прикладом.
— Превосходно! Теперь представьте себе такую ситуацию. Вы стоите на посту и не видите, как в тыл вам заходит противник, человек десять — двадцать. На вас набрасываются, вырывают винтовку и приказывают сдаться. Как бы вы поступили в этом случае?
— Я бы не сдался.
— А что бы вы сделали?
— Я бы защищался руками.
— Ну, вас бы сбили с ног, навалились на вас, начали бы душить.
— Тогда я бы стал метаться, вырываться, царапаться…
— Ну, они бы сели вам на руки, на ноги — вы бы и не пошевельнулись…
— Тогда бы я стал кусаться.
— Браво, браво, рядовой! Браво, герр лейтенант! Браво, браво! — И тут же пан майор добавляет капитану по-немецки: — Исключительно отчаянный парень! Настоящий солдат!
— Самый отъявленный негодяй во всей роте, часто напивается и буянит, из карцера не выходит.
— Ну, ja, у музыкантов это бывает. Во всяком случае иметь дело с таким типом людей на войне куда приятнее, чем с неженками… Что ж, пойдемте дальше. Молодцом, господин лейтенант!
Пан майор направляется к двери.
— Habt acht! — командует поручик, солдаты снова вскакивают, и двое всемогущих выходят из комнаты под звон шпор.
Поручик разрешает солдатам сесть, а сам ходит из угла в угол, звеня саблей, подкручивает усики и счастливо улыбается, довольный похвалой, выпавшей на его долю.
— Ну-с, хорошо, Сомец! Вот с кого нужно брать пример! Ничего не боится! Смело смотрит в глаза пану майору, бойко отвечает. Только не надо быть таким хулиганом, Сомец!
Так согласно предписанию прошли очередные три часа, отведенные на лекцию о любви к родине. И чешские парни из другого взвода, три русина и один поляк разошлись каждый в свое расположение. У немцев и у тех, кто понимал немецкий язык, тоже была «любовь к родине», только в соседнем помещении.
Вечером в 3-й роте 74-го пехотного полка уже ничего особенного не случилось. Все шло своим чередом.
В расположении первого взвода за столом сидел капрал Граздера и учил Хомяка говорить: «Herr Hauptmann, ich melde gehorsam dass ich zum Rapport befohlen bin»[21]. Обучение продолжалось уже около двух часов. Красный и злой капрал опасался, что из-за Хомяка ему придется отказаться от свидания с девушкой. Граздера поминутно смотрел на часы, кричал и стучал по столу, иногда задевая кулаком Хомяка. В конце концов Хомяк забыл и начало, которое он уже знал, им овладело какое-то отчаянное безразличие ко всему на свете. Злополучная фраза казалась чудовищной, гигантской змеей, сопротивляться которой бесполезно и которая, как ему думалось, рано или поздно проглотит его, несчастного солдата.
Упорной баталией капрала с Хомяком и Хомяка со змеей весь первый взвод был доведен до белого каления. Солдаты готовы были убить и русина и пана капрала, только бы не слышать назойливого и кошмарного «гератман их мельдеге… их-мель-де-ге (капралу пришла в голову счастливая идея произносить слова по слогам!), не томиться в ожидании, пока Хомяк запомнит хоть один слог или забудет и те два, которые осилил.
Когда капрал (уже в который раз!) вытащил часы и убедился, что время приближается к семи, терпение его лопнуло. Он встал и обратился к вольноопределяющемуся, который в эту минуту как раз натягивал воскресный мундир:
— Научите его. У меня больше нет времени.
— Немножко попробовать можно. Только я применю другой метод. Впрочем, все равно ничего не получится. За два часа могли сами убедиться.
— Меня это не касается. Исполняйте приказание.
Пан капрал опоясался ремнем с австрийским орлом и расправил шинель.
— Приказание-то вы дали, да невыполнимое. Все равно от «губы» никуда не уйдете.
— Это я и без вас знаю. Только сидеть нам придется на пару.
— Ну, ничего, как-нибудь переживем!
Уходя, пан капрал сильно хлопнул дверью.
Новый метод испытывался всего пять минут.
Вольноопределяющийся тоже ушел и тоже на свидание с девушкой.
Однако если в первом взводе в этот вечер было угрюмо и неприветливо, то во втором было весело. Оказывается, Кадержабек соврал пану поручику: во время описания лунной ночи он действительно смеялся, но смеялся тому, что шепнул ему на ухо Шрайбер. А в словах Шрайбера не было ничего безнравственного, как полагал поручик: речь шла всего-навсего о процессе пищеварения. Кроме того, второй взвод потешал Клуст, денщик пана поручика, который знал гувернантку, с глазами, темными, как сливы, и рассказывал о ней всякие истории.
В это же время в коридоре, у открытого окна, стоял рядовой Прашек, тот самый Прашек, который сказал Хомяку, что родина — это чехи. Он стоял, смотрел на угрюмый квадрат казарменного двора и плакал. В том, что он плакал, не было, между прочим, ничего удивительного: в начале осени в коридорах у окон часто стоят избалованные маменькины сынки, оторванные от материнских юбок и отданные во власть всемогущих фельдфебелей, и, глядя на сумрачный казарменный двор, плачут…
На вечернюю проверку дневальный никак не мог отыскать рядового Сомеца, о котором сегодня так лестно отозвался пан майор. Только к трем часам ночи его привел патруль из запрещенного дансинга «У лебедя», совершенно пьяного, истерзанного, без единой пуговицы и без погон. С двумя приятелями, — один из которых был егерем, а другой — ефрейтором 2-го батальона, — он разнес бы кружками и бляхой все заведение, если бы хозяин во-время не дал знать в казармы. Для Сомеца это не было чем-то необычным.
На другой день утром происходил опрос.
В коридоре с полной выкладкой по команде «смирно» ровной шеренгой стоят пятнадцать солдат. Пан поручик маячит на левом фланге и вот уже двадцать минут — благо, капитан сегодня не торопится — добивается, чтобы солдаты подравняли пятки.
— Эй вы, там, немного вперед, и вы тоже. Гавранек, назад! Много, hergot![22]
Наконец, когда все стоят так же, как и двадцать минут назад, из ротной канцелярии выходит пан капитан.
Выслушав все доклады и все «Herr Hauptmann, ich bitte gehorsam[23] выдать мне новые подметки» и «… разрешить мне…», пан капитан приближается к Сомецу.
— Herr Hauptmann, ich melde gehorsam, dass ich zum Rapport befohlen bin.
Капитан принимает равнодушную позу и этак безразлично разглядывает опухшие глаза Сомеца и кровоподтеки на его щеках и на носу.
— Ты? За что же это? — спрашивает он с любопытством.
Видно, пан капитан большой шутник! Он давно знает, за что, — ему первому доложили в канцелярии, но он хочет услышать обо всем еще раз.
— Осмелюсь доложить, пан капитан, вчера я был «У лебедя», и один штатский стукнул мою любимую девушку по голове.
— Гм, — удивленно и вместе с тем сочувственно произносит пан капитан. — Этот штатский есть хулиган! Ты говоришь, он дал тфой любимый тефушка по голове, так, что ли? Гм… Гм!.. А этот, тфой любимый тефушка — порядочный тефушка и ничего ему не сделяль, да?
— Ничего!
— Вот видишь. Я срасу догадалься, что нитшего… Шаль, шаль, такой красивый тефушка… Ну, а еще что?
— Осмелюсь доложить, этот штатский еще обругал меня и оскорбил мою честь.
— Так он еще обругаль тебя? Он еще оскорбиль тфой шесть? Нет, вы подумать только! Как же он оскорбиль тфой шесть?
— Он сказал мне, что я мерзавец.
Пан капитан таращит «от ужаса» глаза и складывает руки на груди, делая вид, будто ему не верится.
— Ты это серьесно гофоришь? Серьесно? Он сказаль, что ты есть мерсафец? Этот штатский сказаль тебе, что ты есть мерсафец. Нет, это нефосмошно. Я не верю этому… Гм-гм-гм! Послюшай-ка, Сомец, ты не снаешь, где шивет этот штатский?
— Осмелюсь доложить — не знаю!
— Ах… как это шалько, что ты не снаешь! Как шаль! Как ты тумаешь, почему я тебя об этом спрашиваю?
— Осмелюсь доложить — не знаю!
— Не снаешь? Он не снает! Так снай. Я хотель… э… э… besuchen[24] этот штатский, посмотреть на него. Таких умных штатских я еще не встречаль. Посмотреть и сказать: мое почтение, герр штатский, вместо того чтобы назвать зольдата Сомеца мерсафцем — вам бы следовало насвать его «самым отпетым мерсафцем во всем полку»! Ты… ты… — Пан капитан умолкает, а потом, вытаращив глаза, начинает кричать: — Паршифец! Только и снает, что наширается, как швайн[25], только и снает, что мордобоем санимается! Ну, погоди у меня! Я тебе покажу «любимый тефушка», я тебе показу «шесть»! Я тебя, сфолочь, скною на гауптфахте! — а затем по-немецки: — Паршивая свинья! На кого он похож! На кого он похож, черт его побери! Позволил какому-то штатскому разукрасить себя как… как… — и снова по-чешски: — Ну, погоди, негодяй! Я тебе садам, мерсафец! Я тебе садам! Погоди у меня!
Капитан делает шаг вправо и оказывается лицом к лицу с Хомяком.
Хомяк молчит.
— Ну? будешь гофорить?
— Геркаптан, ихме… ихме…
Пан капитан подбоченивается, усмехается и взглядом приглашает поручика полюбоваться на это зрелище.
— Ну, молетец, молетец… отличилься…
— Гератман, гератман, ихме… ихме…
— Ну, дальше, дальше, воль! — понукает Хомяка капитан, — снаешь, что есть воль?
Хомяк не понимает. Он в ужасе.
— Снаешь, нет? — пан капитан приставляет ладони к вискам и изображает рога. — Это, который делает: муу-у!
— Гератман, ихмеле… — пытается Хомяк хоть как-нибудь загладить свой промах, но у него ничего не выходит, и он стоит красный, как рак, и едва не плачет.
Пан капитан смотрит на него и наслаждается. Наслаждается и пан поручик.
— Потшему этот больван не снает рапорт? — оборачивается капитан к поручику.
— Я приказал капралу Граздере научить его.
— Капрал Граздера! — гремит по коридору.
Капрал выбегает из дверей, летит по коридору и вытягивается в струнку перед командиром роты.
— Вы получили от герр лейтенанта Befehl[26] наутшить Хомяка гофорить: dass ich zum Rapport befohlen bin?
— Осмелюсь доложить, так точно, но…
— Я посашу вас! — орет капитан.
— Осмелюсь…
— Abtreten![27]
Капрал щелкает каблуками, прикладывает руку к козырьку и согласно приказанию уходит.
Следующим в шеренге стоит Кадержабек, который во время описания лунной идиллии безнравственно хихикал. За ним — Прашек, который сказал Хомяку, что родина — это чехи. На них пан капитан взглядывает мельком.
— Командуйте «разойдись». А этот пусть останется, — говорит он поручику, кивая на Прашека.
— Рядовой Прашек, остаться! Остальные — разойдись!
Четырнадцать ладоней звонко ударяют по прикладам, стены отвечают эхом. Двадцать восемь кованых сапог топают по каменным плитам. Солдаты скрываются в помещениях, и в коридоре остаются только бледный Прашек, капитан да поручик. Пан капитан вытягивается перед солдатом во весь рост, закладывает руки за спину и ледяным взором ощупывает его с головы до пят.
— М-м… Так это и есть тот самый пан, который пришель в моя рота делать политический пропаганда? Ну?!
У Прашека на глазах появляются слезы.
— Я, — продолжает капитан после паузы, — я подам на вас zum Regiments Rapport[28]. Я нитшего вам не буду гофорить. Гофорить будет герр польковник. А я буду гофорить герр польковник, чтобы он посадиль вас в тюрьма… — Капитан делает-шаг вперед, наклоняется к солдату и приближает свое лицо к его лицу. — Du, du… du… — Сжатые кулаки пана капитана со всего размаха обрушиваются на плечи солдата. Прашек, покачнувшись, ударяется головой об стену. — Du… Hund du! Собака!
Капитан уходит в канцелярию и, с силой хлопнув дверью, орет там на рехцумака, который, ничего не подозревая, заполняет какие-то ведомости.
— Другого, конечно, и ожидать нельзя, когда с солдатней пускаются в философию!
Рехцумак не понимает, о чем идет речь. Когда же в канцелярии через некоторое время появляется поручик, капитан набрасывается и на него.
— Великолепные занятия у вас, господин поручик! Один превращает их в политическую трибуну, другой становится от них дураком, третий смеется над вами, а четвертый из любви к родине идет громить трактир.
Вечером пан капитан зачитывал провинившимся приказ о наложении взысканий.
Рядовой Кадержабек за смех во время занятий получил шесть суток простого ареста, рядовой Хомяк за леность и нерадение — восемь суток простого ареста, капрал Граздера за невыполнение приказа — десять суток простого ареста, рядовой Сомец за пьянство в неслужебное время, за драку со штатским и возвращение с увольнения после отбоя — десять суток строгого ареста, а рядовой Прашек за недостойное солдата поведение — четырнадцать суток строгого ареста. Пан капитан передумал подавать на него рапорт полковому начальству, так как политическое брожение в роте накладывает темное пятно и на ее командира. Поэтому он наказал Прашека сам, в рамках своей компетенции. Сомецу же он ласково посоветовал написать матери, что его постоянный адрес такой: «Карцер. Рядовому Паулю Сомецу».
Таковы были результаты третьей трехчасовой лекции о любви к родине. Хомяк отнесся к приговору абсолютно равнодушно — то ли он понял его лишь наполовину, то ли решил, что все равно три года отмаяться надо, и не все ли равно — где? Капрал Граздера бесился.
— Я вам еще устрою, — заявил он вольноопределяющемуся, — такого перцу задам, что вы у меня запляшете!
Сомец хранил спокойствие философа. Прашек, постигнув разницу между кулаками мамаши и кулаками пана капитана, плакал. И так как у Кадержабека пропала охота смеяться, то вечером в коридоре у открытого окна они стояли вдвоем и смотрели на казарменный двор. К окну подошел Сомец и поднял их на смех:
— Эх вы, плаксивые уши! Стоят тут, носы повесили, как два святых Яна на мосту{10}. Пора привыкнуть уже, плаксы! Думаете, в карцере так уж плохо?
У Прашека выступили на глазах слезы.
— Я убью его.
— Кого?
— Капитана. Как только демобилизуюсь — в первый же день убью!
— Как бы не так! — засмеялся Сомец, — полетишь к своей мамочке да к Аничке — не до того будет…
В это время мимо проходил старый тертый калач Пекарек, тот самый Пекарек, который в наказание уже четвертый год служит в армии; он остановился возле них.
— Не хнычьте! Думаете, вечно будет продолжаться это издевательство? Думаете, вечно нас будут лупцевать эти идиоты? Надо только нам не остаться в стороне, когда с ними начнут расправляться. Ступайте спать, ушаки!
Подушки на солдатских койках жестки и царапают, и, пока новички не привыкнут к ним, у них синеют и опухают уши. Поэтому новобранцев называют еще «ушами» или «ушаками».
Перевод И. Иванова.
О СТАРИЧКЕ, УВЕНЧАННОМ ЛАВРАМИ ВЕНСКОЙ СЛАВЫ{11}
Не так давно в Маргаретен, пятом округе Вены, жил седовласый старичок, которого все называли «dr olte[29] Зеппль Ноови». Занимался он продажей пенковых мундштуков. Теперь этот товар уже вышел из моды, а хорошо обкуренная трубка есть у каждого порядочного венца, поэтому в лавочку старика Ноови, приютившуюся в маленьком домике на Марияцеллермуттерготтесзибеншмерцгассе, покупатели заглядывали редко, и было загадкой, на какие средства существует этот постоянно улыбающийся старичок, тем более что каждое утро до полудня он восседал за столиком в Ратушном погребке, после обеда позевывал за партией в тарок{12} в бюргерских маргаретенских кафе, а по вечерам дегустировал молодое вино по всем окрестностям Вены от Гринцинга до Бадена. Ибо вся жизнь улыбающегося старичка состояла именно из этих трех занятий.
Впрочем, для посвященных никакой загадки не было. Христианско-социальная партия{13} использовала старичка Зеппля Ноови в качестве избирательной приманки, и это приносило ему приличные доходы.
Обязанности его были несложны. На предвыборном собрании в подходящий момент на эстраду поднимались два господина во фраках, с белыми галстуками и в цилиндрах, бережно поддерживая под руки старичка Ноови, одетого пусть бедно, но опрятно и очень мило, по-старовенски. Следом за ними девочка в белом платье (обычно дочка или племянница кандидата) выносила почтенному патриарху великолепную старинную трость, выточенную специально для этих торжественных мгновений (надо отметить, что в обыкновенные дни старичок Ноови бегал проворно, как трясогузка). А дряхлый старец Ноови, прижав к груди трясущуюся руку, произносил тихим дребезжащим голоском, проникавшим в самую душу слушателей:
— Я — старый венец. Да, да. Я родился в тысяча восемьсот тридцатом году. В том самом году, когда родился наш дорогой, добрый старый император{14}. Мы с ним — ровесники. — После этого оратор утирал слезу синим носовым платком и продолжал: — Я помню покойного императора Фердинанда{15} и отца нашего Радецкого{16}, дай им всеблагий господь бог царствие небесное. Есть только один императорский город на свете, есть только одна Вена. На пре-кра-а-асном го-о-олубом Дунае. Честный венец всегда останется честным венцем. И честный венец напишет на своем избирательном бюллетене: «Портной мастер Готтлиб Прохазка».
После этого выступления затихало даже самое бурное собрание. Глаза присутствующих заволакивались туманом — простые, задушевные слова старичка Зеппля Ноови доходили до сердца каждого слышавшего их. Лишь агитаторы противной стороны, сидя в углу, злобно кусали губы.
Вот уже двадцать лет выступал дедушка с этой речью в различных округах Вены. Но, поскольку первая фраза ее иногда произносилась в конце, а последняя — в начале, никто не замечал, что он повторяется. Впрочем, то же самое проделывают все христианско-социальные ораторы, потому что в этом прекрасном городе на голубом Дунае сердца гораздо восприимчивее мозгов.
Событие, сделавшее дедушку героем дня и виновником огромных, неслыханных дотоле газетных тиражей, произошло на собрании в округе Мариахильфе. В этом округе за христианско-социальной партией шло абсолютное большинство, но внутри самой партии на мандат претендовали два одинаково влиятельные и одинаково старые ее члены: кондитер Петер Колошек и бакалейщик Стефан Ковач. Ни один из них не желал уступать, а когда центральный комитет вынес решение в пользу бакалейщика, кондитер вышел из партии и, объявив себя независимым христианско-социальным кандидатом, выдвинул программу преобразования партии. Приведя убедительные политические доводы и накинув лишние пятьдесят крон, кондитер завоевал на свою сторону и старичка Ноови. Первое же предвыборное собрание в трактире «Золотое сердце Иисуса» началось чрезвычайно шумно; ситуация становилась угрожающей, и на собрание был спешно доставлен старичок Зеппль Ноови. После выступления кандидатов два господина в цилиндрах и во фраках повели старичка к трибуне, а дочка кондитера понесла следом забытую трость; дряхлый патриарх произнес свою трогательную речь; однако вызванное ею, как обычно, умиление было на сей раз нарушено неожиданным происшествием: растолкав заполнившую зал толпу, к трибуне прорвался коренастый мужчина и стал рядом со старичком. Это был Альфред Розенбаум, агитатор противной стороны, известный активист партии, торговец четками, освященными крестиками и образами. Стукнув кулаком по столу, он воскликнул:
— Меня уже тошнит от этой комедии со старым Зепплем Ноови!
В зале разразилась буря негодования. Взметнулись сжатые кулаки, раскрытые рты извергли лаконичное требование:
— Вон еврейскую свинью!
Но Альфреда Розенбаума это не смутило. Он вынул из кармана три документа, с любезной улыбкой подал их президиуму и попросил зачитать. Это было свидетельство о крещении, членский билет партии — то и другое десятилетней давности — и письмо лидера и основателя партии, доктора Карла Люегера{17}, начинавшееся обращением: «Дорогой друг!» — пятнадцатилетней давности.
Привыкший к подобным чествованиям, торговец святым товаром предусмотрительно всегда носил их с собой.
После демонстрации документов Альфред Розенбаум еще раз стукнул кулаком по столу и повторил:
— Мне в самом деле опротивела эта комедия со старым Зепплем Ноови! Старый Зеппль Ноови — старый негодяй и мошенник. Я располагаю доказательствами того, что он украл у защитника Вены от турок, графа Рюдигера фон Штаремберга{18}, двадцать миллионов крон; он до сих пор владеет этой огромной суммой и тайно хранит ее в разных банках. Пусть Зеппль Ноови подает на меня в суд…
В этот момент стоявший на трибуне дедушка Ноови выпрямился, разинул рот, собираясь что-то произнести, и судорожно глотнул воздух; левая рука его потянулась к горлу, а правая беспомощно шарила в пространстве. Он еще раз глотнул воздух и зашатался. Два господина в цилиндрах и фраках подхватили его под руки и бережно вывели на улицу.
Через полчаса «Золотое сердце Иисуса» было очищено полицией; все, что было в нем стеклянного или деревянного, оказалось разбитым вдребезги.
Старичок Зеппль Ноови действительно подал в суд.
Все знали заранее, чем кончится дело: можно считать — на выборах прошел бакалейщик; ну, а кондитер, что ж, — забудет о реформах, помирится с партией, Розенбаум возьмет обратно сгоряча брошенное им нелепое обвинение и заявит, что у него нет оснований подозревать достоуважаемого бюргера — господина Йозефа Ноови — в каких-либо нечестных поступках, что сожалеет о нанесенном оскорблении и жертвует пятьдесят крон в пользу избирательного фонда партии; старичок Ноови возьмет обратно свою жалобу; партия сама себе выплатит эти пятьдесят крон и выдаст старичку компенсацию за сердечный припадок в «Золотом сердце Иисуса». Обвинить человека в том, что он украл у защитника Вены от турок двадцать миллионов крон — это уж слишком даже для Вены.
Но случилось неожиданное: дело действительно дошло до судебного разбирательства, и в назначенный день и час в йозефовский окружной суд прибыли со своими адвокатами истец и ответчик.
Когда они вошли в зал суда, господин советник, покуривая длинную трубку, читал молоденькой секретарше анекдоты из последнего номера «Кавиара»{19}, и оба громко хохотали. На столе председателя стояла пустая бутылка из-под молодого вина, валялась недоеденная «императорская» булка и оберточная бумага с сальными пятнами от «императорского» мяса (так верноподданнически называют в Вене копченую лопатку).
— Привет! — сказал господин советник обоим адвокатам, подняв к виску указательный палец. — Привет, Розенбаум! — обратился он к ответчику. — Привет, Зеппль! — сказал он истцу.
Следует напомнить, что господин советник земского суда Визенбауер был также одним из лидеров христианско-социальной партии. Он взглянул на карманные часы:
— Неужели пора?.. Честное слово, пора! Представьте себе, пора!
В зал суда вошли два газетных хроникера.
— Привет! — поздоровался господин советник и с ними, добавив: — Ничего интересного, всего-навсего какое-то дурацкое собрание в Мариахильфе.
— В других судах тоже ничего, — ответили хроникеры, усаживаясь на места для прессы и вытаскивая блокноты, — мы подождем.
— Как вам угодно! — И господин советник, поскольку необходимо было соблюсти перед журналистами декорум суда, поставил трубку в угол и приступил к выполнению официальной процедуры: — Мицинка, пожалуйста, приберите немножко и принесите мне дело!
Секретарша поставила бутылку в угол, рядом с трубкой, бросила бумагу в корзинку и подала папку. Господин советник полистал бумаги и, как следовало ожидать, предложил:
— Сведем на мировую?
— О нет! — ответил адвокат старичка Ноови доктор Блох.
— О нет! — покачал головой адвокат Розенбаума доктор Гартштейн.
Судья посмотрел на них с некоторым удивлением.
— Вы-то почему? — обратился он к Гартштейну. — Вы что же, собираетесь доказать суду свою правоту?
— Да, представьте себе, господин советник, хотим доказать, — с достоинством произнес адвокат ответчика.
Эта остроумная шутка рассмешила господина советника. — Доказать, что старый Зеппль Ноови в семнадцатом столетии украл у графа Рюдигера фон Штаремберга двадцать миллионов?
— Мы действительно собираемся это доказать, — ответил адвокат.
К удивлению господина советника, журналистов в зале все прибывало, очевидно их предупредили о процессе честолюбивые адвокаты.
— Это что — всерьез? — хмуро взглянул судья на доктора Гартштейна.
— Совершенно серьезно.
— В самом деле? — Господин советник все еще не сдавался.
— В самом деле.
— Ну, а мне-то что в конце концов! — рассердился господин советник, отыскивая судейскую шапочку. — В таком случае мне наплевать, — проговорил он, напяливая ее на голову. — Так вот, значит, мы открываем… Стало быть, поступило исковое заявление… То-то и то-то, там-то и таким-то образом… — Монотонно зачитывая иск, господин советник земского суда окончательно перешел на серьезный, официальный тон. — Что вы имеете возразить?
Поднялся защитник ответчика доктор Гартштейн, поправил пенсне.
— Мы признаем, что господин Альфред Розенбаум, выступая на предвыборном собрании в «Золотом сердце Иисуса», округ Мариахильфе, употребил относительно господина Йозефа Ноови слова «старый негодяй и мошенник» и публично, в присутствии многих людей обвинил его в том, что он «украл у графа Рюдигера фон Штаремберга, защитника Вены от турок, двадцать миллионов крон»; и что «он владеет этой огромной суммой до сих пор, тайно храня ее в разных банках». Однако мы утверждаем, что слова «старый негодяй и мошенник» являются хотя и резким, но, несмотря на это, исключительно подходящим к данному случаю критическим определением действий господина истца, ибо господин истец Йозеф Ноови действительно украл у графа Рюдигера фон Штаремберга двадцать миллионов крон и тайно хранит их в банках. Просим досточтимый императорско-королевский окружной суд рассмотреть имеющиеся в нашем распоряжении доказательства истинности этого.
Журналисты обменялись недоумевающими взглядами. Потом уставились на адвокатов. Но те сохраняли совершенно серьезный вид. Господин советник приоткрыл рот, а журналистская братия украдкой переглянулась: кто же сошел с ума — они или императорско-королевский суд? Это двадцать миллионов крон не произвели впечатления только на Мицинку; дописав в протоколе фразу, она собралась пококетничать с корреспондентом «Райхспоста»{20}, но на сей раз — безуспешно.
— Итак! — нарушил молчание доктор Блох, адвокат старичка Ноови. — В оглашенном здесь заявлении действительно заключено зерно истины, да, да, но именно только зерно; однакоже, поскольку столь долго скрываемая тайна стала явной, интересы моего клиента требуют правильного информирования общественности. Пусть же и досточтимый суд узнает истинную правду, а затем решит, позволено ли публично называть честнейшего мужа старым негодяем и мошенником. Ходатайствую о том, чтобы досточтимый суд соизволил приступить к предложенному многоуважаемым господином ответчиком рассмотрению доказательства.
В эту минуту к столу председателя подошел старичок Ноови и дрожащим голоском произнес:
— Милостивый государь имперский советник! Да, да. Я действительно владею состоянием приблизительно в двадцать миллионов крон, основание которому заложил граф Рюдигер фон Штаремберг, но эти деньги нажиты совершенно честным путем. Я — старый честный человек.
Судья широко открыл глаза; по лицам слушателей пробежало изумление. Между тем старичок Ноови продолжал:
— Да, да, сперва этих денег было одна тысяча золотых, которую я унаследовал от своего покойного сводного братца, — дай ему господь бог царствие небесное, — но вместе с процентами и с процентами на проценты они после его смерти возросли до двадцати миллионов.
А д в о к а т и с т ц а. Как известно, капитал, помещенный из пяти процентов годовых, удваивается приблизительно через шестнадцать лет. Я составил точные таблицы возрастания капитала в данном случае и предъявляю их досточтимому суду.
С у д ь я (пораженный, истцу). Когда же, собственно, умер господин ваш брат?
С т а р и ч о к Н о о в и. О-о, милостивый государь имперский советник, этому скоро будет уже двести четырнадцать лет.
В зале суда разражается буря смеха. Журналисты, оправившись от потрясения (эти двадцать миллионов ударили по их черепам с силой мчащегося локомотива), откладывают свои авторучки и гогочут на весь зал. Несколько случайно заглянувших зевак хохочут от души. Среди раскатов мужского хохота выделяется высокий голосок секретарши.
— Тихо! — надрывается господин советник, обращает в сторону адвокатов строгий взгляд и сердито потрясает вытянутой ладонью, словно вопрошая — не лишились ли все присутствующие разума? Но оба адвоката сохраняют совершенно невозмутимое спокойствие.
— Тихо! — еще раз вскрикивает господин советник и несколько нервно объясняет истцу: — Вы меня, верно, не поняли. Я вас спрашиваю, господин Ноови, — постарайтесь понять меня! — в каком году умер ваш сводный брат, оставивший вам, как вы утверждаете, кругленькую сумму в двадцать миллионов крон?
— Да, да, господин имперский советник, — бубнит старичок Ноови, — это так. Он умер в тысяча шестьсот девяносто девятом году.
Барышня-секретарша взвизгивает. Судебный зал грохочет весельем, как пратерские{21} кабаре, когда на эстраде разыгрываются сценки, где герои говорят с чешским и еврейским акцентом. Из коридоров сбегаются судебные чиновники и тяжущиеся.
— Тише! — кричит господин советник, в волнении вскакивая и обращаясь к доктору Блоху: — Истец говорит совершенно серьезно, и мне не остается ничего другого, как извинить несообразность показаний истца его почтенным возрастом. Но ответственность за соблюдение уважения к суду я возлагаю лично на вас, господин доктор!
А д в о к а т и с т ц а. Я принимаю на себя эту ответственность и полностью ее сознаю.
А д в о к а т о т в е т ч и к а. Я также принимаю на себя эту ответственность и прошу досточтимый суд выслушать показания истца. То, что кажется невероятным, является истинной правдой.
С у д ь я (кричит). Весьма прискорбно, но я вынужден напомнить, что юриспруденция не признает братьев в религиозном либо в поэтическом смысле слова, но исключительно в правовом смысле!
А д в о к а т и с т ц а. Заверяю досточтимый суд, что речь идет о брате в правовом смысле.
С у д ь я (нервно пожав плечами, раздраженно — истцу). Пожалуйста, продолжайте!
С т а р и ч о к Н о о в и. Моя добрая неродная матушка, Элизабет-Маркета Гофбауер, в замужестве — Ноови…
А д в о к а т и с т ц а. Оставляю за собой право на представление доказательств, что упомянутая госпожа Элизабет-Маркета Гофбауер была, хотя и не по прямой линии, но все же родственницей венского святого, Клемента-Марии Гофбауера, канонизированного в прошлом году святым папским престолом.
С т а р и ч о к Н о о в и. Моя добрая неродная матушка, урожденная Гофбауер, в замужестве — Ноови, родилась в тысяча шестьсот восемьдесят третьем году.
А д в о к а т и с т ц а. В год осады Вены турками.
Публика хохочет. Секретарша закрыла лицо платочком и корчится, икая от смеха. Господин советник яростно барабанит пальцами по столу, давая понять, что терпение его скоро лопнет. Ответчик и адвокаты сохраняют абсолютно серьезный вид.
Проходит довольно много времени, и судья неоднократно вынужден вступать в пререкания с адвокатами и с публикой, прежде чем истец получает, наконец, возможность связно продолжать. И он поведал следующее:
— Моя неродная матушка происходила из бюргерской семьи и была горничной в семье графов фон Штаремберг. На шестнадцатом году своей жизни она забылась и в тысяча шестьсот девяносто девятом году даровала жизнь внебрачному младенцу, отцом которого был не кто иной, как славный освободитель Вены от турок, граф Рюдигер. Впрочем, граф Рюдигер был настоящим рыцарем и своему потомку, моему сводному брату, дал в приданое тысячу золотых. Братец умер вскоре после рождения, деньги же унаследовала матушка. За всю свою долгую жизнь она к ним не притрагивалась, наложив на себя покаяние. Она посвятила свою жизнь богу и труду. На Доминиканербаштеи матушка открыла модную лавку, и ее клиентами были лучшие венские семейства. Заказывал у нее модный товар и двор и аристократия, покупал у нее принц Евгений Савойский{22}, семейства полководцев Дауна{23} и Лаудона{24}, даже, как с гордостью рассказывала матушка, посетила как-то ее лавку и сама августейшая императрица Мария-Терезия. Свой досуг моя матушка, будучи женщиной весьма набожной и почитательницей церковного пения, проводила в доминиканском храме Господа. Эта любовь к музыке, свойственная, впрочем, всем истым венцам, решила ее судьбу. Внимая несущемуся с клироса пению, она уже давно с наслаждением прислушивалась к великолепному тенору, а на страстной неделе лета тысяча семьсот семьдесят шестого от рождества Христова не вытерпела и принялась наводить справки относительно обладателя этого голоса. Им оказался девятнадцатилетний помощник учителя Себастиан Ноови, мой родной отец, да будет земля ему пухом, родился он в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году.
— В год победы австрийского оружия в битве под Колином{25}, — присовокупил доктор Блох.
Старичок Ноови продолжал:
— Моя матушка была тогда в возрасте уже зрелом, даже, я бы сказал, в преклонном; было ей девяносто три года. Все же ее сердце сохранило необычайную свежесть. Она предложила статному певчему свое сердце, руку, имущество и бюргерское сословие, и молодой помощник учителя ответил согласием. Произошло ли это по истинной любви, либо из уважения к сей достопочтенной даме — трудно сказать; известно лишь, что через несколько недель в доминиканском храме Господа состоялось торжественное бракосочетание, на которое съехалась вся венская знать и описанию которого городской официальный листок посвятил обширную статью, ибо Элизабет-Маркета Гофбауер пользовалась широкой известностью; внимание возбуждала также и разница лет новобрачных. В грехе своем, давно оплаканном, матушка призналась моему отцу, и тот великодушно простил ее. Но и он не притрагивался к унаследованным от пасынка деньгам, возможно, из соображений принципиальных, так как на этих деньгах все же лежал грех. Совместная жизнь супругов протекала необычайно счастливо, но, к сожалению, недолго. Отец схоронил подругу жизни на кладбище доминиканского храма, и я помню прекрасный надгробный камень, который стоял там до снесения кладбища: «Здесь славного воскресения ожидает в бозе почившая венская мещанка госпожа Элизабет-Маркета Ноови, урожденная Гофбауер. MDCLXXXIII—MDCCLXXIX». Вторично отец женился, будучи в преклонных летах, а я, его единственный сын, увидел свет в тысяча восемьсот тридцатом году. Я — ровесник нашему доброму, милому, старому императору.
Тут голос старичка дрогнул от умиления. Сказалась старая привычка, приобретенная на собраниях.
— Что же мне остается прибавить? — смахнув слезу, продолжал он. — Как истый венец, я жил скромно и честно, меня никогда не манили светские соблазны, а на стаканчик молодого вина я всегда зарабатывал своим благородным ремеслом. Я, как и родители мои, не притрагивался к наследству; таким образом, первоначальный капитал, который стал значительным, собственно, только на моем веку, составляет ныне более двадцати миллионов крон. Вы, милостивый государь имперский советник, просто не поверите, как эти денежки подскакивают через каждые шестнадцать лет. Сразу вроде и незаметно, а потом растут очень здорово. У меня теперь двадцать миллионов. Если всемилостивейший господь бог даст мне дожить до века моей покойной неродной матушки, у меня будет их сорок. А если мои внуки оставят их в банках еще на шестнадцать лет, у них будет восемьдесят миллионов, и они станут самыми богатыми людьми во всей Вене.
Так рассказывал старичок Ноови.
Начал он перед рядами пустых стульев, а кончил перед битком набитым залом. Люди стояли даже на лестнице, и судебные чиновники тщетно пытались пробиться через толпу. Судебные залы всегда любезны сердцу венцев, а виновниками такого необычайного стечения публики были, собственно говоря, курьеры, ибо именно они, бегая за порциями «императорского» мяса и кружками разливного пива, занесли в соседний трактир «У чудотворного образа» весть об интересном процессе, а оттуда по всей округе распространился слух, что судят старца, воевавшего еще против султана Сулеймана в парке на Турецких шанцах{26}, за то, что он захватил там пять возов дукатов.
Старичок Ноови заканчивал среди гробовой тишины, нарушаемой лишь шорохом карандашей лихорадочно стенографирующих журналистов; они боялись пропустить хотя бы слово, слетавшее с уст этого сенсационного старца. Благослови и сохрани его бог! Да проживет он сто лет! В этой пустыне Сахаре давно уже не было такого обильного родника построчных гонораров, а кто придет раньше, зачерпнет больше. И корреспонденты черпали полными ведрами.
Старичок Зеппль Ноови заканчивал:
— Вот как дело было, господин имперский советник! А теперь судите сами, я ли старый негодяй и мошенник, — дедушка опять вынул синий носовой платок, — и украл ли я у кого-нибудь хоть ломаный грошик. Нет, нет, господин имперский советник, ведь я — старый честный человек, и с отцом Радецким я воевал в Италии вместе.
Старичок Ноови горько разрыдался, и прошло немало времени, прежде чем он смог продолжить. А затем поведал охваченным умилением слушателям следующее:
— Мне это больно, очень больно, милостивый государь имперский советник, а больше всего я огорчен тем, что все это попадет в газеты. Скажу вам, почему. Детей у меня нет. Был у меня единственный сын. Звали его, беднягу, Штефль. Служил он швейцаром в Ратушном погребке, крепкий такой, усы, как у императора, все вы его знали, наверное. В чине капрала прошел всю кампанию второго герцеговинского восстания{27}, схватил там ревматизм и в позапрошлом году умер. Но он оставил мне четырех внуков, да, да, господин имперский советник, четырех внучат, я берегу их, как зеницу ока, и воспитать их решил настоящими венцами, Пепи служил в городском погребальном братстве, Польдль — контролер венских муниципальных омнибусов, Францль заменил своего покойного отца в Ратушном погребке, а самая младшая, Мици, — виолончелистка в дамском оркестре в кафе «Ритц». Ревниво хранил я от них тайну о двадцати миллионах, никогда не давал им лишнего крейцера, а когда они прибегали ко мне занять одну-две кроны, я всегда говорил им: «Нет у меня, нет, птенчики! Погодите, умру вот, тогда получите», — а все для того, чтобы не отошли от христианской жизни и остались честными… А теперь они узнают обо всем из газет и… да, да… ох, ох… Пепи и Польдль всегда были немножко ветреными… а Мици до смерти любит кататься в авто…
Старичок Ноови безутешно рыдал.
В эту минуту к нему подошел Альфред Розенбаум и трогательным голосом, какого никто не подозревал у этого торговца, проговорил:
— Старый добрый Зеппль Ноови! Старый добрый друг! Тяжко провинился я перед тобой. Прости меня!
— От всего сердца, старый друг Альфред Розенбаум, — заливаясь слезами, промолвил старичок Ноови. Оба противника пали друг другу в объятия и заплакали.
Из глаз присутствовавших брызнули слезы. Пока длились объятия обоих мужчин, в зале стояла церковная тишина. Но когда они отпустили друг друга, публика разразилась оглушительными возгласами «слава!» и бурными аплодисментами благородному старцу. Барьер трещал под напором тел.
— Нет, нет, не может быть, нет, тут что-то не так! — восклицал господин советник Визенбауер, но и по его щекам текли слезы величиной с горошину. Восторженнее всех кричала секретарша. Зал йозефовского суда не слыхивал такой овации.
После великодушного прощения разбирательство не могло окончиться не чем иным, как освобождением Альфреда Розенбаума.
Старичок Зеппль Ноови, покидая йозефовский окружной суд, проходил, как вельможа, между шпалерами стоявшего в коридорах и на лестнице народа. На всем пути его встречали возгласами «слава!» и приветственными взмахами рук. Толпа ожидала и перед зданием суда. При появлении старца она, неистово раздирая глотки, испустила радостный вопль, потрясший соседние улицы. Кто-то привел сюда из соседнего трактира шраммель, венский народный оркестр — аккордеон, альт и двухгрифовая цитра; все вместе это издает такие адски заунывные созвучия, что способно тронуть сердце самого закоренелого убийцы. Когда первый взрыв ликования утих, грянул шраммель, и музыканты запели под собственный аккомпанемент, растягивая слова в пронзительных тремоло:
О Вена-а ты-ы моя-а, Столица чудная-а, О город красоты, Меня пленила ты-ы!Когда умолкли певцы, снова грянули приветственные крики. Сквозь толпу энергично протиснулся извозчик и, подхватив дедушку под руку, — отчего дедушка мог ступать только на правую ногу, а носком левой лишь слегка отталкивался от земли, — потащил его к своему фиакру.
— Поехали, ваша милость! Сегодня задаром! — орал извозчик, размахивая цилиндром. — Слава победителю турок!
Благородный старец Зеппль Ноови отъезжал от завоеванной Новары{28} под оглушительные возгласы славы.
И с этого момента, как уже было сказано, он стал героем дня и виновником небывалого тиража газет.
Венцы — народ мягкосердечный, и на другой день в столице над газетами было пролито много слез. И хотя нашлись люди, похолодевшие от зависти при мысли о двадцати миллионах, но и они растаяли, читая о дедовской любви к внучатам и описание трогательного примирения между Розенбаумом и старичком. Плакали над «Кроненцайтунгом»{29} за семейными завтраками, всхлипывали у катков для белья, рыдали в лавочках, парикмахерских и в салонах массажисток; в канцеляриях, просматривая газеты, сморкались бездушные чиновники; даже мужественные мясники, поддаваясь настроению, царившему утром в магазинах, роняли слезы на отбивные венские шницеля. Потому что вода, которую построчные хроникеры с таким усердием набирали ушатами из обильного родника судебного заседания, следуя естественному кругообороту, снова превращалась в исходное вещество и солеными ручьями катилась по щекам читателей.
И, право же, стоит привести здесь хотя бы некоторые из набранных огромным шрифтом заголовков и подзаголовков передовиц и репортажей:
«Невероятно, но факт».
«Стойкий приверженец нашей партии — герой славного рода».
«Нищий архимиллионер».
«Золотое сердце венца». Этот заголовок дали четыре газеты, а подзаголовком он стоял во всех.
«Муж старого доброго времени».
«Кто бережливо живет, тот втрое соберет».
«Кроненцайтунг» поместил заголовок несколько длинный, но зато составленный прямо-таки с научной точностью и не получивший заслуженной оценки лишь потому, что предъявлял чрезмерные требования к умственным способностям читательских мозгов. Вот он: «Действительно неродной внебрачный сын защитника Вены от турок графа Рюдигера фон Штаремберга доныне живет среди нас».
Социал-демократическая «Арбайтерцайтунг», как всегда, заняла принципиальную позицию: «Захвачены миллионы, являющиеся частью общественного достояния. Заметки о современной капиталистической экономике».
Но лучше всех был заголовок христианско-социального «Райхспоста», весьма поэтически выразивший основную мысль: «Старец, увенчанный лаврами венской славы».
Подзаголовки, подсказанные самим событием, почти везде выглядели одинаково:
«Скромный венский старик».
«Оскорбление на избирательном собрании».
«Судебное разбирательство».
«Судья не верит».
«Сказка оказалась правдой».
«Святой Клеменс-Мария Гофбауер».
«Осада Вены турками».
«Рюдигер фон Штаремберг и нравы аристократического замка конца семнадцатого столетия».
«Принц Евгений, прекрасный рыцарь».
«Даун и Лаудон, два славных полководца».
«Битва под Колином».
«Свидетелем чего был старинный доминиканский храм».
«1830 год. Император и мундштучник».
«Отец Радецкий и поход в Италию».
«Победа австрийского оружия над кривошийскими инсургентами»{30}.
«Во что превратится тысяча золотых через двести четырнадцать лет».
«Дедушка и внучата».
«Золотое сердце венца простило».
Разумеется, христианско-социальные газеты особенно подчеркивали принадлежность старичка Зеппля Ноови к их партии, в то время как «Нейе Фрайе Прессе» и «Цайт»{31} об этом факте коварно умолчали. Напечатанное утром в немецких газетах к вечеру было переведено и, включая заголовки, появилось в органе нижнеавстрийских чехов, который к этим материалам в последней рубрике присовокупил и свой труд под названием «Искренний друг чехов». Оказывается, известный венский чех, господин Йозеф Новотный, ныне — мастер-токарь на Фавориттенштрассе № 51 в юности обучался мундштучному делу у господина Йозефа Ноови; он с благодарностью вспоминает своего бывшего учителя и до сих пор любит рассказывать, как господин Ноови, бывало, снисходительно таскал его за волосы или за ухо, дружески-шутливо приговаривая: «Ах ты чешская дубина» или: «Ах ты чертово повидло». Тот же господин Новотный совершенно отчетливо помнит, как господин Йозеф Ноови однажды заметил, что и среди чехов встречаются порядочные люди. В заключение орган нижнеавстрийских чехов писал: «Короче говоря, вся жизнь благородного старца господина Йозефа Ноови (не носил ли кто-либо из его предков фамилию «Новы»? Было бы небезинтересно подвергнуть этот вопрос исследованию!) является для нас отрадным свидетельством того, что не вымерли еще в нашей империи справедливые немцы».
Но огласка Альфредом Розенбаумом тайны, помимо увеличения газетных тиражей, имела еще и другие последствия. Покупатели, подвергшие осаде мундштучную лавочку на узкой Марияцеллермуттерготтесзибеншмерцгассе, не шутя рисковали жизнью; там дежурило пятеро полицейских; старичок Ноови распродал все мундштуки и вынужден был, наконец, сбежать черным ходом через двор из начисто опустошенной лавочки. И это было еще не самое страшное. С рокового дня судебного разбирательства несчастный старец не имел минутки покоя, — ни дома, ни в кафе, ни за стаканом молодого вина, — бесконечные делегации, интервью, фотографы и бесконечные письма с просьбами о денежной помощи. «Бюргерклуб»{32} на своем ближайшем собрании постановил ходатайствовать о присвоении старичку Ноови звания почетного гражданина Вены и о награждении его медалью Святого Сальватора{33}. Старичка знал каждый ребенок, ибо учителя, обыкновенно предостерегающие юношество от чтения газет, на сей раз рекомендовали школьникам изучение статей, посвященных старику Зепплю Ноови, отмечая, что это — наилучший способ повторения отечественной истории, и просили отнестись к делу серьезно, так как на эту тему будет задано несколько домашних и классных работ. Короче говоря, старичок никогда и нигде не был уверен, что ему не будут докучать. В кругу друзей он неоднократно замечал с грустью, что хотя на суде и помирился с Розенбаумом, но вот шумихи этой он ему никогда не простит. В конце концов человеку хочется остаться наедине с самим собой!
Впрочем, последствия процесса затронули не только старичка Зеппля Ноови. Они распространились и на его внуков. В танцевальных залах госпожи Свободовой состоялась дружеская вечеринка, устроенная (пока что в долг) швейцаром Ратушного погребка, контролером городских омнибусов, виолончелисткой Мици и членом городского погребального братства, прибывшим в полной похоронной форме. Вечеринка была потрясающая. В Пратере годами еще будут рассказывать о ней; была выпита бочка швехатского пива, ликеры лились рекой, играли четыре турецких оркестра, Мици с подругами откалывали номера, а на другой день ни один полицейский пратерского отделения не явился на службу — по нездоровью.
Но этот вечер оказался прощальным. Пепи, Польдлю, Францлю и Мици пришлось скрыться от друзей, клянчивших у них деньги в долг. Приятели так и не разыскали их. Но кого не выследит коршун-ростовщик? А в Вене их немало. Они кружили и налетали, и внуки, одурманенные размерами предлагаемых ссуд, в конце концов не выдерживали и подписывали векселя за векселями, разумеется, с условием, что дедушка об этом никогда не узнает; а ростовщики все ссужали и ссужали, разумеется, с твердым намерением через три месяца явиться к дедушке и как следует слупить с него.
Надо сказать, эти ростовщики оказались весьма существенным фактором во всей истории со старичком Ноови. Потому что, когда прибыла делегация городской думы во фраках и в цилиндрах объявить благородному старцу о присвоении ему звания почетного гражданина Вены и что торжество вручения медали Святого Сальватора состоится в ратуше в будущий понедельник, она не застала старичка дома. Когда же он не вернулся и на следующий день, были предприняты отчаянные розыски. В черте города не было кафе, а от Бадена до Гринцинга ни одного винного погребка, где полиция не справлялась бы о старичке Ноови. Но он как в воду канул. Закрытое заседание лидеров христианско-социальной партии, экстренно созванное на квартире старейшины, выразило опасение, что причиною бегства послужила статья в последнем номере анархистского двухнедельника «Благосостояние — всем!» Уже в заголовке этой статьи был задан неделикатный вопрос: «Исправно ли платил старичок налоги?» Но закрытое заседание ошибалось: одновременно со старичком Зепплем Ноови исчезли и Альфред Розенбаум, и Пепи, и Польдль, и Францль, и Мици. Было установлено, что они выехали в Геную, а оттуда — неизвестно куда.
Об этом газеты уже не писали. Однако в журналистских кругах еще долго обсуждали этот случай. Однажды вечером, после закрытия биржи, корреспондент «Райхспоста», тот самый, который придумал красивый заголовок о старце, увенчанном лаврами венской славы, рассказывал за кружкой пива в «Ангеле-хранителе», что это старый трюк, что еще года три назад подобная же американская утка облетела европейские газеты. Тогда писали, что чей-то родной брат умер сто десять лет назад, а старикан растянул историю со сводным братом на двести четырнадцать. В конце концов выяснилось, что старый Зеппль Ноови и венцем-то не был, а происходил откуда-то из Брно{34}, причем редактор «Райхспоста» заметил, что эта мысль сразу пришла ему в голову, потому что на подобную безграничную глупость и в то же время такую потрясающую наглость истый венец вообще не способен.
Перевод М. Таловой.
КАРЬЕРА ЭДУАРДА ЖАКА{35}
Трудно понять, откуда в столь порядочной семье мог взяться такой ребенок. Когда Эда изредка появлялся в школе, учитель был не в состоянии с ним справиться и замечал, что печальный конец на виселице он предсказывал многим бездельникам, но уж Эда Жак обязательно кончит свою жизнь именно таким образом. Маменька плакала, а отец нещадно лупил сына. Однако это было возможно лишь до тех пор, пока Эда не выучился приемам джиу-джитсу{36} у бродячего акробата, которого он как-то встретил на Еврейских Печах{37}. И вот недели за три до своего пятнадцатилетия сынок так засветил папеньке правым кулаком в солнечное сплетение, а левым — в подбородок, что у старшего Жака на всю жизнь отпала охота применять к сыну отжившие педагогические методы. Этот двойной удар и бессознательная гордость своим первым большим успехом легли позднее в основу знаменитого удара Эдуарда Жака.
После того как Эду выгнали несколько ремесленных мастеров, он облюбовал улицу, разрешая матери содержать себя и подрабатывая на дешевые сигареты и пиво «стоянием на углу» и «ловлей птиц». «Стояние на углу» заключается в следующем: так называемый «угловик» занимает позицию на углу одной из жижковских улиц, подошвой ноги упирается в стену, руки засовывает в карманы. На нижней губе обязательно висит сигарета. Это — элегантности ради, к тому же так сигарету легко передвинуть из одного угла рта в другой. В такой позе «угловик» наблюдает за прохожими. По походке и лицам он заключает об их характерах, по размерам их сумок — об их социальном положении. Иной раз «угловик» отрывается от этого занятия — он может согласиться отнести к вокзалу чемодан (конечно, если он не очень тяжелый); ему на глаза может попасться никем не охраняемая ручная тележка, которую легко украсть и продать скупщику краденого. Но все это — второстепенные дела; главным остается угол улицы, дешевая сигаретка и изучение людей.
«Ловля птиц» тоже очень увлекательна. Правда, порой она сулит немало оплеух, и потому лучше осуществлять ее вдвоем. Но Эда предпочитал самостоятельные действия, чтобы ни с кем не делиться добычей. «Птицелов» осторожно крадется, пробираясь сквозь кусты скверов, ползет на четвереньках по газонам и нападает на неосторожных влюбленных. Внезапно вырастая перед ними, он обрушивает на них громы: «Что вы тут делаете? Я — из полиции нравов{38}. Идите за мной!» Ему, правда, мало кто верит, но когда Эда подносит ко рту полицейский свисток, его просят: «Не свистите!» — и начинают искать в карманах кошелек. Студенты — клиент постоянный, но платежеспособность их невысока; от молодых рабочих добьешься разве что пощечин; зато порой попадется этакий нервный пожилой господин, который может вознаградить за все предыдущие «осечки». В те времена, правда, ни Эда Жак, никто иной и не подозревал, что уже в этих мальчишеских проделках проявляется скрытая гениальность, которая со временем отольется в четкие формы и принесет избраннику славу и счастье. Разве не так было с Ньютоном, с Наполеоном?..
Восемнадцати лет Эда подружился с пожилой уличной девицей, рыцарски предложив ей свою защиту, а когда «барышню» выселили из города, он уехал вместе с нею в Теплице и, таким образом, к радости родителей и соседей, закончил свою деятельность в Праге. Впоследствии, возмужав, Эда вернулся к любимым занятиям своей юности, только они приняли более усовершенствованные формы.
Учитель, предсказывавший неприятный конец, ошибся в отношении Жака так же, как и в отношении его предшественников. Через шесть лет Эда прибыл в Прагу, увенчанный ореолом славы. За это время он сделал карьеру — в Иннсбруке, на военной службе. Первую звездочку он выслужил тем, что донес начальству об одном неблагонадежном солдате, который во время дежурства на полигоне вел с товарищами поджигательные речи. Вина солдата была доказана: в его сундучке нашли социалистические брошюрки и вскоре приговорили к трехлетнему заключению в крепости. Вторую звездочку ефрейтор Жак получил во время забастовки на шелкоткацкой фабрике в южном Тироле: он заколол штыком рабочего представителя и тем самым спас директора фабрики от возможного оскорбления. Но неограниченное доверие и уважение своих начальников Эда Жак завоевал позже, во время бунта словинских виноградарей. Правительство приказало свести и сжечь все виноградники на территории, зараженной филоксерой, и сержант Жак с такой энергией выступил против непокорных, что на месте осталось восемь убитых и одиннадцать раненых крестьян.
В последний год его службы полковник, поздравляя Жака с присвоением ему звания фельдфебеля, сказал:
— Вы хороший солдат и будто нарочно созданы для государственной службы. Мне бы не хотелось с вами расставаться, но так как вы решили поступить в пражскую полицию, — а я полагаю, что и там вы сможете сослужить добрую службу государю императору и родине, — то у меня нет возражений. Я поддерживаю вашу просьбу и пишу личное письмо моему близкому другу, пану надворному советнику Кршикаве{39}. Я поздравляю его с таким надежным пополнением. Если вы еще к тому же научитесь читать и писать, — что я вам настоятельно рекомендую, это весьма, весьма необходимо, дорогой фельдфебель, — то вы сделаете блестящую карьеру. До свиданья, мой бравый фельдфебель!
И он подал Жаку руку.
Так Эда Жак вернулся через шесть лет в Прагу. Но в то время он уже подписывал свою фамилию без галочки над буквой «Z» и выговаривал ее «Цак»{40}.
Полковник не ошибся: Эдуард Цак с его знанием людей, с его хитростью, энергией и талантом комбинатора был точно создан для службы безопасности. Его направили в политическое отделение полиции, и вскоре он стал правой рукой своего шефа, пана старшего комиссара Скршиванека. Задачей Цака было выслеживать неблагонадежные элементы и искоренять их. Он вынюхивал их и, как ищейка, хватал, ибо слова «неблагонадежный элемент» звучали для него как «ищи!» и «возьми его!» одновременно. Никто не умел так следить за посетителями окраинных кабачков, как Цак. Никто не умел столь энергично проводить допросы в полицейском участке, как Цак. Никто не мог сравниться с Цаком в свирепости при разгоне уличных демонстраций. Именно жандарм Эдуард Цак застрелил в 1905 году на углу Пршикоп и Гавиржской улицы ученика-ремесленника Губача;{41} это он в том же году возле музея отсек руку четырехлетнему ребенку; это старший жандарм Цак в 1909 году раскрыл антивоенный заговор;{42} это он выследил группу анархистов, занимавшуюся контрабандой сахарина;{43} это его использовали для провоцирования остравских шахтеров и северочешских ткачей{44}. Он был пугалом для всех социалистов, анархистов, прогрессистов{45}, «вольнодумцев»{46}, реалистов{47}, пацифистов и прочих поджигателей, а его воинственная фигура, его огромные торчащие в стороны усы будили почтение у каждого. Прием Цака пользовался огромной известностью и позднее был скопирован также будапештской полицией. Практически это осуществлялось так: арестованного брали за запястье, выворачивали ему руку и одновременно наносили такой удар кулаком по носу, что неблагонадежный элемент тотчас грохался на пол. «А ну, говори!» Если арестованный медлил, старший жандарм Цак, приподняв его, орал: «Ах ты мерзавец, ты что это кровь из носа пускаешь?!» — и повторял свой прием. После этого всякий или начинал говорить, или его уносили.
Конечно, сознание собственной значимости поднимает душу человека, зависть коллег к его успехам делает жизнь приятной, но тщеславный человек жаждет также внешних знаков благодарности. И Цак дождался. По его совету, с его помощью, на основании его давнего опыта была реорганизована вся государственная полиция, а когда ее несколько застоявшаяся кровь была освежена массовым вступлением на государственную службу приятелей и приятельниц молодости Цака, успехи пражской полиции стали настолько явными, что их заметили и в Вене. Цак стал знаменитым: одновременно со своим шефом, обер-комиссаром Скршиванеком, он был награжден орденом.
Но там, где кипит работа, случаются и ошибки: не избежала их и столь деятельная личность, как Цак. Его первая ошибка проистекала из положения, в принципе совершенно правильного: закон не канат, на котором граждане принуждены всю жизнь балансировать, а всего-навсего дорога, достаточно широкая, проходимость которой должны поддерживать именно исполнительные органы. Например, приказ о полицейском часе{48} безусловно справедлив: в самом деле, что это за порядок, если бы пьяным гулякам всю ночь дозволялось стучать тростями по железным ставням магазинов и под утро натыкаться на вагоны трамвая? Но, с другой стороны, ни один из мудрых законов вовсе не требует от граждан особого героизма. Никто не требует, чтобы буржуа, привыкший к восьми кружкам смиховского пива, с ударом второго часа пополуночи насильно вливал в себя остатки шестой и опрометью бросался домой, или чтоб игроки складывали карты в самый критический момент игры. И задача исполнительной власти — устанавливать равновесие между всеми этими противоречиями. А как именно будет устанавливаться это равновесие — зависит в свою очередь от того, насколько лойяльно тот или иной владелец кабачка относится к государству и к его органам.
Но вот в один прекрасный день умер пан Покорный, владелец «Золотого оленя». Вдова его продала заведение и, не будучи больше заинтересованной в любезности старшего жандарма Цака при истолковании понятия «полицейский час», потребовала шестьсот крон, которые он задолжал предприятию за выпитое пиво, сливовицу и в виде займов наличными. Когда Цак послал вдову к черту, она пожаловалась в полицейское управление. Разумеется, эта бесстыжая женщина так и не получила своих шестисот крон, зато она отсидела шесть недель за оскорбление, ибо Цак с помощью своих коллег доказал на суде, во-первых, что он никогда не переступал порога означенного кабачка, а во-вторых, что он там всегда полностью расплачивался. Дело закончилось беседой с паном обер-комиссаром; беседа велась в тоне весьма дружественном, но была Цаку несколько неприятна: шеф был вынужден сообщить своему подчиненному, что при таких обстоятельствах нечего и думать о назначении Цака инспектором и придется подождать, пока вся эта история забудется.
Однако произошел еще случай, который не только поставил под серьезную угрозу надежды Цака на инспекторство, но и закрыл источник славных доходов, обещавших Цаку пожизненное обеспечение в будущем. Как-то во время служебного обхода Цак встретился с одной из приятельниц своей юности, уже совершенно отцветшей и с заметно подорванными способностями к заработку. В два часа ночи, заметив эту даму под уличным фонарем, Цак шлепнул ее по спине, сердечно расхохотался ее испугу и тому, что она его не узнает; старая любовь вспыхнула новым пламенем. После нескольких дружеских встреч старший жандарм Цак проверил темперамент «барышни» и скрытые в ней таланты, после чего они вошли в соглашение, объединились и уже никогда больше не расставались. На деньги, охотно одолженные владельцами кабачков, винных погребков и кафе в цаковском участке, они сняли на Виноградах миленькую четырехкомнатную квартирку и отдались организации светских развлечений. Для участия в античных танцах в их салоне сходились сливки пражского общества и цвет молодого офицерства. На гостеприимстве зарабатывать не принято, и Цак брал плату только за уборку помещения и за тапера; но приветливая хозяйка тайно подсовывала дамам счета на вино, ликеры, черный кофе, — и жизнь текла довольно мило. Правда, когда владелица крупной колбасной, пани Бартошова, из ревности к интендантскому кадету выдала сей гостеприимный дом, стало казаться, что дело принимает скверный оборот. До суда, конечно, дойти не могло — посетители салона Цака были люди влиятельные, с положением, и Цак это прекрасно понимал, — но все равно было плохо.
Пан полицейпрезидент страшно бушевал, грозя всевозможными карами. Глаза его горели, и он размахивал кулаками перед самым носом подчиненного. Цак стоял перед ним, по уставу вытянувшись в струнку, руки по швам, и думал лишь об одном: черт возьми, попадись мне в руки эта колбасница, ох, и влепил бы я ей пару горячих!
Казалось, полицейская карьера Эдуарда Цака кончена. Но это было не так. Будто нарочно, в это время на железных дорогах началось пассивное сопротивление{49}. А в таких случаях старший жандарм Цак был незаменим. При сообщении об этом глаза его вспыхнули, усы встопорщились. «Что за безобразие?! — произнес он. — Как же теперь люди попадут в Хухле?{50} Ну, ладно, покажу я этим сволочам!» И принялся за работу. Он организовал разведывательную службу. Разослал своих людей на митинги. Установил связи, которые помогли ему знать до мелочей все, что происходило на самых тайных сходках железнодорожников, словно он сам там присутствовал. Через три дня в руках полицейского управления был точный список главных зачинщиков, и можно было подробно доложить обо всем в канцелярию наместника. О виноградской афере Цака перестали говорить, и пан надворный советник начал отвечать на приветствие Цака с прежней благосклонностью. Когда же до пана полицейпрезидента частным путем дошло, что за подавление пассивного сопротивления на железных дорогах он представлен к награждению орденом Железной короны III степени{51}, зная, что главная заслуга в этом деле принадлежит Цаку, он вызвал его в свой кабинет.
— Послушайте, Цак, вы весьма полезный человек! — сказал пан полицейпрезидент и, пристально поглядев на Цака, добавил: — Надеюсь, такая глупость, как тогда на Виноградах, не повторится?
— Честное слово, больше этого не будет, пан надворный советник. Но у меня старые родители, папаша больной, брат в ученье… Я должен помогать им, а жалованья не хватает.
— Хорошо, — сказал пан полицейпрезидент, — я все же решил сделать вас инспектором. Ведите же себя, как полагается инспектору!
И Эдуард Цак стал полицейским инспектором. Так еще раз подтвердился принцип, что даже для своих блюстителей закон отнюдь не канат, а дорога, достаточно широкая, чтобы по ней легко двигались те, кто уважает закон.
Но и столь высокое звание не ограждает от ошибок. Инспектор Цак еще по виноградским античным забавам знал некоего ювелира Бауэра; как-то раз он встретил его на Вацлавской площади.
— Как живем, пан Бауэр?
Слово за слово, и Цак узнал, что дела пана Бауэра из рук вон плохи, что он накануне банкротства. Потом они еще немного потолковали, и выяснилось, что выход из тяжелого положения есть. Это было бы, конечно, удивительной случайностью, но если бы в скором времени ювелирный магазин кто-нибудь ограбил, все могло бы кончиться хорошо, ибо склад пана Бауэра застрахован на четверть миллиона. Оба решили помочь случаю. Ювелир, хоть и был накануне разорения, все же обладал еще достаточными средствами, чтобы выплатить приятелю залог в сумме трех тысяч двухсот крон. Из этих денег восемь сотен взял в долг обер-комиссар Скршиванек, испытывавший в то время материальные затруднения и потому не поинтересовавшийся, откуда у его подчиненного столько денег.
— Пан Бауэр, — сказал инспектор Цак в ту ночь, когда они расставались после благополучно законченной работы, очистив магазин до последней нитки. — Ваши приходо-расходные книги в ажуре, самый опытный взломщик не мог бы ограбить лучше, колечки и камушки в надежном месте, с ними ничего не случится. Если вас, может, заметут на пару часиков, — так, знаете, с налету, — избави вас боже разевать пасть, не поддавайтесь на их штучки. Вы вне подозрений, никто ничего не сможет доказать, за это я ручаюсь.
Но ювелир Бауэр был трус, какого редко встретишь. Его не успели даже арестовать, только при осмотре магазина припугнули чуть-чуть, а он уж и побледнел, как стена, поджилки у него затряслись, он что-то забормотал, и вдруг — бац! Хлопнулся на колени и захныкал, как баба.
Это был сильный удар.
Тогда казалось, что вся жизнь Цака, все его труды и старания — все было напрасно, наступил конец. У пана надворного советника глаза были стальные и голос ледяной.
— Довольно, Цак! — сказал он. — Вы совершили много преступлений. Злоупотребление служебным положением. Сводничество. Соучастие в мошенничестве. Кончено! Этого, знаете ли, слишком много даже для служащего государственной полиции. Кстати, ваша сожительница помаленьку продолжает свою прежнюю деятельность, не думайте, что мы об этом не знаем. Но хватит! Ваше прошлое, ваш крест за выслугу… все кончено! Я жертвую вами. Вы послужите устрашающим примером. Не просите, все напрасно, я отдаю вас под суд.
Но кому же больше благоприятствовала мировая история, чем Эдуарду Цаку? Когда всплыла на поверхность виноградская афера, его спасло начавшееся как по волшебству пассивное сопротивление железнодорожников. И теперь, когда провалилось дело с ювелирным магазином, история снова пришла Цаку на помощь — в соответственно более крупных масштабах. Мнимое ограбление на Пршикопах состоялось в июле 1914 года, накануне объявления Сербии ультиматума, а через десять дней началась война.
Пражское полицейское управление гудело, как улей. Тут уж было не до таких мелочей, как подстроенное ограбление в ювелирном магазине! Речь шла о самом государстве; требовалось крайнее напряжение всех полицейских сил, чтобы оградить само существование, спасти карьеры столь высокие, что никому не дано увидеть предел их возможностей. Кто отважился бы лишать пражскую полицию ее лучших работников или хотя бы просто ослаблять ее энергию в самое ответственное время, когда надо было предотвращать революцию, душить в зародыше любую деятельность неблагонадежных элементов, разоблачать государственную измену, вылавливать шпионов, дезертиров, предупреждать диверсии на железнодорожных мостах и покушения на членов высочайшего дома… Да кто же охватит разом все опасности, все бремя ответственности?
Инспектор Цак ринулся в работу, как цирковой борец. Одиночные камеры наполнялись арестантами, которых поставлял он, а его методы допроса имели прежний успех. Пан надворный советник, правда, не отвечал еще на его приветствия, а шеф государственной полиции, обер-комиссар Скршиванек, — который, кстати, еще не вернул те восемь сотен, — был холодно-официален. Но когда Цак в десятый раз явился к нему с рапортами своих сыщиков, присовокупив к ним собственные новые советы, которые уже столько раз оказывались неоценимыми, обер-комиссар в упор поглядел на него и произнес отечески-строгим тоном.
— Вы знаете, Цак, в службе — единственное ваше спасение.
Инспектор Цак погладил свой огромный ус и не сказал ни слова. Но это движение снова было полно самоуверенности. Все было забыто, Цак опять оказался на коне. И он, засучив рукава, взялся за дело.
По вечерам, переодевшись в штатское, он заходил в трактиры, подсаживался к посетителям, спорившим о войне, и заводил разговор.
— Да бросьте вы, разве это протянется долго? Австрия про. . . . . войну айн-цвай[30], а старый мерзавец чертовски погорит…
Старый мерзавец — это был государь император. И когда посетители трактира искоса поглядывали на Цака, не зная, доверять ему или нет, он добавлял:
— А вы знаете, что русские уже под Остравой? Мой зять работает в канцелярии наместника, там уже получили это известие и совсем обалдели. — И он весело смеялся: — Ей-ей, хотите верьте, хотите нет…
Но эта вечерняя охота была просто личным развлечением инспектора Цака, своего рода спортивной разрядкой после дневных трудов, ибо его тщеславие и его задачи шли гораздо дальше. Дело о русских листовках, призывавших к государственной измене{52}, состряпал он, заговор югославских студентов в Праге{53} выдумал он, аферу простеевской гимназии разоблачил он, он раскрыл организацию остравских заговорщиков, он отправил на казнь редактора Кнотека{54}, он нашел нити к делу о швейцарской пуговице{55}, не вошедший в историю материал Венского процесса{56} был делом рук Цака. Усердие его не знало устали, находчивость — предела. Это было его время. Разоблачать, раскрывать! И если не хватало прямых доказательств, он умел их организовывать. В письме и чтении он был, правда, не силен, как и во времена своей службы в армии, но стоило последовать его совету — например, вписать в конфискованную записную книжку цифру, имя, адрес, вставить в протокол невинную фразу, и доказательство вины становилось неопровержимым — преступника можно было хоть сейчас отправлять на виселицу. Это ему, Цаку, пришла в голову гениальная мысль размножить в типографии «Богемия» русскую листовку и разбросать ее в тысячах экземпляров, чтобы заполучить бесспорное доказательство антигосударственных заговоров. Тюрьмы и лагери для интернированных были набиты до отказа. Великие люди проявляют себя только в великие времена!
Когда на Венском процессе было вынесено четыре смертных приговора, пан полицейпрезидент, встретив Цака на лестнице, с серьезным видом обратился к нему:
— Поздравляю вас, пан участковый инспектор, — и подал ему руку.
Владельцы трактиров были забыты! Винограды прощены! Случай на Пршикопах заглажен! И в своем поздравлении пан полицейпрезидент назвал его уже участковым инспектором! Перед Эдуардом Цаком замаячила карьера и великая слава.
О святой Вацлав, покровитель земли чешской{57}, каким прекрасным был день 28 октября 1918 года!{58} На Вацлавской площади разразилась революция, причем нигде в поле зрения не было ни одного полицейского. Чешский народ, ликуя и распевая, искоренял Австрию, а так как не нашелся ни один человек, который бы стал этому препятствовать, то Австрия и была искоренена без остатка. Народ срывал с солдатских фуражек кокарды, а с офицерских сабель — темляки и топтал с таким наслаждением, словно отплясывал на телах сразу двух императоров и эрцгерцога Фридриха впридачу{59}. Народ разбивал вдребезги двуглавых орлов на воротах казарм, ломбардов, податных и интендантских учреждений или оттаскивал этих чудовищ к Влтаве и топил, как котят, воздавая им тем самым почести, достойные только членов высочайшего семейства или военных поэтов . Появились отряды «соколов»{60} со стремянками и банками лака; они перечеркивали на почтовых ящиках буквы «и.-к.», что означало «императорско-королевский», а где на вывесках было: , замазывали немецкие окончания имен, оставляя только чешские. Белая Гора была отомщена, трехсотлетнее иго сброшено{61}, и австрийский дух истреблен. В тот славный день в каждом десятом человеке пробудился ораторский талант и исступленное желание демонстрировать его на каждом углу, у всех памятников и со всех балконов. Домовладельцы приказали дворникам выставить из чердачных окон флаги, и красно-белые полотнища{62} весело полоскались на ветру. Музыканты собирались, обдумывая, где выгоднее всего играть сегодня вечером. Торговцы галантереей зарабатывали бешеные деньги, на двухсантиметровых отрезках трехцветных лент{63}, клубки которых они в течение четырех лет прятали на дне своих ящиков. Народ ликовал, народ охрип от пения и убеждал самого себя, что нет на свете ничего прекраснее свободы. Собственно говоря, он был прав.
Но этот всеобщий восторг никоим образом не разделяло пражское полицейское управление; не разделял его, конечно, и участковый инспектор Эдуард Цак.
Уже с самого раннего утра, когда в канцелярии наместника было получено сообщение о капитуляции Австрии, в полицейском управлении воцарилось настроение яростного отчаяния. Затем начали появляться сыщики с рапортами о том, что на улицах бесчинствуют неблагонадежные элементы. Участковый инспектор Цак бегал по зданию, как волк в клетке. Он появлялся то в дежурке, то наверху, в канцелярии, гремел саблей по лестницам и коридорам, усы его топорщились, и рука невольно тянулась то к револьверу, то к карманам, набитым патронами. О начальстве же не было ни слуху ни духу. Личный состав стоял наготове, в полном вооружении, силы жандармов еще с утра были подкреплены патриотической речью и двойной порцией рома, все рвались в бой. Затем кто-то сказал: «Ждать!» — и вот полицейские ждали.
— Черт побери, да когда же нас пустят в дело?! — сипел Цак.
Если Прага еще не знает, кто такой участковый инспектор Цак, то сегодня — тысяча проклятий! — она это узнает! Сегодня Цак умоет свои руки в крови. Тут речь шла уже не о службе государю императору и родине, не о карьере — речь шла о жизни! Ибо Цак прекрасно понимал, что с ним станется, если неблагонадежные элементы возьмут верх: он прямиком отправится на виселицу. Деятельность его известна, в Праге его знает каждый ребенок… Но нет, не знают его еще! То, что было до сих пор, — просто игрушки. Он не сдастся. Только сейчас он покажет, кто он такой и на что он способен!
Участковый инспектор метался по полицейскому управлению, гремя саблей по лестницам.
Наконец, он нашел своего шефа, обер-комиссара Скршиванека. Тот был погружен в тихую беседу с паном полицейпрезидентом. Беседа велась в довольно необычном месте — на третьем этаже, перед дверью архива. Цак остановился поодаль. Лица пана надворного советника он не видел, но лицо шефа было серым и дряблым, как говяжья требуха на крюке мясника, а в руках он мял платок, которым непрестанно вытирал потевшие ладони.
Пан полицейпрезидент исчез за дверью архива, и Цак приблизился к своему шефу.
— Что же это будет, пан обер?! — взволнованно крикнул он.
Обер-комиссар выпучил на Цака глаза, словно увидев перед собой привидение.
— Откуда я знаю?! — заорал он с перепугу. — Откуда мне знать?! — Но тут же, будто устыдившись собственного крика, добавил покорно: — Не знаю, Цак. Ничего я не знаю, и пан надворный советник ничего не знает, и пан наместник ничего не знает. — Он схватил руку участкового инспектора, как бы ища у него защиты. — Никто ничего не может знать, Цак.
И эта фраза прозвучала, как голос заключенного в самом нижнем подвале тюремного карцера.
Цак пошел обратно.
— Дожили! — процедил он сквозь зубы, и тут в животе его заурчало.
Сыщики приносили с улиц вести Иова{64}. В Праге свирепствует революция: с памятника святого Вацлава говорят речи, на всех углах говорят речи, с липы перед гостиницей «Штепан» говорят речи, люди поют «Гей, славяне!»{65} с припевом «С нами Русь, кто против нас, того сметет француз!»; из кафе «Континенталь» неблагонадежные элементы вынесли гипсовые бюсты императора Карла и императора Вильгельма, отбили носы у обоих величеств, а те куски, которые остались от бюстов, растоптанных в пыль, люди теперь завертывают в носовые платки на память…
Наверху, во втором этаже, явно потеряли голову. Они сидели бледные, лихорадочно звонили по телефону или ждали телефонных звонков, всем было некогда не только слово промолвить, но даже переглянуться. А потом вдруг, как пистолетный выстрел в спину…
В дверях дежурки появился обер-комиссар Скршиванек.
— Никто никуда не пойдет! Оставаться на месте! Отставить оружие!
Он прокричал все это с перепуганным видом и убежал.
— Та-а-ак, — с присвистом вырвалось у Цака, словно кто-то проколол шилом мех и теперь из него выходит воздух. Усы у Цака встали дыбом и приняли подобие веера. И страшно заболел живот.
Он поплелся избавиться от этой боли, а выйдя из клозета и застегнув на ходу штаны, он, позабыв всякую дисциплину и перепрыгивая через три ступени, помчался к своему шефу Скршиванеку. Но, когда распахнулись двери комиссарского кабинета, глазам его предстало ужасное зрелище. Посиневший обер-комиссар Скршиванек валялся перед паном полицейпрезидентом на коленях и истерически выкрикивал:
— Сожгите это! Христом богом молю вас, пан советник, уничтожим это!
Цак тихонько вышел, вернулся в дежурку и рухнул на лавку. Скверно!
Пить!
На длинном столе для дежурных полицейских стоял графин с водой. Участковый инспектор допивал уже второй. За пивом не пошлешь, а водку — кроме положенной порции для поднятия духа — пан полицейпрезидент в дежурке не терпел. Цак сроду не выпивал столько воды сразу. Но жажда не проходила.
К полудню неблагонадежные элементы появились у самого полицейского управления. Они кричали и пели. Кто-то ораторствовал. В здание вошли пятеро — их никто не остановил: они проникли в канцелярию полицейпрезидента, а так как пана надворного советника нельзя было и с собаками сыскать, они заявили обер-комиссару Скршиванеку, что берут полицейское управление в свои руки. А на улице, под взрывы смеха и ликующие клики, со стены стаскивали двуглавого орла. Ни одна рука не поднялась, чтобы помешать этому.
Было действительно скверно.
И тут в душу участкового инспектора Эдуарда Цака вошел ужас. Будто кто-то насыпал ему в брюшную полость битого стекла. Цак корчился и извивался, как червяк, зажатый меж пальцев рыбака. И тут сказала ему его толстая кишка: «Ах ты негодяй! Довольно ты намучил меня в жизни. Теперь пришел мой черед. Двигайся быстрей, приятель! Бегом! И с этого момента я перестаю отсасывать всякую жидкость из твоего тела, сукин ты сын!» Цак вскочил от адской боли. В отчаянии он стремился поскорее добраться до места, где можно было извергнуть из себя всю боль, весь ужас… и то, что мучило Цака, со свистом и брызгами вырвалось из него, как из шланга вода. Облегчившись, Цак решил остаться там, где сидел. Но страх не отпускал его: он расползся из брюшной полости по всему телу, и участковый инспектор убедился, что ни капля этого страха так и не ушла из него и не уйдет, хотя бы у него лопнули и вывалились все внутренности. Он уперся о стену лбом, мокрым от холодного пота, и, вдыхая аромат помещения открытым ртом, шептал в изнеможении:
— Повесят, как пить дать!
Впервые в жизни ему было ясно, что предсказание старого учителя исполнится.
Когда шум снаружи улегся, участковый инспектор потихоньку выбрался из уборной. Позеленевший и слабый, он поплелся к обер-комиссару.
То была печальная встреча. Верные соратники стояли лицом друг к другу — участковый инспектор у двери, его начальник у письменного стола, оба одинаково бледные и перепуганные. Ни один из них не мог сказать ни слова утешения другому. И шеф государственной полиции мог ответить на немой вопрос своего подчиненного только грустным пожатием плеч.
Когда Цак сходил вниз по лестнице, он встретил комиссара Виммера. Тот был уже в штатском. Он окинул Цака взглядом с головы до ног и как-то брезгливо бросил:
— Приятель, надел бы и ты штатское!
«Штатское, — тяжело ворочались мысли Цака. — Виммеру что, он из уголовной полиции, а мне и штатское не поможет!»
К вечеру Цак все же переоделся. Он выбрал короткое серое зимнее пальто с заячьим воротником и английское спортивное кепи, какие носят пражские сыщики. Вся суть детективной службы состоит в том, чтобы сотрудники тайной полиции как можно меньше отличались от остального населения. Поэтому, видимо, полицейское управление облекает их в форменную одежду, — именно в такие полупальто с заячьим воротником и английские кепи. Впрочем, об этом секрете властей, кроме пражских воров, теперь уже мало кто знает. Когда участковый инспектор Цак преобразился в штатского человека, он осторожно выглянул из ворот и, убедившись, что всюду спокойно, пошел быстрым шагом, стремясь как можно скорее оказаться подальше от здания полицейского управления. Он двинулся к своему дому окольным путем — от Микуландского до Вышеградского проспекта, мимо Института патологии на Винограды, стараясь ни с кем не встречаться. Он был слаб, как осенняя муха, ноги у него болели.
Супруге своей, которая вне себя от волнения бросилась ему навстречу, он сказал единственное слово: «Пшла!» — разделся и бросился на постель. Наступающая ночь была полна свинцовых сновидений, и в каждом из них фигурировала виселица, вспоротые животы и трупный запах тюремных карцеров. Он вскрикивал во сне и просыпался весь в поту.
Утром он подстриг свои могучие усы, превратив их в английские усики, и, поглядевшись после бритья в зеркальце, ощутил примерно такое же чувство, какое испытывают петухи с оторванным хвостом или священники-еретики, которым кирпичом сделали тонзуру{66}. Жила ли в душе Цака хоть искорка надежды, которая оправдывала необходимость такого добровольного уродства? Надежды на то, что за ночь, паче чаяния, произошло какое-нибудь чудо? Если и теплилась в нем такая искорка, то она погасла совершенно, как только он вышел на улицы, украшенные флагами и полные неблагонадежных элементов, которые толпами валили к центру города под ликующие клики и пение изменнических песен. Снова почувствовал Цак, что у него под кожей черепа забегали мурашки. Он решил посмотреть, как обстоят дела в районе полицейского управления, и опять двинулся в обход, минуя центр Праги, чтобы поменьше встречаться с людьми. Счастье его, что освобожденный народ был слишком занят пением и ораторскими выступлениями! Походив немного по улицам вокруг полицейского управления и убедившись, что там ничего не происходит, участковый инспектор проскользнул в ворота.
Но уже первые вести, услышанные им, обрушились на его голову мощными ударами. Пан полицейпрезидент Кунц сбежал. Пан наместник Коуденхов исчез! Пан командующий гарнизоном Кестранек уехал! Патер Альбанус{67} скрылся! В здании толпилось множество посторонних лиц. А вот и воззвание временного правительства со всеми подписями, оно висит на стене в подъезде. Когда Цак прочитал эти подписи, кровь застыла в его жилах.
— О господи! — простонал он.
Материал против Крамаржа{68} собирал он, Цак, а Крамарж теперь премьер-министр! У Рашина{69} делал обыск он, Цак, а Рашин теперь — министр! Клофача{70} он отправил в Терезинскую тюрьму, а Клофач теперь тоже стал министром. Аферу с пуговицами раскрыл Цак, а Соукуп{71} — тоже министр! Врбенскому{72} он лет пятнадцать тому назад из-за каких-то анархистских прокламаций так стукнул кулаком по лицу, что молодой человек рухнул на пол, а Врбенский теперь — тоже министр! Пани Масарикову и барышню Масарикову допрашивал он, барышню он лично возил в Вену, а папаша ее нынче — президент!{73}
Участковый инспектор, полагаясь на свой штатский костюм и измененное лицо, бродит среди незнакомых людей, но, увы, кое-кто из них ему все же знаком, и даже слишком хорошо, — это всякие подозрительные личности. Цак проходит мимо своих коллег, не снявших форму, мимо начальников, но никто не обращает на него внимания — то ли всем некогда, то ли с ним не хотят иметь дела, то ли его просто не узнают. Он заглянул и в помещение для дежурных полицейских. О господи! Цак поскорее закрыл дверь. Там, обращаясь к полицейским, произносит речь некий неблагонадежный элемент, которого Цак вот уже три недели тщетно разыскивал по всей Праге. Ох-ох-ох! Участковый инспектор скорчился. Неужели повторятся вчерашние муки?!
Цак поднялся наверх, в кабинет шефа государственной полиции Скршиванека. Надежды он, правда, не искал и там, но Скршиванек был по крайней мере товарищ по несчастью. Вместе они пережили много хорошего и плохого, годами работали рука об руку, и судьба их была одинаковой. Восемь сотенных от дела по ограблению ювелирного магазина пан обер-комиссар так и не отдал еще Цаку; участковый инспектор снабжал своего начальника мукой и салом в течение всей войны, за это пан обер-комиссар помог ему выцарапать ювелира Бауэра из подследственного заключения и отправить на фронт, где этому трусу была предоставлена возможность геройски пасть на поле чести и славы за родину и государя императора. Но какой во всем этом толк теперь?
Вид кабинета обер-комиссара Скршиванека поразил Цака. Шеф спокойно сидел за письменным столом, а над ним висел портрет Масарика. Бог знает, где его так быстро раздобыли! Возможно, конфисковали у какого-нибудь арестованного государственного изменника. Портрет государя императора тоже еще был здесь, но он стоял на полу, в углу, повернувшись к комнате задней стороной, обильно покрытой паутиной: но все же он был здесь — и обоих господ можно было поменять местами за десять секунд.
Растерянный взор Цака обратился к шефу, выражая настойчивый вопрос. Но тот смог в ответ лишь пожать плечами.
— Смываться, — прошептал Цак.
Пан обер-комиссар вторично пожал плечами.
— Пан обер, смотаем удочки, пока не поздно!
— Куда бежать-то?
И верно — куда?
Цак некоторое время с безнадежным видом разглядывал пол. Потом собрался уходить. Но шеф остановил его.
— Погодите, Цак, присядьте на минутку! — сказал он очень серьезно. И, когда участковый инспектор сел, начальник государственной полиции заговорил:
— Понимаете, я ничего не утверждаю. Я еще не знаю, но… Видите ли, пан коллега Бинерт{74} будет теперь полицейпрезидентом. Конечно, трудно что-нибудь сказать, но все же он как-никак коллега. Вчера я до двух часов ночи беседовал с неким высокопоставленным лицом — понимаете, из нынешних. Не стану отрицать, я человек осторожный и предусмотрительный, я оставил для себя кое-какую лазейку, так что и теперь еще у меня есть некоторые знакомства. Разумеется, его величеству почет и уважение, но если правда, — а пока это похоже на правду, — что его величество уже не может покровительствовать нам, придется поискать себе других покровителей. Я и делал это в течение последнего года, и у меня есть значительные заслуги — я говорю об этом с гордостью — в деле создания Чехословацкой республики. Не стану ни утверждать, ни отрицать чего-либо, но возможно, что все окажется не так уж скверно, как вы себе представляете. Я вас не брошу. Столько лет мы работали вместе, у нас нет секретов друг от друга, и нецелесообразно было бы нам теперь расставаться. Ждать, Цак! Выжидать! Не лезть на рожон! Пока еще ни с кем ничего плохого не случилось, а теперь здесь начнут руководить гуманными методами{75}.
— Что это?
— Гуманный?
— Ну да! Это слово я еще не слыхивал.
— Это значит, что теперь все надо делать добром, по-хорошему, путем эволюции, и никого нельзя притеснять.
— Мгм… — прикидывал Цак. Правда, эти методы не согласовались с принципами, которыми он руководствовался до сих пор, но в данной ситуации он ничего не имел против таких соображений.
Скршиванек попрежнему сидит за своим столом! Вот главное, что понял Цак за сегодняшнее утро. Правда, ничего определенного еще нет, но робкий вопрос: «А ты чем хуже, Эдуард?» — все же затрепетал где-то в груди. В тот день участковый инспектор занимался тем, что разыскивал старые протоколы, рапорты и приказы, подписанные им, и над фамилией своей, изображенной корявым, нетвердым почерком, всюду ставил огромную перевернутую галку над буквой «Z» и жирную черту над буквой «A», возвращая ей прежнее, чешское звучание.
Утверждать, что в следующие дни на душе участкового инспектора Жака было спокойно, пожалуй, нельзя. Гуманисты, не гуманисты — таким глупостям он не верил, а обер-комиссар Скршиванек, если только это будет ему выгодно, выдаст Жака при первой возможности, — точно так же поступил бы и сам Жак по отношению к своему шефу, если б это пошло ему самому на пользу. Посему самочувствие Жака было немногим лучше, чем в первый день, а то, что вокруг все еще ничего не происходило, не могло обмануть старого профессионала. Участковый инспектор Жак действовал совершенно так же, никогда не торопя событий. Жертва успеет успокоиться, даст ввести себя в заблуждение мнимым спокойствием, и в тот самый момент, когда она считает себя в наибольшей безопасности, — хватай ее за шиворот да бей в рожу — на тебе, сволочь! В такой внезапности и заключалось главное наслаждение охоты, и теперь такой жертвой будет Жак. Дурные сновидения попрежнему преследовали его, он все так же потел по ночам и вскрикивал во сне.
Но прошло несколько дней, и вот однажды утром участковый инспектор вошел в кабинет своего начальника совершенно преобразившимся. Глаза его сияли, и он старым, исполненным самоуверенности движением поднял руку к лицу, чтобы погладить усы. Правда, их там не было…
— Знаете ли вы новость, пан обер?
— Новость? Ну-ка!
— Обнаружены русские большевики. То есть чешские, — ну, из России{76}.
— Что?! — вскочил обер-комиссар Скршиванек, — Что вы говорите?!
— Да уж то, что слышите.
Взор обер-комиссара устремился куда-то вдаль. Потом Скршиванек высоко поднял брови и свистнул:
— Фьююють!
Точно таким же долгим «Фьюють!» выразил свои чувства рано утром и участковый инспектор Жак.
— Что вы знаете, Цак, — пардон, — пан Жак, говорите!
Участковый инспектор отрапортовал.
— А ведь это славное дело, Цак.
— Еще бы, пан обер, известно.
Скршиванек принялся ходить по кабинету. Потом сел. Задумался. Потом опять вскочил с горящими глазами.
— Цак, за работу! За работу, за работу, за работу! Это нам посылает сам господь бог. Мы снова станем незаменимыми. Наше дело выиграно! Пан Жак — за работу!
Участковый инспектор вышел. Но через полчаса он появился снова.
— Пан обер-комиссар, — сказал он. — Я только вот что хотел спросить: а что, пан министр внутренних дел тоже гуманист?
— Не знаю — думаю, нет.
— Послушайте, пан обер-комиссар, а не лучше было бы заготовить какие-нибудь документы или подстроить этакое небольшое большевистское покушеньице?
— Нет, Цак! Этого я боюсь. Быть может — позднее, но еще не теперь. Ничего не надо в письменном виде, только устно. Слухи! Как можно больше слухов! Я уже разговаривал по телефону с верхами. Четыре человека говорили со мной, и каждому приходилось повторять одно и то же. И все они делали паузы в разговоре, и у всех был какой-то неуверенный тон. Страх — вот наш лучший помощник. Теперь важно только поддержать в них этот страх и по возможности еще увеличить. Пускайте слухи среди народа! Кое-какие лозунги мне уже пришли в голову: тайные инструкции Ленина; директивы устраивать покушения и уничтожить республику в корне — это выражение «уничтожить в корне» вы запомните, оно очень эффектно. Далее — объединение с немцами, венграми, евреями и Габсбургами;{77} ввоз оружия, убийства легионеров;{78} несколько большевиков уже схвачено, и у них оказались золотые цепочки вместо завязок на кальсонах, доллары в двойных подметках, бриллианты в банках из-под гуталина, — короче, придумайте еще что-нибудь в этом роде, вы в этом сами превосходно разбираетесь. А когда слухи распространятся и обрастут подробностями, собирайте их по трактирам и приносите сюда! С журналистами держитесь как можно загадочнее и угощайте их лишь глухими намеками — они попадутся, как мухи на клейкую бумагу!
— Ясно, пан обер. Сегодня я подумал еще об одной вещи. Хорошо было бы составить список лиц, которых большевики собираются прикончить. Я уже сделал такой список, кажется, никого из главных не пропустил. Понимаете, пан обер, как все эти дядьки взбесятся, перевернут республику вверх тормашками, а наше дело будет в шляпе. И тогда уж мы будем вертеть господами и заставим их плясать под нашу дудку.
Обер-комиссар Скршиванек долго размышлял, наконец произнес:
— Слушайте, Цак, а вы удивительно хитрый парень!
И Эдуард Жак уже занесся так высоко, что ответил на эту лесть только пожатием плеча и кривой ухмылкой.
— Главное, знать, что да как, — сказал он, — а вы намедни мне сами это изволили подсказать.
— Что я вам подсказал?
— Ну, как теперь следует работать.
— Как же именно?
— Да эволюция…
— Ага! Прекрасно! — вспомнил пан комиссар.
У инспектора Жака был еще один вопрос:
— Большевиков этих привести?
— Еще нет. Так, недели через две. К тому времени, полагаю, ситуация созреет.
Ровно через две недели Эдуард Жак привел большевиков. Но через несколько часов было приказано их выпустить. В то время участковый инспектор уже полностью обрел былую самоуверенность; он ворвался в кабинет своего шефа, глаза его горели, как у гончей, которую хозяин все не спускает со своры, а английские усики его встопорщились от ярости.
— Слушайте, пан обер! — заорал он еще в дверях. — На такую эволюцию я, знаете, что хотел…
— Ничего не поделаешь, пан Жак, — пожал плечами шеф, — придется нам к этому привыкать. Вы хорошо поняли, что такое эволюция, теперь вам придется усвоить еще и понятие «гуманность». Но, — и Скршиванек прищурил левый глаз, — не беда, Цак, не обращайте внимания. Всё в наилучшем порядке. В наи-лучшем порядке! Это вам говорю я. Все еще будет. Погодите только! Наша взяла по всей линии. Республика нуждается в нас обоих так же, как в нас нуждался государь император. Мы незаменимы, Цак, и ваши страхи были потрясающей глупостью. Скажу вам и еще кое-что, над чем я раздумываю вот уже несколько дней: настоящие владыки мира — это мы, история и люди работают только на нас. Правительства приходили и уходили, императоры умирали, а мы оставались. Монархия погибла, а мы ее пережили. Идея династии сменилась идеей демократии — а мы попрежнему здесь, на месте! Потому что мы нужны всякому, кто хочет властвовать. Но властвуем-то, собственно, мы, Цак! Мы властвовали над монархией и будем теперь властвовать над республикой. Главное — выждать свой срок, пан Жак, вот увидите!
Пан обер-комиссар Скршиванек не ошибся.
Старая полицейская слава вернулась. Вернулась в полном великолепии и мощи и обещала цвести и расти, возвышаясь над людскими помыслами.
Участковый инспектор Эдуард Жак был скептиком и долго не верил в это. Но старший инспектор Эдуард Жак стал оптимистом, ибо декабрь 1920 года убедил его окончательно. Это он, старший инспектор Жак, руководил вооруженным нападением на Народный дом;{79} это он на другой день, прячась за столбом уличного фонаря, расстрелял в толпу на площади Сейма все запасные обоймы своего пистолета. А когда площадь была очищена и на мостовой остались одни раненые, он вышел из своего укрытия, встал, широко раздвинув ноги, в пятидесяти шагах от своей команды и бросил вокруг себя торжествующий взгляд.
— Н-но! — сказал он удовлетворенно, и это «н-но» означало: «Что ж вы, люди добрые, сразу мне не сказали, два года тому назад, чего вы, собственно, желаете и как вы себе все это представляете?»
И когда он в последующие дни в полицейском управлении снова практиковал свой знаменитый удар в лицо и орал арестованным: «Ах ты, мерзавец, ты кровь пускать, а?!» — он чувствовал себя совершенно счастливым, и с сердца его спал последний камень недоверия прошедших месяцев. Тогда же он воспылал горячей приверженностью к гуманности. Он понял, что это всего лишь новое обозначение прежней сути, всего лишь новое выражение старой жажды властвовать. И Цак вспомнил слова своего начальника: «Пока люди будут стремиться к власти над людьми, господином будет он, старший комиссар Эдуард Жак». Он понял, что гуманности не только не надо бояться, но что ее следует любить так же, как некогда предписывалось любить Австрию и государя императора. И Жак стал гуманистом. Восторженным и преданным.
— Эволюция — она должна быть, — отстаивал он по вечерам в трактирах свое убеждение. — А кто против гуманности, то я той сволочи так смажу, что у него зубы выскочат сдвоенными рядами.
Жак снова отрастил свои могучие усы.
История справедлива, и судьба вознаграждает такие цельные натуры, как Эдуард Жак. Как-то он вернулся домой в полной парадной форме, и лицо его сияло не меньше, чем пуговицы на мундире. Сегодня он был представлен министру внутренних дел и теперь возвращался от него.
— Ну, старуха, — обратился Жак к супруге, — я советник полиции. Пан министр{80} сказал мне: «Нам теперь не политики нужны, а специалисты. Вы верно служили Австрийской монархии, и это надежный залог того, что и нам вы будете служить так же преданно». Еще бы, конечно буду, сама понимаешь! — И новоиспеченный советник полиции ударил себя в грудь. — Меня переводят в Кошице{81}, там я буду сворачивать шеи неблагонадежным элементам. Пан министр сказал еще, что если я с этой работенкой справлюсь, то меня назначат жупаном в Подкарпатскую Русь{82}. А ты будешь вельможной пани жупаншей. Тогда, глядишь, снова примешься за свои аглицкие танцы.
— Античные, — поправила пани советница.
— Э, какая разница!
Короче, старый учитель ошибался. Повешение Эдуарда Жака пока что было отложено.
Перевод Н. Аросевой.
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ{83}
Первого июля на Староместской площади благодарный народ хоронил неизвестного солдата, погибшего у Зборова{84}.
Церемонии, связанные с погребением безыменных героев, проникли в Прагу, как и все моды, из Парижа. Чехословацкое правительство также решило, что патриотический культ безыменных героев прекрасен, благороден, политически целесообразен и полезен в целях военного воспитания. По окончании дипломатических переговоров с Польшей в Зборов была направлена военная комиссия; близ деревни Цецовы, на поле, засеянном просом, она раскопала кучку жалких костей солдата, которого пять лет тому назад санитары бросили в яму раздетого и, возможно, еще подававшего признаки жизни. Тем временем другая чехословацкая комиссия в тысяча трехстах километрах от этого места выгребла из известковых осыпей Альп кости итальянских легионеров{85}, которые были захвачены прямо на посту и которых эрцгерцог Фридрих{86} приказал повесить на страх всем изменникам и ради собственного удовольствия.
Останки солдат были уложены в гробы, привезены в Прагу и выставлены в Пантеоне. И тут, прикрытые флагами и венками, они стояли средь пальмовых рощ, у подножья их возвышались массивные серебряные подсвечники, а вокруг все было увешано шелковыми лентами и наполнено благоуханием цветов. Почетный караул солдат и спортсменов-соколов застыл с суровыми лицами и саблями наголо.
Проходило множество народу. Рыдали матери, хмурили брови отцы и братья павших в войну солдат, учителя приводили сюда школьников и говорили им: «Мальчики, сохраните в памяти это зрелище! Вот как отечество вознаграждает героев, отдавших за него свою жизнь. Их удел — вечная слава и вечная память!»
Первого июля, гробы, укутанные в национальные флаги, поставили на лафеты и в сопровождении почетного караула повезли на Староместскую площадь мимо стоявшей тесными шпалерами публики. Здесь уже были построены войска и по специальным приглашениям собрано все, что было в нации благородного и достойного уважения: правительство, парламент, высшие чины, дипломаты, высшее духовенство, представители науки, финансисты и коммерсанты, иностранные гости, дамы и девушки в национальных костюмах. Площадь была залита солнцем и красками.
Со стороны Целетной улицы зацокали подковы и загрохотали колеса орудий. В торжественной тишине проиграл горн. Раздалась команда офицеров, солдаты щелкнули каблуками, ладони их шлепнули о приклады, знамена склонились, и солнце ярко осветило лысины, освобожденные от цилиндров и котелков.
Затем, когда лафеты с гробами были расставлены, на украшенную трибуну стали подниматься один за другим ораторы и произносить речи, изобилующие умилением, возвышенными патриотическими чувствами и клятвенными заверениями.
И как раз в тот момент, когда приматор города, просклонявший на все лады «неизвестного безыменного героя Зборова», уже заканчивал свою речь, случилось это странное и и действительно беспримерное событие: бело-сине-красный флаг на гробе подозрительно зашевелился и упал вместе с крышкой. В гробу сидел солдат. Он вытер рукавом мундира лоб и проворчал:
— Черт побери, ну и жарища тут у вас!
Вся Староместская площадь чуть приподнялась, военные фуражки и цилиндры, дамские шляпы и головные платки дрогнули. Происшествие было слишком неожиданным и столь ошеломляющим, что изумление и не могло бы проявиться более бурно.
Солдат потянулся, затем перекинул ноги и сел на край гроба. Щуря глаза на солнце, он оглядел площадь, весело подмигнул отцу города, стоявшему как раз против него на трибуне, и сказал:
— Да не бойтесь! Я ведь такой же человек, как и вы!
Девушки в народных костюмах взвизгнули. Они хотели было пуститься наутек и разбежаться в своих ярких нарядах по всем углам площади, распространяя панику, но случившийся поблизости солидный господин энергично воскликнул: «Спокойствие, господа. Это из сегодняшней программы!» И как бывает в критические моменты, — хладнокровная находчивость объединяет и дисциплинирует, — так и слова этого господина успокаивающе подействовали даже на тех, кто составлял программу. Только до отряда жандармов, расположенного на Микулашской улице, не дошли эти слова, и, не зная, что случилось, жандармский начальник приказал зарядить винтовки боевыми патронами, напомнив подчиненным, что ежели в толпе обнаружатся какие-либо подрывные элементы, то с ними надлежит расправиться без малейшего снисхождения. Но пока нужды в этом не было: вся площадь замерла в напряженном внимании.
А солдат засунул руки в карманы и тоже принялся ораторствовать:
— Прошу прощения, почтеннейшая публика, что я осмелился помешать вашей забаве, но, наслушавшись здесь речей, я не мог стерпеть, чтобы не ввернуть и свое словечко. Тут, видно, произошло недоразумение. Я вовсе не какой-то там «неизвестный и безыменный солдат», я прядильщик Вацлав Пеничка из Кухельны, дом восемнадцать. И вдобавок я вовсе не герой! Говоря напрямик, я герой не больше, чем все те, кто вернулся живым и здоровым и кому вы разрешили обзавестись табачными лавчонками, а не то — сделали рассыльными или милостиво дозволили чистить вам ботинки на вокзалах.
Знаете, я всегда был хорошим товарищем, никогда не лез вперед, потому-то мне совсем не по нутру, что вы тут запустили музыку и осыпаете мой гроб цветами только за то, что я умер, а они живы. Я тут ни при чем. Да и со Зборовом все было вовсе не так, как вы думаете.
До того как была создана чешская армия и мы пошли воевать, нас уверяли, что ежели мы победим, то избавимся от Вены, Рима, капиталистов и дворян, заведем у себя демократию, национализируем помещичьи имения и тяжелую промышленность и заживем неплохо, потому что страна наша богата и обильна и «наша программа — Табор»{87}. Среди нас не нашлось никого, кто бы этому не поверил, а ежели бы кто и усомнился, то мы бы приняли его за австрийского шпиона и набили ему морду. А теперь, скажите на милость, кто ради всего этого не пошел бы драться с винтовкой в руках, будь он даже трус?
Восемь лет нас мучил окружной начальник Корбел. Во время забастовок он насылал жандармов, разгонял собрания, сажал в тюрьмы наших ораторов и разносчиков газет, всячески над нами измывался и преследовал нас. Пятнадцать лет над нами мудровал его верный сподручный священник Коуделка. Он забивал вздором головы нашим детям и совращал женщин, доносил на нас за всякие «кощунства против религии и оскорбления величества», выискивал среди нас штрейкбрехеров и провокаторов. А директор Горовиц пил нашу кровь. И как! Пар у него изо рта валил! Он высасывал ее всю до капли и доводил наших малокровных девчонок с синими подглазинами до кладбища, а старых прядильщиков с распухшими ногами — до сумы. И когда я воображал, что наступит время и мы всех троих возьмем за шиворот, вытряхнем из мягких кресел и пошлем на фабрику честно зарабатывать свой хлеб, а фабрика станет нашей, что придет конец чахотке и нищете, и моя семья выберется, наконец, из гнилого подвала, где померли от рахита три мои сестренки, и что моя шестидесятипятилетняя, изувеченная ревматизмом мать бросит стирать барское белье, — так у меня, черт побери, ружье само стреляло и я готов был драться с самим дьяволом! Когда в тот раз у Зборова началось дело, то, поверьте, у меня было точь-в-точь такое же чувство, как в те времена, когда мы с рабочей депутацией подходили к конторе директора Горовица, чтобы сказать ему: «Объявляй прибавку, не то остановим машины!» Ну вот! А когда мы брали первый окоп, то я поймал брюхом две пули. Это довольно-таки противно! Вдруг, понимаете ли, запнешься, бежать дальше не можешь и не знаешь, что это с тобой стряслось. А потом — бух на землю! Ну, тут уж я смекнул, в чем дело. Чертыхнулся, вспомнил мать, Франтину, брата с детьми, малость еще был в сознании… Вот и все. Даже не знаю, где мне довелось умереть героем за отечество: там, на месте, или в госпитале. Да что об этом говорить — дело прошлое! А в общем-то, мне все это куда милее, чем у Масарикова вокзала начищать сапоги господам Корбелу, Коуделке и Горовицу. Так вот я и говорю: тут ошибка, я не какой-то там «неизвестный» и «безыменный». Все было, как я вам рассказал.
Солдат поглядел на приматора, с выпученными глазами стоявшего на трибуне, нахмурился и продолжал:
— Вот тут господин оратор толковал, что я, мол, погиб за вас и за ваших деток. Это, конечно, так. Только мы думали, что деремся еще и за себя и за своих детей. Но теперь выходит, что мы дрались только за то, чтоб господин окружной начальник Корбел заделался управляющим канцелярией министерства внутренних дел, священник Коуделка — депутатом, директор Горовиц получал вместо двух миллионов прибыли — пятнадцать, а вы, уважаемая публика, могли здесь похвастаться передо мной. А моя хромая мать попрежнему стоит у корыта. Брат мой вот уже девять месяцев без работы, а его пятнадцатилетнюю дочку упрятали в тюрьму за то, что она осмелилась утащить из казенного леса вязанку хвороста. И наших изнуренных девчонок попрежнему таскают на кладбище, и дети будут помирать от золотухи в заплесневелых подвалах, и хромые прядильщики на старости лет пойдут клянчить милостыню… Чего же удивляться, господа, что от ваших речей и в гробу переворачивает так, что под конец слетает крышка! — Солдат замолчал, сурово сдвинув брови. Потом окинул взглядом площадь. На губах его заиграла злая улыбка. — Вот гляжу я, господа, на ваши напомаженные лысины и обвешанные золотом животы, на шелк да на все ваши наряды и прикидываю: если бы десятую часть того, что стоит вся эта музыка, вы отдали моей матери, то ей это было бы большим подспорьем, а кабы все спекулянтские дочки отдали деньги, на которые они накупили этих вот цветов, моему брату, так его семья перестала бы нищенствовать. А потом думаю — поцелуйте вы меня со всем вашим плешивым парадом в…
Так ругаются у него на родине, в Подкрконошье, и, сказав это, он вспомнил долину Кухельского ручья, ольхи на берегу, домики на косогоре, слева Слапа, а позади Козаков, и ему стало грустно. Вспыхнувший было в его глазах огонек потух. Он сказал только:
— Ну, пожелаю вам приятного аппетита! — а затем повернулся к солдатам: — Здорово, братцы! Не прогневайтесь, кто-кто, а уж я-то не повинен в том, что вы жаритесь на солнце. Ну, да вы и сами все понимаете!
Затем «неизвестный, безыменный герой Зборова» снова улегся в гроб. Крышка и трехцветный флаг остались на земле.
Но еще долго все, что было в нации благородного и достойного уважения, таращило друг на друга глаза, не понимая, сон это или театральное представление, и стараясь найти во взгляде соседа объяснение сего странного события.
Первым опомнился генеральный инспектор армии. По его распоряжению выступлением еще одного оратора торжества незаметно были закончены, итальянские легионеры погребены, крышка от гроба зборовского солдата поднята и прибита, а гроб под усиленной охраной солдат и полиции доставлен в полицейское управление для тщательного освидетельствования.
Публика стала расходиться. Офицеры сумрачно шагали впереди отрядов, а солдаты, весело подталкивая друг друга, перешептывались — вот потеха! — и строили догадки — кто ж это мог выкинуть такую штуку? Барышни в национальных костюмах перед зеркальцами поправляли прически и говорили, что затея была сказочно шикарной, жаль только, что они находились слишком далеко и ничего не слышали. Но те, кто все видел и слышал, уходили в таком смятении, словно их стукнули по темени чем-то тяжелым, и только вдали от площади мысли этих людей стали проясняться.
Представители научного мира, то есть ученая коллегия университета и политехнического института, возвращались группой, как бы образуя в ней отдельные космогонические системы, где светила поменьше вращались около своих собственных солнц. На лицах играли снисходительные улыбки. Ученые мужи делали вид, что им давно все было известно. «Ну, а ваше мнение, коллега? — лукаво подтрунивали они друг над другом и отвечали с еще более лукавой улыбкой: — Все ясно как день! Ну, а что думаете вы, коллега?» Однако больше ничего не было сказано. Ибо здесь таилась опасность подорвать авторитет всемогущей науки.
Но если в научных кругах наблюдалось лишь возбуждение, то в правительстве и дипломатическом мире царила растерянность. Члены правительства направились к ратуше, чтобы дождаться телефонных сообщений из полицейского управления. Депутаты уже собрались и группками в два-три человека прохаживались по красным коврам. Как объяснить происшествие? Повлияет ли оно на политику? Какое мнение сложится за границей? Как это отразится на валюте? Но самое главное — не повлечет ли это за собой кризис правительства? Было сделано несколько попыток составить собственное мнение, опираясь на соображения иностранных послов, и в первую очередь французского. Но иностранные дипломаты пристально рассматривали висевшие на стенах средневековые портреты пражских бургомистров. Лица дипломатов были непроницаемы, и вокруг них словно образовалось леденящее дыхание безвоздушное пространство, которое невозможно преодолеть.
В кабинете отца города собрались министры, ожидая телефонного звонка из полицейского управления. Наконец, телефон зазвонил. Воцарилась мертвая тишина. Директор полиции сообщал, что осмотр гроба был произведен в его присутствии. Гроб оказался совершенно нетронутым, а крышка прибита гвоздями. Внутри, помимо двух-трех комков глины, уже направленных на химический анализ, была обнаружена кучка костей, освидетельствованных судебными медиками. Большая часть костей принадлежала человеку в возрасте от двадцати пяти до тридцати лет, и с уверенностью можно констатировать, что они пролежали в земле около пяти лет, то есть с начала июля тысяча девятьсот семнадцатого года. Об одной ключице, оказавшейся лишней, пока нельзя сказать ничего определенного, но лежащий там же обломок тазовой кости бесспорно является частью женского скелета.
Результаты научной экспертизы были сообщены представителям правительства в уединенном кабинете. Министры прослушали сообщение с чувством глубокого уважения к медицине, а то обстоятельство, что время смерти солдата, павшего в сражении у Зборова, было установлено с точностью почти до одного дня, вызвало восхищение могуществом научной мысли. Но так как информация полицейского управления все же не внесла ясности, то было решено тайно перевезти останки солдата в Патологический институт для получения еще одного отзыва.
Тем временем на Староместской площади собрались огромные толпы народа. Слух о зборовском солдате облетел всю Прагу. Он заполнял улицы и площади, проникал в двери и окна всех жилищ, мчался по телефонным проводам. Кроме умирающих, в городе не было никого, кто бы не знал о случившемся. По шести улицам к ратуше стекались потоки людей, и, пока в ратуше принимали телефонограмму полицейпрезидента, на площади уже негде было и яблоку упасть. Только памятник Гусу{88} возвышался над морем голов. Разумеется, в такой толпе ничего нельзя было разглядеть, но каждому прежде всего непременно хотелось узнать, где, на каком именно квадратном метре и как все произошло. А потом закипали горячие споры, в которых наука сталкивалась с религией и отдельные научные концепции боролись между собой. Начинало уже казаться, что возьмет верх юмористически настроенная молодежь обоего пола. Но в конце концов события приняли угрожающий оборот. Стало известно, что правительство и депутаты укрылись в ратуше. Это оскорбило народ! Это его возмутило! Это привело его в негодование! Что ни говори, ведь это были его депутаты и его правительство. Если бы их не избрал народ, который уже столько времени понапрасну торчит на площади, то все эти «уважаемые господа» так и торговали бы на базарах турецким медом!{89} Продажные шкуры! Негодяи! Долой их! Место представителей народа — среди народа! А пусть-ка они вылезут на балкон или на памятник Гусу и объяснят, в чем дело! Мало, что ли, они болтали оттуда, выманивая голоса? А ну, давай выходи из ратуши! Давай, давай! Живо!
По счастью, прежде чем это настроение народа успело принять опасные формы, подоспела конная полиция. Она ринулась с Целетной улицы, сопровождаемая пешими отрядами. Полицейские подняли резиновые дубинки, мужественно сверкнули глазами и — начали!
— О господи! — охнул какой-то господин, получив дубинкой по темени. — Да я же главный бухгалтер!..
— Тогда съешь-ка еще! — огрызнулся полицейский и стукнул его по затылку.
— Валяй, валяй! — подбадривали начальники своих подчиненных.
Толпа бросилась врассыпную. Те, что стояли впереди и над кем еще не мелькали лошадиные морды и резиновые дубинки, кричали:
— Позор, позор!
Все устремились на Парижский проспект, ища там защиты. Но вдруг из-за домов высыпали полицейские: из тупика «У ратуши» — кавалерия, а следом — новый отряд пеших полицейских с дубинками.
— Лупи их! — ревел полицейский офицер.
Все в панике кинулись назад, стараясь попасть на Длоуги проспект, но и здесь орудовали резиновые дубинки. В Тынском переулке на толпу обрушился еще один отряд. На Целетной улице тоже, и на Железной, и на Мелантриховой! Ибо основа современной полицейской стратегии состоит в том, что место, которое надлежит очистить от толпы, превращается в ловушку, откуда не выбраться даже мыши. Затем на окруженном со всех сторон и запруженном народом пространстве устраиваются маневры. Прежде всего нужно хорошенько поколотить граждан по башке, чтобы из нее улетучились всякие мысли о революции, после чего гнать всех туда, куда им положено идти.
На Целетной улице скопился народ. От Староместской площади улицу отрезал двойной кордон полицейских. Держась за руки, они стояли лицом к толпе. Никто не мог пройти ни на площадь, ни с площади. Притиснутые друг к другу, люди поднимались на цыпочки и сквозь оцепление смотрели, как на Староместской площади неистовствовала полиция. Отрядом командовал весьма симпатичный комиссар. Он добродушно уговаривал какую-то женщину:
— Не мели языком, мамаша. Шла бы домой мужу обед варить.
— И рада бы, да не из чего, — отрезала та.
А какой-то идейный юноша, решив, что сейчас самое время начать агитацию среди нижних чинов полиции, воскликнул:
— Постыдитесь, ведь вы такие же нищие, как и мы!
Комиссар поглядел на него и спокойно заметил:
— Ну-ка, заткнитесь, молодой человек, да проваливайте подобру-поздорову, а то я уже давно вас заприметил…
Женщина, которую он только что уговаривал варить обед, вдруг вспыхнула:
— Чего ж вы не разгоняли демонстрацию домовладельцев?
А другая добавила:
— Он небось сам домовладелец!
Все засмеялись.
— Да будь я домовладельцем, думаете, пошел бы на такую идиотскую службу? — проворчал полицейский добродушно и даже с оттенком некоторой меланхолии. Но вдруг ни с того ни с сего его обуял прилив энергии: — Марш, марш, проходи! — И он начал толкать граждан кулаками в грудь и, наконец, скомандовал: — Разогнать!
Так битва перенеслась и на Целетную улицу. А маневры на Староместской площади продолжались добрых полчаса, после чего народу было дозволено разойтись по домам Мелантриховой улицей, очевидно, потому, что она была самая узкая. Через четверть часа площадь была очищена от людей, и на ней остались только патрули. Правительство и депутаты все еще не отваживались показаться.
Но по-настоящему полиция принялась за работу только после разгона стихийной демонстрации. На площадь прибыли свежие отряды полицейских и заняли в домах все выходы с намерением никого не впускать, не выпускать. Двадцать опытных сыщиков с помощью полицейских производили обыски в квартирах. Сыщики получили приказ: «Немедленно выявить в близлежащих к площади домах наличие оптических приборов и граммофонов всех систем. При обнаружении менее подозрительных предметов описывать их с точным обозначением местонахождения, а собственников проекционных и других сомнительных аппаратов тотчас же подвергать аресту».
Жителей, населявших кварталы, прилегающие к Староместской площади, охватил страх, тем более что здесь проживали «благонадежные» семьи, к обыскам не привычные. Полиция обшарила все углы, перевернула вверх дном все сундуки. Пани Райнишева, супруга чиновника из министерства финансов, когда к ней в дом ворвалась полиция, закатила истерику и во время припадка забылась до того, что страшно оскорбила государство, оторвала три пуговицы на мундире полицейского и ободрала ему нос, за что была арестована и на полицейской машине препровождена в тюрьму.
В квартиру номер шесть полиция вторглась в тот момент, когда дочка домохозяина, девица Влахова, принимала ванну. Так как барышня не желала открывать, то полицейские выломали дверь, но, надо отметить, вели себя весьма пристойно и, оглядев купальщицу, вежливо извинились: «Не извольте беспокоиться, сударыня, мы зайдем попозже».
В квартире пана Титла, служившего в городском совете, в ящике дивана был обнаружен волшебный фонарь.
— Кому принадлежит эта штука? — ледяным тоном осведомился полицейский инспектор.
— Это нашего шестилетнего Эмиля, — ответила жена чиновника, дрожа всем телом.
— Пригласите его сюда!
Ребенка подвергли перекрестному допросу. Сперва он отказывался давать какие бы то ни было показания, затем попытался найти выход из создавшегося положения в плаче, но в конце концов признался, что волшебный фонарь получил от дедушки. Отец, мать и дед Эмиля немедленно были арестованы, а сам он был передан на воспитание в «Дом слепых» имени святой Клары.
В квартире продавца-табачника пенсионера Немечка, что жил в доме семнадцать на углу Тынской улицы, был найден предмет, без сомнения, относившийся к числу крайне подозрительных. Он помещался на изящном столике и состоял из дутого стеклянного шара, тонкой трубки и детали воронкообразной формы.
— Для чего вам такая штука? — грозно спросил старика инспектор.
— На память, — спокойно ответил пан Немечек.
— Мы вам покажем память! Забрать все!
Но старик соглашался допустить полицию к этой реликвии только через свой труп. Он с решительным видом встал у столика, загородив его руками:
— Господа, это кальян! Неужто вы думаете, что я отдам вам свой кальян? Это мой трофей! Я его захватил в Герцеговине в тысяча восемьсот восемьдесят втором году. Не касайтесь моего кальяна!
— Взять его! — ласково произнес инспектор, и на Немечка мигом набросились два полицейских. Они вцепились ему в запястья, скрутили руки и поволокли к выходу.
— Господа, это жестокость! — простонал пан Немечек и побледнел.
Полицейский инспектор тотчас же выхватил из нагрудного кармана блокнот и, послюнив карандаш, записал: «Густ. Немечек, пенс. Старом. пл. № 17, III этаж. Жестокость!» Сие пахло по крайней мере тремя месяцами.
Обыски затянулись до поздней ночи. Улов оказался огромным. В квартирах, на чердаках, в прачечных и погребах был обнаружен и конфискован целый воз граммофонов, старых граммофонных труб и пластинок, театральных и полевых биноклей, подзорных труб, стереоскопов, калейдоскопов, фотоаппаратов, волшебных и карманных фонарей, луп и увеличительных стекол (очки и пенсне были признаны неопасными) и арестован двадцать один человек.
В то время как конфискованные аппараты под усиленной охраной доставлялись в полицейское управление, Староместская площадь и прилегающие к ней улицы походили на только что взятый приступом город. Было тихо и пустынно. Только военные патрули расхаживали при свете дуговых фонарей.
Но зато в не занятой войсками зоне кафе и пивные были набиты битком. Повсюду велись страстные дебаты и спрос на напитки все возрастал.
А так как время близилось к полуночи, на частных квартирах уже собрались члены всех спиритических кружков и клубов, сколько их было в Праге. Двери были плотно закрыты, электричество выключено и зажжены свечи, мягкий свет которых так любят духи. Зборовский солдат показал себя истинным героем. Начав однажды свой нелегкий труд, он решил не отступать до конца и носился с сеанса на сеанс, с квартиры на квартиру, пока не посетил их все. Он не только превосходнейшим образом объяснил все случившееся на Староместской площади, но и произнес немало прекрасных речей о социальных и культурных проблемах потусторонней жизни. Суждения его были глубокомысленны, и вообще он оказался духом высшего разряда. Правда, сведения, которые он давал в разных частях города о своем прошлом, до некоторой степени не совпадали: на Виноградах он уверял, что был гетманом у Прокопа Голого и пал в битве под Липанами{90}, а в Коширже — что он не кто иной, как дух победителя татар Ярослава из Штернберка{91}, — впрочем, это еще не вызывало особых возражений, но когда он объявил в Праге II, что был прежде Карелом Гавличком Боровским{92}, а на Малой Стране назвался отцом Радецким{93}, — стало ясно, что тут определенно таится ошибка. В Нуслях он выдавал себя за кронпринца Рудольфа{94}, заверяя всех при этом, что это его последнее астральное воплощение. Но после полуночи солдат вдруг заторопился прочь, извиняясь тем, что боится опоздать в Либень на роды, где у бедной четы должен появиться на свет младенец, в которого ему предстояло перевоплотиться, чтобы завоевать для чехов духовную свободу, а человечество обратить в истинную веру — Христову.
Тем временем заседали исполнительные комитеты всех политических партий. На собрании лидовой партии{95} долго спорили, целесообразно ли признавать, что сегодня днем на Староместской площади произошло чудо. Так как это явление не было предусмотрено католической церковью и могло быть истолковано по меньшей мере как дьявольское наваждение, то мнения разделились и вопрос остался открытым. Но все сошлись на том, что это происшествие должно быть использовано в политических целях, против отступников, а парламентской фракции следует вменить в обязанность извлечь из него как можно больше выгод для католических кредитных и потребительских обществ. Подобную позицию намеревались занять и другие парламентские фракции.
Пока народ, объятый волнением и нетерпеливым ожиданием, шумел в общественных местах, политики сохраняли хладнокровие и не теряли почвы под ногами. Политики и биржевые дельцы. Кафе «Континенталь», где они обычно собирались, было битком набито. Игравший а ля бесс[31] пан Роубичек, потирая руки, говорил бледному и удрученному пану Шпицеру: «Все это — старый хлам вместе mit ihrem[32] папашей{96} и нашей молодой республичкой. Своими бумажками вы теперь можете оклеить спальню!»
В правительственном бюро печати также еще бодрствовали. Чиновники ломали голову, в какой форме выпустить официальное коммюнике о сегодняшнем событии. После консультации с министерством было решено закончить описание торжеств следующей фразой: «Незначительное событие, которому нельзя придавать серьезного значения, ничуть не нарушило ход торжества». Об эпитете, приличествующем слову «событие», велись долгие телефонные переговоры между министерством внутренних дел и бюро печати. Прилагательное «известное» нашли слишком общим, а термин «достойное сожаления» или «загадочное» вовсе недопустимым и, наконец, выбрали слово «незначительное». Одновременно был разослан приказ всем цензорам — не допускать какого-либо сообщения о зборовском происшествии в другой редакции. Но было ясно, что эти меры только оттягивают, а не решают проблемы, ибо иностранные дипломаты уже телеграфировали о случившемся своим правительствам, и завтра о Праге заговорит вся Европа. Только один этот факт и казался утешительным среди всех событий дня.
Утром кабинет министров собрался снова. Были приглашены эксперты: полицейпрезидент, декан теологического факультета, ректор политехнического института и профессор психиатрии медицинского факультета.
Первое слово было предоставлено директору полиции. Он еще раз огласил заключение врачей о ходе обысков и резюмировал:
— Исключено, чтобы в забитый гроб могло проникнуть живое существо. Я пригласил специалиста фокусника пана Виктора Понрепа, который освидетельствовал гроб и со всей определенностью заверил, что в данном случае о каком бы то ни было иллюзионистском трюке не может быть и речи. Точно так же, глубокоуважаемые господа министры, исключено, чтобы кто-либо забрался в гроб, когда он стоял в Пантеоне, охраняемом полицией и соколами, немыслимо и то, чтобы из него мог кто-либо выбраться, когда гроб под усиленной и надежной охраной доставляли со Староместской площади в полицейское управление. Осмотр конфискованных оптических приборов также не дал положительных результатов. Не увенчался успехом и допрос арестованных, который энергично вели, всю ночь и продолжают вести до сих пор. Случай таит в себе поистине шерлокхолмсовскую загадку. Я считаю, что возможно напасть на след и иным путем, но расследование чрезвычайно затрудняется тем обстоятельством, что наши лучшие сыщики по приказу господина министра внутренних дел отбыли с политическими целями в Словакию{97}. Единственное, что я осмелюсь добавить к вышесказанному, это просьбу о дополнительном ассигновании сумм на укрепление полицейского аппарата, дабы предупредить в будущем подобные печальные происшествия, нарушающие общественное спокойствие. Главное полицейское управление, обслуживающее всю республику, находится в крайне стесненных обстоятельствах, и в этом — одна из главных причин вчерашнего события.
Когда высказать свое мнение попросили монсиньора декана теологического факультета, он встал, поклонился, смиренно улыбнулся и, постукивая кончиками пальцев правой руки о кончики пальцев левой, заговорил:
— Удостоенный чести вынести свое скромное суждение, я склонен объяснить это тем, что уважаемое правительство занимает вопрос, можем ли мы говорить о кажущемся необъяснимым случае на Староместской площади как о чуде, и возлагает решение этого вопроса на теологов.
Затем, детально разъяснив, как понимает церковь один из главных своих догматов — чудо, монсиньор продолжал:
— Решить — имеем ли мы в данном случае дело с чудом — превыше моих скромных возможностей. Необходимо произвести тщательное расследование дела церковными органами, а последнее слово предоставить папскому престолу. Но вне всяких сомнений тот величественный факт, что так называемые силы или законы природы господь со святыми может изменять по своему усмотрению, когда ему угодно, равно как и сатана со своими дьявольскими сонмищами. Тысячи примеров этому мы находим и в святом евангелии, и в истории нашей церкви, и в новейшие времена. Ибо что такое так называемые «законы природы»? Законы природы, глубокоуважаемые господа министры, это наша точка зрения на порядок явлений, и мы не позволим ввести себя в заблуждение гордыне нашего разума: ведь если сегодня земля вертится с запада на восток, то это еще не доказательство, что так будет завтра и что силы, которые, как известно, большинство из вас соизволит называть иррациональными, не заставят ее вращаться с востока на запад. Вероятно, вчера на Староместской площади и произошло так называемое сверхъестественное явление. К своему глубочайшему сожалению, я более ясно высказаться не могу. Однако не подлежит никакому сомнению, что объяснить все это может только теология, так как она одна разрешает все те проблемы, перед коими беспомощна светская наука. В заключение своей речи я позволю себе задать вопрос господину военному министру: не представляется ли возможным в служебном порядке опросить солдат, находившихся в непосредственной близости к гробу, не обоняли ли они запах серы или смолы?
— Да, можно будет расспросить солдат об этом смраде, — с готовностью отозвался министр национальной обороны.
Представитель политехнического института придерживался иных взглядов, нежели декан теологического факультета. В основном он говорил вот что:
— Я чрезвычайно рад, что господин директор полиции совершенно исключает возможность иллюзионистского трюка, ибо проблема становится ясной, как день. Вчера мне довелось узнать, что нашлись профаны, утверждавшие, будто были использованы диапозитивы, спроецированные на экране. Мероприятия господина полицейпрезидента, делающие честь его добросовестности, заставляют думать, что такого мнения придерживались и профаны высокообразованные. Я даже опасаюсь, что эту гипотезу охотно поддержат некоторые лица, по недоразумению возомнившие себя учеными. Но это исключено! Для проецирования необходим экран достаточной плотности из холста, стекла или другого твердого материала, а способ проецировать картины на воздухе нам еще неизвестен, nota bene[33] на близкие расстояния и при ярком солнце, что уже само по себе nonsens[34]. Если бы за последнее время и было сделано какое-либо открытие в этой области, то, простите мою самоуверенность, милостивые государи, кое-что мне было б известно. Вчерашнее явление не что иное, как фата-моргана, связанное с чревовещанием!
И, выпалив этот тезис, профессор обвел взором аудиторию, желая удостовериться, какое впечатление оставили его слова. Глаза министров, устремленные на него, светились глубоким почтением к его мудрости.
Представитель теологического факультета улыбался с любезной снисходительностью.
Но эксперт-психиатр, человек весьма нервный, сверкал и моргал глазами, дергал левым плечом, и казалось, он вот-вот сорвется с места. Однако ему удалось овладеть собой. Профессор же невозмутимо продолжал:
— Отражение в воздухе, известное у нас под названием «фата-моргана», в Африке — «серабу», возникает вследствие преломления и полного отражения света неодинаковыми по плотности слоями воздуха. В летнюю пору раскаленные мостовые города способствуют прогреванию нижних слоев воздуха, а значит, их разрежению, и, следовательно, наши улицы создают благоприятные условия для отражения в воздухе различных предметов. То, что мы вчера наблюдали на Староместской площади, было не что иное, как фата-моргана, которой воспользовался какой-то ловкий демагог и опытный чревовещатель, чтоб обратиться к публике с агитационной речью. Вот, господа, единственно возможное объяснение. Всякое другое научное толкование будет ошибкой, и притом смешной ошибкой. Точная наука, которую я имею честь здесь представлять, не может делать каких бы то ни было предположений теологического характера или пускаться в спиритическую фантастику. В конце концов вопрос ясен, как день! Господин полицейпрезидент поступит в полном согласии с современной наукой, если освободит невинно арестованных владельцев проекционных аппаратов и прикажет обнаружить тех граждан из числа присутствовавших вчера на Староместской площади, кто раньше занимался чревовещанием.
Специалист-психиатр, когда министр предложил ему свое заключение, повертел пенсне, нервно передернул плечами и произнес:
— Гм! — Затем опять повертел пенсне и добавил: — Наболтали вам тут. Ерунда все это.
— Позвольте, коллега! — вскочил представитель точных наук.
— Сядьте, не волнуйтесь и слушайте! — возразил психиатр, и его левая щека передернулась тиком.
Такое начало предвещало страшные битвы, кровавую полемику и столкновения, которые завтра же разгорятся между факультетами.
Психиатр, почесав мизинцем в ухе, продолжал:
— А все, что наговорило его преподобие, — бессмыслица в квадрате!
Лицо монсиньора приняло покорное выражение, словно он возносил молитву за этого богохульника, но оба присутствовавших на заседании министра-католика вскочили и встали в боевую позу.
Профессор психиатрии, придавая своим словам явно преувеличенное значение, продолжал:
— В наше время даже младенцам из воспитательного дома известно, что такое внушение и гипноз, и любая торговка знает, что массовое внушение, свидетелями которого мы были вчера на Староместской площади, у факиров Индии, а также в религиозных обрядах и танцах у жителей Зондских островов обычная вещь. Правда, случай массового внушения, подобный вчерашнему, в Европе неизвестен со времен так называемого лурдского видения{98}.
Этого нервозный психиатр не должен был говорить, ибо в ту же минуту министр-католик взмахнул рукой и крикнул:
— С меня довольно оскорблений религии! — и ушел, хлопнув дверью.
Так же поступил и другой министр лидовой партии. А монсиньор декан теологического факультета смиренно поклонился и сказал:
— Полагаю, милостивые государи, в моих скромных услугах вы уже не нуждаетесь.
И с достоинством поплыл к дверям.
— Кому не угодно слушать правду, пусть себе уходит, — сказал профессор психиатрии, проявив феноменальное непонимание политической стратегии, и начал лекцию о религиозных танцах племени Олу Нганджу на острове Борнео.
Но правительственный раскол в столь суровый для нации час ставил под угрозу самое существование правительства, и глава аграрной партии{99} мигнул одному из коллег. Тот немедленно побежал догонять католиков. Он настиг их на площади в ту минуту, когда министр путей сообщения ставил правую ногу на подножку автомобиля. Сделал он это, заметив приближение министра-агрария.
— Вы, конечно, не захотите разрушить коалицию из-за какого-то зборовского пугала! — закричал аграрий и дружески схватил коллегу за плечо. Но плечо было твердым и холодным, как древко церковной хоругви.
Переговоры длились долго, очень долго… Только через десять минут католики произнесли слова «удовлетворение наших требований». А еще через десять минут оба министра-католика уже возвращались на заседание совета министров с поправками к школьному закону, с четырьмя господними храмами, ограбленными чехословацкими отступниками, с налоговыми и торговыми льготами для католических кооперативных и кредитных обществ, с усилением цензуры над антирелигиозной печатью.
— Ну, а чего хочет республиканская партия? — выпытывали по пути католики.
— Всего лишь пустячного повышения цен на мясо, молоко и зерно, ради которого нельзя не пойти навстречу. Национальные демократы{100} испытывали затруднение с промышленной продукцией, но мы им во-время помогли, теперь они получат скидку на текстиль.
— А чехословацкие социалисты?{101}
— «Вопрос ясен, как день», по выражению профессора. За неимением иной программы поведут решительное наступление на специальный фонд{102}.
— А социал-демократы?
Аграрный министр пожал плечами и на некоторое время застыл в этой позе.
— Этих никогда не поймешь, — сказал он немного погодя. — Они — партия чисто идейная. Впрочем, я надеюсь, что они обойдутся нам дешевле всех.
Когда они возвратились на заседание, экспертов уже не было: их отпустили, поблагодарив, а представитель социал-демократической партии заканчивал свою речь.
— Я, господа, кажется, последний, — говорил он, ероша редеющий русый кок, — собираюсь отрицать право точной, теологической или философской науки на решение подобных вопросов, но полагаю, что мы с самого начала допустили принципиальную ошибку, когда пошли по так называемому «научному пути». Какое нам дело до науки? Ученые существуют для того, чтобы изучать, а мы — для того, чтобы заниматься политикой. И вчерашнее событие нам нужно расценивать только с политической точки зрения. Загадочное происшествие должно быть использовано против врагов государства. Народ хочет объяснения. Оно ему будет дано! Союзные государства требуют доказательства того, что мы являемся государством порядка и дисциплины. Они их получат! Но самое главное: врагам будет нанесен такой удар, от которого они едва ли опомнятся. Это, господа, необходимо сделать в интересах не только социал-демократии, но и других правительственных партий, и — главное — в интересах государства. Все дело — в благе отечества! Мы обязаны думать о нем! И только о нем!!
Никто не возражал. Это решение было выходом из создавшегося положения.
В тот же день отдел печати разослал всем редакциям коммюнике, которое было опубликовано и специальных выпусках газет с надлежащими передовицами, комментариями и жирными заголовками. В заголовках подчеркивалось презрение и отвращение, в передовицах выражалось возмущение народа, а в комментариях предлагалось правительству принять энергичные полицейские меры против осквернителей священных останков национальных героев. Официальное сообщение гласило:
«Прага, 2 июля. Ч. Т. А. Вчерашние зборовские торжества использовала коммунистическая партия для непристойной выходки. Неизвестная личность пока еще неустановленным способом проникла в гроб с останками зборовского героя. На Староместской площади неизвестный, сбросив крышку с гроба, произнес агитационную речь, в которой грубо оскорбил чувства присутствующих. Крайне неуместная агитация была единодушно осуждена всеми порядочными людьми. Можно с удовлетворением отметить, что публика сохраняла полное спокойствие и ход торжества ничем не был нарушен. В связи с этим предпринято всестороннее расследование и произведены аресты. Полицейские органы уже напали на след преступников».
Это было гениальное решение.
На призыв газет — принять энергичные меры — правительство откликнулось с необычайной поспешностью. Еще задолго до того, как закончилось печатание экстренных выпусков, в Пражском и Кладненском районах было арестовано триста коммунистов, а в секретариате коммунистической партии и на частных квартирах произведены обыски Президент государственного суда отдал по телефону приказ: немедленно прекратить предоставление отпусков и вызвать чиновников с дач.
Таким образом, события первого июля были объяснены ко всеобщему удовлетворению. Больше того, благодаря государственной опытности министров происшествие со зборовским солдатом, грозившее причинить правительству серьезный вред, послужило только на благо и процветание нации. Народ успокоился. Союзные державы, встревоженные возможностью каких-либо политических эксцессов социалистического или антивоенного характера, стали с прежним доверием относиться к чехословацкой республике.
А когда в Женеву пришло шестьдесят два миллиона на укрепление курса кроны, то опамятовалась и биржа. Она опамятовалась настолько, что уже через три дня в кафе «Континенталь» пан Шпицер мог сказать пану Роубичку: «Ага, милейший! Ну кто же из нас, выходит, дал маху? Я завтра же куплю девчонкам новые сережки. А вы — завидуйте!»
В ночь, последовавшую за первым июля, когда стрелки часов уже приближались к двенадцати, в склепе «неизвестного солдата» проснулся один из итальянских легионеров. Он сбросил крышку, присел на край гроба, пошарил в карманах и, отыскав окурок, зажег его.
— Эй, братва, дрыхнете?
Братва подняла крышки гробов.
— Чего тебе?
— А вот послушайте. Когда я еще бегал в школу, то нам говорили, что вокруг староместских часов каждую ночь ходит Христос с двадцатью семью казненными чешскими панами{103}. Я, значит, и думаю, не пристать ли и нам к ним? Что там ни говори, а мы попадем в одну компанию с теми, кто подобно нам сложил за народ свою голову.
Зборовский солдат тоже присел на край гроба. Он презрительно посмотрел на тлевший в темноте огонек сигареты и сказал:
— А видел ты сегодня днем на площади тот самый «народ», за который ты сложил свою голову?
— Нет!
— Нет?! Ну так помалкивай и будь доволен, что уже лежишь в гробу.
Перевод Т. Карской и Е. Андреевой.
ПЛОТИНА НА ИЗЕРЕ{104}
Пепика Чермака из Семилей больше всего удручало то, что в свои двадцать два года он еще не фабрикант. Тем более что для этого не требовалось большого искусства, и в ту пору Семили выглядели так, словно там уже целый год заседало общее собрание Союза чешских промышленников, и вечерами «У Гоусов», «У Посльтов», «В ратуше» было мало посетителей, к которым бы не обращались «пан фабрикант», «пан директор» или по крайней мере «пан уполномоченный».
Повелось это с тех пор, как магистрат, а вместе с ним и семильская кредитная касса перешли в руки радикально-прогрессивной партии{105}. Точнее говоря, с той самой ночи, когда вождь этой партии секретарь Срнец, развивая за длинным столом «У Посльтов» грандиозный план, заверил своих приверженцев — среди них был и Пепик Чермак — в том, что не младочешские фразы{106}, не подстрекательства социалистов, а только промышленность спасет нацию, и посему здесь, на Изере и Олешке, германской экспансии необходимо противопоставить мощную плотину чешской предприимчивости.
— Последними выборами в Подкрконошье открылась новая историческая эра, — сказал Срнец. — Идейное возрождение нации завершено, и теперь мы приступаем к возрождению экономическому. Мы воздвигнем на Изере и Олешке плотину чешского благосостояния против германизации нашей экономики.
При всеобщем молчании секретарь Срнец — мужчина с пышными белокурыми усами — устремил почти провидящий взор на картину, где был изображен Ян Гус{107} на суде, и, помедлив, изрек:
— Господа, в состоянии ли вы представить себе будущее нашего края? Знаете ли вы, как будет он выглядеть, когда на берегах наших рек вырастут фабрики, лес труб? Можете ли вы перенестись мыслями в то время, когда в наш, ныне скромный город потоками хлынут богатства, благополучие и сила?
Поверх пятнадцати полулитровых кружек с рогозецким{108} в рот оратору смотрело тридцать восторженных глаз и пятнадцать молодых людей — сыновья семильских старожилов — мясников, булочников, часовщиков и портных, — унаследовавшие от отцов неприязнь к чужакам и втирушам, — благословили минуту, когда сия гениальная личность прибыла в город, чтобы пробудить таящиеся в нем силы.
В ту памятную ночь мужественная радикально-прогрессивная молодежь, выходя время от времени на улицу подышать воздухом и взбираясь на каменную скамеечку перед домом Посльтов, дабы не забрызгать воскресные брюки, мечтательно разглядывала созвездие Большой Медведицы и испытывала неопределенное ощущение безграничных возможностей там, наверху, во вселенной, и здесь, внизу, в семильской округе.
А в третьем часу пополуночи, когда молодые люди, спотыкаясь, брели по ухабистой мостовой, через высохшие канавы и мимо воняющих тухлым сбоем мясных лавок, где на свитках кишок несметное множество мух досматривало свой утренний сон, они уносились мечтами в то время, когда этот облупившийся городишко, с незажигавшимися керосиновыми фонарями, превратится в чешский Чикаго, Манчестер, Эссен.
В ту ночь они не улюлюкали на улицах, не надевали на копье статуи святого Вацлава{109} жестянку из-под бензина, подобранную во дворе у Шоршов, не перевешивали вывеску с городской читальни на хлев к Шантрохам и не угощали сигаретами ночного сторожа, чтобы услышать от него привычное: «Спокойной ночи, господа! Не извольте беспокоиться, я приберу». В ту ночь они были настроены слишком серьезно и, ложась в постели, раздумывали над тем, кто сумеет ухватиться за этот радикальный прогресс так, что станет миллионером, Думал об этом и Пепик Чермак.
Воодушевление той памятной ночи, подогретое именем родины и мечтой о фабричных трубах из огнеупорного кирпича, распространилось по всему городу и помчалось навстречу течению Изеры, Олешки, Хухельского ручья и Вошменды, и когда пришло время муниципальных выборов, старочехи{110}, младочехи и социалисты были сметены, а в семильскую ратушу вступил радикальный прогресс. Вступил, как говорится, с развевающимися знаменами, под звуки фанфар и барабанов, с секретарем Срнцем во главе.
Заседание, на котором было провозглашено начало новой исторической эпохи в Подкрконошье, было весьма торжественным. Новые отцы города явились в воскресных сюртуках и мундирах, со значками «Сокола»{111} и певческих обществ на лацканах. Новоиспеченный бургомистр, бывший секретарь Срнец, произнес вдохновенную речь, выслушанную в полной тишине, лишь время от времени нарушаемой негромкими «да» и «конечно» бледного от волнения пана архитектора Коуделки. Затем было произнесено еще несколько блестящих речей, и в каждой фигурировал прогресс, благосостояние нации, и несокрушимая плотина на Изере и Олешке против германской экспансии. А торговец скобяным товаром пан Каска вдохновился даже на пророчество: «Только семильская кредитная касса освободит чехов от тысячелетнего порабощения!» Пан Вацлавек, по профессии торговец аптекарскими товарами, патриот с большой розовой плешью над жирным затылком и с огромной алой розой в петлице под красным подбородком, даже заплакал, умиленный этими словами.
Оппозиция прежних хозяев города игнорировалась полностью. Ее не замечали, словно это было пустое место, прах, тлен и даже меньше. На трибуне ее представлял директор школы Хлум, которого радикальные прогрессисты язвительно прозвали «Поразума», так как в торжественных случаях он изъяснялся весьма высокопарно и вместо обычных оборотов «если хотите», «думаете ли вы» и «угодно ли вам» неизменно говорил: «по разуму ли вам…» Он произнес речь на тему: «Не увлекайтесь воздушными замками, господа!» И, разозленный сыпавшимися в его адрес насмешками, пылая возмущением, предостерегающе поднял палец и сказал: «Я сознаю, что мои слова отлетают от вас, как от стенки горох, но запомните, глубокоуважаемые господа, — неумолимое колесо времени докажет мою правоту!»
На площади перед ратушей дожидался конца заседания восьмидесятилетний пан Коуделка, отец пана архитектора. А когда архитектор выбежал без шляпы на улицу, чтобы сообщить папаше результаты голосования, старец извлек из кармана синий носовой платок, вытер глаза и сказал: «Я знал самого отца Палацкого{112} и пана доктора Ригера{113}. Не дождались они этого дня! Теперь я могу спокойно закрыть глаза. Иозифек, ты хорошо заработаешь».
Прогресс победил, и слово «плотина» стало крылатым. Подавая пример, бургомистр Срнец на деньги семильской кредитной кассы начал постройку ткацкой фабрики. Он ходил, ездил, подбадривал: «Смелее! Смелее!» Ходили, ездили, подбадривали и его политические единомышленники, среди которых наибольшим пылом выделялся пан архитектор Коуделка. Он же эту плотину и воздвигал.
Вся округа пришла в движение. Мельники, крестьяне побогаче, торговцы, трактирщики, мясники и бухгалтеры толпами приобретали удостоверения партии радикального прогресса и затем строили прядильные и ткацкие фабрики, белильни, лесопилки и шлифовальни — разумеется, все это на средства семильской кредитной кассы, а те, у кого не было необходимых для залога двадцати тысяч крон, открывали на средства этой же кассы хотя бы каменоломню или принимались искать шифер.
В окрестностях Семилей тогда сгорело много мельниц, а в городе — деревянных домов. В связи с этим страховое общество «Славия» увеличило премию на пятьдесят процентов, и отчаявшиеся владельцы домиков на Олешке повалили к адвокатам: «Боже мой, пан доктор, что делать: мой сосед застраховался. Можно ли подать на него в суд?» Короче говоря, и манчестерцы и ливерпульцы были совершенными молокососами по сравнению с почтенными обывателями Семилей.
И так все. Но только не Пепик Чермак. Да и вообще судьба не благоволила к нему. Его папаша — сапожный мастер — взял сына еще из пятого класса гимназии, когда у него не хватило средств для уплаты долгов, которые юноша успел наделать в трактирах Ичина. После этого Пепик пытался применить свои способности на многих поприщах. Его везде хорошо принимали, потому что он был обходительным и веселым парнем, но никто, к сожалению, не нуждался в его услугах. Наконец, в эпоху промышленного подъема в Семилях один из однокашников взял Пепика бухгалтером на свою ткацкую фабрику в пятнадцать станков, и теперь молодому Чермаку приходилось молча терпеть, слушая, как всех его товарищей — кстати, ни один из них не был умнее его — называют «пан фабрикант», а его всего лишь «пан бухгалтер». А ведь и у него было честолюбие! «Cur is et ille, cur tu non?»[35] — повторял он про себя, вспоминая школьную науку.
Но и с торжеством прогресса не так уж легко было выбиться в люди, и весьма заблуждался тот, кто думал, будто можно просто прийти и сказать: «Послушай-ка, пан директор, будь любезен, отсыпь мне из кассы полмиллиончика взаймы, я хочу построить фабрику с высокой трубой». Нет! Тут требовалось солидное основание, но как раз его-то и не было у Пепика. Где взять это солидное основание?! Молодой человек долго ломал голову. Но, наконец, его надоумил Бедя Шмид. Этот парень изобрел замечательную белку: обшитая обрезками меха, белка перебирала лапками, когда с помощью палочки ее катили по земле. Бедя разослал игрушку детям руководителей кредитной кассы, но она привела в восторг и отцов. Они смекнули, что благодаря своему остроумному механизму белка означает не только гигантский прогресс в чешском производстве игрушек, но имеет колоссальное значение и для развития национального скорняжного дела. И вот архитектор Коуделка на клеверном поле близ Изеры уже закладывал фундамент фабрики игрушек Бедржиха Шмида.
Пепик тоже принялся изобретать.
Как все начинающие, он решил создать нечто грандиозное. Пепик изобрел машину для защиты крепостей. Это было что-то вроде «чертова колеса» или громадного подъемника для камней. Машина приводилась в движение электричеством, набирала огромное количество бомб, шрапнели и гранат и под действием центробежной силы разбрасывала все это с невероятной скоростью в разные стороны. В радиусе мили к городу, охраняемому механизированной сверхкатапультой Пепика, совершенно невозможно было приблизиться какому-либо живому существу, будь то даже кошка.
Со страшным трудом выклянчил Пепик у папаши — «Ради Христа, не губи мое будущее!» — двести крон, на которые он заказал модель своей машины, и еще двести на дорогу — у дядюшки часовщика — «Ради бога, разве ты не понимаешь, что через полгода я тебе все это верну сторицей?» — и отправился в военное министерство в Вену. В министерстве проект изучили, и когда Пепик приехал туда через полгода за ответом, его приняли весьма приветливо и объявили, что изобретение его гениальнее, чем он сам предполагает, потому что если машину удастся построить, то не понадобятся ни дорогостоящие бомбы, ни шрапнель, ни гранаты — все это с успехом заменят камни. Но, к сожалению, в рассматриваемом проекте есть существенная ошибка: ни одна организованная сила в мире не сумеет даже за целый год подвезти к крепости такое количество камней, какое может всего за полчаса разбросать эта ужасная центробежка.
Но не таков был Пепик, чтобы отступить при первой же неудаче. Теперь он решил несколько сократить масштабы своей работы. «Нужно изобрести, — твердил он себе, — что-нибудь такое, что совершенно необходимо в каждом хозяйстве». Он долго не мог придумать, за что же взяться, пока мать и сестра Стаська, мывшие пол в сапожной мастерской, не натолкнули его на блестящую мысль. «Ага!» — сказал себе Пепик и за три вечера изобрел «генеральный поломой — счастье семьи». Три сотни на опыты ему раздобыла мать, выпросив их в долг у своего двоюродного брата — лоуковского священника, которому она отправила трогательное письмо, где много говорилось о боге и материнском сердце. Местное школьное начальство предоставило Пепику пустой класс, на немытом с каникул полу которого можно было лучше всего продемонстрировать совершенство изобретения.
«Генеральный поломой — счастье семьи» представлял собой систему круглых щеток, которые при движении по полу автоматически окунались то в мыльную массу (пока что мыла выходило слишком много, но изобретатель утверждал, что механизм со временем будет усовершенствован), то в горячую воду (котел разогревался спиртом, но впоследствии, как заверял Пепик, его можно будет перевести и на электричество). Эти щетки терли пол.
На торжественную демонстрацию изобретения собралось все правление городской кредитной кассы, которая, само собой разумеется, должна была финансировать предприятие Пепика. Господа толпились в открытых настежь дверях — «осторожнее, близко не подходите», — предупредил их Пепик, — а позади, вытянув шеи, на цыпочках стояли папаша, мамаша и сестра героя дня. В противоположном конце классной комнаты около машины в позе Цезаря застыл сам Пепик. Он запустил пятерню в кудри, проговорил: «Внимание, господа, начинаю» — и повел «генеральный поломой» прямо на публику. Из «счастья семьи» вырвался гейзер горячей мыльной пены. Перепуганное правление выскочило в коридор. Пепик в свою очередь тоже немного струхнул. Он сделал попытку остановить машину, но — увы! — вырвавшихся на свободу бесов удержать было невозможно. «Генеральный поломой» фыркал и шипел, извергая мощные струи горячей воды. Пепик видел, что не в силах сладить со своим детищем, и героически продолжал двигаться с ним вперед по грязному полу. А правление кассы все отступало и отступало, пока не очутилось в конце коридора у школьной уборной, с ужасом наблюдая оттуда за адским чудищем, плюющимся грязной пеной, и благодаря бога за то, что никто не ошпарен.
Уважаемые господа решили, что из этой новой защиты от германской экспансии ничего не выйдет, ибо немыслимо защищаться столь жестоким оружием.
Но Пепик не позволил себя смутить и спокойно управлял машиной. И в самом деле! После того как он дважды прошелся по классу, пол стал образцово чистым — вся грязь очутилась на стенах и потолке. С потолка она падала синеватыми каплями из пузырей, похожих на половинки больших детских мячиков, а по окнам стекала потоками грязной мыльной воды.
Школьный сторож, подоспевший слишком поздно, только руками всплеснул, увидев все это. Но Пепик, нимало не смущаясь тем, что сам он выглядел так, словно им вытерли все семильские лужи, довел дело до конца и, догнав членов правления на лестнице, с пылом принялся убеждать их, что, конечно, в машине есть еще кое-какие неполадки: ведь это пока только модель, изготовленная к тому же кустарным способом, а при массовом производстве она, конечно, станет более совершенной, но зато очевидны ее преимущества — «видели ли вы, господа, когда-нибудь такой чистый пол?» — и он, Пепик, конечно, твердо уверен… и так далее.
Из этого тоже ничего не получилось. Однако Пепик был юноша упрямый. «Черт побери, неужто я не изобрету чего-нибудь нужного каждому человеку! Неужели мне не удастся вытянуть по нескольку геллеров из кармана каждого жителя Европы? Хотя бы по нескольку геллеров! Но что же необходимо каждому человеку?» В этом-то и заключалась проблема. Пепик мысленно перебирал все потребности людей от пуговок на шапке до подковок на каблуках. Он размышлял обо всех человеческих привычках, сколько их есть. И когда он все передумал, то установил, что на его долю ничего не осталось, ибо человечество давно снабжено всем необходимым. И все-таки Пепик упорно повторял: «Черт побери, неужели я все-таки не найду?»
Как известно, гениальные идеи приходят неожиданно. Иногда можно годами ломать себе голову и все равно не выдумать ничего, а потом, когда ты обо всем уже давно забыл и мысли у тебя совсем другие, вдруг в голове зазвенит колокольчик, вспыхнет лампочка, и вдохновение тут как тут. Тогда лови его и не отпускай!
Семильская радикально-прогрессивная молодежь облюбовала для себя в последнее время трактир «В раю», потому что из Смржовки туда приехала хорошенькая двоюродная сестра пани Гоусовой, веселая черноглазая немочка, объявившая, что хочет научиться готовить и немножко болтать по-чешски. Она же помогала и обслуживать посетителей.
Это произошло однажды в воскресенье, в четверть четвертого пополуночи. Вена Гартман что было мочи барабанил на пианино песню об уланах — славных ребятах, а молодежь, окружив своего любимого вождя, снисходительно улыбающегося бургомистра Срнца, тянула остатками воодушевления и голоса:
Ся-а-дет на ко-о-ня, Ся-а-дет на ко-о-ня, Сло-о-вно птичка взлетит…Пепик настойчиво клянчил у немки стаканчик вермута в долг, а когда она ответила «Nein»[36], и когда еще раз сказала «Nein», и когда на все его просьбы, угрозы и клятвы отрезала «Nein» и добавила, что больше ни за что не нальет, Пепик страшно рассвирепел. Он вспрыгнул на стол, опрокинув стаканы, поднял сжатые кулаки и с бесконечным презрением проскандировал в адрес девицы гекзаметр из Яна Коллара:{114}
Краской залейся стыда, о Тевтония, Славы соседка!Но, как обычно случается в подобном состоянии, Пепик мгновенно забыл об обиде, забыл о Тевтонии, о вермуте и ухватился за Яна Коллара. А так как он помнил еще один стих из «Дочери Славы», то, сменив воинственную позу на скорбную, опустил голову, согнул ноги в коленях и трагически прошептал:
В оные дни колыбель — ныне могила народа…Но тут, словно увидев страшный призрак, он дико вытаращил глаза, медленно сполз со стола и захныкал с удивительно трезвым отчаянием:
— Семильцы, ребята, ради всего святого, потрите мне уши, чтобы я протрезвился!
Просьба была выполнена с огромным воодушевлением. Но когда гогочущие молодцы принялись таскать его по полу и мять ему голову, Пепику пришлось отбиваться кулаками и лягаться; наконец, он вырвался, упал на колени у биллиарда и зарыдал, воздев руки:
— Ради моей загубленной юности, если вы меня хоть немного любите, напишите на листе бумаги: «В оные дни колыбель…» — и положите мне в карман. Я сам уже не могу это сделать и к утру все позабуду.
И эта просьба была выполнена.
На следующий день Пепик понял, что это была не пьяная идея, а внушение доброго гения. Да, в стихах Коллара было решение всех проблем. Ведь только две вещи совершенно необходимы человеку: колыбель и гроб. Да здравствует Ян Коллар! С гробами, конечно, ничего не получится, потому что в Семилях четыре похоронных бюро: Штайн, Сыновья Иозефа Прокопа, Коутский и Судек. А где же в Семилях колыбельная мастерская? Ага! Да и производят ли в Чехии или вообще где-нибудь в Австро-Венгрии колыбели?? Ага!! Теперь вы увидите, господа, чего стоит Иозеф Чермак!!! «По щекам — получишь, а на деньги — не рассчитывай!» — ответил папаша. «Сыночек мой дорогой, где же мне их взять?» — простонала мамаша. Но все же немного удалось наскрести. Что-то ссудил дядюшка Брандейс, часовщик, немного дал пан Паточка, портной, малую толику — пан Лайплт, бакалейщик и владелец прядильной фабрички. Да и как было не дать! Промышленный подъем края был в полном расцвете, трубы росли дружно, как побеги спаржи, мельницы и бараки на Изере и Олешке продолжали гореть, а пожарные, разбуженные рыдающими призывами трубы, успокаивали своих супруг, спешивших на чердак за каской, топориком и поясом: «Не суетись, мать, успеется. Почем знать, не учинили ли они опять чего со шлангом». Предприимчивость звала к подражанию, богатство манило, а расчеты Пепика выглядели убедительно.
Он изобрел современную колыбель. Изящную и практичную. Высокий металлический стержень был изогнут наподобие виселицы, с перекладины свешивалась тугая пружина, на ней подпрыгивала колыбелька. Вся конструкция сверкала свежестью никелировки.
На всем свете нет человека, который бы не знал, как утомительно убаюкивать ребенка. Если же кто-нибудь и не испытал этого на собственном опыте, то наверняка знает из романов, повестей, произведений эпических и лирических, ибо нет поэта, который хоть бы раз в жизни не вдохновился сладкой музыкой слова «колыбель». Это слово вызывает умиление и доверие даже в коммерческих кругах!
Пепик произвел радикальный переворот в области колыбелестроения. Революция в механизме повлекла за собой и революцию в форме. В Пепикову колыбель достаточно было ткнуть пальцем, как ребенок начинал качаться. Он качался пять минут, качался десять, наконец, засыпал, и мать могла спокойно заняться делами. Таковы были огромные преимущества вертикального укачивания по сравнению с укачиванием горизонтальным.
И вот Пепик вступил в переговоры с местной кассой о предоставлении ему кредита. Правление направило к Чермакам трех экспертов с поручением осмотреть изобретение и дать свой отзыв. Они явились однажды около полудня. Пан архитектор Коуделка ткнул пальцем в колыбель, с минуту наблюдал, как она подпрыгивала, и сказал: «Гм, качается!» Пан Шантрох, мельник и владелец ткацкой фабрики, остановил движение колыбели, в свою очередь толкнул ее и подтвердил: «Ну да, качается. Здорово!» А пан Водварка, торговец галантереей, человек солидный и рассудительный, отер рукавом затуманившийся никелированный стояк и осведомился: «А почем собираетесь продавать?»
Старый Чермак, прервав работу, с любопытством взирал на переговоры комиссии с сыном, а у печки прижимала к сердцу фартук взволнованная мать.
На очередное заседание правления городской кассы был приглашен и Пепик. Он обратился с речью к господам, сидевшим за длинным столом. В этой речи детально, как настоящий коммерсант, Пепик изложил свою калькуляцию, метод и планы.
Само собой разумеется, что изобретатель начал с упоминания об исключительно важном значении в человеческой жизни колыбели и гроба, не упустив случая процитировать при этом стихи Коллара, и сразу же перешел к делу:
— Господа, я прошу вас предоставить мне во временное пользование тридцать тысяч крон. Не на производство, — даю слово, что кредит на него в любую сумму, я повторяю: в любую сумму — и не ошибусь при этом, — я получу в ближайшее время и, возможно, даже от кого-нибудь из вас, если вы пожелаете вступить со мною в деловые отношения. Деньги, за которыми я обращаюсь к вам, нужны мне на несколько поездок и на рекламы. Позвольте же, глубокоуважаемые господа, изложить вам мой план.
Я решил вручить свою судьбу повивальным бабкам.
Мой план совершенно оригинален, и, поверьте, я утверждаю это без всякого самохвальства. Оригинальность его заключается не столько в изобретении колыбелей нового типа, сколько в способе, которым я хочу пустить их в продажу. Я решил отказаться от всякого посредничества, которое только излишне удорожает товары, и работать исключительно с повитухами! Вы, конечно, знаете, господа, что жизненный путь этого сословия не усыпан розами, и они не откажутся заработать лишнюю крону.
Так вот, господа, деньги мне нужны прежде всего на проспекты и почтовые расходы. Я напечатаю листовки с изображением и описанием своих колыбелек и разошлю их всем повитухам Австро-Венгерской державы. Я предлагаю этим женщинам пять крон с каждой проданной колыбели. Нечего сомневаться, что каждая бабка постарается продать их побольше. А стоит ли напоминать о том, что именно повивальная бабка — советчица матерей в самых интимных обстоятельствах, способствующая, как говорится, появлению ребенка на свет и знающая о ребенке за недели и даже за месяцы до его рождения; именно она имеет наибольшие возможности для распространения этого товара, да, господа, она имеет возможности бесконечно большие, чем расчетливый холодный торговец, равнодушный к семейной жизни, или действующий наобум коммивояжер.
А теперь, почтенные господа, позвольте мне вас кое о чем спросить. Итак, я сконструировал три типа колыбелей. Первый — для беднейших слоев населения за сорок пять крон, второй — для средних за шестьдесят и, наконец, колыбельку «люкс» с никелированным стояком — за сто крон. Не сочтете ли вы эти цены вздутыми?
— Напротив, — сказал пан Краус, слесарь, который изготовил для Пепика эту виселичку с колыбелью и, следовательно, разбирался в деле.
— Тогда позвольте задать вам еще один вопрос, — продолжал Пепик. — Считаете ли вы правдоподобным, что каждая повитуха, — не забудьте при этом об их многочисленной клиентуре в больших городах и о том, что мы стоим вне конкуренции, — продаст в год в среднем по сто колыбелей?
Почтенные господа, сознавая ответственность, молчали. Наконец, пан почтмейстер, он же владелец кирпичного завода, Патка сказал:
— Пожалуй, это возможно.
— Определенно, — подхватил Пепик и продолжал: — Итак, господа, на одной колыбели самого низшего сорта я выколочу чистоганом десять крон, на колыбели среднего типа — пятнадцать, на типе «люкс» — двадцать пять. Я предлагаю вам абсолютно точную калькуляцию, и знатоки подтвердят, что она совершенно реальна. А ведь я не принимаю во внимание того, что при массовом производстве расходы значительно снизятся и прибыль будет соответственно выше! Допустим даже, что спрос будет только на самые дешевые колыбели, по десять крон прибыли на каждой. Что же получается? Я просмотрел списки опытных повивальных бабок Австро-Венгерской державы, что ж, господа, предположим худший результат и будем рассчитывать только на опытных повивальных бабок; их всего сорок тысяч. Положим, что каждая из них продаст в год сто колыбелей, это составит четыре миллиона колыбелей. Пусть, как сказано, на каждой колыбели я выручу чистых десять крон. Господа, — повысил Пепик голос, — это составит в год сорок миллионов крон!
У господ глаза вылезли из орбит. Пепик выдержал продолжительную паузу, чтобы они подольше остались в этом положении. Но вот господа очнулись, взглянули друг на друга и расхохотались.
— Ну, может быть, немного скинем прибыль-то, — предложил торговец скобяными изделиями пан Ржегачек.
— Вы смеетесь, господа, — в голосе Пепика слышался упрек. — А я не смеюсь. Я принимаю во внимание самые неблагоприятные обстоятельства. Ну что ж, хорошо, пан Ржегачек, прикинем иначе. Я не стану утверждать, что каждая бабка может продать сто, пятьдесят или хотя бы двадцать колыбелей. Будем рассчитывать на то, что каждая опытная повивальная бабка продаст в год всего по десять колыбелей. — Пепик опять сделал паузу.
— Вот это, пожалуй, более вероятно, — решил пан архитектор Коуделка.
— И в таком случае, — опять повысил голос Пепик, — я заработаю в год четыре миллиона крон!..
Наступило молчание. И Пепик опять постарался, чтобы оно продлилось. А потом он воодушевился до того, что начал рубить рукой воздух:
— Ладно, пан архитектор и пан Ржегачек, я пойду даже на абсурд, на совершеннейшую глупость. Я предположу, что каждая бабка продаст только по пяти колыбелей… Но и в таком случае я получу все-таки два миллиона чистой прибыли. Я готов даже предположить, что каждая из них продаст по одной-единственной колыбели, и тогда я заработаю четыреста тысяч крон. И если только каждая вторая, каждая вторая из них продаст по одной-единственной колыбели — ну не глупость ли это? (Пепик забыл, что он находится перед досточтимым правлением, а не «В раю») — но даже и в этом случае я заработаю чистых двести тысяч крон в год!
Правление городской кредитной кассы безмолвствовало.
— А теперь, господа, позвольте мне задать вам последний вопрос, — совсем уже спокойно проговорил Пепик. — Можете ли вы теперь с полной уверенностью, без всякого риска, ссудить мне тридцать тысяч крон, необходимых для разъездов, проспектов и почтовых расходов?
После ухода Пепика господа согласились, что они могут дать ему деньги с полной уверенностью и без всякого риска.
Соответствующий вексель был подписан, и Пепик принялся за работу.
Прежде всего он отправился в Берлин. Много радости доставили ему здесь гостиницы с женской прислугой. Посетил Пепик и канцелярию металлургического завода Сименс и Гальске, где получил информацию о стоимости подрядов на колыбельки. Оказалось, что Сименс и Гальске брали дешевле Крауса на целых 4 кроны 60 геллеров со штуки, и Пепик, даже при самом осторожном подсчете, а именно, исходя из того, что каждая повитуха продаст в год всего-навсего десять колыбелек, помножил утром в номере 10 колыбелей на 40 000 повитух, а потом еще на 4 кроны 60 геллеров и таким образом легко высчитал, что его годовой доход превысит 1 840 000 крон, а поэтому ничего особенного не случится, если он потратит в Берлине несколькими марками больше, чем предполагалось. С немецким же производством он считал себя связанным лишь до тех пор, пока не будет построена собственная фабрика, хорошенькое местечко для которой он уже облюбовал на Изере близ Бытоухова.
Возвратившись на родину, Пепик немедленно обзавелся адресами акушерок Габсбургской империи и принялся за сочинение высокого по мысли и коммерчески целеустремленного проспекта. Вот тут-то пришлось ему попотеть! Готовый проспект Пепик послал в Прагу, чтобы в Берлитцовой школе его перевели на все двенадцать языков населяющих Габсбургскую империю народов, не исключая и еврейского. В типографии проспект размножили, и работа закипела.
Это было чудесное время.
Пан Гоуса, хозяин трактира «В раю», предоставил Пепику помещение рядом с буфетом. За министерское жалование Пепик нанял двух своих дружков, а веселая черноглазая немка помогала им добровольно. Пол в комнатушке был завален кипами проспектов и конвертов, столы — марками. Молодые люди складывали проспекты, вкладывали их в конверты, наклеивали марки, надписывали адреса, шутили и целовались. Много было тогда выпито вина и выкурено египетских папирос первого сорта. Гретель всласть полакомилась и пирожными с кремом и маринованными угрями. Далеко за полночь раздавались из каморки веселые песни и смех. О, то было лучшее время промышленного расцвета Пепика! В отчаянии был только пан почтмейстер, он же владелец кирпичного завода, Патка. Пепик и его друзья непрерывно таскали к нему бельевые корзины, полные писем, и всякий раз Патка швырял в угол длинную трубку и кричал:
— Черт побери твоих повитух, Пепик! Знай я все это заранее, то, даю честное слово, голосовал бы против твоего проекта!
Проспекты, разосланные Пепиком во все концы империи, свидетельствовали о его незаурядном литературном таланте. А о напористости будущего миллионера свидетельствовал уже тот факт, что его коммерческий пыл позволил ему, правда косвенно, посягнуть на жизнь собственной мамаши.
Лети же ввысь, мой ангелок!
Цель
всей моей жизни —
улучшать бытовые условия
тяжко страдающих повивальных бабок!!!
Все это было напечатано дюймовыми буквами. Под этим красовалась фотография патентованной колыбели Иозефа Чермака с девизом:
Укачивайте, не оставляя своих занятий!
И далее следовало:
Многоуважаемая пани!
Моя незабвенная, ныне покойная мамаша была повивальной бабкой. Я вырос в тяжелых, связанных с этой профессией жизненных условиях и знаю, сколько любви к ближнему, сколько труда, усердия, страданий и жертв заключает в себе это славное поприще. И что же? Чем платит человечество своим благодетельницам, которые являются, так сказать, творцами всей жизни на земле? Вы отлично это знаете, многоуважаемая пани… А я с самых юных лег испытывал глубокое уважение к вашему сословию, и теперь, будучи взрослым, я понял, что вечная память моей дорогой мамаши обязывает меня сделать кое-что для улучшения вашей жизни.
Далее следовал, пространный план спасения бедных страдалиц от всех невзгод в будущем (в том числе — от вымирания), и Пепик не забыл пренебрежительно отозваться о пресловутой чашке кофе, приготовленной в духовке для благодетельницы человечества.
От пяти до десяти крон с каждой проданной колыбели в вашу пользу, многоуважаемая пани!!!
Деньги будут уплачены немедленно по предъявлении счета за колыбель.
За колыбель I типа «люкс» с никелированным стояком стоимостью в 100 крон вы получите 10 крон.
За колыбель II типа стоимостью 60 крон — 6 крон.
За колыбель III типа стоимостью 45 крон — 5 крон.
Многоуважаемая пани! Производство колыбелей и торговля ими не организованы, дело предоставлено производственной анархии и находится в руках некомпетентных людей, нередко обращающихся с этим необходимым предметом грубо и в отношении цен — произвольно. А ведь именно колыбель является первым в ряду предметов, необходимых каждому человеку, бедному и богатому, образованному и необразованному.
Повивальная бабка стоит у ложа каждого вновь рождающегося человека. Пользуясь влиянием в семьях, она является советчицей в самые важные минуты жизни. К голосу повивальных бабок прислушаются. Опытным специалисткам в больших городах без труда удастся продать в год от ста до двухсот моих патентованных колыбелей.
Внимание! Это даст вам от пятисот крон до двух тысяч ежегодно…
Что же касается опытных повитух в маленьких деревнях с небольшой клиентурой, которым не удастся продать в год более десяти колыбелек самого простого типа, то и пятьдесят крон — это такой доход, которым никто не станет пренебрегать.
Дальше следовала врачебная рекомендация патентованной колыбели, как совершенной в гигиеническом отношении и к тому же оказывающей благоприятное воздействие на позвоночник, спинной мозг и легкие. Но особенно медики подчеркивали преимущества мягкого, быстро усыпляющего качания на пружине, достигаемого без всяких усилий легким прикосновением пальца.
Воззвание оканчивалось почти мистическими заклинаниями:
Только вертикальное укачивание
соответствует особенностям
человеческого организма!
Довольно горизонтальных укачиваний,
которые свойственны только существам,
находящимся на низшей ступени
развития!
Лети же ввысь, мой ангелок!
и в заключение:
Иозеф Чермак
широкое производство патентованных колыбелей,
Семили, Чехия.
Разослав сорок тысяч проспектов, Пепик со спокойной совестью стал ожидать результатов. В это время дела трактира «В раю» шли великолепно, потому что изобретатель вкупе со своими двумя секретарями и другими приятелями усиленно стремился к тому, чтобы несколько тысячных банкнот, уцелевших от кредита семильской кассы, как можно скорее превратились в гумпольдскирхенское, марсалу, вермут, контушовку, в сардины и маринованных угрей. Дядюшка Брандейс, пан Паточка и пан Лайплт, прочитав воззвание Пепика, дружно заявили, что он расторопный малый и денежки свои они получат. А папаша Чермак, кутаясь в пестрые перины на супружеском ложе, умиротворенно шепнул жене: «Видишь, мать, из нашего парня все-таки выйдет толк».
Но не вышло.
Заметим прежде всего следующее: ни одной из опытных повитух не удалось продать ста колыбелей. Ни одной из них не посчастливилось продать и десяти колыбелей. Ни одна не продала даже пяти колыбелей. Более того, все сорок тысяч повитух не продали и по одной колыбели. И даже: каждая вторая из них не продала хотя бы одну колыбельку.
Одну-единственную колыбель продала только одна из всех сорока тысяч опытных повитух — Анна Ротбархова, из местечка Св. Мартин в Каринтии, но ее заказ и по сей день остался невыполненным. Кроме того, Пепик получил еще и письмо. Одно-единственное письмо! Оно было из Фехердёрмата, на венгерском языке, и Пепику перевел его жандармский вахмистр.
В этом по-стариковски путаном письме, выведенном большими дрожащими буквами, было сказано следующее:
«Мой дорогой сыночек!
Так, значит, Ваша мамочка все же вышла замуж за гонведского фельдфебеля, а я всегда думала, что она осталась девицей, к тому же одна дама говорила мне, сорок лет тому назад, что она умерла где-то в Буковине. Так, выходит, она попала в Чехию, а Вы ее сын. Я этому очень рада. Мы с Вашей мамочкой пятьдесят лет тому назад вместе служили в будинском родильном заведении, и когда я вспоминала старые годы, то плакала навзрыд. Плакала и когда читала Ваше прекрасное письмо о том, что Вы желаете нам помочь. Но придумайте лучше что-нибудь другое, потому что из этого толку не будет. Здесь, где я живу, ни у кого нет колыбелей, у всех колясочки. Кланяйтесь папочке, он, конечно, помнит меня, мы ходили с Вашей мамочкой всегда вместе, и я частенько танцевала с ним в трактире «У гайдуцкой невесты». Я Вам очень кланяюсь, и дай Вам всемогущий бог счастья и здоровья.
Гедвика Гембесова, опытная повивальная бабка».Глаза Пепика чуть не вывалились из орбит, точно так же, как в свое время глаза членов правления семильской кредитной кассы от названной им цифры — сорок миллионов крон.
Да, то было страшное известие. Тем более ужасное, что Пепик начинал подозревать пана почтмейстера в том, что последний не только не отправил его сорок тысяч писем, но сжег их тайком.
Это был страшный удар, удар, подобный взрыву двух тонн экразита. Созданные фантазией Пепика роскошная фабричная труба из огнеупорного кирпича и собственное производство взлетели в воздух. От них не осталось и камня на камне. В письме старой акушерки из Фехердёрмата была жестокая правда.
Итак, колыбели — это обман! О, как низко обманывают доверчивых людей поэты, писатели, художники и другие опытные мошенники от искусства! Колыбелей никаких нет! Вот потому-то и в Семилях четыре похоронных бюро и ни одной колыбельной мастерской. Никаких колыбелей нет и никогда не было! С тех пор как стоит свет, маленьких детей укладывают в кровати и кроватки, в колясочки, на подушки, засовывают в полуоткрытые ящики комодов и диванов, кладут в бельевые корзины, в корыта, в коробки, стелят им в углу жилища на мешках и старых полушубках, а в горах баюкают на подвешенном к деревянной перекладине головном платке… но с тех пор как существуют люди на земле, их не укачивали ни в каких специальных колыбелях! И разве можно после этого верить поэтам? Почему же ни один из них не написал: «В оные дни колясочка, ныне могила народа», или же: «Над корзинкой моего ребенка»? Итак, Пепик попался на удочку литературной мистификации, а семильской кредитной кассе это стоило тридцать тысяч крон.
Казалось бы, Пепик обрел святое право ненавидеть всех поэтов, начиная с Коллара. Но нет, он не сделался их врагом. Пепик сохранил оптимизм. Вспоминая свою коммерческую неудачу, он только смеется: «Ну и что же, зато есть что вспомнить!» В конце концов все это ему не стоило и копейки.
А семильская касса? Ну, касса, разумеется, прогорела. И тридцать тысяч, ссуженных Пепику, отнюдь не явились единственной причиной. Подобного рода фантастических бастионов против германизации было на Изере и Олешке очень много. Их было столько, что, существуй они на самом деле, о них разбили бы в кровь свои головы и Арминий, и Карл Великий, и Барбаросса, и Отто, и Фриц, и Блюхер, и Мольтке, и Гинденбург, и «Толстая Берта», и Стиннес{115} — поодиночке и все вместе.
В тот день, когда в Семили приехали из Праги четыре господина, чтобы произвести в кассе ревизию, пан «директор в отставке» Поразума совершал вечернюю прогулку по булыжной мостовой главной улицы в обществе пана аптекаря. Это были два последние старочеха в Семилях, и, когда они на минутку остановились, пан директор в сердцах так застучал палкой с серебряным набором по мостовой, что раздался звон, и сказал: «По разуму ли вам, глубокоуважаемый пан аптекарь, вспомнить мои пророческие слова на памятном заседании в ратуше? Я всегда неотступно провозглашал тот принцип, что рыба портится с головы и ее надо отсечь твердой рукой!»
Под рыбьей головой, которую требовалось отсечь, подразумевался бургомистр Срнец.
Перевод Т. Карской.
АННА ПРОЛЕТАРКА Роман о 1920 годе{116}
Перевод Т. Аксель.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
«Анна пролетарка» — роман о революционном 1920 годе в Чехии. Сейчас, через двадцать пять лет, перечитывая его и стилистически (только стилистически) выправляя для нового издания, я кажусь себе одним из эпизодических персонажей этого романа, старым ткачом Оуграбкой, который тоже, в обстоятельствах уже совершенно иных, возвращался к воспоминаниям о том, каков был мир и рабочее движение пятьдесят лет назад. Как и он, я отмечаю: какие перемены со времен 1920 года! Как поразителен этот поход, проделанный за четверть века, — все вперед и вперед!
В те годы мы еще воевали против аграрных вельмож, национал-демократических банкиров и крупных промышленников, против правых элементов в социал-демократической и социалистической партиях, — короче говоря, против наследия Австрии — буржуазной демократии. Когда умерла полуфеодальная Австрия — отчасти от собственной дряхлости, отчасти в результате толчка извне — во владение наследством, согласно всем историческим и человеческим законам, вступил ее совершеннолетний сын — буржуазная демократия. Но к моменту дедушкиной смерти уже существует на свете и понемногу подрастает следующий наследник, тот, кто рано или поздно заявит о своих правах: революционный пролетариат. В 1920 году его сплачивающийся авангард громко подал свой голос. Революционные чешские рабочие по примеру своих русских товарищей отмежевались от старой партии{117} и в тяжелой борьбе с нею, идейно самой близкой им, — это часто случается в ходе исторических переломов, — создали новую партию, боевую, не отягощенную политическими компромиссами прошлого.
Об этом и рассказывает моя книга. На тему о революционном 1920 годе написан еще один роман — «Социалистическая надежда» видного поэта Иозефа Горы{118}. Обе книги имели сходную участь: в старой республике их не переиздавали; мой издатель распродавал неразошедшиеся экземпляры «Анны пролетарки» со скидкой через букинистов. Роман Горы был слишком локален по теме и материалу, пражскому и внутрипартийному; зарубежному читателю он едва ли был бы понятен. «Анна пролетарка» вышла в русском, украинском, японском и немецком переводах. Когда к власти пришел Гитлер, ее жгли на кострах вместе с другой коммунистической литературой.
А вот теперь я вживаюсь в роль старого ткача Оуграбки, вспоминаю Иозефа Гору и передовых писателей тех лет и говорю себе: как мы были правы уже тогда! Я думаю о героях этой книги, русой служанке Анне и Тонике, литейщике с завода «Кольбен». Наверняка они еще живы, ведь тогда они были совсем молодыми. В последний раз я видел их, когда они рядом, плечом к плечу, с голыми руками вступали в бой против вооруженной полиции. «Вперед, вперед, Тоник и Анна!» С этими же словами я обратился бы к ним и теперь: «Вперед, вперед, Тоник и Анна!» Тогда — в борьбе за лучшую жизнь, ныне — к ее созиданию.
Иван Ольбрахт
Прага, май 1946 года.
МОЛОДОЙ БАРИН
В первый же вечер на кухню к Анне зашла хозяйка. Утром этого дня Анна приехала в Прагу из родной деревни близ Пелгржимова и, держа в руках картонку со своими пожитками, вышла из Масарикова вокзала. Беспомощно, как заблудившийся щенок, брела она по шумным улицам, расспрашивая прохожих, как пройти к дому № 33 на Вацлавской площади.
Когда хозяйка к вечеру зашла на кухню, Анна провела в квартире Рубешей уже пять часов, познакомилась с семью комнатами и двумя выходами из этой квартиры, научилась зажигать газ, спускать воду в уборной и запирать дверь на цепочку.
Хозяйка держала в руке пачку газетных вырезок. Дородная, солидная, пятидесятилетняя, она остановилась около светловолосой служанки и сказала:
— Вы, Анна, неискушенная деревенская девушка и не знаете, что такое столица. Я принципиально не беру в прислуги пражских девушек, потому что все они испорчены. В Праге вам грозят страшные опасности, и я хочу по-матерински предостеречь вас. Если я расскажу вам все эти ужасы, вы, пожалуй, не поверите, так вот прочтите-ка это! — И она положила вырезки на стол. — Внимательно прочтите! А сейчас барышня покажет вам, как стелить постели, потом вы вымоете посуду и можете идти спать. Дверь на цепочку сегодня не запирайте, барин на заседании и вернется поздно. Ну, идите в спальню.
Барышня Дадла, семнадцатилетняя красивая брюнетка, научила Анну стелить постели.
— Поглядите, девушка! Вот это сюда… а здесь вот так… подушку сюда — шлеп! Ночную рубашку надо до половины вывернуть наизнанку и положить на одеяло, чтобы ее сразу можно было надеть, вот так. Для мамы каждый вечер ставьте на ночной столик стакан с водой… вот этот самый. Погодите, сейчас не наливайте, это делается перед сном. А если вы утром увидите в этом стакане кое-что, похожее на зубы, не пугайтесь, — это действительно будут зубы. Здесь, в Праге, вы увидите еще и не такие чудеса!
Потом они пошли в будуар барышни. Здесь все было розовое — стены розовые, и мебель розовая, и ленточки на одеяле, подушках и белье розовые, и даже на шее у большого медвежонка из коричневого плюша, сидевшего в углу в розовом креслице, была повязана розовая ленточка. В комнате сильно пахло духами.
— Всей квартирой правит мама, а здесь мой уголок, здесь командую я; и это куда хуже! Ну, смотрите во все глаза! Вот так надо встряхнуть одеяло. Ночная рубашка кладется сюда, чепчик рядом, на ночном столике всегда лежит зеркальце и прибор для маникюра… вот эта штука. Это туалетный столик, а здесь умывальник. Поняли? Запомните хорошенько, как стоят флаконы, коробочки и вазочки, завтра присмотритесь к ним получше, сегодня вы еще какая-то ошалелая. И если во время уборки вы переставите их иначе, быть скандалу! Ну, а теперь идите себе с богом… Вас зовут Анна, не так ли?
— Да, барышня.
— Мама уже дала вам эти увлекательные вырезки о Кише и Ландру?
Анна не поняла вопроса, а у барышни был такой вид, что не поймешь, говорит она всерьез или подшучивает. Анна смутилась.
— Ну, конечно, дала, — продолжала Дадла. — Они лежат там, в кухне на столе. У нас их получает каждая прислуга. Прочтите, — это роскошное чтение, после него каждая служанка ведет себя образцово не меньше двух недель. Если у вас от этого чтения разболится живот, приходите утром ко мне, я угощу вас шоколадкой.
В черных глазах барышни прыгали веселые искорки. Ее, видимо, забавляла беспомощность этой новой служанки, деревенской девушки со светлыми косами и испуганными глазами, в дешевеньком платье с засученными рукавами.
Барышня Дадла засмеялась весело и мило, почти так, как смеялась сама Анна с девочками в школе.
— Хочешь? — осведомилась она таким тоном, каким спрашивала Анну ее подружка в деревенской двухклассной школе.
Дадла выдвинула ящик ночного столика, вынула оттуда плитку шоколада, отломила кусок и протянула Анне.
— На, возьми! Живи по-царски!
— Спасибо вам! — воскликнула удивленная Анна.
— А теперь можете идти, — заключила Дадла.
И перед Анной была уже не школьная подруга, а барышня, привыкшая распоряжаться прислугой.
Пока Анна мыла в кухне посуду и ставила ее на полки, супруга архитектора Рубеша еще три раза заглядывала на кухню. Потом Анна пошла спать в каморку около ванной. Каморка была крохотная, три шага в длину и три в ширину, но чисто выбеленная и с электрической лампочкой под потолком. Узкое, забранное решеткой окно выходило на лестницу. Не будь Анна так ошеломлена впечатлениями, ей бы здесь даже понравилось.
Однако еще не все испытания этого дня были закончены.
Анна села на кровать и, послушная приказанию барыни, стала читать газетные вырезки. Это были жуткие, полные ужасов кровавые истории об ограбленных, обманутых и умерщвленных служанках. Вот, например, в Париже жил некий Ландру, дьявол в образе красивого мужчины; он заманивал девушек в свою виллу, убивал их и, искромсав тела на куски, сжигал в печке. Анна представила себе эти обнаженные тела и лужу крови, струйки которой текут до самых дверей; рядом стоит Ландру с налитыми кровью глазами и, криво усмехаясь, точит нож… Нож так скрипит на сухом бруске, что у Анны бегут по спине мурашки.
Анне чудится печь и около нее жуткий убийца. Озаренный алым отблеском пламени, он, засучив рукава, сует в печь ноги, руки, головы… Горят волосы и обугливаются щеки, черепа скалят зубы на того, кого они хотели любить…
В венгерском городке Цинкоте жил жестянщик по имени Киш. «Образованность» и вкрадчивые манеры стяжали ему успех у женщин. Но горе той, которая, поддавшись чарам Киша, переступала порог его дома: жестянщик превращался в мясника, хватал девушку, как овечку на бойне, и перерезал ей горло! Трупы своих жертв он укладывал в железные бочки, запаивал их и прятал в погребе, превратив его в жуткое кладбище без крестов…
В Праге тоже были свои Ландру и Киши, они подстерегали девушек на Вацлавской площади и у Масарикова вокзала, улыбаясь подходили к ним, клялись в любви, обещали жениться, — по все это только для того, чтобы убить, ограбить или, по меньшей мере, выманить все сбережения у своих доверчивых жертв и сделать их на всю жизнь несчастными.
Анна сидела на кровати, погрузившись в чтение вырезок из «Народни политики»{119}, и в голубых глазах девушки было не меньше ужаса, чем в глазах умерщвленных возлюбленных жестянщика Киша. Высоко под потолком горела электрическая лампочка, и в ее свете крохотная выбеленная каморка казалась холодной и мертвой, как тела жертв страшного убийцы Ландру.
Анне вдруг стало страшно за свою судьбу. Этот страх появился еще утром, когда она с замирающим сердцем сошла с поезда и, держа картонку подмышкой, брела по шумным улицам. Но особенно остро она ощутила его сейчас. Ее потянуло к родному дому, к теплой хате с дырявой крышей, залатанной старой фанерой и рекламными табличками страховых компаний и фабрик суррогатного кофе. Потянуло к веселым лужайкам, где она пасла мамину козу и соседских коров, потянуло к тополям родного края и веселым кострам, у которых она сиживала с пастухами, прикрыв голову мешком. Ей стало жалко мать, пьяницу-отца и пятерых младших сестер…
Анна расшнуровывала ботинки и плакала, раздевалась и поливала слезами каждую складку своей деревенской одежды из синего в крапинку ситца. Забравшись в постель, она натянула одеяло на голову и долго вздыхала. Ей было очень страшно и тоскливо, и она до утра не могла уснуть.
— Ну, Анна, прочли вы эти вырезки? — спросила утром хозяйка.
— Да, — прошептала бледная Анна.
Архитекторша прошлась по кухне, ее мощный бюст колыхался под халатом. Она потрогала рукой всю посуду, вымытую вчера Анной, и взглянула на палец — нет ли жира. Потом стала выдвигать и задвигать ящики буфета, поглядела, как отвернуты краники у плиты и правильно ли горит газ.
— Чистота важнее всего, Анна, — сказала она. — У нас, в Праге, ничего нельзя держать открытым, — здесь не то, что у вас в деревне: сразу садится сажа и пыль. Сейчас вы подадите барину завтрак; я вам покажу, как это делается. В девять часов зайдете к барышне — узнать, когда она хочет завтракать. Если она еще будет спать, не шумите и ходите потихоньку.
Затем хозяйка перешла к самому главному.
— Так, значит, вы прочли о совратителях неискушенных девушек? — Архитекторша сделала строгое лицо. — Будьте осторожны, Анна, будьте осторожны! Вы молоды, и мой долг перед вашей матерью — предостеречь вас. Около нас, в соседнем доме, тоже был такой случай. Девушка потом утопилась с горя. Соблазнителя присудили к двум годам тюрьмы, причем выяснилось, что это уже его восьмое преступление. Не вздумайте дружить с прислугами из нашего дома, это не доведет до добра. И вообще лучше ни с кем не болтайте. В воскресенье после обеда можете пойти в церковь, а если вы любите читать, у нас есть много хороших книг. Сидите-ка лучше дома, тогда с вами ничего не случится. Это вам же пойдет на пользу. Я вас многому могу научить, не только хозяйству — это само собой разумеется, но и хорошим манерам. Такое место, как у нас, трудно найти: барин — известный архитектор, а я из семьи крупного чиновника. Мой отец занимал пост бургомистра. Я говорю об этом не ради хвастовства, а просто, чтобы вы знали, у кого служите. Меня вы скоро узнаете. Я вице-председательница благотворительного общества «Чешское сердце», и для меня нет большей радости, чем делать людям добро. Я люблю людей и горжусь тем, что хорошие люди любят меня. Вас я тоже полюблю, если вы будете вести себя достойно. Вы будете жить у нас, как в родной семье. Я неохотно меняю прислугу, и если вы окажетесь послушной и усердной, вам будет у нас так хорошо, как нигде.
Для измученной души Анны эти слова были как бальзам. Ей было уже знакомо это целительное чувство облегчения: дома, на проповеди в пелгржимовской церкви, священник, закончив живописание котлов с кипящей смолой и прочих ужасов ада, распахивал перед прихожанами завесу небес, за которой сияет рай и слышится ангельское пение. Сейчас Анна узнала, что и в Праге существует не только ад с железными бочками и раскаленными печами, куда попадают нескромные и легкомысленные служанки, но и вечный рай для служанок усердных и послушных.
— Вы меня поняли, Анна, не правда ли? — приветливо сказала барыня и добавила более строго: — Будьте же послушной, избегайте знакомств. И не заводите дружбы с привратницей.
— Не буду, барыня, не буду! — ответила искренне благодарная Анна.
— Ну, то-то! — сказала архитекторша. — Однако уже семь часов, скоро встанет барин. Сходите-ка за булками. Булочная в соседнем доме. Скажите, что вы от нас, вам дадут все, что нужно.
Предостережения барыни были вполне справедливы, Анна убедилась в этом в ближайшие дни. Прага подобна дьявольской мельнице, которая непрерывно крутится и мелет со звоном и дребезжанием. У каждого голова пойдет кругом в этой столице, все соблазны существуют здесь только для того, чтобы приносить людям неприятности. Вот, скажем, заглядишься ты на Вацлавской площади на шествие громадных рекламных макетов-бутылок, у которых внизу шагают ноги в брюках, — просто потеха, так и хочется прыснуть со смеху! — и вдруг какой-то прохожий едва не сбивает тебя с ног. Залюбуешься у витрины на роскошный, совсем как живой манекен в великолепном корсете чуть не до колен — и вдруг у тебя выбивают из рук сумку с картофелем, и приходится собирать его по тротуару под ногами у прохожих. А когда ты на главной улице бросаешься в сторону от трамвая — можешь быть уверена, что за спиной у тебя рявкнет автомобиль и ты с перепугу чуть не угодишь под тележку, которая движется тебе навстречу. И если услышишь: «Ослепла ты, что ли, дурища этакая?» — то можешь еще радоваться, что с тобой не стряслось чего-нибудь похуже. Барыня права: лучше сидеть дома.
Да и зачем ходить куда-то, если у доброй барыни в доме живется сытно и безопасно. Анна ела почти то же, что хозяева, а обилие работы ее не пугало, — дома в деревне она привыкла к более тяжелому труду. Барыня строга, но сердце у нее доброе. Она состоит в благотворительном обществе, и ни один нищий не отходит от ее дверей, не получив чашки кофе и ломтя хлеба или остатков обеда.
Вид нужды искренне удручал архитекторшу.
— Ах, сколько на свете горя! — вздыхая, говорила она. — Сколько ужасной нужды, милая Анна! Как приятно хотя бы немного уменьшить ее, помогая людям. Я счастлива, что мои средства дают мне такую возможность. Это моя единственная радость. Вы сами видите, как мало я пользуюсь жизнью. Я бы раздавала еще больше, если бы могла. Отрадно думать, что обо мне, быть может, вспомнят с благодарностью. Теперь наша страна получила независимость, — добавляла она, — и, наверное, жить станет легче, как только мы залечим раны, нанесенные войной.
Анна слушала, опустив глаза, и была глубоко тронута.
Обслуживать барина было совсем просто. Четыре раза в день он мелькал в передней, коренастый, бритоголовый, с коротко подстриженной седоватой бородкой и сокольским значком{120} на лацкане пиджака. Анне он не давал никаких поручений, всем хозяйством распоряжалась жена. Рубеш уходил рано утром, возвращался поздно вечером и дома задерживался только на один час после обеда — прочитать газеты и немного приласкать барышню Дадлу. Видно было, что он ее любит. Но его ласки были какие-то торопливые, словно он все время напоминал себе, что, собственно, у него нет на это времени. Рубеш обнимал дочь за плечи, заглядывал ей в глаза и похлопывал по спине, как лошадь.
— Ну, как дела, жеребеночек?
Он дарил ей духи, кружева, чулки и шелк, но часто забывал эти подарки в карманах своего кожаного пальто. Иногда за обедом он спохватывался, словно вспомнив что-то, поглядывал на дочь и говорил небрежным тоном:
— Сегодня твой папа заработал кое-какую мелочь. Что тебе купить?
— Лучше дай мне денег, папочка.
Отец качал головой.
— Не проси денег, девочка. Деньги — это дрянь, с ними надо уметь обращаться. Ладно, дам тебе наличными, но немного. Зато когда-нибудь приведу тебе принца.
— А чернобурку принесешь?
Он улыбался и кивал в знак согласия.
Обслуживать барышню было не так легко, как хозяина. Она становилась страшно придирчивой, когда дело касалось белья. Свои вещи она очень любила, ласкала их, называла уменьшительными именами — рубашечка, штанишки, халатик, кружевца. Стоя перед зеркалом, она прижимала к себе любимые вещи, нежно поглаживала их, терлась о них щекой, словно это были живые существа, и терпеть не могла, когда с ее вещами обращались небрежно или портили их. Но и барышня была незлая и нередко, швырнув Анне плохо выглаженный лифчик, через час приходила на кухню и угощала прислугу шоколадом или сладким миндалем.
— Хочешь? — говорила она тоном школьной подруги. — Только не говори маме, а то она скажет, что я тебя порчу.
Впрочем, у Дадлы были причины не ссориться с Анной. Иногда, вечерами, когда мать уходила на заседание своего благотворительного общества, Дадла появлялась в кухне нарядно одетая, в лакированных туфельках и самой шикарной шляпке.
— Я на минутку к приятельнице. Но маме вы не говорите, Анна, — небрежно бросала она. А возвратившись за полчаса до прихода матери, барышня подходила к Анне и угрожающе глядела на нее черными глазами: — Никому ни слова, Анна! — В дверях своей комнаты она снова оборачивалась: — Я подарю вам прелестную рубашечку.
Но барышня Дадла была не единственной представительницей младшего поколения Рубешей. В одной из комнат квартиры недавно кто-то жил; когда Анна поступила к Рубешам, в той комнате еще чувствовался мужской запах: пахло табаком и брильянтином; на ночном столике оставалась горстка пепла, лежал журнал «Игры и спорт» и раскрытый номер «Ла ви паризьен».
Эта комната манила Анну своей таинственностью.
— Барыня, чья это комната возле гостиной? — спросила она однажды хозяйку, когда та шпиговала на кухонном столе зайца.
Архитекторша испытующе взглянула на Анну.
— Воспитанный человек не задает вопросов, запомните это, Анна. Воспитанный человек ждет, пока ему скажут то, что считают нужным… Но у меня нет причин что-то скрывать от вас. Эта комната моего сына Честмира. Он в отъезде… в Париже…
Архитекторша вдруг бросила работу и начала беспокойно ходить по кухне, бесцельно беря в руки то одну, то другую вещь и упорно отворачиваясь от Анны. Потом она уставилась в окно, вынула из халата платочек, высморкалась и снова принялась за зайца. А когда Анна подняла глаза от миски с кнедликами, то увидела, что барыня плачет.
Анна страшно перепугалась. Хозяйка заметила, что девушка смотрит на нее.
— У меня было два сына, Анна, — начала она. — Старшего я потеряла во время войны. Муж с большим трудом устроил его в министерство в Вене, и я благодарила бога, что его не посылают на фронт, — думала, это бог весть какое счастье! А он там умер. Сейчас он был бы уже архитектором. — По щекам хозяйки скатились две крупные слезы. Она снова вынула платочек. — Жизнь жестока! Вам легко живется, Анна. А вот мне даже некому выплакаться. Муж вечно занят, а дочери я не хочу омрачать молодость своими горестями. Даже выплакаться некому… — повторяла хозяйка и громко всхлипывала. И это сочетание подлинного горя с эгоистической жалостью к самой себе, вид этой пухлой руки со шпиговальной иглой и кусками сала, — рука не прекращала работы, хотя заячье филе было орошено слезами, — вызывали в Анне удивление и жалость.
Знай Анна все, она бы еще больше пожалела хозяйку. Но тогда Анна еще не знала, что архитекторша оплакивает не только сына, умершего в Вене, но и младшего сына — Честмира. Никто еще не рассказал Анне, что этот молодой человек за три месяца прокутил с русской эмигранткой, княжной Ковалевской, сумму, которой хватило бы отцу Анны на сытую жизнь со всей многодетной семьей до конца его дней. Анна еще не знала, что Честмир получил по подложным векселям на имя отца больше двухсот тысяч крон и уехал с Варварой Николаевной в Германию, где его сейчас ищут нанятые отцом частные сыщики. Анна не знала, что причина слез архитекторши — не только двое ее сыновей, но и старшая дочь Зденка, которая на студенческом балу влюбилась в бедного чахоточного студента, и, когда отец решительно сказал: «Нет», она столь же решительно сказала: «Да!» Получив от отца пощечину, Зденка не проронила ни слезинки, взяла наутро свои драгоценности и сберегательную книжку и уехала к возлюбленному, в дом его отца, деревенского пекаря на Сазаве.
Зденка была совершеннолетняя, и влиятельные друзья Рубеша сказали ему: «Весьма сожалеем, господин архитектор, но силой ее вернуть нельзя». Рубеш хотел было помешать дочери получить деньги по книжке, доказывая, что эти деньги его, но находчивые сазавские пекари сумели привлечь к защите богатой наследницы местную газету и деятеля национал-социалистической партии. Архитектор получил номер «Голоса Средней Чехии» со статьей об этой истории. Рабочие одной из его строек в Бенешове тоже прочли ее и разнесли весть по всем другим стройкам, а привратница дома № 33 на Вацлавской площади показывала вырезку всем жильцам. В то время, когда происходил описываемый нами разговор Анны с хозяйкой, муж Зденки умирал от туберкулеза в Швейцарии, в Давосе, и его молодая жена была с ним.
Все это Анна узнала позднее. Не имела она представления и о том, что каждое утро, на рассвете, хозяйка встает с постели и, нащупав на ночном столике бумажник мужа, крадет оттуда пятидесятикроновую или двадцатикроновую кредитку, чтобы, накопив приличную сумму, послать ее в Давос и облегчить последние дни зятя, которого она видела только раз в жизни, на том самом балу.
Да, хозяйка Анны не была счастлива. Даже ее единственная отрада — благотворительность — подчас не приносила ей желанного удовлетворения.
Анне запомнился ужасный случай.
Однажды она варила в кухне обед, а хозяйка вытирала пыль в гостиной. У дверей позвонили, и Анна пошла отворить.
Перед ней стояла бедно одетая женщина со свертком в руке.
— Госпожа Рубешова дома? — спросила она дрогнувшим голосом.
— Дома. Что ей передать?
Но незнакомка нажала на дверь и прошла мимо Анны в переднюю. Она открывала одну дверь за другой и заглядывала в комнаты. Анна бежала за ней.
— Сударыня, так нельзя, так нельзя! — испуганно шептала она и хватала женщину за рукав. Но та уже добралась до гостиной и очутилась лицом к лицу с хозяйкой.
— Вы госпожа Рубешова, да?
— Что вам угодно? По какому вы делу? — строго спросила хозяйка.
— Сейчас я скажу вам, что мне угодно, — незнакомка старалась говорить спокойно, но видно было, что она очень волнуется. — Вы мне прислали из «Чешского сердца» вот эти брюки и два кочана капусты. Получите их обратно! — Она положила сверток на стол; он раскрылся, и Анна увидела старые брюки хозяина и два кочана капусты. Незнакомка толкнула эти вещи в сторону хозяйки.
— И вот что я хочу вам сказать: подите вы к черту с вашей благотворительностью! — В голосе женщины слышалось ожесточение.
Хозяйка побледнела.
— Не надо нам ваших подачек, мы хотим получать свое по праву! — кричала женщина. — Знаете вы, кто мой муж? Тридцать пять лет он работал каменщиком у вашего мужа и его отца. А теперь ваш муж выбросил его на мостовую, потому что он стал стар, износился, нажил ревматизм, охромел, потому что из него уже ничего не выжмешь! Страхкасса не платит ему ни копейки, а когда неделю назад он доковылял до стройки, ваш муж велел полицейскому вывести его! Поглядите на меня, вы, благотворительница! — Женщина засучила рукав и показала высохшую руку, совсем без мышц — кожа да кости.
— Это увечье тоже на вашей стройке, и мне платят за него тридцать две кроны пенсии в месяц! А много ли я еще могу приработать? Мы подыхаем с голоду! Думаете, можно старыми брюками возместить все это? Ловко вы распределили роли со своим мужем: он дерет с нас три шкуры, а вы посылаете нам старые брюки, чтобы прикрыть нашу наготу!
— Что вам здесь нужно? — заикаясь, твердила архитекторша. — Я вас не знаю и не посылала вам этих вещей. Это подарок «Чешского сердца». Зачем же вы говорите все это мне? Это, конечно, ужасно, я знаю, но при чем здесь я? — Архитекторша с трудом сдерживала слезы.
— При чем здесь вы? — закричала женщина, и на ее впалых щеках выступили багровые пятна. — А откуда у вас все эти гостиные? Вся ваша квартира пропахла духами! Откуда у ваших сыновей деньги на кутежи с потаскухами? Ну, конечно, вы здесь ни при чем! — кричала она, язвительно смеясь. — Конечно, вы здесь ни при чем! — повторила она с презрением. — А ради кого, как вы думаете, ваш муж обдирает нас? Ради себя? Мы его знаем уже тридцать пять лет, сударыня; знаем, как он живет, как одевается, что ест и пьет. На девок у него уходило не много, — ведь он водил работниц со стройки к себе в контору и прибавлял им за это по пятачку в час. Это ради вас он выжимает из нас соки!
Женщина обвела гостиную взглядом, ее глаза были как два огнемета.
— Вот для чего он это делает! — кричала она, тыча пальцем в диваны, кресла, статуэтки и картины. — Вот для чего! Ради вас! Ради вас! — Она наступала на архитекторшу, и та, бледная и перепуганная, шаг за шагом отступала к роялю. — Чьим трудом приобретены эти вещи? Моим и моего мужа! На наши деньги! Это кровь моего старика, это мое молоко! — Она ударила себя в плоскую грудь. — Вот из этой груди я отдавала молоко, я обкрадывала собственных детей, для того чтобы толстели вы!
— Прошу вас… — шептала архитекторша. — Пожалуйста, прошу вас… Право, я здесь ни при чем… ведь я даже не знакома с вами…
Женщина закашлялась.
Перепуганная Анна слегка потянула ее за рукав.
— Сударыня, пожалуйста…
— Полнотой вы меня не попрекайте, — говорила архитекторша. — Она меня очень тяготит, поверьте. Я всячески стараюсь похудеть, ем очень мало, это вам и Анна подтвердит…
Кашель незнакомки перешел в отрывистый, судорожный смех, потом опять сменился сильным приступом кашля. В груди у женщины хрипело и свистело.
Анна все еще тянула ее за рукав:
— Сударыня, пожалуйста…
— Ладно, девушка, — усталым голосом сказала женщина. — Дура она, твоя барыня! Ни слова не поняла из того, что я ей говорю. Она и впрямь верит, что она тут ни при чем… Ведь она лечится от полноты в Карловых Варах! И у нее добрая душа! Ловко они разделили роли со своим мужем!
Она подошла к столу и вытащила из-под брюк и капусты платок, в который они были завернуты. Брюки остались на столе, а оба кочана скатились на пушистый ковер.
Женщина пошла к выходу. У дверей она обернулась, погрозила кулаком; и голос ее неожиданно окреп:
— Нашему сыну пятнадцать лет. Придет время, он отомстит за нас!
— Сударыня, прошу вас! — умоляла Анна.
Но изнуренную жену каменщика уже не надо было уговаривать. Анна заперла за ней дверь и вернулась в гостиную, чтобы унести оттуда старые брюки и капусту. Хозяйка стояла посреди комнаты, бледная, как алебастровая статуэтка в углу у дивана, и смотрела перед собой остановившимся взглядом, в котором были жалость, обида, стыд и справедливый гнев.
Анна ушла на кухню. Она тоже была бледна, вздрагивала, и работа валилась у нее из рук; ей хотелось плакать. Как несправедливо обидели хозяйку! Анне было стыдно за чужую женщину. Но и для этой женщины у нее не нашлось бы резкого слова. Ведь Анна знает, каково живется семье каменщика, когда у него нет работы, а лавочник не дает в долг даже осьмушки дробленого риса. Но разве виновата хозяйка в том, что на свете есть нищета, есть изувеченные каменщики и их доведенные до отчаяния жены? Как тяжело все это! Как тяжко жить в этом Вавилоне, имя которому Прага! Насколько легче и проще было у них дома, в родной деревне.
В передней щелкнул замок, хлопнула дверь, и в кухню заглянула барышня Дадла. Она вернулась с урока английского языка.
— Где мама?
— В гостиной, барышня, — испуганно сказала Анна.
Дадла прошла в гостиную. Она не добилась от матери ни слова и вернулась на кухню.
— Опять что-нибудь случилось? — воскликнула она.
— Ах, господи боже, барышня… — сказала Анна, хватаясь за голову. Только сейчас у нее нашлись слова, и она рассказала Дадле о случившемся.
Барышня бросилась в гостиную.
— Плюнь ты на эту свою идиотскую благотворительность! — кричала она. — Сколько раз я тебе говорила! Что от нее толку? Одни огорчения и неблагодарность! Почему вы не выгнали эту бабу? Почему не вызвали полицию? Сейчас позвоню папе, чтобы он велел немедленно арестовать ее. Уж он-то доищется, кто она такая! Сто раз тебе говорила: найми горничную! Чего еще можно ждать от Анны, этой деревенской телки! Живем, как лавочники, квартира у нас — проходной двор, даже в гостиную лезут всякие каменщицы. Вот до чего доводит твоя дерьмовая гуманность! Вот до чего доводит дурацкая экономия на прислуге!
Она хлопнула дверью так, что посыпалась штукатурка, пошла в кабинет отца, позвонила ему оттуда, потом направилась в свой розовый будуар и тоже хлопнула дверью.
— Вот видите, Анна, как благодарят меня за добрые намерения, а хозяина за то, что он дает работу людям, — сказала на следующий день барыня, когда они готовили обед. В ее голосе была горечь. — Эта женщина говорила неправду. Если мой муж и зарабатывает что-нибудь, то не на их труде — от него одни убытки! — а на казенных поставках.
Анна молчала.
— Вы не судачите с Дворжаковой?
— Нет, барыня.
— А с Марженой с четвертого этажа?
— Тоже нет, барыня.
Дворжакова была привратницей, а Маржена служила прислугой в квартире этажом выше. Анна несколько раз видела ее во дворе и в лавке. Маржена была бойкая девушка. В булочной она подшучивала над другими прислугами: связывала их друг с дружкой завязками от фартука, незаметно щекотала им шею стебельком; девушки почесывались, смущенно озираясь по сторонам, а вся лавка хохотала. Анна, собственно говоря, больше слышала, чем видела Маржену: по утрам обе служанки, распахнув окна, убирали свои квартиры, и Маржена обычно пела за работой. Ее песенки — «Щеголи», «Дубовый листочек» и «Либенский мост» — разносились по двору. Маржена пела для всего дома, и, видно, ей хотелось, чтобы ее песня через крыши домов разносилась по всей Вацлавской площади, по всей Праге. Анна слушала, прячась за портьерой. Ей тоже было весело, и она улыбалась. Песенке «Либенский мост» она даже подпевала. По лестнице Маржена обычно скакала через три ступеньки, а если болтала с кем-нибудь, ее смех раздавался по всему двору.
— Это опять та сумасшедшая, с четвертого этажа, — говорила архитекторша, когда Маржена вихрем проносилась мимо их двери. А привратница Дворжакова, заслышав шум, выбегала из своей каморки:
— Это что еще за шум?
Но, увидев Маржену, она смягчалась и сердилась только для виду:
— Ах ты ветрогонка этакая! Вот как угощу тебя шваброй!
Она хватала швабру и шлепала девушку. Маржена взвизгивала, хваталась за бока и с хохотом выбегала на улицу.
Однажды утром Анна вышла за покупками и на площадке лестницы столкнулась с Марженой. Та подошла к ней и приветливо улыбнулась.
— Что ж это ты, блондиночка, все торчишь дома со своей старухой? Пойдем-ка с тобой подцепим кавалеров да на гулянку!
Анна зарделась и опустила глаза. Маржена засмеялась.
— А что, вашего барчука еще не нашли? — спросила она. — Он лихой франт, ого!.. А что сказала твоя старуха, когда Нехлебова отчитала ее? Ты не знаешь, кто такая старая Нехлебова? Это та, что приходила с брюками и капустой. Чего ты вытаращила глаза? Нам с Дворжаковой все известно; так-то, моя милая!
Анна чувствовала себя, как на раскаленных угольях. Чем больше Маржена смеялась, тем больше Анна краснела.
Не дождавшись ответа, Маржена сбежала вниз по лестнице. Внизу она остановилась и со смехом взглянула на Анну, которая все еще не двигалась с места.
— А ты, я вижу, еще порядочная недотепа! — воскликнула она, надрываясь от хохота.
До сих пор Анна ни с кем не встречалась и не разговаривала. «Какие у вас красивые волосы, девушка!» — говорили ей в распивочной Шенфлока, куда она ходила за литром черного пива к ужину. Но Анна потупляла взор и в ответ на все вопросы и шутки упорно отмалчивалась. «Ишь какая гордячка!» — усмехался буфетчик в белой куртке, беря у нее пивные кружки. А если у входа какой-нибудь парень, в надежде познакомиться, бросал ей: «Куда вы так торопитесь, девушка?», Анна вбирала голову в плечи и бежала так быстро, что пена из кружек выплескивалась ей на передник. Кроме как за покупками, она никуда не выходила. Да и зачем? Работая с шести утра до девяти, а то и до десяти вечера, она бывала рада поскорее лечь в постель, уснуть и спать до тех пор, пока хозяйка, открыв рано утром дверь в каморку, певуче не окликнет: «Анна!» Стучать в дверь или звать Анну из-за двери было напрасно, иногда приходилось даже трясти ее за плечо: «Эй, Анна, пора вставать, слышите!»
По воскресеньям, после обеда, хозяйка выдавала Анне книги для чтения. Это были повести о гуситских войнах{121}, старые чешские предания, а также рассказы о Шерлоке Холмсе, Леоне Клифтоне и Нике Картере. Начитавшись историй о сыщиках, Анна долго не могла заснуть и несколько раз вставала с постели, чтобы проверить, хорошо ли заперта входная дверь. В хозяйской библиотеке была еще одна чудесная книга — стихи о весне, о луне над прудом и о сладостных томлениях сердца. Эти стихи будили в Анне воспоминания о межах, поросших мятой, о домике с латаной крышей, где жили пять ее сестер. В табачной лавочке, куда Анна ходила за сигарами для хозяина, она покупала открытки с видами заката на озере, где солнце было словно из настоящего золота, переписывала на открытки четверостишия из этой книги и посылала их своим сестрам и деревенским подружкам. Ей хотелось напомнить о себе и немного прихвастнуть.
У барышни Дадлы тоже были книги, она их прятала в комоде под бельем.
— Бросьте вы эти сказочки для младенцев, Анна, — сказала она однажды. — Я дам вам кое-что получше. Только маме ни гугу и читать, когда ее нет дома!
Книги Дадлы были совсем не то, что хозяйкины: в них было много картинок, изображавших элегантных мужчин и полуобнаженных дам. Анна даже покраснела, когда впервые перелистала такую книжку. Но, взявшись за чтение, она убедилась, что это гораздо интереснее, чем описания гуситских войн или похождений сыщиков. От чтения этих романов у Анны иногда даже кружилась голова. Девушка проводила рукой по раскрасневшемуся лицу, вставала из-за стола и, пройдясь по кухне, распахивала окно, чтобы освежиться. В одной из книжек была красивая картинка: элегантно одетый господин держит в объятиях даму. Он — сын стального короля, а она — супруга престарелого герцога. Дама в одной рубашке и кружевных панталонах, с левого плеча у нее спустилась бретелька, так что видно грудь. Подпись под картинкой гласила: «Люблю тебя, люблю!» — стонал Джо, прижимая ее к своей мужественной груди».
Анна часто и подолгу смотрела на эту картинку. Ее голубые глаза принимали мечтательное выражение. Прижмет ли кто-нибудь и ее, Анну, к мужественной груди, услышит ли и она стон: «Люблю тебя, люблю!»?
Анна сидела на табурете между кухонным столом и раковиной для мытья посуды, под лампочкой, низко спущенной на шнуре, и мечтательно глядела перед собой. Картинка в книжке чем-то напомнила ей о комнате молодого барина, пропахшей брильянтином и табачным дымом и исполненной тайны. Придет ли молодой барин? Придет ли Джо? Ей казалось, что она уже любила его.
И он пришел. Неужели это был не сон и он действительно позвонил у дверей? Она сразу узнала его, и у нее сильно забилось сердце. Он стоял перед ней на плетеном коврике прихожей, в сером пальто, мягкой шляпе, американских перчатках и модных ботинках. Он стоял, молодой, красивый, с интересной бледностью лица и синеватыми тенями под глубокими томными глазами. У дверей в учтивой позе застыли два пожилых господина.
— Мама дома? Я Честмир Рубеш. Вы наша новая прислуга?
Его голос прозвучал твердо и ясно.
— Никого нет дома. Барыня с барышней ушли в город, — заикаясь, сказала Анна.
— Bitte[37], — произнес Честмир, обернувшись к своим спутникам, и уверенно прошел прямо в свою комнату. Спутники последовали за ним.
— Когда придет мама, — сказал он Анне, даже не взглянув на нее, — скажите ей, что я приехал.
И он исчез в своей комнате.
Анна осталась стоять в передней. Появление Честмира было подобно чуду. Словно сияющее облако вдруг спустилось в квартиру. Анна смотрела на красную ковровую дорожку, по которой прошел молодой барин, и ей казалось, что на дорожку легла серебряная нить и тянется в замочную скважину его комнаты.
В кухне Анну ждала грязная посуда в раковине с теплой жирной водой. Она принялась за работу. Но те полчаса, что она оставалась одна дома, Анна была рассеянна и несколько раз выходила в переднюю поглядеть, не откроется ли дверь из комнаты молодого барина, не выйдет ли он приказать ей что-нибудь. И каждый раз у нее учащенно билось сердце.
Потом щелкнул замок, и вошла Дадла, обремененная множеством пакетов с покупками. Анна вышла ей навстречу.
— Барышня, молодой барин приехал! — прошептала она.
— Какой молодой барин?
— Господин Честмир.
Дадла как-то странно прищурилась, отвела взгляд и, не сказав ни слова, ушла в свой розовый будуар. Через несколько минут пришла архитекторша.
— Барыня, господин Честмир приехал, — радостно доложила Анна.
— Где он, где? — воскликнула та. Глаза хозяйки расширились, ее увядшее лицо помолодело и даже стало красивее от румянца, залившего щеки.
— У себя в комнате, барыня. С ним еще какие-то господа.
Хозяйка бросила пакеты на руки Анне и устремилась к комнате сына. Она нажала на дверную ручку, но дверь была заперта. Мать постучала.
— Мирек, Мирочка, открой! Это я, мама!
Ее голос звучал молодо, как голос влюбленной женщины.
Дверь открылась, и хозяйка упала в объятия сына.
— Мирочка! — ликующе воскликнула она.
Минутой позже мимо кухни прошла Дадла, уже успевшая переодеться и причесаться. Она тоже постучала в дверь к брату.
— Эй, Мирек, открывай, старый кутила! — воскликнула она с деланой веселостью.
Зайдя в комнату, она только поздоровалась с ним и отправилась прямо в кабинет звонить отцу.
В кухню влетела хозяйка. Обычно она двигалась медленно и степенно, сейчас же носилась, как девочка.
— Анна, ведь он еще ничего не ел! — сообщила она шепотом, видимо сильно обеспокоенная этим. — Он с утра в пути! Быстро, Анна, пожалуйста, быстро! Не ждать же ему до ужина! Сбегайте к мяснику за бифштексами, возьмите три штуки посочней да зайдите в магазин Чадила за коробкой омаров, — Честмир их любит. И майонез. Купите бутылку вина, — молодой барин не пьет пива. У Чадила знают, какое вино нужно. Только, пожалуйста, быстрее, бегите со всех ног. Под майонез возьмите посуду.
Анна помчалась.
Когда она, запыхавшись, вернулась с покупками, хозяйка топила на сковородке масло, жарила картофель и резала лук.
— Так, так, Анна. Теперь подите накройте на стол в комнате молодого хозяина. Три прибора! Да сбегайте за пивом для тех господ, что приехали с ним.
— Слушаюсь, барыня! — сказала Анна зардевшись. С бьющимся сердцем она подошла к двери Честмира и, взявшись за ручку двери, почувствовала, что у нее подкашиваются ноги.
В комнате горел яркий свет и было очень накурено. Молодой барин лежал на диване и курил, глядя в потолок и стряхивая пепел в переполненную окурками китайскую пепельницу, стоявшую у него под рукой. Он был в черной шелковой домашней куртке и легких туфлях. На вошедшую Анну он не обратил внимания. За столом сидел один из его спутников и читал книгу. Другой стоял у шкафа и разглядывал Анну.
Анна покрывала стол скатертью и не сводила глаз с молодого барина. Боже, как он красив! Какое у него бледное и печальное лицо! Анне очень хотелось, чтобы он взглянул на нее, хоть на минутку. Она даже вздрогнула от острого желания. Но молодой барин упорно смотрел в потолок, и в его черных глазах была такая тоска, что сразу становилось понятно: мыслями он далеко, ему видится что-то печальное и прекрасное.
Анна ставила тарелки, раскладывала серебряные приборы и салфетки и думала: «Поглядит он на меня или нет? Что, если поглядит?» Но молодой барин не поглядел. Только иностранец, стоявший у шкафа, не сводил с Анны глаз. Она заметила, что у него угрюмое и грубое лицо.
Потом в комнату вошла хозяйка.
Хозяин заставил себя долго ждать, он вернулся только к вечеру, хотя и несколько раньше обычного, и прошел прямо в кабинет. Через минуту он позвонил Анне.
— Где барыня?
— У господина Честмира.
— А барышня?
— У себя.
— Позовите ее сюда.
Хозяин был серьезен и строг, как всегда.
Барышня Дадла прошла в кабинет отца, и они некоторое время разговаривали. Потом барышня вышла из кабинета, постучалась к Честмиру, вызвала одного из немцев и проводила его в кабинет. Вернувшись в свою розовую спаленку, она посадила на стол плюшевого медвежонка и стала повязывать ему на шею розовую ленточку, уделяя этой забаве преувеличенное внимание.
Хозяин долго беседовал с немцем. Когда они кончили, немец вызвал в переднюю своего товарища, они о чем-то посовещались, потом один из них надел пальто, нахлобучил котелок и вышел из дома, а второй вернулся в комнату Честмира.
За ужином было уныло и тихо. Ужинали в столовой; за столом сидели только родители и Дадла. Хозяйка была еще румяная, может быть даже румянее, чем прежде, но радостный блеск в ее глазах уже угас: при муже надо было скрывать свою радость.
После ужина Анна постелила постель для Честмира и для немца на диване. Хозяйка уже опять была в комнате сына. Она сидела за столом, положив свои полные руки на тонкие, красивые руки Честмира, и нежно глядела ему в глаза. Когда вошла Анна, они прекратили разговор и долго молчали — видно, не хотели говорить при ней. Около сидел с книгой немец, он не понимал по-чешски и ни на что не обращал внимания. Его тоже не замечали. Анна возненавидела его: что ему здесь нужно? Видит ведь, что он тут лишний. Второй немец ушел, должно быть, ночевать в гостиницу.
Анна вымыла посуду и пошла спать. Но ей не спалось. Молодому барину грозит опасность, в доме происходит что-то таинственное и непонятное, молодому барину нужна помощь. А она, Анна, лежит вот тут, в каморке, и глядит в потолок, не видя его. Всегда, если нужно было что-нибудь сделать, здесь ли, или в отчем доме, Анна была готова. «Сделай!» — говорили ей, и она делала. Но сейчас ее никто не звал на помощь. Что здесь происходит? Почему в спальне хозяев не гаснет свет? Ночью Анна несколько раз вставала и приоткрывала дверь своей каморки. И каждый раз она видела свет в спальне; он пробивался сквозь замочную скважину и желтым пятнышком падал на стену прихожей. Это пятнышко, живое, но неподвижное и тихое, как весь дом, было недобрым признаком. Молодому барину нужна помощь! Да, ему нужна помощь, как она бывала нужна маленьким сестрам Анны, когда они болели, и в доме всю ночь горела керосиновая лампа, и Анна клала холодные компрессы на горячий детский лоб. Сегодня ее помощь отвергнута. Почему? В глазах молодого барина столько тоски и грусти. Анна думала об этих глазах, и ей хотелось плакать, ибо она уже полюбила молодого барина…
Утром она услышала скрип двери и вскочила с кровати. Боже, как сегодня выглядела хозяйка — бледная и увядшая, с покрасневшими, угасшими глазами!
— Сходите на Водичкову улицу за миндальным печеньем в кондитерскую Берга, — распорядилась она, не глядя на Анну.
Анна вышла из дому. Внизу в парадном, около каморки привратницы, стояли Дворжакова и Маржена; в руках у Маржены была сумка для провизии. Увидев Анну, Маржена поспешила к ней, — видимо, она поджидала свою новую знакомую.
— Ваш Мирек вернулся? — спросила она напрямик.
— Да, — прошептала Анна.
— А те двое — это берлинские сыщики?
Анна пожала плечами. Ей вспомнились Шерлок Холмс, Ник Картер и Леон Клифтон.
— Ну, конечно, сыщики! — заявила Маржена. — Сразу видно легавых.
— Сыщики? — прошептала Анна.
— Не знаешь ты, что ли, что его ищут уже четыре месяца?
— Нет.
— И не знаешь, что Мирек стянул у вашего старика двести тысяч?
— Нет.
— Фьюить! — присвистнула Маржена. — Так ты вообще ничего не знаешь, недотепа ты этакая! А что у вас было вчера?
Анна рассказала то немногое, что знала, а Маржена прерывала ее множеством вопросов. Ее интересовали все подробности.
— М-да, — сказала она, наконец. — Вот оно что! — И добавила с удивлением: — Так ты вправду ничего не знаешь о молодых Рубешах? Вся Прага о них говорила, в газетах писали, — только тебе ничего неизвестно! Ох, и лихие ребята были эти Мирек и Ферда, умели перевернуть вверх дном всю Прагу! Мирек уже в шестнадцать лет сделал ребенка одной тут, на Виноградах. Папаше оба сынка влетели в копеечку. Ох, и бабник был этот Честмир! Однажды он и от меня заработал оплеуху тут, на лестнице. — Маржена засмеялась. — Пойдем-ка, я тебя немножко провожу.
Анна шла, как в полусне, а Маржена была возбуждена новой сенсацией.
— Наш дом принадлежит твоей хозяйке. Пока было можно, она брала под него деньги, а потом архитектор пронюхал об этом, закатил страшный скандал, и пришел конец Мирековым гулянкам. Ферде-то в Вене было сподручнее, ему из дому посылали деньги, и он кутил там с офицерами. А Мирек залез в долги. Он как раз влюбился тогда в одну русскую княжну. Знаем мы их, все они тут княжны! Я ее видела один раз, когда они выходили из машины около Лионского торгового дома. Этакая размалеванная лахудра! Ох, и денег он на нее потратил! А когда у маменьки уже не осталось ни гроша, он подделал на векселях папашину подпись, получил двести тысяч и смотал удочки. Ваш старик обратился в частное сыскное бюро «Глаз», и там выяснили, что Честмир с княжной уехали в Германию. Тогда отец начал розыски в Берлине.
Девушки уже дошли до кондитерского магазина на Водичковой улице и остановились у входа.
— Значит, они его арестовали? — испуганно спросила Анна.
— Что ты! — сказала Маржена. — Разве частные сыщики могут арестовать? Это вправе сделать только полиция.
— Так почему же он поехал с ними домой?
— И ты еще спрашиваешь, почему поехал! Думаешь, я знаю, как это было? Наверное, они пришли к нему утречком, когда он еще спал со своей княжной, и сказали: «Молодой человек, пожалуйте с нами в Прагу, иначе мы сообщим здешней полиции, что вы сперли у папаши двести тысяч». Что ему оставалось делать?
— А княжна?
— Нашла о чем беспокоиться! — рассердилась Маржена. — Поплакала, верно, что денежки тю-тю и придется снова идти кельнершей в кабаре.
У Анны заколотилось сердце.
— Что же теперь будет, Марженка?
— Не называй меня Марженкой, я — Маня. Что теперь? Ах, моя милая, — протяжно сказала Маня. — Заварилась каша! Не посадят же они его в тюрьму… Постой-ка, я, кажется, знаю, что теперь будет! — Она подняла брови и произнесла таинственным полушепотом: — Мирека отправят в Америку! Так всегда делают с беспутными сынками богачей. Сыщики все еще у вас? Ну, значит, головой можно ручаться, что Мирека отправят в Америку! Эти двое отвезут его в Гамбург, купят ему билет, посадят на пароход и — с богом, сыночек, кланяйся там Америке и зарабатывай сам себе на жизнь! Говорю тебе, Анна, так и будет!
Анна стояла на тротуаре, тупо глядя перед собой, не замечая, что ее толкают прохожие.
— Ты идешь за пирожными для Мирека? Ну, иди, иди, недотепа, а то твоя старуха будет лаяться. Мне тоже пора. Счастливо! Завтра я опять подожду тебя в парадном.
Анна купила миндальное печенье и со всех ног побежала домой. Хозяин был еще дома, и она подала ему завтрак в столовую, потом отнесла Честмиру в комнату две чашки кофе и печенье.
Молодой хозяин еще не вставал. На стуле сидел сыщик. Не тот, с книгой, который ночевал здесь, а другой, который вчера стоял у шкафа и так назойливо разглядывал Анну. Честмир курил, лежа в постели, одетый в полосатую шелковую пижаму. Он был прекрасен. И опять он так же скорбно смотрел в потолок.
Анна поставила завтрак на ночной столик и поглядела на молодого барина. «Наверное, он вспоминает свою княжну, — подумала она с жалостью. — Русскую княжну! И почему только ему не позволяют любить ее, почему его не пускают к этой княжне? Ведь его родители богаты и могли бы разрешить ему это. Как все было бы просто! Бедный молодой барин!»
В этот момент Честмир посмотрел на нее. Взгляд его больших глаз на секунду остановился на ее светлых волосах и скользнул по груди. Что-то похожее на едва уловимую улыбку мелькнуло на его губах.
Сердце Анны затрепетало, кровь бросилась ей в голову, по спине пробежал холодок. Молодой барин улыбнулся ей! Анне хотелось подойти, пожать ему руку и сказать: «Скажите мне, как ободрить вас? Ах, скажите же, скажите, я сделаю все, что вы пожелаете!»
Но молодой барин снова уставился в потолок, и сердце Анны постепенно успокоилось.
Подавая кофе сыщику, она думала: «Ах ты мерзавец! Если бы это помогло молодому барину, я пошла бы сейчас на кухню, взяла большой нож и всадила его тебе в глотку!»
Ей не хотелось уходить из комнаты. В дверях она еще раз взглянула на Честмира. Но он уже не смотрел на нее. Белыми длинными пальцами он стряхивал пепел в китайскую пепельницу.
Потом Анна взялась за уборку квартиры, но мысль о Честмире не покидала ее. Она распахнула окно, и ветерок заколыхал портьеры. Было слышно, как в четвертом этаже Маня поет «Дубовый листочек». Анна была одна в квартире. Архитектор уже ушел, и, как ни странно, хозяйки тоже не было дома. Анна тщетно ломала голову: куда барыня могла уйти в такую рань?
Убирая гостиную, она вдруг остановилась. Ей показалось, что из маленькой комнаты в глубине квартиры доносятся какие-то звуки, такие странные, что в темноте Анна, наверное, испугалась бы их. Она открыла дверь и ужаснулась: на полу ничком лежала хозяйка, билась лбом о ковер и издавала глухие стоны, которые звучали, словно из могилы: «Гу-у… Гу-у!»
Перепуганная Анна наклонилась к ней:
— Барыня! Ах, господи, барыня!
Архитекторша подняла на нее измученные глаза. Ее бледное, дряблое лицо было страшным, как у покойницы, растрепанные седоватые волосы, потеряв блеск, приняли грязнопепельный оттенок.
— Он как каменный… как каменный!.. — твердила она, тяжело вздыхая и глядя на Анну широко раскрытыми глазами.
— Господи боже мой! Барыня, опомнитесь хоть на минутку, пока я сбегаю за барышней.
Хозяйка пришла в себя. Она с трудом подняла свое грузное тело и встала на ноги.
— Нет, нет, не надо звать Дадлочку!
Она дотащилась до кушетки и тяжело упала на нее, так, что скрипнули пружины.
— Он как каменный… Он как каменный, Анна!
Анна поняла, что речь идет об архитекторе. Ей стало страшно, она стояла около хозяйки и не знала, что делать.
— Идите работайте, Анна, — устало прошептала архитекторша. — Не беспокойтесь обо мне. Вы хорошая девушка, Анна…
Анна вышла.
Потом в квартире Рубешей вдруг настало необычное оживление, но такое тягостное и мрачное, словно там готовились к выносу покойника. Маня, очевидно, угадала: в квартиру принесли два больших дорожных чемодана, а сыщики поочередно куда-то уходили и возвращались. Хозяйка, как неживая, ходила по квартире, иногда останавливалась в кухне, отдавала Анне какое-нибудь распоряжение или машинально поднимала крышку кастрюли и пробовала вкус подливки. «Подбавьте еще томатного соусу, Анна», — говорила она, но эти слова произносились словно не ею, потому что она не думала ни о томатах, ни о баранине и говорила только для того, чтобы скрыть свои мысли. Казалось, она ждала чего-то очень тягостного, чему могла бы воспротивиться, но мысль об этом не приходила ей в голову. Она только ждала, и в ее широко раскрытых глазах застыл испуг. Уезжал сын, в котором была вся ее жизнь, и некому было помочь ей. Она заходила в комнату Мирека, помогала укладывать вещи и чувствовала себя так, словно убирает покойника и прощается с ним перед тем, как захлопнуть крышку гроба.
Обед прошел безрадостно. Архитектор обедал с Дадлой в столовой; хозяйка осталась с сыном и сама подавала ему кушанья. Сыщики по очереди ходили куда-то в ресторан. После обеда мать и дочь переодевались, и Дадла при этом плакала. Хозяин сидел в столовой у неубранного стола, курил сигару и делал вид, что читает газету. Потом шофер и сыщик пришли за чемоданами, а из комнаты Честмира вышли хозяйка, Дадла и молодой Рубеш. Анна стояла в прихожей, чтобы в последний раз взглянуть на него. Он вместе с матерью прошел по красной дорожке прихожей.
У двери в столовую хозяйка остановилась.
— Пойди, Мирочка, простись с отцом, пойди, сыночек, — попросила она.
Честмир колебался.
— Пойди, мой милый. Ты ведь сам когда-нибудь пожалеешь, если не выполнишь последнюю просьбу матери.
Рубеш младший открыл дверь столовой и, стоя на пороге, сказал учтиво и церемонно:
— Честь имею кланяться, господин архитектор!
Отец не ответил.
Честмир с матерью и сестрой вышли. Хлопнула входная дверь, и этот короткий и тупой звук болью отозвался в сердце Анны.
Она долго стояла в полутемной передней, и ей казалось, что мир опустел и в нем нет никого, кроме нее. Потом она ушла в свою каморку, опустилась на колени возле кровати, зарыла голову в подушки и заплакала.
Слышно было, как ушел архитектор, потом вернулись хозяйка и барышня. Анна быстро встала, вытерла слезы, отряхнула пыль с колен и вышла на кухню.
В этот и следующий день в квартире было как после похорон: пусто, уныло, тихо. Все молчали, старались не встречаться взглядами и ходили чуть не на цыпочках, чтобы не обеспокоить громким звуком того, кто еще незримо пребывал здесь. Хозяйка большую часть дня проводила в крайней комнате на диване, а барышня не выходила из своего будуара. К обеду, однако, все должно было быть на своем месте — приборы, салфетки и солонки, и суп должен быть достаточно горяч, — хозяйка и барышня следили за этим, потому что они понимали, что нарушить тишину может только хозяин; и если произойдет взрыв, он будет страшен.
На третий день пришла ужасная телеграмма. Хозяйка прочла ее в кухне, пошатнулась и схватилась за дверцу буфета, чтобы не упасть. Анна и Дадла отвели ее в спальню; Дадла вызвала врача и отца.
Честмир застрелился.
Через два дня мать получила письмо, написанное рукой, которая теперь уже была мертва. Но письмо это не могли вручить матери, потому что она тяжело заболела.
Честмир застрелился в третьеразрядном гамбургском отеле, ночью в постели, в присутствии двух сопровождавших его сыщиков. Он выстрелил себе в глаз и умер, произнося имена матери и своей русской княжны.
Дадла надела траур, хозяин тоже нацепил черную ленту на рукав и на шляпу. И только Анна никому не смела поведать свою скорбь. Когда она в спальне подавала хозяйке бром и опускала жалюзи, чтобы свет не беспокоил больную, ей так хотелось обнять эту бледную женщину, заплакать у нее на груди и воскликнуть: «Барыня, милая барыня, какое у нас несчастье!» Но хозяйка лежала, глядя перед собой мертвенно-неподвижным взглядом, безразличная ко всему, не замечая Анны.
Однажды утром душа молодого барина прилетела к Анне. Анна убирала квартиру, окна были распахнуты, и по комнатам гулял сквозняк. Когда Анна открыла дверь в гостиную, хрустальная подвеска на люстре закачалась и слегка зазвенела. Это прилетела душа молодого барина. Она прилетела навестить Анну, и только ее одну. Анна тотчас догадалась, что Честмир здесь, в комнате, и преисполнилась счастьем.
Потом опять потянулись дни, похожие один на другой.
Когда хозяйка немного поправилась, она велела перенести свою кровать и туалетный столик в одну из свободных комнат, твердо решив, что никогда больше не вернется в общую с мужем спальню.
ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ
Волнения и разговоры о романе и смерти молодого Рубеша сблизили Анну с прислугой Марженой, которая живо интересовалась событиями в доме Рубешей и обычно по утрам поджидала Анну в подъезде.
Маня была славная девушка. Она знала многое, и ее рассказы открывали перед Анной двери всех квартир их дома и даже дверь в мир.
— Ваш архитектор — самый большой жулик во всей Праге, — объявила Маня. — Он обжулил казну при покупке старых военных материалов, а магистрат — на прокладке канализации. У него семь доходных домов, а с рабочими он обращается, как с собаками. Знаешь, какую о нем сложили песенку?
Анна не знала, и Маня тут же во дворе, где они стояли, держа в руках сумки для провизии, запела:
Есть у нас строитель Рубеш, У него работать будешь — Только лишь здоровье сгубишь.— Маня, Манечка, замолчи, ради бога, окна же открыты! — перепугалась Анна.
— А какой им прок от их миллионов? — продолжала Маня. — Хороши господа! Сыновья стреляются, а дочери только и глядят, с кем бы спутаться! Ваша старуха все ходит и убивается, а думаешь, ее кому-нибудь жалко? Знаешь, сколько людей сжил со света ваш архитектор, а ведь у них тоже были матери и дети?! А твоя барыня? Такую скупердяйку поискать! Миллионерша, квартира из семи комнат, а держит одну прислугу! Ты, дура этакая, даешь на себе ездить, работаешь с утра до ночи, да еще со стиркой! А она на тебе экономит и посылает деньги дочери в Швейцарию, чтобы та могла прохлаждаться с муженьком на курорте. Дурная ты, вот что! Сидишь дома, никуда носу не кажешь, даже в воскресенье торчишь на кухне. Не знаешь, что ли, что по закону она обязана отпускать тебя? В это воскресенье пойдешь со мной гулять! Если у тебя нечего надеть, возьми мое платье — у меня два.
Анна колебалась.
— Что ж ты?
— Да ведь я еще такая глупая, Маня… Я боюсь.
— Что? Боишься? Чего ж ты боишься?
— Ну, я еще не знаю Праги… Я не такая опытная, как ты… И Анна рассказала Маржене о Ландру и Кише.
Та уставила на нее свои большие карие глаза, охнула: «Господи боже мой!» — и, согнувшись так, что стали видны черные завитки на затылке, захохотала на весь двор.
— Ох, батюшки, держите меня! Мой кавалер как раз жестянщик, — как бы он не запаял меня в бочку! — Маня прямо задыхалась от хохота. — Анка, ты страшная дурища!
— Маня, Манечка, ради бога! Окна же открыты!
Насмеявшись досыта, Маня сказала серьезным тоном, сверкнув глазами:
— Вот видишь, какая она бессовестная. Внушает деревенской девушке черт знает что, лишь бы удобней было выжимать из нее соки. Работай, работай, ни о чем не думай, оставайся дура дурой, а когда сработаешься, выгонят тебя на улицу и подохнешь ты с голоду.
— Она совсем не такая, — вступилась Анна за свою хозяйку.
— Такая иль не такая, а делает так. Все они так делают, ее муж тоже. Она выжимает пот из одного человека, а он из сотен — один черт!
На весь двор вдруг разнесся резкий голос, звук был такой, словно с полки посыпалась жестяная посуда:
— Анна, долго вы еще будете там судачить?
В окне кухни виднелся мощный бюст архитекторши. Анна вспыхнула, отскочила от Маржены и побежала домой.
— Ну, ну, старайся, лезь из кожи, дурная! — крикнула ей вслед Маржена.
Архитекторша была мрачна, как туча.
— Хуже компании, чем эта Маржена с четвертого этажа, вы не могли выбрать, — сказала она, грозя пальцем. — Берегитесь, Анна!
Но в воскресенье после обеда Анна все-таки собралась с духом и попросила разрешения пойти погулять. К этому разговору она готовилась всю субботу и почти все воскресенье, и Мане долго пришлось отчитывать ее за робость, пока Анна, наконец, отважилась сказать:
— Барыня, разрешите мне пойти погулять?
Хозяйка посмотрела на Анну.
— Ага, уже начинается! — недовольно сказала она. — Что ж, помойте посуду и идите с богом. Только будьте осторожны, Анна!
Днем, после обеда, обе девушки отправились гулять. Маня отлично нарядила Анну. Манины хозяева уехали за город, так что она смогла позвать подругу к себе в кухню и дала ей свое новое клетчатое платье и старую соломенную шляпку с синей розой. Маня долго прилаживала эту шляпку на голове Анны, и, наконец, получилось просто прелесть. Сама Маня надела розовое платье с голубым корсажем и клетчатую шапочку. Обе девушки выглядели очень нарядно, и Анна не могла налюбоваться на себя в кухонное зеркальце. Настроение у нее было праздничное. Сегодня, покончив с посудой, она старательно вымыла шею, руки, ноги до колен и надела белоснежное белье, пахнувшее утюгом. И, наконец, вот это нарядное платье. Как же не быть в праздничном настроении!
— А теперь пойдем форсить на Пршикопы! — сказала Маня.
Прогулка с Маней была такая отрада! В этот погожий день большинство пражан проводило время на берегах Влтавы или в Крчском лесу, и движение на улицах было меньше обычного, но Анну и оно пугало. А Маня вела ее между вагонов трамвая и автомашин так спокойно и уверенно, словно у себя дома, в деревне.
Внизу на Вацлавской площади им преградил дорогу курчавый растрепанный парень в черном развевающемся галстуке.
— Куда, куда, красотки? — воскликнул он, расставив руки. — Куда вы, блондиночка и смугляночка?
Маня, чуть наклонив голову, искоса взглянула на него:
— Отцепись, франт морковкин!
Анна страшно перепугалась, но Маня сказала это беззлобно и с такой непосредственностью, что парень громко расхохотался. Маня тоже хихикнула, но тотчас втянула голову в плечи, схватила Анну за руку и пустилась наутек. Они завернули за угол, и Маня, притаившись за громадным почтовым ящиком, продолжала смеяться.
Немного погодя девушки вышли на Пршикопы и долго осматривали витрины магазина шелков, потом на Целетной улице — меха и шляпки, а на Староместской площади — памятник Яну Гусу.
— Вот видишь, тут монахи сожгли Яна Гуса, — объясняла Маня.
Они постояли перед магазином игрушек, потом перед галантерейным магазином, где Маня тоном знатока рассказывала подруге, как застегиваются пряжки и пуговицы, завязываются тесемки на дамском белье и корсетах. Потом тенистыми уличками Старого Места девушки вышли к реке, перешли Карлов мост и поднялись по склону холма Петршин.
Наверху они сели на скамейку. Анна старательно подобрала юбку, чтобы не помять выглаженное платье подруги, и стала рассматривать Прагу и сверкающую на солнце Влтаву. Праздничное настроение не покидало ее. Впервые в жизни у нее было полностью свободно полдня, это время принадлежало ей и не было занято никакой работой. Ее очаровала широкая панорама города, раскинувшегося в синей дымке, и тишина, прерываемая лишь трамвайными звонками. Нет, ни красивые стихи из книги, что она читала у Рубешей, ни песенки, которые она пела в деревне, когда вместе с подружками пасла коз, не отвечали ее настроению. Ей хотелось читать вслух какое-нибудь забытое стихотворение школьных лет или вспоминать предания о чешских королях. Но овладевшие ею чувства она выразила только тихим возгласом:
— Ой, ой, сколько домов!
Сидевшая рядом Маня коротко засмеялась. Это был смех польщенного собственника, который показывает свои сокровища восхищенным зрителям. Но и шалунья Маня сегодня необычно притихла, ей тоже хотелось спокойно сидеть и, глядя на раскинувшийся внизу город, глубоко вдыхать летний воздух. Кстати, кругом было мало взрослых людей, балагурить было не с кем, да и развлечения были еще впереди, и Маня втайне предвкушала их.
— Ну, пошли, — сказала она, когда солнце склонилось к Градчанам.
— Уже домой ужинать? — с огорчением спросила Анна.
— Ничего подобного! В крайнем случае не поужинаешь сегодня, если твоя старуха тебе ничего не оставит…
Девушки не спеша спустились в город и направились к Народному дому на Гибернской улице. Там сегодня общество «Карл Маркс»{122} устраивало вечер, на котором Маня назначила свидание своему дружку жестянщику Богоушу.
Уже смеркалось, когда девушки подошли к дому. Они миновали монументальные ворота в стиле барокко, такие огромные, что в них помещалась лавчонка парикмахера и табачный киоск, и очутились на первом дворе Народного дома. Потом через Новый проезд они прошли во второй двор. В садовом павильоне уже горел свет. Второй двор, немощеный и поросший чахлыми вязами, по старой памяти все еще называли садом. Народный дом когда-то был дворцом князей Виндишгрец и графов Кинских, потом вокруг этого здания в стиле барокко были построены четырехэтажные корпуса, где разместились типография и конторы. Деревья на дворе, окруженном кирпичной стеной, сохранились еще с тех пор. Садовый павильон, уже светившийся в сумерках, когда-то, очевидно, был барской оранжереей. Фанерная крыша павильона упиралась в брандмауер высокого жилого дома, служивший задней стеной павильона, а передняя стена была вся стеклянная, из оранжерейных рам. Сейчас павильон сиял огнями, словно фонарь, и все, что происходило в нем, было видно как на ладони.
В голубом табачном дыму, за круглыми столиками с клетчатыми скатертями, в тесноте, сидело человек триста, среди них много таких же девушек, как Маня и Анна. Анна увидела все это, едва они вошли в сад, и сердце у нее встрепенулось в предвкушении чего-то нового, что она узнает сегодня. Она не ошиблась: садовый павильон Народного дома сыграл решающую роль в ее судьбе.
У дверей Маню встретил жестянщик Богоуш, веселый кудрявый парень с крупными зубами.
— Здорово, Манечка! — сказал он, пожимая им руки. — Так это та Анна, что работает у Рубешей? О ней ты мне и рассказывала?
— Она самая, наша недотепушка!
Богоуш приставил к столику еще два стула, и девушки оказались в компании рабочих и работниц. Стол был заставлен кружками пива без пены, зеленоватыми бутылками содовой воды и переполненными пепельницами.
В зале была маленькая сцена для любительских спектаклей, на ней выступали парни и девушки, — они поодиночке и группами декламировали стихи, пели песни; играл самодеятельный оркестр. Музыка и пение понравились Анне, декламацию она поняла плохо.
Рядом с Анной сидел молодой металлист. Когда музыка смолкла и в зале раздались рукоплескания, он обратился к ней:
— А ты здесь впервые, товарищ?
Обращение на «ты» и слово «товарищ» смутили Анну, она покраснела. Но Маня выручила подружку, сообщив ее соседу, что Анна уроженка Пелгржимовского края и в Праге недавно: служит она у Рубешей, и хозяйка у нее — хитрая бестия, никуда не пускает свою прислугу. Разговор завязался. Собеседник Анны знал Пелгржимов, он ездил туда на профсоюзные собрания, побывал в родной деревне Анны и, кажется, видел даже домик, который она ему только что описывала. Смутившаяся вначале Анна оживилась. Она очень обрадовалась этому разговору — ей было приятно вспомнить мать, сестер, отца и родной домик с крышей, залатанной рекламной жестянкой с изображением голубки. Собеседник Анны знал и Рубеша. «Это один из самых бессовестных эксплуататоров во всей Праге», — сказал он. Анна впервые услышала слово «эксплуататор», оно ей понравилось и показалось интересным.
Тем временем на сцену вышла группа молодежи, и началась хоровая декламация каких-то стихов, в которых часто повторялись слова «массы», «сила», «миллионы», «поступь» и «раз, два, левой, левой, левой». И вправду, эти стихи напоминали о поступи многих тысяч людей на Вацлавской площади. Когда замолкли бурные аплодисменты, собеседник Анны снова наговорил о Рубеше и рассказал о недавно происшедшей у него крупной забастовке рабочих.
Рядом сидела Маня, ее полусжатая рука лежала на скатерти, где стояли пивные кружки. Богоуш прикрыл ее своей ладонью, такой громадной, что Манина рука совсем исчезла под ней. Оба счастливо улыбались, девушка заметно похорошела, взгляд ее темных глаз был необыкновенно мягок; от обычно колючей Мани не осталось и следа.
Оркестр играл бодрый марш.
— Это «Марсельеза», французская революционная песня, — объяснил Анне ее собеседник.
— Да-а? — удивилась Анна и на секунду встретилась с ним взглядом. Этой секунды было достаточно, чтобы увидеть, что у Тоника — так его назвал жестянщик Богоуш — красивые голубые глаза.
За другим столиком, впереди, вполуоборот к Анне, сидел молодой светловолосый парень, одетый лучше других. Лицо у него было почти девичье. Он уже не раз поглядывал на Анну, а теперь надолго остановил на ней взгляд, и девушка не могла не заметить этого. В этом взгляде не было назойливости, только восхищение. Маня тоже заметила это.
— Ты что это, Яроушек? — крикнула она парню. — Приглянулась тебе наша Анна, а?
Парень улыбнулся, а Анна зарделась.
— Это Яроуш Яндак, студент, сын депутата парламента, — сообщила Маня.
Сам депутат, сидевший рядом с сыном, тоже смотрел в их сторону. Это был красивый мужчина с гладко выбритым веселым лицом и курчавыми волосами, его можно было скорее принять за брата, чем за отца студента.
— Так как, девушки, будет из него толк? — спросил он и, похлопав сына по плечу, обнял его.
— Оставь, папа! — сердито, но дружески проворчал покрасневший Яроуш.
Третий собеседник, сидевший за столиком Яндаков, тоже повернулся в сторону девушек. Взгляд его темных глаз был суров, пронзителен и остр, как лезвие ножа. Чувствуя на себе этот взгляд, вы уже не замечали никого другого Волосы и борода человека были черны как смоль, и через все лицо тянулся шрам, перерезавший правый ус. Какой-то пожилой рабочий, пробиравшийся между столиков, положил ему руку на плечо и спросил:
— Как тебе у нас нравится, товарищ Плецитый?
— А чем мне могут нравиться ваши детские забавы? — без улыбки ответил Плецитый, подняв на него суровые глаза. — Уж не собираетесь ли вы победить буржуазию стишками?
Анне очень не понравился такой ответ.
— Это очень хороший товарищ, — сказал Тоник, наклоняясь к Анне. — Он недавно вернулся из России. Там он сражался в Красной Армии, попал в плен к Деникину и едва не был казнен. Я тебе расскажу о нем в следующий раз.
Анна снова взглянула на Тоника и сказала:
— Да?
И в этом вопросительно-утвердительном «да» была радость, вызванная словами Тоника — «в следующий раз».
Под конец любительский оркестр сыграл «Интернационал». Все встали, и каждый, кто умел, запел пролетарский гимн. Это была песнь победившей русской революции. Анна тоже встала. Но слов «Интернационала» она еще не знала.
В десятом часу Богоуш и Тоник пошли проводить обеих девушек. Вечера в Народном доме обычно кончались в начале десятого, чтобы их участники успели вернуться домой, прежде чем запрут парадное, так как иначе приходилось платить привратнику. На улицах было еще людно. Маня снова стала задирой. Громко смеясь, она шла по тротуару мимо сияющих витрин и переливающихся цветными огнями реклам. Элегантные парочки, выходившие из театров и дансингов, неодобрительно оглядывались на нее.
Проводив девушек до Вацлавской площади, Тоник попрощался.
— Приходи к нам опять, товарищ, — сказал он, подавая Анне руку.
Она кивнула с благодарностью.
— Ты ведь редко выходишь из дому, а?
— В семь часов вечера за пивом! — со смехом вставила Маня.
Тоник направился куда-то в сторону узких уличек Старого Места, а обе девушки с Богоушем пошли по Вацлавской площади. Маня еще немного постояла в подъезде со своим возлюбленным, а Анна поднялась наверх. На кухонном столе ей были оставлены холодные сосиски с хлебом, — хозяйка все-таки проявила благородство. Никого из Рубешей Анна в тот вечер уже не видела.
Это был чудесный вечер!
В понедельник Анна стирала в прачечной в полуподвале. Она возилась с бельем в мыльной воде, напевала и предавалась воспоминаниям о воскресном вечере. Эти воспоминания не покидали ее и во вторник, когда она катала и складывала белье.
В следующее воскресенье обе девушки снова отправились в Народный дом и сидели в той же компании. Самодеятельных выступлений на сцене на этот раз не было, но время прошло не хуже. А во вторник вечером, выбежав из парадного с тремя пол-литровыми пивными кружками, Анна увидела, что по тротуару прохаживается Тоник. Кровь бросилась ей в лицо. Тоник проводил Анну до пивной и обратно. В среду он пришел снова, и она немного постояла с ним у парадного. Привратница Дворжакова за это время дважды выходила из своей каморки и с усмешкой поглядывала на них, а когда Анна поднялась наверх, хозяйка подозрительно покосилась на опавшую пену в кружках. В третий раз Анна после ужина сошла вниз уже минут на десять, а потом, потупив взор, попросила хозяйку разрешить ей уходить по вечерам.
— Ага, — сказала та, — вам уже сказали, что вы имеете на это право. Но будьте осмотрительны, Анна. Вы изменились, я уже давно наблюдаю за вами. И вот что я вам скажу: никто не посягает на ваши права, но если вы будете делать только то, что обязаны, то и от меня будете получать только то, что вам полагается.
И хозяйка вышла из кухни, нервно хлопнув дверью. Через минуту там появилась барышня Дадла. Она усмехнулась, заглянула в кухонное зеркальце и взбила волосы на висках.
— Вы его только заарканьте, Анна. Вот выйдем с вами замуж, и шутки в сторону! Мама воспитана в старом духе. Ей хочется, чтобы мы вели себя, как в старые времена, когда девушки вечно сидели дома и вышивали подтяжки и комнатные туфли для дедушек.
Анна даже удивилась, что ее так мало огорчило недовольство хозяйки. Она с детства знала, что ничто в жизни не дается даром, а сердитые слова барыни были недорогой ценой за встречу с Тоником, который уже ждал внизу.
Стояли долгие летние вечера. Тоник и Анна ездили трамваем на Жижков, на заросшие кустарником склоны Виткова к Инвалидному дому или к Еврейским Печам. Для жижковских пролетариев Еврейские Печи — это Королевский заповедник и сад Кинского, их Ницца и Аббация, их отель «Гарни». Еврейскими Печами зовется песчаная пустошь на окраине Праги — унылое место, поросшее бесцветной, истоптанной травой. И все же даже под пальмами Капри и маслинами Бриона не встретишь более пылкой любви, чем здесь. На этой пустоши много больших и малых овражков неизвестного происхождения — то ли их вырыли люди, то ли создала сама природа. В овражках валяются битые горшки, дырявые рукомойники и всякий строительный мусор. Город неудержимо наступает на эту местность, он взял ее в клещи с двух сторон, и его дома уже прорвались на пустошь. Скоро от нее ничего не останется. Но пока над Еврейскими Печами еще расстилается широкий небосвод, не омраченный грязноватыми облаками столицы. В теплые дни женщины предместий выходят сюда отдохнуть на чахлой траве. Они сидят, расстегнув пуговицы ворота, и вяжут чулки, приглядывая за малышами, чтоб они не брали в рот цветных бутылочных осколков. Днем молодежь гоняет здесь футбольный мяч, а ночью воры зарывают свою добычу. По вечерам здесь обнимаются влюбленные с Жижкова, — песчаные овражки заменяют им уютные изолированные комнаты отеля. Из одного овражка не видно, что делается в другом, а вместо освещенного электричеством потолка над ними сияет звездное небо. Вечерами на улицах Жижков а старики рабочие, придя с заводов и фабрик, стоят без пиджаков у порогов своих домов и, покуривая трубки, наблюдают, как к Еврейским Печам устремляются молодые парочки: девушки в свежевыглаженных ситцевых платьях и тщательно умытые парни в чистых воротничках. Старики вынимают изо рта трубки, улыбаются какому-то давнему воспоминанию и говорят: «Ну вот, повел ее на расправу». Ночью полицейские патрули обходят пустошь и светят в лица влюбленным электрическими фонариками.
Анна и Тоник тоже ходили туда. И когда они усаживались в укромном овражке и, взявшись за руки, долго разговаривали и долго молчали, пустошь, называемая Еврейскими Печами, была для них ничуть не хуже, чем будуары и прибрежные рощи из книжек барышни Дадлы.
Здесь Тоник впервые поцеловал Анну крепким, долгим поцелуем, и у Анны закружилась голова; она вздрогнула и прижалась к милому. «Люблю тебя, люблю!» — стонал Джо, прижимая ее к своей мужественной груди…» Нет, Тоник не стонал и ничего не говорил, только Анна прошептала: «Тоничек!»
Так хорошо было рассказывать друг другу о своей жизни. Эти беседы были подобны дуэту скрипки и виолончели или гобоя и охотничьего рога, исполнявших одну мелодию. А еще больше они напоминали игру детей в мяч: лови обеими руками, лови правой, лови левой, теперь хлопни в ладоши и лови, теперь лови с коленки! И мяч летает…
Тоник рассказывал Анне о своем детстве, прошедшем в полуразрушенном домике в Погоржельце. В этой трущобе, где жили четыре вечно ссорившиеся многодетные семьи, пахло прелой кашей, нечистотами и помойкой. Тоник рассказывал о своем отце, ткаче с фабрики Перутца, которая была настоящей душегубкой. Отца, состарившегося в сорок лет, Тоник видел только по вечерам и по воскресеньям. Одежда его всегда была покрыта мохнатой хлопковой пылью, и эта же пыль густо осаждалась у него в легких. Старик постоянно хмурился, его вечно угнетали заботы: то посягательства хозяев на заработок рабочих, то страх безработицы. Рассказывал Тоник и о двух своих братьях — один стал пекарем, другой умер в детстве от золотухи, — и о сестре, которая с десяти лет помогала матери. Мать была поденщицей: стирала у людей белье, помогала по хозяйству, шила мешки, носила корзины с рынка, мыла лестницы и уборные в трактирах, работала у садовника — словом, бралась за все, что сулило хоть какой-нибудь заработок.
Тоник бросил Анне мяч воспоминания, и она, поймав его, рассказала ему о своем родном доме. Крыша у домика была дырявой, одну из дыр залатали жестяной табличкой с рекламой фабрики суррогатного кофе: голубка с пакетиком цикорного кофе в лапках, которая, казалось, вот-вот улетит куда-то далеко, выше облаков, на небо, к ангелам и деве Марии. Анна очень любила эту голубку, в мечтах играла с ней и видела ее во сне. Тогда она не знала, чем ее так привлекает эта голубка, теперь ей стало это понятно: ей тоже хотелось улететь далеко, далеко, туда, где… ну… где я найду тебя. Отец Анны то работал каменщиком, то батрачил в богатых поместьях. Вечные заботы о корме для коровы, о том, где достать тридцать крон на проценты под заложенный дом, превратили его в пьяницу и мучителя семьи. А мать надрывалась от работы и у людей и у себя дома, носила на базар в Пелгржимов корзины грибов, черники, ежевики, малины и брусники, узелки с маслом и творогом. Кроме Анны, в семье было еще пять девочек, одна из них постоянно хворала. Младших сестер Анна таскала на спине с собой в поле, а старшие, которые уже ходили в школу, нанимались к богатым мужикам пасти гусей, снимать фрукты и собирать колосья в дни жатвы. За это они получали краюху хлеба и три геллера в час.
— Теперь мы должны отплатить за все это, — твердо сказал Тоник. — За себя и за тех, кто жил до нас.
Утром, перед школой, Тоник останавливался у новостроек, — там для него всегда находилась работа. Возчики, нещадно эксплуатируемые хозяевами, сами были не меньшими эксплуататорами: за сотню сгруженных кирпичей они получали двенадцать геллеров, а Тонику платили три. Школьник, работающий на стройке, конечно, зачастую опаздывает на уроки, его брюки и босые ноги измазаны кирпичной пылью. Учитель же, который не знает, как приятно зарабатывать и как вкусен кусок дешевой кровяной колбасы, злится, кричит, ставит этого ученика в угол и снижает ему отметку за поведение. Тоник вымещал злость на сынках богачей, которые всегда были хорошо одеты и приносили на завтрак булки с ветчиной. Из всех учителей Тоник любил только одного — за то, что тот был одинаково строг со всеми. С этим учителем у них произошел однажды смешной случай. Тоник и его друзья Лойза Пол и Эда Врана ходили колядовать, изображая трех волхвов. Под пальто они прятали бумажные короны, цветочные горшки, заменявшие кадильницы, и выпрошенные у матерей сорочки, а в карман — жженую пробку, которая была нужна, чтобы начернить лицо тому, кто будет изображать чернокожего волхва. Наряжались они в подъезде дома, где собирались петь, а потом нужно было снова приводить себя в порядок и оттирать лицо платком, смоченным слюной, потому что ходить ряженым по улице не разрешалось — гоняли полицейские.
Ребята обходили квартиры. Из одних дверей, у которых они позвонили, вдруг высунулась голова их старого учителя.
— Ах вы бездельники! — закричал он на них, совсем как в классе. — Из какой вы школы?
Ребята на секунду обомлели, потом стремглав кинулись вниз по лестнице. Никогда в жизни Тоник не удирал так стремительно. Лойза Пол поскользнулся и целый пролет съехал на спине. Внизу они пришли в себя и безудержно хохотали, радуясь, что учитель не узнал их. Сняв свои наряды, они выскочили на улицу и там долго смеялись, а потом галдели просто из озорства, чтобы позлить почтенных граждан.
Анна обеими руками подхватила мячик воспоминания.
Да, она тоже зарабатывала. Летом в пелгржимовских лесах много грибов, но надо уметь найти их. Мальчишки, когда идут по грибы, насвистывают: гриб любопытен, ему хочется знать, кто это там свистит, вот он и высунется изо мха. А девчонки не умеют свистеть, поэтому они берут грибы лаской: поцелуют найденный грибок и скажут: «Слава богу, пошли, господь бог, во сто крат больше».
Рыжики, лисички и поддубники Анна приносила домой — их клали в картофельную похлебку, — а белые грибы чистила, складывала в глиняную миску, завязывала ее в узелок и шла на базар в Пелгржимов. Когда не было грибов, она собирала ягоды, а глубокой осенью ходила в лес за хворостом. При этом надо было держать ухо востро, чтобы не попасться лесничему, потому что ни уговоры, ни плач ему нипочем, тотчас отнимет вязанку. Когда Анна с сестрой возвращались домой с большими вязанками хвороста, деревенские девчонки дразнили их: «Карр, карр, карр!» Это значило, что, мол, они украли вороньи гнезда и теперь вороны гонятся за ними.
Пасти стадо осенью тоже нелегкое дело. Пока скотина спокойно жует траву, можно греться у костра, петь и посмеиваться над мальчишками, которые важничают, щелкают бичом и прыгают через костер. Но когда скотина задурит и приходится бегать за ней по картофельным полям и жнивью, бывает, так застынешь, что рада согреть босые ноги в свежей коровьей «лепешке». Может быть, Тоник думает, что Анна не колядовала? Еще как! Старший учитель у них был хороший человек, командовал местной пожарной дружиной, держал двадцать два улья и, кроме своих пчел, ничем не интересовался, но Анне он все-таки ставил двойку за прилежание, потому что она часто пропускала уроки; отец однажды даже отсидел двенадцать часов под арестом за то, что не посылал своих детей в школу.
Тоник рассказал о голодных годах своего ученичества. Ах, как ему хотелось есть! В полдень, когда ревел заводской гудок, Тоник, как молодой звереныш, выбегал из литейного цеха и бежал в лавочку напротив. Толстая добродушная лавочница по дешевке отдавала мальчику раскрошившиеся булки. Став на колени около корзины с черствым товаром, Тоник рылся там и собирал кусочки в свой засаленный картуз.
— И где этот чертов мальчишка находит столько кусочков? — добродушно посмеивалась торговка, получая с него пятак. Но однажды, незаметно подойдя к мальчику, она увидела, что он нарочно ломает и крошит на дне корзины целые булки. Тоник получил встрепку, хотя увертывался, как волчонок, и с тех пор вход в лавку был для него закрыт. Мысль о том, как хорошо можно было бы досыта наесться «обрезками», что продаются у колбасника для кошек (это были кусочки колбасы разных сортов, ветчинная кожица, обрезки несвежего свиного сала), вызывала у него яростный аппетит, а при виде бочонка с солеными огурцами, стоявшего около продуктовой лавки, у Тоника буквально текли слюнки. И все-таки он с симпатией вспоминает жуликов-возниц и добродушную лавочницу, — не будь их, не вырасти бы ему здоровым парнем.
Анна тотчас же откликнулась своим воспоминанием.
Ах, как она мечтала в детстве о куске хлеба с маслом! У родителей Анны была корова, держать ее могли только благодаря тому, что по ночам дети ходили на панские поля воровать клевер. Но масла от собственной коровы дети никогда не получали, потому что его носили продавать в Пелгржимов, — нужно было платить проценты по закладной. Самое раннее детское воспоминание было тоже безрадостным. Мать сбивала масло, а маленькая Анна стала приставать к ней, чтобы та намазала ей кусочек хлеба. Она хныкала, потом расплакалась и упала на пол, дрыгая ногами. Ни окрики, ни тумаки не помогали. Мать сжалилась и намазала ей ломоть хлеба. Но не успела девочка проглотить даже первый кусок, как в дверях появился отец. От его взгляда содрогнулись и мать и дочь. Девочка уронила хлеб, метнулась к двери и помчалась по косогору к ручью. За ней, топая, бежал отец, позади слышался крик матери. Около ручья отец догнал Анну, схватил ее сзади за платье, поднял в воздух и с силой отшвырнул от себя. Охваченная смертельным ужасом, девочка перелетела через ручей и упала в мягкие заросли вербы на другом берегу. Только там она раскрыла судорожно зажмуренные глаза. Ее подобрала перепуганная мать…
Детство и юность Анны и Тоника были схожи. Но потом жизнь их пошла по-разному. Для Тоника забили военные барабаны армейских походов, зазвучала грозная симфония итальянского фронта — рулады свистящих пуль и гулкие взрывы. Потом потянулись тоскливые, унылые песни плена и, наконец, зазвучала веселая песенка о возвращении домой. Но только начало этой песенки было веселым…
Тоник работал литейщиком на металлургическом предприятии Кольбена.
— Расскажи мне о своем заводе и что ты там делаешь, — просила Анна.
И он рассказывал ей о больших литейных цехах, о формовочном песке и жидком металле, о сотнях рабочих, которые там трудятся. В вагранках и мартенах клокочет добела расплавленный металл, а когда выпускают плавку, черные литейные цехи заливает ослепительный белый свет. Литейщики спешат набрать в ковши на длинных ручках пылающую жидкость и вылить ее в замысловатые песчаные формы, выложенные в земле. Под потолком, над головами литейщиков, проносятся мостовые краны, развозя в огромных чанах жидкий металл. Работа здесь опасна, бывают случаи, что рабочего убивает сорвавшейся стальной плитой, обжигает горячим шлаком. Во время заливки металла в формы нередко случаются маленькие взрывы, тогда струя железа на лету превращается в раскаленные дробинки, которые падают на голову рабочему. Тоник рассказывал об администрации, об инженерах и мастерах, о конфликтах при распределении работы и установлении расценок, о рабочем коллективе и его солидарности.
Анна понимала далеко не все. Ей представлялось что-то громадное, черное, иногда вспыхивающее белым светом и тогда горячее и грозное. Было прекрасно, пренебрегая опасностью, укрощать этого хищника, и Тоник умел делать это, потому что он, ее Тоник, силен и смел.
Тоник был действительно сильный парень. Когда он обнимал Анну за талию в овражке Еврейских Печей, можно было спокойно опереться о его руку, она никогда не слабела. Губы у него были крепкими, и его слово твердым, будь это «да» или «нет».
— Ты меня любишь, Тоничек? — ластилась к нему Анна.
— Да, — говорил он, спокойно глядя ей в глаза.
— Хорошо жить на свете, верно?
— А ты как думаешь?
— Хорошо! Куда лучше, чем раньше.
— Это верно, что лучше. Но еще не хорошо. — Он задумывался. — А почему ты думаешь, что нам стало лучше жить, Анечка?
— Ну, потому, что мы любим друг друга.
Но у Тоника был другой ход мыслей, и его «мы» было гораздо шире.
— Нам живется лучше, — говорил он, — потому что этого добились товарищи, которые жили до нас. Кое-что сделали и мы сами. Но надо завоевать еще больше для себя и для тех, кто будет жить после нас.
— Да? — удивлялась Анна и, прижавшись к Тонику, заглядывала ему в глаза.
В сумерках, а иногда уже ночью, они возвращались в город. В обнимку, медленной походкой влюбленных, которым не хочется расставаться, они шли мимо расположенных в шахматном порядке маленьких садиков с крохотными грядками и миниатюрными заборчиками, за которыми семьи почтальонов и банковских рассыльных с детским увлечением играют в собственное сельское хозяйство; они шли мимо огромной мусорной свалки, куда по утрам вереницы автомашин свозят золу, кухонные отбросы и вычесанные волосы чуть не со всего города. На этой свалке всегда что-нибудь тлело, распространяя едкий серо-желтый дым.
Однажды вечером они встретили чернобородого человека со шрамом, которого Анна видела на вечере в Народном доме. Он шел с сыном депутата, студентом Ярдой Яндаком. Тоник и Анна в сумерках не сразу узнали их, а когда приблизились к ним, Анна хотела отстраниться от Тоника, но он удержал ее немного сердито, словно говоря: «Зачем это? Не думаешь ли ты, что я стесняюсь нашей любви?»
— Честь труду! — приветствовал их Плецитый, и в его колючих глазах на обезображенном шрамом лице мелькнула неприятная, пренебрежительная улыбка, которая словно говорила: «И в такие дни ты тратишь время на любовь?»
— Честь труду! — мягко произнес Ярда Яндак, не сводя голубых глаз с Анны, пока парочка не прошла мимо них.
Анна покраснела. Ярда словно погладил ее взглядом по лицу и волосам, и в этой ласке было робкое обожание. У Анны мелькнуло смутное воспоминание о комнате Честмира Рубеша.
Встреченные товарищи исчезли в полутьме, а влюбленные еще долго молчали. Рука Тоника непроизвольно оставила талию Анны, он нахмурился. Что это за усмешки со стороны Плецитого? Разве он, Тоник, пренебрегает своими обязанностями? Разве он так много времени проводит с Анной? Разве не говорит он часто, прощаясь с ней в подъезде дома на Вацлавской площади: «Завтра я не приду, завтра у меня собрание актива, а послезавтра спортивный кружок. Значит, в четверг, Анечка… э-э, нет, в четверг профсоюзное собрание».
Руки Тоника и Анны снова нашли друг друга только на светлой улице предместья, близ конечной остановки трамвая. В вагоне на передней площадке, за спиной вожатого, он опять глядел ей в глаза, и они стояли, тесно прижавшись друг к другу.
— То-ни-чек! — беззвучно повторяла Анна, радуясь, что ему понятны эти немые звуки. Пустой трамвай, дребезжа, мчался по безлюдным улицам к центру.
В подъезде дома Рубешей Тоник, целуя Анну на прощанье, сказал:
— Завтра у меня пленум. Послезавтра суббота — значит, собрание марксистского общества… Постой-ка, не хочешь ли ты пойти со мной? Будут интересные споры. Мы собираемся в садовом павильоне Народного дома.
Конечно, Анна хочет! Она сумеет уйти из дому, на нее теперь уже не действуют ледяные взгляды хозяйки.
— Я приду. Покойной ночи, Тоничек!
— Покойной ночи, Анна. Приходи!
Но в субботу Анна не попала в Народный дом. В Прагу из Черновиц приехали какие-то родственники Рубеша, румын с женой. Они поселились в отеле «Черный конь», и было видно, что архитектор очень заинтересован в них. Еще в середине недели Рубеши приглашали их ужинать, и Дадла специально для этого случая купила Анне черную блузку и белый фартучек и повязала ей волосы белой лептой. А в субботу румыны пригласили Рубешей на ужин к себе, в «Черный конь». Хозяйка старательно готовилась к этому визиту и долго советовалась с Дадлой, как одеться понаряднее, но так, чтобы и траур соблюсти. Днем она послала Анну к сестре, живущей у Денисова вокзала, от которой надо было принести какую-то картонку.
Анна снимала передник и спускала засученные рукава, когда в кухню вбежала чем-то взволнованная барышня Дадла. Она оставила дверь полуоткрытой, чтобы во-время заметить, если кто-нибудь войдет. Когда мамаша заглянула в кухню, Дадла, вертясь перед зеркальцем, сказала Анне так, словно они разговаривают о стирке:
— А манжеты вы тоже простирните в мыльной воде…
Потом мамаша ушла, и тогда барышня дала Анне письмо и деньги на трамвай и попросила после Денисова вокзала тотчас же отвезти это письмо на Винограды. Адрес написан на конверте, надо подняться на второй этаж, вторая дверь направо, и спросить инженера Рудольфа Фабиана. В общем, на конверте все указано. А вот еще записочка: на обратном пути купить в гастрономии Липперта на Пршикопе три бутылки вина го-сотерн, дичи и колбасы ассорти высшего сорта на тридцать крон, масла и сыра. Вот еще крона — на случай, если Анне придется ехать с пересадкой. Покупки пусть пока спрячет в уголке около погреба. И живей, живей, чтобы никто не заметил задержки!
Анна вышла из дома с намерением точно выполнить все поручения. Она, правда, сомневалась, что этот Фабиан — инженер, потому что Маня говорила, что он актер из кабаре, но Анне все это было безразлично, — она радовалась, что вечером ее не станут задерживать дома и можно будет встретиться с Тоником.
Получив у хозяйкиной сестры большую картонку, Анна села в трамвай и поехала на Винограды. Проехав три остановки, она вдруг увидела на улице Тоника.
— Тоничек! — крикнула она.
Он не слышал, и Анна, высунувшись, замахала рукой и закричала громче:
— Тоничек, Тоничек!
Тоник обернулся и просиял. Он был в пиджаке поверх синей спецовки, а на голове у него была старенькая кепка. По субботам его смена на заводе кончалась в четыре часа, и он уже шел с работы.
Тоник тотчас повернулся и поспешил вслед трамваю. Анна выскочила на остановке и побежала ему навстречу. Они пожали друг другу руки и улыбнулись. Анна рассказала о полученном поручении, Тоник взглянул на адрес и сказал, что проводит туда Анну. Они снова сели в трамвай, поехали мимо музея на Винограды, вышли на следующей остановке и пошли по тихой Бальбиновой улице, круто поднимающейся в гору. В нескольких десятках шагов от них мальчишка из лавки, худенький, в грязном белом халате, тащил тележку, груженную плоскими ящичками, видимо с копченой рыбой. Тележка была тяжело нагружена, штабель ящичков, обвязанных веревкой, высился над головой мальчика. Колеса тележки медленно катились по брусчатке мостовой, и видно было, что мальчуган выбивается из сил.
— Бессовестные эксплуататоры! — нахмурился Тоник. — Погоди-ка, я ему помогу.
И он поспешил вперед. В этот момент силы мальчика иссякли, а может быть, он споткнулся и выпустил поручни. Передок тележки стукнулся о землю, и ящики с грохотом посыпались на мостовую. Два господина с дамой, проходившие мимо, разразились хохотом. Красный от напряжения и испуга, мальчик обернулся в их сторону и тоже засмеялся, явно от растерянности. Из соседней лавчонки выбежал плотный мужчина в черном сатиновом халате и с карандашом за ухом. Он подскочил к мальчику и размахнулся. Раздалась оплеуха, за ней другая. Мальчик пошатнулся и, отброшенный к колесу тележки, закрыл лицо руками. Лавочник ударил его ногой в спину.
— Собирай ящики, паскуда! — крикнул он на всю улицу.
Тоник, который был уже недалеко, передернул плечами. В несколько прыжков он очутился перед лавочником и отвесил ему две пощечины.
— Вот тебе, буржуйская свинья!
Губы и подбородок лавочника окрасились кровью. Крепкая рабочая рука Тоника была тяжела, она привыкла иметь дело с железом. Лавочник вытаращил глаза на Тоника, и было видно, что его удивление сильнее боли.
Два господина и дама, которые смеялись над мальчиком, подошли ближе. С другой стороны улицы к месту происшествия устремилось еще несколько зевак. Анна не успела опомниться, как вокруг тележки собралась толпа. Был слышен возбужденный спор и голос Тоника. Лавочник, прижимая платок к носу, нагнулся за упавшим карандашом и снова сунул его за ухо.
Анна подбежала к месту происшествия, но протолкаться к Тонику уже не смогла. Она видела, что перед ним стоит пожилой, гладко выбритый человек в светлом клетчатом костюме и роговых очках, делавших его похожим на китайского мандарина.
— Хорошо, — говорил он Тонику, — но разве можно на жестокость отвечать еще большей жестокостью? Поглядите, как вы его окровавили! Так нельзя себя вести в нашей молодой республике. Демократия несовместима с жестокостью!
— Плюю я на демократию, которая разрешает эксплуатировать и мучить детей! — крикнул Тоник.
После такого ответа настроение толпы сразу изменилось.
— Это что ж такое, он оскорбляет республику? — нервно воскликнул молодой человек с портфелем подмышкой.
— Неслыханная наглость! — рассердился старичок, раньше державшийся в стороне, и протолкался поближе.
— А, вот он что за птица! — сказал господин в светлом клетчатом костюме. — Вы, наверное, большевик?
— Да, я большевик, — вызывающе ответил Тоник.
В толпе мрачно засмеялись.
— Ах, вот как! — злобно крикнул кто-то, а дама, которая раньше смеялась над мальчиком, взвизгнула:
— Он большевик! Вы видите, он большевик!
Толпа вокруг Тоника заволновалась. Эти мелкие буржуа, никогда не видавшие большевиков, каждый день читали о них в газетах всяческие кровавые небылицы, а по воскресеньям слушали пошлые куплеты в кабаре. Впервые встретив большевика из плоти и крови, они вспомнили все ужасы русской революции, расписанные буржуазной печатью: …расстрелы в подвалах револьверной пулей в затылок и погребение заживо в выгребных ямах; графини, поджариваемые на раскаленной плите, и перчатки из человеческой кожи, содранной с рук юных кадетов. Комиссары, обезумевшие от убийств, заказывают себе на обед жареного младенца, сына не угодившего им начальника станции…
Обыватели, стоявшие в толпе, уже представляли себе еврейское засилье, общность жен, княгинь в лохмотьях, оскверненные храмы, гибель и распад культуры, разграбленные музеи, полотна Тициана и Корреджио, повязанные каменщиками вместо фартуков, уничтожение всех почтенных граждан и захват их имущества убийцами, ворами и евреями. Разумеется, большевики погубили бы Чехословацкую республику!
Из круга, сомкнувшегося около Тоника, какой-то столяр с Бальбиновой улицы закричал:
— Не выпускайте его! Сходите за полицией. Постовой! Постово-о-ой!
Двое юнцов, вдруг объятых жаждой деятельности, выскочили из толпы и помчались в полицейский участок с такой быстротой, словно спасали свою жизнь. Вдогонку им, щелкая подметками по тротуару, побежал еще один доброволец.
Страх за свое добро заставил тревожно забиться сердца людей, окруживших Тоника. Это была боязнь лишиться новой американской печки, на которую ее обладатель три года копил деньги и, наконец, в прошлом году водрузил эту печь у себя в столовой. Это был страх за вишневое шелковое комбине жены, страх потерять восемьсот пятнадцать крон сбережений и проценты, которые наросли за текущие полгода в сберегательной кассе города Праги.
Обывателям уже мерещились евреи, немцы, гибель республики, расстрелы у стены и варвары в награбленных лаковых ботинках, зашнурованных лавочным шпагатом…
— Не выпускайте его, не выпускайте! — шумела взбудораженная толпа.
Дама, которая раньше смеялась, взвизгнула, словно в погоне за кем-то:
— Держите его! Не пускайте!
И когда толпа уже начала затихать, дама, словно спохватившись, стала продираться вперед, локтями расталкивая людей:
— Обыщите его! Обыщите его, нет ли при нем чего-нибудь запрещенного!
Двое молодых людей, готовые ее послушаться, подошли ближе к Тонику, но тот принял оборонительную позу и, блеснув глазами, крикнул:
— Только попробуйте!
И молодые люди остались на месте.
Тоник отнюдь не проявлял намерения скрыться. Он стоял, волнуя толпу своим присутствием и сдерживая ее смелым, бесстрашным взглядом. Толпа росла, но около тележки все еще был пустой круг, напоминавший воздушный пузырь в бутыли с сиропом. В этом кругу стояли Тоник, лавочник, мальчишка и гладко выбритый господин в очках и светлом костюме, который явно пользовался здесь авторитетом.
Лавочник утирал нос и говорил этому господину:
— Знаете вы, сударь, во что мне обошлись эти копчушки? Я еще даже не рассчитался за них и ломаю голову, где взять на это денег. А вчера он мне разбил бутыль с маслом.
— Нет, нет, — помахивал рукой очкастый господин, — все равно бить мальчика нельзя!
Лавочник наклонился к мальчишке, взял его за плечо и подтолкнул поближе к господину.
— Ну-ка, скажи господину, плохо тебе у меня живется?
Мальчик отрицательно качнул головой.
— Хорошо я тебя кормлю?
Мальчик кивнул.
— Бью я тебя?
Мальчик снова покачал головой.
— В этом мы только что убедились, — усмехнулся Тоник.
— В чем вы убедились? Ни в чем вы не убедились! — хорохорился лавочник. — Вы назвали меня буржуйской свиньей. Меня! Я, сударь, бо́льший пролетарий, чем вы! Мне по субботам не к кому идти за получкой, у меня нет восьмичасового рабочего дня, я работаю, как вол, с шести утра до десяти вечера.
— И ученик тоже. Только вы получаете прибыль, а ему достаются одни затрещины, — вставил Тоник.
— Прибыль! А знаете вы, сударь, каковы налоги? — вознегодовал торговец, а разъяренная дама крикнула:
— Он их не платит!
— Конечно, сударыня, он не платит! — повернулся к ней торговец, а дама кричала:
— Большевики не платят налогов, налоги приходится платить нам! Понимаете вы это, темная личность?
— Знаете ли вы, сударь, сколько я плачу за аренду помещения? Об этом небось никто не спросит! — Лавочник нагнулся и осторожно потеснил людей. — Не топчите, пожалуйста, ящички… Собирай! — рявкнул он на ученика.
Перепуганная Анна, держа в руках картонку, стояла в толпе и со страхом наблюдала, что людей становится все больше и никто из них не сочувствует Тонику. На этой улице жили только торговцы, кустари и господа, рабочих здесь не было. С трепетом ища глазами заступника, Анна возложила надежды на господина в светлом костюме, который, кажется, старался быть беспристрастным. Анна протолкалась к нему и слегка потянула его за пиджак.
— Сударь, — сказала она, — лавочник-то ведь бил мальчика.
— Это нам уже известно, — строго ответил господин, окинув ее сквозь очки холодным взглядом. — А вы не мешайтесь в это дело.
Анна робко отошла.
Тоник улыбнулся ей спокойной и веселой улыбкой.
— Не бойся, Анна, — сказал он, подбадривая ее. — Они меня не укусят. Зубы поломают. Да и смелости у них не хватит. Буржуазия не дерется сама, она привыкла, что за нее это делают другие.
Кто-то презрительно засмеялся.
— Охота нам с тобой пачкаться! Вот мы тебе покажем буржуазию!
Над толпой взметнулись две трости, послышались ругательства.
Тоник уже терял терпение. Он выпрямился и шагнул вперед.
— Нет у меня времени с вами разговаривать, — проворчал он и правой рукой отпихнул одного зеваку, а левым локтем толкнул в грудь другого.
— Не выпускайте его! — крикнул сзади какой-то охотник драться чужими руками.
Тоник расталкивал людей направо и налево. Анна проталкивалась за ним; несколько раз ее ударили в спину.
— Пойдем! — сказал ей Тоник, когда они выбрались из круга, и взял ее за руку.
Они пошли вверх по улице. Кучка людей преследовала их. Разъяренная дама, единственная из всех, расхрабрилась настолько, что попыталась задержать Тоника. Она нагнала его, размахивая зонтиком. Тоник обернулся и поднял руку:
— Слушайте, дамочка, я в жизни еще ни разу не ударил женщину, но, если вы не отстанете, будет плохо.
Спутники дамы увлекли ее прочь.
Вдруг поредевшая толпа преследователей оживилась и разразилась торжествующими возгласами:
— Сюда, сюда, держите, не пускайте его!
Вверх по улице торопливо шли двое полицейских. Перед ними опрометью бежали трое юнцов:
— Сюда, сюда!
Тоник усмехнулся.
— Погоди, — сказал он Анне, — не бежать же нам от них.
И он остановился в ожидании. Через минуту полицейские и толпа догнали их. Господин в светлом костюме снова взял на себя инициативу.
— Я доктор Кетнер, министерский советник, — сказал он полицейским. — Я официально заявляю вам, что этот человек поносил республику.
Вскоре полицейские, Тоник с Анной, очкастый господин и лавочник уже шли вниз по улице. Лавочник запер лавку и пошел явно неохотно. Он пытался увильнуть, но ему не удалось. Он все еще вытирал платком нос, посматривая, не идет ли кровь. Удовлетворенная толпа расходилась, и лишь несколько любопытных поплелись вслед за Тоником и полицейскими. Анна вертелась возле полицейского с золотыми галунами на рукаве. Она была в ужасе: уводили ее милого! Это был страх деревенской жительницы перед штыками полицейских и беспощадностью суда. Анне потребовалось много мужества, чтобы отважиться взять полицейского за рукав, но она собралась с духом и взяла.
— Господин полицейский, этот человек бил мальчика.
— Не вмешивайтесь в действия полиции! — гаркнул человек в синем мундире с золотыми галунами.
— Уходи, Анна, не впутывайся в это дело, — сказал Тоник.
Потом Анна долго стояла перед стеклянной дверью полицейского участка, где на красной табличке было выведено белыми буквами: «Полицейский участок». Туда увели ее Тоника.
Вокруг шумела улица, по тротуарам шли пешеходы, но все это расплывалось, словно в тумане. Звуки переплетались, как спутанная пряжа, и в сознании Анны отчетливо стояла только красно-белая табличка, на которую она не решалась глядеть.
Из застекленных дверей выходили какие-то люди, но Тоника среди них не было. Вот вышел лавочник, потом опять какие-то люди, потом господин в светлом клетчатом костюме, равнодушным взглядом скользнувший по Анне.
И вот, наконец, в дверях показался Тоник.
— Тоничек! — воскликнула Анна, хватая его за руки. — Тоничек!
— Не веди себя, как ребенок, Анна. Пойдем, — сказал он, слегка отстраняя ее от себя.
— Они ничего с тобой не сделали, Тоничек?
— Что они могли сделать? Ну, пойдем, пойдем.
Они пошли. Анна сжимала его руку.
— А тебе ничего не будет, Тоничек?
— Ну, отсижу пару дней, только и всего.
Анна стиснула его пальцы в своих.
— Тоничек!
Он повел ее к трамвайной остановке, и она шла послушно, готовая следовать за ним, ни о чем не спрашивая.
— Поезжай-ка, Анна, тебе и так влетит дома. У меня собрание, да еще надо забежать домой. Приходи в Народный дом, если сможешь.
Смеркалось. Тоник посадил ее в трамвай и проводил взглядом. Когда он исчез из виду и Анна хотела войти внутрь вагона, она вдруг увидела перед собой Плецитого — бородача со шрамом — и студента Яроуша Яндака.
— Что с тобой, товарищ? — спросил Яроуш и, здороваясь, задержал ее руку. Его рука была теплой и дружеской, а взгляд участливым.
Сдерживая слезы, Анна с трудом рассказала им о случившемся.
— Разве он не мог скрыться? — безразличным тоном спросил Плецитый, когда она кончила свой рассказ.
— Он не хотел, — ответила Анна.
Бывший красноармеец искоса посмотрел на Яроуша и сказал небрежно:
— Идиотство! Почему он не агитирует на заводах среди рабочих? Какой смысл препираться на улице с обывателями да еще дать отвести себя в полицию?
Плецитого не интересовали судьбы отдельных людей. Его интересовала лишь революция.
Анна удивленно и непонимающе взглянула на него. Неужели он так говорит о Тонике?
— Да нет же, — сказал Яроуш, и Анна сразу поняла, что это сказано ради нее. — Тоник, конечно, агитирует на заводах… Он молодец.
Анна проехала с ними две остановки, ни разу не взглянув на обоих попутчиков. Она чувствовала, что смертельно ненавидит Плецитого. На Вацлавской площади она сошла с трамвая. Яроуш опять пожал ей руку своей мягкой и теплой ладонью, но это рукопожатие не было таким долгим, как ему хотелось бы, потому что Анна выдернула руку и выскочила из вагона чуть ли не на ходу.
«Дома тебе влетит», — сказал, расставаясь, Тоник, и он оказался прав. Бывают такие дни, когда на человека обрушиваются все кары за его былые и будущие прегрешения, они сыплются ему на голову, словно посуда, с грохотом падающая с полки.
Едва Анна вошла и закрыла за собой дверь, как в переднюю выскочила хозяйка.
— Где вы были? — взревела она.
Анна от испуга не смогла ответить.
— Где вы были? — кричала архитекторша. Она была уже в вечернем туалете, в кружевах и драгоценностях, причесанная и напудренная. — Дрянь! Дрянь ты этакая!
Дверь комнаты отворилась, выглянул Рубеш.
— Идем, не нервничай и не связывайся с ней. С первого числа мы ее выгоним. Вещи-то она принесла?
— Принесла. Разумеется, с первого выгоним! — крикнула хозяйка, вырвала из рук Анны картонку и ушла в комнату.
В передней появилась барышня Дадла.
— Вы отнесли письмо, Анна? — сладко шепнула она, делая вид, что идет в уборную.
— Нет, барышня.
Дадла остановилась и побледнела. Потом она испуганно и вопрошающе уставилась на Анну, но, не дождавшись ответа, оскалила зубы и отчаянным движением вцепилась в свою прическу, словно хотела рвать на себе волосы. Но тут она вспомнила, что задерживаться нельзя, родители могут заподозрить неладное.
— А-ах, сволочь! — прошипела она с непередаваемой яростью и, смачно сплюнув, исчезла в уборной. Бедняжке даже не удалось сорвать злобу, — нельзя было хлопать дверью.
Анна все еще стояла в передней, понурив голову, когда Дадла снова прошла мимо и плюнула в ее сторону с такой же яростью, как в первый раз.
Анна ушла в кухню. Она опустилась на табуретку около кухонного стола, положила голову на руки, закрыла глаза, чтобы не видеть и не слышать: будь что будет! До нее донесся звук шагов уходивших хозяев и шум автомобиля во дворе. Потом стало тихо.
Минут через пятнадцать в кухню ворвалась Дадла. Анна не подняла головы.
— Почему ты не отнесла письма? — закричала Дадла срывающимся голосом. — Дрянь этакая, стерва, скотина! Убила бы я тебя, потаскуха проклятая! — Барышня не скупилась на ругательства. Она хлопнула кухонной дверью так, что посуда задребезжала на полках. Наконец-то можно было вознаградить себя за сдержанность, на которую она была обречена при родителях! Дадла носилась по всем семи комнатам квартиры и хлопала дверьми так, что сыпалась штукатурка, звякали подвески на люстрах и дрожал весь дом. Анна ни разу в жизни не видела ничего подобного! Бывало, отец, озлившись, стукал ее кулаком по голове, — а рука у отца была тяжелая, — но до такого неистовства он не доходил.
Через минуту барышня Дадла снова появилась на кухне.
— Что вы со мной сделали! О господи боже мой, что вы со мной сделали! — Дадла расплакалась. — Ну просто зарезали, убили! — она ударилась лбом о посудную полку.
Анна подняла голову.
— Что вы делаете, барышня! Опомнитесь!
Дадла отошла от плиты, закатила глаза и схватилась за виски.
— Анна, ради бога, ведь этот вечер я ждала две недели, как дар божий! Вы и не знаете, как вы меня подвели. Просто убили! — Держась за голову, барышня в полном отчаянии бегала по кухне. — О господи, господи!
— Барышня, — прошептала испуганная Анна, — может, я еще успею сходить туда?
Дадла подскочила к ней и вцепилась ногтями в ее плечо.
— Идите, Анна, — прохрипела она. — Бегите, Анна, я вам подарю за это чудную батистовую рубашечку с кружевами. Бегите! Руди уже нет дома, но вы сбегайте в кафе «Метрополь», а если там его не будет, то загляните в «Арк», «Эдисон» или в «Лувр». Кроме того, он может быть в «Рококо», внизу, в винном зале. А если и там его не найдете, езжайте на Градчаны к «Медведю». Знаете вы, где «Метрополь»?
— Нет, барышня.
— О господи, ничего она не знает! — простонала Дадла.
Схватив перо и бумагу, она стала записывать названия кафе, ресторанов и кабачков, улицы и номера трамваев и нетерпеливо топала ногой, когда Анна не понимала.
— Бегите, Анна, бегите, милая, обязательно найдите его, я вас отблагодарю, дам вам еще и кружевные панталоны! На Градчаны поезжайте первым номером, где садиться, вы знаете, а там, наверху, спросите. Домой потом не возвращайтесь, мама с папой придут не раньше полночи, возьмите пять крон, посидите в кафе, посмотрите картинки в журналах. Бегите, Анна, бегите. Ключ не забыли?
— Вот только сперва постели постелю.
— Не надо, не надо, я сама. Бегите!
Анна вышла на улицу. Какой ужасный день! Проклял ее кто-нибудь или заколдовал, что ей приходится сегодня искупать грехи всей своей жизни? Разве она обидела кого-нибудь? Барышня дает поручение, не думая о том, выполнимо ли оно. «Бегите и найдите его!» — словно посылает за булкой. Господа всегда так, не считаются ни с чем. Анна шла по тротуарам, ехала в трамваях, заходила в кабачки и кафе. Пешеходы на тротуарах толкали ее, она путалась во вращающихся дверях и, обернувшись дважды в этой карусели из стекла и дерева, оказывалась в зале, залитом ослепительным светом люстр, среди зеркал и белых скатертей. Никто не обращал внимания на служанку в бумазейной блузке, робко стоявшую у портьеры близ входа; ее даже не принимали за нищенку, она была слишком здорова и чисто одета. Кельнерам, пробегавшим мимо с подносами, заставленными кофейными приборами, винными бутылками в серебряных ведерках и кушаньями на фарфоровых тарелках, было вечно некогда, а юные ученики кельнеров слишком гордились своими фраками и белыми манишками, чтобы снизойти до разговора с Анной. Только гости у ближних столиков замечали, что Анна хороша собой и что у нее красивые белокурые волосы. Сколько раз среди всей этой суетни Анна робко говорила: «Будьте добры…», но на нее не обращали внимания, а иногда, выслушав, говорили: «Его здесь нет», или, что еще хуже: «Не знаю», или: «Нам такой неизвестен». Это было выше ее сил. А когда в «Лувре» кельнеры четыре раза подряд проворчали в ответ что-то невнятное и толстый господин за крайним столиком, подмигнув, поманил ее к себе, Анне захотелось бросить поиски, убежать на набережную Влтавы и утопиться.
Но случилось неожиданное, и случилось оно так просто, словно это было не чудесное спасение, а самое заурядное событие: в десятом часу в кабачке «Рококо» Анна нашла инженера Фабиана. Она стояла в гардеробной этого заведения на красном, как сырое мясо, ковре, и добродушный кельнер ответил на ее вопрос: «Да, он здесь» — и вызвал господина инженера.
Это был молодой, элегантно одетый мужчина, пожалуй, даже слишком элегантно, как показалось Анне. Она заметила, что Фабиан сильно надушен и напудрен, на нем — светлые гетры и великолепный галстук, на запястье золотые часы, а на среднем пальце кольцо с большим зеленым камнем, таким большим, что он закрывал оба сустава.
— Что вам угодно? — свысока спросил инженер. В его тоне была претензия на барственность, но Анна заметила, что это только претензия, Фабиану не хватало той уверенности в себе, с которой к Анне обращались ее хозяева.
— У меня для вас письмо, сударь.
— Дайте сюда, — проговорил инженер, вскрыл конверт и пробежал глазами письмо. В углах его рта мелькнула самодовольная улыбка. «Отлично!» — заключил он, вынул из жилетного кармана бумажку в две кроны и широким жестом подал ее Анне. Анна покраснела, но деньги взяла.
Инженер надел светлое пальто и долго поправлял перед зеркалом пестрый шарф, а Анна, держа в руке кредитку, поднялась по покрытой красным ковром лестнице и вышла на улицу. Итак, она свободна, хождение по мухам окончено. Анна поспешила в Народный дом, надеясь застать там Тоника. Но собрание уже кончилось, и люди разошлись. Анна зашла в сад и сквозь стеклянную стену заглянула в павильон. Там горела только одна лампочка и были заняты два столика. За одним столиком играли в марьяж, за другим три товарища о чем-то спорили, а четвертый читал газету «Држеводельник»{123}.
«Что теперь делать?» — подумала Анна, идя к трамваю на Гибернской улице. Предложение барышни Дадлы зайти в кафе и листать журналы никуда не годилось, — Анна была по горло сыта всеми этими кафе, кабачками и ресторанами. Лучше два часа, опустив голову, чтобы не привлекать мужских взоров, торопливо ходить по улицам, чем еще раз испытать этот стыд в кафе. Хозяева — страшные эгоисты и на все смотрят со своей колокольни.
Анна вдруг вспомнила о Мане и поспешила на Вацлавскую площадь. Открыв своим ключом парадное, она по темной лестнице поднялась на четвертый этаж. Забранное решеткой окно Маниной каморки выходило на лестницу. Анна стукнула в стекло, сперва легонько, потом сильнее. Но Маня не просыпалась. Анна застучала совсем громко.
— Кто там? — раздался, наконец, заспанный голос. — Это я, Анна.
Окошко осветилось, потом распахнулось, и за узорчатой решеткой появилась голова Мани. Она мигала и щурилась, но, увидев расстроенное лицо Анны, широко раскрыла глаза:
— Что с тобой, милая?
— Манечка, пожалуйста, пусти меня к себе.
— Ну конечно иди!
Маня тихонько отворила дверь на лестницу, взяла Анну за руку и в темноте провела ее в свою каморку. Они сели рядом на постель. На вопрос подруги Анна только смогла сказать: «Манечка, я так несчастна!», потом слезы подступили у нее к горлу, и вместо слов раздались рыдания. Маня поняла и не расспрашивала. Они долго сидели рядом, держась за руки, эти две девушки, одна белокурая, другая черноволосая, одна в платье, другая в одной рубашке; белокурая плакала, а черноволосая сочувственно смотрела на нее, гладила по голове, похлопывала по колену и говорила: «Ну, ну!»
Наконец, начался разговор.
— Ну, рассказывай!
И Анна поведала об ужасах сегодняшнего дня, обо всем, начиная с того момента, когда барыня послала ее к сестре за картонкой. Только о том, как обидно отозвался Плецитый о Тонике, она не обмолвилась ни словом. Когда она рассказывала об аресте Тоника, у нее опять навернулись слезы, и она закрыла лицо руками. Маня, чье любопытство было уже частично удовлетворено и страх за подругу прошел, стараясь развеселить Анну, повалила ее на постель и принялась щекотать.
— Дурочка, ревушка-коровушка, все это пустяки, сущие пустяки! К таким делам в Праге надо привыкать, тут не то, что у вас в Пркеницах.
Она разула Анну, сняла с нее платье и чулки, уложила в свою постель, закутала до шеи одеялом и поцеловала.
— Ну, ну, глупышка!
Потом она погасила свет и легла рядом. Ночью они еще долго шептались. Сцена с хозяевами особенно заинтересовала Маню, а когда она услышала о том, как неистовствовала барышня Дадла, ее вдруг осенило, она приподнялась на постели, подняла указательный палец и свистнула.
— Ого! — Она с минуту сидела в этой позе, словно проверяя правильность своей догадки, потом потребовала:
— Ну-ка, расскажи мне еще раз все по порядку.
Ей хотелось хорошенько просмаковать это событие.
И Анна снова описала неистовство барышни Дадлы. Выслушав все, Маня резюмировала:
— Дадла влипла, это как пить дать. Она здорово перетрусила. Погоди, это еще только начало, будут дела и похлеще. Надо утром все рассказать Дворжаковой.
В заключение Маня еще раз свистнула, на этот раз совсем коротко, словно поставила точку.
Девушки заснули, повернувшись спиной друг к другу и поджав ноги.
— Мы похожи сейчас на австрийского государственного орла, — засыпая, сказала Маня. Это были ее последние слова.
ОРУЖИЕ, НАМ НУЖНО ОРУЖИЕ!
Диагноз оказался неверным: судороги, сотрясавшие в 1919 году Центральную Европу, не были послеродовыми схватками в результате появления на свет нескольких новых государств. Это были схватки, предшествовавшие новым родам. Диагноз оказался ошибочным, потому что слишком стремителен был ход событий.
На Жижкове, в комнате под крышей, где квартировал Тоник, в его постели уже десять дней ночевал эмигрант-революционер из Венгрии{124}. Он жил у Тоника до тех пор, пока товарищи достали ему фальшивый паспорт и нашли место уличного продавца газет. У эмигранта, человека в последней стадии чахотки, были горячечные темные глаза и характерный рот, в котором среди черной пустоты виднелось только три зуба — два наверху и один внизу; зубы были удивительно белые и здоровые, как у белки. Венгра звали Шандор Керекеш, когда-то он работал токарем. Однажды, в конце сентября, он пришел в Народный дом, где находился секретариат профсоюза металлистов. Керекеш был тощ, как бродячий пес, оборван, без документов и без денег. В то время в рабочие организации обращалось за помощью немало людей, выдававших себя за венгерских революционеров, — находчивые мелкие мошенники, а иногда и полицейские шпики, приходившие с фальшивыми партийными документами венгерской социал-демократической партии. Но Шандору Керекешу товарищи поверили, и Тоник взял его к себе.
Тоник и Керекеш объяснялись жестами и рисунками, которые оба набрасывали карандашом на полях старых номеров «Право лиду»{125}, а также с помощью двадцати словацких слов, которые знал Керекеш, и тридцати немецких, которые знали они оба. Им приходилось тратить немало времени, пока удавалось понять друг друга, но оба они были рабочие, которых труд приучил к упорству, и они всегда умели договориться.
— Понимаешь, меня связали, арестовали… тюрьма. Понимаешь, вот такая маленькая, — Керекеш показывал размеры камеры, потом тыкал пальцем в разные предметы мебели. — Постели нет, стола нет, стула нет… Я был там десять, двадцать и еще три дня. Каждый день — heute, gestern, morgen[38], — открывается дверь и приходит один гонведский{126} кадет и два гонведа — обер-лейтенант граф Имре Белаффи и кадет барон Тасилло Ценгери. С меня снимают одежду, все снимают, я совсем голый; кладут меня на пол, рот прижимают к земле, вот так. И держат. У кадета бутылка, вот такая, как стоит там, на твоем чемодане. В бутылке кислота… Понимаешь? Вот — H2SO4, я тут написал на газете. Ага, понял?! А в бутылке гусиное перо. Его надо нарисовать. Вот, смотри, это гусь, а вот, выдернем у него из крыла перо. Кадет мочит перо в бутылке и сует мне в зад. Я ору: «А-а-а!» И так каждый день — понимаешь — heute, gestern, morgen. Десять, двадцать и еще три дня. Обер-лейтенант и кадет стоят надо мной и злятся: «Говори!» Я: «Нет!» Они: «Говори, скотина!» Я: «Нет!» Они: «Скажи, где Алдар Ач, где Фехер, где Сабо». Я: «Не скажу!» У них плетка. Бьют меня, я теряю сознание. Приносят ведро воды, польют меня — я открою глаза. «Говори!» Я: «Нет!» Они курят и прикладывают мне горящую сигарету к груди. Я страшно кричу, извиваюсь. Они говорят: «Где Сабо, где Ач, где Гутман Вилмош, где Лакатош?» Я говорю: «Не скажу». Они лупят меня по щекам. Вот видишь? — Керекеш показывает голые десны, потом снимает рубашку. Вся спина у него в шрамах, грудь испещрена зажившими ожогами. — Моего товарища Пало Ковача забили до смерти. Знаешь, мешком с песком. Это надо нарисовать. Вот, смотри: мешком бьют по голове. Человек шатается и падает мертвый. Для палачей это очень удобно. Придет доктор, поглядит сквозь очки, освидетельствует мертвого, пожмет плечами: никаких следов — лицо чистое, белое, на теле ни ран, ни крови. «Что ж, — скажет доктор, — помер, унесите его». Обер-лейтенант и кадет смеются, потирают руки: «Ничего не заметил». Так они убили многих. Hundert[39], много hundert социалистов и коммунистов. Мешком с песком очень удобно убивать. «Меня тоже так убьют», — думал я. Что делать? Сижу в тюрьме уже двадцать третий день. Входит тюремщик. Не обер-лейтенант и не кадет, а тот, что ходит с ключами на поясе, отпирает и запирает дверь и приносит еду. Пожилой и довольно приличный человек. Я уже совсем ослабел. Колени дрожат, во всем теле слабость, чуть не падаю с ног. Но я напряг все силы, выпрямился, сжался и — на него. Прокусил ему горло. Мы катались по земле, я вцепился и не разжимал зубов, вот этих трех, что у меня остались после побоев. Видишь, они у меня торчат, как у белки. И вот надзиратель умер, а у меня во рту было сладко от его крови. Противно! Лучше не вспоминать. Мне еще и сейчас делается нехорошо, когда вспомню это. Этот надзиратель был ни при чем, во всем виноваты граф Имре Белаффи и барон Тасилло Ценгери. Ох, какие же они кровавые звери! Убью их, если когда-нибудь встречу! — Керекеш выкрикнул длинную венгерскую фразу. — Да, чешский товарищ, — продолжал он, — свою боль и жажду мести я в силах выразить лишь на родном языке, потому что только на нем могу страшно проклясть материнскую утробу и отцовское семя, породившие кровавых собак палача Хорти…{127} Ах, как я раскашлялся! У меня чахотка, я знаю… Но я убью их! Ну, извини, буду рассказывать дальше. Я снял с мертвого тюремщика его форму и оделся в нее. И бежал! Денег у меня не было ни гроша, пришлось все время идти пешком. И прятаться. Ел я только то, что удавалось найти на полях, у людей просил редко, это было опасно. Только один раз я снял фуражку перед каким-то барином и попросил у него спички. Он дал. Danke schön![40] Огонь — хорошее дело. Warm[41]. Я свернул шею курице и спек ее. Наконец, пришел в Прагу. Тут у меня камень с души свалился. Здесь организация, пролетарии, коммунисты… хорошие товарищи… — Керекеш снова произнес что-то на родном языке. — Разве можешь ты, товарищ, не понять, что я говорю тебе спасибо, если я при этом жму тебе руки и гляжу в глаза?
Да, диагноз 1919 года был неправилен: это были не послеродовые схватки, а приближение новых родов. И в мае 1919 года была совершена крупная ошибка. Народ провел этот день под лозунгом «Последнее предостережение спекулянтам!» и верил, что он покончит с пережитками австрийской монархии.
Впервые после переворота{128} массы вновь вышли на улицу. Но в этой демонстрации уже не видно было веселых глаз и танцующей походки, как в те ликующие дни конца войны, когда чехи, обретя свободу и радуясь своей национальной независимости, выходили на улицы с возгласами «Наздар!»[42] и гимном «Гей, славяне!» Сейчас демонстранты выглядели угрюмо и сурово, как год назад, когда на всех фронтах еще зияли жерла орудий и разверстые могилы, и эти люди, собравшись на Староместской площади, кричали в окна ратуши свое тысячеголосое, отчаянное и яростное «Ми-и-р!» Сегодня они снова выстроились в ряды и двинулись к центру города. Пришли демобилизованные солдаты, которых полгода свободы научили, что голод в домах предместий ничуть не лучше, чем голод в окопах и лагерях для военнопленных, где у них по крайней мере не было перед глазами озлобленных жен и голодных детей, где никто не дразнил их мясными тушами, копчеными окороками и пирамидами винных бутылок в витринах. Пришли бывшие дезертиры австрийской армии. Жизнь в лесах, голод и преследования научили их мудрому правилу: «Спасай себя сам! Убивай, если не хочешь быть убитым!» Пришли легионеры{129}, ибо за полгода они еще не отвыкли от решительных действий и не отказались от мечты о свободной родине, ради которой сражались пять лет и сквозь все преграды пробивались домой. Здесь были и большевики. Их было немного, но они прошли через горнило русской революции, понимали смысл событий и свой долг. Из полуподвальных квартир выбегали изнуренные женщины, чтобы отомстить лавочникам, которым отдавали последнее одеяло за мешок отрубей. Были здесь матери погибших сыновей и вдовы убитых — женщины, над которыми не сжалилось освобожденное отечество, потому что государственным мужам недосуг, да и женщин этих слишком уж много; они давно уже не плачут, слезы словно застыли в них и камнем лежат на сердце. Пришли жены инвалидов войны, — для этих женщин «мир и свобода» принесли только лишний рот. В демонстрацию втерлись и завзятые воры, тунеядцы и жулики, которые в этот майский день раз и навсегда уразумели, что при республиканском начальнике полиции Бинерте можно будет так же удобно и прибыльно красть, как при императорских полицейпрезидентах Кршикаве и Кунце. Жулики чуяли поживу и приветствовали друг друга:
— Здорово, Пепик! Сегодня, видать, можно будет добыть по дешевке блузки и чулочки для Божены.
Пришли и социал-демократические организаторы с красными повязками на рукавах, понимавшие политическое значение сегодняшней демонстрации и получившие от своих вождей точные инструкции о том, до какой степени можно допустить активность масс и какого предела не следует переступать. Им было сказано, по каким улицам вести демонстрацию и к какому часу надо привести ее на Староместскую площадь, где на митинге выступят социал-демократические министры. На соседних улицах стояли полицейские патрули — в подмогу социал-демократическим организаторам, на тот случай, если не помогут красные повязки на их рукавах.
Угрюмые демонстранты шагали по улицам Праги и всех чешских городов и местечек. Над крышами домов взметнулась песня «Долой тиранов, прочь оковы!»;{130} молодежь пела куплеты о спекулянтах:
Спекулянты, торгаши, Отдавайте барыши! Больно пасть у вас зубаста, Нажились, хапуги, баста!Демонстранты несли макет новенькой виселицы с петлей из конопляной веревки и надписью большими красными буквами: «Последнее предупреждение спекулянтам!» Останавливаясь перед лавками известных обирал, демонстранты врывались туда, выводили посиневших и потных от страха лавочников, прятавшихся в ящиках и мешках, ставили их под макетом виселицы, надевали им на шею петлю и требовали торжественного обещания никогда не спекулировать, не наживаться на бедняках, а стать достойными гражданами молодой республики. Мясники, мукомолы, пекари, пивовары, бакалейщики, галантерейные и обувные торговцы, запинаясь и с трудом проглатывая слюну, приносили клятву, а толпа хмуро молчала. Потом торговцев вели, как пленников, через весь город, и женщины, с глазами, полными гнева, осыпали их проклятиями, а молодежь пела им в уши обидные куплеты; пленники в это время думали о том, что все это пагубно отзовется на их здоровье — у одного был диабет, у другого порок сердца, у третьего больные почки, — и вспоминали, как дома неистовствуют от злости и бьются в истерике их жены и дочери. Торговцев привели к ратуше, и там на митинге ораторы еще долго произносили над ними громкие фразы о честности, демократической республике и последнем предупреждении.
Какой ошибкой была эта майская демонстрация! Массы думали, что искореняют последние остатки монархического строя, и не сознавали, что стоят лицом к лицу с буржуазной демократией. Не в силах решить, что же делать со спекулянтами — убить их или не убивать, — демонстранты радовались, что нашли выход в этом символическом повешении.
В провинциальных городах демонстрации прошли по указке социал-демократического руководства. А в Праге в этот майский день, в былой резиденции чешских королей, впервые решался вопрос: допустимо ли в свободной республике посылать против освобожденного народа вооруженные силы и проливать его кровь. Социалистических министров пугала мысль об этом: демонстрации были организованы в поддержку их политики, для того чтобы показать силу социалистических партий и оказать давление на неуступчивую правобуржуазную часть правительства. Но разве наряду с этим в сложившейся тревожной обстановке не было государственно мудрым шагом дать народу исчерпать свои разочарование и гнев в безобидной игре в виселицы? Однако буржуазные министры рассуждали иначе. По их мнению, виселицы, даже не настоящие, — плохая игрушка для масс, а сохранность имущества и личная безопасность почтенных и ни в чем не повинных торговцев должны быть обеспечены во что бы то ни стало.
Днем социалистические министры стали терять выдержку и самоуверенность. Из полиции поступали сообщения, что намеченный план демонстрации нарушен: после митинга на Староместской площади демонстранты не расходятся, скопляются группами, которые бесчинствуют, создавая угрозу общественной безопасности. Начальник полиции Бинерт не покидал телефона, соединявшего его с советом министров, и в голосе его было беспокойство. Ему доносили, что легионеры становятся за прилавки продовольственных и обувных магазинов, сами назначают цены и на глазах у бессильных владельцев за несколько минут распродают весь товар. Но в таких случаях еще сохраняется какой-то порядок — легионеры не допускают грабежа и отдают собранные деньги торговцу. Есть, однако, и такие безответственные элементы, которые, крича, что спекулянты уже выжали из народа в тысячу раз больше, чем они понесут сегодня убытков, вламываются в магазины белья и тканей, выбрасывают оттуда на улицу кипы мануфактуры, и товар расхватывают все, кому вздумается. В кабачках на Жижкове за пять крон продают шелковые чулки, блузки и лакированные туфли.
Телефонограммы о положении в городе становились все тревожнее. На улицах идет агитация. Депутат Яндак разъезжает в автомобиле и выступает перед народом. Полицейское управление не берет на себя смелости давать оценку его речам, но считает своим долгом доложить, что в сложившейся обстановке эти речи крайне опасны. За господином депутатом следует группа лиц, которых приходится характеризовать прямо как большевиков. Они влезают на крыши трамваев и на пьедесталы памятников и произносят оттуда подстрекательские речи. Они говорят о примере России, призывают к оружию и внушают народу, что игру в виселицы надо превратить в настоящую революцию. И люди прислушиваются к этим речам, горячо одобряют ораторов и приветствуют русскую революцию. Полиция бессильна, ибо ей запрещено применять оружие. Начальник полиции просит снять этот запрет. Несколько полицейских уже избито, многие разоружены. Опасность велика, и нужны быстрые и решительные меры.
В конце дня социалистических министров удалось уговорить, и на пражские улицы были посланы воинские части. Не против народа — о, конечно, не против него! — ведь народ после митинга на Староместской площади спокойно разошелся по домам, — а против безответственных элементов.
Итак, пятница была днем рухнувших иллюзий. «Последнее предупреждение спекулянтам» не подействовало. Хотя лавочники клялись под петлями бутафорских виселиц и обещали все, что от них требовали, — ни каравай хлеба, ни литр молока не подешевели. Дело было, видно, не только в алчности торговцев. С пережитками австрийской монархии еще не было покончено. Но трудящимся массам становилось ясно, что борьба идет не с силами прошлого, а с жизнеспособной и жадной до власти буржуазией. Массы медлительны, подчас так же тяжелы на подъем, как тяжела их поступь, но они уже начали понимать, что шесть с половиной месяцев упоения свободой — это только передышка между минувшей и грядущей борьбой. Радость освобождения теперь связана со стремлением к лучшему будущему, ибо на башнях московского Кремля развеваются красные флаги и над Царским Селом поднят флаг с серпом и молотом. Да здравствует Ленин!
На заводах было шумно и оживленно. Рабочие приходили на работу уже осведомленными о политических событиях. Дома, за завтраком, они торопливо просматривали газету, правой рукой машинально берясь то за кружку кофе, то за ломоть хлеба, а из левой не выпуская газетный лист, еще пахнущий типографской краской.
— Ешь, ешь, а то опоздаешь! — сердились жены. И мужья, сунув газеты в карманы, выбегали из дома, прыгали в переполненный вагон трамвая и даже там, в немыслимой тесноте, пытались читать. Весь мир пришел в движение, и это движение направляли уже не дипломаты и генералы в шитых золотом мундирах, а рабочие массы. Рабочие массы пришли в движение в Венгрии, в Германии — в Мюнхене и других городах, в Финляндии, Эстонии, Италии. И в России, главное — в России!
В битком набитых трамваях и в утренних поездах шли политические споры. Люди обменивались новостями на бегу от трамвайной остановки к заводским воротам, переодеваясь у шкафчика со спецодеждой, дискуссировали, засунув одну руку в рукав синей блузы и другой ища отверстие второго рукава. В цехах, среди литейных форм и поковок, около мартенов, на угольных складах и в песочных карьерах обменивались мнениями энтузиасты и скептики, сознательные и несознательные. Так было на всех фабриках и заводах, у токарей и деревообделочников, у швейников и красильщиков, у бурильщиков и металлургов, у пекарей и мукомолов. В грохоте ткацких станков ткачи кричали друг другу на ухо о новостях, а девушки в экспедициях и упаковочных цехах, перебирая проворными пальцами бумагу и станиоль и обсуждая достоинства кавалера своей подруги, интересовались сейчас уже не тем, брюнет он или блондин, а тем, состоит ли он в «Соколе» или в «Рабочем спортивном союзе», потому что революция проникала повсюду.
Собрания были бурными и волнующими. Тоник бывал на всех наиболее важных из них, зачастую вместе с Анной. Рубеши не уволили ее с первого числа, и она с отчаянным упорством завоевала себе право уходить по вечерам. Сидя в пригородных трактирах за столиками с клетчатыми скатертями, Тоник и Анна, увлеченные общим настроением, не сводили глаз с ораторов. Они уже не держались за руки, как в мирные времена. Тоник был слишком захвачен темпом событий. И почти на всех собраниях он выступал сам.
— Товарищи!
Как красив был Тоник на трибуне и как гордилась им Анна! Его фигура выпрямлялась, и синяя сталь глаз, как магнит, притягивала к себе все взгляды, а слово «товарищи» в его устах было звонким, как удар молота по наковальне. Тоник на трибуне был не тот, каким его знала Анна, словно это был уже не он, а кто-то другой, румяный, с горящими глазами. Таким Тоник становился только в эти вдохновенные минуты да еще в минуты ласк и любовных объятий.
— Товарищи! — воскликнул Тоник со сцены садового павильона в Народном доме. Застекленный зал светился в ночи, и все, что в нем делается, было видно из сада, словно внутренность зажженного фонаря. Зал был переполнен, люди вплотную сидели за круглыми столиками, стояли у стен, заполняли пространство перед сценой. Над их головами в волнах табачного дыма носились, казалось, отзвуки событий и надежд. К сцене был придвинут длинный стол, за ним сидели социал-демократические депутаты парламента.
— Товарищи, нас обманули! — говорил Тоник. — Республика создана нашими руками! Мы сражались за нее в иностранных войсках, убегали в горы, организовывали мятежи в армии, вели подрывную работу в тылу. Мы воевали, умирали и голодали, а буржуи тем временем уклонялись от военной службы, богатели на спекуляциях, заставляли наших жен отдавать последнюю сорочку за миску картошки. А кто сейчас правит республикой? Они! Мы как были, так и остались рабами. Что изменилось? Взгляните на свои руки, кузнецы! Разве они мягче, чем были при австрийской монархии? Разве меньше хлопковой пыли в ваших легких, текстильщики? Разве у вас, землекопы, меньше согнуты спины? Разве меньше на улицах нищих? Меньше бедняков умирает от чахотки? Взгляните на своих детей, жены рабочих! Разве они не так истощены, как прежде?
— На Пршикопах гуляет много сытых детей! — крикнул полный ненависти женский голос из глубины зала.
— Нам сулили молочные реки и кисельные берега, — с силой продолжал Тоник. — Не выполнять обещания умели и монархи. В те времена такой посул назывался императорским рескриптом{131}, нынче он зовется Вашингтонской декларацией{132}. А где же обещанное обобществление шахт и тяжелой промышленности?
— Нас обманули! — раздался резкий возглас в притихшем зале.
Это был голос секретаря Союза малоземельных крестьян, тощего, жилистого, горбоносого человека. Его темные глаза вспыхнули.
Великан-каменщик, чье лицо было словно вытесано из камня, положил кулак на стол и медленно сказал:
— Они хотели усыпить нас и выиграть время, а потом навести в республике свои порядки.
— Где обещанный раздел помещичьей земли? Где конфискация имущества спекулянтов? — Тоник метал в зал короткие фразы, словно зажигательные снаряды. — Где отделение церкви от государства?
В аудитории послышался смех.
— Табор — наша программа!{133} — воскликнул кто-то, и смех усилился.
— На той неделе… — закричала какая-то женщина, но в общем шуме ее не было слышно, и она выждала несколько секунд. — На той неделе в Вышеграде арестовали одного банковского рассыльного за то, что он не снял шапки, увидев священника с дарами!
От смеха снова дрогнули стеклянные стены зала.
— А где замена регулярной армии милицией? — продолжал Тоник. — Правительство с каждым месяцем увеличивает армию. Для чего? В прошлом году мы это узнали: для того, чтобы наши солдаты стали наймитами мирового капитала и утопили в крови венгерскую революцию! Для того, чтобы они убивали венгерских пролетариев, которые добиваются человеческих условий жизни!
— Позор! Позор! — загремело в зале. В этих возгласах были негодование и чувство стыда. — Как это могло произойти?! Почему мы позволили обмануть себя? Наши рабочие организации тоже пошли на это палаческое дело!
В зале словно грянул динамитный взрыв:
— Позор, позор!
— Да, товарищи, позор! — воскликнул Тоник. — Несмываемый позор тем, кто приказал армии, созданной революцией, задушить революцию в Венгрии, кто пытался задушить и русскую революцию. Несмываемый позор тем нашим вожакам, кто согласился на это, кто послал отряды наших спортсменов в Словакию{134}.
Тоник замолчал в волнении. Зал тоже молчал: оратор коснулся больного места. Стояла угрюмая тишина, лишь некоторые хмуро говорили: «Да, это так». Никто не отваживался сказать большего, потому что каждый знал, что стоит произнести страшное слово «измена», и живому телу партии будет нанесен тяжелый удар. Этого боялись все. И только секретарь Союза малоземельных крестьян обвел собравшихся ястребиным взглядом, поднялся с места, показал пальцем на стол, за которым сидели депутаты, и крикнул:
— Это ваших рук дело!
Присутствующие содрогнулись.
— …Нас обманули! — продолжал Тоник, стараясь снова привлечь внимание зала. — Мы обмануты всеми. Нам твердят: «Потерпите!» Мы слышали это в течение четырех лет войны. До каких еще пор ждать! Я вам сейчас скажу. До тех пор, пока буржуазия окрепнет экономически и возьмет в свои руки армию и полицию. Тогда капиталисты схватят нас за глотку и скажут: «Хватит с вас, рабочие! Хватит этой игры в демократию и свободу. Заработки снижаем, восьмичасовой день отменяем! Теперь попляшете под нашу дудку!»
Анна гордилась своим милым. Вот он стоит, с раскрасневшимся лицом, вбирая своими стальными глазами взгляды всего зала, вбирая гнев, боль и чаяния этих людей, и, претворив эти чувства в слова, согретые кровью своего сердца, возвращает их толпе.
«Какой он красивый!» — думала Анна, и ей очень захотелось, чтобы он вспомнил, что она здесь, и посмотрел в ее сторону. Но Тоник не смотрел на нее, взгляд Анны слился для него со всеми остальными. Анна уже не понимала слов Тоника, она только слышала его голос, и это было наслаждением. Его поднятые руки источали силу и еще что-то неуловимое, от чего ее охватывала дрожь и слезы навертывались на глаза. Ах, как она его любит!
Тоник заканчивал свою речь. Он взмахнул рукой, и глаза его сверкнули.
— В России идет великая борьба, борьба за нас всех. В России льется рабочая кровь ради нас всех. В России строят новый мир для нас, пролетариев всего земного шара. Не останемся же и мы в стороне, покажем, что и мы сумеем быть достойными участниками этой борьбы! Да здравствует русская революция!
Садовый павильон Народного дома дрожал от восторженных криков. Тоник подошел к краю сцены:
— Да здравствует мировая революция!
Аудитория бушевала: «Да здравствует!.. Слава Ленину! Слава революции!» В зале взметнулся вихрь рукоплесканий, клубился табачный дым, мелькали восторженные лица людей и алые знамена. Разрумянившийся Тоник, стоя у самой рампы, воскликнул:
— Да здравствует революция в Чехословакии!
Стеклянная стена павильона чуть не разлетелась вдребезги. Все словно закружилось — кулисы, изображавшие лес, председательский столик, стаканы, переполненные пепельницы, клетчатые скатерти, лампочки под потолком. Назло врагам: «Да здравствует революция в Чехословакии!» В этом возгласе была страстная ненависть к прошлому, мечта о будущем счастье и восторг освобождения, кипение грядущих уличных боев, возмездие и победа. Люди вставали с мест, махали руками.
— Да здравствует Третий Интернационал! — крикнул Тоник. — Слава ему, он поведет нас к борьбе и победе!
— Слава! Слава! Слава Ленину!
Тоник сошел в зал. Его лицо было красным от возбуждения, на висках обозначились жилки. Он пробирался среди столиков. Зал все еще шумел и гремел аплодисментами. Тоник сел рядом с Анной, приветствуя ее взглядом и легкой улыбкой. Она вся потянулась ему навстречу, ласково глядя на него голубыми глазами.
Председатель, старый деревообделочник, стоял за своим столиком, ожидая, когда стихнет зал, чтобы дать слово следующему оратору. Но не успел он сделать этого, как на сцену вбежал черноволосый человек. Бывший красноармеец Плецитый! Анна побледнела, она его терпеть не могла!
— Товарищи! — крикнул Плецитый, не обращая внимания на председателя. Тот, видя, что тут ничего не поделаешь, уселся на свое место.
Голос Плецитого звучал совсем иначе, чем у Тоника. Резкий и острый, как отточенный нож, он вызывал в Анне неприязнь и страх.
— Криками и рукоплесканиями вы ничего не добьетесь, — начал Плецитый. Он сказал это бесстрастно и как-то свысока, словно в его глазах трагическая дилемма, стоявшая перед собранием, не заслуживала даже усмешки. Анна поняла, что этот человек не только остр, как нож, но и холоден, как металл ножа. — От болтовни тоже не будет толку, — продолжал Плецитый. — Предоставьте ее социал-демократическим пустомелям…
Зал дрогнул — оратор грубо и безжалостно коснулся больного места. Что такое он говорит, разве все они не социал-демократы?
Старый рабочий за председательским столом встал.
— Товарищ! — мягко сказал он и потянул оратора за рукав.
— Иди к черту! — огрызнулся тот. — Оставьте болтовню социал-демократам, а сами действуйте! Добудьте себе оружие! К оружию, к оружию!
Председатель встал и поднял руку.
— Товарищ! — строго и серьезно сказал он.
Его прервали возгласами:
— Пусть говорит! Дайте ему сказать!
Начался беспорядок, люди вставали с мест, председатель что-то кричал. Один из депутатов парламента, сидевший за столом около сцены, поднялся и холодным взглядом смотрел в зал, видимо оценивая силу оппозиции.
— Тихо! — крикнул в зале чей-то громовый голос, но никто не послушался.
— Пусть говорит, он прав, пусть говорит! — воскликнула седая работница. На лице у нее выступили красные пятна.
— Пусть говорит, дайте ему сказать! — кричали в зале.
Большинство участников собрания вскочило с мест, в разных концах зала образовались группы. Было ясно, что здесь два враждебных лагеря, что уже нет единства партии, за судьбу которой все так боялись. Мысль об этом наполняла людей гневом. Люди кричали друг на друга и старались протолкаться ближе к своим. В левой стороне зала какой-то бледный юноша, вскочив на столик, тянул «Ти-ихо!» Беспорядок от этого лишь усиливался. Юношу стаскивали со стола, женщины ругали его. Стол депутатов был окружен стеной тел, люди кричали и жестикулировали. К рампе проталкивались рабочие, их становилось все больше, они толкали и теснили сидящих за передними столиками, не обращая внимания на протесты и женский визг. Стоя полукругом, эти люди махали руками и кричали председателю: «Дайте ему сказать!», «Мы не позволим лишать его слова!», «Его-то мы и хотим послушать, вас мы уже слышали тысячи раз!»
Председатель что-то сказал Плецитому, но тот сделал отрицательный жест.
Страшно взволнованная, Анна следила за всем происходящим. Ей очень хотелось присоединиться к одной из сторон и чтобы там был Тоник, но, конечно, не было ненавистного ей Плецитого. Почему он вызывает раздоры всюду, где появляется?
Сзади, совсем в углу, тихо сидел Шандор Керекеш. На лбу его выступил пот, глаза горели. Справа у стены стоял Ярда Яндак, сейчас забывший о глазах Анны, с которой он встретился взглядом в начале собрания. Тоник был впереди, среди мужчин. Зал кипел и дрожал от криков.
Плецитый подошел к самой рампе и что-то крикнул. Был виден его открытый рот, но слов не было слышно. Жестами он заставлял людей, скопившихся перед сценой, отойти назад. Его послушались, толпа перед сценой поредела. Стало ясно, что президиум должен будет уступить и Плецитый произнесет свою речь. В зале послышался торжествующий смех. Группа молодежи захлопала в ладоши, их примеру последовала половина зала.
Плецитый выпрямился и поднял руку в знак того, что хочет говорить. Голоса стихли. Люди, сидевшие около сцены, в толкотне прижатые к своим столикам, отодвигали стулья, какая-то женщина вытирала платком залитое платье и бросала кругом сердитые взгляды, бормоча что-то об «этих сумасшедших».
Плецитый заговорил:
— Без оружия вы пропадете! Буржуазия вооружена. Если вы позволите ей опередить вас, вы пропали. С оружием в руках вы, может быть, тоже потерпите поражение, но без оружия потерпите его наверняка. Буржуазия не признает сентиментов. — На лице оратора дрогнул белый шрам. — Уж не думаете ли вы всерьез, что если в нашей стране в таком ходу гуманистские и пацифистские фразы, то можно избежать жертв? Как бы не так! Рабочие будут умирать, даже если не произойдет кровопролития. Если вы не падете в уличных боях, вы умрете от чахотки. Если вы уклонитесь от борьбы, потому что боитесь оставить своих детей сиротами, они умрут от золотухи и рахита. Не забывайте одного: при нынешнем способе производства и распределения материальных благ наша страна не сможет прокормить вас. А эмигрировать некуда! Безработица и нужда растут, вы сами это видите. Голод и вымирание ждут и вас! — Теперь Плецитый уже не говорил холодно и пренебрежительно, он согнулся, словно перед прыжком, глаза у него сверкали, он потрясал кулаками. — Понимаете ли вы, как выиграл бы пролетариат и все человечество, как выиграл бы каждый из нас, если бы тысячи людей, обреченных на гибель, но еще живых, осознали свое положение и поднялись для удара? Когда буржуа падает с простреленной головой у стены, его видит весь мир, газеты всех стран голосят в ужасе. А вашей агонии не видит никто. Вы можете умирать миллионами на войне, тысячами на заводах, на операционных столах, на нарах бараков, никто на вас не оглянется. На мертвого рабочего обращают внимание только тогда, когда он убит полицейской пулей в уличном бою, да и то не потому, что он умер, а потому, что сражался. Вот тогда обыватели проникаются праведным негодованием на безответственных подстрекателей, погнавших народ против вооруженных полицейских. А руку этих полицейских направляли именно те, кто исполнен негодования! Те самые добросердечные буржуа. Они не хотят этих ужасов, ведь это подрывает заграничный кредит! Их гораздо больше устраивает, когда вы умираете незаметно. Но именно десятки революционеров, павших в уличных боях, спасают жизнь миллионов… К оружию, товарищи! — страстно крикнул Плецитый, и звук «р» прокатился, как боевой сигнал. — С оружием вы победите! Взгляните только, сколько вас и сколько их! Один удар — и власть в ваших руках. Отнимите у богачей их богатства, покарайте изменников, организуйте по-своему хозяйство и всю жизнь страны. Хозяевами станут трудящиеся; кто не трудится, тот не будет есть. Наше время еще не ушло, хотя скоро будет поздно. Буржуазия укрепляет свои позиции, и ей помогают в этом наши вожди. Но она еще не готова к бою, и шансы на нашей стороне. Если же мы дадим ей время укрепиться, она разгромит нас.
В зале стояла напряженная тишина, но не такая, как во время речи Тоника. Взгляды людей уже не сливались в едином потоке, порождавшем источник новой силы в глазах оратора. Теперь эти взгляды, подобно электрическим разрядам и молниям, скрещивались и поражали друг друга. Это была невиданная сила. Оратор, новый здесь человек, рисовал людям картины, которые вызывали и восторг и страх.
— В борьбе, только в борьбе ваше спасение! А для борьбы нужно, во-первых, оружие, а во-вторых, надо изгнать из своих рядов тех, кто удерживает вас от борьбы, кто усыпляет вас. Гоните прочь Тусара, Габрмана, Винтера, Гампла!{135} Вот кто ваши главные враги! Гоните их беспощадно!
Побледневший председатель вскочил с места.
— Я не позволю оскорблять партию и заслуженных рабочих вождей! Лишаю тебя слова! — крикнул он неверным от волнения голосом.
Поднялась суматоха. Люди вскакивали из-за столиков, звенели подносы и пивные кружки. Плецитый приложил руки ко рту и крикнул, заглушая шум:
— Я кончил, больше мне вам нечего сказать. Гоните вождей и вооружайтесь, таковы два условия вашей победы!
Он сбежал по лесенке вниз и стал пробираться сквозь толпу. Зал грохотал. Стол депутатов был снова окружен людьми, там бушевали страсти, рушились старые авторитеты вождей. Председатель собрания стоял на краю сцены и, низко наклонившись и жестикулируя, что-то доказывал людям, стоявшим внизу. Плецитый оглядывался, ища, где сесть. Он заметил два свободных стула за столом Тоника и направился к ним. Анна побледнела от прилива ненависти. Плецитый кивнул им и улыбнулся.
— А, влюбленные!
Одновременно с ним на другой стул сел человек, которого Тоник никогда раньше не видел: низкорослый, тощий, с жидкими волосами, весь какой-то потертый, в очках, похожий на приказчика из магазина или мелкого чиновника.
— Отлично, товарищ! — льстиво сказал он Плецитому. — Правильно ты все это им выложил!
Бывший красноармеец скользнул по нему взглядом. Тоник обратил внимание на странный тон, которым человек произнес слова «ты» и «им». Так говорят люди, не совсем уверенные, что имеют право на это «ты». Тоник недоверчиво посмотрел на человека в очках. Тот снова улыбнулся как-то принужденно.
Зал все еще гудел.
— Собрание продолжается, — крикнул председатель. — Слово имеет товарищ Оуграбка.
Его слова услышали только передние ряды. Гнев толпы еще не утих, но толпа перед сценой уже поредела. На сцене ждал старый Оуграбка, ветеран партии, семидесятилетний текстильщик. Он стоял около кулис, изображавших лес, и его бесцветное, как небеленое полотно, лицо и редкие, похожие на клочки джута, волосы резко выделялись на яркозеленом фоне декорации. Ноги у него были совсем кривые. Этот потомственный прядильщик был зачат на груде пряжи в цехе текстильной фабрики Поргеса, родился там же, на тюках сырого хлопка, и с семи лет работал на этой фабрике, насаживая шпульки и получая пятнадцать крейцеров в день. Окна фабрики всегда были покрыты толстым слоем хлопковой пыли, сквозь которую ничего не было видно. Эта пыль навсегда въелась и в старого Оуграбку. Сейчас он стоял на сцене и терпеливо ждал, пока люди рассядутся по местам.
— Тихо! Слово имеет товарищ Оуграбка.
Зал затих, и пионер социал-демократической партии, покачиваясь на кривых ногах, подошел к рампе.
— Товарищи! — начал он. — Не хочу вас утомлять долгими разговорами, но одно надо сказать… — Голос его был невыразителен, словно и он пропитался хлопковой пылью, но звучал твердо. За свои семьдесят лет Оуграбка немало поораторствовал на сотнях собраний и дискуссий со старочехами, младочехами{136}, национальными социалистами, анархистами, аграриями и клерикалами. — Скажу вам прямо: обидно, что на наших собраниях происходят вот такие прискорбные случаи, как сегодня; обидно, что среди нас, социал-демократов, нет единения. Ведь только благодаря солидарности рабочему классу удалось завоевать сколько-нибудь сносные условия жизни. Все вы моложе меня, товарищи, и мало кто из вас помнит, как тяжело нам жилось, когда мы еще только начинали организовываться…
Слушатели сделали участливые лица и запаслись терпением. Каждый уже слово в слово знал, что скажет старый Оуграбка, все уже столько раз слышали рассказы этого делегата Маркетского съезда{137} и мученика времен Расточила{138}.
За столиком Тоника человек в очках, похожий на приказчика, снова наклонился к Плецитому:
— Хорошо ты говорил! Правильно!
— Ты так думаешь? — улыбнулся тот.
— Ну, конечно! Я тоже считаю, что нам необходимо оружие. Без него мы ничего не добьемся.
— Как, по-твоему, надо нам достать оружие?
Тоник, сидевший рядом с Плецитым, толкнул его коленом, но тот под столом отвел ногу Тоника.
— Я думаю, что да, — ответил тип в очках. — Это было бы очень хорошо.
— Хорошо, я достану оружие.
Тоник, ужасаясь доверчивости Плецитого, вмешался в разговор:
— Я что-то не знаю тебя, товарищ, вижу тебя тут в первый раз.
— Может быть, ты мне не доверяешь? — быстро и так громко спросил незнакомец, что с соседнего столика сердито шикнули: «Ш-ш-ш!» Торопливо вытащив из кармана партийное удостоверение, он протянул его Тонику.
Со сцены старый Оуграбка рассказывал, как тяжело жилось рабочим полвека назад. Текстильщики работали семь дней в неделю, по тринадцать — четырнадцать часов, и зарабатывали от пятнадцати до тридцати крейцеров. Рабочие и ели и спали на фабрике, зачастую тут же умирали, работницы тут же рожали детей. Мастера били пожилых рабочих по лицу, а детей хлестали веревкой. Полиция была частым гостем в цехах, людей забирали за присвоенную тряпку или за одно слово протеста. Мастера бесстыдно приставали к молодым работницам и понуждали их к сожительству. Вечерами, когда рабочие шли с фабрики, обыватели, завидев их, делали большой крюк, потому что от рабочих пахло машинным маслом, джутом и водкой и они не скупились на грубые слова.
Неблагодарные слушатели равнодушно внимали старому ветерану, даже не притворяясь заинтересованными. Что им до всех этих ужасов, с которыми уже давно покончено? Все знали, что будет дальше: тусклый голос Оуграбки оживится, в блеклых глазах мелькнет огонек, и старик заговорит о первых собраниях социалистов на песчаных отмелях Влтавы, о подпольных рабочих организациях и газетах, о том, как взошла заря свободы. Людям в зале хотелось сказать оратору: «Мы очень уважаем тебя, старый товарищ, мы никому не позволим обидеть тебя даже словом, но пойми, что не об этом сейчас речь. Сойди с трибуны! Мы любим тебя! Когда ты умрешь, мы засыплем твой гроб красными цветами и всегда будем помнить о тебе, но только, пожалуйста, оставь сейчас эту тему. Ты весь в прошлом, а перед нами сейчас раскрывается будущее».
Тоник вернул «приказчику» партийное удостоверение.
— Ты из жижковской организации, товарищ Маржик? И мы не знали друг друга?
— Я жил за границей и вернулся только месяц назад.
Плецитый усмехнулся.
— Пражане очень осторожный народ, всего боятся, — сказал он Маржику. — А я знаю своих людей. Так что, товарищ, согласен ты доставить сюда оружие?
— Охотно, — ответил тот. — Где ты живешь, товарищ?
Тоник яростно лягнул Плецитого в лодыжку.
— В Карлине, Королевская улица номер шесть, второй этаж, квартира Шлегровой. Но дома ты меня не застанешь, я через три дня еду в Гамбург, оружие там, на одном пароходе, в порту. Можешь ты приехать туда?
— Безусловно!
— Наверняка?
— Даю слово! А я не съезжу зря?
— Нет, в этом я тоже даю тебе слово.
— Когда надо приехать?
— Ровно через неделю. Адрес: Гамбург, Санкт-Паули, Альтер Дамм сто двадцать семь, постоялый двор Вестермана. Там ты получишь от меня пулемет и ящик ручных гранат. Переезд через границу мы устроим. Идет?
— Идет! — сказал человек, несколько ошеломленный, и подал Плецитому руку.
— Теперь давайте послушаем оратора, — заключил Плецитый, — а то на нас все время оборачиваются. — Он повернулся к Тонику: — А что, этот дряхлый старикашка на сцене сам вылез или его подсунул президиум?
— Нет, — ответил Тоник, и Анне стало досадно, что он разговаривает с Плецитым. — Товарищ Оуграбка бывает на всех крупных собраниях.
— Я тоже всегда был против союза с буржуазией… — доносился голос Оуграбки; старик понемногу добрался и до современности.
Человек в очках вытащил новенький толстый блокнот, записал там пражский адрес Плецитого и еще раз переспросил гамбургский адрес.
— Я обязательно приеду, — сказал он.
— Приезжай. Можешь на меня положиться, я буду тебя ждать.
Старый Оуграбка говорил еще долго. Он распространялся о солидарности, которая избавила рабочих от всех былых бед и обеспечит им лучшую будущность. Социал-демократическая партия должна быть сильной и единой, всякий раскол на руку только ее врагам.
— Да, товарищи, надо порвать с буржуазией, я тоже такого мнения, — закончил он. — Наши вожди должны подчиниться воле рабочей массы. Раскол в партии недопустим, это было бы самое ужасное. Давайте же выступать на собраниях и разъяснять это рабочим. А если наши вожди сами не поймут, что нужно порвать с буржуазией, то они безусловно подчинятся воле рабочего класса. Я кончил.
Раздались аплодисменты, но хлопали больше по привычке. Оуграбка, кривоногий, маленький и бесцветный, как небеленое полотно, сошел со сцены.
— Старик ошибается, — сказал Тонику Плецитый. — Он уже не разбирается в обстановке. Раскол будет, и вожди не выполнят воли рабочих масс. — И, повернувшись к человеку в очках, он спросил: — А ты какого мнения?
— Конечно, он ошибается, — ответил Маржик, захваченный этим вопросом врасплох.
На сцену вышел Антонин Немец{139}, депутат парламента и председатель исполнительного комитета социал-демократической партии. Это был полный мужчина лет шестидесяти, с розовой лысиной и в золотых очках. Его встретили молчанием, отражавшим смешанные чувства аудитории — гнев, волнение, любопытство.
— Уважаемые товарищи! — неторопливо начал Немец. — Предыдущие ораторы во многом правы. Обстановка в нашей республике уже давно не такова, чтобы мы, рабочие, могли быть довольны. — Немец непринужденно, но твердо повторил пункт за пунктом обвинения правительству, выдвинутые Тоником и Плецитым. — Я, со своей стороны, присовокупил бы к этой оценке еще один, не менее важный, пункт: в промышленности заметны признаки кризиса, тяготы которого своекорыстные капиталисты пытаются переложить на нас. Они не хотят поступиться хотя бы частью своих громадных военных барышей…
Бывший красноармеец, с усмешкой смотревший на оратора, крикнул:
— Хорошо поешь! Я все жду, когда же ты скажешь: «но все-таки» или «несмотря на это».
В зале засмеялись.
— Ш-ш-ш!.. Тихо! — сердито крикнул кто-то.
Выкрик с места не смутил искушенного оратора.. Поправив золотые очки, он с достоинством посмотрел в сторону, где сидел Плецитый.
— Простите, гражданин, — сказал он, отчеканивая слова, с подчеркнутым спокойствием. — Насколько я помню, я не прерывал вас, и, надеюсь, вы тоже дадите мне сказать. Я называю вас гражданин, а не товарищ, ибо еще не ясно, принадлежите ли вы к нашей партии…
— Здорово ты наловчился во всяких трюках на собраниях, — засмеялся Плецитый. — Не удивительно: многолетняя практика!
— Мы знаем его! — раздались голоса. — Мы все его знаем! Это товарищ Плецитый. Мы знали его еще до войны.
— Господин депутат тоже знает меня, — усмехнулся бывший красноармеец.
— Верю, что вы его знаете, — не растерялся Немец. — Однако немало людей, которых мы знали до войны, а потом потеряли из виду, вернулись такими, словно их подменили. Я не хочу обижать кого-нибудь незаслуженными упреками. Если вы ему доверяете — значит, у вас есть на то основания. Что касается меня, — он постучал пальцем по груди, — то я не очень-то доверяю людям, которые на собраниях публично говорят о бомбах, динамите и адских машинах.
Анна была довольна этой отповедью Плецитому, так довольна, что ей захотелось смеяться. Она не удержалась, чтобы не бросить веселый взгляд на Тоника. Но тот был другого мнения.
— Разумеется, он врет, — сказал он, кивнув на оратора. — Но если сейчас встать и заявить об этом, он скажет, что он, мол, имел в виду не сегодняшнее собрание, а другие, когда Плецитый говорил о бомбах.
Плецитый усмехался, и от этого заметнее становился его белый шрам. Но Маржик, человек неискушенный, расхохотался вовсю. Его одернули, и он тотчас замолк.
— Но давайте все-таки продолжать, — сказал оратор. — Итак, Чехословацкой республике грозит тяжелый экономический кризис…
Депутат Немец еще не скоро произнес свое «но», которого ждал Плецитый. Позиции партийного руководства на этом собрании были довольно шаткими, и лидерам было выгодно, чтобы после Немца не успел выступить никто из оппозиции. Рабочие собрания редко кончаются позже десяти часов вечера, причем в таких случаях большинство участников обычно уходят раньше, чтобы после десяти не платить привратнику. Сейчас было уже девять часов, и оратору следовало бы говорить покороче; но он нарочно затягивал свое выступление и перешел к пресловутому «но» только через пятнадцать минут. Помолчав, он снова со спокойной уверенностью взглянул сквозь золотые очки в сторону Плецитого.
— А теперь, — произнес он, — перейдем к этому самому «но». Навострите уши, гражданин Плецитый! Но зададим себе вопрос: как же выйти из этого тяжелого положения? — Впервые за все время своей речи оратор повысил голос и загремел. — Вы считаете, что нужно погнать рабочих против штыков, пулеметов и пушек, гражданин Плецитый? Вы считаете, что нужно залить мостовые столицы благородной пролетарской кровью? Вы думаете, гражданин Плецитый, что наше положение станет лучше, если появятся тысячи новых вдов и сирот?
В разных углах зала шумно и демонстративно захлопали. Какая часть аудитории одобряет оратора? Одна пятая, одна шестая? Все головы оборачивались на рукоплещущие группы, ибо это интересовало всех, а особенно Немца; из-под очков он шарил глазами по залу.
Когда стало тихо, Плецитый встал и крикнул:
— Мы выйдем на улицы не умирать, а побеждать!
Зал откликнулся громом рукоплесканий. Они были громче и длительнее, чем доставшиеся на долю депутата. Молодежь явно была на стороне Плецитого.
Немец спокойно стоял на сцене и ждал. С его уст не сходила легкая усмешка. Подняв правую руку к подбородку, он покачивал указательным пальцем. Этот жест возбудил любопытство аудитории.
— Нет, нет, гражданин Плецитый, — толстый палец оратора, как маятник, качался из стороны в сторону, — мы слишком хорошо сознаем свою ответственность перед пролетариатом и собственной совестью и поэтому не только не допустим подобного преступления, — оратор выкрикнул это слово, подавшись всем корпусом вперед, — но приложим все силы к тому, чтобы помешать безответственным, легкомысленным или авантюристическим элементам совершить его! Как видите, гражданин Плецитый, я выражаюсь сдержанно, потому что хочу верить в искренность ваших опасных заблуждений. Я далек от того, чтобы называть вас провокатором. И для нас священна русская революция, гражданин Плецитый, и для нас священна борьба наших русских братьев. Но наши условия отличны от русских, и потому нам надо идти другим путем.
— В союзе с Крамаржем! — раздался выкрик.
— Мы не в союзе с Крамаржем, — с непоколебимым спокойствием ответил оратор. — Наоборот, как вы знаете, мы удалили Крамаржа из правительства{140}.
— Швегла{141} не лучше! Один другого стоит!
— Мы вообще не идем на союз с буржуазией. А если мы вошли в правительство, то по другим мотивам. Участие в правительстве дает рабочим не только возможность контроля…
В зале засмеялись.
— По-вашему, было бы лучше, если бы буржуазия одна управляла государством? — спросил оратор.
— Нет! Мы сами хотим управлять! Хотим диктатуру пролетариата! — раздались крики.
— Правильно! — снисходительно кивнул Немец. — Безусловно, товарищи, лозунги рабочего правительства и диктатуры пролетариата издавна содержатся в социал-демократической программе. К этому мы должны стремиться, и я не сомневаюсь, что со временем мы эти лозунги осуществим. — Оратор приятно улыбнулся. — Но я серьезно опасаюсь, — продолжал он приветливым тоном, — что нам трудно будет разговаривать, если мы станем все время прерывать друг друга. Дайте мне, товарищи, спокойно договорить, а кто со мной не согласен, тот получит слово и выступит. Итак…
Плецитый подошел к сцене и заглянул в список ораторов на председательском столике.
— После него записан депутат Гавлена, а потом директор Хуммельганс, — с усмешкой сказал он, вернувшись, Тонику. — Но они уже не успеют выступить и записались только на всякий случай. Я ухожу. Вы останетесь, влюбленные?
— Мы тоже пойдем, — сказал Тоник. — Анне надо вернуться раньше, чем запрут дом.
— А ты останься, товарищ Маржик, — повелительно сказал Плецитый человеку в очках. Тот замялся. — Останься, останься! Надо учиться азбуке подполья. Если мы уйдем все сразу, это покажется подозрительным. Итак, приезжай обязательно, я все приготовлю.
— Обязательно приеду!
Анна, Тоник и Плецитый вышли. Анна была недовольна, что с ними пошел Плецитый, и старалась не глядеть на него. Они прошли по двору. Сквозь стеклянную стену павильона лились снопы света. Через ворота они вышли на первый двор. Там их догнал студент Ярда Яндак.
— Почему ты уходишь? Я хотел с тобой поговорить, — сказал он Плецитому, но Анна чувствовала, что Яндак побежал за ними ради нее.
— В половине одиннадцатого я уезжаю с Вильсонова вокзала, а до того еще надо зайти домой, — ответил тот. — Старый Немец заговорит людей, они разойдутся через четверть часа, и все собрание не даст никакого результата. Чертовски плохо вы работаете! Каким идиотством было уступить им руководство собранием!
Через два двора Народного дома они прошли к задним воротам. В типографии только что начала работать ротация, в окнах редакции было светло.
— Куда ты едешь? — спросил Ярда.
— В Вену. Здешняя полиция уже охотится за мной. А отсиживаться в безопасных местах сейчас нет времени. Да, кстати, здесь и делать нечего; если бы было, я бы остался. У вас ведь все еще одни разговоры.
— Ты поверил этому Маржику, товарищ Плецитый? — спросил Тоник.
Бывший красноармеец засмеялся.
— Поразительно, до чего глупы у вас шпики! — сказал он. — Новенький блокнот, партийное удостоверение и немедленная готовность везти через границу пулеметы и бомбы! Но я действительно буду через неделю в Гамбурге.
— А зачем ты пригласил его туда?
— Хорошо, если бы он приехал! Но он не поедет: начальник пражской полиции Бинерт просто напишет гамбургским полицейским, чтобы они занялись этим делом. Там в порту действительно стоит один заокеанский пароходик, и на борту его есть надежные товарищи. Такую сволочь, как этот шпик, они заведут куда-нибудь в трюм или в кубрик, стукнут по башке гаечным ключом и бросят в грязную воду порта. Если такого гада не уничтожить, он погубит десятки товарищей.
Анна содрогнулась при этих словах.
Они вышли из Народного дома на шумные, ярко освещенные ночные улицы Праги. Плецитый оглянулся и, убедившись, что за ним не следят, крепко пожал руки обоим мужчинам и вскочил в вагон трамвая.
Ярда Яндак проводил Анну и Тоника до Вацлавской площади, хотя вначале он сказал, что выбежал из зала только затем, чтобы догнать Плецитого и поговорить с ним. Анна заметила эту уловку. Ей было приятно, когда перед домом Рубешей Тоник обнял и поцеловал ее. Она ответила ему горячим поцелуем, а потом, зардевшись, протянула руку смущенному Яроушку. Оба они отвели глаза, но рукопожатие Анны, теплое и дружеское, словно говорило сочувственно: «Мое сердце уже занято, Ярда…»
Студент и Тоник остались вдвоем.
— Мне бы хотелось поговорить с тобой, — сказал Ярда, подавляя волнение. — Зайдем куда-нибудь в кафе.
— Ладно.
Рядом сиял огнями «Пассаж», роскошное кафе с золочеными люстрами и мраморными стенами. Оттуда доносились звуки струнного оркестра, исполнявшего сентиментальную мелодию. Студент направился к входу в кафе.
— Сюда? — спросил Тоник.
— Да.
— Сюда я не пойду.
— Почему?
— Не пойду, и все.
— Почему же? — удивился студент. — Или ты боишься чистой посуды и серебряных ложек? Придет время, когда пролетариат будет есть на фарфоре и пользоваться серебряными приборами.
— Все это одни слова! — сердито сказал Тоник. — Не пойду я туда, где буржуи! Если хочешь, зайдем в какое-нибудь кафе на Жижкове, а не то я пойду домой.
— Ну, зайдем! — ответил удивленный студент.
Они молча зашагали на Жижков.
Раздражение Тоника скоро прошло, и он стал думать о сегодняшнем собрании, снова переживая волнения прений, отмечая ошибки, оценивая тактические возможности. Плецитый безжалостен, как гильотина, но он, как всегда, прав: какая глупость — дать им вести собрание! Вот они и завели его в тупик! Ясно, что старого Оуграбку они нарочно подсунули для этой цели, хотя он сам не сознает своей роли. Тоник мысленно все еще был на собрании, а студент думал только об Анне. Яроушку было грустно. Поцелуй Анны и Тоника болью отозвался в его сердце. Он все еще переживал рукопожатие Анны, понимая, что оно значит. Ему было стыдно, и он думал, краснея: «Чем было порождено это взаимное раздражение около кафе «Пассаж»? Столкновением рабочего и интеллигента или антипатией двух мужчин, влюбленных в одну женщину?»
Они шли к жижковскому виадуку. Ночная улица уже становилась безлюдной.
— Как ты думаешь, будет раскол в партии? — вдруг спросил Тоник. Вопрос был задан так внезапно, что студент опешил, — все его мысли были об Анне, — но он тотчас взял себя в руки. В памяти у него возник садовый павильон Народного дома, лампочки в табачном дыму под потолком, слова об оружии, лозунги, красные флаги с серпом и молотом. И он начал говорить о революции. От этого ему стало легче, он словно оглушал себя словами, радуясь, что пыл его чувств переключен на другое. Он говорил о примере русских товарищей, о Ленине, о завершенном этапе завоевания пролетарских масс и о захвате власти, о прыжке в будущее, о «празднике на нашей улице».
— Безразлично, будет раскол в партии или нет, — с жаром уверял он. — Это уже ничего не решает. Революция началась, и ее не остановишь. Она как стихия, как пожар, как наводнение!
— Не знаю, — холодно сказал Тоник. — Может быть. Но революцией надо руководить. Плецитый прав: необходимо оружие.
Студент заговорил о своем отце и партийном товарище, депутате Яндаке, и изложил его взгляд на единство социал-демократической партии. Яндак считал, что часть вождей не пойдет с революцией, они слишком обуржуазились, а революционному крылу не удастся повести за собой всю партию. Поэтому раскол неизбежен. Пролетариат должен создать новую партию, свою, пролетарскую, которая станет его боевым авангардом. Это надо сделать немедленно и во что бы то ни стало!
Они подходили к жижковскому виадуку. Тоник молчал. Студент пересказывал мнения отца, который примыкал к крайнему левому крылу, был связан с левыми в Вене и Берлине, а через них с Москвой. На этой неделе у него собрание в Кладно. Шахтерское Кладно революционнее Праги, первый взрыв произойдет именно там!
Тоник не отвечал.
— Жалко, что отца не было сейчас в Народном доме! У него собрание в Либне, он там сражается с Гамплом.
«А зачем ты пришел в Народный дом? — думал Тоник. — Ради Анны?»
Студент почувствовал холодность и нарочитость молчания своего собеседника.
— Что ж ты молчишь? — нервно спросил он.
Тоник пожал плечами.
— Что ж ты молчишь? — раздраженно повторил студент.
— Твой отец не пойдет с нами, — сказал вдруг Тоник.
Эта мысль уже не раз возникала у него, бегло, как искорка, которая, вспыхнув, тотчас гаснет; не будь этого разговора, Тоник никогда бы не высказал ее.
Они были уже под виадуком. Яроуш преградил Тонику дорогу, и оба остановились. Над их головами грохотал поезд. На стене под фонарем виднелась пестрая афиша с изображением Чаплина.
Студент схватил Тоника за руку.
— Ты с ума сошел?!
Тоник поглядел на него в упор и покачал головой.
— Известно тебе что-нибудь порочащее отца?
— Нет, ничего.
— По какому же праву ты говоришь?
Тоник не отвечал.
— Не отмалчивайся, это не выход. Твой товарищеский долг — ответить мне.
— Оставим это, Ярда, не хочется мне говорить на эту тему.
— Ты должен! — воскликнул студент.
— Ладно, я скажу, — произнес Тоник. — Дело в том, что я видел твою мать в белых перчатках и лаковых туфлях и твою сестру в шелковом платье.
Яроуш выпустил руку Тоника и схватился за голову.
— Ты с ума сошел!
— Нет.
— И поэтому мой отец не может быть коммунистом?
— Поэтому.
Студент нервно засмеялся. Они молча зашагали по вечерним улицам Жижкова и зашли в третьеразрядное кафе, где сидела компания ремесленников с какой-то тощей женщиной. За одним из столов играли в карты. Два сутенера, чуть ли не школьного возраста, ждали, пока их подруги принесут им деньги, и от скуки опускали монетки в оркестрион{142}. Гремела ария тореадора из «Кармен». На стекле оркестриона был нарисован зимний пейзаж с мельницей.
Тоник и Ярда сели за раскрашенный под мрамор железный столик. Размалеванная буфетчица подала им два стакана суррогатного кофе.
Студент сидел, опершись локтями о стол, сжав виски руками, и покачивал головой, в упор глядя на Тоника. Тот не отводил взгляда. Оркестрион все еще грохотал и гремел, изрытая арию тореадора, картежники за соседним столиком шлепали картами.
— А ведь это ужасно, — печально сказал студент. — Это просто ужасно — такое недоверие между рабочими и интеллигенцией!
Тоник потягивал сладковатую жидкость.
— Итак, все дело в белых перчатках, лакированных туфлях и шелковом платье? Понятно! Это слишком буржуазно, так же как чистые чашки и серебряные вилки в «Пассаже»? А если Анна купит себе шелковую блузку, ты перестанешь ее любить?
— Я сам купил бы ей такую блузку, будь у меня деньги.
— Вот видишь!
— Но у меня их никогда не будет.
— Ах, вот оно что! Значит, у кого есть деньги, тот не может быть революционером? Или ты думаешь, — и студент нахмурился, — что мой отец на жалованье у буржуазии?
— Оставим этот разговор, Ярда. Я уже сказал, что не знаю ничего плохого о твоем отце. Но с нами он не пойдет.
Тоник не отступался от того, что сказал однажды.
— Мне ты, значит, тоже не веришь — ведь у меня часы на золотой цепочке? Устроит тебя, если я сниму ее и отдам вон тем двум прощелыгам?
— Ты говоришь вздор!
— Завтра я продам ее и отдам деньги в партийную кассу.
— Не болтай зря! Сейчас я тебе верю. Но если тебе придется выбирать между нами и отцом, ты выберешь отца. Да и что тебе останется делать? Ведь тебе надо кончать ученье, а пойти в рабочие ты уже не можешь. Это было бы глупо и никому не нужно. Посмотрим, что будет через год, а может и раньше.
Студент все еще сидел, сжав руками виски и опустив глаза. «Спор это между рабочим и интеллигентом, — думал он, — или между двумя влюбленными — счастливым и отвергнутым?» В каком он невыгодном положении!
Он опять подумал об отце.
— Это ужасно, Тоник, это величайшая несправедливость! Тридцать лет отец борется вместе с вами, работает для вас, только и думает что о ваших успехах, а вы все еще не простили ему то, что он интеллигент. Мы воспитывались на учении социализма, мы росли среди вас, а вы нас не приняли в свою рабочую семью. Это ужасно!
— Ты — да, о тебе это можно сказать. Ты хоть и не вырос среди нас, но много бывал с нами. Ты — исключение. И все-таки даже ты отличаешься от нас…
— Чем? — Студент поднял голову.
— Откуда я знаю? Этот пример с кафе, конечно, чепуха. Но послушай, вот ты много болтаешь о серебряных ложках и чистой посуде, а тебе и в голову не приходит, что рабочего зло берет видеть в таких «Пассажах» всю эту сволочь, которая его обирает, что он одет не так, как они, что он не умеет вести себя в таком кафе и не знает, как надо брать в руки все эти красивые вещи. Во всем ты отличаешься от нас! А ведь это ты! Ну, а возьми партийных вождей, депутатов парламента, разных секретарей и редакторов, перебери всех и назови мне хоть одного, чьего сына или дочь ты когда-нибудь видел среди нас! Можно ли после этого удивляться нашему недоверию? А особенно сейчас, когда миновало мирное время и надвигаются серьезные события?
Студент долго смотрел на него печальным взором. На глазах у него, казалось, вот-вот покажутся слезы.
— Как же ты представляешь себе сотрудничество рабочих и интеллигенции? — спросил он.
— Никак не представляю! Интеллигенты, которые выйдут вместе с нами сражаться на улицах, будут наши. Но интеллигенция не решает дела. Не решает его и расправа с отдельными предателями, как этот Маржик, хотя она полезна. Решение в руках рабочих масс!
«ЧЕРНАЯ РУКА»
Анна стала женой Тоника. Это произошло не в роскошной спальне с душным запахом тубероз, не в приморской пальмовой роще и даже не в овражке Еврейских Печей под тысячами звездных лампочек на небесном потолке. Была такая горячая минута ночью в подъезде дома № 33 по Вацлавской площади, когда Тоник и Анна вместе вошли в парадное, чтобы поцеловаться еще несколько раз по пути на второй этаж, и никак не могли расстаться…
«Почему было написано столько книг о сладости любовных объятий? Целоваться куда приятнее», — думала Анна. Вся отрада этих минут была в сознании того, что так хочет Тоник и она уступает ему. В ту ночь Анна долго не гасила свет в своей каморке и лежала, уставившись в потолок. Это был поворотный день в ее жизни.
— Черт возьми! — сказала Маня, когда Анна поделилась с ней своими опасениями.
Через несколько дней Маня по дороге в лавку снова спросила Анну, как дела, и, услышав, что без перемен, наморщила нос.
— Вот ты и влипла. Хочешь избавиться?
Анна не понимала, и Маня объяснила ей, что это значит.
Нет, Анна не хочет избавиться!
Что же тогда делать?
Тоник стал завсегдатаем в очередях у жилищных отделов. Выходя из ворот завода, он отправлялся искать депутатов парламента, партийных главарей и всяких влиятельных знакомых, которые могли бы помочь с квартирой. Он, Антонин Кроусский, никогда ни о чем не просивший, объяснял, рассказывал, просил и чувствовал себя при этом, как пришибленный. В ответ он встречал рассеянные взгляды и шаблонные, никчемные вопросы. Пожимание плечами и постукивание пальцами по столу сопровождались обычной фразой: «Трудное это дело, мой друг». Депутаты писали рекомендательные записки на своих визитных карточках, а влиятельные знакомые посылали Тоника к другим влиятельным знакомым, и он снова высиживал в приемных, приходя в бешенство от всего этого. Из-за этих хождений Тоник терял заработок, а начальник цеха уже стал хмуриться, когда Тоник снова и снова просил отпустить его на полдня за свой счет. Но все усилия оказались тщетными, столица новорожденной республики была перенаселена. Состоятельные люди, разумеется, находили квартиры, и не было ни одного депутата парламента от рабочих, ни одного профсоюзного или партийного лидера или редактора, которому негде было бы приклонить на ночь голову. Но для рабочего заводов «Кольбен», его возлюбленной и их будущего ребенка в Праге не нашлось жилья.
«Что теперь будет? — думала Анна, и сердце у нее замирало от страха. — Беременность долго не скроешь». Анна была уже на четвертом месяце и, по утрам ощупывая свой живот, сама удивлялась, что ни барыня, ни наблюдательная в таких делах Дадла все еще ничего не заметили. Что будет потом? Она поселится в какой-нибудь рабочей семье, если ее там примут, проживет несколько десятков крон, которые скопила себе на приданое, Тоник из-за нее влезет в долги. А что, если ее нигде не примут? Анна в страхе просыпалась по ночам, и лоб ее покрывался испариной. Вернуться домой? Ни за что! Она слишком хорошо знала, какие насмешки ждут ее в деревне и как отнесется к этому отец. Нет, лучше утопиться во Влтаве!
Но архитекторше и барышне Дадле было не до Анны. Барышня захворала. Однажды днем, когда хозяина не было дома, мать привезла Дадлу в машине и вместе с каким-то незнакомым господином помогла ей подняться по лестнице и уложила в постель. Хозяйка была при этом страшно взволнована, ее пухлое лицо приняло землистый оттенок. Когда посторонний господин ушел, хозяйка подошла к Анне, подбородок у нее дрожал и глаза сверкали.
— Анна! — воскликнула она. — Дадлочка вывихнула ногу и будет лежать несколько дней. Ей необходим образцовый уход. Образцовый, понятно? Горе вам, если его не будет!
И хозяйка помахала кулаком перед носом Анны.
Эта горячность матери, полной тревоги за единственное уцелевшее дитя, была непонятна Анне, которая подумала: «И что это она на меня напустилась, разве я обижаю барышню?»
Вечером пришел Рубеш. Он был не в духе, это сразу было видно по нахмуренным бровям, но когда он присел на постель дочери, его лицо прояснилось.
— Ты что ж это, жеребеночек? Вот до чего доводят эти злосчастные высокие каблуки! Ладно, молчи, доктора приведут тебя в порядок, а потом мы отправим тебя куда-нибудь на массаж. Я тоже однажды вывихнул ногу, это чертовски больно, я знаю. — Он потрепал дочь по плечу. — Ну, лежи смирненько, я тебе сделаю хороший подарок.
Дадла велела придвинуть к постели туалетный столик, причесывалась, пудрилась, повязывала розовую ленточку на чепчик и любовалась в трельяже, как ей к лицу кружевная рубашечка. Видимо, она не очень страдала, потому что обычно при малейшей боли изводила всех домашних, а сейчас, не унывая, шутила с Анной.
— Жизнь страшно забавная штука! Правда, Анна? — сказала она, смеясь и потягиваясь, когда Анна принесла ей на подносе завтрак. Потом Дадла вдруг вспомнила что-то. — Слушайте, Анна, папа говорит, что ваш милый — большевик. Это верно?
Анна молчала.
— Не отпирайтесь, мы все равно знаем. Вот что, вы передайте ему… — Барышня снова засмеялась, но теперь скорее зло, чем весело. — Скажите ему, пусть большевики разрушат весь мир, да не забудут и наш проклятый дом! — Дадла взглянула в зеркало и поправила волосы. — А вам чертовски хорошо живется, Анна!
Анна даже побледнела: да, ей чертовски хорошо живется. Как это только у барышни поворачивается язык!
— Ну, что ты смотришь, как обалделая? Можешь идти, ты мне больше не нужна. Хочешь шоколадку?
— Нет, спасибо, барышня, — своенравно отказалась Анна.
— Ну, как хочешь.
Нездоровье барышни Дадлы было еще не самым неприятным происшествием в семье Рубешей. Сам хозяин был, пожалуй, в худшем состоянии: что ни день, то крик и внезапные вспышки гнева. Господа ссорились из-за каких-то тысяч, которые архитектор не поделил с братьями хозяйки, а кроме того, из-за денег, которые она заняла у сестры, — та передоверила этот долг братьям, а они в свою очередь потребовали деньги от Рубеша… в общем, запутанная история. При Анне господа старались молчать о таких вещах, и, когда она подавала обед или убирала со стола, Рубеши обрывали разговор на полуслове и только злобно глядели друг на друга. Но если ссоры продолжаются целую неделю и в доме ни о чем больше не говорят, можно и по обрывкам фраз понять многое. А когда хозяин орет на весь дом, то прислуге все становится ясным.
— Уж не думаете ли вы, что у меня денег куры не клюют?! — вскричал за обедом Рубеш и, выскочив из-за стола, начал бегать по столовой, комкая салфетку. — Каковы твои братья, каковы мошенники! Таким в тюрьме место! В тюрьме, поняла? — Он швырнул салфетку на пол. — Сто двадцать тысяч! Вы что же думаете, что я всю жизнь работал, как вол, только для того, чтобы пихать в вас деньги? Бессовестные пройдохи! Воображают, что я буду платить и помалкивать! Ошибаются, черт подери! С моей стороны это была вполне законная сделка. А вот их я посажу за решетку!
Однажды он пришел домой в необычное время, сел у себя в кабинете, позвонил Анне и велел ей позвать жену. Барыня побледнела, когда Анна передала ей это, но пошла.
В кабинете начался разговор. Моментами хозяин повышал голос, но тут же понижал его — видимо, жена напоминала ему, что прислуга может услышать, или он спохватывался сам. Один раз он все-таки раскричался так, что было слышно в кухне:
— В последний раз спрашиваю: куда ты дела эти шесть тысяч? Не рассказывай сказки, меня не проведешь, мне все ясно! Эти деньги ты взяла у сестры, а она покрыла твой долг за счет этих жуликов, твоих братьев! Куда ты дела деньги?
Хозяйка плакала и что-то взволнованно объясняла.
— Перестань, пожалуйста! — оборвал ее хозяин. — Я скажу тебе, куда ты их дела: послала в Давос, этой негодяйке и ее бездельнику.
И тогда хозяйка пронзительно закричала истерическим голосом, полным смертельной ненависти:
— Клянусь, что я не послала Зденочке ни одного геллера! Клянусь в этом самым святым для меня — жизнью двух моих детей, которых ты мне еще оставил! Понял? И моя Зденочка не негодяйка, слышишь? Ты… ты — убийца!
Долго слышался только горький плач и шаги хозяина по кабинету. Потом опять начались приглушенные разговоры.
— Анна!
Этот резкий окрик раздался из будуара Дадлы. Анна заглянула туда.
— Что изволите, барышня?
В груде подушек и кружев горели черные глаза Дадлы. Она лежала с книгой.
— Опять они там лаются?
Анна молча кивнула.
— Черт бы их подрал! — сквозь зубы процедила Дадла. — Что за проклятая жизнь! — Она швырнула книгу в другой конец комнаты и уткнулась в подушки.
Так шла жизнь в доме Рубешей — ссоры, крики, и все из-за денег. По вечерам хозяева ссорились еще и в спальне. Решение навсегда покинуть общую спальню, принятое хозяйкой после смерти Честмира, оказалось недолговечным: в отдельной комнате она ночевала не дольше месяца. Однажды, получив письмо со швейцарской маркой, она, бледная, пришла на кухню:
— Пойдемте, Анна, помогите мне с кроватью.
И ее постель и туалетный столик были перенесены обратно в спальню, потому что Здена не могла жить в Давосе без тех кредиток, которые хозяйка каждый день на рассвете крала из бумажника мужа. Немало жертв принесла мать ради детей, и эта жертва была тяжелее всех. Хозяйка долго ходила в слезах по квартире.
— Девушка, на пару слов, — вполголоса окликнула рано утром привратница Анну и стала в воротах так, чтобы их не было видно из окон квартиры Рубеша. — Как чувствует себя ваша барышня Дадла? Болит еще ножка? — Дворжакова хитро улыбнулась. — Слушайте, девушка, тут вчера в три часа приходил какой-то господин в светлом костюме. Не был он у вас наверху?
Маня тоже поджидала Анну каждое утро.
— Вывихнула лодыжку? — сказала она, когда они шли вверх по Вацлавской площади с корзинками в руках. — И кому они заливают, скажи, пожалуйста! Нам с Дворжаковой все доподлинно известно: Дадлочка ваша влипла, вот оно что, моя милая! Влипла, и ей пришлось во всем сознаться маменьке. Руди им нашел доктора, и тот за три тысячи сделал ей аборт. На это ушло, стало быть, только три тысячи, а ваш старик орет о шести. Дело тут вот в чем: этот Руди страшный жох, он хочет около Рубешей кормиться всю жизнь. Видела ты его? Я его вчера встретила, одет с иголочки, трость с золотым набалдашником. Тянет деньги у твоей хозяйки, вкручивает ей, что, мол, ассистент того доктора его шантажирует, грозит скандалом и кутузкой. Экую чушь придумал. Разве ассистент пойдет на такое вымогательство? А ваша старуха перетрусила, занимает деньги у сестры и дает ему. Вот какие дела, моя милая!.. Не говорила я тебе, что заварится страшная каша? Хороша семейка! Берегли, берегли свою барышню, как зеницу ока, на улицу ее не пускали одну, в театр не пускали, в кино тоже, а она на пять минут сорвалась с цепи — и вот, пожалуйте! А нас, дур, пугают жестянщиками, которые запаивают девушек в железные бочки! — Маня вдруг остановилась, озаренная внезапной мыслью. — Слушай-ка, Анна, а нога у нее перевязана?
— Да.
— В лубках или просто бинтом?
— Просто.
— А кто перевязывал, доктор?
— Нет, хозяйка сама.
— Ах, черти! Ах, пройдохи! Это чтобы надуть Рубеша!
Анна отвечала рассеянно, она думала о другом. Подумать только, барышня Дадла «избавилась»! Взгляд Анны блуждал по Вацлавской площади, и ей казалось, что эта оживленная улица где-то далеко от нее, словно Анна глядела в перевернутый бинокль. Все кругом выглядело чужим и необычным. Барышня Дадла «избавилась» — эта мысль не давала Анне покоя. Маня, помахивая сумкой с провизией, рассказывала ей о братьях хозяйки: один из них служит в министерстве общественных работ, другой занимает пост советника пражского магистрата. С Рубешом они делают дела, устраивают ему заказы, а он делится с ними барышом. На постройке канализации в Дейвицах Рубеш обжулил магистрат на два с половиной миллиона!
Анна слушала невнимательно. Улица кругом казалась ей бесцветной, прохожие были подобны теням на экране. Так вот оно что, барышня Дадла «избавилась»! И с ней ничего не случилось, — полежит несколько дней в постели, и все будет, как прежде. Так просто!
Анна вдруг отвела глаза от площади и уставилась себе под ноги. «Нет, — мысленно сказала она. — Нет! Решительно нет!» И это «нет» было так же твердо, как «нет» или «да» Тоника.
Маня все еще рассказывала о жульничествах при получении казенных заказов: архитектор, мол, не поделил со свояками двухсот тысяч. О восьмидесяти они договорились, а из-за ста двадцати все еще ссорятся.
«Что же делать?» — думала Анна. Квартиры у нее с Тоником нет. Тоник тщетно обивает пороги. Вчера барышня Дадла дольше обычного задержалась взглядом на фигуре Анны.
«Обращусь за помощью к «Черной руке», — хмуро сказал вчера Тоник, и Анне вспомнились похождения Шерлока Холмса и Ника Картера. «Черная рука» — это было тайное общество на Жижкове и гроза тамошних домовладельцев. Больше ничего Тоник о нем не знал!..
«Нет, нет, ничего из этого не выйдет», — вздрогнув, подумала Анна.
…Маня рассказывает о миллионах убедительным, полным таинственности голосом. По Вацлавской площади громыхают красные трамваи, гудя проносятся автомобили. Анна все еще видит их словно в перевернутый бинокль. «Может помочь эта «Черная рука»?..»
— Ну, пойдем, красотка, — сказала Маня с порога бакалейной лавки, — а то твои бабы будут ругаться.
Но архитекторша уже не глядела на кухонные часы, считая минуты отлучки своей прислуги, она даже не замечала, задержалась та или нет. Когда Анна вернулась с покупками, хозяйка стояла у кухонного стола и отбивала бифштекс для Дадлы. В одной руке она держала деревянный пестик, а другой солила и перчила мясо, поливая его слезами.
— Ах, Анна, — вздыхала она, уже не таясь перед прислугой. Из ее заплаканных глаз катились слезы, пухлая правая рука била мясо, а левая машинально брала из фарфоровых баночек щепотки соли и перца. Бифштекс стал уже весь черно-белый.
— Ах, Анна, — твердила хозяйка и все била и перчила бифштекс. — Ах, господи боже мой! — она взяла еще щепотку соли. — Как легко живется вам, людям низших классов. Хотела бы я быть на вашем месте.
Анна уже не впервые слышала эти слова, почти то же самое ей сказала барышня Дадла. Удивительное дело: жена и дочь миллионера завидуют ей, прислуге, которой скоро негде будет приклонить голову с ребенком. «Хотели бы они быть на моем месте, если бы знали все?» — думала Анна и не находила ответа.
Но пришел день, когда она сказала себе: «Да, они завидовали бы мне, даже если бы знали все!» Потому что они одиноки, а Анна не одинока — она член великой семьи. И эта семья пришла ей на помощь в трудный час.
Однажды днем, когда Анна была одна в квартире и мыла посуду, кто-то позвонил у дверей. Анна пошла открыть. В дверях стоял долговязый человек и улыбался ей, обнажая желтые зубы. Это был Франта Зауэр{143} из Жижкова, полурабочий и полуторговец, свой человек для жижковских гуляк и для многих партийных товарищей, этакий добродушный сорокалетний ребенок. Рядом с ним стоял рабочий помоложе, Анна часто видела его на собраниях, но не знала по имени.
— Мы — «Черная рука», — сказал Франта. — И пришли за вами, Анечка!
Анна смутилась и немного испугалась. «Черная рука»? Та самая «Черная рука», что выгоняет из квартир богачей и вселяет туда бедняков? «Черная рука» — это Франта Зауэр? Смеются они, что ли?
— Что ж вы нас не впускаете, Анечка? Это Лойзик Котрба. Разве вы не знакомы с ним? — продолжал Франта.
Анна впустила их в переднюю.
— Для тебя есть квартира, товарищ, — сказал Лойзик Котрба. — Поживей собирай вещи, и пошли!
Анна провела их на кухню. Для нее и Тоника есть квартира? Неужели это правда? Анна испугалась еще больше и стояла, не зная, что сказать. Ведь она одна дома. Она не брала у хозяйки расчета, ни слова не говорила ей об уходе.
Анна колебалась.
— Я…
Ей хотелось объяснить им, в чем дело, но нужные слова не находились, и она только переминалась с ноги на ногу, вытирая руки о замазанный фартук.
— Я…
— Только без долгих разговоров, товарищ. Дело срочное. Мы должны быть там не позже, чем без четверти пять, а это не близко. Где твой чемодан?
Анна поняла, что разговор идет всерьез.
— Значит, мне надо идти? Вправду?
Она ввела их в свою каморку и дала им потертый чемодан, который купила еще до знакомства с Тоником, на свою первую получку. Зауэр и Котрба стали беспорядочно бросать туда Аннины вещи, хватая все, что попадалось под руку, как это делают только мужчины. Через минуту все было готово.
— Есть у тебя еще что-нибудь?
— Нет, ничего, но я хотела…
Она не успела сказать, что хочет переодеться; товарищи уже ухватили чемодан за железные ручки, быстро вынесли его на лестницу и устремились вниз по ступенькам. Взволнованная Анна вышла на площадку. Господи боже, а как же быть с квартирой? Анна не знала, что делать, потом вдруг решилась: захлопнула дверь и побежала вслед за товарищами. Они были уже в самом низу, почти на улице.
Они пошли по Вацлавской площади, вниз к Пршикопам. Анна шла следом. Франта и Лойза не говорили ни слова. Анне очень хотелось расспросить их, но она отважилась на это, только когда они уже дошли до шумного перекрестка у Пороховой башни. Прибавив шагу, Анна пошла рядом с Зауэром.
— А куда мы идем? — робко спросила она.
— На Жижков, Анечка, на Есениову улицу, — улыбнувшись, ответил долговязый Зауэр. — Там будет страшная грызня с домовладельцем, придется уж потерпеть. Но зато квартирка — загляденье! Гнездышко для двух канареек! Депутат Яндак сказал нам, что надо устроить вас, а мы его уважаем. Муженек уже ждет вас там.
Ошеломленная Анна попыталась выяснить подробности у младшего товарища, но он был серьезен и неразговорчив и, в ответ на ее тревожный взгляд, сказал только:
— Не беспокойся, все устроится.
Анна ждала, что он расскажет, как именно все устроится, но так и не дождалась. Некоторое время она шла рядом с ними, потом снова отстала. Так шли по улицам Праги эти двое рабочих с черным чемоданом, который они несли за железные ручки, а за ними женщина в синей блузке и тапочках, в том самом виде, как она стояла у кухонной раковины. Они шли по трамвайным путям, давая дорогу трамваям, автомобилям и тяжелым грузовикам, груженным дребезжащим железом.
В три четверти пятого они остановились перед облупленным домом на Есениовой улице. У ворот стоял полицейский. При виде его у Анны екнуло сердце. Они были на месте, — она поняла это, увидев тележку, стоявшую у тротуара. На тележке были пожитки Тоника — складная деревянная кровать, соломенный матрац, перина в красном полосатом чехле и два стула. Значит, Тоник где-то здесь близко. Это немного успокоило Анну.
— Как там дела, Пепик? — спросил Зауэр мальчугана, стоявшего у тележки.
— Всё ругаются с хозяином насчет ключа. Уже ходили в полицию, и комиссар пришел сюда, и вон тот фараон тоже. Еще один там, внутри.
— Остается десять минут, — сказал Зауэр своему молчаливому товарищу. — Постой здесь, я схожу на разведку.
Он прошел мимо сохранявшего официальную невозмутимость полицейского и исчез в доме. Анна осталась с безмолвным Котрбой. «Так вот как обстоит дело, — думала она. — Квартиры-то еще нет, только идут переговоры. Да и полиция здесь! Вот вам и надежды на «Черную руку», вот вам и волнения сегодняшнего дня! Неужели Тоник верит, что они въедут?» Анне хотелось заплакать. Котрба закурил, не обращая внимания на Анну. Вид у него был такой, словно его ждет здесь работа, которую он выполнял уже много раз.
Тем временем во втором этаже, в квартире домовладельца, уже с полудня тянулись переговоры. Анна еще мыла посуду на кухне у Рубешей, когда к домовладельцу пришли Франта Зауэр, старый гончар Чермак, типограф Вик, подсобный рабочий Котрба — тот самый, что сейчас стоял внизу с Анной, и столяр Гонза Колар. С ними был и Тоник.
— Вам чего? — проворчал домовладелец, стоя в дверях. Это был белобрысый краснощекий толстяк лет сорока, разбогатевший во время войны на продуктовых поставках.
— Серьезный разговор, ваша милость, — сказал Франта Зауэр. Они втиснули домохозяина в переднюю и прошли прямо в комнату.
— Ну, в чем дело? — гаркнул домовладелец.
— Ваша милость, — начал Франта Зауэр, — у вас тут в третьем этаже есть пустая квартирка, одна комната с кухней, так вот мы пришли вас вежливенько попросить, чтобы вы сдали ее товарищу Кроусскому. Он тут с нами, разрешите представить: товарищ Антонин Кроусский, литейщик с заводов «Кольбен», очень порядочный человек, и господин домовладелец — Козлик. А я — Франта Зауэр с Жижкова.
— У меня нет свободных квартир, — проворчал домовладелец.
— Есть, ваша милость, есть! — возразил Франта Зауэр.
— Нету, — отрезал хозяин. — Эта квартира уже сдана.
— Знаем, ваша милость, знаем: сдана под склад. А это очень нехорошо — сдавать квартиры спекулянтам под склад, когда в Праге столько людей без жилья.
— Да и закон этого не разрешает, — вставил гончар Чермак.
— Вот именно, не разрешает! — подхватил Франта. — Но господин домовладелец — чуткой души человек, поглядите только, какое у него доброе лицо. Он уступит нам и без ссылок на законы, не правда ли, ваша милость?
Домохозяин побагровел.
— Я с вами больше не намерен разговаривать. Сказано, и точка! Нет у меня свободных квартир.
— «И точка»… Ай-ай-ай! Кто бы мог подумать, что вы такой несговорчивый! — удивился Франта Зауэр.
— Прошу вас больше не беспокоить меня и немедленно покинуть мой дом.
— Этого никак нельзя, ваша милость. Мы, видите ли, и есть «Черная рука» с Жижкова, и мы не уйдем отсюда, пока товарищ Кроусский с женой не получит квартиры в третьем этаже.
— Что вы такое затеяли? — взбеленился хозяин.
Тоник шагнул вперед. Глаза у него горели.
— Вы знаете, как не хватает квартир в Праге, — воскликнул он. — А вы спекулируете квартирой, сдаете ее под склад! Да понимаете ли вы…
— Погоди, Тоник, погоди, — прервал Франта, положив ему на плечо свою огромную руку. — Разве можно так сплеча? Надо не спеша и с толком. Ты не волнуйся сам и не нервируй господина домовладельца. Что, если его вдруг хватит удар? Это ведь будет на твоей совести. Уж ты лучше помолчи, Тоник. Что мы затеяли? — обернулся он к хозяину. — Очень простое дело, в котором мы не новички. Это дело мы уже провели раз тридцать, ха-ха! Товарищ Кроусский с женой въедет в квартиру, вот тогда мы и откланяемся. Очень просто, а?
— Ладно, — надулся хозяин. — Что мне тут с вами разговаривать! — Он смерил рабочих уничтожающим взглядом и выкрикнул угрозу, которая должна была ошеломить их: — Вот вызову полицию, пусть она с вами разбирается.
— Ой-ой-ой! — Франта хлопнул себя по бокам. — Это здорово придумано, ваша милость! Как это нам не пришло в голову! Сходим-ка в полицию, я там еще не бывал!
Хозяин схватился за телефонную трубку, но долго не мог дозвониться в участок. Рабочие посмеивались. Наконец, ему удалось соединиться с полицейским комиссаром.
— Ко мне в дом ворвалось шесть человек… совершенно незнакомые… — рассказывал взбешенный Козлик. — Требуют, чтобы я сдал им квартиру. Я обращаюсь в полицию за защитой!
Ему что-то ответили.
— Да! — крикнул он в телефон и повесил трубку. — В последний раз, — обратился он к рабочим, — спрашиваю вас: уйдете вы отсюда или нет?
— Нет! — крикнул Тоник.
— Погоди, Тоник, я ж говорил тебе, что надо не спеша и с толком. Ты же мне обещал…
— Нет! — хладнокровно ответил хозяину Чермак.
— Мы бы с удовольствием ушли, ваша милость, — сказал Франта Зауэр, — но только этого никак нельзя сделать, ведь на карту поставлена честь «Черной руки».
— Тогда пойдем в полицию! — загремел домовладелец.
— Пошли, ребята, в полицию, — ухмыльнулся Франта, — потолкуем о том о сем. До пяти часов еще много времени.
Они вышли на улицу. Франта Зауэр и Котрба отправились за Анной, а все остальные пошли в полицейский участок.
Полицейский комиссар сердито поглядел на вошедших. Это был не первый визит «Черной руки», и двоих из четырех посетителей он уже знал.
— «Черная рука»? — гаркнул он.
— Да, — угрюмо ответил старый Чермак.
Комиссар принял суровый и официальный вид.
— Слушайте, ребята, — сказал он, — вы хватили через край. Эти штучки плохо кончатся, вы на них чертовски обожжетесь… Итак, в чем дело, господин Козлик?
Козлик взволнованно заговорил. К нему, мол, вторглись какие-то самозванцы… где же демократия и порядок? У него уже получен задаток за эту квартирку, налоги платит он исправно… Комиссар слушал, скучая. Все это он слышал уже бог весть сколько раз и заранее знал, что ответят рабочие, если вступить с ними в спор. Комиссару было хорошо известно, насколько беспомощны жилищные отделы, он знал, что в его районе люди живут черт знает в каких трущобах — в подвалах, прачечных и сараях. Попусту тратить слова на все это не имело смысла, а пресечь нарушение порядка можно было только силою полицейского оружия, как это когда-то делали в старой Австро-Венгрии. Но это было запрещено. Правда, в стране все так быстро катилось к старому, что, отважься он, комиссар, на самочинные крутые меры, он, быть может, сделал бы блестящую карьеру. Но может случиться и обратное: за такую инициативу он поплатится головой, по крайней мере в переносном смысле слова.
Поэтому, выслушав всю историю, комиссар сказал кисло:
— Пойду сам посмотрю, в чем там дело.
Он надел форменную фуражку, взял с собой двух полицейских и пошел. В доме на Есениовой улице комиссар осмотрел однокомнатную квартирку в третьем этаже. Там стояли два ящика и множество бутылок с минеральной водой. Кухонное окно выходило на лестницу.
Домохозяин нервничал все больше, а рабочие сохраняли хладнокровие и знай твердили свое: «Дайте нам ключ!»
Франта Зауэр, вернувшись с Анной, застал всю компанию в кухоньке. Хозяин кипятился и повторял свои доводы, а комиссар хмуро отвечал ему. Потом все пошли к домовладельцу. Там канитель продолжалась: Козлик волновался и кричал, а рабочие с однообразием граммофонной пластинки твердили, что превращать квартиру в склад — незаконно и вообще свинство, потому что в Праге столько людей без крова; это, мол, должен признать и сам господин полицейский комиссар. Как ни старайся домохозяин, они не уйдут, пока не получат ключ от квартиры. Тоник хмурился и молчал. Типографщик Вик вынул часы и проверил их по большим настенным часам с золоченым циферблатом и узорными гирями.
Домохозяина особенно бесило добродушие Франты Зауэра, — тот закурил папироску и стряхивал пепел за печку.
— Не смейте курить! — рявкнул на него Козлик. — Вы что, в хлеву?
Франта ухмыльнулся и сделал еще одну глубокую затяжку.
— Нет так нет! — мирно сказал он, снова стряхнул пепел за печку и спрятал окурок в жилетный карман.
Домохозяин бегал по ковру. Его массивное лицо и толстая шея налились кровью, — казалось, его вот-вот хватит удар. Сознание того, что он, богатый делец и человек со связями, бессилен против этих трех рабочих из предместья, несмотря на свое неоспоримое право собственности и на то, что с ним тут трое полицейских, приводило его в ярость. Он не даст ключа, не даст, не даст! Лучше умрет на месте, а не даст!
— Разве я не плачу налогов, черт побери?! — кричал он уже охрипшим голосом. — Господин комиссар, защитите меня! Или закон уже ничего не стоит?
Комиссар флегматично сидел в красном плюшевом кресле.
— Может быть, вы все-таки договоритесь добром? — твердил он унылым голосом.
Позолоченные часы на стене, в унисон с церковными часами на башне, бой которых услышала и Анна, пробили пять. Анна все еще стояла на улице с неразговорчивым Котрбой и двенадцатилетним Пепиком. Ее нервы не вынесли ожидания, и она заплакала. У них нет и не будет квартиры! Зачем их зря обнадеживают? Анна была вся в слезах, платочек в ее руке промок — хоть выжми.
— Не плачь, товарищ, через десять минут ты будешь уже в квартире, — сказал ей угрюмый Котрба, и впервые в его голосе прозвучало участие.
Было пять минут шестого. В нескольких стах шагах от Анны почти безлюдная улица вдруг наполнилась людьми. Молодые рабочие выбежали после работы из ворот соседней фабрики. Глубоко вдыхая свежий воздух, толпа молодежи полилась по улице в сторону Анны. Потом фабричные ворота выбросили новые группы людей, и они зашагали, догоняя предыдущих. Авангард этой армии труда быстро устремился вниз по Есениовой улице. Теперь из ворот лился сплошной людской поток. Во всю ширину улицы бурлила черная река, фабричные ворота выбрасывали все новые и новые волны людей, и густой поток, еще не растекшийся по соседним улицам, тяжело катился к дому, около которого стояла тележка с вещами Тоника.
Первая волна толпы уже докатилась до Анны. Трое парней в пиджаках поверх синих спецовок, с юношески свежими, но чумазыми лицами, спросили почти разом:
— Что это тут такое? Переселение? Вас не впускают?
— Домовладелец, стерва, спекулирует квартирой, сдал ее под склад и не дает ключа. Эта бедняжка осталась на улице, вы только поглядите! — объяснял неожиданно оживившийся Котрба.
Парни весело и сочувственно засмеялись, сверкнув молодыми, белыми зубами. Один из них, вихрастый блондин, повернулся лицом к толпе, сунул в рот два пальца и оглушительно свистнул разбойничьим посвистом. А самый маленький и чумазый приложил руки ко рту и закричал:
— Ребя-а-а-та, айда сюда! Здесь пересе-ле-е-е-ние!
Полицейский, стоявший у ворот, вошел в подъезд и запер его за собой.
Рабочие окружили Анну.
— В чем дело?
— Что такое?
— Переселяетесь?
— «Черная рука»?
Кругом раздался смех.
Котрба разъяснял, словно произносил агитационную речь:
— Этот жулик спекулирует квартирой: сдал ее под склад. У самого пять комнат и ряшка, что у борова. А бедняков не пускает в крохотную квартиру. Они ждут тут уже третий час, а у спекулянта там сидят полицейский комиссар и два фараона.
Кто-то снова свистнул в два пальца. Посвист, перекликаясь, повторился несколько раз. Взбудораженная кипучая толпа окружила Анну.
— Пойдем вселим их в квартиру! — крикнул кто-то.
— Пошли туда, айда!
Толпа устремилась к подъезду. Но подъезд был заперт. Послышались гневные возгласы. Чьи-то руки затрясли ручку двери, шесть ног забили в филенку. Но дверь была прочная.
Это был момент, когда сто пятьдесят рабочих жижковской фабрики стали коллективом. Это сделало препятствие, преградившее им путь, — дверь, трещавшая от ударов. Люди теряли индивидуальные черты, сливались воедино.
Вот так же возбужденная и ликующая толпа доисторических людей, одетых в звериные шкуры, волновалась на краю ямы, в которую попался громадный мамонт; они предвкушали близкое пиршество, злились на последнюю помеху, рычали от радости и от голода, швыряли в зверя каменья, протыкали ему брюхо заостренными кольями.
Вот такая же, жаждущая справедливости толпа, отстаивая веру божию, выбросила вероломных городских советников из готических окон пражской ратуши{144} прямо на дреколья и копья гуситов.
Вот такая же отважная масса граждан и гражданок Франции, провозгласивших лозунг «Свобода, равенство и братство!», готова была растерзать каждого, кто попытался бы убеждать ее, что гранитные стены и башни Бастилии непреодолимы. И такие же объятые небывалым подъемом народные массы с винтовками в руках штурмовали в октябрьский день ворота московского Кремля, за которыми засели юнкера.
Теперь такой же коллектив людей родился перед домом на Жижкове. В нем было наследие тысячелетий — страсть и воля, ярость и голод, и прекраснейшее из духовных достояний человечества — жажда справедливости.
Ручка двери и ясеневые филенки гудели от ударов. Новый человеческий поток докатился от завода до дома. Улица была запружена толпой.
В окнах соседних домов, среди цветочных горшков и подушек, уже показались любопытные: одни смеялись, у других были серьезные и строгие лица.
— Подайте нам этого гада, посмотрим, каков он есть!
— Позо-о-ор! Позо-ор! — кричала толпа.
Пожилая работница из толпы заметила беременность Анны. Она вскочила на колесо тележки и, опираясь о плечи мужчин, закричала, волнуясь и покрываясь красными пятнами:
— Она, бедняжка, беременна, на девятом месяце, а этот пес выгнал их на улицу!
— Позо-ор! Позо-ор! — ревела толпа.
— Пойдем вселим их! — пронзительно закричал кто-то.
Это был призыв, которого жаждала толпа. Она ответила свистом и криками: «Вселим, вселим!»
Эти крики уже звучали грозно. Соседние окна стали захлопываться. И вдруг открылись ворота вражеской твердыни: двери дома распахнулись, в них появилось трое рабочих. Один из них поднял руку. Толпа разом смолкла. Так всегда бывало в веках, когда осажденная крепость выкидывала белый флаг. Сейчас таким флагом стала правая рука старого Чермака.
— Выберем депутацию для переговоров с хозяином, товарищи рабочие! — воскликнул он громким голосом.
Этот призыв прокатился по рядам, всюду находя отклик. Вслед за рабочими из ворот вышел полицейский комиссар.
— Господа, — начал он, — дело это чисто приватное, полицию оно не интересует. Мы приняли меры, чтобы уладить его миром. Оно будет улажено!
Кто-то засмеялся. Конечно, будет улажено! Разве это не было ясно с самого начала всем, в том числе и полицейскому комиссару?
— Но порядок должен быть соблюден во что бы то ни стало, — продолжал комиссар. — Я не могу допустить никаких сборищ. В ваших интересах не вынуждать меня к крайним мерам.
Если комиссар действительно хотел, чтобы все обошлось мирно, он совершил сейчас тактическую ошибку, посягнув на суверенитет толпы.
— Заткнись, пустобрех чертов! — крикнул кто-то.
— Этим нас не испугаешь, чертополох!
— Широко шагаешь, штаны порвешь!
В этих возгласах уже звучало раздражение.
Несколько парней и девушек-упаковщиц откровенно смеялись над комиссаром. У него чуть дрогнул подбородок.
— Депутацию! — раздался громовый голос около ворот. Сквозь толпу уже пробиралось пять человек.
— На кой черт депутацию? — закричал чубатый парень в спецовке. — Тащите этого домовладельца на улицу!
— Давайте нам его сюда на расправу! — вторил его товарищ.
Но это были голоса недисциплинированных одиночек. Депутация уже входила в ворота. На нее были устремлены все взоры.
Наступила тишина.
Толпа не шелохнулась в ожидании.
Такое молчание можно выдержать лишь несколько минут. И оно продолжалось не дольше.
Улица вдруг заликовала. В дверях дома появились Тоник, Чермак, Вик и рабочая депутация. Все улыбались, а сияющий Чермак держал в поднятой руке ключ — обыкновеннейший ключ на колечке, какие продаются в скобяных лавках за три кроны. Но этот ключ был символом победы.
Ни один актер на сцене, ни один оратор на трибуне не знали такой бури восторженных рукоплесканий, какой был встречен Чермак, появившийся с ключом в руке. Победные возгласы и смех потрясали окна домов Есениовой улицы, врывались в квартиры, взлетали над крышами к закопченному небу.
Бастилия пала!
Рабочие ликовали и смеялись. Ликовали потому, что добились своего, а смеялись над потерпевшим поражение буржуа-домовладельцем и посрамленной полицией.
Анна стояла бледная, как простыня. К тележке вдруг устремились люди — десять, пятнадцать человек, много больше, чем нужно, чтобы перенести мебель Тоника. В одно мгновение десятки рук развязали веревку, схватили вещи, десятки плеч проложили дорогу в толпе, десятки ног вбежали в дом и с топотом устремились на третий этаж, шагая через две ступеньки. За три минуты квартиру в третьем этаже обставили скромной мебелью Тоника, и она готова была принять новых жильцов. А те, кто принес вещи, снова с шумом ринулись вниз по лестнице, и топот их ног отдавался в голове домовладельца, как удары молота.
Благодарность Тоника была немногословна: несколько крепких рукопожатий, дружеская улыбка. Потом Тоник и Анна поднялись по лестнице в свою новую квартиру, а две тысячи рабочих фабрики боеприпасов, предприятий Данека и государственного машиностроительного завода стали расходиться. Живая масса толпы растеклась по соседним улицам, по жижковским домам, по своим квартирам. Но и потом, когда эта толпа превратится в две тысячи разных людей — мужчин, стоящих обнаженными по пояс перед умывальниками с теплой водой, женщин, разжигающих плиту, чтобы приготовить ужин, рабочих парней и девушек, надевающих перед зеркалом чистые воротнички и блузки, чтобы выйти на гулянку этим весенним вечером, — и тогда еще на губах у многих из них не исчезнет улыбка, а в груди какое-то теплое чувство. И когда эти люди будут ложиться спать, многие из них вдруг засмеются в постели и скажут себе, что сегодня на Есениовой улице была здоровая заваруха!
Анна стояла посреди своей новой квартиры и плакала, уткнувшись в грудь Тонику. Был уже вечер, и заходящее солнце бросило пригоршню золотой пыли в угол комнаты.
— Так что же, Тоничек, можно нам тут остаться?
— Да, — ответил Тоник. — Дело решилось быстро. Мы пришли и говорим: «Давайте ключ, а то мы войдем и без ключа!» Тут уж он не стал долго думать. Конечно, мы здесь остаемся.
— А который собственно час? — вдруг спохватилась Анна и так заволновалась, что у нее даже закружилась голова. — Ехать мне обратно к хозяйке или нет?
Тоник задумался, нахмурившись.
— Эх, не езди! — сказал было он, по потом спохватился. — А паспорт твой где? Нет с собой? Вот видишь! Хозяйка заявит в полицию, что ты пропала. Значит, надо ехать.
— Надо ехать?
— Да, поезжай!
Они вышли из квартиры и заперли дверь. Щелкнул замок, и этот знакомый для Анны звук прозвучал для нее совсем ново и необычно, как будто она никогда его не слышала. Тоник проводил Анну до трамвая, и она поехала на свою старую квартиру.
Хозяйка, открыв ей дверь, пронзила ее уничтожающим взглядом.
— Где вы были? — спросила она сухим, резким тоном.
— Мы с Тоником нашли квартиру. Я выхожу замуж.
Сердце у Анны бешено колотилось, но она не заплакала и ответила спокойно и уверенно. Это обезоружило хозяйку. Она молча отвернулась и вышла, хлопнув дверью.
Анна наверстывала в кухне упущенную работу, подавала на стол, стелила постели. За все время никто не сказал ей ни слова, словно она вообще не существовала. Но господское пренебрежение сегодня не действовало на нее. Разве могло оно подействовать, если она и Тоник стали, наконец, мужем и женой! Ведь днем своей свадьбы они считают не тот день, когда узнали друг друга, и не тот, когда они распишутся в магистрате. Их свадьба сегодня, когда они обрели общий кров.
Но разве хозяйка и барышня могут понять это? У Рубеша восемь собственных домов. Дадлу в день свадьбы нарядят в белый шелк и фату с миртовым веночком, и невеста (уже несколько попорченная гинекологом) вместе с принцем-женихом проследует в автомобиле — одном из вереницы — в церковь, где для них будет расстелен красный ковер. «Сколько у вас, барышня, будет гостей на свадьбе? — мысленно спрашивала Анна хозяйскую дочку. — Тридцать? Сорок? Уж во всяком случае не больше пятидесяти. А знаете вы, барышня, сколько их было у меня? Две тысячи! Полная улица друзей — с фабрики боеприпасов, с завода Данека, с государственного машиностроительного! А вы думаете, барышня, будет у вас на свадьбе такое ликование, какое было на моей?..» Анна даже вздрогнула от переполнивших ее радости и гордости.
Анна убирала будуар Дадлы, стелила батистовое постельное белье с кружевами и думала: «Бр-р-р, как противно пахнет ваша постель, барышня: духами, пудрой, всякими туалетными водами. Моя постель будет благоухать! Она будет благоухать Тоником, барышня! Будет благоухать чугунным литьем его завода!»
Перед сном барышня Дадла зашла в кухню для дипломатических переговоров. Она сделала вид, что ей нужен стакан воды, напилась и взбила волосы перед кухонным зеркальцем.
— Говорят, вы выходите замуж, Анна?
Анна мыла посуду, стоя спиной к Дадле.
— Выхожу, барышня. У нас уже есть квартира.
— Гм… А где?
— На Есениовой улице, на Жижкове.
Дадла помолчала.
— С вашей стороны это не очень-то хорошо, Анна, — сказала она. — Вы поступили неблагодарно. Мы всегда хорошо относились к вам, а вы даже словом не обмолвились о своих намерениях. Вы, значит, хотите оставить маму без прислуги?
Анна промолчала. Пауза тянулась мучительно долго, но Анна твердо решила не отвечать.
— Что ж вы молчите и стоите ко мне задницей, Анна? Я с вами разговариваю! — сердито крикнула Дадла.
Анна выпрямилась, повернулась к Дадле и вытерла руки о фартук.
— Я не могла предупредить, барышня, потому что никого не было дома, а ждать было нельзя, мы прозевали бы квартиру. Если барыня хочет, чтобы я осталась, пока она найдет новую прислугу, я согласна. Квартира у нас теперь есть, а несколько дней задержки для нас ничего не значат.
— Ну, так не делайте глупостей, Анна, и утром поговорите с мамой. Но повторяю вам еще раз: сегодня вы показали себя неблагодарной!
Лежа потом в своей каморке на постели, в ожидании, когда в спальне у хозяев потухнет свет, Анна размышляла о своей неблагодарности. Упрек Дадлы слегка встревожил ее, почему-то вспомнилась школа и рука господина священника, которую целовали школьники; рука пахла сигарой и потом. Но эта легкая тревога была очень недолгой, к Анне тотчас вернулись гордость и спокойствие сегодняшнего дня. «Нет, — сказала она себе, — нет, я не была неблагодарной!» Она сама не в силах была объяснить своей уверенности в этом, потому что еще не могла ясно разобраться во всем. Но если бы она умела объяснить все, она сказала бы: «Да, у вас действительно жилось неплохо, архитектор Рубеш. Гораздо лучше, чем дома, в деревне, и, наверное, немного лучше, чем другим прислугам в нашем доме. Барыня подарила мне две рубашки, только чуточку рваные, барышня дала нижнюю юбку, которая впору и графине, а на рождество мне пожаловали материю на платье. Но разве вы выписали меня из деревни для того, чтобы облагодетельствовать? Разве эти подарки делались из христианской любви? Идите-ка вы к чертям с вашей благодарностью, архитектор Рубеш! Вы не видели сегодня эту массу рабочих на Есениовой улице и не знаете, что они мне подарили! Вы никогда не поймете, что они подарили мне Тоника, подарили мне домашний очаг. От них я получила все, что у меня сейчас есть. А знаете вы, что я им даже не сказала это противное «благодарю вас», которое вы требуете за каждую чашку кофе, поставленную для меня на кухонный стол? Знаете ли вы, что я сейчас вся полна любви и благодарности, так полна, что мне хочется смеяться и плакать. Если бы я хотела сказать им «спасибо», не то лакейское «спасибо», которое говорят вам, а наше, рабочее «спасибо», я бы не нашла, кому его сказать. Потому что те, кто помог мне, не были знакомые мне мужчины и женщины, парни и девушки, это был пролетариат. А я — одна из них; я, глупая, несознательная служанка из квартиры во втором этаже; я, белокурая, голубоглазая простая девушка, все еще немного растерянная; я, прислуга в синей ситцевой блузке и стареньких туфлях. Когда таких, как я, миллионы, мы вырастаем над трубами заводов и доменными печами, над антеннами радиостанций и мачтами кораблей, над небоскребами всего мира! Что мне до вас, архитектор Рубеш? Я ухожу к своим. Что мне ваш гнев, ваши горести и заботы, ваши дети? Я не принадлежу вам. Вы здесь сгниете, сожрете друг друга!»
Сквозь щель под дверью было видно, как в спальне у хозяев погас свет. Тогда Анна встала с постели и потихоньку пробралась наверх, на четвертый этаж. Надо же рассказать Мане о своем счастье! Анна постучала в решетчатое окно, и подруга впустила ее в свою каморку.
Выслушав рассказ о событиях сегодняшнего дня, Маня зацеловала и защекотала Анну. Она радовалась за подругу чуть не до слез. Кратким рассказом она, разумеется, не удовольствовалась, ее интересовали все подробности, все, от первой до последней. Хозяева Мани были в театре, а дети спали. Маня надела нижнюю юбку и повела подругу в кухню. Там они уселись на скамейке у еще теплой плиты, и Анна должна была снова рассказать все сначала и подробнее. А когда рассказывать было уже нечего, Анна попросила у подруги почтовую открытку: ей хотелось сообщить домой о своем счастье. Маня дала ей роскошную открытку с незабудками и ленточкой, и Анна написала своим крупным ученическим почерком:
«Милые родители! Шлю вам сердечный поклон и сообщаю, что выхожу замуж, потому что у меня уже есть квартира. Моего жениха зовут Тоник, он литейщик у Кольбена, это очень хорошая работа. Фамилия моя будет — Кроусская; и пишите мне по адресу: Прага, Жижков, Есениова улица, дом номер…» Но номер дома Анна не помнила, пришлось оставить пустое место. Открытка была уже почти вся исписана, потому что Анна начала писать слишком крупно, поэтому под конец она приписала бисерными буквами: «Низко кланяюсь сестрам, пускай приедут погостить ко мне в Прагу. Если мы с Тоником будем жить безбедно, я им пошлю денег на доро…» Слог «гу» не поместился на открытке, да и «доро» было изображено крохотными каракулями в самом углу.
В ДОМЕ НА ЕСЕНИОВОЙ УЛИЦЕ
Анна проработала у Рубешей еще месяц: архитекторша все искала деревенскую девушку. Меблировка квартиры стоила молодоженам страшных денег, хотя они покупали только подержанные вещи. Приказчики, которым нравилась белокурая Анна, всячески шли ей навстречу и охотно лазили под прилавки и в дальние углы склада, чтобы посмотреть, не завалялась ли там в соломе какая-нибудь бракованная посуда. Сто крон за месяц работы у Рубешей будут Анне очень кстати.
Тоник уже жил на Есениовой улице.
— Мы еще с вами сочтемся, господин Кроусский! — ледяным тоном сказал хозяин, принимая у него квартирную плату, но было ясно, что это говорится, только чтобы показать, что домовладелец не признал поражения. Он отлично знал, что выселить жильца из квартиры не легче, чем найти квартиру через жилищный отдел.
Ночь с субботы на воскресенье Анна проводила с Тоником в их новой квартире, а потом возвращалась к Рубешам, это тоже было выговорено у хозяйки. Такие ночи были неописуемо хороши именно потому, что они не следовали непрерывно одна за другой, а словно золотые звенья были вплетены в стальную цепь будней, — шесть стальных звеньев, а седьмое из золота! Нет на свете большей радости, чем проснуться и увидеть рядом голову любимого.
— Ты любишь меня, Тоничек? — шептала Анна и, насмотревшись на мужа вдоволь, будила его поцелуем.
— Знаешь ведь! — отвечал он сквозь сон, еще с закрытыми глазами. Произнести такие нелепые, по мнению Тоника, слова, как «я тебя люблю», у него не поворачивался язык.
Тоник открывал свои светлые стальные глаза; его освеженное сном лицо сияло, и сильные пальцы сжимали плечо Анны так крепко, что Анна слегка стонала.
— Как это хорошо! Как хорошо! — шептала она. — Верно, это хорошо, Тоничек?
Но Тоник знал только слова труда и революционной борьбы. О его желании говорили его объятия, о его привязанности к Анне — его труд. Каждую субботу Анна находила, что в квартире сделано что-нибудь новое: Тоник переложил печь, выбелил комнату и кухню, дощечками от старого ящика зачинил дыры в полу. Как-то он смастерил кухонную табуретку и выкрасил ее белой масляной краской. Это было больше, чем слова любви.
В три из этих четырех субботних вечеров Тоник говорил ей: «Ты не заснешь? У меня, видишь ли, собрание, и я вернусь в десять». И он ни разу не сказал: «Жаль, что надо идти на собрание». Ничто не заставило бы его произнести такую фразу. Он был солдат, в казарме которого сейчас трубят боевую тревогу.
Анна была счастлива, даже оставшись одна. Оглядывая свою комнату, она думала: «Вот бы еще сюда диван и шкаф, а на окна цветы, как у нас дома, в деревне. Ах, скорей бы пришел Тоник с собрания!»
В один из таких субботних вечеров к ней пришла в гости Маня и, развернув большой бумажный сверток, поставила на стол великолепную бронзовую лампу с совершенно новым фитилем и стеклом.
— О господи, зачем же это, Манечка?
— Она все равно никому не нужна, валялась там у нас на чердаке.
Но новое стекло и фитиль наверняка не валялись на чердаке.
— Маня! — повторяла восхищенная Анна.
— Это тебе мой свадебный подарок, — смеялась Маня.
— Ты посиди у нас, Манечка, — сказала Анна, и ей было так приятно впервые произносить это «у нас», обращаясь к своей первой гостье.
— Куда там! В Народном меня ждет Богоуш.
Маня вскочила и устремилась вниз по лестнице. Анна едва успела проводить ее до дверей. Спустившись на один пролет, Маня что-то вспомнила и остановилась.
— Да! Дворжакова велела узнать у тебя, почему твоя старуха сегодня ходила как в воду опущенная?
— Хозяин опять ругался и кричал.
Маня захохотала и помчалась дальше.
Уходить в воскресенье из квартиры на Есениовой улице Анне очень не хотелось, но к девяти утра нужно уже было быть у Рубешей. Она поцеловала Тоника, который, пристроившись за столиком, писал какие-то партийные бумаги, и открыла дверь на лестницу. Одновременно с ней на площадку вышли, как бы случайно, две соседки: тощая и длинная супруга унтер-офицера Клабана и жена торговца Эндлера. Унтер-офицерша была в красных домашних туфлях и пестром халате из материи, которая идет на абажуры («Вот так вид! — воскликнула бы Маня. — Точь-в-точь настольная лампа!»). Обе соседки уже некоторое время сторожили у полуоткрытых дверей, чтобы не упустить возможности взглянуть на молодоженов. Тут же торчала семнадцатилетняя Слава Кучерова с маленьким братишкой на руках. На ней была только короткая нижняя юбка и рубашка, под которой обрисовывались острые груди. Она поджидала Анну на ступеньках, нисколько не тая своего любопытства. Сама не зная почему, Анна покраснела и быстро пошла вниз по лестнице.
Теперь на трамвай! И вот, наконец, Анна идет по безлюдной Вацлавской площади к дому № 33. Всю дорогу она думала о Тонике, ее тело еще полно сладости этой ночи, и она знает, что пройдет целая неделя, пока она сможет снова вернуться домой; она невольно замедляет шаги и чувствует себя, как школьница, которая опаздывает на урок и знает, что господин учитель будет браниться.
Хозяйка уже варит суп, в кухне пахнет свежим мясом и овощами. Анна здоровается с ней и, как всегда по воскресеньям, идет в гостиную вытирать пыль. Хозяин сейчас принимает ванну. В гостиной развалилась на диване непричесанная барышня Дадла в синем шелковом халате. Закинув ногу на ногу и отвернув полу халата, она с удовольствием разглядывает свои красивые икры. Анна снимает туфли, подставляет стул к буфету и становится на него, чтобы снять большую желтую вазу. Подняв руки и вытянувшись всем телом, она достает эту вазу и замечает, что барышня внимательно смотрит на нее.
Дадла вдруг вскакивает с дивана и, став перед Анной, пронзает ее взглядом.
— Анна! — кричит она, как полицейский, застигнувший преступника. — Анна, вы в положении!
Анна краснеет до корней волос. Дадла разражается неистовым хохотом, в котором нет ничего веселого, и выбегает из комнаты.
Анна продолжает убирать комнаты. Она смущена, но сейчас ее уже не пугает разоблачение, которого она так долго боялась. Что для нее Рубеши? Что для нее барышня Дадла?
Через минуту барышня возвращается. Она идет к окну, делает вид, что смотрит на улицу, потом подходит вплотную к Анне. В глазах у нее скачут огоньки.
— Ты думаешь, я здесь долго останусь? — говорит она. — Убегу с первым встречным мужчиной!
Анна приходит в ужас от злости, с которой это сказано. Но она лишь слегка пожимает плечами. Какое ей дело до всего этого? На Есениовой улице ее ждет новая квартира и Тоник. Недолго ей оставаться у Рубешей.
Дни действительно проходили, но страшно медленно. Иногда по вечерам Тонику удавалось урвать четверть часа и погулять с Анной в саду у Вильсонова вокзала. Но эти короткие прогулки только усиливали стремление Анны к своему очагу. А в семикомнатной квартире Рубешей попрежнему бродила бледная и обрюзгшая архитекторша, командовала прислугой, потихоньку плакала над письмами из Давоса, крала на рассвете кредитки из бумажника мужа и вздыхала в кухне над плитой:
— Ах, насколько легче живется вам, людям низших классов!
В этих словах была зависть больных к здоровым, ненависть старости к молодости.
Но вот прошли условленные четыре недели. Архитекторша нашла, наконец, подходящую прислугу. До этого у нее уже побывали две кандидатки и поработали несколько дней вместе с Анной, но одна из них оказалась забитой недотепой, и ее не взяли, а другая — социалисткой: однажды вечером хозяйка подслушала, как эта девушка разговаривала с Анной о богатых и бедных, — и она тоже не была принята. Первую из них звали Матильда, она была родом из Валашске Мезиржичи, ходила в церковь, вставала в половине пятого утра и целовала хозяйке и барышне руки.
«Не надо, не надо!» — говорила хозяйка, однако не вырывала руки. Но Дадла защищалась: «Вы что, спятили? Перестаньте лизать мне руки!» Матильда упорно цеплялась за руку барышни, и та смеялась: «Боже, какая глупая!.. А дала вам мама читать о Кише и Ландру?»
Вскоре Анна окончательно переехала на Есениову улицу. На прощанье хозяйка подала ей два пухлых пальца, а барышня вытащила пару потрепанных ботинок, три пары чулок со спущенными петлями, розовый шелковый платочек с монограммой, совсем новенький, и три куска мыла. Все эти подарки пришлось спрятать от Тоника, потому что он выбросил бы их в окно, а Анне было их жалко.
Прощай навсегда, семейство Рубешей!
«Домой!» Это было новое и блаженное чувство! Оно еще усиливалось оттого, что на последнюю получку Анна купила отличную посуду. Теперь у нее были и противень и сковородки с разводами такого цвета, как мраморные колонны в шикарных кафе. Анна сварила свой первый семейный обед, сильно волнуясь, потому что была не уверена в новой духовке, и накормила мужа рулетом, который она торжественно резала и накладывала ему на тарелку, полную кнедликов с капустой.
И вот она живет у себя, в третьем этаже старого жилого дома на Есениовой улице, в квартире с коридором, куда выходят еще четыре двери.
Анна начала знакомиться с домом и с соседями. Все пять квартир на этаже были одинаковы — в одну комнату, с двумя окнами, выходящими на двор, за которым виднелся заросший кустарником косогор; к вечеру его освещают косые солнечные лучи. Кухоньки здесь темные и крохотные. В общем коридоре по вечерам светятся их забранные решетками окна, закрытые белыми или пестрыми занавесками. В коридоре всегда полутьма, свет сюда проникает только сквозь матовые стекла двух окон на площадках лестницы, причем одно из этих окон освещает также площадку нижнего этажа, а другое — верхнего. Воздух в коридоре всегда затхлый от сладковатой смеси разных запахов; здесь пахнет жареным луком, картофельной похлебкой, серым мылом и керосиновыми лампами, которые приходится зажигать уже во второй половине дня.
Днем в таких домах на Жижкове вы найдете только женщин, — мужья на работе, дети в школе или на улице. А если кто-нибудь из мужей работал в ночную смену и сейчас дома, — он отсыпается на кровати с пестрым постельным бельем, и из-под одеяла виден только клок его волос. Соседки знают друг о друге все: что у кого варится на обед, сколько у кого денег в кармане и заплат на белье. Нравы здесь не такие, как в буржуазных квартирах, запертых на французские замки и неприступных, как сейфы их обитателей. В общих коридорах жижковских домов двери всегда открыты настежь, чтобы выходил пар от корыт и кастрюль. А если чья-нибудь дверь и закрыта, всегда можно заглянуть в окно и, убедившись, что соседка дома, войти, пожелать доброго утра, попросить ненадолго терку, немного тмина или пять крон до завтрашнего дня. В коридоре же находится общий водопровод и две уборных — повод вечных споров и ссор.
Женщины в доме всегда судачат. Темы у них две: деньги и женская доля — два столпа, на которых стоит мир. В других кругах общества эти проблемы облечены в экономические формулы, включены в программы политических партий, положены в основу эстетических школ и светских условностей, здесь же деньги и женскую долю воспринимают с самой простой материальной точки зрения: если в субботу муж приносит на десять крон больше, чем в прошлую получку, это такое же важное событие в семье, как и тот факт, что лавочник снова накинул на маргарин полкроны. Нет большего огорчения, чем если какая-нибудь из соседок «опять влипла», потому что денег всем хочется иметь побольше, а детей поменьше.
Кроме этих основных тем, разговоры идут о мужьях, детях и соседях. Дни домохозяек заполнены мелкими заботами, интересом к чужой беде и к уголовной хронике в газетах, пустяковой ревностью и спорами об очереди мыть коридор и уборную.
Но все это только по будням. В воскресенье картина меняется, потому что по воскресеньям дома мужья. В субботу вечером они до пояса вымылись в лохани с теплой водой и надели чистые рубашки, но в пиджаки они облачатся только в воскресенье, после обеда. Дом выглядит уже по-иному, почти празднично. Занавески на кухонных окнах спущены, каждая квартира стала крепостью. Соседки ходят мимо друг дружки торопливо, как чужие. У каждой сейчас дома муж, самый лучший из всех, несмотря на все его недостатки, и каждая жена немного ревнует своего к соседкам. Его рубашка должна быть белее, чем у всех, его воротничок и каждая пуговка должны быть в образцовом порядке, потому что соседки смотрят и сравнивают. И беда той соседке, которая осмелится косо взглянуть на чужого мужа.
Анна познакомилась с соседями. Рядом жила востроносая унтер-офицерша Клабанова. Анна уже знала ее «абажурный» халат и красные шлепанцы. У госпожи Клабановой были дети-близнецы; с соседками она не особенно дружила, потому что муж у нее получал постоянный оклад и квартиру они занимали одни. За следующей дверью жила семья чернорабочего Кучеры с семью детьми. Муж работал то на стройках, то на прокладке городской канализации, жена — в прачечной. Когда они работали оба, то еще кое-как сводили концы с концами, но если отец был без работы, семье приходилось очень туго. Они держали жильцов, то двух, то трех, а в прошлом году, когда Кучера пять месяцев был без работы, продали одеяла, и теперь им нечем было укрываться. Иногда и у матери не было работы, тогда младшие дети шли побираться. Они входили в чужие кухни, взявшись за руки, молча становились у дверей, не отвечая ни на вопросы, ни на шутки, и долго смотрели на взрослых своими доверчивыми и глупыми глазами, пока, наконец, получали что-нибудь съестное. В соседних домах их уже знали, и только очень редко хозяйка, семье которой жилось едва ли лучше, чем семье Кучеры, говорила им: «Сегодня идите к другим, чертенята, у меня у самой ничего нет». Домашнее хозяйство в семье Кучеры вела семнадцатилетняя Слава, тощая девчонка, вечно ходившая в полосатой нижней юбке и рубашке с короткими рукавами.
В следующей квартире жила гардеробщица Ставовского театра, вдова Эндлер, с сожителем, мужчиной неопределенного возраста и занятий. В прошлом году он обходил дома, продавая туалетное мыло в пользу слепых ветеранов войны, в этом году распространял лотерейные билеты Общества заботы о материнстве и младенчестве, работая из двадцати процентов. Когда всем этим комбинациям пришел конец, он занялся торговлей «произведениями живописи, с выдачей гарантий в их оригинальности». Они держали жильцов: шофера, парня в кожаной куртке, и кельнершу из ночного кабачка, которые вдвоем занимали одну кровать и спали на ней по очереди — шофер ночью, когда курва была занята у себя в кабачке, а она днем, когда он был на работе. Слово «курва» здесь не считалось обидным. Если вы, например, спросите жену закройщика с четвертого этажа: «Госпожа Стейскалова, а чем занимаются ваши дочери?» — она ответит: «Марженка работает у Маршнера, младшая — ученицей у портнихи, а Эмилька — курвой». Это такая же работа, как всякая другая, и, когда отец, мать, Марженка или младшая девочка ночью идут по нужде в коридор, они проходят через кухню, где Эмилька как раз зарабатывает свой хлеб.
В квартире направо живет семья рабочего Чинчвары. Чинчвара и его жена состоят в социал-демократической партии. Но разве это настоящие партийные товарищи? Тоник только рукой махал, когда речь заходила об этой паре, которая только и делает, что работает и копит деньги. В доме много судачили о сбережениях Чинчвары, и в сердце Анны тоже закралась зависть. В ней заговорила жадность крестьянки и эгоизм будущей матери. Тоник заметил это.
— До чего глупо живут эти люди, — сказал он. — Кому нужно, чтобы одна рабочая семья нечеловеческим трудом добилась буржуазного достатка? Разве цель жизни в том, чтобы дать сыну университетский диплом? Если бы старый Чинчвара не тратил все вечера на то, чтобы приработать, а активнее участвовал в партийной жизни, он бы больше сделал этим для пролетарских детей, в том числе и для своих собственных.
Анна видела Чинчвару и его жену на нескольких собраниях, и они ей запомнились, во-первых, потому, что у них такая странная фамилия, а во-вторых, потому, что они вели себя как-то иначе, не так, как все: никогда не выражали согласия или несогласия, никогда не просили слова, а только пили пиво, всегда одну кружку на двоих. Чинчвара закуривал трубку и потом, не докурив, прятал ее в карман. На собраниях часто бывали сборы пожертвований, рабочие давали, кто сколько может. Кто не мог дать ничего, не давал, и на него не обижались. Старый Чинчвара давал всегда, и всегда не слишком много и не слишком мало.
Во всем эта чета отличалась от других рабочих. Чинчвара был печником и работал на фабрике. Приходя с работы, он не переодевался и не отдыхал, как другие, а брал ведерко с глиной и отправлялся по домам чинить и складывать печи. Работал он и по воскресеньям. Его жену Анна всегда видела в мокром фартуке и с засученными рукавами. Чинчварова вечно стояла у плиты или у корыта и стирала на своих или чужих. В погожий воскресный день, когда даже самые бедные семьи шли погулять за город, она стояла в кухне у гладильной доски, а ее муж ходил где-нибудь со своим ведерком. Детей у них было четверо — два мальчика и две девочки. Старший, Пепик, изучал юридические науки, Ярда ходил в реальное училище, Божена была в ученье у модистки-шляпницы, а Фанда еще училась в школе. Вся семья питалась кониной и спала в тесной кухоньке, потому что комнату они сдавали трем девушкам, служившим продавщицами. Каждый вечер в кухню вносили два тюфяка, а наутро их снова укладывали в кровати квартиранток. В семье Чинчвары спали по двое: муж с женой, братья и сестры. Свет у них на кухне горел долго после того, как все соседи улеглись. Дочери и отец уже спали, мать гладила или стирала, а за кухонным столом занимались при керосиновой лампочке оба сына. И если третьеклассник Ярда начинал клевать носом над книгой, мать отвешивала ему оплеуху и кричала: «Учись!»
Эта крупная, плечистая, немного располневшая женщина была главой семьи, а низкорослый бородатый печник рядом с ней походил на воробушка. Деньги, надо зарабатывать деньги! Чинчварова знала цену деньгам еще и потому, что она не экономила на еде, ее семья ела досыта. Она не забывала печального примера семьи из соседнего дома, вечно сидевшей на одном кофе: оба сына там умерли от туберкулеза, не закончив ученья. Деньги, надо зарабатывать деньги!
Однажды был такой случай. Столяры, работавшие во дворе, зазвали к себе в сарай пятнадцатилетнюю Божену, рыжую, как лисичка, допытывались, вся ли она такая веснушчатая, и посулили, что сложатся по пятидесяти геллеров и отдадут ей, если она разденется перед ними. Соседки донесли Чинчваровой, что ее дочь поддалась на этот соблазн. Мать потом трясла Божену за плечи: «А куда ты дела эти деньги, стерва?»
У Чинчваровой были холодные и суровые глаза, Анна их побаивалась. «Мы знакомы», — строго, без улыбки, сказала Чинчварова, когда она и Анна впервые встретились в коридоре, и подала Анне руку, от бесконечных стирок белую, как бумага. Ее рукопожатие было совершенно равнодушным. Быть может, она ненавидела всех окружающих за то, что ей, для того чтобы воспитать детей, приходилось работать, как вьючному животному, а все другие соседи, по ее мнению, вели жизнь, полную удовольствий и развлечений.
Этажом выше жила разведенная дамочка с крашеными волосами и намазанными губами. Она была на содержании у какого-то коммерсанта, который регулярно навещал ее по понедельникам и четвергам от десяти до двенадцати дня. Дамочка питалась в ресторане и держала прислугу.
Однажды днем Чинчварова подстерегла эту дамочку и, увидев, что та спускается по лестнице, вышла из кухни на площадку.
— На пару слов, сударыня!
— О, пожалуйста, госпожа Чинчварова, — ответила та с приторной вежливостью.
— Пепа! — позвала Чинчварова.
В дверях кухни показался двадцатилетний студент. Лицо его залилось краской, и он не сводил глаз с матери.
— Сюда, сюда, подойди поближе! — прикрикнула Чинчварова, и молодой человек безропотно повиновался.
Мать уперлась мокрыми руками в бока.
— Так вот что, сударыня, не воображаете ли вы, что я растила этого парня для вас?
— Ах, что вы, госпожа Чинчварова!
— Не вздумайте нахально отпираться! Этот дурень был у вас. Три раза! Я его заставила сознаться. Вы его соблазняете, вы, крашеная дрянь, вы, потаскушка…
— Мама, ради бога, прошу тебя…
— Молчи! — крикнула Чинчварова и замахнулась на сына. — Это мой сын, мой, сударыня! Вот этими руками к его выходила, — поглядите на мои руки, на что они стали похожи за двадцать лет! Вам мальчишка, конечно, нравится, еще бы! Но это мой сын, и если вы от него не отстанете, я вам покажу, что эти руки, — она протянула их к волосам блондинки, — умеют не только работать! Вот так-то, зарубите себе это на носу! А ты марш домой, глупый мальчишка! Я выбью у тебя эту дурь из головы!
Красный как рак, студент исчез в дверях, а разведенная дамочка, презрительно пожав плечами и кисло улыбнувшись, пошла вниз по лестнице. Чинчварова погрозила ей вслед кулаком: «Дрянь ты эдакая!»
В открытых дверях кухни стояла унтер-офицерша Клабанова, из соседней двери вышла Слава Кучерова с маленьким братишкой на руках и с пятилетней сестренкой, цеплявшейся за ее пеструю юбку. Анна была в кухне и слышала всю эту сцену. В жижковских домах ничто не остается тайной.
Вечером Анна рассказала об этом случае Тонику.
— Ну, конечно, у Чинчваровой всегда так: «Мой, мой, мой!» — засмеялся он. — Однако этой буржуйской дармоедке поделом досталось!
Уже живя на Есениовой улице, Анна познакомилась с мучеником венгерской революции Шандором Керекешем. Она и Тоник однажды встретили его на Жижкове. У Керекеша были глаза умирающего, руки горячие.
— Как поживаешь, товарищ Керекеш? — спросил Тоник.
— Умираю, — сказал тот просто.
— Ты ведь выдержал кое-что и потяжелей.
— Теперь уже не выдержу.
Керекеш получил документы одного словацкого товарища и остался жить в Праге. Под чужим именем он поступил токарем на завод Данека. Но тяжелая работа была ему уже не по силам, и врач страховой кассы написал на его листке буквы «ИПТ», что значит по-латыни: «infiltratio pulmonum tuberculosa»[43], а рабочие расшифровывают их: «инвалид, послезавтра труп». И врачи и рабочие редко ошибаются в таких случаях.
Керекеш зарабатывал на жизнь продажей газет на улицах. Он проводил Тоника и Анну до дому. Разговор шел о партии, о венгерской эмиграции, о белом терроре в Венгрии.
— Домой я уже не вернусь, — сказал Керекеш слабым голосом чахоточного. — Не дождаться мне нашей победы. Вы здесь делаете еще только первые шаги. Эх, сколько бы я дал за то, чтобы еще чем-нибудь помочь революции!
Они стояли перед домом, где жили Тоник и Анна. Керекеш смотрел наверх, разглядывая лестницу, — может быть, он делал это, чтобы не встречаться глазами с собеседниками.
— Ты теперь живешь здесь? — спросил он и даже не заметил, что Анна кивнула утвердительно.
— Есть у тебя какие-нибудь новости из дому? — нарушил молчание Тоник.
Керекеш покачал головой.
— Брата повесили, о жене и детях я ничего не знаю.
Он торопливо пожал руки Тоника и Анны своей горячей рукой и ушел, не оглядываясь. Они смотрели ему вслед, и им стало грустно. Жалко Керекеша! Жалко не только умирающего человека — слишком много их умирало тогда! — жалко бойца, вынужденного покинуть строй.
ИСТОРИЯ ШАНДОРА КЕРЕКЕША
Близилась решительная политическая схватка. Депутат Яндак организовывал массы. Он не побоялся громко провозгласить лозунг, который другие еще только произносили вполголоса: «Создадим новую партию, которая поведет пролетариат к революции! Долой отжившую социал-демократию!»
Этим лозунгом он завоевал горняков Кладно и рабочих пражских заводов. Теперь надо было склонить на свою сторону шахтеров и металлургов Остравы, ткачей, прядильщиков и деревообделочников Брно, железнодорожников крупных узлов, рабочих пльзеньских военных заводов. Яндак возглавлял все движение. Он был хорошо информирован, всегда был начеку и умел опровергнуть многословные доводы оппонентов. Он был быстр, как стриж, смел, как лев, увертлив, как форель. Каждый день он выступал на каком-нибудь митинге, не проходило недели, чтобы в «Право лиду» не появилась его статья, остроумная, смелая, убедительная. Яндак стал самым популярным политическим деятелем. Его имя повторяли на всех заводах и рабочих собраниях, и, когда Яндак, наклонив голову и словно готовясь к атаке, поднимался на трибуну, аудитория встречала его бурными рукоплесканиями сотен крепких рабочих рук.
Правительственные партии бешено травили Яндака в газетах. Писали, что Яндак подкуплен евреями, что он продал чешский народ немцам, что он виновник убийства легионеров, что он получал бриллианты и золотые цепочки из России, что у него роскошный автомобиль, а у его жены и дочери тысячные туалеты, и так далее.
Яндак, депутат Яндак! Крепкий мужчина сорока пяти лет, с красивым крутым лбом, чувственными губами и мощными скулами, — любопытное сочетание атлетического, интеллектуального и пикнического типов, удивительная смесь пролетарской настойчивости, интеллигентской утонченности и хищной хватки. Яндак стал предметом общего внимания.
«Твой отец не пойдет с нами», — сказал когда-то Тоник Яндаку-младшему. Так говорило Тонику его рабочее чутье, но и оно может обмануть человека. С тех пор Тоник не раз имел возможность убедиться, что супруг элегантной дамы и отец изящной девушки может быть хорошим вожаком революционного пролетариата. Тоник не привык извиняться, в его словаре не было слова «прости», но он долго досадовал на себя за разговор под жижковским виадуком и не мог простить себе этого.
Однажды, на бурном собрании в Народном доме, когда стала очевидной победа левого крыла в рабочем движении, Яндак, закончив свою речь, под громкие аплодисменты сошел с трибуны и подсел к столику Тоника и Анны. Тоник хмуро взглянул ему в лицо. В душе его шла ожесточенная борьба. Наконец, он сказал насупясь:
— Долго я тебе не верил, товарищ, потому что видел твою жену в шелковом платье, а дочь в лакированных туфлях. Но теперь я тебе верю.
Не легко далось Тонику это признание. Он и Яндак покраснели в эту минуту, и Анна тоже.
— Ну, ничего! — сказал Яндак и улыбнулся. — Надо хорошо узнать друг друга, прежде чем вместе идти на смертный бой.
Этот день запомнился Тонику еще и по другой причине. Когда около десяти часов вечера, он и Анна возвращались с собрания домой, на Есениовой улице их поджидал Шандор Керекеш.
— Мне надо поговорить с тобой, — сказал он Тонику. Анна заметила волнение в слабом голосе венгра и сама встревожилась.
Они привели Керекеша к себе в квартиру, и Анна пошла на кухню согреть кофе, а оба мужчины сели в комнате.
— …поговорить с глазу на глаз, — добавил гость.
Тоник кивнул и закрыл дверь в кухню.
— Граф Имре Белаффи в Праге! — сразу объявил Керекеш; он был сегодня бледнее обычного.
— Это кто же такой? — не понял Тоник.
— Не помнишь? Это тот, кто мучил меня в тюрьме, гонведский обер-лейтенант граф Имре Белаффи. Он поселился в отеле «Синяя звезда», в комнате номер шестнадцать. Я его выследил. В отеле на меня никто не обратил внимания, а граф меня, конечно, не узнал.
— Зачем он приехал?
— Организовать террор против коммунистов и подавить наше движение в зародыше — это во-первых. А во-вторых, выследить венгерских эмигрантов и добиться от чехословацкого правительства выдачи их Венгрии, чтобы там отправить их на виселицу. Он эмиссар Международного союза борьбы с коммунизмом.
На пергаментном лице Керекеша выступили алые пятна.
— Это ты узнал или только предполагаешь?
— Доказательств у меня, конечно, нет, но это ясно как день.
Тоник подумал.
— Надо предупредить партию.
Керекеш махнул рукой.
— Чехословацкую социал-демократию?
— Ее левое крыло.
Керекеш снова махнул рукой.
— Я разделаюсь с ним сам.
— Как?
— Убью его.
Тоник не отвечал.
— Этим я отлично закончу свою жизнь. Белаффи — это зверь в человеческом образе. Если оставить его в живых, он наделает много вреда революционному движению. Мне осталось жить несколько недель, революции я уже не дождусь. Убив Белаффи, я по крайней мере отблагодарю этим чешских коммунистов и помогу моим венгерским товарищам.
В комнату вошла Анна с двумя чашками кофе и поглядела на мужа и на гостя. Инстинктом будущей матери она почуяла опасность, сердце ее слегка сжалось. «Что случилось?» — встревожилась она и почувствовала, как в животе у нее шевельнулся ребенок. Мужчины замолчали. Анна никак не решалась выйти из комнаты.
— Поди в кухню, Анна, у нас есть дело.
Анна вышла.
— Надо будет сообщить обо всем этом партии, — повторил Тоник.
— Ты против индивидуального террора?
— Нет, если он проводится организованно и полезен делу революции. Но не может же любой из нас сам определять это в каждом отдельном случае. Мы с тобой одни не можем решить, нужен ли этот террористический акт. Для этого мы недостаточно знаем политическую обстановку.
Керекеш горько усмехнулся.
— Удивительное дело, как партийные товарищи не верят в опасность контрреволюции, и пролетарии всех стран вынуждены сами убеждаться в этом. Кого в партии ты намерен предупредить об этом? Парламентскую фракцию? Секретариат? К чему? Ты только осложнишь все дело и наведешь полицию на след. Белаффи должен умереть!
— Хорти пошлет сюда еще десяток таких же.
— Таких, как Белаффи, среди них не будет. Я его знаю, а вы нет.
Они попрощались, и Керекеш ушел.
Ночью, когда Анна легла рядом с Тоником и нашла удобное положение для своего уже очень большого живота, она спросила, волнуясь, но придав своему вопросу безразличный тон:
— Что ему было нужно?
— Пока не спрашивай! — строго ответил Тоник. У Анны опять сжалось сердце, и снова ребенок дважды шевельнулся в животе. «Вот и дитя беспокоится», — подумала Анна.
Тоник не спал. Он думал всю ночь и уснул только к утру, придя к выводу, что посоветоваться не с кем. Хорошо все, что служит делу революции. Пусть же свершится это убийство!
Рано утром, когда Тоник собирался на работу, а Анна побежала вниз за молоком, пришел Керекеш.
— Костюм, который на мне, я получил от одного венгерского студента-эмигранта, — сказал он. — Я похож в нем на опустившегося интеллигента, а это может вызвать подозрение служащих отеля. Одолжи мне свою спецовку.
Тоник вынул ее из шкафа и дал венгру.
— Ты идешь туда? — спросил он.
— Да.
— Сейчас?
— Да.
У Тоника учащенно забилось сердце. Он хотел проводить товарища, но тот сказал:
— Не ходи, нас никто не должен видеть вместе. Если меня арестуют, я превращу суд надо мной в процесс против венгерской контрреволюции. От моих обвинений содрогнется мир. Эту спецовку я украл у тебя сегодня утром, когда у вас никого не было дома, имей это в виду. Я воспользовался минутой, когда твоя жена ушла за молоком, а ты вышел по нужде. Понял? А если меня не поймают, я сегодня вечером брошу эту спецовку из коридора в ваше кухонное окно.
И Керекеш пошел убивать графа Белаффи. Он переоделся на складе старого железа, где обычно спал, и там же пришил петельку для топорика на внутренней стороне рабочей куртки. Потом он отправился в отель «Синяя звезда» и пришел туда в восьмом часу утра. Швейцар видел, как он поднялся по лестнице, но не обратил на него внимания. Во втором этаже Керекеш постучал в дверь комнаты № 16.
Ответа не было.
Керекеш постучал еще раз.
— Кто там? — спросил по-немецки сонный голос.
— Откройте! — по-венгерски ответил Керекеш.
За дверью послышались шаги.
— Кто там? — повторили вопрос по-немецки.
— Откройте, граф, для вас есть важная новость.
Дверь открылась. Перед Керекешем стоял граф Имре Белаффи в пижаме и ночных туфлях. Керекеш выхватил топорик и ударил своего врага обухом по голове. На лице графа появилось удивленное выражение. Керекеш размахнулся и ударил еще раз. Граф зашатался и, согнув колени, повалился на бок.
Керекеш закрыл дверь. Подойдя к шкафу, он вытащил оттуда несколько штук грязного белья, нагнулся над Белаффи, расстегнул его пижаму и пощупал, бьется ли сердце. Оно билось, граф Белаффи был жив. Рукавами грязных рубашек Керекеш связал ему ноги и руки за спиной и заткнул рот платком. Потом он стал приводить графа в чувство. Раны на голове были не страшны, граф был высокого роста, и раны пришлись не по темени, а в лоб. Вторая рана вообще была легкой, топорик только скользнул по кости.
Керекеш похлопал графа мокрым полотенцем по груди. Белаффи открыл глаза, хотел было опять закрыть их, но вдруг понял, в каком положении он находится, и глаза его широко раскрылись. С минуту враги глядели друг на друга. Керекеш сел на стул.
— Узнаете вы меня, гражданин Имре Белаффи?
Связанный граф отрицательно качнул головой.
— Верю, что вы меня не помните. Мы классовые, а не личные враги. Меня зовут Шандор Керекеш. Вы истязали меня в Будапеште и убили бы мешком с песком, если бы мне не удалось бежать. Вы добивались у меня признания, где скрываются мои товарищи. Ваши догадки были правильны, я знал, где они. Повторяю, мы не личные враги, и я пришел не мстить. Я пришел казнить вас, гражданин Белаффи.
Удивительное дело! Все получилось в точности так, как много раз представлял себе эту сцену Керекеш: он сидел на стуле, перед ним лежал поверженный враг пролетариата, и он, Керекеш, произносил над ним обвинительную речь.
В широко раскрытых черных глазах Белаффи был ужас. Сонливости в них не осталось и следа.
— Вы ошибались и ошибаетесь, гражданин Белаффи. Ваши идеи не победили и не могут победить. Вы только временно одержали верх в Венгрии. Победит мировая пролетарская революция, ваши козни против нее напрасны.
На пергаментных щеках Керекеша выступили красные пятна.
— Вас послали сюда с заданием, — продолжал он. — Не знаю — кто, может быть — собака Хорти или Союз борьбы с коммунизмом.
Граф беспокойно завертелся, уставив свои вытаращенные глаза на Керекеша. Грудь Белаффи вздымалась, он что-то кричал через платок, и эти глухие звуки раздавались, как из глубокого погреба.
— Вам поручено выследить венгерских эмигрантов и отправить их на виселицу. Кроме того, вы хотите помочь чешской реакции подавить коммунистическое движение.
Глаза Белаффи чуть не вылезли из орбит. Они словно кричали: «Ничего подобного, это чудовищная ошибка!» Он вертел головой, отчаянно твердя: «Нет, нет!»
— Не отпирайтесь, нам все известно. Вы должны умереть.
Белаффи дергался, как в судорогах. Он бился головой о ковер и мычал, как замученный, обезумевший зверь. «Освободите мне рот, — кричали его глаза. — Я вам все объясню! Здесь ошибка, ужасная ошибка! Дайте мне сказать, освободите меня, освободите!»
Керекеш наклонился и двумя пальцами сжал ему ноздри.
— Вы слишком шумите, граф. Перестаньте, или я задушу вас.
Отпустив нос графа, Керекеш снова уселся на стул.
— Мне все-таки хочется как следует объяснить, что происходит с вами. Я не хочу, чтобы вы считали меня простым грабителем и убийцей. Вы умираете не за прежние ваши злодеяния, а для того, чтобы вы не совершили новых преступлений против революции.
Граф отчаянно замычал. Согнув ноги в коленях, он подбросил свое тело и заметался, колотясь головой об пол. Он мычал, как скотина на бойне. Керекеш подскочил к нему и, схватив за горло, прижал к ковру. Голос революционера, до сих пор холодный, как острие топора, был теперь накален страстью:
— Ты думал, негодяй, что мы дадим убивать себя, как овцы? Ты думал, сукин сын, что мы не станем защищаться?
Он схватил топорик.
— Издохни, свинья!
Набросив на голову Белаффи угол ковра, он убил его, затем устало выпрямился, шагнул к еще теплой постели, свалился на нее и пролежал несколько минут с закрытыми глазами. Потом встал, подошел к мраморному умывальнику и тщательно вымыл намыленной мочалкой руки и лицо, как когда-то после работы на металлургическом заводе в Темешваре. Затем он безо всякого содрогания переступил лужу крови, подошел к двери и прислушался. В коридоре было тихо. Керекеш отпер дверь и вышел…
Навстречу ему шел человек. Это был рослый мужчина с черными как смоль бакенбардами, в костюме спортивного покроя. Он был уже в трех шагах от Керекеша и явно направлялся в комнату Белаффи.
У Керекеша дрогнуло сердце. «Конец!» — подумал он, но все-таки не спеша закрыл за собой дверь и спокойно зашагал по серой ковровой дорожке к лестнице. «Теперь это уже не важно, — мелькнуло у него в мыслях. — Дело сделано». И еще: «Я превращу суд надо мной в суд над венгерской контрреволюцией, какого еще не видел мир!»
Керекеш слышал, как за его спиной неизвестный постучал к Белаффи раз, другой, потом открыл дверь и вошел.
И тут произошло удивительное — совсем не то, чего ждал Керекеш. Не раздалось крика: «На помощь!», в отеле не поднялась тревога.
Дверь комнаты № 16 снова захлопнулась, и Керекеш услышал торопливые шаги по ковру. Но никто не схватил его сзади за плечо, никто не крикнул ему: «Убийца!» Человек в спортивном костюме торопливым шагом прошел мимо него и спустился вниз. С поворота лестницы Керекеш заметил, как швейцар поздоровался с человеком и оглянулся на него. Незнакомец быстро вышел через вращающиеся двери. Керекеш тоже прошел мимо швейцара и вместе с двумя пожилыми дамами в черном вышел на улицу. Там он еще успел заметить, что незнакомец вскочил на ходу в трамвай.
Керекеш пошел в сторону Жижкова.
Сообщение об убийстве появилось уже в утренних газетах. В доме на Есениовой улице о нем рассказала ротмистрша Клабанова. Она, правда, не очень-то дружила с соседками, но разве можно умолчать о таком происшествии!
Выйдя в коридор за водой, Анна увидела там госпожу Клабанову и гардеробщицу Эндлер.
— Слышали вы об убийстве в «Синей звезде»? — спросила унтер-офицерша.
А Эндлер, которая уже собиралась к себе в театр и застегивала подвязку, поглядела на Анну снизу вверх и сказала:
— В газете пишут, что он приехал в нашу республику с темными целями. Не иначе — фальшивомонетчик!
— Нет, — решительно объявила унтер-офицерша. — Наверняка это шпион, уж будьте уверены!
Во время обеденного перерыва Тоник купил в табачной лавочке утреннюю газету и развернул ее еще на улице. Но сколько он ни перечитывал сообщение, он ничего не мог понять. Ясно было одно: полиция напала на след товарища Керекеша. У Тоника голова шла кругом. Он сидел в заводской столовой, и похлебка не шла ему в горло, а кусок хлеба, который он обычно приносил с собой из дома, остался почти нетронутым.
После обеда Тоник снова работал на дне своего песчаного окопчика. Был уже четвертый час. Вокруг кипела работа. В литейном цехе весь пол на метр в глубину покрыт песком, и в нем, как в окопах, роются формовщики — сооружают постройки, похожие на укрепления, и домики вроде тех, какие строят дети. Сюда потечет расплавленный металл, здесь он застынет и превратится в деталь машины, маховик или станину. Тоник заглаживал неровности на стенках своей формы, увлажнял песок и вгонял в форму длинные проволочные распорки, чтобы она была крепче. Но сегодня он не мог сосредоточиться, работа валилась у него из рук, и он беспрестанно вынимал часы, с нетерпением ожидая плавки, после которой можно идти домой. Его неотступно преследовала мысль о Шандоре Керекеше.
Сообщение в газете «Ческе слово»{145} было очень странное:
УБИЙСТВО В ОТЕЛЕ «СИНЯЯ ЗВЕЗДА»
Перед самым выпуском газеты поступило следующее сообщение. Сегодня утром в отеле «Синяя звезда» на Пршикопах совершено чудовищное убийство, жертвой которого пал фабрикант Густав Бреуэр из Ганновера. В девять часов утра горничная отеля постучалась к Бреуэру. Не получив ответа, она вошла в номер и увидела постояльца на полу, в луже крови. Убитый был в пижаме. Оружие убийства, топорик с короткой ручкой, валялось рядом. На голову убитого был накинут ковер, через который убийца наносил удары, — видимо, для того чтобы не быть забрызганным кровью. По заключению судебно-медицинской экспертизы, убийство совершено около половины восьмого утра. Мотивы его совершенно загадочны, ибо все принадлежавшие убитому ценности не тронуты. Тем не менее полиция уже напала на след убийцы. Поимке его помогут показания швейцара отеля Иозефа Мюллера, который видел одного из убийц и дал его подробное описание. Расследование убийства поручено опытному следователю, полицейскому комиссару Бубнику. В вещах убитого обнаружены доказательства того, что он приехал в нашу страну с темными целями. Возможно, именно в этом направлении следует искать загадочный мотив убийства.
Газетное сообщение было, таким образом, лаконичным, но наводящим на многие размышления. Тоник перечитал это сообщение столько раз, что знал его почти наизусть. Но яснее оно от этого не стало.
Ганноверский фабрикант Густав Бреуэр? Что за чепуха! Может быть, Керекеш ошибся и убил кого-то другого? Или это был не настоящий Густав Бреуэр и под этим именем скрывался Имре Белаффи? Швейцар отеля заметил Керекеша и даже подробно описал его. Полиция напала на след венгерского товарища!.. Тоник подумал о своей спецовке и об Анне.
— Ты сегодня что-то бледный, Кроусский. Здоров ли ты? — сказал старый чернорабочий Блажек, который подносил Тонику ведра с водой для увлажнения песочной формы, и Тоник, словно очнувшись, увидел себя в литейном цехе, увидел вокруг металл и песок, а под потолком грохочущий подъемный кран. Вон на другом конце цеха мастер дает знак выбить глиняную пробку из вагранки. А сам Тоник сейчас сидит на корточках в песочной яме и бесцельно водит лопатой по грани литейной формы…
Он ничего не ответил старому Блажеку, но испугался и рассердился на себя за то, что так плохо владеет нервами.
Вагранка, словно раненая, пустила струю огненной крови. Густой белорозовый расплавленный металл тек по желобу, озаряя белым светом песок и лица рабочих. К печи попарно подходили литейщики и подставляли под желоб ковши на длинных ручках. Ковши наполнялись раскаленным, мечущим искры металлом. Литейщики шли к песочным формам и заливали их. Весь цех озарен белым светом, в горячем воздухе распространился едкий кисловатый запах.
Рабочий день подходит к концу. Вот сейчас в соседнем цехе выпустят плавку из печей Сименса, а там, глядишь, загудит гудок.
И вот, наконец, слышится звук гудка.
Тоник спешит к шкафчику с одеждой, надевает пиджак прямо на синюю спецовку и, даже не моясь, бежит на улицу. Только бы кто-нибудь из товарищей не задержал его. Он покупает в киоске вечерние газеты и шагает в гору, к Кбелам. Отойдя от завода подальше, Тоник на ходу разворачивает газету.
АРЕСТ УБИЙЦЫ ИЗ «СИНЕЙ ЗВЕЗДЫ»
Сердце Тоника учащенно забилось. Итак, убийца арестован! Тоник пробежал глазами по столбцам, ища имя товарища Керекеша.
«У б и й ц а з а д е р ж а н», — гласит подзаголовок. Тоник пробегает глазами по строчкам, схватывая отдельные слова:
Милан Иованович… Швейцар отеля… показал следующее… обер-кельнером и горничными… на станции Радотин… арестовать убийцу… Полицейский комиссар Бубник… Двадцатидевятилетний Милан Иованович.
Глаза Тоника лихорадочно летают по строчкам.
Ага, вот «Допрос убийцы»!
Иованович… заявил… убитого не знал и никогда не слышал о нем… у незнакомой ему проститутки… Багаж Иовановича…
Здесь нет того, что он ищет! И Тоник отчаянно глотает следующие строчки:
Милан Иованович с несколькими свидетелями…
Черт подери! При чем тут какой-то Милан Иованович?!
Тоник заглянул в конец сообщения:
…настаивает на своих показаниях. Следствие продолжается. Подробные сообщения об этом сенсационном убийстве мы опубликуем завтра в утреннем выпуске нашей газеты.
Все? Все! О Керекеше ни слова!
Тоник еще раз возвращается к подзаголовку «У б и й ц а з а д е р ж а н» и перечитывает этот абзац:
Радотин… вокзал… полицейский участок… Арестованный убийца оказался двадцатидевятилетним Миланом Иовановичем из Загреба.
Как же так?
Арестованный убийца оказался двадцатидевятилетним Миланом Иовановичем из Загреба, неоднократно судившимся международным аферистом, хорошо известным пражской полиции.
Что это значит? Почему Милан Иованович?
У Тоника сильно бьется сердце. Он снова напряженно впивается глазами в эту фразу. Да, нет никаких сомнений, так и написано: «М и л а н И о в а н о в и ч».
Тоник останавливается посреди улицы, широко раскрыв глаза, потом быстрым движением сует газету в карман, почти бегом направляется к окраине города и через поле идет наверх, к Кбелам. Там он сворачивает на межу и садится на землю. Скрытый колосьями, он снова принимается за чтение. Сперва надо еще раз прочитать «У б и й ц а з а д е р ж а н», а потом все остальное по порядку.
В ЛОГОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АФЕРИСТА
Уже беглый осмотр комнаты убитого Густава Бреуэра вызвал сенсационный поворот в этом деле. Прежде всего сыщики обнаружили ручной чемодан с пакетами фальшивых банкнот достоинством в две кроны, на общую сумму около десяти тысяч крон. Эти фальшивые деньги были контрабандой ввезены из Венгрии или из Австрии. Вскоре полиции стало ясно, что в комнате № 16 жил опасный международный вор, аферист и поставщик публичных домов. Эта комната была тайным складом краденого: здесь обнаружено более двухсот пяти тысяч крон в чехословацкой и иностранной валюте — марках, долларах, фунтах стерлингов и голландских гульденах.
Далее обнаружено пять мужских и двое дамских золотых часов, два золотых портсигара, пять крупных бриллиантов, серебряная дамская сумочка. Все это, очевидно, добыча карманников. Владелец одних часов уже нашелся. Остальным пострадавшим предлагается явиться в полицейское управление.
Кроме того, в комнате Бреуэра найдена целая коллекция фотографий и обширная переписка, свидетельствующая о том, что он занимался вербовкой проституток для домов терпимости в страны Ближнего Востока.
Убитый, несомненно, был одним из опаснейших международных преступников. Удивительно, что документы его были, повидимому, в полном порядке и в полицейских альбомах его фотографий нет. Пражская полиция уже связалась по этому поводу с ганноверскими властями.
ЗАГАДОЧНЫЙ МОТИВ УБИЙСТВА
Несмотря на усиленное расследование, мотив убийства в «Синей звезде» все еще окутан покровом тайны. Обращает на себя внимание несколько обстоятельств: во-первых, наличные деньги и ценные предметы Бреуэра не были похищены, хотя они даже не были заперты; во-вторых, убитый был связан по рукам и ногам; в-третьих, Бреуэр был найден в пижаме, на полу, вблизи двери.
Таким образом не без некоторых оснований можно предполагать следующую картину убийства.
Бреуэр был участником преступной шайки. Сегодня утром один из членов этой шайки постучал у его дверей, и Бреуэр, узнав его по голосу или условному знаку, открыл дверь. Убийца сразу же накинулся на него, связал его и заткнул ему рот. Зачем? Это пока остается тайной. Может быть для того, чтобы угрозами или пытками вытянуть из него какую-нибудь тайну или заставить его отдать документ или предмет, ценный для убийцы или компрометирующий последнего. Ибо иначе зачем было связывать ему свою жертву, почему было не убить его сразу? А может быть, это убийство — акт мести в восточном духе? Возможно, что эта месть связана с похищением какой-нибудь женщины. Но все это, разумеется, только догадки. Будем надеяться, что полицейское расследование и допрос Милана Иовановича дадут ответ на все эти вопросы.
УБИЙЦА ЗАДЕРЖАН
Как мы уже упомянули, убийца был задержан еще в первой половине дня. Большую помощь оказали полиции показания швейцара отеля «Синяя звезда» Иозефа Мюллера. Вот что он рассказал полиции и нашему корреспонденту:
«Без двадцати трех минут восемь я увидел, что по лестнице спускается человек, который около пяти минут назад поднялся во второй этаж. Он был в сером костюме спортивного покроя, коричневых гетрах и клетчатом кепи. На вид ему было лет тридцать, у него были очень черные бакенбарды, темные глаза и в целом типично еврейская внешность (Милан Иованович по национальности серб. — Ред.). Я внимательно поглядел на часы, висевшие за конторкой, потому что этот человек привлек мое внимание. В четверг на прошлой неделе, когда у меня был выходной день, я со своим приятелем обер-кельнером Иозефом К. и девицами Павлой Ш. и Иозефой Р. отправился в увеселительное заведение «Сектпавильон». Мы пришли туда в третьем часу утра. В одной из лож сидела компания — четверо мужчин и несколько дам полусвета. Мы обратили на них внимание, потому что они очень шумели и сорили деньгами. Они пили шампанское марки «Поммери» и угощали им цыганский оркестр. Безусловно, они потратили много денег, по моим предположениям — шесть или семь тысяч. В этой компании был также ныне убитый Густав Бреуэр: он уже тогда жил в нашем отеле, и я знал его. Там же был и человек, который сегодня, после половины восьмого, спускался по лестнице. Ошибки тут никакой быть не может, потому что в этот ранний час никто из проживающих не входил в гостиницу и не выходил из нее. По лестнице поднимались и спускались только служащие отеля и кровельщики, работавшие на чердаке. В этот час в отеле бывает малолюдно, так как поезда главных магистралей отходят еще до семи утра. Между семью и восемью из отеля вышли двое мужчин, дама с девочкой и две пожилые дамы, все они перед этим сидели за завтраком в кафе отеля. Я не могу сказать точно, когда человек с еврейской внешностью и в спортивном костюме поднялся во второй этаж, потому что в тот момент я давал справки двум упомянутым старым дамам и не смотрел на часы. Однако я полагаю, что он пробыл наверху четыре или пять минут, и уж во всяком случае никак не дольше четверти часа».
Получив эту чрезвычайно ценную информацию, полиция немедленно начала энергичное расследование. Всем полицейским участкам в Праге и окрестностях было передано описание убийцы и приказ задержать его. Под особенно бдительным наблюдением находились вокзалы. Уже в одиннадцать часов утра из Радотина пришло донесение об аресте убийцы, который купил там билет на Марианске Лазне и ждал поезда. Полицейский комиссар Бубник немедленно выехал в Радотин и доставил арестованного в Прагу, где тот был подвергнут подробному допросу. Он оказался двадцатидевятилетним Миланом Иовановичем из Загреба, неоднократно судившимся международным аферистом, хорошо известным пражской полиции.
ДОПРОС УБИЙЦЫ
Иованович предъявил радотинской полиции документы на имя варшавского коммерсанта Макса Ганевского. Но ему не удалось ввести полицию в заблуждение, ибо его фотография и оттиски пальцев имеются в альбомах пражской полиции, которая его хорошо помнит. В 1917 году пражский суд присяжных осудил Иовановича на полтора года тюремного заключения за сводничество, карманные кражи и мошенничество. Он отбыл наказание в пражской тюрьме Панкрац, а затем был передан югославским властям.
После недолгого запирательства Иованович подтвердил свою личность. Больше он, однако, ни в чем не сознается и уверяет, что не причастен к убийству. По его словам, в отеле «Синяя звезда» он сегодня утром не был, убитого не знал, об увеселительном заведенье «Сектпавильон» представления не имеет. Иованович упорно настаивает на этих показаниях. Свое пражское местожительство он скрывает, утверждая, что приехал только вчера и провел начало ночи в каком-то кафе, а конец — у незнакомой ему проститутки. На вопрос, почему он не поехал в Марианске Лазне с пражского вокзала, а предпринял двухчасовую прогулку пешком до станции Радотин, он ответил, что после ночного кутежа чувствовал себя разбитым и хотел пройтись. При аресте у него было обнаружено пять с лишним тысяч крон. Подозрительного ничего не найдено. Багажа у Иовановича не было, повидимому, он спрятал его где-то в Праге. Полиция приняла меры для обнаружения этого багажа.
В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ
Перед самым выходом газеты нам стало известно следующее.
Сегодня арестованному Милану Иовановичу была устроена очная ставка с несколькими свидетелями. Швейцар отеля «Синяя звезда» с несомненностью опознал Иовановича. Кроме того, кельнер и обер-кельнер «Сектпавильона», девица Павла Ш. и проститутка Иозефа Р. опознали в нем участника ночного кутежа. Несмотря на эти неопровержимые улики, Иованович продолжал настаивать на своих показаниях. Расследование продолжается.
Тоник был совершенно озадачен прочитанным. Он сидел на меже, опустив руки и тупо глядя на полоску затоптанной травы. По обеим сторонам стеной стояли хлеба.
Милан Иованович, Густав Бреуэр! Какая неразбериха! Что же это творится! Ни слова о товарище Керекеше, ни слова о графе Белаффи…
Тоник просмотрел еще несколько вечерних газет. Все сообщения совпадали, и ничто не помогло ему разрешить загадку.
Усталый, как от тяжелой работы, он встал с межи и пошел к трамвайной остановке. Темнело. Тоник поехал в центр, на улицу, где Керекеш обычно торговал газетами. Но венгра там не было. Тоник не нашел его ни на одном из соседних перекрестков, а где живет Керекеш, он не знал.
Домой он вернулся почти затемно.
— Тоник! — весело окликнула его Анна, гладившая белье. — Ты уже заходил домой?
— Нет.
— Нет? — удивилась она. — А кто же вынул твою спецовку из шкафа?
Тоник покраснел.
— А я уж бог весть что подумала! — продолжала Анна. — Я почти весь день была дома, а к вечеру вдруг нахожу эту спецовку в кухне на столе. Уж не воры ли, думаю. Но дома все цело.
— Хватит об этом, Анна.
Анну удивило и даже смутило то, что он так сухо оборвал разговор.
Тоник через силу заставил себя сесть за ужин, Анна подала ему тарелку картофельного супа. Но ему не хотелось есть, и он положил ложку.
— Не могу, Анна. Ты не сердись, суп очень вкусный.
Анна озабоченно смотрела на него.
— Что-нибудь случилось, Тоничек? — спросила она.
— Нет, — ответил он строго, зажег керосиновую лампу, сел к столу и погрузился в партийные дела. Кончив их, Тоник умылся и собрался лечь спать. Анна начала стелить постель. Она убрала с покрывала вечерний выпуск «Право лиду», раскрытый на сообщении об убийстве в «Синей звезде». Тоник заметно смутился. Как это он упустил из виду, что их газета хотя бы кратко сообщит об убийстве и, стало быть, Анна тоже узнает о нем!
Они легли в постель и молча лежали рядом. Анна по-матерински погладила мужа по голове. Так она гладила дома заболевшую сестру, когда клала ей холодные компрессы.
Тоник не шевельнулся.
Анна уже давно спала, мерно дыша во сне, а Тоник все еще не мог уснуть. В голове у него стремительно проносились лица и события. Коммерсант из Ганновера, Милан Иованович, Шандор Керекеш, швейцар отеля, кельнеры, проститутки, цыгане-музыканты… Тоник то ненадолго засыпал свинцовым сном, то снова просыпался.
Утром он закрыл глаза и, притворяясь спящим, дождался, пока Анна ушла за молоком, потом вскочил, наспех оделся и выбежал за газетой. Он купил «Ческе слово», начал читать на ходу и дочитал уже дома, за столом.
СЕНСАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В ДЕЛЕ ОБ УБИЙСТВЕ В «СИНЕЙ ЗВЕЗДЕ»
Вчера вечером в деле об убийстве в отеле «Синяя звезда» произошли сенсационные перемены. Арестованный Милан Иованович сделал некоторые признания. Он, правда, отрицает свою причастность к убийству, но полиция не сомневается в том, что это дело его рук. На основе его показаний вчера вечером и ночью в Праге был проведен ряд арестов. Большая часть шайки международных грабителей, карманных воров, сводников и шулеров уже находится за решеткой. Остальных разыскивают на курортах в западной части страны, куда, по имеющимся сведениям, они намеревались уехать. На основании показаний Иовановича установлена также подлинная личность убитого. Это бывший гонведский офицер граф Эмерих Белаффи (Имре Белаффи) из известной венгерской аристократической семьи. Члены шайки пользовались фальшивыми именами и документами, в том числе и Имре Белаффи, называвший себя Густавом Бреуэром. В полицию уже явилось несколько потерпевших. Обнаружен также чемодан убийцы, содержимое которого уличает Иовановича. Этот чемодан передал в полицию швейцар отеля «Гарни», прочитавший в газетах описание убийцы. Под тяжестью новых улик арестованный сделал частичные признания.
ВЕРСИЯ УБИЙЦЫ
Иованович пытается убедить полицию в истинности следующей фантастической версии. Вчера утром он якобы хотел вручить мнимому Бреуэру, то есть Эмериху Белаффи, очередную добычу карманников, а также передать ему поручение от некоей «дамы», занимающейся сводничеством. Членам шайки было, правда, запрещено навещать Белаффи в отеле, но Иованович отважился на это, потому что получил из Марианске Лазне сообщение, требовавшее его немедленного выезда туда. Когда он подошел к комнате Белаффи, оттуда якобы вышел какой-то человек, которого Иованович принял за рабочего, что-то чинившего в комнате. Он не может точно описать внешность этого человека, но помнит, что он был среднего роста и болезненного вида, лет примерно пятидесяти пяти. Иованович вошел в комнату и нашел графа мертвым, в луже крови. Он хотел было поднять тревогу, но спохватился, что это может поставить под угрозу его самого и остальных членов шайки. Поэтому он поспешил скрыться. Убийцу он обогнал на лестнице, но был так взволнован и занят мыслью о бегстве, что даже не заглянул ему в лицо.
Нечего и говорить, что никто не верит этой фантастической версии. Были допрошены кровельщики, работавшие в тот день в отеле, и устроена их очная ставка с Иовановичем. Он не смог опознать никого из них. Все они честные люди, и невиновность их несомненна.
РАЗЛОЖИВШИЙСЯ АРИСТОКРАТ
Об убитом графе Эмерихе Белаффи Иованович сообщил следующее: Белаффи родом из знатной аристократической семьи, прославленной в истории Венгрии. В Будапеште он был известен своей бурной жизнью, из-за которой у него часто бывали ссоры с семьей. Во время войны Белаффи был обер-лейтенантом гонведского полка, в дни большевистского мятежа бежал в Румынию, а при правительстве Хорти снова поступил в армию. Иованович знал Белаффи, когда еще тот был на действительной военной службе. Белаффи был выдающимся шулером. Иованович тоже промышлял этим делом; вскоре они объединились. Прошлой осенью начальство Белаффи обнаружило, что он растратил казенные деньги, около десяти тысяч долларов (приблизительно один миллион чехословацких крон). Граф не был предан суду, потому что семья покрыла растрату и замяла дело, но растратчику пришлось покинуть полк и уехать за границу. Он поддерживал связь с Иовановичем, они вместе переехали в Варшаву и жили там игрой в карты и сводничеством. С течением времени они познакомились еще с несколькими подобными типами и организовали шайку, которая орудовала в Варшаве, Бухаресте, Вене, Праге и на западночешских курортах. Белаффи был главарем шайки и ее казначеем, ему повиновались все сообщники…
Дочитав до этого места, Тоник даже сплюнул.
— Эх, какая глупость, какой промах! — хмуро проворчал он.
Вошла Анна, вернувшаяся из лавки. Тоник встал и прошелся по комнате.
— Какое идиотство… Какая глупость, Анна! Так переоценить это ничтожество, эту мразь!
— В чем дело, Тоничек? — спросила она, обрадовавшись, что он сердится, — значит, не грустит больше.
Тоник махнул рукой.
Позавтракав, он ушел на работу, захватив с собой «Ческе слово». Вскоре разносчица принесла «Право лиду». Анна убрала квартиру, поздоровалась в коридоре с соседками, потом взяла в руки газету. На первой странице ей бросился в глаза заголовок: «В о т к а к о в ы в е н г е р с к и е к о н т р р е в о л ю ц и о н е р ы!» В статье говорилось о графе Имре Белаффи и об отеле «Синяя звезда». Анна сразу же вспомнила Шандора Керекеша и его странный позавчерашний визит. Вспомнился ей и загадочный случай со спецовкой Тоника, и она поняла, что здесь есть какая-то связь. Всякие ужасы полезли ей в голову. Сердце у Анны сжалось, глаза приняли испуганное выражение. В голове стало как-то страшно пусто.
День тянулся нестерпимо долго. Анна не знала, как убить время, работа у нее не ладилась. Иногда она успокаивала себя мыслью, что весь тот день Тоник, видимо, провел на заводе… Но это только видимо… и потом он пришел домой поздно, раздраженный, ничего не ел… Да еще этот случай со спецовкой. А что такое Тоник сказал утром о мрази? На лбу Анны выступили капельки пота. В полдень она, сидя на ящике с углем, попыталась съесть несколько ложек супа, но не смогла.
В коридоре шлепали туфлями соседки, набирали воду, стучали посудой. Анна боялась выйти, чтобы не встретиться с кем-нибудь. Никогда в жизни время не тянулось для нее так медленно.
Тоник вернулся поздно, около девяти часов. После работы он долго ходил по перекресткам и вокзалам, где обычно стоят продавцы газет, и тщетно искал товарища Керекеша. Потом он пошел на собрание.
Когда он, наконец, вернулся домой, изнервничавшаяся и уже отупевшая Анна снова начала волноваться, но в сумерках Тоник не заметил этого. Он пришел спокойный, обнял ее, поцеловал и спросил заботливо: «Как ты себя чувствуешь, Анна? Что нового?» Потом он зажег лампу и с аппетитом поужинал.
Спокойствие Тоника лишило Анну решимости задать ему вопрос, мучивший ее в течение тринадцати часов. И только ночью, когда они лежали рядом, она, после внутренней борьбы и колебаний, собралась с духом, приподнялась на локте, наклонилась над мужем и прошептала:
— Ты не убивал его, а, Тоничек?
Тоник сначала опешил, потом сердито ответил:
— А тебе его жалко, что ли?
Анна испугалась и опять легла на спину. Сердце ее сильно билось.
После долгого молчания Тоник сказал мягко:
— Нет, я его не убивал.
Сердцебиение у Анны улеглось. Она лежала, глядя в потолок расширенными зрачками.
— А если бы убил, — медленно сказал Тоник, — ты бы разлюбила меня?
Анна склонила голову на его плечо, с минуту лежала так, потом поцеловала его в шею и прошептала:
— Нет. Но, наверное, я бы немного боялась тебя. Тебе ничто не грозит, Тоничек?
Анна почувствовала, как он покачал головой, и снова наступило молчание, слышалось только тиканье будильника.
— Эдакая глупость, Анна: так переоценить эту мразь!
ИЗМЕННИК
Тоник искал Шандора Керекеша по всей Праге. Он справлялся у продавцов газет, ходил по кирпичным заводам Смихова, по складам на Жижкове, по лесным дворам в Голешовицах — всюду, где, как говорили, ночевал товарищ Керекеш. Но венгра нигде не было. Беспокойство Тоника росло. Он чувствовал свою ответственность в этом деле. Что, если суд поверит показаниям Иовановича, повидимому правдивым? Что, если Керекеш сознается? А может быть, он уже арестован и сознался? И почему еще никому не пришло в голову, что убийство совершено венгерским революционером? Ведь газета «Право лиду» сама невольно навела читателей на эту мысль.
Интересы партии были под угрозой, дело слишком серьезно и дальше умалчивать о нем нельзя.
Тоник решил поговорить с Яндаком. Ни в редакции, ни в секретариате партии депутата не оказалось, и Тоник отправился к нему домой. Кабинет Яндака несколько ошеломил Тоника, потому что литейщик с завода Кольбена всегда ощущал инстинктивную неприязнь к состоятельным людям. Это была светлая, не без роскоши обставленная комната с большой библиотекой. Над письменным столом висел портрет Ленина.
Яндак усадил Тоника в кожаное кресло и предложил ему сигарету. Тоник отказался, он некурящий.
— Я совершил большую глупость, — сказал он. Ему было трудно говорить в этой обстановке, и он хмурился.
— Ты совершил глупость? Рассказывай, товарищ Кроусский.
Тоник рассказал историю Шандора Керекеша. Яндак почесал в затылке и сморщил нос.
— Черт возьми! Может быть, все обойдется благополучно.
Тоник ожидал другого ответа. Ему очень не понравился этот легкомысленный тон. Оба мужчины взглянули друг другу в глаза — Тоник с угрюмым упрямством, депутат в раздумье.
— Есть у тебя какая-нибудь идея насчет того, что следует делать? — сказал, наконец, Яндак.
— Да. Надо исключить меня из партии, — побледнев, сказал Тоник.
— Почему?
— Ясно, почему, — сказал Тоник неверным от волнения голосом. — Если меня арестуют в связи с этим делом, обвинения будут направлены не столько против меня, сколько против партии. Несомненно, это дело будет преподнесено публике как убийство с целью грабежа. Исключите меня, пока еще ничего не случилось, чтобы в случае ареста я уже не был членом партии.
Депутат с уважением смотрел в лицо своего гостя. Больше, чем с уважением, — с любовью. Он знал, что значит партия для этого человека, что значит для него пролетарская честь, на какую он идет жертву.
— У нас нет причин исключать тебя, — сказал Яндак мягко.
— Об этом я тоже подумал. Я сборщик членских взносов в моей организации. Я растрачу партийные деньги.
Он с трудом проглотил слюну.
— Нет, Тоник, это не годится. Через несколько дней начнется открытая борьба, социал-демократические министры намерены дать буржуазии свое согласие на снижение заработной платы. Они не допустят съезда партии, ведь уже сейчас ясно, что он дал бы нам подавляющее большинство. За нынешним руководством идет только часть партийной бюрократии, их не более пятнадцати процентов во всей партии. Они будут причиной раскола, и борьба разгорится жестокая. Ты слишком заметная фигура в партии. В сегодняшней обстановке гораздо хуже, если партийный организатор на заводах Кольбена товарищ Кроусский окажется растратчиком, чем если член партии товарищ Кроусский будет иметь отдаленное отношение к убийству венгерского контрреволюционера. Не на пользу партии был бы и твой добровольный выход из нее накануне решающей борьбы. Приходится предоставить дело Имре Белаффи воле счастливого случая. Храни его в полной тайне. Я тоже буду молчать.
Тоник хмуро посмотрел на депутата и, неудовлетворенный, вышел из его квартиры.
Суд над Миланом Иовановичем и шайкой грабителей состоялся раньше, чем можно было ожидать. Как раз в это время оппозиционные газеты разоблачили злоупотребления и взяточничество при поставках угля государству. Были скомпрометированы видные парламентарии, нити злоупотребления сходились в некоторых министерствах. Пока не улегся шум вокруг этой аферы, надо было отвлечь внимание публики. Процесс Иовановича и его сообщников продолжался восемь дней, были заслушаны показания более восьмидесяти свидетелей. Перед судом предстало девять подсудимых — семь мужчин и две женщины, обе смазливые блондинки, чья кабацкая элегантность сильно полиняла в предварительном заключении. В целом это была разношерстная компания, в жилах которой текла венгерская, словацкая, румынская, еврейская и цыганская кровь. Обвиняемые держались то со светской учтивостью, то с воровской дерзостью, но ни один из них ни на минуту не оставался спокоен. Среди них был и смазливый Тасилло Ценгери, барон, а в прошлом гонведский кадет, тот самый, что вместе с Белаффи мучил в тюрьме Шандора Керекеша.
Милан Иованович сознался в большинстве краж, но с отчаянным упорством отрицал убийство. Одним из наиболее волнующих моментов судебного следствия было, когда этот рослый брюнет встал с места и, воздев руки, воскликнул:
— Я вел легкомысленную жизнь, но я не убийца! Я никогда не мог бы совершить ничего подобного, для этого я слишком труслив.
И он истерически расплакался. Было непонятно, крик ли это души ложно обвиненного или проявление южного темперамента, склонного к драматургическим эффектам.
Все остальные подсудимые запирались с упорством опытных рецидивистов, которые не верят, что полное и чистосердечное признание будет для них смягчающим обстоятельством, и предпочитают быть осужденными только за то, в чем они неопровержимо уличены. Милан Иованович выдавал их одного за другим, приводя улики и рассказывая о преступлениях, совершенных в Праге, Карловых Варах, Марианских Лазнях, Вене, Варшаве, Будапеште и Бухаресте. Он изо всех сил помогал прокурору, надеясь снискать этим снисхождение присяжных. Остальные обвиняемые дружно ненавидели его за это. Они пронзали изменника злобными взглядами, и между ними и Иовановичем пришлось даже поставить конвойного, иначе они накинулись бы на него. Красотка Мария Флореску, оскалив зубы, осыпала его градом румынских ругательств, которых, правда, никто не понял, однако, судя по сверкавшим глазам красотки и по тому, как она дралась с конвойными, это были убийственные проклятия. Подсудимую вывели из зала.
Депутат Яндак с интересом следил за судебным процессом. Он был доволен: все шло благополучно для Тоника. Относительно Иовановича Яндак пришел к выводу, что этот мошенник вполне заслужил петлю на шею. Очень занятый, Яндак, конечно, не мог ежедневно бывать на процессе, но в день вынесения приговора он не удержался, чтобы не поехать в суд. «Только на минутку», — решил он, потому что в половине пятого у него была назначена встреча с министром народного просвещения Габрманом, а вечером он должен был выступать на митинге в Коширже.
Зал суда наполняла возбужденная публика, на местах прессы было полным-полно, и, несмотря на открытые окна, в зале стояла страшная духота. Когда Яндак вошел, председатель суда допрашивал швейцара «Синей звезды» Мюллера. Мюллер, правда, был допрошен на второй день процесса, но во время судебного следствия в свидетельских показаниях обнаружилось несколько противоречий, и присяжные потребовали, чтобы до вынесения вердикта свидетель Мюллер был допрошен еще раз.
Показания Мюллера были очень важны, и об упомянутых им «четырех или пяти минутах» много говорилось в зале суда. Еще в полиции Мюллер показал, что, по его мнению, подсудимый пробыл во втором этаже отеля четыре или пять минут. «Я не настаиваю на четырех или пяти минутах, — сказал он, — но твердо уверен, что он пробыл наверху менее четверти часа». То же самое Мюллер заявил на суде. Это показание легло в основу судебного следствия. Возможно ли за срок от четырех до пятнадцати минут связать человека, заставить его отдать деньги, документ или выдать тайну, убить его двадцатью ударами топорика, налить в умывальник воду, вымыться мылом и мочалкой и уйти? Прокурор уверял, что вымогательство денег, документа или тайны ничем не доказано, все же остальное можно легко сделать за четверть часа и даже за пять минут, не говоря уже о том, что правильность определения времени свидетелем Мюллером не поддается никакой проверке. Защитник, разумеется, с горячностью объявил вздорным предположение, что за такой короткий срок можно совершить всю эту совокупность деяний. Швейцар отеля «Синяя звезда» стал мишенью перекрестных допросов со стороны председателя, прокурора, защитника и присяжных.
Такому же допросу он был подвергнут и в день вынесения приговора. «Так сколько же минут прошло?» — повторяли допрашивающие, каждый на свой лад, а перепуганный подсудимый не сводил черных глаз со свидетеля, от ответов которого зависела его судьба.
Но Мюллер не колебался.
— Минут пять. И уж конечно не четверть часа, — упрямо твердил он.
Председатель положил на стол часы и спросил свидетеля, как долго, по его мнению, длится этот допрос.
— Полчаса или немного больше, — ответил тот, и председатель объявил, что допрос длится двадцать шесть минут. Учитывая необычную и волнующую свидетеля обстановку, нельзя было не признать, что время определено им довольно точно.
Но прокурор не сдавался.
— Скажите, свидетель, — спросил он, — а может быть, все-таки подсудимый пробыл там больше четверти часа? Минут восемнадцать, двадцать?
— Нет, — недовольным тоном отвечал свидетель.
— Вы говорите «нет», но откуда такая уверенность? Может быть, это только упрямство? Есть немало людей, готовых скорее дать, разрезать себя на куски, чем сказать «да», если они раньше сказали «нет». Стало быть, вы считаете совершенно исключенным, что могло пройти больше четверти часа?
— Да.
— Мотивируйте в таком случае вашу уверенность, ведь вы сами признали, что не смотрели на часы.
— У меня в таких делах наметан глаз.
— Эх, — махнул рукой прокурор, — разве можно верить вашему наметанному глазу! Вот вы с такой же уверенностью сочли подсудимого Иовановича евреем, да еще типичным. Если для вас каждый брюнет — еврей, весьма возможно, что пять минут превращаются у вас в минуту. Кстати говоря, это всем нам хорошо известно, — колко прибавил он. — У вас говорят постояльцу: «Через пять минут все будет готово», а ждать приходится полчаса!
Защитник энергично запротестовал против таких выпадов обвинителя.
После выступления представителя обвинения и защиты присяжные удалились на совещание. Прокурор, еще знакомясь с делом, усомнился в том, согласятся ли восемь из двенадцати присяжных признать Иовановича виновным в убийстве и отправить его на виселицу, учитывая полную необъяснимость мотивов этого преступления и спорные «четыре-пять минут» свидетеля Мюллера. Поэтому прокурор на всякий случай взвалил на Иовановича обвинения во всех грабежах, кражах и похищениях женщин, совершенных за последнее время в Праге, Карловых Варах и Марианских Лазнях, в том числе и в таких, по которым против Иовановича, да и вообще против кого бы то ни было, не было никаких улик.
Присяжные совещались сорок пять минут. Депутат Яндак, не привыкший пропускать условленные встречи, нетерпеливо поглядывал на часы. Но вот присяжные гуськом вошли в зал и уселись на свои места. В зале разом смолк шум и воцарилась напряженная тишина. Старшина присяжных, управляющий винодельческой фермой, торжественно огласил вердикт:
— «Присяжным был задан первый вопрос: «Виновен ли Милан Иованович в том, что двадцать восьмого мая текущего года, около половины восьмого утра, он, в номере отеля «Синяя звезда», связал венгерского графа Имре Белаффи и, нанеся ему с целью убийства более двадцати ударов по голове железным топориком, этими действиями вызвал смерть Имре Белаффи?» На этот вопрос присяжные ответили пятью голосами «да» и семью голосами «нет».
В глазах обвиняемого, не сводившего отчаянного взгляда со старшины присяжных, погасло выражение ужаса. Депутат Яндак удовлетворенно усмехнулся. Председатель снял пенсне и положил его на стол. В зале стояла мертвая тишина.
В этой гнетущей тишине старшина продолжал читать решение суда:
— «На второй вопрос: «Виновен ли Милан Иованович в том, что…» — далее следовал тридцать один подпункт об отдельных преступлениях — грабежах, кражах, аферах с фальшивками, шулерстве, сводничестве, преступлениях против нравственности, нарушениях законов о прописке, хранении оружия и азартных играх. Присяжные единогласно ответили на них «да»! Они поняли тактику прокурора и тоже решили, что если нельзя осудить Иовановича за убийство с целью грабежа, то нет никаких сомнений в том, что этого негодяя надо хорошенько взгреть за другие преступления. И все двенадцать присяжных троекратно ответили «да».
Иованович знал чешский язык настолько, чтобы понять это. Он понурил голову и тупо уставился перед собой.
Яндак не стал ждать приговора суда, потому что часы показывали уже четверть пятого и ему было пора в министерство. Он поспешил на улицу. О приговоре он узнал на следующее утро из газет. Иованович получил двенадцать лет тюрьмы, остальные обвиняемые — от одного до пяти лет. Оправдан был только один бывший гонведский офицер барон Тасилло Ценгери. Среди присяжных были две дамы, на которых подействовала юность барона, милая непринужденность его манер, черные как вороново крыло волосы и пылкий взгляд. Кроме того, в отличие от остальных обвиняемых, которые говорили на плохом немецком языке, юный барон бегло изъяснялся по-словацки; мелодичная мягкость этого языка умиротворяюще повлияла на присяжных.
Депутат Яндак выбежал из здания суда, на ходу вскочил в трамвай и поехал на Малую Страну, во дворец министерства народного просвещения. Он был доволен решением присяжных и все еще улыбался, по думать об этом процессе у него уже не было времени. В министерство его пригласил сам министр Густав Габрман, и это было удивительно. Что нужно министру Габрману от революционера Яндака, когда, быть может, уже завтра они пойдут разными путями? Яндак удивился, получив сегодня утром пригласительное письмо министра, написанное энергичным мелким почерком, в котором еще сохранилось что-то от пролетарской угловатости, хотя в последнее время почерк министра заметно округлился. В письме ничего не говорилось о цели приглашения, министр лишь по-товарищески просил депутата прийти поговорить по важному делу. Отказываться не имело смысла. Габрман стареет, на новом посту он стал разговорчивым, и, если даже этот визит не даст никаких особых результатов, Яндак во всяком случае разузнает что-нибудь.
Швейцар дворца в стиле барокко, помещавшегося на Кармелитской улице, уже был предупрежден о визите депутата Яндака. Министр встретил депутата в своем кабинете и дружески пожал ему руку.
— Извини, что я сам не навестил тебя, — сказал он приветливо, — но я занят с утра до вечера. Просто ужас, сколько работы! В дни, когда я бываю на заседаниях исполнительного комитета партии, мне приходится здесь, в министерстве, наверстывать работу ночью.
Яндак усмехнулся чуть-чуть злорадно. Он знал, что рабочих министров умышленно загружают массой ненужной работы, чтобы у них больше ни на что не оставалось времени.
— Ты еще не бывал у меня здесь? — спохватился Габрман.
— Нет, не бывал. Тут у тебя красиво, — сказал Яндак, оглядываясь и не переставая улыбаться.
— Пойдем, я покажу тебе, как мы тут устроились.
Министр провел гостя по белому залу, украшенному колоннами и кариатидами, и по великолепным покоям дворца, превращенным в отделы и департаменты министерства. Он показывал гостю ковры и гобелены, библиотеки, картины кисти старинных и современных мастеров. Сияющие глаза и благодушный тон министра словно говорили: «Вот она, демократия, товарищ Яндак! Когда-то в этих залах феодальные тираны совещались о том, как угнетать чешский народ, как выжать из него побольше доходов. А у тех, кто сейчас находится в этих стенах, нет других помыслов, кроме как о благе чешского народа. Еще два года назад здесь хозяйничали чужеземные аристократы — князья Камилл и Аллан Роганы, сейчас здесь хозяин я, Густав Габрман, токарь, который в восьмидесятых годах отсидел четыре года в тюрьме за участие в запрещенных рабочих союзах».
Показывая гостю картины Швабинского{146}, Габрман словно спрашивал взглядом: «Видишь, как мы поощряем чешскую живопись? Нашим художникам уже не придется голодать, как во времена Австро-Венгрии, под нашим рабочим руководством искусство будет расцветать».
Яндак шел по салонам и залам, кивал головой и снисходительно улыбался, как улыбается взрослый, слушая похвальбу ребенка. Он слишком хорошо знал, откуда и для чего в министерстве вся эта роскошь. Буржуазия дала рабочим министрам игрушки, и министры были довольны. Буржуазия укрепляла свои позиции в армии, государственном аппарате, промышленности и финансовой системе, а доверчивые рабочие министры забавлялись игрушками — дворцами, автомобилями, американскими бюро своих образцово оборудованных канцелярий. В течение дня эти министры принимали несколько учительских депутаций, представителей от писателей, художников, актеров; министрам стоило немалых усилий сохранять солидный вид и скрывать от окружающих, насколько чуждо им все, к чему они здесь сейчас проявляют притворный интерес. По вечерам министры брали уроки французского языка, справляясь у преподавателя, как написать без ошибок Monsieur et Madame N. N., ministre de… prie de lui faire l’honneur de venir au thé[44]. А ночью, уже в постели, они зубрили по школьным учебникам совершенно не нужные им имена голландских живописцев и мастеров эпохи Ренессанса.
Габрман и жил и работал в исторических дворцах; его квартира была во дворце графов Лобковиц на Микулашской улице. Там по вечерам, если у него оставалось время, он уходил из гнетущих высоких покоев с картинами кавалерийских и морских боев и, забравшись в теплую кухоньку, заказывал себе большую кружку сладкого кофе, раскладывал свои бумаги на кухонном столе, покрытом синей в крапинках клеенкой, и здесь, в тишине, разрабатывал заветный проект демократизации школы — великое начинание, которое он считал своей лебединой песнью… и которому не суждено осуществиться, ибо никто не даст ему на это денег.
Депутат и министр вернулись в кабинет и уселись друг против друга в кожаные кресла, стоявшие на дорогих персидских коврах. По серьезному выражению лица старого Габрмана было видно, что близится главная цель встречи — разговор на политическую тему.
Яндак уже давно не виделся с Габрманом лицом к лицу. В прошлом рабочий и провинциальный журналист, этот человек преобразился в элегантного американского джентльмена, гладко выбритого и гладко причесанного, в костюме, обуви и белье, словно вчера купленных в лучшем нью-йоркском магазине. Только глаза Габрмана не изменились, в них сохранились былое сердечное выражение и особый мягкий блеск, который всегда очаровывал собеседника. Яндак знал, что это выражение в глазах старого социал-демократа родилось в тюрьме. Оно навсегда осталось у печального узника, который в течение четырех лет видел лишь белую стену в пяти с половиной шагах от себя, постоянно нагонявшую глубокую тоску. Министр выглядел плохо, заметно было, что он переутомлен и что ему уже стукнуло шестьдесят лет.
После долгой паузы Габрман наклонился к Яндаку и положил свои руки на руки гостя, сложенные на коленях.
— Яндак, — сказал он дрогнувшим голосом, и глаза его стали грустны. — Старый товарищ Яндак! Что вы делаете!
— Ну, что же мы делаем? — улыбнулся депутат.
— Вы ведете ошибочную политику, ужасную политику, Карел! — Министр схватился руками за седую голову. — Пойми же, пойми это, друг мой!
— Я тебя слушаю, — сказал депутат.
Но все, что сказал министр, было менее убедительно, чем его взгляд и теплое рукопожатие. Габрман был велик только в чувствах. Революция? Ну конечно, он за революцию! Разве вся его жизнь и труд не посвящены революции? Но ведь главное в революции — чтобы пролетариат победил, а не оказался побежденным. Сейчас для этого неподходящее время. А искать опору для чешской революции в революции русской было бы страшной ошибкой. То, что произошло в России, это, с марксистской точки зрения, совсем не революция, а всего лишь запоздалое решение аграрного вопроса. У нас оно осуществилось еще в 1848 году. Героическая борьба русского пролетариата глубоко трогает и Габрмана, но…
— Неужели ты думаешь, что западные капиталисты допустят, чтобы одной шестой частью мира управляли рабочие? — говорил Габрман. — Капиталистические хищники слишком сильны, они задушат революцию в России.
«Вот оно что! — думал Яндак. — Так же говорят и сторонники капиталистического строя!»
— И на этом основании мы должны предать социализм и перейти в услужение к капиталистическим хищникам? — спросил он.
— Не будь несправедлив, Карел, выслушай меня. Через полгода от Советов в России не останется и следа. Какой там будет строй, неизвестно. Дай бог, чтобы это была демократия, но есть веские основания полагать, что это будет реакция в самом страшном виде… А вы ставите судьбу чешского пролетариата в полную зависимость от судеб русской революции.
— Год назад вы с такой же уверенностью говорили, что Советы не продержатся и трех месяцев! — возразил Яндак не без некоторого злорадства.
— Да, мы так думали и ошиблись. Но разве Колчак, Деникин и белополяки — это пустяки? Русский пролетариат выдержал эти последние удары, но теперь конец русской революции близок. В стране разруха, транспорт расстроен, промышленность не работает, голод и нужда ужасающие. Государство потерпело полную финансовую катастрофу. Это конец! Не помогут никакие жертвы, никакой героизм!
Министр сделал паузу. Он сел на кончик кожаного кресла и снова положил руку на колено Яндаку.
— Я открою тебе кое-что, хотя должен бы хранить это в тайне. Но на карту поставлено слишком многое, и потом, какие могут быть секреты между нами, партийными товарищами? — Он заговорил медленно, отчетливо и выразительно, и Яндаку невольно вспомнилось сегодняшнее чтение вердикта. — Готовится грандиозный поход против России. Ей будет нанесен сокрушительный удар извне. Одновременно вспыхнут восстания внутри страны. Этот удар будет последним, ослабленная Россия не выдержит его. Через полгода все будет кончено. Это крайний срок, товарищ Яндак.
Но это сообщение явно не оказало на депутата того действия, на которое рассчитывал министр. Яндак даже улыбался, и это показалось старому Габрману неуместным легкомыслием.
— Ты думаешь, русские мужики отдадут помещикам землю? — спросил Яндак.
— Нет, не отдадут, они будут защищать ее до последней капли крови. Но с мужиками беспощадно расправятся.
— У нас есть другие сведения о прочности советской власти.
— Они однобоки и ошибочны, Карел. Наши источники надежнее. Как бы ни была сильна Россия, разве она устоит одна против всех?
Яндак пожал плечами. Какой смысл спорить? Он хорошо знал все доводы за и против. Нет, спорить бессмысленно. Все, что обе стороны могли сказать на эту тему, уже было сказано на сотнях рабочих собраний. Но Габрман не знал об этом. О политической обстановке он узнавал только из газет да на заседаниях правительства. На общение с массами у него не хватало времени, — ведь он был министром.
— Товарищ Яндак, я говорю тебе то, чего не должен был говорить, — серьезно произнес Габрман, встав с кресла и подойдя к Яндаку. — У нас есть сведения, что вы готовите переворот. — Он тяжело вздохнул и схватился за голову; было видно, что ему мучительно говорить об этом. — К чему вы готовитесь, Яндак! Капиталисты встретят вас пулеметным огнем! — воскликнул он трагическим тоном.
Яндак нахмурился. Это было уж слишком!
— Во главе правительства стоит социал-демократ, — ответил он, стараясь овладеть собой. — Власть в ваших руках. Без вашего распоряжения полиция не выйдет против рабочих с пулеметами. Или вы уже настолько продались буржуазии, что пойдете и на это?
Министр отвел глаза перед горящим взглядом депутата.
— Яндак, — по-отечески сказал он. — Выслушай меня. Допустим, вы сумеете захватить власть и ценою ужасающих жертв удержите ее несколько недель. Ну, а потом, через полгода? Продумал ты это дело до конца, товарищ Яндак, друг? — Министр умоляюще сложил руки. — Знаешь ты, кто окажется потом у власти? Уже не рабочие, как сейчас, а крайняя реакция, крупные промышленники, банкиры, клерикалы, военщина… Пощади чешских рабочих, Яндак! — Глаза Габрмана затуманились слезами. — Спаси их от кровавой бойни! Не отнимай у них то, чего мы для них добились!
Министр снова сел в кресло и, вынув из нагрудного кармана батистовый платочек, вытер глаза. Яндак сидел насупившись. Не очень-то приятно видеть слезы на глазах мужчины, особенно если он тщетно просит вас о чем-нибудь. А когда вы знаете, что это искренние слезы, становится тягостно вдвойне.
Оба с минуту молчали. Потом Габрман снова заговорил:
— Слушай, Яндак, вот ты говоришь, что ваша информация о России…
Дикая ненависть к министру вдруг охватила Яндака. Не в силах совладать с собой, он встал.
— Почему ты все время болтаешь о том, что прольется рабочая кровь! Пулеметы капиталистов? Это ваши пулеметы! Власть в ваших руках! Долг социалистов обратить ее против буржуазии. Но ты, конечно, не сделаешь этого. Наоборот, ты хнычешь, что тебе придется стрелять в нас из этих пулеметов! И ты сделаешь это по приказу буржуазии! Тогда не причитай! Признайся, что ты телом и душой продался буржуям, и не строй из себя защитника рабочих!
Они стояли друг против друга, и Яндак бросал эти обвинения в лицо министру. В широко раскрытых глазах Габрмана он увидел удивление, горечь, скорбь.
— Я? — сказал Габрман.
— Ты! — был яростный ответ.
— Я хочу проливать кровь рабочих? Это ты мне говоришь, Карел?
— Именно тебе!
— Я? — И глаза министра снова наполнились слезами от этой незаслуженной обиды.
Яндак махнул рукой и зашагал по кабинету. «Нечего мне здесь делать и ни к чему весь этот разговор», — подумал он и быстро подошел к Габрману.
— Ну, будь здоров!
Габрман испуганно ухватил его за рукав.
— Нет, нет, Карел, не уходи, мы не можем так расстаться. Ты должен выслушать меня до конца.
И он снова заговорил. Яндак угрюмо слушал, злясь на себя за то, что остался.
— Обещай мне, товарищ Яндак, что вы ничего не предпримете в течение ближайших шести месяцев.
— Этого я не могу обещать. Полгода, потом еще полгода, а буржуазия тем временем укрепляет свои позиции. Окончательно укрепившись, она прогонит и вас, вы будете больше не нужны ей.
Министр погрустнел.
— Обещай мне по крайней мере, что ты подумаешь о моих словах.
— Это я обещаю.
— Так, так. Это очень мало, но все же лучше, чем ничего. Подумай о них, подумай, друг мой!
Яндак счел на этом разговор законченным и встал. Министр тоже. Он проводил гостя до дверей.
— Как поживает твой сын Ярда? — спросил он по дороге.
— Ему предстоит отсидеть две недели в тюрьме. Это вы его приговорили, — иронически ответил депутат.
У Габрмана вспыхнули глаза, он сжал руку Яндака.
— Это хорошо! В тюрьме он научится ненавидеть. Страдание закаляет человека. Он мне всегда нравился. Передай ему привет от меня и скажи, что когда за ним захлопнется дверь тюремной камеры и он увидит, что с ее внутренней стороны нет ручки, пусть вспомнит обо мне. Ты понимаешь, почему я говорю это? Такие вещи не забываются. И скажи ему, что только там он научится ненавидеть.
Яндак содрогнулся. «Неужели ты не понимаешь, — подумал он, — что Ярда научится ненавидеть тебя, Густав Габрман?»
Покачивая головой, он вышел в приемную министра. Два года прожили эти люди во дворце, меньше двух лет! И уже стали политическими мертвецами!
В приемной сидел чиновник министерства внутренних дел Подградский. Завидев депутата, он вскочил и поспешил к нему.
— А-а, господин депутат Яндак! Мое почтение! — Они обменялись рукопожатием. — Как поживаете, что поделываете?
Во времена Австро-Венгрии Гуго Подградский служил в министерстве в Вене и там встречался с чешскими политическими деятелями. Это был блондин лет сорока пяти, с английскими усиками, всегда элегантно, но не кричаще одетый, веселый, со светскими манерами; Яндак познакомился с ним еще в Вене. После переворота Подградский переехал в Прагу, они вместе кутили и даже перешли на «ты». Но теперь, когда отношения между рабочими и правительством становились все напряженнее, Яндаку было неудобно дружить с ведущим чиновником министерства внутренних дел. Впрочем, Подградский держался корректно: встречая Яндака на улице, он только вежливо здоровался и даже сейчас не обратился к нему на «ты».
— Загляните и ко мне, господин депутат. Я буду очень рад. Мой кабинет здесь в коридоре, в нескольких шагах… Прошу вас!
— Как-нибудь зайду.
— Зачем же как-нибудь! Зайдите сейчас.
Яндак вынул часы и попытался сослаться на недостаток времени.
— Ах, не глядите вы на часы! Зайдите на минутку, я уже давно хотел поговорить с вами. И пожалуйста, не думайте, что нам говорить не о чем, вот увидите — найдется. Уж если мы так удачно встретились здесь, зайдите, прошу вас!
«Что ж, — подумал Яндак, — и в самом деле, раз уж я здесь…»
— Ладно, — сказал он.
Они вышли в коридор. Подградский отпер одну из дверей и пригласил Яндака войти. Усадив депутата в кресло, он стал рядом, дружески глядя на гостя.
— Ну, как живется? — Он подвинул к Яндаку коробку сигарет, спички и пепельницу. — Курите!
— Я не курю казенных, — сказал Яндак.
Подградский извлек из кармана собственный портсигар и открыл его.
— Мои собственные, господин депутат!
Он сказал это так дружески, что отказаться было невозможно.
— Расскажите что-нибудь о себе, — продолжал Подградский. — Бываете еще в «Золотом пауке»?
И он просиял от приятного воспоминания.
Но для Яндака это воспоминание было мало приятным. Именно в этом ночном кабаке он вместе с Подградским кутил несколько ночей в конце 1918 года.
— Ох, шальное было время! — усмехнулся Подградский.
— Да, все мы были опьянены этой мнимой свободой.
— Почему же мнимой?.. Впрочем, не будем сегодня говорить о политике. Все-таки это были веселые дни! Я часто вспоминаю вас и вашу песенку «Разгромили мы вчистую эту Австрию гнилую!» М-да… И рыжую Эрночку я тоже помню. Да, кстати… — Он что-то вспомнил и усмехнулся. — Могу вам показать кое-что интересное. Я нашел это случайно в старых делах. — Он подошел к письменному столу, на котором лежали две казенные папки, раскрыл одну из них и перевернул несколько страниц. — А, вот она!
Это был сильно увеличенный фотоснимок, сделанный при плохом освещении, но все же вполне отчетливый. Подградский весело посмотрел на него и передал Яндаку.
— Вот, взгляните!
На снимке был запечатлен кутеж в отдельном кабинете «Золотого паука». На переднем плане виднелось серебряное ведерко с шампанским, дальше стол с бокалами, сладостями и смятыми салфетками. Слева, вполоборота, был очень хорошо виден депутат Яндак; на коленях у него сидела девушка из бара. Сзади стояла Эрна. С одной стороны ее обнимал депутат Петак, член партии чехословацких социалистов{147}, с другой стоял с бокалом в руке улыбающийся Подградский. Такой снимок можно было поместить в любой рабочей газете как фотодокумент, обличающий паразитический образ жизни буржуазии.
Яндак покраснел.
— Это что такое?
— Что такое? — засмеялся Подградский. — Сами видите: «Золотой паук». Такими фотографиями нас развлекает полиция. Они там воображают, что это бог весть какая заслуга — сделать в «Золотом пауке» такой снимок. Вот, мол, сенсация: депутат Яндак, депутат Петак и начальник департамента Подградский! Экие провинциалы! Я узнал — разумеется, много позднее, — что обслуживавший нас кельнер был полицейским информатором. Он обрадовался возможности заснять такую почтенную компанию. Фотообъектив был спрятан у него в булавке для галстука. Ловкий парень! Снимок, разумеется, сильно увеличен.
Яндаку вдруг пришла в голову прямо-таки ошеломляющая догадка. Он обдумывал ее, нахмурив брови. Ага, так вот оно что! Он зашел сюда, уступив просьбе Подградского, чтобы не обидеть старого знакомого, а оказывается, этот знакомый заманил его в ловушку и хочет накинуть ему петлю на шею… Яндак был возмущен. Нет, это вам не удастся, господа!
— Слушайте, господин начальник департамента, — сказал он, неторопливо отчеканивая слова. — Похоже на то, что вы пригласили меня сюда только затем, чтобы продемонстрировать эту фотографию.
— Ничего подобного, просто мне пришло в голову, что она может показаться вам интересной, — невозмутимо ответил Подградский.
— Вы собирались угрожать мне ее опубликованием…
— Господин депутат! — воскликнул Подградский. — Что вы говорите, господин депутат!
— …и политически шантажировать меня!
— Право, это даже оскорбительно! Как вы можете подозревать меня в этом! Ведь мы знакомы не первый день! Возьмите с собой этот снимок, прошу вас.
— У вас есть негатив!
— Разве я могу шантажировать вас? Вы засмеетесь мне в лицо и скажете, что ведь и я тоже запечатлен на этом снимке. Не думаете ли вы, что я ради политики готов развестись с женой и настроить против себя детей?
— На другом отпечатке ваше лицо может быть смазано.
Подградский молчал.
— Негатив можно так отретушировать, что вы будете неузнаваемы, — повторил Яндак, в упор глядя на собеседника.
— Да, мне это тоже говорили, — серьезно ответил тот и с неменьшей серьезностью взглянул на депутата.
Яндак вскочил с кресла и зло рассмеялся.
— Ах, и вам это тоже говорили? — Он подошел к Подградскому. — Ошибаетесь! Не думайте, что я боюсь вас. Можете опубликовать этот снимок. Моя жена достаточно разумна и примет мои объяснения.
— Господин депутат! — спокойно ответил Подградский, не пугаясь воинственного тона Яндака. — Снимок не будет опубликован, даю вам в этом честное слово. Теперь, надеюсь, вы мне поверите, я никогда не давал вам оснований считать меня вероломным. А поскольку вы все-таки выразили подозрение, разрешите мне сообщить вам следующее: когда обсуждался вопрос об опубликовании этой фотографии — заверяю вас честным словом, что я был против! — речь шла не о том, как отнесется к этому ваша семья, а о том, какое впечатление снимок произведет на рабочих.
Яндака охватило негодование. Использовать факты из личной жизни для политического шантажа — какая низость! И вместе с тем какая наглость! Этот человек обещает не предавать снимок гласности и одновременно угрожает ему разоблачением перед рабочими!
— Можете публиковать его, я не возражаю! — крикнул Яндак.
— Я не сделаю этого, господин депутат! — очень вежливо повторил Подградский.
Яндак зашагал по кабинету, потом остановился около Подградского и смерил его презрительным взглядом.
— Негодяи! Ах, какие негодяи! — воскликнул он. — И ты один из них! А я, старый осел, когда-то верил вам! Так мне и надо. Не думаешь ли ты, глупец, что я продамся за эту фотографию?
— Не шуми, Карел, — успокоительно произнес Подградский, кладя ему руку на плечо. — Рядом могут услышать…
Яндак пронзил его взглядом, но все же понизил голос.
— Я знаю, чего вы хотите! Вам надо, чтобы я склонил рабочих на вашу сторону, предал их буржуазии. Вы дрожите перед революцией и в борьбе с ней не гнушаетесь никакими средствами. Глупцы! Вы думаете, что эту борьбу можно выиграть с помощью фотографии? Только что меня уговаривал Габрман…
Яндак произнес это имя, и его вдруг осенило. Он хлопнул себя ладонью по лбу и, подойдя вплотную к Подградскому, упер руки в бока.
— Послушайте, господин шеф департамента, вы ведь служите в министерстве внутренних дел…
Подградский смиренно смотрел на него, с видом чиновника, которого разносит начальник.
— Так что ваш кабинет не может быть в этом здании! — заключил Яндак.
Подградский молчал.
— Это не ваш кабинет, вы заняли его лишь на время и специально принесли сюда эту фотографию. Наша сегодняшняя встреча не случайна, она подстроена, вы поджидали меня. Габрман известил вас по телефону, что я буду здесь.
Подградский смотрел ему в лицо.
— Так это или нет? — загремел Яндак.
— Не совсем так, господин депутат. Министр Габрман не звонил мне. Господин министр… как бы это сказать, чтобы не проявить неучтивости… Вы извините, господин депутат, я скажу напрямик: господин министр очень неловок в таких делах… Но нам было известно, что вы здесь.
— Ты шут, старый шут! — презрительно сказал Яндак, сделав жест отвращения. — Ну и компания же подобралась! Давно пора выбросить вас на свалку… А что ты собственно от меня хочешь?
Подградский с готовностью перешел на «ты», как только это сделал господин депутат.
— Мне надо поговорить с тобой, — ответил он. — Почему именно со мной?
— Ты же не хуже меня знаешь, какова политическая обстановка. Влияние депутата Немца и господина Соукупа{148} на пражских рабочих сильно упало. На рабочих сейчас влияешь ты и Шмераль{149}.
— Почему же ты не поговоришь со Шмералем? Или у вас нет его фотографии, нечем шантажировать?
— Хватит об этой фотографии! Шмераль не поддается на уговоры.
Яндак засмеялся.
— А меня, вы думаете, вам удастся уговорить?
— Да.
Яндак снова засмеялся.
— Наверняка?
— Наверняка, Карел. — В голосе Подградского была твердая уверенность.
Яндак сел, не сводя насмешливого взгляда с собеседника.
— Вот видишь, я уже слушаю тебя. Продолжай свои угрозы.
— Прежде всего мне хотелось бы информировать тебя кое о чем, что тебе неизвестно.
— Гм…
— Например, вот об этом.
Подградский подошел к столу, раскрыл другую папку, извлек оттуда лист и положил его перед Яндаком. Депутат взглянул и расхохотался. Это был по-настоящему веселый, а не злой, как прежде, смех.
— Скорей возьми обратно да спрячь! Смотри, чтобы у тебя его не украли. Над этой выдумкой смеются даже дети. «Список лиц, которые будут казнены большевиками»! На первом месте президент, на втором Немец, на третьем Соукуп! Мне уж и смотреть не нужно, я знаю эту сказку наизусть. И вы воображаете, что я попадусь на такую приманку? Меня, стало быть, тоже казнят большевики? — Яндак снова засмеялся. — Я не думаю, что ты сам веришь этому документу, но скажи, неужели тебе не совестно?
— Этот документ ничуть не хуже любого другого. Не мое дело проверять его достоверность. Если ты к нему безразличен, дело твое. Но верен этот документ или нет, он уже отчасти достиг своей цели. А стыдиться у меня нет причин, время сейчас слишком ответственное. «Вы дрожите перед революцией», — сказал ты. Верно! Но мы дрожим не за свое благополучие или за свои богатства, как утверждаете вы. Ты отлично знаешь, что у меня нет никакого состояния, в сравнении с тобой я бедняк. Мы боимся гражданской войны, которую вы хотите развязать. Мы боимся за жизни тысяч людей, за республику, судьбы которой нам вверены. В напряженные дни, когда обществу грозит такая катастрофа, годится любое средство, которое предотвратит ее.
«Какое фарисейство, какая претензия на искренность, какая омерзительная маскировка низких побуждений высокими идеями!» — думал Яндак. Он вдруг ощутил острое желание оскорбить Подградского, но не просто бранью, какой от него уже много услышал этот человек, а чем-то более унижающим. И он сказал:
— Когда в Вене ты, будучи чиновником императорского министерства внутренних дел, втерся в нашу компанию, мы решили, что ты провокатор. Потом мы забыли об этом первом впечатлении, и это была ошибка. Сейчас я твердо уверен, что эту грязную работу ты выполнял для его величества Франца-Иосифа с такой же охотой и усердием, как сейчас выполняешь для чешской буржуазии.
Яндак сказал это со злым спокойствием. И впервые за все время этого разговора и напряженного состязания в выдержке собеседник Яндака отвел глаза и даже покраснел. Но это смущение было минутным, словно Подградский сразу же вспомнил, что он не должен волноваться и не имеет права ответить ударом на удар, что ему не разрешено даже ускорить темп своего наступления, а он обязан спокойно и размеренно двигаться к намеченной цели.
— Насчет этого ты ошибаешься, — возразил он. — Но я и тогда добросовестно выполнял свои служебные обязанности, и в этом нет ничего дурного. Я не стыжусь того, что и тогда заботился о сохранении порядка в стране.
Яндак саркастически засмеялся.
— Вот именно! Я как раз это и говорю: поддерживал порядок. Все вы поддерживали его так усердно, что дело кончилось мировым побоищем. — Он перестал смеяться и посмотрел на Подградского. — По-моему, наш разговор окончен и я могу уйти.
— Прошу тебя задержаться еще на минуту.
— Что еще такое?
— Я хотел бы поговорить с тобой о политике.
— О политике? Этим уже занимался Габрман.
— Он сказал не все.
— Что ж, пожалуйста. Это даже становится интересным. Так, значит, вы боитесь гражданской войны? Верю. Я мог бы на это сказать тебе, что против нее есть одно-единственное средство: ваш добровольный отказ от экономических и политических привилегий. Ты мне ответишь, что это невозможно, и наш спор не сдвинется с места. Итак, вы боитесь. Ладно. Что же дальше?
— Существующий правопорядок действительно не допускает экспроприации. А менять этот порядок мы не хотим, ибо убеждены, что он нравится большинству населения.
— То есть вам.
— Да, я тоже среди этого большинства. У нас, однако, есть другой способ самозащиты. Мы хотим создать как можно более многочисленный слой довольных людей, которые будут опорой нашего строя. Удовлетворить всех, разумеется, невозможно.
— То есть невозможно удовлетворить пролетариат?
— Да, удовлетворить его широкие слои пока невозможно. Ты знаешь, что в этом направлении было сделано много попыток. Добрая воля была налицо, ваши лучшие люди введены в правительство… Но экономические условия мешают этому.
— Ты откровенен.
— Наша аграрная реформа, наша торговая и финансовая политика направлены на то, чтобы в государстве стало больше независимых, зажиточных, довольных и преданных государству граждан.
— Среди всех слоев населения, но не среди рабочих. Все это делается за их счет.
— Среди рабочих мы тоже хотим создать прослойку довольных.
— Впервые слышу!
— Разумеется, невозможно удовлетворить весь пролетариат, но можно сделать зажиточными и довольными его вождей и лучших рабочих, на основе естественного отбора. Целый ряд ваших людей был назначен членами правлений банков и различных предприятий. Мы обеспечили им солидно оплачиваемые посты в политических, культурных и других учреждениях. Как ты думаешь, почему мы сделали это? Из личных симпатий? Ничего подобного! Мы хотели сделать их независимыми от настроений улицы, дать им возможность вести действенную, укрепляющую государство политику, ибо в конечном счете только она идет на пользу рабочему классу.
— Гм! — иронически улыбнулся Яндак. — Может быть, ты хочешь и меня подкупить?
Подградский пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:
— В конце концов… к чему отрицать? Мы делали все это для того, чтобы приручить рабочих лидеров. Многим из них мы дали возможность разбогатеть другим способом — торговлей. Они проявили к ней блестящие способности. — Подградский сдержанно усмехнулся и заговорил чуть-чуть медленнее и выразительнее, но все тем же учтивым тоном светского человека. — В этом деле нам отлично помогли их жены и дочери. В конце концов по-человечески все это вполне понятно: почему бы жене социалистического лидера не жить в комфорте, не ездить в автомобиле, не одеваться в шелка и меха, не абонировать ложу в Национальном театре? Женщины податливее мужчин, которых подчас трудно склонить к переходу от твердых принципов к гибкой практике. Итак, торговля тоже оказала нам хорошую услугу. Если политический деятель из рабочих выполняет полученный от нас казенный заказ не так добросовестно, как мы могли бы требовать от профессионального коммерсанта, то… к нему нужно быть снисходительнее. Уж если говорить вполне откровенно, то мы были даже довольны, когда такой поставщик оказывался немного неточным, ибо эта неточность связывает. Тот, кто свершил с нами не совсем добропорядочную сделку, должен все время помнить, что мы можем в любой момент довести об этом до сведения его избирателей.
— Гм! — сказал депутат Яндак и попытался улыбнуться, но это ему не удалось. — Ты рассказываешь интересные вещи. Коррупция в Чехословакии? Не хочешь ли ты и меня подкупить? Может быть, тебе поручено предложить мне место в правлении какого-нибудь банка?
— Об этом, несомненно, можно будет со временем поговорить. Но сегодня я не могу тебе предложить этого.
— Чем же ты хочешь меня подкупить в таком случае?
Яндак пытался произнести это иронически, но иронии не получилось.
— Подкупить? — протянул Подградский, чуть пожал плечами, слегка наклонил голову и искоса взглянул на депутата. — В этом уже нет надобности.
Депутат стал бледен, как лежавшая перед ним бумага.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил он, тщетно стараясь говорить спокойно.
— Это уже произошло.
Депутат вскочил.
— Что уже произошло?
— Садись, Карел, и не нервничай.
— Нет, нет! — кричал депутат, все повышая голос. — Что такое произошло? Ты имеешь в виду огнетушители?
— Да, — спокойно ответил Подградский.
— Какое мне до них дело? — яростно крикнул депутат. — Какое мне дело до этих огнетушителей? — Глаза его сверкали, он сжал кулаки, словно готовясь к нападению. — Какое мне вообще до вас дело?
— Садись, Карел, и выслушай меня.
— На это вы меня не возьмете, господа!
Голос Яндака стал хриплым.
— Садись, Карел. Вот увидишь, мы договоримся.
— Я не боюсь вас! — сказал Яндак уже слабеющим голосом.
— Убедительно тебя прошу, выслушай меня.
— Пожалуйста! — Яндак сделал величественный жест и сел. — Продолжай! Итак, огнетушители. Продолжай, это очень интересно!
Подградский тоже сел, глядя в упор на депутата, исполненный решимости не выпускать противника, загнанного в угол.
— Я неохотно начинаю разговор на эту тему и, как видишь, прибегаю к ней как к крайнему средству. Обстановка сейчас слишком серьезная, и ты слишком опасный для нас противник. Ты должен отказаться от пропаганды большевизма. Другого выхода у тебя нет. Ты должен сделать это. Я не выпущу тебя отсюда, пока ты не пообещаешь мне это.
— Хотел бы я знать, чем ты меня принудишь?
— Угрозой предать гласности акт об огнетушителях.
Глаза Яндака вновь блеснули.
— Эту сделку заключал мой брат.
— Эх, — махнул рукой Подградский, — разреши затруднить тебя изложением всего этого дела не так, как оно представляется тебе, а так, как оно известно нам, с нашей точки зрения. Твой брат всего лишь пекарь в городке Нова Пака, это верно. Но разве нам нужен был твой брат, исправный обыватель, далекий от политики, рядовой избиратель, не более? Нам нужен был ты, депутат Яндак, один из вождей пражского пролетариата, человек с опасной фантазией… Дело было весной прошлого года. Шло строительство и оборудование сотен казенных зданий, возможности получения заказов открывались невиданные. Твой брат — сообразительный человек, и он почуял это. И вот однажды ты обратился к нам с вопросом, не может ли твой брат получить заказ на огнетушители для какой-то там промышленной школы, которая строилась в вашем городе. Ты, очевидно, представлял себе дело так, что твой брат сможет заработать тысячу — полторы, которые ему очень пригодятся. Самая невинная протекция, не правда ли? В политической жизни тогда была полнейшая гармония, все мы общались между собой, партийных различий как бы не существовало, мы были опьянены свободой, как ты выразился. Кому могло прийти в голову, что через год мы станем заклятыми врагами? И вот, признаюсь тебе: нам это пришло в голову.
С помощью наших дипломатов за рубежом мы были лучше информированы, чем ты. Мы понимали, как пойдут события, и, зная характер депутата Яндака, догадались, на чью сторону он станет. Вождь пражских рабочих был нам очень нужен. Вот почему, когда ты обратился к нам с пустяковой просьбой о протекции, мы решили не упускать тебя и не ограничиваться полутора тысячами крон. Депутата Яндака нам надо было прибрать к рукам. И мы совратили тебя, откровенно сознаюсь в этом. Мы пропустили мимо ушей твой запрос об огнетушителях для школы и ответили тебе, что твой брат может получить заказ на двадцать тысяч штук. Это выглядело довольно дико: пекарь в роли поставщика огнетушителей в общегосударственном масштабе! Но таких случаев было больше, чем ты думаешь. Твой брат, очевидно, очень удивился этой цифре и сперва не знал, что делать. Но дело пошло на лад. Вы создали товарищество по торговле огнетушителями под названием «Спасение». Компаньонами были ты, твой брат, аптекарь Ржегак из вашего города и архитектор Вайгл из Праги.
Ты был негласным компаньоном. Но ты налогоплательщик, и из твоих налоговых деклараций было видно то, что мы и так знали: что ты компаньон этой фирмы… Вы заказали в Германии большую партию огнетушителей и продавали их чехословацкому государству по пятьсот двадцать крон за штуку, то есть на пятьдесят крон дороже любой другой фирмы.
— Они были лучшего качества.
— Не сомневаюсь. Лучший материал, бо́льшая прочность и полная гарантия — как все это называется на коммерческом языке. Допустим, что чистая прибыль со штуки составляла всего пятьдесят крон. Двадцать тысяч огнетушителей дают круглую сумму в миллион крон, — разумеется, на четверых, то есть двести пятьдесят тысяч крон на каждого. Это, конечно, не бог весть какое богатство, но все же небольшое состояние, достаточное для того, чтобы человек стал хозяйственно устойчивым, или, как мы говорим на политическом языке, благонадежным. За депутата Яндака стоило заплатить такую сумму. Но тем самым депутат Яндак взял на себя некоторые обязательства. Минимум — это не вредить нам. Пока он это обязательство выполняет, мы неизменно остаемся добрыми друзьями. Если нет, то нам придется вступить в борьбу. — Подградский помолчал. — Слушай, Карел, — сказал он мягко, — ты говоришь, что ваши огнетушители были лучше других? Верю. — Он отошел к письменному столу, вынул из папки какой-то документ, снова сел и заглянул в него. — Мы подвергли их экспертизе. Скажу по правде: мы сделали это всего две недели назад, когда столкновение с тобой казалось нам уже неизбежным. Скажу больше, мы дали понять обоим экспертам, что нас устраивает самый неблагоприятный отзыв. Вот он. Он начинается словами: «Огнетушители «Спасение», поступившие на экспертизу, представляют собой изделия крайне низкого качества. Если нельзя признать, что они полностью неэффективны, то безусловно весьма несовершенны…» Далее следует специальный анализ металлических частей, химического состава и так далее. В этом ты, наверное, понимаешь так же мало, как и я. Отзыв кончается так: «Поскольку в апреле прошлого года за огнетушители «Спасение» было уплачено из расчета пятьсот двадцать крон за штуку, следует считать, что переплата на каждом из них достигала двухсот пятидесяти крон». Таким образом, как видишь, ваша прибыль, очевидно, составила не один миллион, а пять.
— Это ложь, наглая ложь! — крикнул Яндак.
— Я тоже уверен, что экспертиза пристрастна. Но акт подписан двумя экспертами, и они ручаются за свой отзыв. Представляешь себе, что будет, если мы предадим его гласности?
Депутат Яндак курил уже третью сигарету из лежавшей перед ним коробки, забыв о том, что они казенные.
— Это неслыханно! Я привлеку экспертов к суду!
— Не привлечешь. Тебе не надо объяснять, какие политические последствия имел бы для тебя такой процесс, даже если ты его выиграешь.
Яндак вскочил с кресла. Он был бледен.
— Вы звери! Звери в человеческом образе!
— Отнюдь нет, Карел. Мы только защищаем республику, она священна для нас.
— Что вы, собственно, от меня хотите? — крикнул Яндак.
— Сядь, Карел! — И Подградский тихонько толкнул Яндака в кресло.
— Что вы от меня хотите? — повторил тот, сверкнув глазами.
Подградский с минуту молча стоял около гостя, потом сказал спокойно и серьезно:
— Мы хотим, чтобы ты в течение недели написал в «Право лиду» статью против большевизма и подписал ее своей фамилией.
— Я лучше застрелюсь!
Подградский пожал плечами.
— Тогда мы опубликуем отзыв экспертизы и напечатаем в газетах снимок из «Золотого паука». Оба эти документа относятся, правда, к разному времени, но общественное мнение найдет между ними связь. А если будет нужно, мы привлечем фирму «Спасение» к суду за мошенничество.
В воображении депутата встал сегодняшний зал суда, жадная до сенсаций публика, лица присяжных и вызывающая усмешка прокурора. Но эта картина тотчас изгладилась из его сознания, ибо на него смотрели голубые, спокойные и холодные глаза Подградского.
— Так, значит, вы все-таки опубликуете снимок? — слабо улыбнулся Яндак. — На твое честное слово можно положиться!..
Человек с холодными голубыми глазами ответил:
— Плохой я был бы слуга государства, если бы собственная честь была мне дороже, чем его благо. А впрочем, я давал свое слово в уверенности, что все уладится наилучшим образом, и я не отказываюсь от него. Снимок не будет опубликован. Не будет потому, что у тебя нет другого выхода и ты согласишься.
— Нет, я застрелюсь!
Депутат Яндак спокойно произнес это и встал. В комнате было тихо. Весь дворец словно вымер. Служебные часы закончились, и, кроме них двоих и швейцара внизу, в здании, видимо, никого не было. Окна выходили в сад, там было пусто.
Подградский молча сидел за письменным столом, Яндак неслышно ходил по ковру. Наконец, он остановился перед чиновником.
— Да, я застрелюсь! — повторил он.
Подградский в упор посмотрел на депутата. Тот не отвел взгляда.
— Я как раз обдумывал такую возможность, — после паузы сказал Подградский. — Но и в этом случае наша цель будет достигнута. Нам грозит гражданская война. Перед лицом такой опасности нас не остановит смерть одного человека. Но кому будет полезна твоя смерть? Никому, кроме нас, твоих политических противников. Мы предлагаем тебе путь более выгодный и единственно разумный: ты напишешь эту статью…
— Нет!
— Не в течение недели, я необдуманно выдвинул такое условие. Это было бы слишком скоропалительно. Ты напишешь ее через месяц, а до тех пор не будешь выступать против нас и перестанешь будоражить рабочих. Все это можно устроить очень просто: ты переутомился, хвораешь и нуждаешься в отдыхе. Можешь подвизаться в каком-нибудь культурном или кооперативном рабочем объединении. Как ты знаешь, мы очень ценим культуру и охотно поддерживаем рабочие кооперативы. Через месяц мы поговорим снова… на более утешительные темы. Кстати говоря, я убежден, что обстановка вскоре резко изменится и нам уже больше никогда не придется возвращаться к этому неприятному разговору… Согласен ты на это?
Они снова замолчали. Стояла полная тишина, в кабинете не было даже часов, тиканье которых нарушило бы ее; грохот трамвая не доносился в этот уголок старой Праги. Депутат, как пришибленный, сидел в кожаном кресле, Подградский стоял у открытого окна, опираясь о подоконник. Сражение окончилось, напряжение ослабло, на поле боя спускались сумерки, проникая через окно из сада князей Роганов.
— Страшная кара! — прошептал депутат и замолк. — Страшная кара за трехмесячную дружбу с буржуазией! Вы хитры, как змеи, и подлы, как шакалы!
Молчание становилось мучительным.
— Ну, — сказал вдруг Яндак, нахмурившись, встал и, подойдя к Подградскому, холодно подал ему руку. — Ну, будь здоров!
— Всего хорошего, господин депутат! — Подградский пожал протянутую руку и вежливо поклонился.
Он проводил гостя до дверей и сказал веселым тоном, словно соглашение уже достигнуто и о нем можно больше не вспоминать:
— А сына своего ты обуздай малость. На митингах на Смихове он говорит такие вещи, что волосы встают дыбом. Скажи ему, что эти две недели отсидки — только легкое предупреждение, а когда-нибудь мы его посадим по-настоящему, накрепко.
Яндак только рукой махнул.
И вот он едет домой — игрок, проигравший всю получку; боксер, мечтавший о славе мирового чемпиона и нокаутированный незаметным новичком; воин, который на марше вдруг ощутил легкий толчок в позвоночник, а через несколько секунд почувствовал, что его ноги подкашиваются и что он умирает…
Яндак поднялся по лестнице в свою квартиру. Ему повезло: дома никого не было. Он вошел в кабинет и с минуту стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу. В голове у него не было никаких мыслей. «Будь что будет, но я сейчас лягу спать», — подумал он, отошел от окна и бросился на диван.
На стене напротив висел портрет Ленина. Яндак смотрел на это лицо с проницательными глазами и выпуклым лбом. Впервые после возвращения из министерства он смог отчетливо рассмотреть что-то, и это был ленинский портрет. В голове Яндака стала разматываться нить мыслей.
Застрелиться? Это был бы наиболее достойный выход. Яндак с минуту играл с этой мыслью, вернее — она играла им. Вон там, у окна, за письменным столом, он мог бы пустить себе пулю в лоб. Мертвый он останется сидеть в кресле, а браунинг свалится на ковер. Жена упадет в обморок, дети будут плакать. Но разве Подградского остановит его смерть? Через два дня после похорон в «Ческе слово» появится заметка: «В связи с самоубийством депутата Яндака распространился слух, что…» Яндаку мерещится эта заметка с жирным заголовком, он представляет себе все, что будет написано в ней… Подградский восторжествует. Его цель — внести разброд в ряды коммунистов, и он добьется своего. Это палач в лайковых перчатках… Нет, стреляться бессмысленно. Как бы перехитрить Подградского? Похитить документы? Подкупить чиновников министерства? Организовать ночной взлом? Что за романтические бредни!
С портрета над диваном смотрели на него глаза Ленина, проницательные, насмешливые.
Что же, значит — конец?
«Нет! — кричит все существо Яндака. — Есть выход, должен быть выход!»
Яндака вдруг осеняет новая мысль, и он удивляется, почему она не пришла ему раньше. Он пойдет к рабочим и расскажет им все. «Если буржуа наживаются на казенных поставках, почему бы и рабочему вождю не заработать на них»? — скажет он. Яндак представляет себе зал трактира «У Забранских»{150} — небольшое тусклое помещение с окнами на потолке, лампочками на длинных шнурах, трапециями и кольцами, закинутыми за стропила. По обеим сторонам плохонького зеркала стоят гипсовые бюсты Маркса и Лассаля. Депутат Яндак с трибуны обращается к собравшимся. Он пламенный оратор, его речи всегда захватывают. «Да, товарищи, — говорит он, — почему бы рабочему не экспроприировать буржуазное государство, чтобы иметь возможность спокойно работать для дела пролетариата, для революции?» Сказав это, он окидывает собрание взглядом, и слова застревают у него в горле. Две тысячи глаз — и во всех лишь холодное презрение! Над головами толпы густеет иней, он наполняет весь зал, холод пронизывает до костей. Его чувствует и Яндак, он хочет застегнуть пальто, но в этот момент из зала раздается возглас: «Изменник!» И все в один голос кричат: «Изменник, изменник!» Вздымается ледяная метель, страшный вихрь. Пронзительный ветер с кусками льда хлещет Яндака по лицу, депутат закрывает лицо руками, вихрь швыряет его о стену, выносит из зала, несет, колотя о крыши и телеграфные столбы…
Яндак вскакивает с дивана, садится, сжимает голову руками. Лоб его холоден. Яндак смотрит в пространство.
Что же теперь? Что?
Есть выход! Он вернет деньги, все до последнего геллера. Это меньше миллиона, а может быть, даже меньше пятисот тысяч. Он бросит им эти деньги в лицо. Но… хватит ли у него денег? Нет! Жена и дочь привыкли к обеспеченной жизни, сын покупает массу социалистической литературы, он сам, Яндак, немало потратил… Вчера у них был архитектор, на той неделе они начнут строить особнячок в Тройе{151}, — жена страшно увлечена этой затеей, буквально грезит ею… Да, у него уже нет этих денег!
Ах, мерзавцы, они все-таки поймали его! Как ни вертись, ни бейся, не вырвешься из этих когтей!
На стене висит русский революционный плакат, яркий и темпераментный рисунок: на каменном пьедестале мечется смертельно раненная гидра капитализма. Одна из ее трех голов уже отрублена, из раны хлещет кровь. Внизу под пьедесталом волнуется толпа рабочих. Они вбивают клинья в каменный пьедестал, сокрушают его кирками и молотами, карабкаются наверх, становятся на плечи товарищей, рвутся к гидре с ножами в руках и зубах, такие же неистовые, как чудовище наверху. Те, кто добрался до гидры, вцепились в нее, прижались всем телом к телу врага и вонзают в него оружие, а гидра давит людей лапами, кусает их, душит щупальцами, потоки крови текут по пьедесталу. Но фигурки не ослабляют своего натиска, их боевое ожесточение не ослабевает, тысячи людей борются с чудовищем!
Яндак вглядывается в эту страшную картину и обращает внимание на одну из фигурок. Гидра обхватила и душит ее концом хвоста. Лицо человека посинело. Когда чудовище ослабит свою смертоносную хватку, на землю упадет труп. Яндаку кажется, что в лице задушенного он узнает свои черты. Да, это он! Он, депутат Яндак, трагическая жертва в борьбе с капиталом. Гидра сжала его, как мышонка, и не отпустит. Он погиб. Такова судьба бойца. Яндак верит этому, и его глаза увлажняются от жалости к самому себе. Он поворачивается на бок и зарывается головой в шелковую подушку. Эту подушку вышивала его дочь в подарок папе. Несчастные дети, несчастный отец!
Что это за мотив возник в памяти Яндака? Какая-то глупая эстрадная песенка. Ага, он узнает ее, — у этой песенки есть припев, и он начинается так: «Яндак переметнулся…» Эти куплеты были когда-то сочинены о редакторе газеты «Право лиду» Стивине{152}. Он был одним из первых большевиков в Чехии, писал коммунистические статьи в газетах, подписывая их полным именем, выступал на митингах, завоевал для партий горняцкое Кладно. Стивина любили рабочие и люто ненавидела буржуазия. И вот однажды в «Право лиду» появилась контрреволюционная статья за его подписью. За одну ночь Стивин повернул на сто восемьдесят градусов. Никто не знал, почему это произошло. С того дня началась карьера Иозефа Стивина. Он развелся с женой, женился на молодой красотке, одел ее в меха и шелк, переехал из двухкомнатной квартиры во дворец, заказал свой портрет знаменитому живописцу. Эстрадный сатирик Винца Баритон выступал тогда в кабаре «Сиринкс» с куплетами, припев которых гласил: «Стивин переметнулся». Сейчас эту строчку можно перефразировать в «Яндак переметнулся»…
Депутат глубже втиснул голову в расшитую подушку. Его лицо исказилось. «Яндак переметнулся, Яндак переметнулся! Яндак переметнулся к правым!»
…Как лихо он переметнулся, Одним прыжком, одним прыжком! Посыпать надо бы песком, Чтоб сей прыгун не поскользнулся!Песенка стала такой назойливой, что Яндак никак не мог отогнать ее от себя, она повторялась, словно граммофонная пластинка. Этот глупый въедливый мотивчик заставил Яндака трезво взглянуть на вещи. Ведь если отбросить всю лживую чепуху, которая глушит простую мысль этого куплета, отбросить все эти размышления о самоубийстве и слезы умиления над революционным плакатом, то пластинка зазвучит ясно и отчетливо. Да, Яндак переметнулся. Да, Яндак напишет статью, которую требует Подградский. Он уже не пойдет на рабочее собрание в Коширже, а по телефону передаст, что он серьезно заболел… Никогда Яндак не был пролетарским революционером, он всегда был только жадным до жизни честолюбцем. А революция разоблачает всякую фальшь.
В передней щелкнул ключ в замке. Депутат вскочил с дивана и торопливо пригладил перед зеркалом волосы.
В комнату вбежал двадцатилетний Ярда, полный жизни.
— Папа! — радостно воскликнул он, обращаясь к отцу, как к товарищу. — Я бежал со всех ног. Отличные новости из Германии! Немцы заодно с нами. В Центральной Германии уже все готово, и они только ждут сигнала.
Яндак поглядел на сына. Образ раскрасневшегося юноши расплывался в его глазах, как в тумане. Депутат Яндак почувствовал страшную слабость.
— Что с тобой, папа? — удивленно спросил Ярда.
И тогда отец собрался с духом.
— У меня есть другие сведения, — нетвердо начал он и продолжал с ненатуральной решительностью: — Немцы не пойдут с нами. Всякое наше революционное выступление обречено на провал.
Студент подскочил к нему и ухватил его за рукав. В глазах юноши было отчаяние.
— Ты с ума сошел, папа! — крикнул он.
ЗДРАВСТВУЙ, ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ!
Осенние дни коротки. На фешенебельных улицах Праги, Народном проспекте и Пршикопах, это, конечно, незаметно. Там, едва начнет смеркаться, загораются фонари, вспыхивают витрины ювелирных и галантерейных магазинов, за стеклом ослепительно сверкает белоснежное мужское белье и тонкий фарфор, на фасадах домов сияют светящиеся буквы реклам. А Есениова улица уныла и неприглядна осенью. Столбы электрических фонарей расположены далеко друг от друга, желтые шары на них болтаются, как головы казненных. Освещенное окно бакалейной лавочки выглядит сиротливо на темном фасаде большого дома и никого не веселит своим видом. Так же уныло и в доме. В узком подъезде горит под потолком десятисвечовая лампочка, а в полутемном общем коридоре, холодном и пропахшем всякими запахами, торжествующе светится только одно окно, закрытое полосатой занавеской. Это квартира унтер-офицерши Клабановой, единственной обладательницы электросчетчика. За кухнями, из окон, выходящих на запад, еще видна тоненькая полоска блеклого неба, в комнатах уже не светло, по еще и не темно; лампу зажигать не стоит, потому что керосин дорожает с каждым днем.
Анна с тревогой ждала родов. Конечно, роды — это самое обычное дело, все рабочие жены в этом доме рожали детей, делали аборты, хоронили новорожденных. Детские гробики — обыденное явление на Есениовой улице. Но как ни вспоминала Анна обо всем этом, все равно дома одной жутко и тоскливо. В этом, конечно, нельзя никому сознаваться, — Анна знает, что соседки стали бы смеяться над ней, а Чинчварова сказала бы: «Ишь какая чувствительная графиня! Не хочешь ли ты уже сейчас завалиться в постель? Я родила семерых живых и двух мертвых и всегда на другой день уже стояла у плиты или у корыта».
Анне было очень тоскливо без Тоника в такие сумрачные вечера. На этой неделе в литейном цехе готовили модель станины для большого токарного станка, Тоник работал сверхурочно и возвращался поздно. Но почему-то сегодня догорающий осенний день особенно гнетуще подействовал на Анну. Сердце ее сжалось, как сжимается перед бурей сердце птички, прижавшейся к стволу большого дерева.
Она не могла усидеть дома. Набросив на голову платок, она пошла встретить мужа и долго прохаживалась у решетчатых ворот завода, боясь отойти далеко, чтобы не разминуться с Тоником. Уже совсем стемнело. При свете, падавшем из окон цехов, был виден только посыпанный песком двор завода. Наконец, Анна увидела Тоника. В группе других рабочих он вышел из литейного цеха и торопливо прошел в проходную, к контрольным часам. Оттуда он увидел Анну, которая стояла, держась за железные прутья ограды. Тоник издалека улыбнулся ей.
Сторож открыл ворота. Тоник сжал руки Анны. Ее голубые глаза сказали ему: «Мне скучно без тебя и очень страшно, Тоничек». Его твердый взгляд ответил: «Я тоже беспокоюсь о тебе, Анна. Но мы сделаем все возможное, чтобы роды прошли благополучно. Не бойся!» Все это было сказано глазами, а губы не произнесли ни слова. Плечом к плечу Тоник и Анна пошли по улице.
— Я провожу тебя до дому, Анна, — сказал он. — А потом поеду в Коширже. Яндак выступает там на митинге, мне надо поговорить с ним. Но я не останусь до конца и скоро вернусь.
— Приходи скорей! — сказала Анна, прильнув к нему.
Дойдя до первого углового фонаря, он увидел в тени фонарного столба Ярду Яндака, шедшего какой-то нетвердой походкой. «Легок черт на помине… или хотя бы чертенок», — хотел пошутить Тоник, но не пошутил, заметив, что студент понурил голову и лицо у него расстроенное. Тоник и Анна остановились. «Что случилось с Яроушком?» — подумала Анна.
Увидев своих друзей, студент не удивился и даже не поздоровался. При свете фонаря его лицо казалось еще бледнее.
— Я был у вас, — сказал он. — Чинчварова сказала мне, что ты на сверхурочной…
«Правильно. Но почему он как-то странно говорит все это?» — подумали Тоник и Анна, вопрошающе глядя на Ярду.
— У меня к тебе просьба, товарищ Кроусская. Разреши мне переночевать у вас несколько дней.
— Ну конечно, — ответил Тоник.
— Приходите, Яроуш! — добавила Анна.
Но это еще не было объяснение. Оба они ждали, что скажет дальше Яндак-младший.
— Я больше не вернусь домой. Перееду к дяде. Он, правда, тоже буржуй, но у меня больше никого нет. Его сейчас нет в городе, он вернется дня через три…
Кроусским оставалось только удивляться и ждать какой-то недоброй вести.
Брови юноши дрогнули, в глазах мелькнуло отчаяние.
— Отец изменил нам! — воскликнул он.
Это было как взрыв бомбы. Тоник тоже побледнел, ему вдруг вспомнились лакированные туфли жены Яндака. Он воинственно выпрямился и чуть наклонился вперед, сжав кулаки. В его глазах сверкнула ненависть. Так они несколько секунд стояли друг против друга. Ярде хотелось только одного: упасть кому-нибудь на грудь и заплакать. Рядом стояла Анна, сочувственно глядя на него.
— Пойдем, рассказывай! — твердо сказал Тоник.
Они пошли. Рассказ Ярды был недолог. Отец вдруг переменил ориентацию. Он за сохранение прежней политической линии социал-демократов и против создания новой партии. Он считает, что надо выждать. Сейчас всякое революционное выступление было бы обречено на неудачу. Отец ссылается на примеры Финляндии и Венгрии и утверждает, что революционная волна в Германии идет на убыль, а против России готовится вооруженная интервенция всех стран. Рабочее государство неминуемо будет разгромлено…
— Что-то странное случилось сегодня с отцом, — заключил Ярда.
— Ты ему доверяешь?
— Нет, — был тихий ответ.
— Может быть, у него есть какие-нибудь сведения, которых нет у нас?
— Нет.
— С кем он сегодня виделся?
— Насколько мне известно, ни с кем. С утра он работал дома, потом поехал на процесс..
Тоник даже не спросил о приговоре, хотя еще не знал о нем.
— Знает еще кто-нибудь об измене твоего отца?
— Нет, ты первый.
Тоник быстро зашагал к ближайшей телефонной будке. Бросая кроны в автомат, он стал искать по телефону партийных руководителей и, наконец, дозвонился до секретаря районной организации.
— Депутат Яндак изменил нам! — взволнованно сообщил ему Тоник и передал свой разговор с Ярдой. — Собака Яндак! — воскликнул он в заключение, вспомнив, как он в Народном доме извинялся перед депутатом. Трубка молчала. — Ты слушаешь? — беспокойно крикнул Тоник.
— Сволочь он! — раздалось в ответ.
— Сегодня в Коширже митинг, — продолжал Тоник. — Наверное, он уже там начнет свои выпады. Надо немедленно ехать в Коширже и разоблачить изменника.
— Я поеду, — сказал секретарь, потом, помолчав, добавил словно в раздумье: — Подлец!.. Вот что, — продолжал он, — На сегодняшний вечер у нас были другие планы, но придется перестроиться, это дело важнее всего. Ты единственный свидетель против Яндака, тебе тоже придется ехать в Коширже. Революционный долг, разумеется, требует, чтобы сам Ярда разоблачил изменника перед лицом рабочих, но на такую стойкость с его стороны я не рассчитываю. Яндака нужно политически уничтожить!
— Ладно, я поеду, — сказал Тоник, вешая трубку.
Анна и Ярда ждали его около телефонной будки.
— Я еду в Коширже, Анна. Когда вернусь, не знаю, но, наверное, поздно, — сказал он. — Честь труду!
Он быстро пожал ей руку и лишь мельком взглянул на нее, потом обратился к студенту:
— Иди с Анной, она устроит тебя на ночлег. Но у нее каждую минуту могут начаться роды. Если это случится, разбуди соседку Чинчварову и сходи за акушеркой.
Он побежал вдогонку за трамваем и вскочил на ходу. Мелькнула мысль об Анне и Керекеше. «Все это сейчас не самое важное, под угрозой находится рабочее дело. Надо разоблачить изменника!»
И Тоник поехал разоблачать Яндака, а Анна и Яроуш пошли домой.
Анна и Яроуш сидели в комнатке. Подаренная Маней керосиновая лампа с бумажным абажуром бросала желтый круг на стол, покрытый дешевой скатертью. Лица Анны и ее гостя оставались в полутьме. Анна чинила белье. Оба молчали. Иногда Анна сочувственно поглядывала на юношу, а он поднимал глаза и безмолвно благодарил ее за ласковый взгляд, в котором сейчас так нуждался. Он видел голубые глаза Анны, ее лицо, которому близкое материнство придало особую прелесть. Вот их взгляды ненадолго встретились, и Анна, чуть смутившись, сказала мягко:
— А что случилось, Яроуш?
— Страшная вещь, товарищ Анна.
И вот они сидят, словно под стеклянным колпаком. Дом полон движения и шума, но здесь царят безмолвие и неподвижность. На лестнице и в подъезде непрерывно раздаются шаги, открываются и захлопываются двери, в коридоре журчит водопровод. В квартире Кучеры Славка шлепает ревущего четырехлетнего Франтика, рядом унтер-офицерша укачивает своих близнецов, напевая им модное танго:
Милый жиголо{153}, грустный жиголо, вспоминай свою юность, Юность знатную и богатую, невозвратную юность!Тоник всегда посмеивался над этой песенкой русских белоэмигрантов. Но сейчас в комнате Анны не смеется никто. Гнусавое танго унтер-офицерши и все другие звуки не проникают на островок под стеклянным колпаком, они разбиваются об этот колпак, скользят по нему и падают вниз. Синие глаза Анны подобны большим сапфирам, и вокруг ее белокурой головы — ореол от света лампы. Ее руки слегка шевелятся, кончики пальцев ласкают иглу. А в это время где-то в Коширже политически казнят отца Яроуша…
— Что вы теперь будете делать, Яроуш?
— Не знаю, товарищ Анна.
Кто-то медленно и с трудом поднимается по лестнице, словно неся тяжелое бремя. «Брось игрушки и учись, бездельник!» — кричит рядом жена Чинчвары. «Тоник — хороший коммунист, — думает Ярда. — Он сильный, он сокрушит моего отца, он хорошо выполнит свой долг перед партией, это несомненно. Тоник и Анна — цельные натуры, им все ясно, и они никогда не колеблются. Им чужда трагичность, она чужда вообще всем партийным товарищам, только он, Ярда, колеблется, он надломлен и подавлен. Никто его не поймет и никто ему не поможет. Он чужой здесь. Рабочие принимают его у себя, советуются с ним, верят ему, но они никогда не считали его своим. Анна, которую он втайне любит, жалеет его, смотрит на него так ласково, как не посмотрела бы никакая любовница, но Анна никогда не сказала ему «ты», как запросто говорят друг другу партийные товарищи. Да, это самое страшное: те, кого он любит, делу которых он посвятил свою жизнь, кому он выдал сегодня на казнь своего отца, не принимают его в свою семью. Он чужой им…»
В коридоре кто-то идет к водопроводу, слышен плеск воды, льющейся в большое жестяное ведро. У Клабанов открылась дверь. «Божена!» — сердито кричит в коридоре Чинчварова. «…Божена? Ах, это та рыжая девочка, у которой была история со столярами во дворе…» Звуки разбиваются о стеклянный колпак, покрывающий комнату Анны.
Ярда встает, подходит к полке с книгами Тоника, берет «Государство и революцию» Ленина, садится и пытается читать.
— Когда захотите спать, скажите мне, Яроуш. Я буду ждать Тоника, — говорит Анна.
Студент кивает. Он пробует читать, но это ему не удается. Однако спокойно сидеть с книгой и делать вид, что читаешь, все-таки менее мучительно, чем выдавливать из себя надуманные фразы. Но если притворяешься, что читаешь, надо время от времени переворачивать страницы, а это делает притворство унизительным. «Зачем, собственно, я здесь, — думает Ярда. — Легче ли мне оттого, что рядом сидит Анна, оттого, что я смотрю на ее розовые пальцы, в которых мелькает игла? Иногда эта игла вдруг блеснет так, словно в ней жар Анниного сердца. Да, мне легче, когда я вижу ее».
В комнату входит Тоник, — он вернулся много раньше, чем они ожидали.
— Тоник! — восклицает Анна, зардевшись от радости.
У Ярды замирает сердце, и он не сводит глаз с лица товарища.
— Честь труду! — говорит Тоник.
— Честь труду! — тихо отзывается Ярда, и в его глазах отчаянный вопрос.
— Он не пришел, — говорит Тоник.
— Не пришел! — Ярда весь под впечатлением этих слов. Сердце у него колотится, но уже не так, как минуту назад. Он взволнован, но чувствует облегчение: казнь отца отсрочена на несколько часов.
— Дашь мне поужинать, Анна? — спрашивает Тоник.
— Там есть кофе.
— А хлеба нет?
Анна жалобно смотрит на мужа. Нет, хлеба нету. Рано утром, еще до ухода Тоника на работу, к ним заходил безработный товарищ Стрнад, и Тоник отдал ему последнюю четверть каравая и кусок шпика. Денег тоже нет. Вчера вечером Тоник взял у Анны последнюю десятку, потому что был сбор средств на левую газету. То, что у него осталось от этих денег, он сегодня вечером истратил на телефон-автомат. Получка только завтра. Кофе тоже осталось немного, большую кружку Анна дала Ярде. Ему очень не хотелось пить этот скверный кофе, о еде он не мог и думать, но не рискнул обидеть Анну.
Тоник сел пить кофе.
— Что было на митинге? — робко осведомился Ярда.
— Шмераль выступал с докладом о политической обстановке. Борьба обостряется.
— Ты говорил с ним, знает он уже об отце?
Тоник кивнул.
— Что он сказал?
— Ничего особенного. Расспросил обо всем и пожал плечами. Тебе привет.
Они стали ложиться спать. Тоник с Анной — на кровати, Ярда — на тюфяке на полу.
Этой ночью родился молодой пролетарий, которому суждено стать не бойцом, как его отец, а строителем будущего.
Ярда уснул на рассвете, но вскоре его разбудил шум и свет лампы. Тоник быстро одевался, Анна лежала на кровати, ее голубые глаза были устремлены в потолок, губы закушены. Она тяжело дышала и тихо стонала.
— Побудь с ней минутку, — сказал Тоник студенту и торопливо ушел.
Ярда поспешно оделся и босиком, на цыпочках подошел к кровати, двигаясь тихо, потому что каждый неосторожный шаг был бы сейчас святотатством. Он стал в ногах постели. У Анны начались схватки. Глаза ее были закрыты, губы закушены. Она вцепилась пальцами в складки одеяла и с трудом сдерживала стоны.
Чувствует ли Анна, что он здесь, около нее? Хорошо, если нет. И что ему делать? Нельзя же бездеятельно смотреть в ее страдающее, лицо, переживать ее боль и мучения, оставаясь беспомощным и подавленным, и ничем не помочь ей, Анне!.. «Ах, все это фальшь и пустые слова, — твердит себе студент. — Разве ее боль — это моя боль? Кому нужно мое сострадание? Что делал бы Тоник на моем месте?» Ярда пытается представить себе это. Да, правда, они совсем разные люди.
Анна, не открывая глаз, жалобно просит:
— Яроушек, уйдите, пожалуйста, мне стыдно.
Ярда густо краснеет и уходит на кухню. Там он стоит в темном углу у плиты и думает: «Зачем я здесь? На что я годен и кому нужен?» Его охватывает острое желание упасть в чьи-нибудь объятья, склонить голову на чье-нибудь плечо. Но на свете нет такого близкого ему человека. Сжав голову руками, Ярда прижимается лбом к кафельным плиткам. Из комнаты доносятся громкие стоны Анны.
Возвращается Тоник с акушеркой. В квартире начинается возня. Тоник зажигает в кухне свечку, растапливает печь, приносит из коридора в ведрах воду, ставит ее на плиту, моет корыто. Все это он делает быстро и ловко, не произнося ни слова. Его длинная тень колеблется на стенах и потолке. На Анну он почти не смотрит. «Вот какова она, простая, настоящая любовь», — мелькает у студента Ярды.
Акушерка делает свое дело. Разбуженная шумом, прибежала Чинчварова в нижней юбке, прикрыв плечи цветастым платком.
— Ничего, ничего, матушка, — говорит она, подойдя к Анне. — Этого не миновать, все мы это испытали. Только не хнычь! Перину уберите прочь! А если уж очень больно, покричи как следует, это помогает… Позвольте-ка, тетка… Ого, какая роскошь — свивальнички! У меня бывала просто холстинка.
Стоны роженицы все усиливались, переходя в крики.
— Так, так, — приговаривала Чинчварова. — Не жалей голоса. Пусть-ка там, за стеной, Клабаниха уймет свои нервы. Может спеть себе свое любимое танго «Жиголо».
«Вот, — терзался Яроуш, — насколько даже это грубоватое дружелюбие полезнее, чем вся моя никчемная любовь!»
Тоник продолжал хлопотать. Он варил кофе для акушерки, ибо ей полагалось дать кофе. Тоник всегда знал, что и в каком порядке нужно делать.
— Тоничек! — раздался из комнаты испуганный крик Анны. Тоник пошел туда. Ярда остался в кухне. Он стоял там в углу, босой и полуодетый, никому не нужный, чужой, лишний. Чинчварова заметила его, проходя через кухню.
— А вы тут зачем, молодой человек? — спросила она, смерив его взглядом. — Уходите-ка отсюда, вам тут сейчас не место. Идите куда-нибудь в кафе.
Ярда проскользнул в комнату за своими вещами. Там, словно в тумане, он увидел Анну, обнаженную, с широко раскрытыми глазами, любимую Анну, охваченную страшной, стихийной болью. Ее белокурые волосы разметались вокруг головы. У постели стоял Тоник, Анна вцепилась в его руку. На этот раз она не заметила студента.
Отчаяние овладело юношей.
Крадучись, выбрался он из комнаты с охапкой своей одежды в руках. Никто не обратил на него внимания. Ярда одевался на темной площадке лестницы, одевался долго, прижимаясь лбом к холодной стене и замирая в такой позе.
Когда привратница выпустила его на улицу, уже светало. Ярда решил ждать около дома, пока выйдет кто-нибудь из жильцов второго этажа и можно будет разузнать о бедняжке Анне.
ДЕКАБРЬ
Над крышами заводов Кольбена высится вагранка. По ночам она сияет алым заревом, а иногда извергает к небу языки огня, привлекая внимание прохожих. Эта вагранка представляет собой громадный металлический цилиндр, основание которого находится внизу, в чугунолитейном цехе, где работает Тоник.
Наверху, у жерла вагранки, на узких железных мостках, работают старый Литохлеб и Эда Ворел — плечистый кудрявый парень. Рукава у Эды засучены, рубаха на груди распахнута; он вечно измазан угольной и ржавой железной пылью. Подъемник подает сюда со двора вагонетки с железным ломом, собранным во всех концах города — на складах, на свалках и задних дворах. Чего только тут нет — лопнувшие котлы и сломанные ключи без бородок, отслужившие свое вагонные колеса, старые обручи и радиаторы и даже шрапнельные стаканы и снаряды крупного калибра. Восемь часов в день Эда Ворел работает лопатой, бросая весь этот лом в жерло печи, чередуя металл со слоями кокса и извести. И вагранка ненасытно пожирает металл, топливо и белую известь и лихорадочно переваривает их при температуре в тысяча двести градусов Цельсия.
Внизу, в литейном цехе, бурый мощный ствол вагранки похож на дерево с ободранной корой. В гладкой поверхности этого ствола прорублено окошечко, не больше чем в дверях тюремной камеры. Металлическую ставенку этого окошечка можно в любой момент откинуть и через слюдяную пластину заглянуть в нутро вагранки, простое, как желудок червя, превращающий пищу в кровь. Сквозь кокс и известь, похожие на белый лед с розовым оттенком, падают красноватые капли, сливаясь в темные струйки. Металл, который еще час назад был железным ломом, сейчас превратился в кровь вагранки, а еще через час станет деталью машины. Кровь вагранки, как и кровь рабочих литейщиков, принадлежит капиталу, ибо ни людей, ни печи здесь не кормят даром. Кровь вагранки будет выпущена через отверстие величиной с ладонь, — сейчас оно замазано глиной, и его не видно.
Четыре часа дня. Приходит литейный мастер с длинным стальным шестом и подкалывает им печь, словно скотину на бойне. Из брюха вагранки брызжет густая бело-розовая огненная кровь и течет по желобу, озаряя белым отблеском цех и лица людей. У желоба становятся рабочие, как всегда попарно, держа в руках ковши на длинных рукоятях. Они наполняют эти ковши огненной кровью вагранки и быстро переливают ее в литейные формы. В цехе вдруг словно расцветают десятки алых цветов. Воздух становится горячим, наполняется едким, кисловатым запахом. Если песчаные формы плохо просушены, литье брызгает чуть не до потолка и оттуда горячими дробинками падает на головы и за воротник литейщикам…
Вот и конец рабочего дня. Эда Ворел стирает рукавом с лица смесь пота и угольной пыли и закуривает сигарету, а старый Литохлеб садится на кучу железа и, опершись на рукоять лопаты, тупо смотрит перед собой.
Наверху работает Эда, внизу Тоник. В большом продолговатом цехе повсюду кучи песка и железа. Серый песок, черное железо, запах металла и сырой земли. Формовщики возятся в песке, строят в нем сложные постройки. Сюда потечет металл и станет деталями машин. Но душа этой работы — люди. Машины оживают потому, что рабочие своим трудом передают им свой разум, восприимчивость своих нервов, силу своих мышц, отдают им теплоту своей крови и с нею часть жизни. Когда остов турбогенератора, форму для которого готовит Тоник, станет машиной, где бы он ни работал, его будет двигать и сила Тоника. И машины, которые приведет в действие энергия этого генератора, будь это ткацкие станы или прядильные машины, механические кузнечные молоты или токарные станки, тоже будут биться в такт с сердцем Тоника.
Сто товарищей работают вместе с Тоником в чугунолитейном цехе. Труд и борьба с огнем и металлом придали их лицам выражение упорства, сделали черными их руки.
В десяти метрах над головой Тоника ездит на кране его друг и партийный товарищ Петр Ма́лина. Он — мозг этого подъемного механизма. Петр сидит в железной клетке и ведет кран, который с дребезжаньем и грохотом катится на роликах по железным полозьям. С крана спускаются цепи с мощными крюками, они подхватывают чугунные плиты, детали машин или сушильные печи, и эти предметы, грозно покачиваясь в воздухе, переносятся в другой конец цеха. А когда идет отливка особенно крупной детали, кран подъезжает к самой вагранке, подхватывает громадный чан с расплавленным металлом, поднимает его и на высоте полуметра несет над кучами песка, опоками и чугунными плитами — к сложной песчаной форме. Эта процедура похожа на торжественное шествие. Под музыку цепей подъемного крана рабочие с серьезным выражением лиц провожают медленно плывущий в воздухе чан, баграми удерживая его в равновесии. В блеске литейных огней, среди великолепной иллюминации, какой не увидишь ни в одной церкви, процессия останавливается над формой будущей машины, литейщики наклоняют чан, расплавленный металл течет, шипя и сверкая, и яркий красный отблеск озаряет лица и руки рабочих и контуры мостового крана…
Рабочий день окончен. Петр Ма́лина вытирает нос черными пальцами и, высунувшись из своей клетки, ищет глазами Тоника.
Рядом с чугунолитейным цехом — цех белого литья. Днем и ночью там в мартенах кипит, как вода, железо. С другой стороны — сталелитейная; там литейные формы маленькие, как детские игрушки. На дворе находятся мельницы для песка, кузницы, столярки, экспедиции, угольные и железные склады, конторы. В этом городке, где повсюду кругом лишь заводские корпуса и трубы, неустанно работают рабочие руки. Две тысячи девятьсот сорок рук, тысяча четыреста семьдесят рабочих обоего пола. Тысяча четыреста семьдесят современных промышленных пролетариев!
Это уже не те пролетаризирующиеся кустари — поколение наших дедов, — незадачливые конкуренты крупных промышленных предприятий, разоренные этой конкуренцией, что пришли, наконец, наниматься на завод, не забыв еще о золотых днях своего ремесла и мечтая отомстить своему врагу — машине, уничтожить его. Это уже не беззащитные рабы тринадцатичасового рабочего дня — поколение наших отцов, — рожденные под грохот машин на тюках джута и кучах мешков, отупевшие, вечно голодные люди, которых сваливала с ног первая же рюмка в день получки; уже прошло то время, когда из этой порабощенной массы только еще начинали выдвигаться будущие бойцы, мученики и герои. Рабочие организации, созданные в трактирах предместий, прошедшие преследования и тюрьмы, пробудили самосознание пролетарских масс. Классовое самосознание пролетариата стало величайшим откровением нового века, оно завоевало не меньшее влияние, чем религия и патриотизм, и даже восторжествовало над ними. Оно вдохновило массы, раскрыло перед ними новый смысл любви и борьбы. Любви, которая не боится смерти; борьбы, которая ведет к победе. Классовое самосознание давно уже вошло в плоть и кровь Антонина Кроусского и его товарищей. Они поняли, что они, рабочие, — творцы и хозяева всех вещей на свете, и созданное их руками должно принадлежать им. В них уже нет ненависти к машинам и к заводу. Понятие «наниматель» утратило для них свою конкретность, ибо теперь фабриканты не выезжают, как когда-то, по праздникам в экипажах из фабричных ворот, а рабочие не возглашают здравицу под окнами их особняков в благодарность за пожалованную бочку пива и ведро сосисок. Вельможный фабрикант обезличился в пакетах акций; эти акции стали содержимым ящиков письменного стола в буржуазной квартире. Они превратились в туалеты жен и семейные особнячки, поэтому рабочему кажутся эксплуататорами все, кто живет богато. Класс стал против класса. Бойцы с обеих сторон уже побывали в перестрелках и позиционных боях, они знали численность и силы друг друга, методы борьбы и понимали, что ни миру, ни соглашению не бывать. Смерть или победа!
Был канун великого боя на Западе. На Востоке, в России, битва была уже выиграна. Воинов обеих армий охватило возбуждение, которое обычно бывает перед битвой. В этой битве «Кольбенка», завод, где работал Тоник, стал одной из передовых позиций. И Эда Ворел, работавший наверху, у жерла вагранки, и Антонин Кроусский внизу, и Петр Ма́лина на подъемном кране были бойцами авангардного отряда.
Девятого декабря 1920 года, в четвертом часу дня, когда в песчаные формы тек алый, искрящийся, пылающий металл, на передовой позиции «Кольбенки» началась боевая тревога: из соседнего цеха прибежал кочегар Не́дела.
— Кроусский, Народный дом заняла полиция!
Тоник выпрямился, сердце у него встрепенулось, пальцы сжались, словно нащупывая ствол ружья.
— Какие подробности?
— Никаких. Наш завод должен идти на помощь.
Тоник побежал по цеху, перепрыгивая через разные инструменты и горячие куски металла, и поднялся по винтовой лестнице к жерлу вагранки.
— Эда, полиция заняла Народный дом. Мы идем на помощь. Собирай людей на дворах, я пойду по цехам.
Быстро спустившись вниз, Тоник подбежал к крану.
— Петр, Петр! — закричал он, подняв голову.
Петр высунулся из кабины, приложив руку к уху. Тоник влез на форму и крикнул, заглушая шум:
— Бросай работу, бросай работу! Товарищи, полиция заняла Народный дом. Не расходитесь, мы пойдем туда!
Со всех сторон сбегались рабочие. Даже безразличные прекращали работу, чтобы услышать, что случилось.
От вагранки бежал мастер, лицо его побагровело, он кричал Тонику:
— С ума сошел. Сейчас бросать работу!
Наверху, под потолком, Петр Ма́лина остановил кран, и в цехе вдруг стало тихо.
— Эй, Тоник, мы идем туда на выручку?
— Да!
Петр Ма́лина тоже выпрямился во весь рост на своем кране и закричал так, что слышно было даже в соседних цехах:
— Бросай работу! Полиция заняла Народный дом!
В цех вбежал инженер. Мастер махал руками и кричал на крановщика:
— Вы спятили, ребята!
Здоровенный черномазый литейщик протолкался к нему, сверкнув глазами, рявкнул:
— Не мешайтесь в наше дело! — И повернулся к товарищам: — Бросай работу!
Тоник соскочил с литейной формы и побежал в соседний цех. Оттуда он кинулся в сталелитейный:
— Бросай работу! Идем на выручку товарищей в Народный дом!
Тем временем Эда Ворел обегал дворы, песочные мельницы, склады и подсобные мастерские.
Рабочие на заводе Кольбена подняли тревогу не напрасно: девятого декабря полиция действительно заняла Народный дом. За осень события назрели. Восемьдесят процентов социал-демократов шло за коммунистами, и всем было ясно, что раскол партии неизбежен. В течение нескольких недель на страницах центральной партийной газеты «Право лиду» шла беспорядочная полемика, потом газета решительно заняла контрреволюционную позицию. Тогда рабочий актив перешел от слов к делу. Однажды в октябрьский вечер Шмераль собрал его в спортивном зале трактира «У Забранских». Рабочие пришли прямо с заводов, в спецовках, спокойные и серьезные, зная, что произойдет, и понимая, на что они решились. Собрание длилось недолго: доклад, не слишком шумные рукоплескания, несколько одобрительных выступлений. Выступал и Тоник, его «товарищи!» снова прозвучало, как удар молота по наковальне. Затем активисты пражских заводов вышли из рабочего трактира, и их ударный отряд зашагал по вечерним улицам к Народному дому.
Из полиции позвонили в редакцию Антонину Немцу: «К Народному дому приближается толпа человек в двести. Нужна ли вам охрана, господа?»
У старого Немца тревожно забилось сердце. Так вот до чего дошло! Он сам был когда-то рабочим, а теперь рабочие выступают против него.
— Спасибо, не нужно, — ответил он по телефону и, покраснев, с гордо поднятой головой, вместе с Иозефом Стивином покинул редакцию газеты, когда-то созданной его руками.
Сотрудники, оставшиеся в редакции, были коммунисты. Рабочие-активисты спокойно заняли Народный дом.
Поход рабочих по полутемным дворам Народного дома и наверх по лестнице не вызвал особого волнения в этом здании. В наборной, у ротации, в экспедиции, в конторе все шло обычным порядком, словно тех двоих, что ушли, здесь никогда и не было. Правда, формально здание Народного дома принадлежало главе партии, Антонину Немцу. Но разве не они, рабочие, экономили на ужинах и отказывали себе в папиросе, для того чтобы купить у своего уполномоченного отрывной листок из блокнота, на котором значилось: «Один кирпич на постройку Народного дома»? Разве в трудные для «Право лиду» дни рабочие не устраивали сборы средств, не шли агитировать по квартирам, не ходили по утрам, до работы, распространять свою газету? И вот теперь они снова вступили в свои права.
Два месяца они удерживали эти права, переименовав «Право лиду» в «Руде право»{154}. Два месяца шли переговоры между социал-демократическими депутатами и правительством о возвращении газеты ее «законному владельцу», и, наконец, стало ясно, что этого можно добиться только вооруженной силой. Но целесообразно ли социал-демократам применять оружие против рабочих? Безусловно нет! Это означало бы гибель партии. Где же выход? Выход нашелся: отставка социал-демократического правительства. Премьер-министр, социал-демократ Тусар, ушел в отставку, и его место занял старый австрийский бюрократ Черный, опытный в расправах с рабочими. И вот сегодня, девятого декабря, произошло то, о чем на заводе Кольбена узнали в конце рабочего дня: полиция заняла Народный дом.
Это было сделано с соблюдением всех формальностей. В половине четвертого в здание Народного дома явился чиновник пражского магистрата и вручил заведующему типографией казенную бумагу с печатью, в которой говорилось, что типография подлежит опечатанию. Этот официальный акт был проведен втихую, и время для него выбрали очень удачно: вечерний выпуск газеты уже вышел, а работа над утренним еще не начиналась; машины стояли, в помещениях было почти безлюдно. В этот час, когда спускаются сумерки и начинают освещаться витрины, на улицах было очень мало прохожих; люди, сидя в домашнем кругу, больше думали о приближающемся сочельнике, о рождественском пироге с изюмом и подарках детям, чем о революции. Бывшие рабочие лидеры хорошо знали уязвимые места крепости, которую атаковали чужими руками, хорошо знали ее гарнизон.
Скромное появление незаметного чиновника в Народном доме в это спокойное предвечернее время сопровождалось, однако, серьезной подготовкой всего государственного аппарата. Войска находились в боевой готовности. Полицейское управление с утра было начеку. Оно стянуло в Прагу всю окрестную полицию; телефонные разговоры с Народным домом контролировались. В тот час, когда незаметный чиновник вручал в типографии распоряжение об опечатании, премьер-министр Черный и его верный помощник Подградский, оба искушенные администраторы времен австрийского владычества, сидели в кабинете Черного и, куря сигары и стараясь сохранять невозмутимость, ждали телефонного звонка.
А на квартире юрисконсульта социал-демократической партии собрались ее вожди. Они были бледны и взволнованны. Впервые они решились пролить кровь рабочих. В глазах старого Антонина Немца, скрытых золотыми очками, было беспокойство. Он совсем не хотел, чтобы внутрипартийный конфликт привел к таким результатам, и сам не понимал, как он очутился здесь и чего ждет. Неужели адвокаты и министры завели его так далеко, что назад уже нет ходу?
— Нет, нет! — голосом, дрожащим от волнения и сдерживаемых слез, восклицал отставной министр Габрман. — Нельзя допустить, чтобы пролилась рабочая кровь. Позвони еще раз Черному и передай ему, что, если прольется хоть капля крови, я застрелю его собственной рукой.
Габрману вспомнились белые стены камеры, в которой он провел четыре года. С утра его тревожило смутное опасение: не были ли первопричиной происходящего все эти канцелярии рабочих министров, заново оборудованные американскими бюро и все-таки созданные по старому образцу?
— Он обещал мне, и я верю ему, что все обойдется относительно мирно, — ответил бывший премьер-министр. — Но вчерашнего дня уже не вернешь, дело ясное: у власти сейчас Черный.
Директор Народного дома, получив распоряжение об опечатании, позвонил в магистрат, но смог поговорить только со служителем, потому что служебные часы уже кончились. Тогда он позвонил в полицию. Но политические доводы не очень-то доходили до начальника полиции, а предостережений он вовсе не хотел понимать. Однако он согласился доложить премьер-министру. Через минуту в дирекции Народного дома зазвонил телефон: из министерства внутренних дел советовали уладить конфликт миром, по соглашению сторон. Министерство не хочет, чтобы это дело привело к обострению политической обстановки и стало достоянием гласности. Оно принимает к сведению, что в шесть часов в Народном доме состоится собрание заводских уполномоченных, на котором этот вопрос будет разрешен.
— А впустит полиция участников этого собрания в Народный дом? — спросил директор дома после долгой паузы на другом конце провода.
— Господина премьер-министра сейчас здесь нет, — был ответ. — Но я доложу ему. Если соберутся действительно только уполномоченные, то их, наверное, впустят. Вероятно…
Говоривший был начальник департамента Подградский. Рядом, скрестив ноги, сидел в кожаном кресле сам премьер-министр Черный, держа в руке параллельную трубку. На вопросительные взгляды Подградского он коротко кивал головой.
Пока шли эта бесплодные переговоры, триста полицейских заняли Народный дом. Они оцепили дворы и плотным кордоном замкнули оба подъезда. Рабочая крепость, захваченная в самый неожиданный момент, была отрезана от города и прочно заперта. Никого не впускали и не выпускали. Только телефоны еще действовали. Несколько рабочих-активистов, случайно оказавшихся в здании, обзванивали заводы: «Полиция заняла Народный дом, сообщите всем, кому можете! Известите товарищей на заводах Кольбена и Данека, на чешско-моравском машиностроительном, на заводе боеприпасов и у Рингоффера. В шесть часов вечера в садовом павильоне Народного дома созывается собрание заводских уполномоченных всей Праги. Сообщите об этом всем!»
Полиция, следившая на телефонной станции за переговорами из Народного дома, услышав эти призывы, выключила телефонную связь, и Народный дом оказался полностью изолированным. В этот декабрьский вечер он стал изгоем среди всех домов, отличный от них, поставленный вне закона.
На улице начали собираться кучки любопытных. Люди, выходившие из вокзала напротив, останавливались поглядеть, почему ворота Народного дома охраняются полицейским кордоном, и столько полицейских на улице. Впрочем, буржуа наперед знали, в чем дело: уже несколько недель газеты пугали их большевистской опасностью.
— Проходите, не задерживайтесь, проходите! — покрикивали полицейские на прохожих.
Любопытные, чтобы не ссориться с полицией, послушно проходили шагов сто и… возвращались. Толпа в несколько тысяч человек циркулировала, таким образом, по Гибернской и прилегавшей к ней Гавличковой улице. Через эту толпу медленно, непрерывно звоня, двигались трамваи. На улицах стало так тесно, что люди уже не могли слушаться полицейских, и полиция была не в силах сделать что-нибудь.
После пяти часов сюда пришла первая организованная группа рабочих завода боеприпасов, человек сто пятьдесят. Они четко промаршировали по улице, и толпа расступалась перед ними охотнее, чем перед трамваями. Шеренги рабочих, подойдя к воротам и очутившись лицом к лицу с полицейскими, остановились и чуть дрогнули. «Назад! — кричал из полутемного проезда полицейский офицер, укрывшись за четырьмя рядами вооруженных людей. — Назад, или я дам приказ применить оружие!» В ответ взметнулась буря негодования. Полицейские крепче ухватились за руки, образовав цепь в четыре ряда. С обеих сторон раздавались крики. Уполномоченный рабочих завода боеприпасов кричал полицейскому офицеру, что на шесть часов в Народном доме назначено собрание, на которое его, уполномоченного, надо пустить. Рабочие, вплотную подойдя к кордону, возмущенно доказывали полицейским, что те тоже пролетарии и что служба в полиции — не гарантия от нужды для них и их семей. Побледневшие полицейские, сохраняя ледяное выражение лиц, лихорадочно сжимали друг другу руки. В непрекращавшемся шуме слышались возгласы: «Вперед! Айда!» Мощный короткий толчок сзади, и вот рабочие и полицейские столкнулись. Защищая руками лица, рабочие с криками «ура» устремились вперед, сломив первую линию полицейского кордона. Подталкиваемый сзади, передовой отряд рабочих ворвался в ворота, узкий проезд гудел от топота бегущих. Толпа влилась во двор Народного дома, увлекая за собой всех, кто хотел идти с ней.
Ура, ура!
Группы рабочих, стоявшие среди любопытных на улице, торжествующими возгласами приветствовали успех своих товарищей. Обыватели глядели на них с любопытством, смешанным с ненавистью. Прорванный кордон снова сомкнулся и преградил доступ во двор. Лица у полицейских стали серые. Со всех сторон слышались насмешки над ними.
В большом торговом доме фирмы готового платья «Зигмунд Странский» с грохотом опустили железные шторы на ярко освещенных витринах. На улице стало темнее.
Вскоре рабочим с завода Данека тоже удалось прорваться в Народный дом. Потом подошло сто пятьдесят человек с завода Кольбена. По дороге они соединились со второй колонной рабочих завода боеприпасов.
Впереди шли Тоник, Петр Ма́лина и Эда Ворел. Издали было слышно, как подходила эта колонна. Двести мужских голосов пели «Красное знамя», и от этой песни и от топота ног дребезжали стекла в окнах нижних этажей. «Долой тиранов, прочь оковы!» — гремело на улице.
Но день настанет неизбежный, Неумолимо грозный суд!Песня летела к вечернему небу, колонна приближалась, и толпа зевак около Народного дома с боязливым уважением молча расступалась перед этой организованной силой. Двести металлистов, чьи руки были черны от работы, а глаза горели решимостью, рассекли толпу так легко, как нож разрезает хлеб. Полицейский офицер в воротах снова закричал что-то.
Из толпы зевак, помогая себе локтями, выбрался студент Ярда Яндак и устремился навстречу рабочей колонне. Глаза его сверкали. Он подбежал к Тонику.
— Пробьемся во двор! — воскликнул он, шагая рядом. — Возьмите меня с собой.
— Пойдем, — спокойно ответил Тоник, не замедляя шага, и продолжал петь.
— Мы двое пойдем впереди, Тоник! — сказал Ярда дрогнувшим от волнения голосом. — Мы должны прорваться! Надо предупредить товарищей там, внутри, что полицейские засели в кино на Гавличковой улице. Как только кончится сеанс, они через задние ворота проникнут в Народный дом.
Колонна была уже шагах в двадцати от полицейского кордона… Ярда Яндак вырвался на два шага вперед, поднял правую руку, крикнул: «Ура-а-а!» — и побежал прямо на полицейских. Четыреста ног сделали пятнадцать прыжков, пение сменилось криками «ура-а-а-а!», и металлисты, почти не встретив сопротивления, прорвали поколебавшийся кордон и стремительно, словно жидкость из бочки с выбитой пробкой, хлынули по тесному проезду в полутемный двор Народного дома. Никто уже не обращал внимания на прижатых к стене, уносимых человеческим потоком полицейских.
Со двора грянуло приветственное «ура» рабочих с заводов боеприпасов и Данека. Мощно зазвучала мелодия революционной песни «Красное знамя». Люди пели ее, преисполненные веры в свое дело. Только Яроуш Яндак пел рассеянно и вполголоса. Едва отзвучали последние слова, он воскликнул:
— На вас готовится нападение с Гавличковой улицы!
Рабочие начали строить баррикаду. Они притащили в сад ящики и ручные тележки, загородив ими старый, неиспользуемый теперь проход в кино. Кроме того, в воротах, в тылу у полицейских, были воздвигнуты баррикады из ящиков и рулонов бумаги. Таким образом, полицейские, преграждавшие улицу и теперь блокированные сзади, и те небольшие их группы, что стояли вдоль стен во дворе, были уже не страшны; понимая, что перевес сил на стороне рабочих, они держались мирно и даже посмеивались, глядя, как сооружались баррикады. Полицейский офицер на улице, увидев бессилие своих людей, послал агента в штатском платье просить по телефону подкрепления из города.
На балконе, выходившем во двор, появился рабочий и крикнул притихшей толпе:
— Товарищи уполномоченные с заводов! Немедленно идите в садовый павильон на совещание. Только уполномоченные, больше никто!
И говоривший снова исчез в доме.
Деревянный павильон со стеклянной стеной быстро наполнился людьми, и, как обычно по вечерам, бывшая графская оранжерея осветила сад подобно фонарю. Многие из рабочих, прорвавшихся во двор Народного дома, не были уполномоченными. Прижавшись лицом к стеклу, они наблюдали за тем, что делается внутри павильона. Они ждали решения и призыва.
На сцену вышел председатель совета уполномоченных Доминик Гавлин, рабочий химического завода. Он открыл собрание и вкратце рассказал о событиях дня. Потом слово взял директор Народного дома депутат Скалак. Едва он заговорил, как открылись двери и вошли несколько человек во главе с толстым лысым мужчиной. Тоник машинально обернулся в ту сторону и заметил среди них тощего очкастого человека, похожего на невзрачного конторщика. «Откуда я знаю его?» — мелькнуло у Тоника. И вдруг он вспомнил: это был шпик, который в разговоре с Плецитым так глупо напрашивался перевозить оружие из Гамбурга.
В этот момент кто-то крикнул из правого угла зала: «Шпики пришли!» Все глаза обратились на вошедших. «Эту плешивую сволочь я знаю!» — раздался чей-то возглас. Рабочие бросились к дверям. Шпики пытались удрать, но их схватили, надавали им хороших тумаков и выбросили за дверь. Этот короткий эпизод, который в другое время вызвал бы только смех, сейчас взволновал людей, и они не сразу успокоились.
Наконец, в зале стало тихо, и Скалак мог продолжать свою речь. Он не проговорил и пяти минут, как откуда-то со двора послышался крик. Люди вздрогнули и выпрямились. Все головы повернулись в ту сторону. В воротах, выходивших на Гибернскую улицу, полицейские прорвались через баррикаду и бежали во двор. Участники собрания вставали, шумно отодвигая стулья. Во дворе послышался короткий пронзительный свист — это было предупреждение. Тоник вскочил и кинулся к дверям. Звякнуло разбиваемое стекло, затрещали рамы, стеклянная стена павильона со звоном обрушилась внутрь. Это полицейские, рассыпавшись цепью, атаковали павильон со двора, ударами прикладов выбили тонкие оранжерейные рамы и ворвались в павильон. Другая группа полицейских проникла в зал через двери и начала избивать рабочих. Собрание пришло в ярость. Тоник прыгнул на полицейских, схватил за горло одного из них и, увернувшись от его штыка, швырнул противника на разбитую стеклянную стену. Полицейский застрял в сломанной раме, наполовину вывалившись в сад; ноги его остались торчать в зале. Кто-то ударил Тоника в бок, кто-то толкнул его. Тоник, схватив стул, снова бросился вперед и нанес удар. Стул разлетелся в щепы, ударившись о приклады и, кажется, о чью-то каску. В руках у Тоника остался кусок спинки, и он бил противников этим оружием.
Вокруг мелькали полицейские мундиры, появлялись и исчезали озверелые лица, разинутые рты, сверкали штыки. Тоник дрался как бешеный, не владея собой. Он слышал рев и смутно сознавал, что рядом с ним бьются товарищи. Прямо перед собой он на мгновение увидел занесенный приклад, а затем ощутил сильный удар в голову, зашатался и потерял сознание. Взмахнув рукой, он повалился на перевернутый стол. Люди перепрыгивали через него. В зале царила сумятица. Один поток людей устремился к узкому выходу, другой к проходу на сцену. Некоторые выскакивали в сад прямо сквозь рамы с выбитыми стеклами и ранили себе руки и лицо осколками. На полу лежали раненые, среди обломков мебели виднелись лужи крови. Двое товарищей, с трудом проталкиваясь, подобрали несколько раненых, которых могли растоптать, и перенесли их на сцену. Но на этот островок спасения набилось слишком много людей, дощатый настил не выдержал, и сцена провалилась. Полицейские, перепрыгивая через перевернутые стулья, набрасывались на людей и били их по головам. Все бежали кто куда мог, и узкий проход в ресторанчик был забит людьми.
Еще один отряд полиции орудовал во дворах Народного дома. А на Гибернской и Гавличковой улицах полицейские разгоняли толпу. Сыпались удары прикладов и резиновых дубинок, неслись вопли избиваемых и сбитых с ног женщин.
Тоник недолго оставался без сознания. Он очнулся на перевернутом столе, на коленях у него лежал стул. Первое, что он увидел, было неясное очертание электрической лампочки. Тоник никак не мог ясно разглядеть ее и только через минуту понял, почему: глаза его были залиты кровью. Опираясь о стол, он с трудом поднялся на ноги. Вокруг был полный разгром. Среди поваленных столов и стульев лежали раненые. Несколько человек перебегало с места на место. Тоник видел все это, как в тумане. Издалека, видимо с улицы, слышался глухой шум, очень странный в этой тишине. «Мы разбиты, — была первая мысль Тоника, — а кругом убитые товарищи…» Ему захотелось закрыть глаза, но более отчетливая мысль заставила его приподняться: «Что же теперь надо делать?»
Литейщик завода Кольбена Антонин Кроусский знал: никогда нельзя оставаться в бездействии, где бы ты ни был — на заводе, дома, в бою, даже если ты лежишь раненый. И эта мысль властно заставила Тоника подняться, хотя голова его нестерпимо болела. Он встал. Кто-то подхватил его под руки.
— Тоник! А я тебя ищу!
Это был Ярда Яндак. Лицо у него было в кровоподтеках. Он повел Тоника через сад и опустевшие дворы. Только у стен местами стояли полицейские.
— Какое вероломство! — повторял Ярда. — Какое подлое вероломство! Правительство само предложило уполномоченным рабочих собраться для переговоров, а когда они собрались, послало против них полицию! Чем это отличается от кровавой расправы маркиза Геро?{155}
Он отвел Тоника в наборный цех. Над залитым кровью умывальником кто-то перевязывал раненого. Трое других ждали своей очереди, один из них прижимал к глазу окровавленный платок. Перевязывал, очевидно, врач, потому что он уверенно делал свое дело. Один из наборщиков светил ему лампой на длинном шнуре.
Тоник стиснул зубы во время перевязки.
— У вас изрядно порваны покровы, — сказал врач Тонику, накладывая ему швы на голове. — Придется походить к доктору.
В наборную входили новые раненые.
От острой боли у Тоника прояснилось в голове.
— Есть тут кто-нибудь из Исполнительного комитета партии? — хмуро спросил он Ярду.
— Да, они там, в редакции. Как ты себя чувствуешь, Тоник?
— Хорошо, сам видишь. Что же будет завтра?
Ярда пожал плечами.
Они пошли на третий этаж, в редакцию. Когда они поднимались по лестнице, у Тоника разболелась ушибленная нога, но он не подал виду, боясь, что Ярда вздумает поддерживать его. Тоник злился на себя за то, что так оплошал в драке с полицейскими.
В коридоре они встретили Шмераля. Увидев повязку на голове Тоника, Шмераль остановился и сочувственно посмотрел на раненого.
— Что же будет завтра, товарищ Шмераль? — спросил Тоник.
— Ты товарищ Кроусский из Жижкова, не так ли? Что у тебя с головой?
— Э, ничего… Что будет завтра?
— Ярда, — сказал Шмераль студенту, взглянув в бледное лицо Тоника. — Немедленно уведи товарища Кроусского домой. Повязку пусть прикроет кепкой, чтобы его не арестовали при выходе.
— А что будет завтра? — повторил Тоник.
— Об этом ты не заботься, а иди ложись, — строго сказал Шмераль. — И не болтайся тут на лестнице. Слышал, что я сказал? Сейчас же иди домой! — Он говорил сурово, но в глазах его была отеческая нежность. И именно этот сочувственный взгляд обозлил Тоника. Кровь бросилась ему в лицо.
— Не говори глупостей! — крикнул он. — Что будет завтра? Я должен знать об этом, я уполномоченный рабочих Кольбена.
Это звучало так же, как если бы он сказал: «Я командир второй дивизии». И Шмераль уступил этому праву бойца.
— Сейчас я не могу дать тебе исчерпывающего ответа, — сказал он. — Всякий лозунг должен быть дан в свое время, ни на минуту раньше, ты знаешь это. Дело будет серьезное. Утром ты прочтешь этот лозунг в газете. Завтра мы все соберемся у парламента. А теперь иди домой, понял?
— Да.
Мимо стоявших у ворот полицейских Тоник и Ярда вышли на ночную улицу. Было холодно и сыро, над городом висело неприветливое, пасмурное небо. Около Народного дома было безлюдно, виднелись только полицейские патрули. Тоник и Ярда пешком пошли на Жижков, решив, что в трамвае повязка на голове Тоника может возбудить подозрения. Тоник молчал и хмурился, изо всех сил стараясь не хромать. У Ярды не выходили из головы кровавые слова: «Измена!» и «Отец предал».
Когда они подходили к дому на Есениовой улице, была уже половина двенадцатого ночи. В это же время в ворота Народного дома, будто в захваченную крепость, входили социал-демократические вожди. Полицейские расступились перед ними и, взяв под козырек, стояли, как почетный караул. Первым шел рослый Франтишек Соукуп, за ним старый Антонин Немец, потом Габрман, Стивин, Бинёвец, Коуделка{156}. Они шли через пустые и безмолвные дворы, по мостовой, орошенной кровью рабочих, шли немного смущенные новой обстановкой, немного взволнованные и гордые тем, как высоко они уже поднялись по общественной лестнице: они творят историю, несмотря на неизбежные при этом кровопролития. За вождями шла кучка редакционных сотрудников и профсоюзных работников, а с ними пятнадцать шпиков, среди них и те пятеро, недавно битые в садовом павильоне. Шпиков снова возглавляли плешивый толстяк и тщедушный человек в очках, похожий на конторщика.
Эти пятнадцать шпиков были здесь сейчас своего рода театральными статистами: на них в эту ночь была возложена роль возмущенных социал-демократических рабочих, и они ловко сыграли ее. Через четверть часа после вступления вождей в Народный дом они ворвались в редакцию и выгнали оттуда сотрудников «Руде право». Они с размаху толкнули об стену тщедушного престарелого поэта Антонина Мацека{157} и потащили Шмераля вниз по лестнице, разорвав на нем жилет и рубашку. Свирепей всех оказался очкастый человек, с которым Тоник когда-то познакомился в садовом павильоне.
К полуночи Народный дом снова был во власти своих «законных» владельцев.
Премьер-министр Черный и начальник департамента Подградский еще бодрствовали в кабинете министра внутренних дел. Они пили черный кофе и курили сигары. Получив по телефону сообщение о конечных результатах полицейского налета на Народный дом, премьер-министр позвонил президенту республики в его личные покои и коротко доложил ему обо всем. Потом он положил трубку и выпрямился.
— А что будет завтра? — произнес он, взглянув на Подградского.
— Наверно, будет жаркий денек, — отозвался тот.
— Нужно дать еще какие-нибудь распоряжения?
— По-моему, нет.
— Вы думаете, что завтра начнется всеобщая забастовка?
— Да.
Они велели служителю подать им шубы и спустились вниз к машине. Их «рабочий день» был тоже закончен.
Студент Ярда проводил товарища до дому и позвонил привратнику, прежде чем Тоник успел сделать это сам.
— Я доведу тебя до квартиры.
— Глупости! Ты же видишь, что со мной не случилось ничего страшного. Иди домой!
Они попрощались, и Тоник, придерживаясь за перила, поднялся по лестнице. В темной квартире он тихо разделся, чтобы не разбудить Анну. Но она почувствовала, что он здесь.
— Это ты, Тоник? — спросила она сквозь сон.
— Я. Спи!
— А почему у нас пахнет больницей?
— Ничего подобного. Я был в редакции. Спи, Анна, я тоже хочу спать.
Он лег на кушетку, но ему не спалось. Завтра, завтра, завтра! Завтра рабочие его завода пойдут к парламенту! Что будет завтра? Битва!
Тоник вспомнил указания Петроградского Совета в дни Октябрьской революции о том, что не следует собираться в таких укрепленных местах, которыми полиция или войска могут легко овладеть. «С каждым, кто будет призывать к этому, — поступать, как с провокатором или глупцом…»
Теперь, когда Тоник лег, боль в ноге при каждом движении усиливалась. «Против наступающих казаков ставьте лишь отдельных стрелков, которые, произведя несколько выстрелов, могут прятаться в домах, перелезать через заборы и появляться на других улицах. Не забывайте, что солдаты — наши братья, стреляйте только в офицеров; но казаков не щадить, на их руках слишком много рабочей крови!»
На кровати спокойно дышит спящая Анна, а около нее, в корзине для белья, спит их сын. Он будет уже не бойцом, как его отец, а строителем нового общества. Его назвали Владимиром, в честь великого вождя Владимира Ильича. Ленин работает в Кремле, на башне которого реет красный флаг. Туда обращены взоры всех пролетариев мира. «Вот и я рапортую Ленину о положении в Праге…»
У Тоника жар, не от этого ли у него такая путаница в голове? Возможно, возможно, ведь он еще ни разу в жизни не болел. Лицо у него горит, словно он стоит слишком близко к ковшу с расплавленным металлом. Тоник ворочается под одеялом. «Завтра», — думает он. В его памяти с необычайной отчетливостью встают сцены сегодняшнего дня. Вот Эда Ворел бежит по двору завода с криком: «Бросай работу!»… Вот рабочие шеренги маршируют к Народному дому, и их шаги гулко разносятся по вечерним улицам… В воротах за спиной полицейских товарищи строят баррикаду… Полицейские ударами прикладов сокрушают стеклянную стену павильона — ах, как резко звенит стекло! — и врываются в зал… «Дело будет серьезное, — говорит Шмераль. — Завтра ты прочтешь лозунг в газете». Завтра, завтра! «Городовых, если они не будут сопротивляться, только разоружать, но охранников уничтожать!» — призывал Петроградский Совет… Да, наверняка у Тоника жар. Голова у него кружится, во рту пересохло. Только бы не проспать из-за этого! Только бы не проспать! Какой был бы позор, если бы завод Кольбена вышел без Тоника!
Ночь пролетела.
— Тоник!
Испуганный голос прервал сумбурный сон Тоника. Он вздрогнул и открыл глаза. Было уже светло.
— Тоник!
Над ним стояла Анна, в глазах ее был страх…
— Что с тобой случилось, Тоник?!
В корзине заплакал ребенок.
— Который час?
— Еще рано, есть время. Расскажи, пожалуйста, что с тобой случилось!
Анна схватила его за руку.
— Э, ничего, вчера в Народном доме меня стукнул полицейский. Какой-то доктор сделал мне перевязку. Это пустяки, сама видишь. Будет бой, Анна, — говорил Тоник, быстро одеваясь. Рана на голове сильно болела.
— Какой бой, Тоник?
Ребенок плакал.
Тоник удивленно взглянул на Анну.
— Ты ничего не знаешь?
— Нет, Тоничек, — ответила она испуганно.
Тоник одевался, стиснув зубы. В нескольких фразах он рассказал о том, что произошло вчера.
— Будет бой, Анна! — воскликнул он, и глаза его вспыхнули.
Как ни странно, возбуждение Тоника не передалось Анне. В корзине плакал ребенок, плакал однообразно и упорно, как плачут голодные грудные младенцы, и Анна переводила испуганный взгляд с корзины на забинтованную голову мужа.
— Ты пойдешь к доктору, верно, Тоник? Я еще не готовила завтрак, ты не спеши, время есть. Вот сейчас накормлю ребенка и приготовлю.
Он снова с удивлением взглянул на нее.
— К доктору? — переспросил он.
Их недоуменные взгляды скрестились. «А может быть, ты останешься дома?» — тревожно спрашивали голубые глаза; а серостальные говорили: «То есть как?»
— Уж не собираешься ли ты на завод? — воскликнула Анна, начиная понимать, в чем дело.
— Конечно, собираюсь.
— Ты не пойдешь туда! — В ней проснулась энергия, и она подскочила к мужу. — Я тебя не пущу!
— Ты меня не поняла, Анна. Начинается бой. Начинается революция!
Она схватила его за обе руки и впилась глазами в его лицо.
— И ты… ты пойдешь на улицу?
— Конечно! — был спокойный ответ.
Анна подошла к двери и стала к ней спиной.
— Нет! — коротко сказала она.
В этом «нет» была решимость женщины, защищающей возлюбленного, страсть матери, оберегающей свое дитя. «Нет» Анны было так же твердо, как «да» и «нет» Тоника, как сталь завода Кольбена.
— Не дури, Анна, — сказал Тоник все еще сдержанно. — Не будь у тебя ребенка, твоим долгом тоже было бы идти со мной.
— Нет! — повторила она, тупо глядя в одну точку.
— С ума ты сошла! Ты что же, считаешь меня изменником? — От этого страшного слова глаза Тоника злобно сверкнули, голос стал резким. Он подошел к жене. — Пусти!
— Нет! — с отчаянием крикнула она, заглушив крик голодного младенца.
Тоник взял ее крепкой рукой за запястье, сжал и без труда оттолкнул от двери. Но Анна в припадке гнева сохранила женскую хитрость: за минуту до этого она, убрав руки за спину, незаметно вытащила из замка ключ и спрятала его под блузку.
— Где ключ? — крикнул Тоник, дергая дверь.
— Не знаю.
Тогда и он пришел в бешенство.
— Дай сюда ключ!
— Не дам!
Тоник схватил Анну за ворот и, смяв блузку, притянул жену к себе. Его глаза метали зеленые молнии. Никогда Анна не видела у него таких страшных глаз и с ужасом убедилась, что он смотрит на нее, как на чужую, как на классового врага. И он поступит с ней, как с классовым врагом! Он собьет ее с ног, швырнет на пол, разобьет ей голову о стену, ради своей цели не остановится ни перед чем. «Вот сейчас, сейчас он ударит меня», — думала Анна. Но зеленоватые молнии в глазах Тоника вдруг погасли.
— Не выводи меня из себя, Анна! Понимаешь ты, что такое изменник или изменница? Понимаешь ты, что такое контрреволюционерка? — И опять, словно подстегнутый этими страшными словами, он крикнул: — Ключ!
— Нет! — прошептала она, не сдаваясь даже беззащитная. «Вот теперь он меня убьет, непременно убьет!» — думала она, глядя мужу в глаза.
Но Тоник не убил ее. Он отпустил Анну, нахлобучил кепку и кинулся к двери. Ухватившись обеими руками за ручку, он уперся ногами и дернул дверь. Раз! — дверь затрещала, но не поддавалась… Тоник дернул снова, и дверь из комнаты в кухню с треском вылетела, так что он едва удержался на ногах.
Не оглядываясь, он выбежал из квартиры.
Анна несколько секунд стояла, как остолбенелая, потом выскочила на лестницу.
— Тоник, милый! — крикнула она в отчаянии.
Спустившись на несколько ступенек, она остановилась и заметалась по лестнице. Уходил ее любимый, нужно было бежать за ним. А за спиной кричал ребенок, и надо было вернуться к нему. Анна не сделала ни того, ни другого. Колени у нее подломились, она в отчаянии села на ступеньку и заплакала, опустив голову. Плечи ее тряслись.
И вдруг над головой у нее раздался презрительный голос:
— Ну, ну, графиня, стыдитесь! Фу!
Анна пересилила себя и встала. Она увидела холодные глаза Чинчваровой, которая стояла перед ней, уперев в бока побелевшие от стирки руки.
— Фу, стыдитесь! — повторила она, и этот упрек был словно ушат помоев.
Анна побежала к себе. Она взяла из корзины ребенка и дала ему грудь. Мальчик жадно ухватился за нее, его неистовый плач сразу оборвался и перешел в причмокивание. Но уже через минуту Анна забыла о сыне. Ее взгляд устремился в пространство. Тоник, Тоник! Она поняла, что должна идти и пойдет туда, где он, что она не оставит его и никому не отдаст. Она должна сохранить мужа для себя и для ребенка! В ней снова заговорила крестьянка, женщина из деревни, где каждый упорно держится за свое добро, которое так трудно приобрести. Тоник, Тоник, Тоник!
Анна не могла сию минуту бежать вслед Тонику. Сосущий ротик и струйка молока, которая текла из ее груди в тельце ребенка, заставляли ее оставаться у постели. Но мысленно Анна уже догоняла мужа. Она волновалась, и ее беспокойство передалось ребенку.
Без стука открылась дверь, и вошла Чинчварова. Она снова уперла белые руки в бока, глаза ее были, как обычно, холодны, а голос особенно сердит.
— И вам не стыдно? Вы, стало быть, жалеете, что наши мужья вышли на улицу, чтобы малость подраться за кусок хлеба для нас и наших детей? Мой муж тоже там, я его сама послала. Я бы ему плюнула в глаза, если бы он не пошел. Что они делают всю жизнь, эти мужчины? Ничего! А мы, женщины, работаем, как лошади. Мы!.. Ну, вы-то не особенно… — сердито добавила она. — А они что делали? Мой маленько возится с глиной, а ваш играет с формочками. Пусть-ка сегодня потягаются с полицией! Это всегда помогало, поможет и теперь. А вы стыдитесь, Кроусская!
Анна смотрела на нее глазами, полными слез.
— Ну, чего вы ревете? — резко спросила Чинчварова.
— Я больше не реву, госпожа Чинчварова.
Соседка ушла к себе. Накормив ребенка, Анна принялась ходить по комнате, баюкая его. Ей казалось, что во время этой ходьбы от окна до выломанных дверей — девять шагов туда и обратно — она думает, принимает решение… и вот, наконец, она решилась. Но это было неверно. Она ходила так торопливо и нетерпеливо убаюкивала сына потому, что все уже давно было решено. Положив заснувшего ребенка в корзину, Анна быстро оделась. Завтракать она не стала, ведь и Тоник ушел без завтрака. Анна только зашла к соседке.
— Госпожа Чинчварова, — сказала она, — Владя спит. Если он заплачет, загляните, пожалуйста, к нам.
Дети Чинчваровой, Божена и сын-четырехклассник, тащили из кухни соломенные тюфяки, чтобы уложить их в постели жиличек.
— Шевелись, шевелись! — покрикивала мать на мальчика. — А то опоздаешь в школу! — Она недовольно повернулась к Анне. — Вы куда? — спросила она и искоса посмотрела на Анну, но этот взгляд не был враждебным.
Анна не знала, где искать демонстрантов, и спросила:
— А куда они пошли?
— Не знаю. Наверное, на Староместскую площадь. Мой муж рано утром что-то говорил об этом. «Руде право» сегодня не вышло, но, говорят, выпущена какая-то листовка. Только у нашего газетчика ее нет. А зачем вам идти на площадь?
— К Тонику.
— Давайте ключ от квартиры, — хмуро сказала Чинчварова. — Если ребенок будет плакать, я возьму его к себе.
Анна вышла.
К утру Есениова улица покрылась снегом, но было не холодно, и он таял. Анна торопливо шла к центру города. На одной из соседних улиц она достала листовку, вышедшую вместо газеты «Руде право». «К р а б о ч и м Ч е х о с л о в а ц к о й р е с п у б л и к и!» — так было озаглавлено воззвание, и этот крупный черный заголовок наполнил Анну сознанием серьезности момента. «…О т в е т и м в с е о б щ е й з а б а с т о в к о й!» — говорилось дальше в листовке.
Сердце Анны сильно забилось. Пролилась кровь рабочих, и среди них был Тоник. Анна с лихорадочной торопливостью прочитала воззвание до конца:
Наш ответ на это насилие
будет мощным и решительным:
объявим всеобщую забастовку протеста!
Анна понимала, что такое всеобщая забастовка. Сердце у нее заколотилось еще сильней. Она вскочила в трамвай, шедший к Староместской площади. Все пассажиры уткнулись в газеты, и разговоров в вагоне было меньше обычного. Чиновники, ехавшие на службу, уже в течение многих недель читали в своих газетах о том, что коммунисты готовят в Праге кровопролитие. Сейчас они тревожно брали у попутчиков листовку с воззванием и вспоминали о кроликовых шубках, которые они собирались купить к рождеству своим детишкам, и об американской печке, которую можно было бы приобрести в рассрочку, если торговец уменьшит взносы еще на пятьдесят крон. Проезжая через центр, Анна все время глядела в окно — нет ли где толпы, или хотя бы групп рабочих. Но рабочих нигде не было видно. Так она доехала до площади. Там было пусто. Анна все-таки вышла из трамвая. На тротуарах и на трамвайной колее талый снег уже превратился в жидкую грязь, и только на памятнике Яну Гусу и гуситам он еще оставался чистой белой порошей. Промозглый день чем-то напоминал о казнях.
Анна пошла к парламенту. Там тоже было безлюдно, тихо и холодно.
Где же Тоник? Куда идти искать его? Анну охватила тревога. У нее было смутное чувство, что когда-то, страшно давно, она уже стояла вот так на улице, беспомощная, не зная, к кому обратиться.
Веселый женский голос окликнул ее:
— Вы Анна из Пелгржимова, не правда ли?
Перед ней стояла стройная, красивая дама в котиковом манто и приветливо улыбалась.
— Барышня Дадла! — удивленно воскликнула Анна и вдруг вспомнила, при каких обстоятельствах она когда-то стояла на улице, не зная, что делать. Это было давно, невероятно давно. «Приведите ко мне Руди, — сказала ей тогда вот эта барышня. — Если его не будет там, идите еще туда-то, туда-то и туда-то…» Ну, а где сегодня искать Тоника?
— Как поживаете, Анна?
— Спасибо, барышня, хорошо.
— Я уже не барышня… Вы разве не читали в газетах о моей свадьбе?
— Нет.
— Я вышла замуж за господина Урбана, директора банка.
Дадла улыбалась, в ее глазах играли озорные огоньки, казалось, она вот-вот скажет: «Хочешь шоколадку, Анна?»
Но Дадла заговорила совсем о другом:
— Мой муж знает вашего мужа. Он ведь у вас коммунист?
— Да.
— Ну да, я помню, — снова улыбнулась Дадла. Она с благожелательным любопытством разглядывала свою бывшую прислугу, и это было неприятно Анне.
— У вас не очень-то хороший вид. Когда вы жили у нас, вы выглядели лучше. У вас ребенок?
— Да.
— Идите-ка домой, Анна, — сказала Дадла повелительным тоном, так хорошо знакомым Анне.
Анна вопросительно посмотрела на нее.
— Идите, идите, — не переставая улыбаться, распорядилась молодая супруга банкира. — И никуда не пускайте мужа. В вас сегодня будут стрелять.
— О господи боже мой! — воскликнула Анна, в отчаянии хватаясь руками за голову и испуганно глядя в красивое лицо Дадлы.
Где же найти Тоника?!
Анна в упор смотрела на красивую даму, и вдруг ей показалось, что та стала меняться у нее на глазах. Это уже не была улыбающаяся барышня Дадла с барскими манерами и шоколадкой в руке. Такая Дадла давно не существует. Это уже не была приветливая дама, которая предостерегла Анну, выдав этим планы своего лагеря. В сыром воздухе декабрьского дня Анна увидела злобное лицо классового врага, слишком изнеженного, чтобы самому взять ружье и идти стрелять, слишком трусливого, чтобы в этот кровавый момент не прикинуться ласковым другом и доброжелательным советчиком. Но ведь именно ради этого котикового манто, подбитого вишневым шелком, будут сегодня стрелять в Тоника! Именно из-за этих модных туфелек и шелковых чулок будут убивать рабочих. Именно из-за этой прелестной шляпки, американских перчаток и пестрой шелковой бутоньерки на груди супруги банкира пролилась вчера рабочая кровь! У Анны мелькнуло давно забытое воспоминание: изнуренная жена каменщика швыряет под ноги благотворительнице подарки «Чешского сердца». И Анне показалось, что в глазах у Дадлы злоба и улыбка у нее кривая…
И тогда изменился взгляд и у Анны, из него исчезли робость и испуг, он стал твердым, глаза ее вспыхнули. Бывшая служанка выпрямилась, словно стала выше ростом. Ее смущение исчезло, и она сказала враждебно и сурово:
— Вы будете стрелять в нас? Мы в вас тоже, сударыня!
И, повернувшись, пошла прочь. Она уже знала, куда ей идти. Не к Тонику, а к рабочим, к своим. Ибо Тоник всегда со своим классом, где бы он ни был в данный момент — плечом к плечу с Анной или вдали от нее. Со своим классом! С теми, кто дал ей возлюбленного и мужа, кров и дитя, кто всегда был с ней в трудную минуту.
Она пойдет на завод!
И Анна твердым шагом направилась к трамвайной остановке, не обращая внимания на элегантную даму, охваченную негодованием, побледневшую от гнева. Какая неблагодарность и дерзость, как неслыханно бессовестны эти пролетарии, как грубо ответила эта прислуга ей, даме, которая, по доброте душевной, нарушив данное супругу слово, хотела спасти жизнь Анне и ее мужу — самое ценное, что есть у человека!
— Дрянь! — прошипела Дадла вслед Анне.
Анна поехала на завод. В ней уже не было ни страха, ни тревоги, сердце ее наполняла решимость. Когда трамвай подъезжал к району Карлина, Анна издалека увидела рабочую демонстрацию. И у нее взволнованно и радостно забилось сердце. Да, это они, это товарищи! Обыватели, ехавшие в трамвае, вставали с мест и глазели в окна. Анна выскочила из вагона.
Товарищи идут. Вот они!
Вот с красным знаменем шагает пролетарский Жижков. За ним Карлин и Либень, Голешовице и Высочаны. Тысячеголовая масса, суровая и молчаливая, идет по городу. Эти черные непреклонные шеренги вышли из ворот ткацких и прядильных фабрик, мукомолен и пекарен, столярных мастерских и лесопилок, угольных и дровяных складов, литейных цехов и вагоностроительных мастерских, механических и химических заводов, вокзалов и транспортных депо. Это рабочие, эксплуатируемый пролетариат, который, однако, сильнее всех стихий, ибо он сознает себя хозяином мира. Тысячи раз рабочих разбивали наголову, тысячи раз лилась их кровь — и все же они снова идут на штурм, уверенные в победе. В этот декабрьский день всех их объединяет идеал нового строя и над ними реет алое знамя. Колонны демонстрантов идут во всю ширину улицы, мостовая сотрясается от их поступи.
Навстречу демонстрантам бежит женщина. Это Анна, белокурая пролетарка.
— Кольбеновцы здесь? — восклицает она.
— Здесь! — отвечает кто-то.
Анна отступает к стене, толпа течет мимо нее, тысячи лиц проплывают мимо. Анна ищет глазами кольбеновцев. К ней подбегает юноша.
— Анна! Ты здесь?
Это Ярда Яндак. Он радостно жмет ей руку, глаза его сияют. Впервые он назвал ее на «ты».
— Яроушек!
Анна и Яроуш становятся в ряды, присоединяются к демонстрации, сливаются с ней.
— А где Тоник?
— Его и еще нескольких товарищей послали вперед. В парламенте с утра заседает Исполнительный комитет партии. Мы идем туда.
Многотысячная толпа марширует по городу, ее поступь гулко раздается среди домов. На крышах домов лежит снег. Торговцы с грохотом опускают железные шторы.
Демонстранты вступают на Староместскую площадь. Они у цели, и сознание этого волнует их. Их кровь словно течет единым потоком, все быстрей и быстрей… У толпы единый пульс, он бьется общим ритмом. Тысячи голов поднимаются, как одна голова. Шаг звучит громче. Тысячи голосов поют как один:
Долой тиранов, прочь оковы, Не надо старых рабских пут! Мы путь земле укажем новый, Владыкой мира станет труд!Рабочий гимн превратился в боевую песню, она вздымается бурным и грозным хоралом, она сотрясает стены старинных зданий на Староместской площади, отражается от готических окон ратуши и каменных плит Тынского собора. Многократно повторяемая эхом истории, эта песнь летит к верхушкам башен и взлетает с их шпилей к небесам, покрытым тучами, превращается там в бурю и молнии.
Слезами залит мир безбрежный, Вся наша жизнь тяжелый труд, Но день настанет неизбежный, Неумолимо грозный суд!Красное знамя в головных колоннах демонстрации уже миновало храм св. Микулаша, а далеко позади, на Целетной улице, еще не отзвучал припев:
…То наша кровь горит огнем, То кровь работников на нем!— Товарищ! — Кто-то нерешительно потянул Анну за рукав. — Твоего мужа тут нет? Где же он?
Анна не знает этого неприятного человека в очках, но он кажется ей подозрительным. Она хочет позвать Ярду, но человек, заметив это, спохватывается и исчезает в задних рядах. Через полминуты Анна снова видит его: он выходит из рядов и быстро исчезает в боковой уличке.
Демонстранты идут по Капровой улице. В пятистах шагах отсюда, перед парламентом, на площади с круглым цветником, запорошенным снегом, идет рабочий митинг. На этой самой площади, менее двух часов назад совсем безлюдной, Анна разговаривала с Дадлой. Сейчас площадь наполовину заполнена людьми. Но здесь только рабочие со Смихова, которые пришли с другой стороны, через мост. На том берегу Влтавы мало заводов, и главная масса демонстрантов еще только подходит от Жижкова, Либени и Карлина. Сейчас они уже на Капровой улице.
На парапете парламента стоит оратор. Это старый Штурц, ветеран рабочего движения, много сидевший в тюрьмах. В шестьдесят два года он такой же пламенный революционер, каким был в двадцать.
— Всеобщая забастовка! Только таким может быть наш ответ на вчерашнее кровопролитие! — призывает он.
Митинг отвечает бурным одобрением.
В здании парламента, в помещении социал-демократической фракции, заседает Исполнительный комитет партии. Но и сюда правительство послало полицию: в воротах, украшенных двумя каменными львами, стоит взвод полицейских в полном вооружении, а в восточной части площади видны вооруженные шеренги; они спокойно выжидают. К полицейскому офицеру подходит человек в очках, что-то докладывает и быстро отходит.
Толпа на площади слегка дрогнула. Люди чего-то ждут, напряженно прислушиваясь. Со Староместской площади доносится пение.
Оратор на парапете говорит о важных вещах, но его слова теряются в сыром воздухе, люди уже не слушают его. С Капровой улицы слышна песня! Все головы поворачиваются в ту сторону.
На Капровой улице гремит песня.
Гремит рабочая песня!
Демонстранты заполнили всю улицу. Пролетарии Большой Праги{158} идут сюда! Над их головой реет красное знамя. Боевой красный цвет ликует над тысячами голов. Ура-а-а! Какой это великий момент!
Знаменосец крепче сжимает в руке древко, выше поднимает знамя. Полотнище развернуто во всю ширину и полощется на ветру. Передние ряды ускоряют шаг. Анна и Ярда в первых рядах, около знаменосца.
Рабочие бегут по площади навстречу демонстрантам.
В этот момент выступает полиция. Выскочив из-под прикрытия, полицейские рассыпаются цепью и тоже бегут навстречу демонстрантам, сжимая в руках резиновые дубинки. Они хотят помешать двум потокам людей соединиться.
Но полицейские опоздали на несколько секунд. За спиной у них толпа, устремившаяся с площади, перед ними масса людей, текущая с Капровой улицы. Секунда — и полицейские сжаты между надвигающимися стенами человеческих тел. Толпа напирает, волнуется. Слышны громкие крики. На головы обрушиваются первые удары, в воздухе мелькают полицейские дубинки и палки демонстрантов. Откуда-то летит обломок кирпича, и полицейский хватается обеими руками за лицо. Начинается свалка.
И вдруг — щелк… щелк… щелк!.. — полицейские выхватили револьверы и открыли огонь.
Щелк… щелк… щелк!.. — звук совсем не страшный, даже какой-то пустяковый, словно игрушечный. Анне не страшно.
Щелк… щелк… щелк!
«Наши, видно, тоже стреляют», — думает Анна.
Красное знамя вдруг странно заколебалось и склонилось к земле. Знаменосец повалился ничком. К знамени подбегает Ярда Яндак и высоко поднимает его. «Ура-а-а!» — кричит он. Глаза его широко открыты.
Полицейский в упор стреляет ему в лицо. Несколько мгновений густая толпа еще держит убитого наповал студента, потом он падает лицом в талый снег.
Толпа бросает Анну то вперед, то назад, куда-то несет ее, опять тащит назад. На мгновение Анна видит, как из-под каменной галереи выбегают полицейские и, со штыками наперевес, бегут по площади, стараясь рассеять толпу и загнать людей на мост. Там тоже идет кровавая расправа, хлопают выстрелы. Очищенное от людей белое пространство на площади то увеличивается, то уменьшается. На снегу лежат раненые. Но Анне не страшно, все происходящее кажется ей нереальным и далеким.
Толпа снова несет ее. Вот она уже в боковой улице, среди волнующихся людей. Здесь немного просторнее. Сзади слышатся топот и крики, потом опять хлопают несколько выстрелов.
— Здесь нас не пустят, — кричит кто-то рядом с Анной. — Надо перейти через мост Легий и пройти по той стороне.
Толпа спешит по пустым улицам, Анна бежит вместе со всеми. Запыхавшись, люди переходят на шаг. Они идут мимо прохожих, которые еще ничего не знают. Они упорно идут вперед, нахмурив брови и блестя глазами, в которых не гаснет боевой пыл. Они идут, как бойцы на фронте.
Быстрыми шагами они переходят мост и по другому берегу спешат к парламенту.
Улица забита людьми. Толпа бурлит около трех вагонов трамвая — это рабочие, которых полиция отогнала от парламента, остановили трамвай и вытаскивают оттуда полицейских, пытавшихся пробраться в тыл толпе. Отняв у полицейских дубинки, рабочие волокут фараонов за шиворот и крепко молотят кулаками. Полицейские даже не обороняются, они только защищают руками глаза и пытаются удрать. На земле повсюду валяются их каски.
Демонстранты, подбежавшие вместе с Анной, перехватывают полицейских, оттесняют их к стенам домов. Анна останавливается посреди улицы.
— Тоник, товарищ Тоник! — кричит она, взмахнув руками.
Тоник держит за шиворот человека в очках, похожего на невзрачного конторщика. Он отбрасывает от себя этого шпика, отбрасывает небрежно, словно для такой мрази ему противно пустить в ход всю свою пролетарскую силу.
— Товарищ Анна! — восклицает он и бежит ей навстречу.
Откуда-то со Смихова слышится стрельба, более громкая и сосредоточенная, чем огонь полицейских пистолетов. Наверное, это солдаты.
— Около завода Рингоффера стреляют! — кричит кто-то.
Толпа кидается туда.
Впереди бегут Тоник и Анна. Их шаги гремят по улице.
Вперед, вперед!
Они бегут плечом к плечу.
Вперед, вперед!
Далеко, далеко осталась родная деревня Анны, крыша домика, залатанная жестянкой с изображением голубки, улетающей в мир, межи, поросшие мятой, тополя вдоль дороги. Далеко осталась кухня в квартире Рубешей и розовый будуар барышни Дадлы. В другом конце города осталась Есениова улица…
Вперед, вперед, Тоник и Анна!
НИКОЛА ШУГАЙ, РАЗБОЙНИК Роман{159}
Перевод Д. Горбова.
ШАЛАШ НАД ГОЛАТЫНОМ
Записывая на родине Николы Шугая{160} предания об этом невредимом человеке, который отнимал у богатых и отдавал бедным и никогда никого не убивал, кроме как для самозащиты или ради справедливой мести, автор этой повести, конечно, не мог не верить свидетельству стольких серьезных, достойных доверия лиц, что невредимостью своей Шугай был обязан зеленой веточке, которой он отмахивался от жандармских пуль, как в июльский день крестьянин отмахивается от роящихся пчел.
Ибо в этом краю лесов, изборожденном горами, измятом, словно кусок бумаги, который мы скомкали, перед тем как бросить в огонь, до сих пор совершаются дела, о которых мы слушаем, снисходительно улыбаясь, — только на том основании, что у нас ничего подобного не случается уже сотни лет. В этом краю громоздящихся друг на друга стремнин и круч, где в дышащем прелью сумраке первозданных лесов родятся источники и умирают древние яворы, до сих пор есть такие заколдованные места, из которых никогда еще не удавалось выбраться ни оленю, ни медведю, ни человеку. Полосы утренних туманов медленно ползут по вершинам елей ввысь, в горы, словно процессия мертвецов, а проплывающие над ущельями облака похожи на злых псов, бегущих, раскрыв пасть, за гору, чтоб кого-то там растерзать. А внизу, в узких речных долинах, в зеленеющих кукурузными полями и в желтеющих подсолнечниками деревушках живут упыри; они только и ждут вечерних сумерек, чтобы, перекатившись через колоду, обернуться волком, а к утру опять принимают человеческий облик. Там лунными ночами молодые ведьмы скачут верхом, превративши в коня спящего мужа, а волшебниц не надо искать за горами, за долами, между небом и землей: на любом пастбище можно увидеть, как злая колдунья посыпает солью три коровьих следа, чтоб пропал удой, а к доброй можно в любое время зайти в хату и, отозвав хозяйку от конопляной мялки, попросить, чтоб она заговорила змеиный укус или, окунув хилого ребенка в настой из девяти трав, сделала его сильным и крепким.
Там жив еще бог. В душной тишине первозданных лесов живет еще древний бог земли, который обнимает горы и долы, играет с медведями в чаще, ласкает отбившихся от стада коров и любит звуки пастушьей жалейки, сзывающей вечером скотину. Он колеблет своим дыханием вершины старых деревьев, пьет пригоршнями воду из источников, светит ночными кострами на пастбищах, шумно колышет листвой кукурузных полей и кивает золотыми щитками подсолнечников. Изначальный языческий бог, хозяин лесов и стад, который знать не знает ни того гордого, спесивого бога, что живет в золоте и шелку за пестрыми стенами иконостасов, ни старого брюзгу, скрывающегося за выцветшими завесами пурьохесов{161} синагог…
А все-таки шугаева зеленая веточка — выдумка!
— Нет, — сказал мне пастух с полонины над Голатыном. — Зря про нее болтают. Не так дело было.
И, жаря над костром наткнутую на ивовый прутик сыроежку, он поведал мне о роковом событии, оборвавшем жизнь разбойника Николы Шугая.
Вот о чем нужно рассказывать зимними вечерами в освещенной пламенем буковых поленьев хате, а не о зеленой веточке. Именно об этом! Тут сами собой навязываются такие выражения, как чудо и знамение. Но эти слова взяты из церковного лексикона и обозначают явления исключительные, которым приходится удивляться. А в данном событии нет ничего исключительного, и удивляться тут решительно нечему. Что в кукурузных посевах живут добрые феи-мавки, а в илистых речках — злые русалки, это всем известно, так же как и то, что хлеб созревает в июле, а конопля в августе. И если само собой понятно, что человек обязательно утонет, упав с плота в разлившуюся Тереблю во время лесосплава, то не менее верно, что он сойдет с ума, наступив на такое место, куда колдунья выплеснула остатки своего проклятого зелья.
Голатынский пастух начал свой рассказ о Николе Шугае, сидя в кругу волопасов у костра, пламя которого взлетало высоко в вечернее небо, а кончил он его в темном шалаше, на сене, потому что пошел дождь, тихий и теплый, какие бывают в начале июня. Пастухи, докурив свои трубки с островерхими медными крышечками, спокойно дремали, по кровле барабанил дождь, а за деревянной загородкой, где спала скотина, то в одном, то в другом углу слышалось позвякивание, легкое, нежное, словно журчанье ручейка по камням: это какая-нибудь корова, шевельнув во сне головой, заставила язычок висящего у нее на шее колокольчика коснуться металлической стенки; и странный звук этот придавал особую окраску всей ночи: как будто там кто-то ползает из угла в угол, подслушивает и тихонько поддакивает.
Вот эта макбетовская повесть{162} о невредимом Шугае, о разбойнике Николе Шугае, который отнимал у богатых и отдавал бедным и никогда никого не убивал, кроме как для самозащиты или ради справедливой мести. Ибо таковы правила поведения всех на свете разбойников там, где они еще окружены любовью и уважением как народные герои.
Это было во время войны{163}, возле фронта, в таком месте, где неделями прячутся от полевых жандармов дезертиры, говоря солдатам 52-го полка, будто ищут 26-й, а солдат 26-го расспрашивая о 85-м Балашдёрматском. В числе этих дезертиров был и Шугай вместе со своим товарищем — трансильванским немцем, по профессии механиком.
Оба скрывались тогда в хибарке у одной русской бабы. Баба была пребезобразная, а крытая соломой глиняная хибарка ее походила на сморчок, ни с того ни с сего вдруг выросший среди поля, или, еще лучше, на конусообразную шапку, под которой спрятано грязное яйцо, откуда ни за что не вылупится ничего путного. У нее было две дочери, глупые, волосатые, с ногами в блошиных укусах. Но вокруг — глухомань; к тому же солдаты не больно задумываются о красоте, а больше насчет того, как бы поразвлечься между двумя разрывами снарядов: так что они с этими девчатами гулять стали. Ходили с ними коров пасти и в ольшаник за дровами, а ночью по приставной лесенке лазали к ним на сеновал…
— Слушай, русин, — сказала как-то раз за ужином Николе баба, доставая себе из общей миски нарезанных кружочками соленых огурцов с луком. — Ты станешь славным в своей стране; армии и генералы бояться тебя будут. — Она сказала это между прочим, словно речь шла о какой-нибудь тележной чеке или о кровельном тесе. — Я хочу, чтобы ты женился на моей Васе.
«Чтоб ты ослепла! Дело — дрянь. Все знает», — подумал Шугай. А вслух промолвил:
— Отчего же…
Потом, хватаясь, как утопающий, за соломинку:
— А ежели меня завтра застрелят?
Баба в ответ ни слова.
— А ты, немец, — продолжала она, проглотив кусок, — станешь самым богатым в своей стране. Я хочу, чтоб ты женился на моей Евке.
— Ладно! — ответил немец. — Только бы уцелеть…
Было видно, что такой разговор ему шибко не по вкусу.
Понятное дело, солдаты вовсе не собирались на ее дочках жениться. Никола уже в то время любил Эржику; у немца дома тоже была зазноба. Они хотели удовольствие получить, кое-как время провести, а баба их окрутить вздумала.
Им даже ужинать стало противно. Евка чавкала, набив рот огурцами с луком, Вася скребла ручкой деревянной ложки в затылке, гоняя ползавшую под косой вошь.
— Но ежели вы меня обманете, трижды семь бед на вашу голову! — сказала баба, и заклятье это было тем отвратительней, что она произнесла его как будто равнодушно, глядя мимо, куда-то в потолок.
— С какой стати! — пробормотал немец еле слышно — так, чтоб можно было только подумать, будто он произнес что-то в этом роде.
Но на Шугая эта тишина и сгущающиеся сумерки произвели странное действие. Словно далеко отсюда, над его родиной, кто-то вырезал кусок воздуха, перенес сюда и опустил над этой хатой с высокой соломенной крышей. А там, дома, осталось пустое пространство, заколдованное место в первозданном лесу, откуда не выбраться заблудившемуся медведю, оленю, человеку. Он ясно различил запах прели и смолы, проникающий вместе с тишиной и сумраком через маленькие окна в хибарку.
— Давайте свои посудины, — сказала хозяйка.
Забрав котелки, она ушла, потом вернулась, наливши в них какого-то снадобья.
— Выпейте!
Снадобье было не сладкое и не горькое, не вкусное и не противное.
— Теперь вас ни одна пуля не тронет. Ни из ружья, ни из револьвера, ни из пулемета, ни снаряд из пушки.
Это было похоже на обряд. У Николы по спине даже мурашки забегали.
В тот вечер они рано легли спать. И ночью не полезли к девкам на сеновал. Но, прежде чем заснуть на сене у себя в сарае, долго говорили.
Какая чушь! Немец злился. Неужто она вправду думает поймать их на эту удочку? Пускай свои сказки таким же дурам-бабам рассказывает, как сама, а не старым солдатам. Он простить себе не мог, что уши развесил, одурачить себя позволил и выпил эту пакость.
И, надо сказать, злость его была искренняя, несмотря на то, а может, как раз потому, что он слышал, как какой-то настойчивый внутренний голос нашептывает ему: ведь было бы совсем неплохо, если б это оказалось правдой.
— Убежим! — сказал Шугай.
Правильно! Дня через два можно будет смыться. К черту бабу!
Но дней набралось не два, а побольше.
Здесь — мир и тишина: словно ты — за сто верст и за сто лет от войны. Никто сюда ни разу не заглянул. Охота лезть под дождь русских пулеметных очередей и молнии русской шрапнели! А чудесное ощущение безопасности — что может быть дороже? — заставляло молчать их нечистую совесть. И они попрежнему ходили с дочерями хозяйки пасти коров и в ольшаник за хворостом.
Но сидели они как-то утром вдвоем во дворе. Никола мастерил бабе косу с граблями; немец сидел на земле, прислонившись спиной к плетню, и играл на губной гармошке. Из хибарки вышла хозяйка. Приставила к сараю лесенку и полезла зачем-то на сеновал. Вдруг подул ветер, прямо ей под юбку, и всю ее заголил. И вдруг — вот так чудо! У нее оказался хвост — весь в шерсти. Как у козы.
Немец, глупый немец, знавший только свои машины да цифирь, ничего не понимавший и ни во что не веривший, залился дурацким смехом.
Но Шугай остолбенел… Потому что Никола Шугай был из Подкарпатья. А там еще жив бог. Был Никола из края Олексы Довбуша{164}, славного разбойника Олексы Довбуша, который семь лет с семьюстами удальцов по стране ходил, отнимая у богатых и отдавая бедным, и его ни одна пуля взять не могла, кроме серебряной, над которой, запрятанной в зерна яровой пшеницы, двенадцать обеден служили!
Никола Шугай сразу смекнул: на лесенке перед ним — баба-яга. Дьяволица. Колдунья. Ведьма, наводящая бурю…
— Она нам вред сделает. Убьем ее, — прошептал он.
— Э! Зачем? — махнул рукой немец.
Но для солдата жизнь какой-то бабы гроша ломаного не стоит. Он и сам порядком чужого народу перебил и своих немало убитых видал. Так отчего товарищу приятное не сделать? Особенно ежели тебе самому надо с этой бабой счеты свести за то, что она над твоим здравым смыслом издевается безнаказанно.
На другой день утром, только вошла баба в сарайчик, они ее дубинами прикончили и — наутек!
Побродили немного в той местности, потом вернулись к себе в полк: в 85-й, Балашдёрматский.
Опять стрелять начали, раненых на перевязочный пункт, а мертвых в ямы таскать, окопный запах гари нюхать. Опять у них от голода животы подводить стало. И опять, как все настоящие солдаты, принялись мечтать о каком-нибудь ловком выстреле, который не очень бы изувечил, а помог бы ежели не домой вернуться, так хоть на несколько месяцев в тыл попасть. О том, что жила на свете какая-то баба и существуют какие-то Евка с Васей, они и думать забыли.
И случилось им как-то раз вместе по старой дубраве патрулем идти. Ровно через трое суток после жаркого дела. Четыре часа без перерыва ревели орудия, кругом — сплошь белая тьма дыма и взвихренного песка, прорезаемая молниями огня. Три атаки русской пехоты, одна контратака, груды тел, — и, когда все кончилось, они сами не понимали, как вышли целы из этого ада. А теперь, после трехдневного затишья, противник опять зашевелился, и у них в окопах снова готовятся к бою. Видно, начаться танцу сначала. Как быть? Спрятаться? Но куда? Бежать? Из окопов — не выйдет. Сдаться в плен? Избави боже!
— Послушай, Шугай, — обратился немец к товарищу, шагая с ним среди редких стволов.
Поднял левую руку ладонью вверх, потом повернул ладонью вниз и сказал:
— Я этим всем сыт по горло. Пальни-ка в меня!
О таких вещах приходится просить товарища, а самому сделать трудно, — разве сквозь буханку хлеба, которая не позволит пороху края раны опалить, а то — мигом под военно-полевой суд!
— Ты хочешь?
— Да.
Шугай молча кивнул.
Немец приложил руку тылом к стволу дуба; белая ладонь его стала похожа на бумажную мишень, по которой учат стрелять новобранцев.
Шугай отошел на несколько шагов. Прицелился. Грянул выстрел.
Ба-а-ах! — грозно взревел лес.
Дубы, быстро погнав раскаленный звук выстрела, выкинули его на равнину, где он замер в отдалении.
Друзья переглянулись, озадаченные.
В чем дело?..
Пуля прошла мимо.
— Что такое? — удивленно и сердито воскликнул немец.
Шугай не ответил. В эту минуту что-то громадное обрушилось на землю. Что-то, не имеющее имени. Сверхъестественное! Все вокруг застыло, словно от прикосновения смерти. Стерлись все краски. Николу Шугая обуял ужас.
— Еще раз! Встань поближе!
Что это было? Смерть? Судьба? Бог?
— Чего дурака валяешь? Стреляй!
Голос товарища доносился словно из-под земли, словно из дальнего окопа. А ладонь была как бумажная мишень, страшно белая. Ну просто невиданной белизны!
Шугай прицелился — как во сне. Он был меткий стрелок, каких один-два на всю бригаду. Принялся раз майор кидать вверх кроны. Шугай сбил все до одной — без промаха!
Он нажал спуск.
Слышал, как в дальней дали прокатился звук выстрела.
Это где-то над Колочавой, над Красной, в его родном краю отозвалась гроза.
— Что ж ты делаешь, скотина? — возмутился немец, взглянув на свою нетронутую ладонь. — Стрелять разучился? Ведь наши услышат, что здесь такая стрельба, дурья голова!
Шугай ничего не ответил. Вскинул винтовку за плечо и пошел.
Немец — за ним, бранясь вполголоса.
Вдруг Шугай повернулся к нему. Бледный, с горящими глазами, произнес повелительно:
— Теперь ты!
— Я в тебя? — переспросил немец. — Ну что ж!
— Не отходи далеко.
— А куда стрелять?
— Стой там. Прямо в грудь.
— Дурак!
— Нет, не в грудь. Целься в голову.
— Осел!
Понятно, товарищу ни в грудь, ни в голову стрелять не станешь, и немец прицелился в плечо. Прицелился точно, с двадцати шагов. На таком расстоянии промахнуться невозможно.
Дубрава опять охнула от выстрела.
Шугай продолжал спокойно стоять возле могучего ствола, устремив взгляд куда-то поверх головы товарища, словно происходящее совершенно его не касалось, и думая о чем-то совсем другом.
— Что такое? — в изумлении воскликнул немец, тоже слегка побледнев. Повернул ружье в руке, осмотрел мушку.
— Идем, идем! — сказал Шугай.
Они пошли дальше между старых деревьев, отстоявших далеко друг от друга, так что между ними было много света, внизу зеленого, вверху голубого. И удивительное дело: лес был совсем другой, чем за минуту перед тем. Солнце уже склонялось к закату, а он весь сиял: на коре была видна каждая морщинка, зелень листвы стала ярче, ноги утопали во мху гораздо глубже, чем прежде. А хруст дубовой ветки под ногой, только что их так пугавший, теперь веселил сердце. Враг далеко. Да и существует ли он вообще? Есть ли война?
Долго шли они рядом в томительном молчании. И только под вечер, уже на равнине, когда они подходили к окопам, немец заговорил:
— Ну как? Ты веришь в эту чепуху?
Он хотел произнести это твердо, но голос его слегка дрогнул.
Шугай бровью не повел.
Потом опять потянулись долгие недели отвратительного прозябания в окопах и лагерях. И в то время как другие солдаты, следя за летящим снарядом, думали: «Если упадет на большом поле за той вон дикой грушей, останусь жив…», а дальше загадывать не решались. Шугай и его приятель жили, пряча удивительную тайну в сердце, но не говорили об этом ни слова: Шугай — потому что незачем, а немец боялся, что придется лгать себе и товарищу.
Потом они расстались и больше никогда в жизни не виделись. Немца откомандировали в связисты, роту сменили и отвели в тыл, потом перебросили на другой участок фронта, и, как бывает на войне, они потеряли друг друга из вида.
Но жена Шугая Эржика, старик отец его Петро, тесть Иван Драч, испытавшие немало преследований, и все его друзья — во всяком случае те, которые теперь, одиннадцать лет спустя не боятся признаваться в знакомстве с Николой, — подтвердят вам, что он часто вспоминал о немце и не раз выражал желание когда-нибудь встретиться с ним.
Так рассказывал мне пастух в шалаше над Голатыном.
Конечно, он знал конец жизни Шугая. Однако рассказ его ничуть не менее поучителен, нежели предания об Ахиллесе{165}, Зигфриде{166}, Макбете{167}, Олексе Довбуше и вообще обо всех обманутых судьбой. Ибо, не касаясь такого отвлеченного понятия, как бессмертие, нельзя все же не признать, что невредимости жаждем мы все. Но дьявол всегда найдет какую-нибудь щелку, чтобы добраться даже до такого человека, который огражден пророчеством и верой, и всякий раз разрушит и размечет их, так что от них камня на камне не останется.
КОЛОЧАВА
По одну сторону узкой долины — вечно повитая облаками вершина Стримбы и Стременош, Тиссова, Дервайка, Горб, по другую — Бояринский, Квасный Верх, Красна и Роза. Всюду — только горы. Пласты шифера и песчаника смяты, словно ненужный лист бумаги, перекручены, изогнуты, сдавлены и выпячены под облака. Горы, холмы, горы. Изрезанные стремнинами, ущельями и долинами шириной не более шеренги в четыре бойца, тысячью источников и десятками речных потоков, которые кипят на каменных порогах, а в заводях сохраняют зеленую прозрачность изумрудов.
Здесь пробивает себе дорогу Колочавка. Там, где она бежит под разрушающимися скалами, чтобы слиться с Тереблей (только бежит, уже не скачет и не летит стремглав), пользуясь своей давней победой, благодаря которой она отвоевала себе русло и долину хоть в сто шагов шириной, — в этом месте расположена Колочава.
Под крошащейся скалой бежит река; вдоль противоположного склона — большак. Село — между ними: оно такое длинное, что не удивительно, если неискушенный путник, шагая по долине, мимо хат и домишек с еврейскими лавчонками, потом мимо лугов и огородов, потом опять мимо ряда хат, начинает испытывать, в зависимости от своего характера, либо ярость, либо тупую покорность. Ибо и через час, и через два, и через три прохожие снова и снова отвечают ему, что он в Колочаве, в Колочаве-Негровце, в Колочаве-Горбе, в Колочаве-Лазах.
Имя Николы Шугая непосредственно связано как раз с Колочавой-Лазами, и об этой-то Колочаве пойдет дальше речь.
В ней — самые лучшие дома; есть даже униатская церковь{168}. Большак превращается здесь в улицу, обнесенную с обеих сторон изгородью и усыпанную речным гравием и галькой, которые так славно хрустят под ногами у людей и коров. В изгороди — будь то частокол, плетень из прутьев орешника или дощатый забор — имеются калитки и перелазы, то есть более низкие места, через которые человек может, с помощью двух скамеек или камней либо просто так, перебраться, а собака — но не скотина! — перепрыгнуть. За изгородью тянутся дворы. А между ними и рекой Колочавкой — огороды. Летом они придают Колочаве пеструю расцветку — зеленую, красную, желтую; полосы картошки и конопли — зеленые, ползучие побеги фасоли расцветают яркими каплями крови, а сотни подсолнечников, посаженных по краям гряд, — чтоб не остаться без постного масла, — сияют, как золотые. Желтеют поздним летом и цветы рудбекии (бог знает, кем, когда и из каких господских садов было занесено сюда это живучее растение), свисающие целыми шапками на высоких стеблях через заборы и покрывающие все кресты на распутьях, — удивительно массивные кресты из двух бревен, с аляповатым Иисусом.
Живут здесь русинские{169} пастухи и лесорубы, еврейские ремесленники и торговцы. Среди евреев — бедные и зажиточные, а русины — один другого бедней.
Правда, христианин-униат ни за что на свете не притронулся бы в петровский пост к молочной пище, а еврей скорее дал бы себя зарезать, чем выпил бы вина, которое пригубил гой[45]. Но за столетия каждый из них успел привыкнуть к странностям другого, религиозный фанатизм им чужд, и если русин смеется над евреем, что тот не ест свинины, сидит за столом в шапке и в пятницу вечером понапрасну жжет дорогие свечи, — смех этот совсем добродушный. И если еврей презирает русина за то, что тот молится какому-то умершему позорной смертью человеку и стоящей на полумесяце женщине (в конце концов только женщине!) поклоняется, как господу богу, презрение это имеет совершенно абстрактный характер. Оба заглядывают друг к другу в ритуальные проблемы и религиозные тайны запросто, так же, как на кухню и в комнаты. И если мужик-русин, придя поутру к еврею-ремесленнику, застанет его беседующим со своим господом богом, мастер, преспокойно оставив на плече полосатый талес{170}, на лбу пластинку тефилина{171} и на левой руке ремешки от него, пожелает соседу доброго утра и начнет обстоятельно с ним договариваться о цене за оковку колеса, за починку дырявых опорок, за вставку стекла в окно. Вечному торопиться некуда: он подождет… Оба связаны друг с другом житейскими потребностями, то и дело друг друга навещают, постоянно занимают друг у друга то кукурузной муки, то яичек, вечно друг другу должны за корм для скота, за перевозки, за работу или наличными. Связь между ними — подлинно повседневная. Но упаси боже высказать при них какую-нибудь мысль! Сразу обнаружится, что тут два разных мозга. И две разных нервных системы. И два разных бога, мечущих друг в друга молнии.
Впрочем, все это относится только к бедным евреям: ремесленникам, возчикам, мелким торговцам либо живущим неизвестно чем. Что же касается богатых евреев, Абрама Бера и Герша Вольфа (но только не Герша Лейба Вольфа), то и русины и евреи ненавидят их одинаково. Однако если у русинов ненависть к еврейским богачам пропорциональна нелюбви к остальным представителям еврейского населения, то у бедных евреев ненависть эта обострена завистью.
Хлеб здесь не родится, так как тень гор по утрам слишком поздно уступает место солнечному свету, и весна запаздывает; поэтому, кроме домов и огородов, здесь только леса да пастбища… Но жить было можно. Весной мужики скидывали с плеч косматые бараньи кожухи, брали топор на плечо и, спустившись вместе со снегом с гор в долины, шагали по лесным тропинкам вдоль еще не растаявших речных излучин. Шли в Колочаву к «керону» — подрядчику, который вез их на рубку леса в Галицию, Трансильванию, Боснию, Герцеговину. Конечно, он нередко сбегал от них со всеми деньгами, — и поминай, как звали! Был всегда заодно с предпринимателем, обжуливал их при расплате, при выплате проездных, при закупке продовольствия, и часто ему за это били морду. Но при всем том в июне можно было пуститься в обратный путь с поясом, в котором шуршат двадцатикроновые кредитки.
А пока не было мужчин, женщины сгоняли своих овец на пестреющий цветами луг и устраивали там праздник случки (как скромно держались при этом девушки, помня о той минуте, когда понадобится предъявить будущему мужу кровавый документ, подтверждающий девичью добродетель! И как веселились, подвыпив, замужние, как ликовали они, отплясывая под аккомпанемент двух скрипок и турецкого барабана!). Главный чабан с опытными людьми прикидывал, сколько примерно гелетов{172} молока даст каждая овца за лето, и уводил огромную отару далеко в горы. Потом выгоняли на пастбища крупный скот, вскапывали огороды и начинали ждать мужей. Те возвращались в начале июля. Скосив траву — по крайней мере на более низких склонах, где она уже вызрела, — они вместо топора брали на плечо косу и шли на Венгерскую равнину — работать за десятый сноп, а после жатвы возвращались в сопровождении венгерского батрака, подвозившего им к самому порогу мешки с пшеницей и золотыми зернами кукурузы. Осенью и зимой тоже не сидели сложа руки. Работали на лесопилках, орудовали топором в лесах, стремительно скатывались на плотах по Теребле до Тиссы, а оттуда — в Венгрию. Голодны не бывали. Хватало и на табак, и на водку, и бабе на красный платок да черный передник, на стеклянные бусы да пару шелковых рукавов.
Не в обиде были и евреи.
Но вот пришла война.
Будь она неладна!
У мужчин за плечами вместо топоров и кос появились винтовки. Женщины остались одни, как всегда, но разве можно было сравнить, теперешнее одиночество с прежним? Даже в погожие дни казалось, будто над долиной нависли мрачные серые тучи, не давая свободно дышать. О мужьях не было вестей — кто ж из них умел писать? — и, молясь в церкви перед чудотворной иконой божьей матери о здравии мужа, каждой женщине невольно приходило в голову: а не молится ли она за человека, от которого остались одни кости в земле? И так месяцы, годы. Только вдруг придет из Синевира старый почтальон Шемет, принесет и прочтет по складам письмо, где в напечатанный текст вписаны от руки имя и фамилия: Иваныш Андрей и еще какие-то слова о родине, о поле чести, и это обозначает, что человек мертв и больше никогда не вернется.
Но, господи Иисусе, так все-таки лучше, чем если кто приходил домой без руки, без ноги, а то слепой. Это уж все равно, как если бы в хате стало одним ребенком больше. И без того их ютилось в запечье слишком много, и вылезали они оттуда только для того, чтоб с ревом протянуть руку за ломтем кукурузного хлеба. А где взять?.. Снятого с огорода еле хватало до рождества, а мешков с кукурузой и пшеницей больше никто к порогу не подвозил. Являлись в сопровождении жандармов разные начальники, сгоняли скотину с полонин, отбирали последнее, что было — молоко и сыр, и платили бумажками, на которые ничего не купишь. Наступил голод. У ребят пухли животы, у матерей не было молока для новорожденных, оставшихся единственным напоминанием о побывке мужа. Такой голод, хоть вой, хоть режь!
«Но король одержит победу над врагом и вознаградит свои народы за все их страдания», — провозглашали с церковных кафедр униатские священники, и люди молились не о том, чтобы венгерский король победил, а о том, чтоб он победил скорее. Но король потерпел поражение. «Царь освободит вас, — шептали православные попы, — он даст вам мир и свободу».
Ах, чтоб вам пусто было! Каждый обещает свободу, а ни один не даст горстки кукурузы. Каждый сулит дать тебе мир, как только победит. Ну, будем молиться за царя. Но царь тоже потерпел поражение. Пришли гонведы{173}, начали вешать и хватать людей. Тогда, надеясь уже только на высшие силы, стали ходить к ворожеям. По их советам принялись со злостью вырезать портреты из газет, собирать открытки с изображением царствующих особ, и ворожеи произносили над всеми этими королями, царями, императорами непонятные заклятья, протыкали им булавками голову и сердце; а дома вешали эти заговоренные портреты в дымовую трубу — коптиться. Ну, удалось общими усилиями уморить Франца-Иосифа, а что толку? Против такой пропасти господ и помогающей им нечистой силы даже ворожеи ничего не могли поделать. Женщины потеряли веру во что бы то ни было и уже ни на что не надеялись.
В прошлом такие времена порождали знаменитых разбойников, «черных хлопцев». Праведных мстителей. Ласковых к бедным, беспощадных к панам. В прошлом. Но не в наши дни. Конечно, женщины махали кулаками перед конторой нотара{174}, отнимавшего у них коров, обкрадывавшего их при распределении пособий, угрожающе кричали в лавке Абрама Бера во время выдачи продуктов: «Погодите, вот вернутся мужья!» Но сами не верили своим угрозам. Уж больно мужчины стали трусы. Почему они не сопротивляются, когда у них отбирают последнее, почему не возьмутся за топоры и не начнут рубить головы, раз их детей голодом морят? Покорно пошли на войну, как бараны, жмутся, слушаются начальства, трусят смотров, а придя в отпуск, валяются по постелям, наслаждаясь бездельем и счастливым сознанием того, что в них никто не стреляет, да хвастаются своими подвигами.
Найдется ли среди них хоть один, не согласный молча мириться со всеми этими ужасами?
Вернулся Никола Шугай.
Он убежал с фронта. Домой. В родные горы. Потому что они — единственное, о чем стоит тосковать.
Колочава! Колочава!
Какое сладкое имя, какой от него приятный вкус во рту!
Остановившись в ночной тьме на дороге, он впивал молочный запах Колочавы. Мрак был твердый, как камень, и в нем желтыми пятнышками поблескивали несколько окошек, будто крупинки колчедана в угле.
Тишину нарушали глухие удары мельничной толчеи, валяющей домотканное сукно и слышной только ночью. В темноте от дома к дому прошла девочка с большой лопатой красных углей, освещающих ей только лицо и грудь, оставляя все тело во мраке.
Колочава! Колочава!
Удивительно, до чего все тут было — он сам! И этот воздух, который он вдыхал и выдыхал, и тьма с золотыми блестками, в которой он весь растворялся, и появившаяся на миг, озаренная сиянием, девчушка. А глухие удары мельничной толчеи звучали прямо у него в груди.
Он шел домой, в хату отца своего, Петра Шугая, расположенную в часе ходьбы от сбившихся в кучу домов села, — если идти вдоль Колочавки по направлению к Сухарским лесам — уже близко от них. Постучал в окно. За стеклом появилось лицо матери. Никола? Она вышла к нему…
Стояла против него на пороге, в одной рубахе. Оба глядели друг на друга и улыбались. О цели прихода не надо было спрашивать: ружье на плече объясняло все.
— Отец на фронте?
Нет, он был дома; ему перебило ногу шрапнелью, да в руке засело несколько пуль. Ну, отпустили на побывку. А потом опять уйдет.
— Ребятам ничего не говорите, мама!
Мать Николы еще рожала, и в горнице спали шестеро ребят, да над материнской постелью в подвешенной к стропилам, выдолбленной из колоды люльке покачивался пеленашка.
— Где Эржика Драчева по ночам лошадей пасет? — спросил Никола.
— «У ручья», — ответила мать.
На крыльцо вышел в солдатских брюках отец. Обменялся с сыном рукопожатием.
— Что? В досмотрщики подался? — промолвил он, подразумевая под этим «зеленых», то есть дезертиров. И в мозгу его промелькнула мысль: в конце концов чем это не выход?
В доме все же нашелся черствый ломоть кукурузного хлеба, и мать со вздохом насыпала Николе в вещевой мешок картошки из последних остатков.
Он пошел высыпаться под стоящим возле леса оборогом.
Потом три ночи ждал Эржику. Птичку Эржику. Рыбку Эржику. Розовую с черным Эржику, от которой пахнет, как от вишневого дерева. Эржику, по которой сходишь с ума даже за семью горами, за семью морями.
К вечеру он прятался в папоротниках на лесной опушке и ждал. Наконец, дождался. Увидал ее. Но она пришла на луг «У ручья» не одна. Вместе с ней пасли Калина Хемчукова, Гафа Суботова и какой-то парнишка, в котором он потом узнал Ивана Зьятинкова. Они развели посреди луга костер, притащили две колоды, одну сунули в огонь, на другую уселись. Чего тут путается Иван?
Маленькие гуцульские лошадки щипали траву, низко склоняя гривастые шеи; приблизившись к лесу и почуяв присутствие Николы, они поднимали голову, втягивали воздух, расширив ноздри, и ржали. Сидящие у костра тревожно оглядывались на них: уж не почуяли ли они медведя? Но лошади держались спокойно.
«Почему этого парнишку еще не забрали? — с сердцем подумал Никола. — Ведь он только на год моложе меня: ему уж исполнилось семнадцать!» Мрачно глядел он из тьмы в освещенное огнем пространство. «Пусть только тронет Эржику: прицелюсь хорошенько и уложу прямо у нее на глазах». У него заколотилось сердце при одной мысли об этом.
Но Иван не сводил глаз с Калины, и вскоре они скрылись вдвоем где-то во тьме, никого не вводя в заблуждение своим покрикиванием на лошадей.
Лежа на животе, Никола глядел на обеих оставшихся девушек. Ему хотелось выскочить, перелететь ту сотню шагов, что отделяет его от них, погнаться за испуганными девчатами, схватить — которая его, стиснуть ее в объятиях и не отпускать. Но он прижимает голову к холодному папоротнику, упирает подбородок в грудь. Нет! Он не может отдать свою судьбу в руки Гафы Суботовой! Но как мучительно ждать! Лицо Эржики, озаренное пламенем костра, каждый поворот ее тела, каждое движение босых ног повергают его в печаль. А ведь еще несколько недель тому назад чего не дал бы он, чтобы так вот глядеть на этот ночной костер!
Если б вдруг медведь! Вот было бы славно… Он уложил бы зверя в двух шагах от нее, и она даже не знала бы, кто ее спас. Но медведь не появится…
А может, Эржика пойдет в лес за хворостом? При мысли об этом он даже задрожал, с удивительной ясностью почуяв запах вишневого дерева. Но Эржика не пойдет в лес за валежником. У нее достаточно топлива: в костре медленно горит колода; она будет тлеть и обугливаться еще завтра днем.
Он не спал всю ночь вместе с пастухами, — до тех пор, пока все они не улеглись на спаленную траву, босыми ногами к костру, и не задремали, завернувшись в мешковину.
И еще одну ночь провел он возле них без сна.
На третий вечер вышел навстречу Эржике почти к самому селу, чтоб она еще не успела сойтись с остальными.
Увидел ее в вечерних сумерках на большаке. Она ехала на лошади, сидя не верхом, а по-женски, положив босую ногу на шею коню, с пятью нитками желтых и красных бус на груди и какой-то пестрой материей вместо седла. На ней была грубая холщовая рубаха и передник с простроченным поясом, несколько раз обвитым вокруг тела. Ей было шестнадцать лет: в черных волосах ее белели несколько ромашек; она была красива. Позади ее лошади шла другая.
Никола в полумраке встал на дороге.
— Ой!.. Как я испугалась! Это ты, Николка?
Он вскочил на вторую лошадь, сжал ей бока коленями, и все его существо взыграло, в жилах закипела кровь.
Потом, когда они стояли на опушке, держась за руки, он сказал:
— Я здесь останусь, Эржика!
— Останься, Николка!
И глаза ее, подобные двум черным омутам, стали еще глубже.
Тут показались верхами Калина, Гафа, Иван.
— Эржика! Эржика! — закричали они, приложив руки ко рту.
С тех пор Никола Шугай стал скрываться в лесах и на полонинах.
Если только не забредать в заколдованные места, где среди скал или на черных болотах водят свои хороводы злые духи и коварные русалки, так первозданный лес — самое безопасное место на свете. Уж он-то не выдаст! Есть там провалы, глубокие овраги, ущелья, широкие пространства бурелома, на чьих гниющих стволах всходят, подымаясь к солнцу, новые чащобы, сквозь которые не продраться оленю. Найти здесь Николу? Упорхнула пташка, поминай как звали! Первозданный лес пахнет тишиной и прелью. И этот запах, всю жизнь вызывавший в нем ощущение безопасности, еще ни разу его не обманул.
Он спал в заброшенных колыбах{175} или на полонинах, в оборогах.
Оборог — архитектурная форма, придающая особый характер всей Верховине, — как труба промышленному центру, готическая башня средневековому городу или минарет всему Востоку. Это сооружение состоит из четырех больших кольев, вбитых в землю по углам четырехугольника, и вздетой на них деревянной крыши. Крышу эту можно при помощи колышков подымать или опускать по мере того, как растет или уменьшается под нею стог сена. А между крышей и стогом — просторное место для ночлега, уютней и безопасней заячьей норы между скал. Извольте обыскать десять тысяч оборогов на горных лугах Верховины!
Там жил Никола Шугай. Не было пастуха, который отказал бы ему в молоке для кукурузной каши, не было чабана, который не напоил бы его жинчицей{176} у себя в колыбе. Отец носил ему на зимовку «У ручья» хлеб, Эржика таскала для него у своих кукурузную муку: Драчи были богатые. А он дожидался их обоих в лесу, постукивая топором о ствол дерева, чтоб им слышно было, где он скрывается. Какое было дело Николе, что его ищут жандармы? Когда ему говорили об этом пастухи и с испуганными (такими прекрасными!) глазами о том же твердила Эржика, он смеялся. Пускай гоняются! А стрелять вздумают, увидят, кому придется отведать пули!
В Колочаве жил жандармский вахмистр Ленард Бела, который выслеживал Николу, как хищного зверя. Он считал своим почетным долгом передать в руки короля этого дезертира; к тому же обязывала его и честь головного убора с петушиными перьями. Шугай был единственным дезертиром у него в округе и мог подать дурной пример другим.
Обыски в хате Шугаев ни к чему не привели. Напрасно скормил вахмистр шугаевским ребятишкам целый кулек конфет. Безуспешно угрожал их матери… А снова вызывать Петра Шугая в жандармский пост — безнадежное дело; бить фронтовика неудобно, а он, видимо, понимая это, твердит одно:
— Не знаю, не видал, не слыхал, ведать не ведаю.
Насчет Эржики вахмистру было невдомек: она рта не раскрывала, храня свою сладкую тайну. Вот пастухи с полонин «У ручья», Розы и Красной, Дёрдявы, Бояринской и Заподрины — те рассказывали, и вахмистр соблазнял их и грозил им: приведут к нему Николу — получай на водку, не приведут — под ружье и на фронт!
Ленард Бела стал похож на охотника, преследующего рысь. Он проводил целые дни в горах, всматриваясь в следы на топких местах, обшаривая пустые колыбы, взбираясь с биноклем на вершины, откуда далеко видно. Вечером шел домой, возлагая надежды на завтрашний день, ночью видел во сне Шугая. Как-то раз он в самом деле встретил его. На Красной. Тот шел прямо полониной. В каких-нибудь трехстах шагах. Как описать волнение охотника — полустрах, полувосторг, легкое ощущение смертельного ужаса, — когда он увидит на расстоянии выстрела дичь, которую так долго выслеживал?
Забежать вперед и выйти на Шугая из лесу было уже невозможно. И Ленард, прицелившись ему в ноги, выстрелил из карабина. Шугай повернулся, больше из любопытства, чем испугавшись, и, не пробуя схорониться, открыв все тело выстрелу, дал вахмистру выпустить еще одну пулю, а потом быстро зашагал в лес, провожаемый торопливой, яростной, бессмысленной пальбой побледневшего ловца.
Какой позор! Такие истории делают охотника совсем несчастным, лишают его сна, заставляют без конца осматривать мушку и патроны, проверять зоркость глаза и твердость руки стрельбою в цель, задумываться о возможности наваждения, помалкивать об этом скверном случае и казнить себя за промах.
Преследование Шугая стало страстью Ленарда. Как-то раз, после того как целую неделю лил дождь, вахмистр из разговоров с пастухами заключил, что Шугай скрывается в пустой колыбе «У ручья». Он переоделся в женское платье. Надел холщовую рубаху, передник, обмотал ноги белыми онучами, подвязал ремешками опанки, голову покрыл красным платком, на шею повесил стеклянные бусы, — и в лес. На плече он нес переметную сумку — будто с солью для овец либо кукурузной мукой для пастухов. За ним на некотором расстоянии следовал сельский стражник.
Никола заметил женщину издали. Увидев, что она идет прямо к колыбе и уже находится в каких-нибудь ста шагах, он вышел наружу с ружьем в руках:
— Стой, стрелять буду!
Но женщина продолжала идти, только замахала рукой. Дескать: «Эй, малый, не делай глупостей. Мне нужно спросить тебя кой о чем».
Подойдя к Николе, женщина вытащила из кармана револьвер, ударила его рукояткой по переносице, прыгнула ему на шею, вырвала из рук ружье и двинула прикладом по голове. Из лесу выбежал стражник, и они вдвоем долго били и топтали Шугая, пока тот совсем не обессилел. Тогда, одуревшего, связанного, они повели его в Колочаву. Ленард, у которого был спрятан в лесу узел с жандармским мундиром, переоделся и теперь, шагая по селу со своей добычей, весь сиял от сдержанной гордости, как охотник, который возвращается, внутренне ликуя, с удачного лова.
На другой день ефрейтор доставил Шугая в Хуст, а оттуда поездом в Балашдёрмат.
А что в Балашдёрмате?
Венгерский король не очень ценил тогда героические подвиги честолюбивых вахмистров; солдаты были ему нужны в другом месте, не в полевых судах да гарнизонных тюрьмах. Это успеется и после войны, если только преступник в расчете на помилование не загладит своей вины геройской смертью. Из маршевой роты Шугай опять бежал. С новой винтовкой и новыми патронами. Долго не раздумывал, как не раздумывает молодой волк, который сорвался с привязи и бежит, вытянув хвост и морду, куда влечет его инстинкт. В горы! К Эржике!
И вот в первозданных лесах, по кручам и плоскогорьям Тяпеса, Каменки, Стиняка, Стримбы, Красной, Бояринского опять повели облаву на волка, но уже на более обширном пространстве, более крупными силами и с большим азартом, чем прежде.
Вахмистр Ленард получил из Волового подкрепление. Главная засада была устроена в Сухарском лесу, в мрачном, заколдованном месте, которого все избегают. Но добычу взять не удалось. Наоборот, пострадал один из охотников.
— Не стреляйте! — крикнул Никола, завидя жандармские султаны.
Но жандармы открыли стрельбу. Он ответил тем же. В черной болотной топи остался лежать молодой жандармский ефрейтор с простреленной навылет головой.
Тогда-то Никола стал Николой Шугаем.
Во всем краю от Тяпеса до Стиняка и от Каменки до Хустской равнины не было хижины, где бы ему отказали в убежище или в ложке кукурузной каши. Он один не клонил головы перед бедой. Никола! Бесстрашный Никола! Он один говорит правду, а остальные бессовестно лгут. И пока все, у кого здоровые кулаки, не уйдут к нему в горы, пока не будут истреблены все эти жандармы, нотары, лесничие и богатые евреи, мученьям не будет конца.
— Скрывайся, Никола! Бей, стреляй, губи — за себя и за нас! А погибнешь, так ведь двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Наступил мир.
Но, господи Иисусе, что это был за мир! Неужели ради такого мира было пролито столько горячих слез перед иконой?
Словно дьявол в людей вселился. Или где объявилась новая комета? А может, прежняя не потеряла силы? Потому что ни у знатных, ни у простых не было, не могло быть таких грехов, чтоб искупать их перед богом такими бедами… По-прежнему надо было ездить на равнину по ту сторону Тиссы за золотым кукурузным зерном для каши и мешком пшеницы для белого хлеба, попрежнему — в горы и оттуда быстрей ветра вниз по Теребле с плотами, а мужики все никак не могли образумиться.
Откуда им было знать, что делается на свете, коли приходский священник и староста Герш Вольф врали каждый свое?
Но вот в конце октября, когда Колочава была уже под снегом, стали понемногу возвращаться домой фронтовики. Одни с винтовками, другие без винтовок, но все обросшие, вшивые, злые. Они тоже представляли себе мир иначе. И уж никак не ожидали, что жены при виде их испугаются: дескать, вот еще один рот все на ту же бочку кислой капусты да горстку картошки, собранных с огорода. Только тут мужья увидели то, на что во время побывок предпочитали закрывать глаза: в хлеву пусто, под оборогом — ни соломинки, в доме хоть шаром покати — ни щепотки соли, ни горстки муки, только немного картошки да капусты, которых до святок не дотянуть. Теперь уж это касалось и их. Начали они собираться, толковать.
А тут еще кто-то подлил масла в огонь сообщением, что сельский нотар тайно сбыл агенту из Хуста партию сапог, предназначавшихся для продажи населению по твердой цене. Он к таким махинациям привык. Забыл только, что теперь дома фронтовики, в которых еще сильны фронтовой дух товарищества и потребность действовать.
Это сообщение было для них разрывом вражеской гранаты. Вечером все сбежались к Васылю Дербаку. Набилась полна хата. Поднялся крик: «Нас обкрадывать вздумали? Шалишь! Мы на войне были! В окопах подыхали! А они тут четыре года только и знали, что воровать! Теперь мы им покажем!»
Спихнули старосту Герша Вольфа, выбрали нового — Васыля Дербака. Начальника себе выбрали — фельдфебеля Юрая Лугоша. Решили завтра пораньше собраться всем и чтоб каждый привел кого может. Первый грабитель — нотар Мольнар! Второй — Герш Вольф! Третий — Абрам Бер!
Утром сошлись. Много топоров, много штыков, изрядное количество револьверов, немного винтовок и унтер-офицерских шашек. Небритые солдаты в рваных мундирах, шагающие тем размеренным шагом, каким воинские части идут в окопы, малокровные подростки, жаждущие видеть, что будут делать старшие…
Испуганные женщины стояли кучками у дороги. Теперь, когда пришла пора действовать, они вдруг оробели: словно невесты, которых страшит осуществление их заветных чаяний. Как бы чего не вышло… Юрай Лугош, опоясанный длинной фельдфебельской саблей, подал команду:
— Шагом марш!
В Колочаву-Горб! Громить нотара Мольнара!
Но для того чтобы достичь каменного домика нотара, надо было пройти мимо жандармского поста. Ну, так прежде на него! Ввалились без лишней суеты и шума, как пристало солдатам. Но в посту — никого. Вахмистр Ленард знал насчет вчерашней сходки у Васыля Дербака и утром, получив донесение о том, что в Лазах собираются вооруженные, скрылся вместе со всеми своими людьми. В помещении поста нашлась только винтовка, ее взяли. Принялись разбивать обстановку. Точными ударами, умело и спокойно, работали на совесть. Стоящие снаружи женщины были взволнованы треском сокрушаемой мебели и вышибаемых изнутри оконных рам, звоном стекла и каким-то новым, профессионально сосредоточенным выражением лиц у мужей. Так вот как это выглядит! А если вам вложить побольше страсти в свое занятие, мужики?
В одноэтажном домике нотара Мольнара люди метались, как во время пожара. Тут о бунте узнали только что, когда толпа разгромила жандармский пост. Нотар надел узкие белые шерстяные штаны и куртку своего кучера, жена его нарядилась в холщовую рубаху и овчинный кожух, а плачущая служанка подвязала ей на ноги опанки, обвив ремни поверх онуч. Дети, закутавшись в одеяла, убежали прямо по снегу, через огороды, и по ледяной воде Колочавки — в лес на том берегу.
Когда солдаты ворвались в контору нотара, там уже никого не было. Им бросился в глаза большой стальной шкаф. Деньги! И наверно — много! Ведь нотар выплачивает военные пособия всем трем Колочавам. Над шкафом заработали топоры лесорубов. Но лезвия отскакивали от стальных стенок, не причиняя последним никакого вреда. Пошли в ход обухи, но они только сбивали краску, а острые грани оставляли в металлических плитах одни вмятины. Каждый норовил оттолкнуть другого: погоди, мол, ты не умеешь, ну тебя, дай я! Каждому хотелось испытать свою силу. Ах ты, черт! Ну никак. Взломать? Принесите-ка хороший лом!
А пока принялись громить жилище нотара. Но тут пошел уже не хладнокровный солдатский разгром: в дело вмешались женщины. У них щеки пылали, перехватывало дыханье. Четверть секунды, не больше, медлили они, ошеломленные невиданной роскошью.
— Вот из-за него мы мучились! — взвизгнула вдруг Евка Воробцова и пнула какой-то столик с вазочками, фарфоровыми фигурками. Столик опрокинулся; вазочки и фигурки зазвенели. Женщины нуждались только в примере: они тотчас, словно отведав радостей любви, стали вкладывать в дело больше страсти, чем те, кто их научил. Ринулись на обстановку. На мягкие кресла и диваны, на зеркальные шкафы, на скатерти и подставки для цветов, на все, оплаченное их деньгами, их слезами и кровью, на все, из-за чего сами они четыре года недоедали, а их ребятишки умирали с голоду. Разбили зеркало и стеклянные дверцы шкафов, сорвали на кухне полки с посудой, разломали мебель и, хрипло друг другу крича, но друг друга не слушая, возмущались каждым платьем, каждой шелковой комбинацией, рвали их и кидали в окна, на голову тем, кому не удалось попасть внутрь. Вспороли перины и, под ликующие возгласы стоящих снаружи, пустили перья по октябрьскому ветру. Рояль? Ах, это тот самый цимбал, из которого вылетали песенки, что они иногда слышали, проходя мимо! Ему подрубили ножки, он застонал, и они разнесли его в щепы.
С жилыми комнатами было покончено, а в конторе солдаты еще бились над несгораемым шкафом. Он лежал облупленный, весь в щербинах от ударов топором. К кузнецу его, расплавить в горне? Нет, на огне нельзя: ведь в нем бумажные деньги! Наконец, притащили сани, взвалили его на них; несколько мужчин, впрягшись, отвезли его к хате нового старосты Васыля Дербака и скинули там у дороги, прямо в снег.
Было уже далеко за полдень, когда фельдфебель Лугош привел свое войско обратно в Колочаву-Лазы. У женщин глаза горели, как после любовных объятий, и нервы их дрожали после жаркого дела, на которое они не пожалели сил. А теперь — на старосту Вольфа! На Герша Вольфа, перед чьей лавкой они целые дни простаивали в огромных хвостах, а подошла твоя очередь — оказывается, ни зернышка кукурузы не осталось… Ведь Вольф отпускал пайки только тем, кто носил ему цыплят и яйца, потому что посылал продукты целыми ящиками родным в Воловое и Будапешт, а пайковую кукурузу сыпал своим курам и откармливал ею гусей.
И еще — на Бера! На Абрама Бера, у которого всегда есть припасы в закромах, только он с тебя за них шкуру сдерет. Которому они относили все свои холсты, шерсть, овечьи шкуры, ягнят и кур; чьих коров за мешочек кукурузной муки всю зиму держали у себя в хлеву и кормили своим сеном, которого не хватало, так как его отбирал еще нотар для армии. Под напором этих воспоминаний ослабевшие нервы женщин вновь натянулись, как струны скрипки; по жилам их снова потоками побежала кровь. Полететь бы вперед! Они уже дрожали от нетерпения, с ненавистью оглядываясь на спокойно шагающих по дороге, словно равнодушные быки, мужиков.
Разграбили лавку старосты Герша Вольфа, разгромили его квартиру. Он тоже успел убежать с семьей. На складе оказался большой запас кукурузы, в лавке — несколько жестянок с картофельной патокой, немного цикория и кое-какие ткани, а в кладовой — пропасть гусиного сала, яиц и муки. Все это они со страшным криком расхватали — как пришлось, кому что досталось; сбежались ребятишки, засновали по деревне, потащили продукты в дома, волоча узлы по снегу. Мужики нашли в погребе бочонок вина, а в сарае, за дровами, — две бутылки спирта и выпили все это — не ради пьянки или от радости, а чтоб утолить солдатскую жажду.
Потом двинулись на Абрама Бера. Он тоже бежал. Разгромили и его квартиру, пух из перин вытрясли, но без увлечения, наспех, потому что хотелось не столько громить, сколько добраться до запасов муки, фасоли, шкур и материй. При дележе много было крику и споров, которые командир Лугош, привыкший к таким вещам на фронте, вокруг полевых кухонь, усмирял фельдфебельскими окриками, толчками и ударами.
Потом пошли на Мордухая Вольфа, Иозефа Бера, Кальмана Лейбовича и Хаима Бера. Расхищение их лавчонок прошло мирно, без крика; владельцы ожидали толпу почтительно у входа, под вывеской, и лица их выражали порядочный страх перед мощью народа, но в то же время не были полны невыносимого отчаяния, так что при взгляде на них не возникало желания закусить удила. Ну, квартиры хоть остались нетронутыми. Да там почти нечего было взять; проверили только, не спрятано ли чего.
А мольбам Герша Лейба Вольфа, старца в возрасте восьмидесяти одного года, винокура и самого крупного колочавского землевладельца, всевышний в конце концов внял. Да и как же возможно, чтобы он, пекущийся лишь о делах еврейского народа, пренебрег столькими молитвами, возносимыми к нему с самого утра, в минуту опасности, и столькими возгласами: «Господи боже всех евреев, услышь меня!» Господь подал старцу совет, говоря: «Выйди навстречу врагам своим и попотчуй умышляющих на тебя злое». Герш Лейб Вольф послушался. Он приказал своим женщинам выкатить из погреба на дорогу два бочонка вина, а в сене под оборогом позади дома у него спрятана бочка спирта: так чтоб выкатили и ее.
Уже вечером, завидев приближающуюся к его корчме толпу, он вышел ей навстречу и, обращаясь к начальнику и старосте, произнес как можно громче, чтоб все слышали:
— Я старик. Мне понятно, что делается на свете; знаю я, что все меняется. Отдаю вам всю свою недвижимость. Завтра, послезавтра или когда пожелаете, пойду с вами в окружной суд, в Воловое, и велю переписать ее на ваше имя. А товаров, вы знаете, у меня нет. Так зачем громить? Зачем слушать детский плач? Все, что я имею, — перед вами, и я прошу вас: пользуйтесь всем этим на здоровье.
Ох, старый пройдоха-ростовщик! Правду ли ты говоришь?
Запасы-то в доме есть! Да опыт целого дня ясно говорил о том, что на каждого слишком мало придется. К тому же брала свое усталость, и грабеж не доставлял уже радости. А бочки манили. И манил отдых.
На дороге были разведены костры. Старик принес все стаканы, какие были в корчме, а женщины из его дома — всю трефную посуду, то есть такую, из которой не смеет есть ни один еврей, так как в ней подается пища, с ритуальной точки зрения нечистая. И пошло пирование. Ибо пора было подвести счастливый итог этому счастливому дню.
Дочери Герша Лейба Вольфа и жены его внуков с тревогой смотрели из окон на веселье вокруг костров: что-то будет, когда все перепьются? Они дрожали за своего патриарха, который вышел защищать всю их фамилию. Старик с длинной белой бородой не уходил из толпы, ни единым взглядом не выдавая владевшего им нервного напряжения, он улыбался, со всеми разговаривал и относился снисходительно к присутствию бедных еврейских подростков, тоже прибежавших, чтобы выпить как следует — если не вина, так разбавленного спирта; в другое время он бы их прогнал.
Зрелище кишащей вокруг ярких костров толпы доставляло большое удовольствие детям младших дочерей Герша Лейба Вольфа и его правнукам — девочкам с большими глазами и мальчикам в бархатных шапочках, с черными, белокурыми и русыми пейсами. Они теснились к окнам и, не понимая серьезности момента, попробовали было затянуть еврейскую песенку, которой научились от матерей:
Ой-ой-ой, Нализался гой! Пьянчуга скверный Пропадет, наверно. Ой-ой-ой, На то он и гой!Но матери поспешно зажали им рот и прогнали их спать.
Среди дня повстречал народ в деревне Николу Шугая.
— Пойдем с нами, Никола!
Но Шугай только рукой махнул.
— Ничего я не хочу. Рад, что домой попал.
Поглядел на деревню, на толпу перед домом Герша Вольфа, Абрама Бера и вернулся в отцовскую хату возле Сухара. Николе Шугаю фронтовой дух товарищества был чужд. Никола был похож на рысь. Она тоже выходит на дорогу одна, одна дерется и одна умирает — от пули, либо забравшись, обессиленная, в чащу.
Ночью у костра перед корчмой Герша Лейба Вольфа произошло несчастье. Пьяные мужики стали отнимать друг у друга взятую в жандармском посту винтовку. Грянул выстрел, и двое — Иван Маркуш и Данило Леднай — повалились мертвые. Толпа затихла. Потом опять зашумела тревожно. «Что-то будет?» — пронеслось в мозгу побледневшего Герша Лейба Вольфа. Его дочери, жены его внуков отпрянули от окон и, схватившись за головы, зашептали:
— Шма, Исруэль![46]
Но, выглянув опять наружу, увидали, что старик продрался сквозь толчею к пьяному старосте и что-то объясняет ему, говорит командиру, приказывает еврейским парням унести мертвых. Ах, что за человек — наш дед! Святой старец! Толпа хлынула за парнями, уносившими убитых; шумя, стала расходиться. И через минуту перед корчмой остались только костры, почти пустые бочки да кровь на снегу, истоптанном так, что стала видна черная земля.
Да будет благословенно имя господне! Ни одной дуре не пришло в голову крикнуть с перепугу, будто стреляли из Вольфова дома, никто не упился до потери сознания, нельзя было поэтому взбаламутить толпу подозрением: а что, мол, спирт и вино — не отравленные? Измученный и окоченевший, Герш Лейб Вольф вернулся, наконец, домой. Усталым жестом старчески желтой руки остановил кинувшихся было к нему встревоженных женщин — дескать, не докучайте! — и прошел к себе в каморку. Перед тем как лечь, побеседовал с вечным, произнеся «Кришму»{177}. А ежели в четверг или во время шабаша в синагоге будет выставлена тора{178}, он вознесет перед ней благодарственную молитву — «Гоймл беншн», такую пламенную, какой не возносил с самого рождения своего младшего — Бонды.
«Хашем исбурех!»[47] День пережит.
Утром, когда бо́льшая часть Колочавы еще крепко спала, кузнец Сруль Розенталь, великан в кожаном фартуке, с черной, как уголь, бородой и такими же пейсами, застучал молотом по несгораемому шкафу возле дома старосты. Он обрушил на него чудовищные удары. Ни в какую! Тогда каждый из кучки веселых зевак попробовал свою силу. Но в конце концов шкаф, облупленный, с вмятыми стенками, весь щербатый, так и остался лежать в снегу у дороги.
На другой день перед церковью собрался сход мирян и духовенства. Был утвержден в должности новый староста Васыль Дербак. Потом Юрай Лугош — командиром. И больше не о чем было говорить, нечего решать. Назначили только людей в дорожные заставы с наказом, чтобы никто ничего из села не выносил и чтоб каждого вновь прибывшего сейчас же вести к командиру. Но из этого получились одни неприятности. Прибывали только солдаты с фронта; когда Лугош пробовал проверять их вещевые мешки, они кричали, ругались. Сын нового старосты, капрал Мишка Дербак, обросший щетиной, худой, измученный от долгого пути (он притащился откуда-то из Тироля), устроил Лугошу целый скандал: вынул револьвер и хотел застрелить командира, с которым имел какие-то счеты еще на фронте.
Но самоуправление продержалось всего-навсего еще день. Нотар Мольнар и вахмистр Ленард бежали за тридцать километров от Колочавы — в Воловое. Но Абрам Бер и Герш Вольф выбрали более удачное направление. Они двинулись в Хуст и сейчас же явились в комендатуру. Рассказали, какое создалось опасное положение. А комендатура относилась к таким случаям с особенным вниманием. Она направила на место происшествия роту солдат под командованием молодого поручика Менделя Вольфа, сына единственно законного колочавского старосты — Герша Вольфа.
На пятый день бунта, в пять часов утра — еще до света — воинская часть, осыпаемая легким снежком, вступила в Колочаву.
Поручик Мендель Вольф приказал своим солдатам:
— Вперед! Не давать пощады мерзавцам!
Нет, он — не прежний студентик, у которого колочавское сено торчало из сапог, а поручик Вольф! Он покажет им, как расхищать добро, которое должно перейти к нему!
— Ребята, вперед! Завтра старый пан привезет вина.
Солдаты звеньями разошлись по деревне. Но поручик Вольф не мог отказать себе в удовольствии навестить своих старых знакомых — командира Лугоша и старосту Дербака. С помощью четырех солдат он вытащил Лугоша из постели, и впятером они избили его так, что тот, весь окровавленный, рухнул к их ногам. На него вылили два ведра воды, велели ему одеться и, связанного, увели. Потом пошли к Васылю Дербаку. Дербак был разбужен дребезгом разбитых окон, в которые просунулись ружейные дула, и оглушительным стуком в дверь. Жена открыла, муж вскочил с постели, и перед ним, еще заспанным, появился Мендель Вольф с двумя солдатами.
— Доброе утро, господин староста. Я к вам с визитом.
Поручик погасил об нос Дербака сигарету. Потом кинул ее в сторону, вынул револьвер и прицелился в лоб Дербака, будто собираясь его застрелить. Мгновение он наслаждался этим зрелищем. Потом дал ему две оплеухи, велел его связать и увел.
— Господин староста, пожалуйте вперед.
Между тем солдаты орудовали в хатах. Избивали всех без разбору. У кого находили оружие, тех забирали. Одежду, инструмент, продукты — и принадлежащие хозяевам и отнятые ими у торговцев — выкидывали на улицу, в бочки с кислой капустой лили керосин, а не было под рукой керосину — мочились.
Ах, мужики, мужики! Какую же вы кашу заварили! Выходит, без вас лучше было!
Рота пробыла в Колочаве два дня.
Поручик Мендель Вольф опять все привел в порядок. Прежде всего отпер маленьким ключом лежащий у дороги перед хатой Васыля Дербака несгораемый шкаф, вынул из него тысяч триста с лишним крон и все ценные бумаги; деньги и документы взял себе, а шкаф приказал поставить обратно в разгромленную контору нотара. Все, что было выкинуто из хат, велел отвезти в отцовский сарай: отец вернется — торговцы получат возможность отобрать из этой груды каждый свое. Потом нанял двадцать местных парней — евреев и русинов — и составил из них «национальную гвардию»: выдал им ружья и велел унтер-офицерам своей роты обучить их.
На третий день вернулись нотар Мольнар и вахмистр Ленард Бела со своими жандармами. Вахмистр принял командование над «национальной гвардией».
Месть — сладкое блюдо, и Ленард Бела стал мстить. Мстили и евреи — за пережитый страх и от страха перед будущим страхом. Мстили за прошлый ужас еврейские матери, готовые полдеревни перевернуть, чтобы только найти недостающий горшок с гусиным салом. «Национальная гвардия» искала оружие и продукты, воровала и грабила. В хатах, кроме глиняного пола и кое-какой обстановки, ничего не осталось. Только патриарх и ростовщик Герш Лейб Вольф держался, как всегда, с достоинством и никому не мстил. Какая ему от этого прибыль? Или его внукам и правнукам?
Мало-помалу все стало опять на свое место. Опять хождение на поклон к Абраму Беру и Гершу Лейбу Вольфу за деньгами: под расписку либо под залог хаты и огорода, коли еще не все заложено. И богатые евреи опять стали сдержанны и уступчивы. Все как надо, как полагается.
В мирных условиях «национальная гвардия» была не нужна. Но вахмистр Ленард решил, прежде чем распустить эту свору негодяев и бездельников, обделать с ней еще одно дельце, он ждал только удобного случая. Шугай! Старая боль. Нет, он не заснет спокойно, пока не поймает этого хищного зверя, который столько раз от него уходил. Ноябрь будил охотничью страсть, а наст и радость всех звероловов — поро́ша — манили на промысел.
Ленард узнал, что Шугай живет в колыбе отца. Это — в трех часах ходьбы от деревни, вверх по течению Колочавки, в Сухарском лесу, — там, где лесосека с небольшой полянкой. Добраться туда можно: снегу немного, и вдоль Колочавки тянется тропа.
— Пойдем, ребята! — сказал он своей гвардии. — Сделаем из него говядину!
Двинулись в поход.
По дороге, возле Сухара, зашли к отцу Шугая, связали ему руки, увели его с собой.
Подойдя к цели, на минутку остановились в старом лесу отдохнуть. Ленард, рассматривая издали потонувшую в снегу колыбу на полянке, принимал последние меры и отдавал последние распоряжения. Построил гвардейцев цепью, сам поместился в середине, по краям поставил по жандарму. При виде гладкого снежного пространства, без единого следа на нем, у гвардейцев дух захватило. Как? Пройти двести шагов по открытому месту, подставив себя под пули Шугаева ружья? Но они боялись шелохнуться или дать тягу. Да, может, еще там никакого Николы и нет? Правда, над строением подымается дымок, но это ничего не значит: иной раз колода на очаге тлеет двое суток.
«Пускай бы парочку подстрелил, — думал вахмистр Ленард. — Хоть узнали бы, за что им деньги платят!» Он связал Петру Шугаю руки за спиной, стянув их так, что у того на лбу холодный пот выступил, а конец веревки намотал себе на руку.
— Вперед!
Стрелковая цепь выступила из леса. В несколько рывков наступающие преодолели полузамерзшую речку. Им хотелось, перелетев полянку, сразу очутиться возле колыбы, — но не тут-то было: ноги вязли в снегу — еле вытянешь! Ленард использовал Петра Шугая, как прикрытие: подергивая веревку, гнал его вперед, не давая ни метнуться в сторону, ни упасть на землю и, таким образом, сделать его, Ленарда, мишенью для Николы.
Все взгляды были устремлены к колыбе. Вдруг сбоку из окна выскочил Никола. Было хорошо видно, как он с ружьем в руке большими прыжками мчится к лесу.
— Стой! Стой! Стой!
Лес взревел. Грянул выстрел. Загремела вся цепь. Радость при виде убегающего живого существа унаследована нами от прапредков. Бег Николы сопровождался беспорядочной пальбой гвардейцев и тщательно нацеленными выстрелами жандармов.
На глазах у всех он скрылся в лесу.
— Вперед! За ним! — крикнул Ленард, дергая Петра Шугая за веревку, словно лошадь за узду.
Бежали, еле переводя дух и увязая в снегу.
Но вдруг спереди, из лесу, послышался голос. Отчетливый и грозный:
— Что вы ко мне лезете? Чего вам от меня надо?
— Стой! Стой! Стой!
По голосу можно было понять, что говоривший находится на самой опушке, скрытый за каким-нибудь старым буком. Стали стрелять в этом направлении. Выстрелов Николы за шумом не было слышно. И никто не заметил, как это случилось, но вдруг на снегу оказались лежащими два гвардейца: Ицко Шафар и Олекса Хабал. Ицко лежал навзничь, из шеи его фонтаном била кровь, окрашивая снег вокруг.
В первое мгновение гвардейцы как будто даже не поняли, что произошло. Стрельба затихла. Теперь стреляли только жандармы. А ясный, полный ярости голос из лесу кричал:
— Бегите, а то перестреляю всех до одного!
Они немедленно повиновались приказу. Помчались по снегу обратно в лес, спотыкаясь в своих собственных следах, только что проложенных. Окрики вахмистра Ленарда не произвели никакого действия.
И вот при виде этого смятения он, рванув веревку, повернул к себе Петра Шугая, прижал его спину к своей и, полувзвалив его на себя, полутаща по земле, зашагал обратно.
— Стреляй, Никола! Не бойся, стреляй! — закричал Петро, обезумев от боли.
Над его головой выдавалась часть головы Ленарда. Никола дважды наводил дуло на эту узкую полоску. И оба раза опускал ружье.
Жандармы скрылись в лесу за Колочавкой.
Воцарилась мертвая тишина. На равнине лежали двое. Ицко, среди окрашенного в розовое снега, был уже мертв. Олекса, раненный в грудь, старался приподняться, опираясь на руку:
— Николка, Николка!.. Что ты со мной сделал?
— Чего вы ко мне лезете? — еще раз прорычал из лесу голос Николы, как бы в озлобленное оправдание.
Между тем Колочава ждала возвращения гвардии. Взволнованная, она считала часы. Нетерпение женщин достигло предела, когда в село прибежали ребятишки из Сухара и рассказали, что жандарм подрядил там сани, которые должны были выехать как можно дальше навстречу отряду. Кого же это привезут? Отец наш небесный! Неужто Николу? Но вот сани приехали, и женщины, увидев, что с них сняли и внесли в помещение жандармского поста два мертвых тела, облегченно вздохнули. Бей их, Никола, герой наш, сокол! Почему наши мужья не такие? Почему они, что ни начнут, никогда не доведут до конца?
Поход на Николу Шугая был последней операцией «национальной гвардии». Вскоре ее распустили.
Но и владычество вахмистра Ленарда недолго длилось.
С удивлением заметив, что в деревне давно не видно ни одного жандарма, жители Колочавы узнали только о его исчезновении вместе с подчиненными неизвестно куда. Уехал и нотар Мольнар, и колочавцы несколько дней ходили вокруг запертой на замок конторы, глядя сквозь новенькие оконные стекла на облупленный несгораемый шкаф, теперь пустой. Никто не понимал, в чем дело. Но евреи знали: в Венгрии назревала революция и Ленардовы винтовки понадобились там.
Колочава осталась без начальства. Но жизнь шла своим чередом. И, право, не хуже и не лучше, чем при нем.
Вдруг одним зимним днем, в трескучий мороз, извозчик в бараньем кожухе подвез на санях к дому Абрама Бера двух закутанных в меха панов. Одного колочавцы узнали: это был драговский торговец дровами Соломон Перл. Другой — какой-то незнакомый юноша. Может, тоже торговец, приехавший нанимать людей на работу. Но теперь, в такие морозы? И везет его Перл? И лошади что-то слишком уж хороши! Абрам Бер тоже надел кожух, валенки и пошел с молодым приезжим по селу. Повел его по дороге в один конец, в другой. Они осмотрели вместе мостик через Колочавку, потом поднялись повыше на холм над селом и стали глядеть вниз.
Молодой человек был румынский офицер. На следующее утро в Колочаву вступили румынские войска.
И там остались.
Господи, за что на нас еще такая напасть?
Румыны грабили сено из оборогов вокруг деревни, грабили скот, а так как ходить за ним на зимовки было трудно, хватали у крестьянина последнюю корову в хлеву, оставленную дома для того, чтобы иметь зимой немного молока. За все это они выдавали расписки, по которым будто бы заплатят чехи, когда придут. Лезли в хаты, приставали к девушкам, останавливали на дороге прохожих вопросом:
— Эй, хозяин! Деньги есть?
И у кого не было, тому — в зубы.
Господи Иисусе, избави нас от такого мира! А ежели нельзя иначе, пусть уж лучше будет опять война! Тогда мы получали хоть пособия за мужей на фронте.
Зачем Никола Шугай вернулся в село? Зачем не захотел он быть лучше других? Зачем спрятал винтовку где-то в обороге, уподобившись их мужьям, которые ничего не делают и, бессовестные, только болтают, как малые дети, что вот, мол, сойдет снег, они ее вынут и добудут кабана либо оленя? Зачем не захотел, если уж не избавить их от насильников, так по крайней мере мстить?
Нет, Никола Шугай не был Олексой Довбушем. Он спустился со своих гор. Ради женщины. Ради горстки спелых вишен, которыми отзывалась Эржика. Он поселился у отца, возле Сухара, и, кроме как в церковь по воскресеньям, никуда не ходил. Словно никак не мог насладиться пышущим из хлебной печи теплом, словно никогда не желал ничего другого, как только играть с ребятишками да глазеть сквозь проделанную ребром руки на вспотевшем стекле полоску наружу, на высокие сугробы. Он стал таким же, как все. Может быть, даже немного хуже, так как вызвал слишком большое восхищение своим разбойничьим топориком, а сам выпустил его из рук. Трусливый солдат, дезертир.
Как-то раз, в воскресенье после обедни, Шугай вошел в хату к старому Ивану Драчу.
— Кум Драч, отдайте мне Эржику.
Вдруг, нежданно-негаданно. Эржика, залившись румянцем по самые бусы на шее, выбежала вон из жарко натопленной горницы. Старый Драч, ничего не знавший, не понял:
— Что? Эржику? Зачем? Почему?
Но тут был сын его Юрай, друг Николы, только постарше. Он недавно вернулся с войны и еще донашивал солдатский мундир, как Никола. Юрай любил сестру. Поднявшись с лавки, он встал перед Шугаем.
— За тебя, грабитель? Да лучше я брошу ее в Тереблю.
— Я никого не ограбил.
Больше ничего не было сказано.
Они стояли друг против друга, немного бледные, с горящими глазами. В горнице было тихо. Но ясно чувствовалось, что, продлись это напряжение еще минуту, оно разрешится выстрелом. Солдатские мундиры напоминали об убийстве.
Но натянутых нервов Николы вдруг коснулось благоухание вишневого дерева, разлившись по всему его телу. Он пожал плечами. Повернулся к выходу.
— Не отдадите за меня Эржику, спалю вам хату, Драчи.
И ушел, уводя за собой большое облако пара.
Во время румынской оккупации Колочавы Никола Шугай был арестован. Однажды утром за ним пришли солдаты с винтовками. Это случилось после того, как Абрам Бер обратил внимание военных властей на опасного человека, у которого как-никак на совести три убийства. Абрам Бер сделал это не из желания угодить румынам и познакомиться поближе с господами, хоть это тоже стоящее дело для торговца, а потому что у него были совсем особые, очень сложные планы насчет Петра Шугая. А так как он не знал — пора действовать или нет, то не поленился: велел запрячь лошадь в сани и совершил пятичасовую поездку в Воловое, чтобы разузнать насчет Шугая мнение большого начальства. Господа выслушали, потолковали с ним, расспросили, сколько, положа руку на сердце, можно еще взять в Колочаве хлеба и сена, и, когда он ушел, решили:
— Не держать же в этом голодном краю мужика на казенных хлебах. Это дела военного времени, пускай в них чехи разбираются, когда придут.
Через две недели Николу Шугая выпустили. И Абраму Беру ничего больше не оставалось, как наморщить лоб и проворно перебирать пальцами в русой бороде, словно играя на арфе. Значит, надо ждать. Сколько же еще?
Никола получил Эржику.
Потому что страх старого Ивана Драча оказался сильней даже, чем ненависть его сына Юрая.
Никола сколотил еще одну широкую кровать, похожую на большие ясли, — ложе на высоких ножках и с таким же низким изголовьем, как спинка в ногах. Поставил ее в светелке отцовского дома и постлал на ней постель из сена и овчин. Потом принялся рубить деревья на лесной опушке и, привязав к лошади, спускать их волоком по снегу в долину, чтобы весной поставить себе отдельную хату.
Сыграли свадьбу. Обвязали Эржике правое запястье белым платком, надели ей на голову венец с жестяными блестками и множеством белых звездочек. После длинной-длинной службы в церкви перед пятьюдесятью ликами святых на иконостасе, после многократных возгласов священника «Господу помолимся!» и дьяконовых «Господи, помилуй!» священник одной рукой прижал к губам жениха и невесты деревянное православное распятие, другой окропил их из кропильницы и соединил их руки под епитрахилью. А перед родным домом Николы, после того как молодые прошли под двумя связанными караваями хлеба, мать осыпала их овсом, а младшая сестра Николы, взяв в руку пучок соломы, окропила их водой из разукрашенного ведра. Потом танцевали под монотонный напев одной-единственной скрипки, поели мяса кабана, добытого старым Петром (чего смотрят лесники казенных заповедников!), а пили только воду. Потом, уже поздно вечером, в светелке, подруги невесты сняли с ее головы венец, она простилась с ним троекратным поцелуем; Никола в свою очередь трижды поцеловал его и отдал Эржикиной матери. Потом он трижды накидывал на Эржику головной убор замужних — платок; дважды кидала она этот платок обратно, но в третий раз подруги обвили его ей вокруг головы и завязали по-бабьи. Никола Шугай стал колочавцем. Он мог теперь рассчитывать на то, что, прежде чем наступит старость, прежде чем его задавит деревом в лесу, прежде чем плоты на крутых излучинах Теребли переломают ему руки и ноги, у него будет много ребят и мало кукурузной каши, много горя и мало коротких радостей.
На горах южней Колочавы еще лежал снег, а по северным склонам уже цвела мать-мачеха.
Дошло до Николы, что румынам требуются лесорубы: где-то далеко, возле Вучкова, но платят деньгами, не расписками. В доме кончилась кукуруза.
Никола надел бараний кожух, косматой шерстью наружу, топор — на плечо и пошел: только бы взяли на работу!
Миновал холмы на юге, перешел водораздел двух рек и спустился по теплому горному склону, лесом, вдоль реки, к Вучкову. Земля налилась весенними соками, бурлящий потоп катил высокие волны, скрыв от глаз уступы порогов. Никола подошел к залитой солнцем лужайке. К той самой, где бьет серный источник и куда вучковские еврейки тащат с самого низа свои корыта, чтобы камнем, раскаленным на костре, согреть в них воду и купать свой нажитый в лавчонках ревматизм.
На просеке было пятеро мальчишек с лошадьми. Они развели костер и жгли можжевельник, который глушит здесь траву. Весенний дух зажег им кровь и сделал их буйными, как тот жеребенок, на котором скакал взад и вперед один из них. Другой мальчишка, маленький, коренастый, гонял остальных лошадей, щелкая над ними длинным кнутом на коротком кнутовище.
Встав на большой камень и ловко крутя кнутом над головой, коренастый производил с его помощью короткие выстрелы, раздававшиеся по всей долине.
— Я — Шугай! Я — Никола Шугай! — кричал он.
Шугай замедлил шаг.
Улыбнулся.
Но не столько от радости, сколько от неожиданности.
Так вот какова его слава? Даже сюда дошла!
Сойдя с тропинки, он направился к мальчишке, уклоняясь от затейливых зигзагов, описываемых длинным кнутом. Грозно нахмурившись, крикнул:
— Хо! Я — Шугай и сейчас тебя съем.
Парнишка опешил. Но, заметив в глазах Николы веселые искры, осклабился. Сбежались остальные, и он, указывая на Николу, воскликнул:
— Будто он вот и есть Шугай!
Пастушата залились озорным смехом и, на всякий случай отступив чуть подальше, загалдели:
— Шугай! Шугай! Шугай!
— Настоящий Шугай! — с улыбкой подтвердил Никола.
— Коли вы — Шугай, дайте нам миллион, — сказал сидевший верхом на лошади.
— А где у вас веточка? — спросил другой.
— Какая веточка?
— Вы не знаете, что у Шугая есть веточка?
— Нет, не знаю.
— И что он отгоняет ею пули?
— Нет.
— Не много ж вы знаете!
И ребята опять захохотали.
Шугай с улыбкой повернулся и пошел.
— Шугай не такой хлипкий, как вы! — крикнул ему вслед верховой, готовый стиснуть пятками бока жеребенка и умчаться, в случае — Никола ненароком обернется.
— И усы у него куда больше, — добавил маленький, коренастый.
Но Никола больше не оборачивался.
— Где у вас веточка? — послал вдогонку третий, и остальные, приложив руки ко рту, закричали:
— Одолжите нам веточку, Шуга-а-а-й!.. Одолжите зеленую веточку!
Никола миновал лужайку и опять вошел в лес.
Вот как велика его слава!
Ритм ходьбы пробудил в нем воспоминания, и они потянулись друг за другом вереницей, как его шаги.
Может, и впрямь у него зеленая веточка? Ребятишки правы. Сколько раз в него стреляли. И на фронте, и здесь. Из какого только огнестрельного оружия не палили! Под Красником из всей его роты уцелело только трое, он в том числе. Даже ранен не был. С предмостья на Стоходе вернулся один-единственный. А Красна! Черное Болото! Сухар! Есть ли на свете человек, который остался бы жив под этим градом пуль? Разве все это могло получиться само собой? Нет, это не само собой! И что еще удивительней: он всегда знал, что останется невредим. И под Красником, и на Стоходе, где всякая надежда казалась безумием, и в сотне других мест: и на Красне, и на Черном Болоте, и в Сухаре. Он знал, что с ним ничего не может быть. Что его никакая пуля не тронет. Ни ружейная, ни пулеметная, ни орудийный снаряд. Значит, у него талант такой? Да, такой талант.
При этой мысли мурашки пробежали по спине у Николы.
Крика ребят давно не было слышно.
Или он в самом деле мог бы стать Олексой Довбушем? Или в самом деле упустил свою славу ради женщины? Закопал свой великий талант в землю, не сумев ничего от него добиться, кроме нищенского существования?
Никола Шугай замедлил шаги. Земля стала мягкая, и их не было слышно. Налево шумел и ревел поток, катя мутные волны там, где должны были быть водопады.
Как же можно, обладая волшебной веточкой, жить так бедно, так убого?
Или она имела силу только во время войны, а теперь ее потеряла?
НИКОЛА ШУГАЙ
Абрам Бер только что беседовал у себя в комнатке с господом, своим повелителем и другом. С косточкой тефилина на лбу, обмотав ремешки от него вокруг левой руки, ибо в ней пульсирует кровь, что исходит из сердца, и завернувшись в белый с черным полосатый талес, он возносил утреннюю молитву «Шахрис»: «Ма тойви ойгулеху Янкойв» — «Как прекрасны шатры твои, Иаков».
А теперь он стоял перед своей лавчонкой, где весь товар можно было купить за три сотни и унести в корзине на спине. Стоял и раздумывал о своих делах. А дела эти были сложны и запутаны, и требовалось много внимания, размышления и труда, чтобы их размотать, распутать, расправить и снова намотать как следует. Левый угол рта был у него приоткрыт и приподнят, левая ноздря — тоже приподнята, левый глаз — прищурен, лоб нахмурен; руки перебирали пряди русой бороды, будто струны арфы. После шабаша все колочавские евреи стоят так перед своими лавками, и дела у всех у них запутаны и полны проблем, которые можно решить десятью разными способами, а то и не решить вовсе. Потому что торговля — это не только деланье денег. Это философия, политика, вся сложность жизни, ее смысл и страсть, нисколько не уступающая страсти любовной. Дела — созданья вечного, посланные на утеху детям божьим. И, право, нет большей радости, чем двигать их и играть ими.
«Плохо! — думал Абрам Бер. — Опять новые хозяева: чехи. А где порядок? Кажется, должен бы быть. Но нет порядка. Чехи пришли, а кто их знает, как они себя покажут? Президентом — профессор, книги пишет{179}, — но скажите на милость, что может профессор понимать в торговле? Говорят, написал какую-то книгу о ритуальных убийствах — насчет этой самой Анежки Грузовой и бедняги Гильснера{180}, которого недавно выпустили. Это бы не плохо. Да все равно — хорошего не жди. Кто его знает? Конечно, нам надо быть с чехами. Что поделаешь? Жить нужно… Все-таки лучше, чем в Польше или в Румынии. А в Венгрии-то? Ай-ай-ай-ай-ай! Бела Кун{181}. Упаси Боже! Еврей, который от своего господа бога отступился, — хуже десяти тысяч христиан! Голова еврейская, а душа гойская. Всемогущий жестоко его покарает. Ц-ц-ц! Уж лучше чехи.
Только с кем они пойдут? С этим мужичьем или с нашими людьми? Поймут, что в этой стране нельзя управлять без евреев? А вдруг не поймут? А может, и поймут, да через два года, через три, через десять лет. Конечно, рано или поздно даже христианский мозг должен это понять. Ну, а до тех пор? Ах, беда! В торговле застой; скота нету, с зерном никаких сделок, еще спирт туда-сюда, — Вольфы могут радоваться. Ай-ай-ай-ай! Вот, может, с землей что выйдет? Эх, горе! И когда только от Николы Шугая избавимся? Негодяй, разбойник, чтоб ему пусто было, злодею!»
Абрам Бер приоткрыл еще чуть-чуть левый уголок рта, подтянул еще немножко кверху левую ноздрю. Потому что самый больной вопрос — это как раз вопрос о Шугае.
Положение было сложное, и вот в чем оно заключалось: люди, рожденные в этих горах, больше не принадлежали к одному государству, а были разделены между Польшей, Венгрией и Чехословакией{182}. Глупо, конечно, ставить человеку прямо перед носом таможенные преграды, но хороший торговец должен уметь и такие вещи использовать. И второе: узкие полоски огородов и лугов все время еще больше дробятся. Отец выдает замуж дочь и дает за ней несколько квадратных саженей земли под конопляные посевы, или отец умирает, и его полоску делят сыновья. Куски эти разбросаны по всей долине — один здесь, другой там, и хозяева, желая иметь цельный участок, выменивают отдельные полоски друг у друга, давая впридачу кто корову, кто три овцы, кто десять метров холста. Понятное дело — без всяких адвокатов и окружных судов, на которых нет ни времени, ни денег, а просто так, по-приятельски, по-соседски. Оттого-то в поземельных записях числится не теперешний хозяин участка, а какой-нибудь старинный владелец. Но многие из этих прежних владельцев очутились теперь как раз в Венгрии либо в Галиции. И уж это дело Абрама Бера — съездить в Воловое, заглянуть в поземельные записи, проверить. И написать в Коломыю Мойделю Зисовичу либо в Дебрецин Целигу Лейбишу. А Зисович или Лейбиш зайдут у себя там к Михалю Хемчуку либо Митру Вагеричу и скажут ему:
— Эй, ты! Есть у тебя в Колочаве какая земельная собственность?
— Эх! — ответит Хемчук либо Вагерич. — Откуда она у меня возьмется? Ты же знаешь: я дрова рублю. Осталось мне там кое-что после отца; судились даже тогда, а потом кое-как поладили с сестрой и зятем, да только и у них уж ничего не осталось. Клочок продали, клочок променяли. Насчет этого в Колочаве спрашивай.
— Постой, — скажет Зисович или Лейбиш. — Я знаю. Но у этих новых властей — всякие придирки. Надо, чтоб ты написал, что продаешь мне ту землю.
— А что ты мне дашь?
— Что дам? Три злотых дам.
Хемчук и Вагерич задумываются. Они ни черта не понимают. Но отчего не продать то, что тебе не принадлежит? А ежели еврей задумал кого обмануть, тебе-то какое дело?
— Дай пять!
— Бога не боишься! — кричит Зисович или Лейбиш. — За что? За твои три крестика, которые мне ходить заверять каждый раз придется? Ну, что ж, не хочешь — не надо: устрою в другом месте.
И Зисович или Лейбиш купит клочок земли за три злотых двадцать грошей либо за пятьдесят венгерских крон и перепродаст его Абраму Беру в Колочаве за двести чехословацких крон. А Абрам Бер отправится со всеми относящимися к этой сделке документами в воловский окружной суд и перепишет участок на свое имя. Так он поступил и с лугом, на котором косит сено Петро Шугай.
Выражение лица у Абрама Бера становится все более озабоченным.
Видит бог, двести крон — огромные деньги за товар, который не знаешь, когда получишь. На еврейского Петра и Павла? Ай-ай-ай-ай! То есть можно, понятно, перепродать его дальше, кому-нибудь из Мукачева или Хуста: ясное дело, лучше, ежели с этим деревенщиной станет тягаться кто-нибудь посторонний. Да беда в том, что продать-то невозможно. Луг этот граничит с лугом Абрама Бера. Но луг Абрама Бера прошлый год весной Колочавка на трое суток заняла под свое русло, а когда она опять вошла в берега, этот славный участок, — тысяч на шестьдесят, не меньше, — превратился в груду валунов, на котором не взойти и ветле. Шугаев луг обязательно надо приобрести, такой случай упустить невозможно. Старому Шугаю Абрам Бер не побоялся бы объявить, что Шугаев луг на самом деле принадлежит ему, Беру. Но как отделаться от сына? У того из каждого глаза семь ножей глядит, и таким разбойничьим рукам задушить человека ничего не стоит. Ох, беда! Да как еще поведут себя чехи?
Но что это? Куда бежит Изак Герскович с парнишкой Дейви Менчелем?
И ловкач же этот Изак Герскович из Гемёзфальвы! Такой пройдоха. Сколько поставил овчин на драгунские полушубки! Ц-ц-ц! Кучу денег загреб, паралич его разбей!.. Но куда же это они так спешат? Будто кто им пятки жжет!
— Ну? — спрашивает Абрам Бер, когда они пробегают мимо него, но спрашивает только оскалом зубов да руками с растопыренными пальцами.
Но Изаку Герсковичу, видно, некогда. Махнув рукой, он кричит: «Не до разговоров!» — и бежит дальше.
«Ну-ну, — думает Абрам Бер, глядя им вслед. — Что случилось с этим пройдохой?»
А с Изаком Герсковичем в самом деле кое-что случилось.
Они с Дейви бежали на жандармский пост.
Там Герскович, волнуясь, все рассказал вахмистру.
Нынче, 16 июля, он должен был послать на полонину Довги Груни, общинное пастбище для мелкого скота окрестных деревень, за обычной годовой выручкой от шести своих овец — шестью гелетами, то есть семьюдесятью литрами молока или выделанной из последнего брынзой. При этом, желая иметь сыр кошерный и опасаясь, как бы чабаны не приготовили его руками, за минуту перед тем, может быть, державшими кусок свиного сала, или еще каким-нибудь способом не сделали его трефным, он хотел сам проследить за изготовлением и отнести туда для закваски кусок сычуга от теленка, зарезанного по ритуалу. Он взял приготовленный еще накануне мешок с точно отмеренным количеством кукурузной муки, которое обязан был отпустить чабанам и собакам на пропитание; в другой мешок положил деревянные ведра для сыворотки, попросил своего племянника Дейви помочь ему тащить все это и, помолившись богу, пустился с ним в путь. Вскоре после полудня, потому что на Довги Груни надо идти Сухаром, потом карабкаться по тропинке, которая тянется вдоль Заподринского ручья, потом пересечь табунное пастбище, потом шагать по крутому берегу Тиссы — в общем, добрых пять часов ходьбы. Там предполагали переночевать.
На Довгих Грунях колыба совсем простая. Только покатый навес из хвороста и перед ним — маленькая изгородь, чтобы овцы ночью не приходили лизать спящим носы; на изгороди — несколько деревянных подойников. Вечером Герскович и Дейви сели вместе с чабанами у костра, достали пшеничный хлеб, сыр, лук и поужинали. Потом растянулись на траве, глядя на пылающий костер и кверху, на звезды. Вдруг собаки кого-то почуяли. С диким лаем помчались куда-то. Раздался выстрел. За ним другой. Изак Герскович видел, как одна собака перекувыркнулась через голову.
— Рибейней шел ойлэм![48] — воскликнул Изак Герскович и бросился ничком на землю.
Тьма огласилась выстрелами. Частыми, близкими. Лес вокруг повторял их. Изак Герскович, вдавившись всем телом в траву и уткнув нос в холодную землю, зашептал быстро-быстро, без передышки:
— Шма Исруэль! Шма Исруэль! Услышь, господи! Еврей взывает к тебе!
Вдруг над ним раздалось:
— Подымайся!
Но для того чтоб Изак Герскович послушался, к многократному требованию должен был присоединиться пинок. Рядом с ним встал бледный, как сыр, Дейви. И против — два молодца. Чабанов — как не бывало: разбежались. Молодцы были в старых солдатских мундирах, а нижняя часть лица — завязана платком. Один был без шапки; черные волосы его свисали на лоб; в руках он держал винтовку. У другого на голове была военная фуражка с опущенными бортами, застегнутыми под подбородком, как зимой у солдат на фронте, чтоб уши не мерзли. При свете костра Изак Герскович увидал, что шагах в двухстах лежат еще три парня с наведенными на него винтовками. Парень в фуражке пнул ногой в костер, чтобы приглушить огонь, и разметал головни.
— Руки вверх! — крикнул он.
Ах, поднять руки выше, чем их держал Изак Герскович, было уже невозможно.
— Что тут у вас в колыбе?
— Сыр, — ответил Изак, стуча зубами.
— Мы его заберем. Иди домой.
Но другому приглянулись отличные сапоги Герсковича.
— Разувайся!
Он взял их себе. Потом оба пошли в колыбу, вынесли оттуда брынзу и бочонок урды — овечьего творога. Когда они катили бочонок мимо костра, у парня в фуражке с опущенными бортами сдвинулся платок с лица, и Изак Герскович узнал Николу Шугая.
«Никола Шугай!» — задумался жандармский вахмистр.
Изак Герскович взволнованно рассказывал о пережитом страхе, о том, как парни отняли у него восемьсот крон и еще раз — о похищенных сапогах.
Вахмистр размышлял. Никола Шугай? Он хорошо знал этого молодчика: ему рассказывал о нем Абрам Бер, требуя, чтоб этого злодея арестовали. Но так как Шугай вел себя смирно, не доставляя жандармам никаких хлопот, и, кроме того, было не совсем ясно, как смотреть на действия Николы: как на подвиги в боях с венграми или же как на тройное убийство, — вахмистр послал о них рапорт в областное жандармское управление. Но теперь — совсем иное дело. Официальные распоряжения относительно Подкарпатской Руси очень строги; в Словакии еще идут бои; в Венгрии захватили власть коммунисты{183}. Допускать здесь образование разбойничьих шаек ни в коем случае нельзя. Вахмистр задушит их железной рукой.
Однако дело было не совсем так, как изображал Изак Герскович. Ни одной собаки не было убито. Никакие три парня с расстояния двухсот шагов в Герсковича не метились из винтовок. На Довгих Грунях были только Никола Шугай и Васыль Кривляк, который позже в Хусте признался. Но сомневаться в правдивости Изака Герсковича из-за этих двух ошибок все же нельзя, так как он действительно все это видел. А вот насчет восьмисот похищенных крон его можно заподозрить в неискренности, хотя опять-таки надо сказать, что он этим заявлением решительно никому не хотел повредить. Дело в том, что положение его было довольно сложное: на другой день он должен был уплатить Менделю Блутрейху из Горба семьсот с лишним крон, сумму, получившуюся в итоге весьма запутанных и бурных подсчетов взаимных — своих и чужих — долгов, но не имел возможности сделать это, так как означенная сумма была нужна ему для покупки овчин. Мендель страшно рассердится и не поверит, даже если Изак Герскович присягнет, выступая свидетелем по делу Шугая, так как ему, Менделю, как любому еврею, прекрасно известно, что господь бог не понимает по-гойски и не захочет уделить ни секунды внимания какому-то чехословацкому суду в Хусте. Но может ли торговец упускать такой случай?
— А Шугай заметил, что вы его узнали? — спросил вахмистр.
— Боже правый! Конечно, нет. Ведь он меня убил бы!
— Вы кому-нибудь рассказывали об этой встрече?
— Нет. Я кинулся прямо сюда, только забежал к шехтеру{184} попросить сапоги на время. Но там никого из взрослых не было дома, а детям я ничего рассказывать не стал.
Вахмистр решил сперва несколько дней понаблюдать за Шугаем. Надо уничтожить всю банду!
— Ладно, — сказал он. — Никому об этом не говорите. А ты если будешь болтать — посажу! — вдруг гаркнул он на Дейви Менчеля. Дейви так и не понял, почему тот на него кричит.
Прошло два дня, в течение которых вахмистр не заметил ничего подозрительного.
На третий день Николу арестовали. В горах, на Дёрдяве, где он косил с Эржикой сено. Там есть оборог. Они спали в нем на сене под самым навесом. Эржика положила голову на плечо Николе, а он прижался лицом к ее волосам. В таком положении жандармы их и застали. Солнце уже стояло над Розой.
К полудню его привели, связанного, угрюмого, на жандармский пост. Заставили ждать.
— Ну, кто был с тобой на Довгих Грунях? — начал допрос вахмистр.
— Нам нечего было есть. Всем нечего есть… Ни зерна кукурузы, ни чашки творогу, ни кочна капусты. Не помирать же с голоду?
— Тебя об этом не спрашивают. Кто эти четыре парня, которые были с тобой?
Шугай удивленно взглянул на жандарма.
— Со мной был только один. Но я не скажу, кто.
— Ишь ты, деревенский рыцарь! — сдержанно промолвил вахмистр. — Ну-ка, наденьте на него кандалы!
Когда Шугая сковали по рукам, вахмистр дал ему оплеуху.
— Говори, кто были те четверо? — заревел он.
Шугай вобрал голову в плечи и хотел ударить жандарма в живот лбом, как баран. Но один из ефрейторов схватил его сзади. На Шугая градом посыпались удары.
— Говори, кто были четверо?
Он заскрежетал зубами, пустил в ход локти, ноги. Три раза его валили на землю, и три раза он вставал. Только несколько ударов плетью из бычьей жилы заставили его сдаться.
Тогда ему спутали ноги и привязали к стоявшей тут же, в служебном помещении, швейной машине вахмистровой жены. Зная Николу Шугая, побоялись сажать его в холодную: она была полуразрушена осенними бурями, а румыны не позаботились о ремонте.
Слух об аресте Шугая прошел по всем шестистам хатам, сбившимся в долине Колочавки и рассеянным на пространстве двенадцати квадратных километров по горным склонам.
Шугай? Никола Шугай? Значит, Эржике Драчевой не удалось надеть на него ошейник и привязать его к супружеской кровати; все они возводили на него напраслину. Никола арестован? Черта с два! Николка убежит от чехов, как уже бегал от венгров и румын. Николка убежит в горы и будет их бить.
Абрама Бера это известие привело в восторг. Ну! Как? Где? Когда? Да будет имя господне благословенно! Наконец-то! Завтра или послезавтра он пойдет к Петру Шугаю и объявит ему, что его, Шугаев, луг — на самом деле луг Абрама Бера.
Что это был за голос в ночи?
Чей голос?
Ни у одного из жандармов не было времени отвести Шугая в Воловое, и Никола уже вторую ночь сидел на полу возле швейной машины.
Боль от ударов плетью прошла, мучительное онемение ноги — тоже. Утих и первый безумный приступ ярости. Но все тело, даже в покое, не чувствовалось, казалось чужим. В комнате светила стоящая на трехногом столе маленькая керосиновая лампа, а за окном — звезды. На койках спали три жандарма. Никола уже оставил занятие, которому посвятил первую ночь и на которое весь день возлагал большие надежды, то есть попытки выпростать руки или дотянуться зубами до узлов; попытки эти ничего не дали; от них только сильней разболелось все тело. Глаза его блуждали по жандармским винтовкам на стене, и блеск их затворов при свете маленькой лампы действовал на него усыпляюще.
«Выберусь я отсюда?» — вот единственная мысль, заполнявшая его сознание. И сегодня она была последней.
«Выберусь!» — ответил он себе в сотый раз, и усталое сердце его в сотый раз стало биться спокойней.
Положив голову на железную подставку швейной машины, он заснул тем тяжелым сном, когда чувствуешь, что малейшее движение причиняет боль, все тело ноет, но нет сил проснуться. С реки долетала странная музыка колочавской ночи: глухие удары мельничной толчеи, валяющей сукно. Никола слышал этот звук, но словно в дали, в бесконечной дали, до которой никогда никому не добраться.
Он спал. Он наверное знает, что спал.
И вдруг в тишине — опять тот голос:
— С тобой ничего не может быть!
Он прозвучал в ночи звонко и удивительно отчетливо, словно выкованный из металла.
Никола рванулся. Но веревки врезались ему в мышцы. Была нестерпимая боль. Он очнулся. Что это было? Три жандарма спали на койках — ни один из них не пошевелился.
И опять из безмерной дали, оттуда, где прежде была мельничная толчея, еще раз, уже тише, послышалось:
— Ты выберешься отсюда!
Никола вперил безумный взгляд в желтый огонь лампы.
Что ж это за голос говорит с ним? Может быть, его собственный волшебный голос?
Теперь мельничная толчея подошла к самому окну жандармского поста, и тупые удары дерева о дерево, с суконной прокладкой между ними, громко слышны.
Никола не спал до утра. Старался заснуть и не мог.
Чей был этот голос?
В окнах опять стало светать, зазвенел будильник, жандармы встали, оделись, позавтракали, делая вид, будто его не замечают, потом отвязали от машины и вывели на минутку во двор, потом опять привязали и один за другим ушли, оставив, наконец, его наедине с помощником жандарма Власеком.
Время к полудню. Власек сидит за столом с сигаретой в зубах, спиной к Николе, и что-то пишет в толстой книге. Больше никого нет. Взгляд Николы перебегает от ключа в двери к трем оконным задвижкам и скользит по их блестящей меди. Голова его опять заработала. Он до сих пор весь полон тем ночным голосом.
Да, он отсюда выберется. Ему случалось попадать и не в такие переделки. У него зеленая веточка. Ни одна пуля его не возьмет: ни ружейная, ни револьверная, ни пулеметная, ни орудийный снаряд. Но как действовать? Насилием? Пока нет. Просьбами? Чушь. Ждать помощи друзей? Она возможна, только когда его будут переводить. Или ждать, пока отправят в Воловое либо в Хуст, где его положение станет гораздо хуже? Нет! Он попробует еще одну штуку. И не с кем другим, как вот с этим самым Власеком, который сидит перед ним. Почему Никола выбрал его, он сам не знает. Ему пришло это в голову вчера, когда он увидал, как тот смеется. Может, тут сыграл роль взгляд Власека, может смех. Он не раздумывал над этим.
— Я не нищий, — вдруг промолвил Шугай. — У меня скотина есть. Продать — тысяч шестьдесят выручить можно.
Помощник жандарма не счел нужным даже повернуть голову в его сторону.
— Чехи здесь не останутся, — помолчав, произнес Шугай.
Жандарм курит, продолжая писать в книгу. Тишину нарушает лишь скрип пера. Зеленое сукно туго обтягивает широкую спину.
— Были немцы — отступили. Были русские — ушли. Румын — как не бывало. Венгров — тоже.
Власек не обернулся, но оторвал от листа клочок бумаги. И этот звук поразил слух своей резкой неожиданностью. Жандарм записал на оторванном листке слова Шугая.
— Через несколько недель вы тоже уйдете, и никто не спросит, что сталось с Николой Шугаем.
Снова тишина. Слышно, как кровь стучит в ушах. Хорошо пахнет сигаретой.
Наступила роковая минута в жизни Николы. Но он не подозревал об этом: он знал только, что вот сейчас решится, оставаться ли ему привязанным к швейной машине, или можно будет выйти на волю, где воздух и солнце.
В полдень пришла Эржика, принесла обед.
Жандарм повернул к ним свой стул и положил себе на колени винтовку с примкнутым штыком.
Шугаю не хотелось кукурузной каши; он от нее отказался, так же как в первый и во второй день ареста; взял в связанные руки кружку с молоком и стал пить, пристально глядя на Эржику.
— Продай обе коровы из твоего приданого! — зашептал он между глотками. — Абраму Беру. Отец пускай продаст лошадь… Гершу Вольфу… Сейчас же… Быстро… Займи, сколько сможешь… И неси сюда! Жандарму… Сейчас же… Слышишь?
Эржика ушла, и жандарм опять повернулся к книге.
«Слышал он или нет?» — подумал Никола, и сердце его заколотилось. И еще: «Успеет ли Эржика вернуться, пока нет никого, кроме Власека?»
Эржика успела. Она принесла тридцать тысяч и положила их на стол перед жандармом. Но Власек был так поглощен своим занятием, что не имел времени взглянуть ни на пачку банкнот, ни на уходящую Эржику.
Тишина была невыносима.
Июльский полдень лил в окна широкие потоки солнечных лучей. Жандарм лениво закурил новую сигарету, и дым ее поплыл в голубом воздухе волнистыми змейками.
«Сколько же тут? — думал Власек, поглядывая искоса на пачку кредиток. — Двадцать пять? Тридцать? Вряд ли больше. По нынешним ценам на эти деньги можно купить корову. Ну, скажем, две». Он наклонился, будто ища чего-то в нижнем ящике, и, заслонив деньги своим телом, сунул их себе в карман. Кто докажет? Да вообще, ну ее к черту, жандармскую службу в этой Сибири!
Он встал, окинул Шугая равнодушным взглядом.
— У тебя все руки опухли. Дай я маленько ослаблю. Потри себе суставы.
Он снял с Николы кандалы и вышел из комнаты.
Никола развязал веревки, мучительно потянулся, так что голова закружилась, и выскочил через окно на огород.
Вернувшись, жандарм уже точно знал, сколько у него в кармане. Кинув взгляд на открытое окно, он заметил на письменном столе листок с бунтовщическими высказываниями Шугая, чиркнул спичкой и сжег его, а пепел растер пальцами.
Потом стал ждать бури, то есть возвращения вахмистра. Будет скверно! Пускай. Эти деньги — нужные. Что ж, понадобилось выйти, в доме никого не было — Шугай и сбежал. Станут на допрос таскать? Со службы выгонят? Пускай!
Вследствие строгого соблюдения служебной тайны Абрам Бер через два часа после переполоха на жандармском посту, ничего не подозревая, отправился в Сухарский лес объявлять Петру Шугаю о своем намерении этим летом косить сено на лугу возле Колочавки. Перед опасным предприятием он вознес молитвы «Твилес» и «Дерех»{185} и продолжал беседу с богом уже по дороге.
«Разве не твоя святая обязанность помочь мне? — говорил он. — Разве я накапливаю богатства не на пользу народу твоему и не во славу твою? То есть не для тебя самого? Помоги мне, господи! Ты должен помочь!»
Он остановился перед хатой Шугая с бьющимся сердцем. Но ребятишки сказали, что отца нету дома — пошел в Сухар, на полонину. Это недалеко. Абрам Бер направился туда. И в лесу, за излучиной реки, на перекрестке двух тропинок, там, где через Колочавку переброшен вместо мостика ствол ели, ему пришлось испытать то, что испытала жена Лота, когда она, оглянувшись, увидела, что господь пролил с небес на Содом и Гоморру дождь серы и огня{186}.
На перекрестке стоял Никола Шугай с винтовкой на плече.
— Шма Исруэль! — прошептал Абрам Бер, чувствуя, что кровь стынет у него в жилах и он весь превращается в соляной столб.
Шугай смотрел на него исподлобья. Потом быстро подошел к нему. Абрам Бер задрожал.
— Скажите им, что уж больше голыми руками меня не возьмут! Живым не дамся! — горячо воскликнул он.
Потом резко повернулся. И широкими шагами пошел наверх, в лес. Его движения всегда отличались энергией, а походка быстротой.
Абрам Бер еще несколько мгновений стоял соляным столбом. К Петру Шугаю на полонину он уже не пошел. Ибо всевышний послал ему знамение.
Он сунул руку за пазуху, подмышку, понюхал пальцы: это полезно в минуту испуга; наверно, оттого, что начинаешь снова сознавать себя. Пустился в обратный путь. Но еще долго чувствовал слабость в коленях и шагал нетвердо.
Домой вернулся уже в сумерках.
Мрачней тучи.
В лавке под потолком горела керосиновая лампа с большим абажуром, заливая середину комнаты желтым светом и оставляя темными углы. В помещении опять были покупатели: товар уже появился, только с геллерами они расставались неохотно. Собралась здесь и еврейская молодежь — несколько парней и две девушки; все сидели на ящиках, облокотившись на бочки и прилавок, смеялись, болтали о том о сем, мешали. Жена Абрама Бера занималась с покупателями, а семнадцатилетняя Ганеле, — слава господу богу, уже последняя незамужняя его дочь, — при поддержке своих юных друзей доказывала какому-то старому, подпоясанному широким поясом крестьянину, что на косе, которую он с сердитым видом поминутно заставлял звенеть сгибом пальца, уступить пятьдесят геллеров никак невозможно.
Абрам Бер прошел через лавку, не останавливаясь. Он не любил этих сходок в своем торговом заведении. Не обращая ни на что внимания, он только окинул злым взглядом какого-то развязного еврейского юношу, усевшегося на прилавок. Тот сейчас же слез.
Абрам Бер удалился к себе в каморку. На небе уже взошли три звезды, и пора было вознести молитву «Майрив»{187}. Надвинув поглубже шапку на голову, он стал молиться, обратившись лицом в угол:
— «Хвала тебе, господи боже наш, вседержитель, словом своим вызывающий рассвет, в премудрости своей отворяющий врата небесные, в предвидении своем устанавливающий смену часов и чреду времен, по воле своей управляющий путями звезд на тверди небесной».
На этот раз он произносил слова «Майрив» с особенным жаром и выразительностью, так как ясней, чем когда-либо, чувствовал близость бога своего. Знал, что господь бдит над ним. Слава всевышнему, предостерегающему от опасностей народ свой! Слава царю царей, всегда, от века, только и помышляющему о благе народа своего! Господу, пекущемуся о каждом еврее, господу, знающему, что на ступенях Израиля покоится звездный трон его и что молитва каждого раба его более могучая, чем ангелы, умножает могущество и славу его. Как премудр господь, в нужное время уславший Петра Шугая на полонину, поставивший на перекрестке Николу Шугая как раз в ту минуту, когда там должен был пройти Абрам Бер, и тем самым спасший жизнь рабу своему!
Мысль Абрама Бера, обращенного лицом к пустому углу возле кушетки, ничем не тревожимого и не развлекаемого, раскачивающегося взад и вперед, приплясывающего, бормочущего, подпевающего и прищелкивающего пальцами, была сосредоточена исключительно на молитве и всевышнем.
О чудесном явлении в Сухарском лесу пришлось весь вечер молчать: заговорить — значило бы рассказать о нем всей еврейской общине. Потому что и за ужином этих дерзких мальчишек был полон дом («хорошо ли присматривает за дочкой мамаша?»), а эти вечно голодные кузнецовы девчонки ходят к Ганеле только для того, чтобы получить от ее матери кое-чего из остатков ужина на кухне.
Только ночью, лежа с женой в постели, Абрам Бер сказал ей:
— Нынче господь избавил меня от великой опасности!
— Да будет имя его благословенно! — горячо промолвила пани Эстер.
А когда выслушала с широко раскрытыми от ужаса глазами рассказ мужа об этом происшествии, воздела над периной свои полные руки, словно для того, чтобы кого-то благословить, и, закрыв глаза, еще раз восхвалила имя господне:
— Хашем исбурех!
Абрам Бер стал читать «Кришму», молитву на сон грядущий:
— «Во имя господа бога Израиля, по правую руку мою — Михаил, по левую — Гавриил, передо мной — Ариил, позади меня — Рафаил, а над головой моей — слава божья…»
Тут он вспомнил еще кое о чем.
Тронул пальцем плечо засыпающей жены.
— Дочке ты ничего не говори. Только испугаешь. О побеге Шугая и так скоро будет известно… Не получилось бы из этого чего скверного.
Уж не вышел ли в Бразах из-под земли Довбушев мушкет? Знаменитый в здешних горах разбойник перед смертью закопал кремневое ружье свое глубоко в землю. И оно каждый год чуть-чуть больше подвигается из темных недр к поверхности земли, а когда опять заблестит на солнце все целиком, словно герань либо анемон весной на горном пастбище, в мире появится новый Олекса Довбуш, такой же, как тот, что отнимал у богатых и отдавал бедным, бил панов и никогда никого не убивал, кроме как ради справедливой мести или для самозащиты.
Да! В Бразах мушкет показался на поверхности.
Царит в лесах Никола Шугай. От Каменки и Попади до Тисской равнины, от Гропы и Климовой до самого Стоя меряет он весь край длинными, похожими на оленьи шагами. Питается в пастушьих колыбах и хижинах горцев, платя по-королевски за миску кукурузной каши, спит в оборогах и под деревьями, смеется, увидев утром, что впадина у него на груди полна росы.
Высоко на Греговище, там, где у самой высокой точки взбегающего круто вверх большака стоит деревянный крест из двух бревен, нападает он на почту из Волового.
В горных ботинках с солдатскими обмотками, в старом солдатском мундире, безоружный и не пряча лица, становится на дороге, подняв руку:
— Стой! Я — Никола Шугай!
Позади него стоят четверо, лица их до глаз завязаны платком. Двое из них — с наведенными на телегу винтовками военного образца, и если кто из пассажиров осмелится выглянуть наружу, так увидит, что дула обоих ружей смотрят ему в лоб.
— Все выходи вон и руки вверх! Отдавай все, что есть, ежели только ты не бедняк, которого мы знаем…
В узкой долине Теребли нападает он на телеги, направляющиеся на ярмарку в Хуст.
По большаку едет повозка, битком набитая людьми. Еврей-хозяин шагает с кнутом возле лошадей. На вопрос прохожего:
— Скажите, пожалуйста, сколько же это вы народу берете к себе зараз?
Хозяин, не заметив иронии, любезно отвечает:
— Сколько влезет, пуриц[49]. Садитесь!
Кузов похож на улей, в котором гудит целый рой пчел, колеса скрипят, лошади еле плетутся. Поперек моста через ручей стоит пустая, распряженная телега. А перед ней — четверо либо пятеро молодцов, причем у двоих ружья. Один из невооруженных, тот, что с незавязанным лицом, предостерегающе приложив палец к губам, смелыми широкими шагами идет навстречу повозке. Это выглядит таинственно. Лошади останавливаются. Никола Шугай машет рукой:
— Все вон из повозки!
Он делает это молча, но сдержанный жест его производит впечатление столь же таинственного, рокового приказа. Никто не смеет ослушаться. Шугай молча, не спеша, подымает руки, и они, как во сне, зачарованные, медленно делают то же. Он манит пальцем ближайшего, и тот послушно выходит вперед. Затем повторяется одно и то же. Звонкая пощечина. Быстрое обшаривание карманов. И — марш в канаву. Ложись! Ничком! Второй: пощечина, осмотр карманов, в канаву. Третий. Евреи, богатые крестьяне, подрядчики, «американцы», вернувшиеся после войны из-за моря с долларами, — их Никола обирает с особенным удовольствием. Скоро в канаве образуется длинный ряд неподвижно лежащих людей, а на дороге стоит, выпучив глаза, извозчик с кнутом. Товарищи Шугая сводят телегу с моста и становятся позади пленных.
— Все в повозку! — гаркает Шугай, и громовой голос его еще страшней, чем прежняя тишина.
Все вскакивают и бегут к повозке.
— Трогай! Живо!
Еврей хлещет лошадей кнутом, и те, вытянув шеи, стараются даже перейти на рысь. Сзади на повозку наведены винтовки обоих вооруженных. И только отъехав на ружейный выстрел или за поворот дороги, ограбленные начинают кричать и выходить из себя, «американцы» отчаянно палят в воздух из браунингов, хотя их, конечно, никто не слышит и не поспешит на помощь; при этом они делают вид, будто хотят ехать обратно и вырвать у разбойников свое добро. А Никола в это время уже ждет новой повозки. Повторяется в точности та же история. И когда вторая повозка уезжает, Никола Шугай теми же спокойными широкими шагами уходит в лес над большаком, уводя своих товарищей.
Многие встречали его в Сухарском лесу. Таким, каким знали его, когда он еще жил у отца: черноглазый, черноволосый, с усиками, с маленьким подбородком и выпуклым лбом наездника и отчаянного стрелка; в широком поясе лесоруба с цветными кожаными нашивками, оберегающем ребра при падении или ударе бревном, в узких штанах, в опанках с несколько раз обвитыми над лодыжкой ремешками и в холщовой рубахе с пестрыми стеклянными пуговицами. Одно ружье на плече, другое висит за спиной, как у кавалеристов. На прикладах обоих ружей ножом вырезан большой крест… Иногда он расспрашивает о своих деревенских, о жандармах, иногда пошутит, посмеется, иногда вдруг ни с того ни с сего даст ребятам и старухам денег. Если же встретит у брода через реку или на большаке какого-нибудь видного колочавца, священника или учителя, то поговорит с ним, осведомится о здоровье жены и детей, а прощаясь, скажет:
— Я хочу кое о чем попросить вас, батюшка…
— Что такое, Николка?
— Скажите, пожалуйста, жандармам, что вы меня видели. Пускай похлопочут.
А иногда он спешит, идет хмурый и ни на кого не обращает внимания.
Пошли раз три еврея в горы, на полонину, под Тиссовую; тащат на плечах перекидные мешки с солью для скотины и кукурузной мукой для пастухов. Вдруг перед ними — Шугай. Как из-под земли вырос! Молчит, смотрит, а они побледнели, давай молитвы читать.
— Эй, Шлоим Нахамкес, не хватайся одной рукой за дерево, а другой за голову. Слушай: завтра пускают с торгов корову Эржики. Вот тебе деньги. Купи эту корову. Когда будет нужно, я за ней приду.
И можете быть уверены: во всей Верховине не найдется коровы, которая видела бы лучший уход, более заботливый надзор, более сытный корм, чем эта.
Иногда он грабит, иногда нет.
«Только бы Заброд миновать, — думает Берка, то есть Бернард Ган из Горба. — Дальше уж Николу не встретишь».
И настегивает лошаденку.
Но Никола и за Забродом — тут как тут! Вдруг в ста шагах перед Ганом на большаке — поднятая рука Николы. Ган спрыгивает с телеги; вся кровь кидается ему в лицо; в душе — решимость отчаяния.
— Ты не возьмешь у меня этих денег, Никола! Я еду в Хуст покупать башмаки детям, — заявляет он, стараясь, чтобы голос не дрожал.
— Показывай, сколько у тебя! — командует Шугай.
Ган вытаскивает засаленную записную книжку, открывает ее в том месте, где лежат кредитки, но отступает назад, прижимая книжку к груди: нипочем, мол, не отдам!
— Дай сюда! — сердито кричит Шугай, вырывает у него книжку из рук и начинает ее перелистывать.
— У тебя пятеро детей?
— Семеро.
— Ну, так тут не хватит, Берка. Вот тебе еще. И купи хорошие… — говорит Никола, вкладывая в книжку несколько зеленых сотенных бумажек. — Как звать твою меньшую?
— Файгеле.
— Кланяйся ей от меня.
Он появляется в господской одежде и резиновом плаще даже в Хусте. Зайдет в гостиницу, сядет под электрической лампочкой, закажет себе, что надо, и сидит незнакомцем, слушает, что господа болтают о Шугае; потому что нет большего наслаждения, чем присутствовать, не выдавая себя. А после его ухода кельнер находит на его столике, под пивной кружкой, листок, на котором написано то единственное, что Шугай научился писать за время службы в венгерском полку: «Шугай Миклош». Посетители вскакивают, теснятся вокруг пустого стула, как будто на нем еще можно что-то увидеть, читают записку, тянут ее друг у друга из рук, волнуются…
Переночует на большом скотном дворе на горе Стиняк, напоив немецких коровниц сладкой водкой и наплясавшись с ними под напев коломыйки. А утром ограбит в долине Мокранки чешского инженера, отняв у него призматический бинокль и деньги, и через час — нотара из Немецкой Мокры, а после полудня стоит уже у Соймы над мелководьем Рики, где как раз купается со своей собачкой жена окружного начальника из Волового. Шугай смотрит, улыбаясь и покручивая свой маленький черный ус.
— Вы — ничего себе дамочка. Но моя Эржика лучше, Я — Никола Шугай.
Та стоит в голубом купальном костюме по колени в воде, не зная, что делать, как быть, а Шугай смеется:
— Передайте поклон мужу, госпожа начальница!
И широкими шагами уходит прочь.
Жандармы просто голову потеряли. Совсем озверели. Бьют Эржику, бьют старого Петра Шугая, бьют Ивана Драча, бьют Николовых братьев и сестер. Переарестовали его товарищей или тех, кто могли быть ими. На Колочаву, которая явно поддерживает разбойника, была наложена контрибуция в тридцать тысяч.
Чешские жандармы не ушли, как предсказывал Власеку Никола. Наоборот: они еще больше упрочивали свою власть. И пробным камнем для них должен был стать сам Шугай. Не может быть порядка, не может быть никакого авторитета у нового государства до тех пор, пока он хозяйничает в этом краю, пока вокруг него создаются легенды, пока любопытные глаза с тайной радостью следят за безуспешной борьбой жандармов с бандитом, пока имя Николы Шугая — у всех на устах, от Вигорлата до Говерлы, и стало обозначением отваги и геройства. Это понимают и на колочавском жандармском посту и ужгородское начальство, а краевое жандармское управление шлет строгие приказы, требования, директивы, которые только зря нервируют: ведь колочавскому вахмистру и без них все прекрасно известно.
В Колочаву пригнали подкрепление: теперь здесь уже тридцать жандармов. Они заняли школу, поселились на сеновале у Кальмана Лейбовича и целый день толкутся в его корчме, наполняя ее табачным дымом, пробками от пивных бутылок и запахом сапог. Командиром соединенного отряда назначен капитан, а прежнего — вахмистра — оставили до поры до времени, главным образом для того, чтоб он ознакомил новых жандармов с местными условиями и с краем. Поэтому он всей душой ненавидит Власека, допустившего побег Шугая, и подал в дисциплинарную комиссию рапорт, содержащий самые ужасные подозрения на его счет. Да и остальные жандармы относятся к Власеку недружелюбно, хоть он хороший товарищ и веселый малый, — потому что в конце концов именно по его вине им приходится жить в этом разбойничьем селе и нести дурацкую службу в горах.
— Всех мало-мальски подозрительных арестовать! — приказал капитан.
Пошли аресты. Не трогали только родных Шугая, так как капитан рассчитывал, если не удастся поймать Николу иначе, — приманить его на Эржику. У них делали только обыски: по три, по четыре раза в ночь. Дадут несколько дней передышки, чтобы усыпить внимание семьи надеждой, будто отказались от бесплодных поисков, и опять сначала. Три раза в ночь вставай с постели, в доме все вверх дном, допросы, запугивания, три раза в ночь — к груди штыки! Потому что — не доведешь этих людей до отчаяния и не вымотаешь им все нервы, они тебе ничего не скажут. Но Матея Пацкана, Ивана Гречина, Васыля Кривляка, сына старосты Мишку Дербака, Ивана Дербака, Горженого посадили. И многих других. А понадобится — посадят полдеревни, никого не обойдут! Но эти люди, чей каждый шаг в господский лес — за дровами, за зверем, за дикими грушами и яблоками либо просто скотину попасти — является почти всегда сознательным нарушением закона или по крайней мере самоуправством, умеют молчать. В Хусте они безбожно лгали и, глядя прямо в глаза своим судьям, даже не старались скрыть, что лгут.
Но как же случилось, что во время этих повальных арестов забыли про Васыля Дербака Дербачка и его сына Адама Хрепту?
Дело в том, что Васыль Дербак Дербачок не внушал подозрения; он имел хорошую хату, отличное хозяйство, и ничего такого за ним не замечали. А в краю, где люди проводят целые дни на полонинах, конечно, невозможно брать под подозрение каждого, кто нынче не ночевал дома.
Как-то раз пастушонок принес жандармам солдатскую винтовку, которую нашел в лесу, спрятанную во мху. Она была, видимо, недавно начищена, в полном порядке. Находку положили опять на место и пять суток караулили возле нее. На шестые сутки подстерегли Адама Хрепту. Они, правда, думали выследить владельца оружия, но, так как не знали Адама, а он только поглядел на винтовку и пошел обратно, — задержали его. Медведей пугать? Ну, эти сказки рассказывай ребятам, приятель! Обыскали его, нашли триста крон.
Заработал? Где же это, нельзя ли узнать? Сделали обыск в хате его отца — Васыля Дербака Дербачка, которого в тот день не было дома. Но ничего не нашли. Адама посадили.
Адам Хрепта был незаконный сын Дербака Дербачка, но жил в отцовской семье, и Дербак Дербачок никого из своих детей так не любил, как этого красивого белокурого парня. Может, потому что тот напоминал ему молодость и единственное радостное время в жизни…
Вернувшись с полонины и узнав о том, что́ произошло, Дербак Дербачок, потрясенный, подумал: «Побегу на жандармский пост, упрошу их, чтоб отпустили сына!..» Безнадежное дело! Кто когда слышал в Колочаве, чтобы жандармы поддались на уговоры? И кто когда о чем их просил?
Но Дербак Дербачок добился своего.
Он кое-что рассказал. За два с половиной часа можно много рассказать, даже если ты хочешь главное оставить при себе и приходится всячески изворачиваться, чтобы давать на бесчисленные вопросы сколько-нибудь правдоподобные ответы.
Он не сказал всего. Особенно следил он за тем, чтобы как-нибудь не выдать Игната Сопко и Данила Ясинко, которые знали о нем ничуть не меньше, чем он о них. Но рассказал он все же достаточно, и жандармский капитан, пойдя на сделку, молча предлагаемую этим крестьянином, решил, что арестовать и отца и сына он всегда успеет, а пока неплохо использовать их обоих в своих целях. Вопрос о Шугае имеет слишком большое значение. От него многое зависит, особенно для самого капитана. Ладно, пускай Адам Хрепта идет домой. Выпустить его!
Дербак Дербачок и Адам покинули здание школы, превращенное в жандармские казармы: Адам — счастливый, улыбающийся, Дербак Дербачок — с мокрым от пота лбом, полный тревоги.
Расчет капитана был правильный: поимка Шугая зависела не от каких-нибудь из ряда вон выходящих случайностей, какого-то таинственного везения или загадочного стечения обстоятельств, а от предметов совсем обыденных: родного дома и возлюбленной. Родной дом Шугая — хата возле Сухара, возлюбленная — Эржика. На это его и надо ловить. И он будет пойман на это. Сам он теперь скрывается большей частью в долинах Сухара; туда ходят навещать его и отец и жена. Ладно!
— Несколько дней не трогайте их, — сказал он вахмистру, подразумевая семью Шугая и ночные, обыски. — А установите за домом наружное наблюдение.
На полонине между хижиной Шугая и Сухарским лесом стояли два оборога метрах в трехстах друг от друга и примерно на таком же расстоянии от жилья. В одном из них спрятались три жандарма, выполняя приказ. Но, явившись туда поздно вечером, они не подозревали, что в другом обороге уже целый час, как спят Эржика с младшей сестрой Николы, Анчей. Обе предпочитали осеннюю мглу ночным вторжениям жандармов.
И вот туманным утром, только они слезли с сеновала, по горам и долам пронеслось:
— Стой!.. Стой!.. Стой!..
Обе женщины пустились бежать со всех ног. Загремели выстрелы: жандармы думали, что вон та, вторая — переодетый Шугай. Мигом перебежав выгон, женщины скрылись в лесу.
Некоторое время шли, еле переводя дух. Потом силы оставили Эржику. Она не то что села — повалилась под ель. Голова ее стала клониться, клониться и в конце концов упала на выступающий из земли корень.
— Что с тобой, Эржика?
Анча видит: Эржика бледна, как смерть, и холщовая рубаха ее пропитана кровью. Так много крови!
— Господи боже! Ее застрелили!
Но девушка ошиблась: Эржика просто скинула.
Анча помчалась дальше по лесу; побежала к долинам и горным пастбищам, где Никола мог нынче ночевать. На бегу все время кричала:
— Никола!.. Никола!.. Никола-а-а!
Голос ее звучал в тумане безнадежно, страшно.
Сперва жандармы сгоряча кинулись в лес. Некоторое время они преследовали беглянок. Но вскоре сообразили: какой смысл? Три человека в дремучем лесу… Кого тут найдешь? И вернулись, хмурые, злые.
С лесной опушки они видели, как Петро Шугай, его жена и трое старших ребят глядели вокруг: что случилось? И как потом Петро вернулся к оборогам. Они накинулись на него. Потащили старика к хате. Оба младшие парнишки, крича, бежали за ними. А четырнадцатилетний Юра вступил в драку. Его два раза бросали на землю, он два раза вставал и, как волчонок с оскаленными зубами, с горящими ненавистью глазами, снова кидался в бой. В конце концов ему выкрутили руку и тоже потащили с собой.
Петра толкнули к стене, и один приставил ему штык к груди, а другой принялся его бить. Юра, получив несколько ударов, лежал ничком на траве и выл.
— Где Никола?.. Где Эржика?.. Куда они побежали?.. Говори, а то — конец тебе!
В это мгновение со стороны леса послышался страшный крик. Рев, в котором не разобрать слов. Это был Никола. Он стоял во весь рост. Жандармы, повернувшись к нему, хотели было приложиться. Но — прогремел выстрел. Один из них рухнул наземь.
Остальные двое, спрятавшись за угол хаты, открыли оттуда бешеную стрельбу в сторону леса.
В тот же день вечером Шугаева хата сгорела.
Вспыхнула, как куча хвороста.
Больную Эржику вынесли.
Так поступали они в Сибири с деревнями, где бывал убит из-за угла кто-нибудь из них. Ужас! Нагнать ужас! Неужели они спаслись от русских, сербских, итальянских, австрийских, немецких и большевистских пуль только для того, чтобы их убивали здесь бандиты? Для того бились на сибирских равнинах и между скал Доломитовых Альп, чтобы погибнуть в этой разбойничьей деревне?
На третий день хоронили убитого ефрейтора… Нет, это были не похороны, это был смотр вооруженных сил перед лицом неприятеля, военная демонстрация в сибирской деревне, среди чьей молчаливой ненависти они очутились.
Из Хуста пришла рота солдат в полном снаряжении, как подобает при воздании почестей павшему легионеру, и тяжелая поступь ее среди плетней и заборов Колочавы напоминала дни войны. Даже в воздухе был ее оттенок, ее запах, словно над долиной плыла тяжелая пепельно-серая туча, мешавшая глубоко вздохнуть.
Солдаты вынесли из школы украшенный венками гроб с телом убитого. Раздалась военная команда. Рота пехотинцев и жандармы взяли перед мертвым товарищем на караул. Барабан военного оркестра прогремел в тишине, как отдаленная канонада, и замер. А прячущиеся за дворовыми изгородями и окнами домов колочавцы глядели на черно-золотое облачение католических священников и одеяния служек, на представителей государственной власти в мундирах, на все это множество господ, которые одним росчерком пера могут уничтожить Колочаву, отомстив за смерть одного из своих. Мрачное прохождение жандармских шеренг, по четверо в ряд, грохот барабана между домами, медленный военный шаг, под которым хрустит щебень и гравий дороги, — все это производило тяжелое впечатление, вызывая представление о голоде.
С церкви поплыли двойные удары единственного оставшегося колокола, грозно опускаясь на деревню, как ночью во время наводнения.
Колочава безмолвствовала.
Только старые евреи, стоявшие под вывесками своих лавок и мастерских, понимая, что́ предвещает подобная правительственная демонстрация, и не забывая при этом о самом главном, не поддавались впечатлению от происходящего.
«Плохое дело! — кривя губы и шевеля ноздрями, думали они. — Надо посадить Эржику, а товарищей Николы отпустить. Ведь человек попадается не на том, что в нем хорошее. Человек попадается на том, что в нем дурное».
Белобородый хасид{188} Герш Лейб Вольф нашел этот член символа веры не то в книгах Моисеевых, не то у пророка Захарии. И евреи приняли его к руководству.
Тактику жандармов они не одобрили.
ОЛЕКСА ДОВБУШ
Разбойники! «Черные хлопцы»! Улыбнутся им обстоятельства да удача молодецкая, они основывают королевские династии. Но гораздо чаще тела их качаются на виселицах, а еще чаще они кончают жизнь, повалившись головой в мох, в кровавую лужу, сраженные ударом в спину. Но и в этих случаях удел их — тоже слава, даже громче королевской. Потому что эти павшие принадлежат к ним, к жителям здешних гор. Тем они и славны, что не перешли в чуждые ряды правителей, не оставили по себе династий, а, взяв на свои плечи общие страдания и тяготы, доказали возможность того, на что жители этих гор не отваживались, хотя так страстно этого жаждали: возможность мстить за обиды, бить панов, отнимать у них награбленное, а то, чего нельзя унести, предавать огню и мечу — для потехи, ради мести, на страх будущему и из страха перед ним. Эти люди — их воплощенная мечта. Мечта тех, кто ни разу в истории не отважился на восстание, кому не пришлось изведать счастья дружной мести.
Взгляните вон на тот плоский камень: он служил пиршественным столом Олексе Довбушу. У этого колодца сходились его черные хлопцы. Под этой столетней пихтой делили они сокровища, там отплясывали дикий аркан, ставши в ряд и обняв друг друга за шею, с пеньем и топотом, вприсядку. В ту сторону пошел он жечь панский замок, заранее выманив его охрану в другое место. Здесь стояла корчма, где он навестил еврейскую свадьбу, с которой унес целые мешки денег и драгоценностей. В той стороне находится трижды проклятое село Космачи, где жила его вероломная возлюбленная Дзвинка, а вон там — Черная Гора, где похоронен он среди своих сокровищ.
Это все неправда, что о нем господа выдумали. Неправда то, что о нем в книгах пишут, стремясь умалить его славу.
Олекса Довбуш жил не в середине восемнадцатого столетия, в смутный период польской истории, когда Август воевал со Станиславом Лещинским{189}, после пожара восстания Ракоци{190} в Венгрии, во время тяжелых внутренних неурядиц в Румынии, ведшей войну с Россией{191}. Он не разбойничал семь лет в краю, кишащем беглыми солдатами из войск Ракоци, Сенявского{192} и Гольца{193}, в горах, полных крестьян, скрывшихся из поместий Юзефа Потоцкого{194} и готовых лучше пойти на виселицу, чем переносить самоуправство всякой солдатни да грабеж княжеских подстарост и атаманов. И уж вовсе неправда, будто его застрелил в селе Космачи Степан Дзвинка, когда Олекса пришел к нему и стал угрозами требовать возвращения приданого его другу. И дата 1745 год — тоже господская выдумка. Олекса Довбуш не жил в какой-то определенный период. Он жил тысячи лет, жил сотни лет тому назад, живет теперь и будет жить завтра. Потому что Олекса Довбуш — не один человек. Олекса Довбуш — народ. Олекса Довбуш — всполох мести и неистовая жажда справедливости.
Как же было дело с Олексой Довбущуком?
А вот как.
Был он хилый овечий пастух, бедный, убогий, глупый. Ибо — говоря словами проповедей и священного писания — каждый из нас, робких, смиренных, бедных, может совершить великие дела, коли будет на то воля божья. На деньги, заработанные пастьбой овец, Довбуш купил себе пистолет и, прихрамывая, бродил по деревням, смеша и радуя ребятишек, которые бегали за ним по пятам. И если кому из пастухов случалось быть битым, так уж это ему. Люди не ставили его ни во что.
Но господь бог наградил его великой силой. За Тиссой, на Черной Горе есть утес Кедроватый, а под ним — страшная пропасть, над которой нависла скала. Там жил черт. И смеялся над богом. Сидит на скале и поносит его. Бог в него молнией, а черт в дыру. Молния ударит в скалу и кусок от нее отшибет. А черт опять вылезет и опять давай насмехаться. Господь бог опять в него молнией. А нечистая сила опять в дыре скроется. Долго так над господом богом издевался. Увидел раз эту потеху Довбуш. Стал спиной к молнии, прицелился в дьявола и пальнул в него. Черт в пропасть свалился, вниз головой глубоко в землю ушел, и только облако дыма от него осталось. Встал над Довбушем архангел Гавриил. «Больно ты богу угодил, говорит, что черта со света сжил. Проси у бога, чего хочешь!» Задумался Довбуш. «Люди не ставят меня ни во что, и хочется мне доказать им, что я кое на что годен и могу пользу им принести. Пускай бы мне бог такую силу дал, какой ни у кого на свете нет, чтоб мог я побеждать врагов и неправду карать, — и никто бы меня не одолел и никакая пуля не брала». Когда он вернулся к пастухам и они снова стали его на смех подымать и побить хотели, он их всех как каменья раскидал.
С тех пор стал Олекса Довбуш атаманом. За правду стоял и неправду людскую наказывал. К панам был суров, а к народу милосерден и ласков. Отнимал у богатых и отдавал бедным. Набрал пятьдесят «черных хлопцев», стал с ними замки злых панов и дома их приспешников жечь. На еврейские торговые заведения налеты устраивал, брал водку для себя и для парней, а остальное выливал; выкидывал на улицу вещи, оставленные в залог, чтобы каждый взял свое обратно. Однажды напал на помещичью усадьбу в Богородчанах и захватил там мешки с червонцами. Велел своим хлопцам взвалить их себе на спины, а сам взял свой топорик — палку с секирой, служившую ему и посохом, — да пропорол эти мешки. Куда ребята ни пойдут, всюду золотые сыплются, а бедняки бегут, их подбирают. Паны и богатые евреи добрей стали: боялись его.
Жил он на Кедроватом. Там ребята вытесали ему в скале сиденье, на котором он сидел и распоряжался.
Даже в Румынию, в Турцию совершал набеги, деньги там у басурманов отнимал и к себе на Кедроватый увозил. Кто нуждается, придет, бывало, к нему и не уйдет с пустыми руками. А что не роздано, то он в пещеры прятал. Велел ребятам своим те пещеры наглухо закрыть, чтоб больше никто никогда открыть не мог; те так и сделали. Нынче железные дороги строят, целые горы в воздух взрывают, но те пещеры до сих пор закрыты, не разворочены. Там — золото, серебро, камни драгоценные, оружие, маслом смазанное, и, кабы открылась внутренность Кедроватого, клады эти так бы на весь мир и засияли. Но ждут они нового Довбуша, который должен прийти. Потому что закопал Олекса в Бразах перед смертью ружье свое кремневое глубоко в землю. И каждый год подвигается оно на маковое зернышко все ближе к земной поверхности, а как выйдет все целиком на свет божий, так появится в мире новый Олекса Довбуш, на радость людям, на страх панам, боец за правду и мститель обид.
Все войска, какие против Довбуша ни выступали, разгонял он, как стаи птиц. Дошло до государя-императора, что есть на свете такой человек, которого никакая сила не берет, и приказал он ему явиться в Вену: хочу, мол, с тобой мир заключить. А это он обмануть Довбуша задумал: подпустил поближе и послал против него свое войско, чтоб его убить, а сам из окна высунулся, смотрит. Только все пули от Довбуша обратно в солдат отскакивать стали — так и косят. Приказал тут император сейчас же стрельбу прекратить и — с Довбушем на мировую: дал ему волю по всей стране воевать, только чтоб императорского войска не трогал, — грамоты такие с печатями выдал. Три дня и три ночи угощал Довбуш императора и его двор.
А потом семь лет воевал по всей стране — и пока он жив был, бедноте жилось нехудо.
Погубила его женщина, вечный враг мужчины, поганое племя, от которого на свете одно зло. Стал с бабой цацкаться, забыл дело свое и пропал. Ах ты, чертово племя подлое! Дзвинкой звали, в Космачах жила, замужняя. Приласкалась и выведала у него тайну, девять раз богом поклявшись, что никому не расскажет. Невредимого Довбуша только серебряная пуля брала! Нужно было ее в миску с яровой пшеницей спрятать, и пшеницу эту в течение года на двенадцати великих праздниках в церкви святить, чтобы двенадцать священников двенадцать обеден над ней отслужили. Дзвинка взяла да все это мужу своему Степану и рассказала.
Пошел Довбуш с «черными хлопцами» Кутский замок добывать.
— Ложись спать, ребята. Завтра придется пораньше подняться. Остановимся в Космачах. Навестим Дзвинку…
— Олексик, отец наш родной, не ходи в Космачи. Нам скверный сон привиделся.
— Соколы мои, удальцы, чего блажите? Пусть каждый забьет по две пули в ружье и станьте под горой, а я пойду спрошу, не даст ли нам Дзвинка поужинать.
Подошел он к ее окну, облитому лучами заката.
— Спишь или не спишь, милая кума? Угости нас ужином!
«Не сплю я, слушаю, ужин стряпаю. Славный будет ужин, всем на удивление», — думает Дзвинка.
— Спишь или не спишь, сердце мое? Приюти на ночь Довбуша!
— Ох, не сплю я, слушаю, только разбойнику приюта не дам. Степана дома нет, и ужин не готов.
— Отвори, коль не хочешь, чтоб я вышиб дверь, сучка!
— Не хочу, чтоб ты вышиб дверь, да и отворять не пойду.
Рассердился Довбуш. Налег на дверь. А Степан на чердаке заряжает ружье серебряной пулей. Затрещала дверь, замок подался. Дзвинка в страхе шепчет сквозь щель Довбушу:
— Олексик, душа моя, не входи. Не по своей я воле это делаю. На чердаке Степан стережет.
Дверь прогнулась внутрь. Выстрелил сверху серебряной пулей Степан. Прямо в сердце метил. Попал в правое плечо. Да из левого бока кровь тоже хлынула. Лежит Довбуш в крови перед хатой. Хлопцы далеко.
— Ох, убил, Степан, ты меня из-за сучки!
А Степан с чердака отвечает:
— Не надо было любиться с ней, не надо было ей правду говорить. Сучке верить, что бегучей пене речной.
Где его хлопцы, его соколы? Закричать — не докричишься, засвистеть — не досвистнешь! А он закричал — докричался, засвистел — досвистнул. Прибежали хлопцы его, как стадо овец.
— Олексик, отец наш родной, зачем ты нас не послушал? Довбушик наш, зачем не убил ее?
— Как же мог я убить ее, когда я так ее люблю? Пойдите, спросите у нее, любит ли она меня.
Заплакала Дзвинка:
— Кабы не любила я его, не надевала бы платье белое. Не надевала бы платье белое, златом-серебром не украшалася.
— Ох вы, хлопцы, мои соколы! Тяжко мне. Унесите меня отсюда. Положите под бук: прощусь я там с вами и умру по-разбойничьи.
Положили его под серебристый бук.
— Олексик, отец родной, убить нам сучку или застрелить?
— Не убивайте и не стреляйте. Хату спалите, а ее не трогайте.
А хлопцы в ответ:
— Олексик, отец родной, куда мы денемся без тебя, как будем жизнь свою молодую коротать, как замки добывать? Дай совет: может, нам в Венгрию уйти либо в Румынию?
— Не ходите больше на разбой, братцы, — ступайте по домам. У вас — три груды золота. На одну похороните меня, другую сучке отдайте, а третью меж собой разделите. Оставьте топорики свои, перестаньте людскую кровь проливать. Людская кровь — не вода, нехорошо проливать ее. Будет вам по свету бродить да разбойничать. Атамана ведь у вас больше нету. Удальцы мои, соколы, подымите меня на топорики, отнесите на Черную Гору: там я любил, там и помереть хочу. На Кедроватом две ели растут — это сестрицы мои; растут там два явора — они братья мне. Там и схороните меня!
Отнесли они его на топориках своих на Черную Гору. Там он умер и там погребен; под тенью диких скал, на месте незнаемом, посреди кладов, которые, коли их открыть, так бы на весь мир и засияли.
Бог любит Довбуша. Даже после смерти прославил его.
Не раньше, не позже, как раз в тот день, когда первый раз в году, проникнув в тень скал, упадет к нему на могилу и коснется сердца его солнечный луч, наступает в мире светлое Христово воскресенье, самый великий праздник для всех душ христианских.
О тяжести, нависшей над Колочавой в день похорон жандарма, остальная Верховина не знала.
Она знала только, что Никола Шугай жив. Что он живет в лесах. А молодец в лесу, как рыба в воде: все знают, что он там, а где точно — никто не ведает. В темных глубинах воды и леса есть что-то таинственное, манящее охотника, рыболова и прохожего.
В мягком солнечном свете осеннего дня перед хатами сидят женщины. На левом боку за поясом фартука у каждой заткнута палка с пуком овечьей шерсти; правой рукой они вертят веретено, а левой, слюня нижней губой большой палец, сучат толстую нить. При этом они уже не толкуют о тех славных созданиях, которые, бог весть почему, — может, по воспоминаниям о прежних богах, или о библии, или о собственных сновиденьях, — так милы их сердцу — о змеях. Уж не рассказывают о повелителях змей, умеющих в любое время вызвать их свистом и пропустить сквозь рукава своего кожуха, о заклинании змей в праздник благовещения, когда все твари подземные выползают на солнце, ни о благополучии, которое они приносят тому дому, где живут, ни о их мести на детях, рождающихся со змеиной головой и чешуей на теле. Нет, теперь говорят об Олексе Довбуше, о Довже, о Пинте{195}, которому, после ареста, пандуры{196} прикладывали к телу раскаленные двадцатигеллеровики. Об этом рассказывают старухи, хорошо знающие, как было дело. Покуривая коротенькие трубки с островерхими крышечками, они, похожие на колдуний, слезают с печи, выходят на крыльцо и начинают вспоминать…
И рассказывают о Николе. О невредимом Николе. Бесстрашном в бою и верном в любви. Он в горах. Жандармы облавы на него устраивают, стрелковой цепью его окружают, пулями осыпают, а он стоит себе на камне в лесу да побегом зеленым помахивает, пули отгоняя, а потом идет, куда ему вздумается: может, к сокровищам своим, скрытым в какой-нибудь расселине на Сухаре, в пещере, которая роскошью все храмы мира превосходит, но даже самым верным друзьям его неизвестна, потому что ходит он туда, привязавши к опанкам оленьи копыта, чтоб не оставлять следа человечьего. И опять бродит по всему краю, налетает на почту, на богатых евреев, на подрядчиков, на панов:
— Я — Шугай!
Двух этих слов довольно, чтоб у всех подкосились ноги, пот выступил на ладонях и бумажники раскрылись. Чтобы люди позволили набить себе морду и, как миленькие, легли рядком в канаву, будто ступеньки сложенной стремянки. Хо-хо! Слыхал кто еще на свете о такой потехе? Ха-ха-ха!
А знаете, что вышло с бароном? Живет где-то в Чехии один пан. Купил он себе тут право охоты и нанял двух лесников, чтоб они оленей ему охраняли. Вдруг медведь в лесничестве объявился! У Андрея Колобишека, у бедняги, на Заподрине лошадь задрал. Только лапой так вот дал ей — и мозг у нее выгрыз. Стали его лесники малиновым соком подманивать, чтоб он сам искать себе корм отучился. Он к ним за поживой прямо на вырубку повадился. Ну известное дело: медведь от этого такой толстый да ленивый становится, что ты его хоть дубиной охаживай, он только рычать да щериться будет, а от жратвы не отойдет. Вырыли они для барона окоп, откудова стрелять, прикрыли окоп бревнами, — пушка не прошибет! — и скорей телеграмму: «Пожалуйте, мол, ваша милость: промаха не будет». Наехало панов — три автомобиля, со съестными припасами, с вином, с котлом — кашу варить, — ну целый поход! Здесь лошадей наняли да восьмерых парней и — на медведя, в горы, где у барона охотничий домик. Да только наверх взошли и домик между ветвей увидали, «Что такое?» — думают. На дверях будто что-то большое краснеется. Пошли быстрей. Что за притча? Как в лавке мясной! Подбегает барон с лесниками. И остановились как вкопанные. Медведь! На дверях медведь прибит! Да ободранный. Без шкуры. Никола ее, можно сказать, из-под носа у них вытащил: дескать, не трудитесь. Ха-ха-ха!
Марийку Иванышеву из Точки знаете? Хата ихняя напротив Каменки, высоко стоит. Время к вечеру. Марийка в окно увидала: кто-то к ним идет. Кого ж это бог принес? Кажись бы, некому быть: поздно уж. Мать пресвятая богородица! И ружье на плече! Она мужа позвала. Тот обомлел.
— Марийка! Да ведь это Николка!
Тот входит, здоровается:
— Слава Христу спасителю!
— Во веки веков! — Марийка отвечает, а сама ни жива ни мертва.
Все стоят, друг на друга смотрят — и ни слова. А Николка только улыбается. Наконец, собрался с духом Иваныш:
— Кто вы такой будете, куманек?
Засмеялся Николка, сверкнул белыми зубами.
— Вы же знаете, кум, кто я?
И говорит:
— Я тут оленя повалил, помогите донести. Уложите мясо в бочки какие, в рассол, либо закоптите часть. А я как-нибудь приду за ним.
Зашел раза два и перестал.
А к Циле Гавейовой на Кальновец приходил кабана отведывать.
А у Гафы Гурдзановой увидал, что в хате хоть шаром покати, — детям деньги роздал. А немкам-коровницам на Стиняк ликеры носит, чабанов на Стременоше сахаром оделяет. Что ему сотни? Что ему тысячи? Пойдет к себе в пещеру и возьмет, сколько нужно.
О Николе можно целый день рассказывать. От Говерлы до Вигорлата нет человека, который не узнал бы Николы, как бы тот ни был одет: крестьянином, паном, охотником, священником, солдатом, женщиной. А люди со слишком слабым воображением, никогда его не видавшие, уж, конечно, слыхали в сгущающихся сумерках звуки жалейки на лесной опушке, печальные и тоскливые, — и это была как раз жалейка Николы, потому что никто не умеет играть на пастушьей свирели так чудесно, как он. Его тоже иной раз печаль за сердце берет в лесу: он по Эржике тоскует.
О Николе можно еще толковать в вечерних сумерках у печки, когда там догорают красным пламенем буковые поленья, а старухи за печью докуривают свои короткие трубочки, набитые табаком пополам с листьями орешника.
— Эй, ребята, не приставайте. Нет у меня больше кукурузной каши. Смотрите, Никола услышит!
И дети глядят в темноту расширенными глазами, и Никола представляется им в виде какого-то сказочного существа, и по спине у них пробегают мурашки — от страха и восхищения. Может, он и вправду слушает под окном. Притулился и слушает, что о нем говорят. А встретишь его, даст сахару и горсть золота.
Кто же друзья Николы?
По воскресеньям парни из горных хижин, собираясь вниз, в село, надевают бараньи кожухи длинной шерстью наружу и с рукавами, закрывающими всю руку, вместе с пальцами. Собираются возле церкви в белые группы и, поздоровавшись друг с другом именем Иисусовым, заводят речь о Шугае. Потому что какая это радость — услыхать новые подробности об ограбленных панах, которые мучают тебя, таская в суд — то в Воловое, то в Хуст, и не хотят оплачивать расписки, выданные румынами, о богатых евреях, которым не пошли впрок твои денежки! Пускай, пускай Никола стреляет жандармов, — мать их так! — которые таскают тебя в кандалах за решетку, забирают у тебя винтовку военного образца или старую берданку, штрафуют за каждое полено из лесу, за каждую форель, пойманную в речке, и шарят, дьяволы, в картофельных грядах — не посажено ли там табака. Видите вон того толстомордого в господской одежде и зеленой охотничьей шляпе, что расхаживает перед церковью и всех сторонится? Это «керон», подрядчик, скотина, бессовестный вор, который, по сговору с нанимателем, кладет себе в карман то, что причитается лесорубам, обсчитывает их на железнодорожных билетах и на артельной закупке продовольствия; такой же неграмотный мужик, как они, а разгуливает, задравши нос, с сигарой во рту, хотя рожа его хорошо знакома с кулаками лесорубов. Косматые кучки бараньих кожухов не оборачиваются на него — только косятся. Ха-ха! Видно, на душе кошки скребут, хоть и притворяется, будто ничего не случилось: Никола отобрал у него деньги возле Драгова, которые он из Хуста вез.
Но кто же среди этих парней — друзья Николы?
Они тоже здесь! Крестятся вместе с другими по-православному перед иконостасом, поют, как все: «Господи, помилуй!» Может, каждый день встречаются и здороваются с остальными. И в то же время держат связь с Николой, ходят с ним, закрыв лицо синим платком. Кто же это? Которые среди них? Эта тайна волнует, как темные глубины реки и леса, как мысль о повелителях змей.
Но вопрос о сообщниках Шугая (тут уже не говорят: «друзья») очень интересует также еврейскую молодежь Колочавы. Эти юные существа, превращающиеся из хорошеньких мальчиков в некрасивых, угреватых подростков, с длинными пейсами и слишком ранним пухом на подбородке, никогда особенно много не работали; а теперь, после того как все дела их отцов — извоз, торговля, ремесло — встали, они вообще ничем не занимаются: целый день ходят друг к другу в гости. Сидят на порогах лавок, качаются на дышлах телег во дворах, валяются на токарном станке и на досках в столярке Пинкаса Глезера, от нечего делать помогают Срулю Розенталю раздувать кузнечный мех, заглядывают в кухню и соображают, где бы достать чего съестного либо папироску. Друг над другом подшучивают, друг с другом ссорятся, спорят. Все о Шугае.
Скажите, пожалуйста, где Шугай меняет свои доллары? Э?! А кому он спустил ящик велюровых шляп, который захватил при ограблении воловской почты? Ну-ка?! А сахар? А две штуки материи Герша Вольфа?
Неужели Абраму Беру?
Кто говорит об Абраме Бере?
Никто не говорит ни про того, ни про другого. Спрашивается только — куда деваются доллары, куда девалась материя, куда девался сахар, куда девались велюровые шляпы? Не съел же он их? О, это продувная бестия!
Абрам Бер? — думают сидящие на глезеровых досках, пересыпая с руки на руку опилки и вспоминая о Ганеле. Неужели Абрам Бер? Паршивый польский еврей, отец которого пришел сюда голодранцем? Чтоб ему, паршивому, живым на куски развалиться. Все сам сожрать хочет. Богатому черт даром люльку качает, а бедному и за деньги не станет.
Ну, а на какие деньги Петр Шугай новую хату себе ставит, ни у кого ни гроша не занявши: ни у Герша Вольфа, ни у Абрама Бера, ни у Герша Лейба Вольфа? А где взял Федор Буркало денег на корову? А откуда берет Адам Хрепта на сигареты, коли у него в семье никто не работает? Ну-ка? Послушайте восьмилетнего парнишку, этого самого Ицко Кагана с Майдана, что живет у Герша Лейба Вольфа и кормится по еврейским домам, потому что в Майдане нет ни одного еврейского учителя, а ведь мальчику нужно учиться древнееврейскому в хедере. Парнишка все знает, потому что при нем говорят обо всем. Спросите-ка его! Спросите, не вывозит ли старый Изак Фукс по ночам из Колочавы доски? И не спрятано ли кое-что под этими досками?
Право, кругом — сплошь одни разбойники. Разбойники и убийцы. Но хуже всех — Абрам Бер. Живешь, как в лесу. Один другого норовит сожрать. Но в конце концов всех сожрет Абрам Бер.
Старые евреи соблюдали все сроки, предусмотренные писанием для молитвы: утром, перед восходом и после захода звезд, перед сном, перед едой, после еды, перед питьем воды и после питья. А в свободное от молитвы и размышлений о своих чрезвычайно сложных предприятиях время обдумывали вопрос о Шугае. «Плохо дело!» — говорили они.
И когда в Колочаву приехал жандармский майор проверить, в каком состоянии сводный отряд, еврейская депутация прямо высказала ему свое мнение:
— Ловите Шугая не на Эржику, а на его товарищей. Человек попадается не на том, что в нем хорошее, а на том, что в нем дурное. Посадите Эржику, а товарищей его отпустите!
Жандармский майор этой талмудской мудрости не понял и ничего не ответил. Сейчас у него, мол, нет времени, и он просит, чтобы кто-нибудь из господ — ну, хоть господин Абрам Бер — зашел к нему завтра.
А ночью велел привести в школу с заднего крыльца Васыля Дербака Дербачка. И сказал ему:
— Голову морочишь, бездельник? Водишь нас по свежим шугаевым следам, но всякий раз туда, где его уже нет. Ни разу не привел в то место, где он находится.
— Да нешто я могу с гор в Колочаву как птица прилететь? Вы умеете как птицы летать?
Это была правда.
Но жандармский майор тоже был прав. Хотя Васыль Дербак Дербачок старался задобрить жандармов (это было не так легко!) и водил их по свежим следам Шугая, он все же остерегался предать им в руки спящего Николу. Потому что ничего на свете он так не боялся, как ареста Шугая. И его показаний. Он надеялся, твердо верил, что Николка спасется, и страстно желал этого. Может, убежит, может, скроется навсегда, может… нет, ничего другого Дербак Дербачок не мог себе представить. Чего ждет Никола? И ему самому надоело и товарищам его тоже. А жандармы напирают: где был вчера Шугай? Где спал? Кто с ним был? Где он сегодня? Отведи нас к нему. Эта двойная игра и двойная опасность страшно измучили Дербака Дербачка в особенности потому, что невинных он называть не хотел, а Игната Сопко и Данила Ясинко — не мог. Его прямолинейный ум не выносил подобного раздвоения. Дербак Дербачок потерял сон, похудел, осунулся. Чего ждет Никола, почему не выручит их всех из этого тяжелого положения? Но если господь бог, наперекор всем желаниям Дербачка, решил, чтобы Никола попал в руки жандармов… тогда… тогда… тогда он выдаст им его — уже безгласного.
— Слушай! — сказал Дербаку Дербачку жандармский майор. — Даю тебе сроку шесть недель. Пропасть времени. К этому моменту ты должен навести нас на Шугая. Если нет, посадим тебя и твоего побочного сына. Ему уж двадцать лет исполнилось, так что имей в виду… До этого момента можешь ходить с Шугаем. Но только ты, а сын — нет. И скажешь нам, кто еще ходит. Всех назовешь! Понял?
Он вперился тяжелым взглядом Дербаку Дербачку прямо в глаза, старавшиеся не выдать тревоги. Потом повернулся к капитану:
— Господин капитан, будьте добры заметить сегодняшнее число. Ровно через шесть недель прикажите их обоих арестовать и отдать под суд!.. Ты можешь идти!
Дербак Дербачок вышел от жандармов с головой еще более тяжелой, чем пришел.
На другой день майора посетил Абрам Бер.
Если Дербак Дербачок колебался, что лучше: чтобы Шугай спасся или погиб, то Абрам Бер эту проблему давно разрешил. Да, пусть жандармы получат Шугая! Но мертвого!
В остальном Абрам Бер разделял мнение еврейской общины; он перевел офицеру богословское наставление Герша Лейба Вольфа на язык практики:
— Посадите Эржику, а товарищей его выпустите, господин майор! На Эржику его не поймаешь, господин майор, поверьте мне, бог свидетель! Эржика — главная его шпионка на селе, но связь с ним она поддерживает через других: ведь каждый ребенок знает, что, куда она ни пойдет, за ней по пятам — переодетые жандармы, и ей это, конечно, тоже известно. Пока Эржика в Колочаве, ничего не выйдет. И живым он капитану тоже не дастся. Пх-хе! Найдите иголку в сене. Для этого капитану пол-армии чехословацкой нужно иметь! Отпустите товарищей Шугая, обещайте им безнаказанность, назначьте награду за его голову, господин майор. Еврейская община тоже назначит, и через две недели — все устроится: кто-нибудь его застрелит, либо топором зарубит, либо приведет к вам связанного, либо… да мало ли что?.. Как пить дать, господин майор!
Ранней весной, когда солнце ударило по рыхлым снежным сугробам и в ледяном своде, скрывающем бег текучей воды, появились первые полыньи, в Николу словно вселился бес.
Он, чтивший исконную разбойничью традицию — убивать только для самозащиты, косил теперь всех подряд. Он, герой, выступавший всегда с открытым лицом и против многих, не гнушался теперь ночной работы, пуская в ход топор и заливая потолки хат кровью.
Вечером после ярмарки в Воловом, на большаке, в каких-нибудь пятистах шагах от последних домишек воловской окраины, нашли трех застреленных евреев-торговцев из Мукачева, ехавших на крестьянской телеге. И как застреленных! Николе, этому чудесному стрелку, никогда не дававшему промаха ни по оленю, ни по медведю, ни по человеку, вдруг на расстоянии тридцати шагов изменила рука. Торговцы были ранены в живот, и он, не сумев уложить их выстрелом, переехал им горло в снежной каше колесами телеги. Но и после этого они жили еще несколько часов и могли даже отвечать на вопросы следователя. В одной хате возле Буштины ночью была зарублена целая русинская семья, только что вернувшаяся из Америки. В горах, на Розе застрелили и ограбили Нагана Файгенбаума… Убийства, убийства. Не проходило недели, чтобы не было слышно о каком-нибудь новом злодеянии.
Что только творил Никола Шугай!
Весь край был охвачен ужасом. Сводная жандармская часть получила подкрепление в шестьдесят человек. Но все усилия выследить преступника разбивались о твердые лбы жителей этого разбойничьего села. Из этих людей ничего нельзя было выудить. Они молчали, как про́клятые.
Ничего не видали, ничего не слыхали, ничего не знаем. Николу не встречали целый месяц, в лесу и на полонинах он никому не попадался, молоко пить на зимовки не ходил. Два каменобойца, в момент воловского убийства сидевшие каждый у своей кучи камней и застигнутые еще с мокрыми животами, прямо как лежали, затаившись, на талом снегу канавы, куда залезли при первых выстрелах, — оказывается, не слыхали того, что делалось в трехстах шагах от них, и вообще знать ничего не знают. Девушка, бывшая свидетельницей разбойничьего нападения на драговском шоссе, ото всего отперлась. А сойминский Арон Зисович, ограбленный в своем собственном доме и только чудом оставшийся в живых, сказал в Хусте следователю, еще весь дрожа:
— Ничего не знаю, господин следователь. Я лишился денег, но хоть жизнь хочу сохранить!
Весь край был охвачен ужасом. У женщины, сообщившей приметы одного из убийц «американцев», сгорела хата.
Что только творит Никола! Он мстит жестоко, видимо зная, что делает. Но не выросли ли у Николы крылья? Ночью он грабит в Немецкой Мокре, днем совершает убийство близ Хуста, вечером поджигает дом в Быстре! Как это может быть?
— Посадите Эржику! Отпустите шугаевых приятелей! Назначьте награду за его голову! — кричали евреи, а так как у них каждое сформулированное мнение становится заповедью, они вопили это во всю мочь, упорно, страстно, неистово. Они жужжали это в уши жандармским офицерам, бомбардировали этим окружное жандармское управление в Воловом и гремели на страницах еврейских газет в Мукачеве, посылали об этом жалобы в Прагу. А жандармы, разъяренные неудачами, издерганные домогательствами евреев, газетами, выговорами, упрямством русинов, стали испытывать приступы антисемитизма.
Они продолжали допрашивать Дербака Дербачка. Грозили ему все более страшными карами.
Но Дербак Дербачок уперся, как баран:
— Знать не знаю, ведать не ведаю, где он. Не видал его уже два месяца.
— Врешь!
— Не вру!
И вдруг, когда казалось, жандармский капитан вот-вот кинется на него, позовет вахмистра, чтобы тот сейчас же посадил его под арест, Дербак Дербачок крикнул ошеломляющее признание:
— Никола тут вообще ни при чем!
На какую-то долю секунды капитан онемел: этот крестьянин высказал вслух самое тайное его подозрение. Но сейчас же вскочил.
— Врешь! Врешь, собака!
И схватил его за горло.
— Врешь! Врешь! Врешь!
Однако топанье ногой сейчас же сменилось быстрым беганьем по классу.
— Откуда ты знаешь? — крикнул он, снова встав перед допрашиваемым, и, не ожидая ответа, опять забегал из угла в угол.
Вещь как будто совершенно неправдоподобная, невозможная, а ведь она все время приходила ему в голову: Дербак Дербачок выразил его же собственную мысль. Потому что в самом деле: у Шугая, должно быть, выросли крылья, если он может утром грабить здесь, а ночью — за семьдесят километров отсюда! Эта быстрота уже давно казалась капитану подозрительной. Но, значит, кто-то совершает убийства, прикрываясь Шугаем? Какой ужас! Значит, тут не один бандит? И даже не банда злодеев? Мы имеем дело с целым округом грабителей и убийц? Ужас! Ужас!
Допрос Дербака начался снова.
Капитан опять сел за стол.
— Откуда ты знаешь?
— Никола никогда не убивает, — ответил Дербак Дербачок. Но сейчас же поправился: — Кроме жандармов, — прибавил он, вызвав в ответ пронизывающий взгляд офицера.
— Я тебя спрашиваю: откуда ты знаешь, что все эти преступления совершил не он?
— Этого мне никто не говорил. Но я знаю: Никола всегда бьет без промаха — и по зверю и по человеку… Он не стреляет людям в живот. И не рубит их топором. И не входит ночью в дома.
— Где он сейчас?
— Я ничего не знаю о нем уже два месяца.
— Жив он?
— Не знаю.
— Так кто же это делает?
— Не знаю.
Дербак Дербачок в самом деле не знал. И когда капитан, сам измученный, протерзав его два часа, под конец опять перешел к угрозам, он крикнул:
— Что ж, арестуйте! И меня и Адама! Сажайте обоих! Николова пуля страшней вашей тюрьмы… Все село знает, что вы меня по ночам сюда водите!.. Лучше бы мне черт ноги переломал, когда я первый раз к вам шел! Ничего не знаю, не знаю, не знаю!
«Арестовать или отпустить? — думал капитан, дрожа мелкой дрожью от усталости и тревоги. — Ужас! Целые полчища убийц!..» — Он нервно провел тылом руки по лбу.
Дербак Дербачок приготовился ко всему. Ничего не боялся. Дело в том, что сегодня при одном вопросе капитана в голове у него блеснула некая мысль, которая теперь приобретала убедительные формы и размеры. А может, Николы уже нет в живых? И во всяком случае — он не здесь. Наверно, бежал. Может, навсегда скрылся. Устроился в безопасном месте. Господи Иисусе, сделай, чтоб это было так, чтоб он больше не вернулся.
Но надежда Дербака Дербачка была напрасной.
Шугай был жив.
И никуда не бегал. А скрывался. В Зворце.
Зворец — поселок возле Стримбы из четырех хат, расположенных на расстоянии полкилометра друг от друга — в лощине, такой узкой, что ее могут перегородить четверо солдат, ставши в ряд с вытянутыми в стороны руками, и такой глубокой, что солнце освещает ее лишь семь часов в сутки, и траву со склонов нужно свозить в санях — летом в санях! — по утренней росе либо после дождя, так как зимой на них не вскарабкаться ни человеку, ни лошади.
Удивительным способом Никола туда попал.
Мать Дербака Дербачка — старая Олена Дербакова — дала ему что-то выпить. Еще тот раз, зимой, когда он у них ночевал в деревне и за ним пришла Эржика… Он не обратил тогда внимания на странный привкус у молока, — вспомнил об этом только потом, когда змеиное снадобье начало действовать и было уже поздно. А ведь насчет Дербаков его предостерегали и Эржика и брат Юрай. Правда, Дербак Дербачок все отрицал. Он ходит к жандармам? Да кого же в селе не вызывают в жандармский пост? И Никола ему поверил. Но мать Дербачка была ведьма. Она наводила порчу, приготовляла волшебные напитки, умела заклинать змей и превращаться вечером в жабу или черную кошку. За ней это давно знали. Но Никола не верил — и поплатился.
Однажды ночью в колыбе на Сухаре у него начались страшные боли в животе. Поднялся сильный жар, в голове зашумела сотня горных потоков. Когда он утром выполз потный на мороз и сделал несколько сот шагов по лощине, ему захотелось лечь где-нибудь под деревом прямо на снег и лежать, а там — будь что будет! С великим трудом удалось ему удержать в больной голове мысль о том, что этого делать нельзя, так как овладевающая им нечистая сила только того и ждет. И он пошел дальше, не останавливаясь и видя вокруг одну белизну да круги перед глазами. Но он знал: надо идти!
Как он добрался по лощине и снежным сугробам до Майдана, он не помнил. Но майданская ворожея, самая знаменитая из всех ворожей Верховины, была дома.
— Слава Иисусу Христу! — поздоровался он, входя в хату. Голова у него раскалывалась.
— Во веки веков! — ответила ворожея. — Ты — Никола Шугай.
Он не очень удивился, что она узнала его.
— Я знала, что ты придешь. Ты должен был раньше прийти. Я уж тебя три дня и три ночи жду.
Он чувствовал только пристальный взгляд ее блестящих глаз.
— Какая-то ведьма опоила тебя зельем. Змеи у тебя внутри поселились.
В памяти его промелькнула фигура старой Олены, отвратительные седые космы, выбивающиеся из-под платка. И та ночь, когда к нему пришла Эржика.
— Змеи из тебя выйдут.
Зрение его как-то странно прояснилось, но только в отношении говорящей, как будто она была одна на свете и кроме нее — ничего другого нет. Он видел, как она набрала из печи красных угольев на сковородку и поставила ее посреди хаты.
— Ну вот, сейчас выйдут. Огонь их пожрет.
Она дала ему чего-то выпить.
— Молись!
Никола стал читать про себя «Отче наш», а она, бормоча какие-то заклинания, принялась ходить, а потом бегать вокруг него. Она кружилась волчком, а слова заклинаний превращались в живые образы. Шугай видел только ее глаза.
Что-то страшно сдавило его. Ему показалось, что из него лезут все внутренности и душа с телом расстается.
Вдруг он увидел: его блевотина кишит змейками — мелкими, крупными, змеи вырываются у него изо рта, ползут, трепыхаясь, к сковороде и попадают в огонь, который их поглощает. Он почувствовал приступ слабости. Готов был упасть.
— Теперь ты здоров. Пойди на чердак, выспись. Утром силы к тебе вернутся.
В самом деле, утром он проснулся здоровым. Майданская ворожея — могучая ворожея.
— Спасибо, — сказал он, прощаясь и давая ей пригоршню денег.
— И тебе спасибо, Никола Шугай.
Он пошел в лес, к оставленной колыбе. В тот день он свалил самого большого медведя в своей жизни.
— Хей-хо! — крикнул он зверю, увидев его в трехстах шагах от себя на лесной тропинке.
Медведица встала на дыбы, и он выстрелил ей прямо в сердце. Видел, как она судорожно кинулась на старый бук, срывая когтями кору и куски дерева. В этот день все кругом было светлое, веселое; у Николы душа радовалась.
Но чары Олены Дербачковой оказались слишком сильными. Опять начались схватки, а с ними горячка, еще хуже прежней. Ее приступы перемежались ознобом, от которого не спасал огонь в открытом очаге, сколько Никола ни подкладывал дров, еле перемогаясь. Задремав на минуту, он тотчас вскакивал, так как всюду видел пламя, и ему казалось, что колыба горит. Рассвет! Только бы дождаться рассвета…
Он не знал, утро сейчас или середина дня. Знал только, что нужно идти. И повторял: «Идти! Идти! Идти!» — без конца, поднимаясь на колени, нащупывая бараний кожух, надевая его. И вдалбливал это «идти, идти!» в свою бедную голову, выходя на мороз, словно до смерти боялся, как бы вдруг не забыть такое необычайно важное слово…
Подошел к одной хате. В Зворце. Это была хата Юрая Токара. Вошел внутрь.
— Я — Никола Шугай. Приведите кого-нибудь, кто грамоте знает.
Через мгновение он уже сидел один на лавке в горнице с земляным полом. На него смотрела большая печь для хлеба, и на ней, как неотъемлемая часть ее, высовывались из-за дымохода какие-то ребятишки. Было там еще что-то совсем чудовищное, заполнявшее большую часть горницы, оставляя место только для кровати и стола, и пришлось несколько раз моргнуть (господи, да что ж это такое?), прежде чем оно приняло форму ручного ткацкого стайка.
Перед Николой встал человек с куском бурой бумаги из-под табака и карандашом в руках. Сразу видно, умеет писать. Хозяин, хозяйка и еще какие-то люди стояли в сенях и глядели через открытую дверь на происходящее в горнице.
— Пиши! — сказал Никола. И продиктовал следующее:
«Приезжай меня лечить! Если кто узнает, где я, сын и дочь твои пропали.
Никола Шугай».— Отнесите это в Воловое, к доктору!
Качаясь, мутным взглядом оглядел присутствующих:
— Это Зворец?
— Зворец, — ответил умеющий писать.
— Если кто узнает, где я, — спалю.
И снова впал в беспамятство. В сознании успело промелькнуть только: «Со мной ничего не случится. У меня такой талант от бога».
Окружному врачу стыдно. Ужасно стыдно. Пока шарабан подымается по самой крутой дороге республики, он думает:
«Как страшно! Который уж раз еду я по этой скверной дороге — вверх, на Греговище, потом опять вниз, в долину Теребли, — четыре часа езды, да еще час пешком, — лечить бандита?! Смешное положение! Сюжет для фарса! Для самого дурацкого фарса на свете! Но что поделаешь? Конечно, осуществление угрозы маловероятно, друзья — народ ненадежный (тут он вспомнил какой-то случай из своей биографии), они и не подумают хранить верность покойнику и подвергать себя опасности по приказу человека, которого уже нет на свете. Но все же: ответственность за жизнь детей, и этот ад, эти истерические припадки, если бы пришлось сказать обо всем жене! Конечно, представление о неодолимом и вездесущем Шугае, — просто массовый психоз. Но — легко быть мудрым задним числом, зная, что ничего решительно не было бы, и так хорошо изучив Шугая. А произнеси-ка при жене слово «Шугай»!.. Так, может, выдать его теперь? Ха-ха! «Господин доктор! Бог с вами! Вы сообщаете нам об этом сейчас, спустя два месяца? А знаете, во что обошлось преследование Шугая за это время? И потом — вы, врач, состоящий на государственной службе, не сообщили нам сразу о случае тифа?»… Скверно!»
Лошади становится все трудней тащиться вверх, на Греговище, местами еще по снегу, а местами по камням. Где-то внизу, ниже дороги, поет на солнце жаворонок. Доктор отпускает вожжи, закуривает сигару — и, так как времени у него достаточно, отдается мыслям о своем положении.
«Как борются с тифом? Жаропонижающее, камфарные инъекции для поддержания сердечной деятельности… Ну, конечно, диета. Но в Зворце ее невозможно соблюдать, если только дело не дойдет до того (ха-ха!), что я стану возить ему продукты из Волового. Впрочем, этот богатырь (какое все-таки великолепное племя — эти Шугаи!), с медвежьей грудной клеткой и лошадиным сердцем, который в сорокаградусном жару бегал черт знает куда по снегу, сам вылезет. Только бы не налопался кукурузной каши! Так зачем же я туда езжу? Влюбился в Шугая, что ли? Или отцовские советы ему давать? «Бросьте, мол, все это, Никола, и отдайтесь добровольно в руки правительства». Какая чушь! Или: «Покайтесь, Никола!» Это все равно, что зверю лесному — волку или медведю — сказать: «Покайся!» Так какого же черта? Зачем я туда езжу? Брр… Очевидно, только затем, чтобы когда-нибудь выступить перед краевым судом в Хусте свидетелем защиты и подтвердить алиби Шугая в таких-то и таких-то преступлениях. А этот противный шарабан еле-еле ползет — качается во все стороны, — годовалый ребенок и тот на четвереньках обгонит. Н-но-оо! Пошевеливайся, пегий! А кто мне оплатит эту поездку? Сына надо после праздников в Чехию в гимназию отправлять, дочь тоже всю жизнь в этом еврейском местечке проторчать не может. Деньги нужны до зарезу. Прошлый раз Шугай опять давал пачку сотенных, была между ними и тысячная. Кажется, он гонорар повышает. А я ему опять сердито: «Пока не надо, успеется». Гм-м, пока! А как они пригодились бы. Взять, что ли? Деньги, вынутые из кармана какого-нибудь проезжего… Это тоже сулит неприятности. Проклятый край! Из этого села вместе со священником и ста крон не выжмешь; врача вызывают по ночам только к умирающим — и зря и бесплатно. Да, вот она — знаменитая Верховина! Отсюда, с Греговища, — вся как на ладони: горы, ель да сосна, изредка — светлозеленое пятно долины. Все это красиво только на картинках. И даже рожь здесь не родится; разве кое-где на склоне встретишь полоску овса, — стебель не больше пяди вышиной. Здешние говорят: на камнях одни камни растут. Гм-м… Деньги, отнятые у проезжего! Фу! Нет. Конечно, если Шугая возьмут живьем, все равно получится страшный скандал (да еще отделаешься ли одним скандалом?), но денег я у него не возьму… Вся надежда только на то, что он живьем не дастся…»
Окружной врач продолжал ездить в Зворец. Давал Шугаю жаропонижающее, впрыскивал ему камфару для поддержания деятельности сердца. В самом деле привез ему как-то раз бутылку коньяку — подливать в молоко. И молчал.
Молчал и Зворец. Потому что для людей, живущих одиноко, среди панских лесов, и вынужденных чуть не на каждом шагу, даже в тех случаях, когда на это смотрят сквозь пальцы, нарушать права частной собственности, молчанье дороже золота. Боязнь поджога оказывала свое действие. Да и с какой им было стати выдавать Николу, если никогда еще они так хорошо не жили, как после его прихода? Деньги нужны? У Токара Никола поселился!
Стал к нему ходить Данило Ясинко, черный, корявый колочавский мужик. Николе пора уже понемногу мясной бульон есть. А где взять, коли еврейский резник в Колочаве не продает говядины и за ней надо ехать за тридцать километров в Воловое? И вот Данило стал водить Николе целых коров. Понятно, некупленых. А ведь корову один человек не съест.
— Не помрешь, Никола? — спрашивает Данило Шугая, с сочувствием глядя в его ввалившиеся, горящие черные глаза на прозрачно-белом лице.
— Нет, — отвечает слабым голосом Никола.
Потом спрашивает, приподнявшись на своей дощатой кровати с высокими ножками, больше похожей на ясли, чем на кровать:
— Что нового?
— Да что ж нового? Ничего нету, — врет Данило.
— На разбой не ходите?
— Э-э-э!
Данило умеет ничего не говорить даже тем, кого любит.
— Не ходите, ребята, — произносит Никола, и черные глаза его, устремленные в глаза товарища, приобретают более мягкое выражение. — А что делает Эржика?
— Да что делает? Живет у Ивана Драча, у отца.
— Никто за ней не ударяет?
— Не слыхал.
И опять день за днем проводит Никола в полном молчании, погруженный в свои мысли. Раненый волк, который залез в чащу и ничего не хочет, только ждет, чтобы бог леса опять ожил в нем либо покинул его, поднявшись куда-то вверх, к кронам буков.
Окна у этих старых хат маленькие, всего две пяди в ширину, две в высоту — только голову просунуть, но не плечи: это для защиты от разбойников. В окошки видны два квадрата зеленого леса на противоположном склоне, залитые лучами мартовского солнца. Говорить не с кем. Хозяин запряг лошадей в таратайку, поставил в нее два ведра и уехал на двое суток на Шандровский родник за ропой — соленой водой, которая к весне кончилась. За печным дымоходом клюют носом ребятишки в одних рубашонках. Хозяйка сидит за станком, ткет из шерстяной основы и утка материю, станок скрипит, громко стучит дерево о дерево. Время от времени к ней подходит, ковыляя, двухлетний ребенок и просит груди.
У Николы — талант от бога. Но благотворную силу этого таланта нужно ревниво оберегать: говорить о ней нельзя никому, даже самому себе, из опасения, как бы она, таинственная и безыменная, не пострадала от чьего-нибудь грубого прикосновения. Она покоится глубоко под всеми слоями души, — светлая, ярко сияющая точка, пронизывающая лучом своим все слои.
Нет, с ним ничего не может случиться в этой мрачной горнице с огромной печью и светящимися зелеными квадратами, полной скрипом и деревянным стуком ткацкого станка. Колдовство Олены могуче, но его сила еще сильней.
Что будет дальше?
Этого он не знает — знает только, что все кончится хорошо. Что он выйдет отсюда в зеленое сияние, которое вон там, на противоположном склоне. Что люди опять будут любить и бояться его. Что он снова увидит Эржику. И что его никогда не поймают. И никакая пуля не тронет его: ни ружейная, ни револьверная, ни пулеметная, ни орудийный снаряд.
Хозяин привез ропу.
Прежде всего он принялся ругать досмотрщиков у родника, которые дерут с приезжих по пятнадцати геллеров с ведра. Какого-то рассола черпнешь — и то плати! Потом стал рассказывать новости. О преступлениях, совершающихся в краю. Об убийстве возвращавшихся с ярмарки в Воловом, об истреблении семьи «американца» возле Буштины, о кровавом ограблении на полонине Роза. А теперь вот по дороге в колыбу на Стиняке был застрелен венгерский торговец Наси Федор; застрелены евреи Шварц и Абрамович, тяжело ранен и ограблен крестьянин Иван Тернавчук. Весь край говорит об этом. Будто и в газетах пишут; даже в заграничных. Пригоняют все больше жандармов.
Никола — весь внимание.
— Тебя ищут. Думают, это все ты.
У Николы мучительно бьется сердце.
— И что же? Люди верят? — спрашивает он.
— Ну да. Верят, дураки такие.
Кто-то совершает убийства, прикрываясь его именем! Кто-то трусливо прячется за его спиной! Кровь кинулась ему в голову, застучала в висках. Вскочить, схватить винтовку и сейчас же туда! Идти, бежать, уничтожить трусов-убийц! Но руки, на которых он хотел приподняться, подломились, он снова упал на сено. Просто хоть волком вой!
Когда через несколько дней верный Данило Ясинко притащил теленка, Никола долго не сводил с приятеля твердого взгляда своих черных глаз.
— Так не разбойничаете?
— Э-э-э! — ответил Ясинко, глядя на Николу честными глазами.
— Говорят, в крае убийства идут.
— Слухи есть. Убили, кажись, еврея одного.
— И будто на меня все валят.
— Да никого не поймали.
Тут глаза Николы загорелись в сумраке горницы страшным огнем. Снова прежним черно-зеленым огнем, каким горят глаза рысей и волков в темных чащах. Потому что в Шугае опять проснулся бог леса.
— Убью. Видит бог, убью. Скажи всем.
Давило глядит в глаза Николы. Но внутри у него трепещет крыльями целая стая вспугнутых птиц.
Он знает, что Никола слов на ветер не бросает.
В хате дни тянутся серые, печальные, а на противоположном склоне сияет солнце, и зеленые ветки колышет ветерок, который освежил бы голову. По ночам душно и за обоими окошками холодно сияют звезды.
Никола Шугай выздоравливал. Пробовал передвигаться по комнате, несмотря на запрещение врача; ел, несмотря на его запрещение, и много спал…
Это было весной, в воскресенье.
С северного склона Розы сходили последние пятна снега, на склонах Стримбы расцвели анемоны, и быстро высыхали дороги. Хозяева Николы оделись в белое, хозяйка надела все свои красные и золотые ожерелья, закутала младшего в белый платок, и все пошли — первый раз в этом году — в колочавскую церковь.
Никола выполз на порог дома. Подставил лицо солнцу и стал глубоко вдыхать его аромат, от которого здоровеют люди, звери, деревья. Любовался на зелень лесную, вслушивался в ропот текущего поблизости потока, и ему стало грустно смотреть на все это, не имея возможности прикоснуться. Он думал об Эржике, которую напоминал ему этот солнечный воскресный день.
Вдруг он насторожился.
Неподалеку от него, ниже поселка, из лесу вышел человек и быстро зашагал по тропинке к хате. Кто ж это и чего ему надо? Никола хотел было скрыться. Но не успел подняться на свои слабые ноги, как уже узнал приближающегося.
Мгновенье оба глядели друг другу в глаза: Никола, сидя на пороге, а в нескольких шагах от него — брат его, Юрай, пятнадцатилетний парнишка, худой и слишком длинный для своего возраста, но с такими же лучистыми глазами, выпуклым лбом и маленьким подбородком. Смотрели друг на друга молча, не удивляясь встрече, но полные радости, что увиделись.
— Не помрешь, Никола?
— Не помру, Юра.
Юра подсел к брату на порог, и оба стали глядеть на то, что делается вокруг.
Долина сияла, в ущелье шумел поток.
Только бы руку в него опустить, почувствовать напор его стремительной, холодной струи! Когда же я выйду из своей норы и сольюсь со всем, что меня окружает?
«Как будет хорошо!» — молча откликается его мыслям Юра.
Кругом пахнет солнцем, землей и водой.
— Кто тебе сказал, что я здесь?
— Никто не говорил, Николка.
— Как же ты нашел?
— Я долго тебя искал, а нынче ночью вдруг понял, что ты здесь.
Для этого времени года было слишком знойно, солнечные лучи жалили. Сзади надвинулась и нависла над ущельем туча, закрыла полнебосклона, потемнела. Будет гроза!
Братья долго молчали. В этом краю народ молчалив. Глубокие горные долины, где можно часами идти, не слыша ничего, кроме шума воды, первозданные леса, чью тишину не нарушают ни малый зверь, ни птица, горные пастбища, где только скотина похрустывает стеблями трав, — не учат людей говорить. Слова здесь — только для повседневных нужд. А чувство выражается взглядом, рукопожатием, напевом жалейки или молитвой.
Да, Юрай пришел к Николе и останется у него. А как Никола выздоровеет, уйдет с ним в лес. Домой больше не вернется. В краю хозяйничают жандармы. Поминутно — и днем и ночью, даже по нескольку раз за ночь — врываются в их недостроенную хату, стаскивают с постелей, раскидывают вещи, больно дерутся. Отец тоже решил бежать. Отведет скот на полонину, оставит где-нибудь там мать с младшими ребятами, а сам уйдет в Польшу либо в Румынию. Но он, Юрай, останется с Николой.
Никола взглянул вверх, на горный гребень. Гора до половины закрыта темносиней завесой, огромной завесой, свешивающейся прямо с неба. Посреди нее клубятся яркие белые облачка, смешные своими малыми размерами и суетливостью. Зворецкая хата уже погружена в полутьму. А долина еще озарена солнцем.
— Ты верил, что все эти убийства дело моих рук?
Юрай с удивлением посмотрел на брата.
Почему же не верить? Ведь и он, пятнадцатилетний парнишка, пришел, чтоб убивать.
Но кто же это делает?
Может, Игнат Сопко, может, Данило Ясинко, может, Васыль Дербак Дербачок со своим побочным сыном Адамом Хрептой, может, все они вместе, а может — никто из них. Юрай не знает. Он знает только, что Дербак Дербачок — предатель, а мать его — баба-яга. Что Дербак Дербачок ходит к жандармам, и как раз он-то и натравливает их на семью Шугая.
— Знаешь, я убью того, кто свои убийства валит на меня!
— Знаю.
Как же Юраю не знать? Никола может сделать все, что захочет.
— И Дербачка нужно убить.
— Пожалуй, — ответил Никола.
Страшно синяя завеса придвинулась к ним. Заполнила все ущелье. Перед ней теперь — только маленькие пригорки, за ней — ничего не видно, а по ней бешено мчатся несколько белоснежных облачков. Стало холодно, почти как зимой. Мертвая тишина вокруг. Деревья неподвижно застыли в напряженном ожидании — поскорей глотнуть первых капель, которые упадут.
Налетел резкий порыв ветра. Одиноко стоящие деревья низко наклонились. Долина сразу скрылась из глаз — на виду остались только часть крыши над головой да кусок яркозеленой лужайки впереди. По крыше застучали первые крупные капли. Тьму пронизала молния, разъяв полосой весь небосвод. Из широко раскинувшихся туч прокатился удар.
Над тучами и вокруг них зазмеились молнии. Здесь! Там! Бьют по лужайке перед ними. Небеса обрушились на землю ливнем и громом.
Парни остались сидеть на пороге. Юрай положил руку на колено брату, Никола накрыл эту руку своей. Они любовались грозой, глядя вокруг веселым взглядом.
Внизу в долине евреи при каждом ударе грома молились: «Слава тебе, боже наш, боже всесильный!» Но Никола с Юрой знали, в чем дело: это господь бог преследует черта своей молнией. «Тебе меня не убить!» — крикнул дьявол богу. «Нет, убью!» — «Я в скотину спрячусь». — «Убью скотину. Другую людям дам». — «В человека спрячусь». — «Человека убью. Другого создам». — «А я спрячусь в воскресную щепку»… И бог промолчал: над щепкой, отколотой в воскресенье, он не властен.
Все небо в огне, весь мир гремит. Кнуты молний хлещут лужайку. Там! Там! И там! Видно, черт спрятался где-то здесь.
Братья не испытывают страха. Того, что приходит из леса и гор, днем нечего бояться. Бояться нужно только того, что приходит от людей, снизу. А происходящее их не касается. Тут спор между богом и дьяволом.
Оба парня — рука в руке — глядят прямо в лицо богу земли.
Это одно из тех мгновений, когда бог земли говорит. В человеке и вне человека.
Одно из тех мгновений, когда решается вопрос жизни и смерти.
— Ну, а теперь как, Шугай? — подняв брови, спросил врач у Николы, после того как объявил, что больше не приедет. — На что вы рассчитываете? На друзей? Друзья — народ ненадежный: изменят.
У Николы слегка сжалось сердце.
— Нет, денег ваших я не возьму, — продолжал врач, отводя руку Николы, полную кредиток. — Я считаю, что действовал, подчиняясь грубому насилию и вымогательству. Но надеюсь, вы не отплатите мне тем, что станете рассказывать о моих посещениях.
И, радуясь, что нашел правильную формулу, он удалился с видом рассерженного кредитора.
Никола остался стоять в одиночестве посреди горницы.
Что-то слегка сдавило ему горло.
Друзья изменят. Доктор прав… А Эржика — тоже изменит?.. Ах, как он тосковал по ней теперь, когда тело его наполнялось новой кровью. Как желал ее!
Так и она — изменит ему, и он останется один-одинешенек против всех в мире?
Ну что ж!
Он повел плечами, как бы стряхивая с себя тягостное чувство, выпрямился. Почувствовал, как твердо стоят расставленные ноги его на земле и какая сила струится в него из этой земли. У него талант от бога. И он-то уж не изменит! Хоть бы ему, Николе, против всех на свете пойти пришлось!
Он стал на пороге и, вложив два пальца в рот, свистнул. Потому что Юра был в лесу, скрытый от доктора.
Юра пришел.
— Завтра перебираемся отсюда, Юрай.
С той поры братья друг с другом больше не разлучались.
И с той поры люди снова стали встречать Николу Шугая в лесу, на дорогах. Но все реже — в сопровождении обвязанных платками друзей. Теперь они ходили вдвоем: Никола в своих альпийских ботинках с обмотками и долговязый пятнадцатилетний подросток в верховинской одежде — опанках, узких штанах и куртке из грубой овечьей шерсти, с поясом, защищающим ребра от ударов. Кружат по краю, появляясь то здесь, то там, не убийцами из-за угла, а благородными разбойниками, которые глядят прямо в лицо другу и недругу.
Опять стали нападать на почту и обозы. Выйдут из канавы на дорогу двое: подросток с винтовкой на изготовке и злым огнем в глазах и невозмутимый Никола с винтовкой на плече. Он подходит и произносит в виде заклятия: «Я — Никола Шугай». И никого уже не нужно ошеломлять оплеухами; довольно этого грозного имени; никто не решается сопротивляться; все его знают; знают и ямщики с почты, которые, спрятав денежные посылки в сапог либо под сиденье, в страхе улыбаются самой беззаботной улыбкой.
— Нынче, Николка, много у нас не найдешь.
Какая радость для Юрая — быть разбойником!
Какое наслаждение для того, кто до сих пор сам был полон страха, наводить ужас на других! Какое великолепие — стоять на большаке с винтовкой на изготовке, смотреть на бледные лица людей, на их поднятые вверх руки и думать: «Вот захочу и застрелю тебя, господин чиновник, а захочу — застрелю не тебя, а вон того позеленевшего от страха рыжебородого еврея с выпученными глазами». Какое глубокое удовлетворение — сидеть с Николкой в лесу, за буком, смотреть сквозь листву, как в десяти шагах от тебя по тропинке шагают два жандарма, и знать, что их существование зависит от маленького нажатия твоего указательного пальца на спуск. Молите Юру Шугая, собаки, чтоб он не сделал этого движения, и остерегайтесь малейшим жестом повысить хоть на сотую долю градуса пыл его черных глаз.
Вот что произошло как-то раз, когда они, в обход Каменки, спустились за Синевиром на большак.
Долина тут сильно сужается, оставляя место только для дороги да для реки Теребли. Усевшись на скалистом берегу, братья стали смотреть на стремительно несущиеся вниз, обгоняя течение, плоты.
— Счастливого пути! — по старому обычаю кричали они плотовщикам, махая им рукой.
— Спасибо, — отвечали те, узнав Николу, хотя их уже не было слышно. Стоя по краям, они направляли веслами движение плотов, летящих наперегонки с самим дьяволом и легко проносимых волнами там, где через несколько недель над поверхностью выступят огромные подводные камни и плетеные подпоры берегов.
— Кто-то едет, — промолвил Юрай, сидевший выше брата.
Кивком головы он указал на изгиб дороги.
По щебню двигалась запряженная парой лошадок телега. На ней в типичной еврейской позе стоял бородатый человек в дырявом порыжелом кафтане; приподнятый угол рта говорил о внимании человека к своему занятию и в то же время о мучительной тревоге. Он ехал рысью, держа вожжи в одной руке.
— Э-э, да это Пинкас Мейслер из Негровца, — промолвил Никола. — С него взятки гладки.
— Спросим все-таки, что он везет и кому, — сказал Юрай.
Но Мейслер никому ничего не вез. Только себе — курицу, зарезанную полянским резником по всем правилам ритуала. Поэтому-то он и ехал по ухабистой дороге рысью: была уже пятница, и он торопился скорей домой, так как курица предназначалась для субботнего ужина, а жене надо было покончить со всеми хлопотами и готовкой, прежде чем взойдут первые три звезды.
Юрай выскочил на дорогу.
— Стой! Я — Шугай!
И приготовился стрелять.
— Шма Исруэль!
Мейслер хлестнул коней и закрыл глаза; лицо его исказилось гримасой смертельного ужаса; в мозгу мелькнула мысль о курице и печи.
Телега промчалась мимо Юрая.
Бах! — послал Юрай пулю ей вдогонку.
Пинкас Мейслер выпустил вожжи из рук, повалился навзничь; лошади понесли, хрустя колесами по щебню.
— Го-го-го! Как смешно!
На дорогу выбежал Никола.
В ужасе мгновенье смотрел на закусивших удила лошадей, на волочащиеся по дороге вожжи. Он словно глазам своим не верил.
Потом его охватило бешенство. Кажется, одним ударом так и сбил бы брата с ног!
— Что делаешь? Разрази тебя гром! — взревел он.
Юра посмотрел на него с удивлением. В чем дело? Чего он обозлился? Не все ли ему равно, убью я одного или десяток? Или еврея жаль? Непонятно.
Никола быстро пошел вслед телеге, словно хотел догнать испуганных лошадей, которые где-нибудь запутаются в постромках и остановятся либо переломают себе ноги. Юрай — за ним.
И только много времени спустя, когда они с дороги уже свернули в лес и молча, как строгий отец с провинившимся сыном, направились к Точке, Никола промолвил:
— Никогда больше не делай этого!
Он произнес это с досадой, но все же как отец, у которого отлегло от сердца.
Не мог он долго сердиться на Юру из-за какого-то Пинкаса Мейслера.
В ту же ночь, после похода в Негровец, где он сунул в окно вдове Мейслера четыре кредитки по тысяче крон, Никола, найдя Юру спящим в обороге, накрыл его своей курткой и потом с нежностью смотрел на него при свете месяца. Какая радость, что этот парнишка пришел к нему! Может быть, Никола только его и любил. Но уж вполне доверял, наверно, только ему одному.
Ну, конечно, была еще Эржика!
Он думал о ней, глядя с Заподрины на двойную вершину Дервайки, так похожую на женскую грудь. Его волновало воспоминание о ее теле, когда он сидел на камне, подперев подбородок руками, и смотрел на течение реки, на мягкие линии волн. С мыслью о ней, полный ее благоуханья, засыпал он в обороге, а играя на жалейке, испытывал легкое ощущение ее присутствия: как будто она стоит у него за спиной, слушает и, как только он доиграет, обнимет его сзади. В солнечные дни он часами лежал среди скал над Колочавой и упорно смотрел в похищенный им бинокль на хату старого Драча. И тут повторялись минуты, пережитые после возвращения с войны, когда он ждал в ночном лесу, на полонине «У ручья», и, дрожа от тоски и ревности, не сводил глаз с костра, возле которого она сидела с Гафой, Калиной и Иваном Зьятинковым… Выйдет она из отцовской хаты? Увидит он, как, подобрав рубаху и заткнув края за пояс передника, она идет с бадейкой по воду? А кто ж это прошел три раза мимо их дома? В глазах у Николы, как тогда, вспыхнул дикий огонь. Коли войдет, Никола застрелит его, как только тот выйдет снова! Прицелится хорошенько и уложит даже на этом расстоянии!..
О да, он любил Эржику. Но она — не то, что Юрай. Этот парнишка был лесной, повседневный. А Эржика не имела ничего общего с повседневностью; она походила на весенний воскресный день, или, пожалуй, на зарницу в горах, или, еще лучше, на напев его пастушьей свирели. Почему Юра так не любит Эржику?
Были еще товарищи!
Но они принадлежали к прошлому, и отношения с ними, пока еще сохранявшиеся, уже превратились в привычку, которая быстро отмирала. Товарищи навещали его, приходили брить, носили ему на Сухар брынзу и кукурузную муку, иногда еще участвовали в нападениях… Игнат Сопко, Данило Ясинко, Васыль Дербак Дербачок со своим побочным сыном Адамом Хрептой — те, что не в тюрьме… Но какая стена холода встала между ним и ими! Они смотрят друг другу в глаза, словно через заиндевевшее окно хаты в мороз. Прав Юра, что всегда при них угрожающе хмурится и не выпускает из рук заряженной винтовки…
Вот Дербак Дербачок с хитрыми, бегающими глазами, который ходит теперь так редко к нему и так часто к жандармам, — а мать его, ведьма, подмешала Николе змеиного снадобья! Вот Адам Хрепта, который все шатается возле хаты Николова тестя Драча! И конечно, среди этих четверых, сидящих здесь, не зная, о чем говорить, присутствует участник убийства семьи «американца», человек, застреливший трех евреев в день воловской ярмарки и переехавший им потом горло телегой! И все это — прикрываясь его именем! Все его именем! У Николы закипает кровь; он переводит взгляд с одного на другого, чуть задерживаясь на каждом, и они понимают этот взгляд, и, хотя не опускают своих глаз — мороз подирает их по коже.
— Адам, — сказал как-то раз Никола Хрепте в орешнике на Сухаре, спокойно жуя хлеб с сыром. — Скажи своему отцу, что на Заподринской полонине его лошадь лежит. Юра штыком ее заколол, я не знал об этом. Твой отец — предатель и поэтому к нам больше не ходит. Предупреждаю… И тебя тоже, Адам.
При этом Никола взглянул на него пронзительным взглядом.
Адам Хрепта побледнел.
Юрай сидел поодаль на трухлявом пне, и черные глаза его светились, как у рыси. Он держал на коленях заряженную винтовку. Только тут остальные заметили, что он находится в четырех шагах от них и одним движением пальца может уложить на месте — кого вздумается.
ЭРЖИКА
Почему Юрай так не любил Эржику?
Это был исконный страх всего живого перед неизвестным, которое слишком близко и потому может грозить смертью. Страх, заставляющий лисицу, которая почуяла носом опасность, распушить хвост и удирать, петляя, а оленя в несколько прыжков достичь ближайшей чащи. Эржика тоже была неизвестна, слишком близка и могла причинить смерть.
Она жила теперь в центре села, у отца своего Драча, вместе с братом Юраем. Встречаться с ней стало гораздо трудней, чем до пожара, когда она жила в хате Шугаев, далеко от села, на краю леса. Но от старого сруба осталось только несколько обгорелых балок, а новый дом торчал на лугу без крыши, потому что Петр Шугай отвел скотину, жену и младших ребят в горы, на полонину Красна, а сам убежал в Румынию.
И все-таки Никола с ней встречался! Ну как жить без Эржики? По ночам она убегала от отца и брата Юрая, ускользала в потемках, быстрая как ласка, из окруженной жандармами хаты и шла на свидание с милым. Кроме того, два раза в неделю она ходила в горы, на полонину, за молоком от отцовских коров; несмотря на то, что всякий раз из канав, из-за деревьев за ней следили жандармские дозорные, она, улучив безопасную минутку, ныряла в укромное местечко, где он уже ждал ее, где можно было друг другу улыбнуться и наспех друг друга обнять. А если Эржика долго не приходила, нарушив условленный срок, Никола покидал свое ложе рядом с братом в ночном обороге и рисковал добираться до самого села, ползком между подсолнечников, между оплетенных побегами фасоли жердей, лежал часами в конопле, определяя местоположение караульных, и перепрыгивал через перелазы.
— Кровинка моя! — будил он ее шепотом, проникнув к ней в каморку и прижавшись щекой к ее щеке.
Ну, как можно жить без этого тепла, без этого запаха вишневого дерева, без этого гибкого тела, напоминающего мягкие линии волн?
Если б Юрай Драч не любил так сестру, он возненавидел бы ее за все это. Он ругался, кричал, клялся ей и себе, что убьет Николу, а она ходила спокойная, деловитая, безучастная к его ревности, думая о своем. Зачем сердиться, раз все равно ничего не изменится, если брат любит ее и не станет бить, а потрясет, обозлившись, за плечи, — так это не больно.
Юрай Драч стерег Эржику. А Юра Шугай — Николу. За ужином, догадываясь по лицу брата о надвигающейся беде, он следил подозрительным взглядом за каждым его беспокойным движением, а ночью, видя, что Никола, только что лежавший у его бока, уходит неизвестно куда, приподнимался на сене и глядел ему вслед печальными, полными упрека глазами.
Вчера Никола провел весь день на голом уступе над Колочавой, лежа за камнем и глядя в бинокль на дворик и окна драчевой хаты. Вот уже десять дней, как он не видел Эржики. Но вышло так, что ночью, преодолев лабиринт деревенских оград, он все же не сумел пробраться к жене. То ли скрипнула дверь, когда он тихонько входил в сени, то ли просто так, случайно, только из большой горницы вдруг выбежал Юрай Драч, и на бешеный вопль его: «Кто тут?» — сбежались жандармы. Никола еле успел выскочить вон, во тьму.
Он вернулся в горы, чуть рассвело. Несчастный и злой.
Юра Шугай уже не спал. Как ревнивая жена, ждал брата. Сидел возле оборога, жуя ломоть кукурузного хлеба. Завидев Николу, устремил на него испытующий взгляд.
Но Никола не пошел под навес оборога спать. Он тоже сел, откинувшись на стог, прислонил рядом винтовку и стал глядеть на светлеющий восток. Он молчал.
Заговорил Юра:
— Ты был у Эржики.
Никола ничего не ответил.
— Ты был.
Солнце еще не взошло над Красной, но холод рассвета уже предвещал его появление. На шесте противоположного оборога неподвижно сидел ястребенок, зябко ожидая первого луча, который согреет его.
— Оттого ты и бледный такой. Ты всегда от нее утром бледный приходишь.
Никола слышал голос брата, но не вникал в смысл его слов. Они не доходили до него, как будто останавливались в двух шагах. Словно кто-то посторонний говорит другому, тоже постороннему.
— Смотри, Никола! — продолжал Юра с тревогой в голосе, как старший брат, предупреждающий младшего. — Олекса Довбуш тоже невредимый был, и никто не знал, как его убить. Но Дзвинка, милая его, эту тайну из него вытянула.
Над Красной начался восход. Первые лучи солнца ударили братьям в глаза, причинив боль. Золото быстро разливалось по всей окрестности. Противоположные вершины гор ярко озарились, и сияние стало спускаться вниз, к долине. Никто не имеет права отнимать у него жену, данную богом. Может, Юру Драча застрелить? За что он ненавидит Николу? Ведь Никола не сделал ему ничего плохого. Ястребенок на шесте оборога продолжал сидеть неподвижно, как чучело.
И тут Юра произнес страшное слово, которое давно его угнетало:
— Эржика — ведьма.
Он произнес это тихим голосом, глядя в землю, полный боязни.
Над черной лесистой ложбиной напротив появилось белое облачко, единственное на чистом, блистающем небосклоне. И, плотное, хорошо замешанное, как хлебный каравай, покатилось вверх по зубчатым верхушкам елей, не зацепляя за них. Что скажет Эржика, если ее брата найдут на полонине мертвым?
— Я знаю, что Эржика ночью творит над тобой и отчего ты утром всегда такой бледный.
Достаточно длинная цепь слов, пусть отрочески тихих и робких, в конце концов не может не дойти до сознания.
— По ночам в коня тебя превращает и до утра на тебе ездит.
Что там болтает мальчишка?
— Ты бы, Никола, попробовал, сделал, как хозяин в Верецках.
Хозяин в Верецках? Никола знал, что рассказывают о верецком крестьянине. У него тоже жена ведьма была и по ночам в коня его превращала. Но он, по совету ворожеи, притворился раз, будто спит, а когда жена наклонилась над ним, чтобы заколдовать, крепко схватил ее за волосы — и глядь: волосы превратились в гриву, жена в кобылу, и он всю ночь до рассвета скакал на ней. А утром велел кузнецу кобылку подковать и отвел ее в конюшню. Потом на работу пошел. Вернулся домой обедать, видит: жена в постели лежит, помирает. Смотрит — руки и ноги у ней гвоздями пробиты и на них — подковы… Ну, ладно. Но Николе-то какое дело до хозяина в Верецках?
— А еще лучше: убей ее, Никола!
Взгляд Николы блуждает по очертаниям гор и лучезарному небосклону.
Что говорит этот парнишка?
— Или нет, Никола. Не надо. Я сам ее застрелю.
Только тут Никола взглянул на брата. Устремил на него пристальный взгляд, вроде того, каким смотрят на щенка, который, идя рядом, от страха за нас ощеривается и готов нас укусить.
— Эржика не виновата.
Весь мир полон сверкания. Ястребенок втянул голову в оперенье шеи, напрягся, раскинул крылья и быстро полетел вдаль.
Одиннадцать дней Никола не видел Эржики! Это неспроста? Эржика начинает охладевать? Ну, конечно, неспроста. Он это чувствует. По незаметной разнице в объятии, по мгновенной дрожи, заметной только истосковавшемуся любовнику, да и ему не вполне ясной.
Но Юра, у которого чувство и рассудок не так разъединены, знает. Знает и чует приближение смертельной опасности.
— На что вы годны, ребята? — сказал жандармский капитан. — Никак не уломаете девятнадцатилетнюю бабенку? А по ночам постель ее караулите…
Капитан упорно держался прежнего плана: поймать Шугая на Эржику.
И вот однажды вечером, только корова вернулась с пастбища и Эржика принялась в сумерках доить ее, за спиной Эржики, у входа в хлев вдруг появилась какая-то тень. Эржика обернулась и от испуга чуть не опрокинула подойник, стоявший между колен. По силуэту фуражки она узнала жандарма. Они уже давно не тревожили ее.
— Как поживаете, Эржика? — весело произнес мужской голос.
Нет, не надо пугаться: он не по делу пришел, он слышал только, что у Эржики остались от мужа кое-какие медвежьи шкуры, а ему хочется послать такую шкуру зятю в Чехию. Они потолковали минутку возле хлева. Он был любезен, сказал, что нет решительно никакого смысла мучить Николову семью, и на прощанье хотел погладить ее по голове.
С этого началось.
Может, Никола правильно говорил: может, Эржика была не виновата. Может, всему виной был Юра Драч, который провожал ее теперь даже на полонину и так долго не давал им встречаться. Может, виноват был жандармский капитан. Но возможно, ничьей вины и не было. Может, Эржика была вынуждена уступить насилию ефрейтора, слишком важной особы, которой нельзя было оказывать сопротивление. Может, она хотела облегчить участь Николы и свою собственную, а может, ей немного понравилась могучая фигура жандарма, его кудрявые волосы и белые руки с кольцом на пальце. Как бы то ни было, уже чувствуя, как у нее слабеют колени, она еще отталкивала его руками, а потом сидела вся красная, молчала и заплакала бы, если б умела плакать.
Колочава — проклятое село. Она очень напоминает сибирские деревни. Живешь, словно в осажденном городе, у всех лица угрюмые и в то же время насмешливые, а с тех пор как на Колочаву за помощь, оказываемую бандиту, была наложена контрибуция в тридцать тысяч крон, тут появился не один Шугай, а целые сотни Шугаев, жаждущих убийства. Здешние крестьянки — робкие, неразговорчивые; завидев жандарма, они сходят с дороги и делают большой крюк. Еврейские девушки, стоя за прилавками и сидя на крылечке, любезно разговаривают и завлекательно смеются, но всегда — под строгим надзором матери; а поодаль, засунув руки в карманы и посвистывая, с самым равнодушным видом стоит какой-нибудь брат. С ними по улице не пройдешься, а дотронуться — и думать нечего! Так что, если тебе не хочется, лежа за жандармской казармой, смотреть весь день, как от Дервайки к Красной тянутся облака, и надоело с утра до ночи играть в марьяж, остается только пьянствовать в корчме Кальмана Лейбовича или Герша Вольфа.
«Какая прелесть!» — думал ефрейтор Свозил.
Эти слова доставляют ему наслаждение, и он каждый вечер, до развода жандармских караулов, пробираясь огородами между Колочавой и домом Драчей, повторяет их — для удовольствия и для самооправдания. Он тоже осторожно шагает по тропинкам и целую четверть часа дожидается среди подсолнечников и вьющейся фасоли, с волнением следя за домом: скоро ли выйдет Эржика?
Служебное рвение уступило место сердечной потребности. Он хотел отличиться перед товарищами — и молчит; хотел доставить капитану верные сведения о местопребывании Шугая — и даже забыл думать об этом. Такая прелесть! Любит она его? Неизвестно. И хотя он старается убедить себя в том, что эти встречи — только минутная забава, неизвестность мучит его. Сама она ничего не говорит (ах, эти здешние умеют хранить страшное молчанье обо всем!), ни когда он ее целует и тискает ей грудь и плечи, ни когда он с ней нежен; а если он вынудит у нее ответ, — спокойно скажет: «Люблю тебя» (ах, чего стоило добиться, чтоб она говорила ему «ты»!), но это звучит, как если б она сказала: «Люблю красные бусы». Нет, не так, потому что она сказала бы: «Я очень люблю красные бусы». Кошка, кошка, кошка, которая всегда молчит, только смотрит широко раскрытыми глазами, и, глядя в них, никогда не знаешь, что там, в глубине. Кошка, которая думает о чем-то своем и тихонько приходит и уходит, когда ей вздумается.
Но когда в сумерках на дворике появляется силуэт Эржики, и над перелазом мелькнут ее босые ноги, да блеснут на мгновение бусы, похожий на цыгана, высокий, кудрявый парень улыбается во весь рот. «Ах ты, моя прелесть! — думает он. — Я тебе жемчужинки принес. Или ты звезду хочешь с неба?» И бежит к ней навстречу. И целует.
Однажды вечером, когда уже совсем стемнело и она сказала: «Мне пора, как бы брат не хватился…» — ефрейтор Свозил вспомнил:
— Откуда майданской ворожее известно, что я с тобой гуляю? — спросил он, смеясь и щекоча ее под ребрами.
Майданской ворожее, конечно, ничего не известно. Никому об этом не известно.
— Я третьего дня по делам ходил туда, так попросил ее погадать, и она мне смерть напророчила. Даже близкую. Когда — не сказала, но, сдается мне, я по глазам заметил, что знает и месяц и день. А ведь это ежели случится, так только из-за тебя.
И он засмеялся, как будто пошутил.
Она выскользнула из кольца его рук. Спокойно поглядела на него своими черными глазами, в которых ничего не видно. Ей мил этот огромный парень. Жалко его! Не из своих, а такой ласковый, подарки ей носит. Жалко! Коли майданская ворожея говорит, значит — правда.
— Что ты на это скажешь? — весело спросил он.
— Ничего. Мне пора.
И она убежала, а он долго еще стоял, огорченный и полный ее прелестью.
В ту же ночь, лежа на соломе в школьном помещении, он был вырван из мира снов о ней.
На жандармский пост прибежал Васыль Дербак Дербачок. Это было во втором часу.
Дербак Дербачок сообщил:
Никола Шугай и Юра Шугай ночуют нынче под Тиссовой, в уединенном обороге, на поляне в молодом лесу. Днем туда всего три часа ходу. Поляна небольшая, ее нетрудно оцепить.
Дежурный жандарм сейчас же разбудил капитана и старого вахмистра. Они, одеваясь, быстро ориентировались по карте. Тревога! Всех на ноги! До рассвета стремительным маршем — на место! Там ждать дальнейших приказаний. Дорогу знаете, вахмистр? Капитан был в волнении.
В школе внезапно разбуженные жандармы, с неприятным ощущением холода на спине, поспешно натягивали мундиры, обувались, опоясывались ремнями. А те, что спали у Герша Вольфа и Кальмана Лейбовича на сеновалах, спускались полуодетые по приставным лестницам в густой ночной туман. Сквозь туман виднелись расплывчатые светящиеся кружки двигающихся по двору фонарей.
Сводный отряд потонул в белесоватой мгле, оставив позади ни о чем не подозревающее, крепко спящее село.
Рано утром, в половине четвертого, Эржика погнала на речку гусей. Выйдя за ворота, она увидела бегущего рысью в полном вооружении Свозила. Задержавшись в селе по служебным надобностям, он старался теперь догнать товарищей.
При виде Эржики он улыбнулся с некоторым смущением и замедлил шаги. Потом остановился. Сказать ей или нет?
Решил сказать.
— В обед приведем тебе Николу. А может, и принесем.
Опять смущенно улыбнулся, словно не зная, обрадовал ее или огорчил, и сам не понимая, чего себе желать. И снова исчез, поглощенный туманом.
«В обед!» — пронизало ей сознание.
Срок совпадал: она тоже знала, где последние дни ночует Никола, и третьего дня была у него.
Бросив гусей на дороге, кинулась в хату — надевать опанки. «А может, и принесем». Но в то же время в мозгу ее всплыл еще один образ: майданской ворожеи. Жалко парня! Она поспешно обвязала онучи ремешками. Отец и брат еще спали.
Побежала в горы.
Долина была вся залита туманом, как молоком. Хаты потонули в нем; на расстоянии двух шагов ничего не было видно. Она ни о чем не думала, не задавала себе никаких вопросов: ни о времени, ни о том, поспеет ли раньше них. Бежала — и только. По лугам, по тропинкам.
В пять часов остановилась у лесной опушки. Тяжело дыша, отерла рукой пот с лица и глаз. Кажется, опередила!
Опять зашагала по тропинке в гору.
Пошла лесом.
Вдруг где-то в стороне зашуршали камни, словно под ногой человека или зверя; один покатился вниз. Она пробежала несколько шагов вперед. Господи Иисусе! Впереди, в тумане — жандармы. Направо, налево. С винтовками наперевес. Раскинувшись цепью, поднимаются вверх.
Раздумывать нечего, да и некогда. Она побежала вправо, чтобы обойти цепь. Прыгала через скалы, через корни, увязала по икры в грязь на берегах ручьев. Падала, расшибала себе коленки. Все напрасно. Всюду в тумане были они, тихие, словно неживые, спокойно шагающие в гору, вперед.
Царь небесный, что делать? Взять опять влево? Там тоже. Совсем из сил выбилась, а через минуту будет уже поздно. До вершины, верно, уж недалеко. Километра полтора, не больше.
Она тихо прошла в своих опанках тридцать шагов по следам жандармской цепи, еле различая в белой пелене тумана отдельные каски на головах без туловищ. Ступала мягко, как кошка, подкрадывающаяся к добыче. Потом остановилась перевести дух, и впервые после того, как она вышла из дому, заработал ее ум: она им не нужна, они хотят поймать Николу и поостерегутся в такой близости выдавать свое присутствие стрельбой. Она быстро перебежала некоторое расстояние, прячась за деревья и скалы, и очутилась прямо позади цепи. Выбрала просвет побольше между двух жандармов.
Трижды перекрестилась по-православному.
И пулей вперед. Промчалась между жандармами, понеслась, почувствовала у себя за спиной какое-то движение, там посыпались камни, затрещали ветви — и сразу все стихло. Опанки сами понесли ее через валуны, в обход скал, через заросли папоротников, сквозь кустарники, которые сами перед ней расступались. Бог земли был с ней. «Никола! Никола!» — закричало что-то внутри нее; чаща, по первому ее требованию, стала редеть, и открылось озеро блестящего тумана с темным пятном оборога посредине.
— Никола-а-а, беги!
Она сама испугалась раскатистого стона, который взорвал тишину.
Успела увидеть, как от темного пятна оборога отделились две человеческие тени, соскочив с него вниз, как длинная тень побежала и скрылась в сияющей белизне долины, а другая, поменьше и поплотнее, приложилась к винтовке. Но тут, одновременно с выстрелом, что-то вскочило ей на спину, на нее посыпались удары, сбившие ее с ног, что-то навалилось ей на голову, вдавив лоб и нос в щебень. Она слышала выстрелы. Много выстрелов. Впившийся в лицо щебень причинял страшную боль.
Первыми в то утро, уже после того как совсем рассвело, вошли в село четверо мрачных жандармов, из которых двое несли носилки. На носилках лежал посиневший, по, кажется, еще живой человек. Не Никола — жандарм. Колочава, узнавшая о ночной экспедиции на Тиссовую от Герша Вольфа и Кальмана Лейбовича, стояла безмолвно у дверей домов и за заборами огородов, где в это летнее утро среди зеленых побегов пламенем алели цветы фасоли и раскрылись первые щитки подсолнечников, и над ней опять нависла страшная тень того осеннего дня, когда хоронили убитого вахмистра. Зловещая процессия прошла, но никто не двигался с места. Что же произошло? Потому что ведь это было только начало, а хотелось узнать все.
После длинной паузы, полной напряженного ожидания, появилась Эржика под стражей. Колочава вздрогнула. Эржика шла бледная, с расцарапанным об камни и распухшим от жандармских кулаков лицом. Но шагала твердо и глядела прямо в лица окружающим; черные глаза ее выражали полное спокойствие, в них не было ни страдания, ни торжества.
В полдень вернулся весь отряд. Он шел походным строем, по четыре человека в ряд, отделенный от всех заборами по обе стороны улицы, как на плацу, на параде, топча гальку и голыши дороги. Лица у жандармов были хмурые, злые. Среди других и в ногу с ними, чуть ниже склонив головы, шли двое, только мундиром сходные с товарищами, а мыслью блуждавшие в иных местах, далеко. «Прочь! Скорей прочь отсюда! — думал помощник жандарма Власек. — Пускай самое суровое взыскание, лишь бы с этим было покончено! Жив еще раненый? Это уже второй убитый в отряде!» А цифра тридцать, обозначающая количество полученных им тысяч, воскрешала в мозгу его школьное воспоминание о библейской истории и черном изображении Иуды Искариота на горе Елеонской{197}, вызывавшем такую ненависть, что ему прокалывали булавками глаза. А на несколько рядов впереди шагал великан с кудрявой головой, детская душа которого плакала: «За что? Боже мой, за что? Что я сделал ей? Или она до сих пор любит убийцу, разбойника?»
Прошел и отряд.
Выходит, колочавцам смотреть больше нечего! Николу так и не поймали?
Да, смотреть нечего. Тишина и горячий полдень над долиной. Надо будет через час, через два пойти порасспросить в еврейских лавках: там к этому времени все будут знать. Крестьяне, крестьянки в красных платках, ребятишки в отцовских шапках и одних рубашках до пят разошлись по домам.
Но колочавские евреи суетились, как пчелы возле летка. У входа в лавки таинственно перешептывались, разговаривали, кричали, пожимали плечами и разводили руками фигуры с черными, рыжими, светлыми и седыми пейсами, бородатые и безбородые, в кафтанах и в костюмах из магазина готового платья в Хусте. Из всего виденного они делали естественные выводы и, ударяя тылом одной руки по ладони другой, горячились:
— Дурьи головы! Мы им целый месяц долбим: «Посадите Эржику! Отпустите товарищей!» Куда там. Христианин — это осел. Мойше бехейме![50]
Среди них был Абрам Бер. Он не кричал, не кипятился, только перебирал пальцами в бороде да покачивал головой в черной сатиновой ермолке, уныло повторяя:
— Ай-ай-ай!
Жизнь в нем замерла, на ладонях у него выступил пот. Сколько мучений пережил он с утра, узнав, что на этот раз жандармы напали на верный след. До самого полудня длилась жестокая игра совершенно чужих для него людей, в которой ставкой была его жизнь, — игра тем более страшная, что он никаким способом не мог вмешаться в нее и был обречен только ждать. До полудня его терзали мысли о том, что сегодня вечером он навсегда погибнет для Ганеле, для жены, для всего, что составляет смысл его существования; но в то же время не оставляла его и мысль о возможности сегодня же вечером стать счастливым, как ангелы в раю. А получилось совсем неожиданно — что-то серенькое, тусклое. Он не выиграл: жандармы не принесли Николу убитого. И не проиграл, то есть пока остался жив, слава создателю: не привели они и живого Николу. Пока! Но, значит, снова начинается страшная неизвестность.
Ай-ай-ай! Зачем только он спутался с Николой? Впрочем, это вышло как-то само собой; и он не мог отказаться — из боязни рассердить Николу. Ну да, он на этом заработал, это верно. Большие деньги, целое состояние — на размене долларов и на товаре. Но вечно так продолжаться не может. В конце концов кто-нибудь догадается, что старый Изак Фукс, по ночам выезжая из Колочавы с возом теса, останавливается в двадцати километрах от нее возле одинокой хаты, грузит на телегу сложенные там ящики и отвозит их в Мукачево. Либо заметят, что сам Абрам Бер ездит туда эти вещи оценивать. Либо — и это хуже всего — пронюхают что-нибудь эти еврейские сопляки, которые целый день шатаются по селу, сбиваются на каждом дворе в целые стаи, как собаки, бредят сионизмом{198} и ненавидят Абрама Бера за то, что господь бог посылает ему больше, чем им. Либо схватят кого из товарищей Николы, тот что-нибудь скажет, а жандармы докопаются до остального. Либо… да мало ли что может быть? Он охотно бросил бы. Видит бог, бросил бы. Но как это сделать? Может, дать кому десять тысяч и сказать: «Пойди убей Николку»? Ох… ох… ох! Царь небесный, сохрани от этих мыслей!.. Все уж испробовано.
— Больше я с тобой торговли вести не буду, Никола. Это мне неудобно, — заявил Абрам Бер Шугаю на ночном свидании, которое у них было выше села, на косогоре.
— Твое дело, — ответил Никола. — Только ежели в Хуст об этом напишешь, я вам дом сожгу.
Сколько раз Абрам Бер уговаривал его, настаивал: «Уезжай! Беги в Америку!» Он сам помог бы Николе добраться до Натана Абрамовича, в Левочну, в Галиции, тот переправил бы его к Шлойму Вейскопфу в Краков, тот — к Герману Когану в Бреславль, а тот помог бы ему доехать до Америки. Но Никола — сумасшедший. Воображает, будто одолеет весь мир. А может, и не думает этого, а просто спятил. Ай-ай-ай-ай! Какая жизнь сложная! И какая тяжелая! Абрам Бер ездил даже в Тарнополь советоваться с одним вещим раввином и подарил ему целую тысячную кредитку. «Не уехать ли мне из Колочавы, равви?» Раввин долго смотрел на него своими мудрыми глазами. «Бедный — как мертвый. Уедешь, Шугай сожжет твой дом и уничтожит все твое добро. Не оставляй Колочавы! Вечный не допустит твоей гибели». Конечно, слова эти сильно укрепили дух Абрама Бера, но… но… а если вечный все-таки допустит? Ай-ай-ай! Какая жизнь тяжелая!
На ступеньках перед его лавкой кричали, разводили руками, спорили евреи, но Абрам Бер молча стоял среди них, перебирая нервными пальцами пряди бороды, будто струны арфы, и никого не слушая. Николу не привезли убитого. Какой смысл препираться об остальном?
А в нескольких сотнях шагов оттуда бесцельно слонялись по хате, хлеву и огороду Васыль Дербак Дербачок и сын его Адам Хрепта, не зная, о чем говорить, за что приняться, и вялая кровь их текла не быстрей, чем кровь Абрама Бера. Они тоже ждали возвращения отряда, полные внутренней дрожи, и появление на улице жандармов с носилками заставило их сердца сжаться в груди, а их самих наклониться над изгородью и вытянуть шеи, чтобы хоть на сантиметр приблизиться к лицу мертвого или раненого и хоть на долю секунды раньше узнать, того ли несут, кого они ждали; и разочарованье было для них — как удар по лицу. Стали ждать дальше. Вот провели связанную Эржику. Они продолжали ждать. Кровь стучала в висках, время остановилось. Наконец, прошли угрюмые ряды жандармов. И больше ничего, ничего, ничего, и они увидали, как надежда их уплывает вместе с волнами Колочавки, исчезая вдали.
Вот они ходят вдвоем по тропинке среди картофельных гряд, между хатами и Колочавкой, не говоря ни слова, и за их слегка вспотевшими лбами застыл вопрос: «Что будет теперь, после того как такой случай упущен?»
А в это время на вершине Тиссовой, высоко над лесами, сидели на траве Никола с Юраем: опасность позади, кровь их остыла. Над ними сияет безоблачное небо, чистая, необъятная синева, и в ней пылает яркое полуденное солнце. Внизу, в долине, наверно, жара. А здесь веет ветер, налетает порывами, волнует низкую траву, вздувает им рубахи. Юрай нарвал гвоздичника, герани, лютиков и украсил ими свою шляпу. Никола переполнен чудным ощущением безопасности. Винтовки отброшены в сторону, они ненужны, потому что здесь, над вершинами деревьев, сидишь, как на городской башне, откуда все видно как на ладони, а туда никто не взойдет. Тело его охватывает волна ликования. Он впитывает ее всею грудью, всею поверхностью тела. Он — птица, парящая в поднебесье.
Далеко внизу, в долинах, в еле видных отсюда хижинах, живут люди. Они боятся господ, обманывают их, хлопочут, трудятся, и лоб им бороздят морщины, а на ладонях появляются мозоли. Человек, работающий по найму, это цепная собака, которую кормят. В труде нет радости. Может, еще когда строишь себе дом или убираешь богатый урожай… А то — нет никакой. Радость — сидеть на горячем камне над Тереблей, глядеть на синеву и зелень, слушать пенье воды на порогах. Радость — наслаждаться чувством безопасности на вершине Тиссовой: свет без теней внизу, яркое, жаркое солнце над головой да ветер вокруг. Счастье — любить Эржику. Радость — иметь дружину удальцов, таких же загорелых, отчаянных, полных духа товарищества, веселых. Радость — давать, то есть радоваться чужой радости. Радость — не пройти в жизни незамеченным, быть любимым и ненавистным. Радость — видеть в трех шагах от себя Юрая с преданными глазами и букетиком на шляпе. Радость — быть Николой Шугаем.
Куда ни кинешь взгляд, всюду высятся горы — Дервайка, Стримба, Красна, Роза. Всюду блестят серебряным блеском леса. А вон Колочавка в своей зеленой долине, и село, и крестьянские хаты, и огромный небосвод, и яркое, обжигающее солнце. Все это — одно. Как милы ему окрестные горы и леса, где всегда можно безопасно укрыться. Они ни разу его не предали, никогда не дадут погибнуть. Они и их бог. Потому что он, Никола Шугай, — плоть от плоти и кость от кости их. Радость льется в него из земли, навевается ему ветром, согревает его в солнечных лучах.
Юрай, брат Юрай!
Он тихо лежит тут рядом, большой, поджарый щенок, верный и преданный, положив голову на траву и устремив глаза на хозяина: как бы не потревожить!
— Нет, Юрай! Эржика не виновата. Эржика — хорошая жена.
Нет радости, которая не была бы слита с этим именем. Никола улыбается. Он рад, что может сказать это брату именно в такой счастливый день, напомнить ему об их прежнем разговоре. Ему хочется говорить об Эржике, о верной, самоотверженной, любящей, бесценной Эржике, которая рисковала сегодня жизнью, чтобы спасти его. Как было бы хорошо, если б брат тоже полюбил ее!
Но Юрай лежит неподвижно и попрежнему молча глядит широко открытыми щенячьими глазами.
Потом вдруг произносит:
— Пойдем спалим Дербачка!
Нет, Юрай не отдается чувству безопасности. Он думает об утренних событиях, о бегстве из оборога, нервы его еще ощущают свист жандармских пуль над головой. Их обоих предали, чуть не убили. Николу чуть не убили! Только из-за того, что на свете существуют и желают этого какой-то Васыль Дербак Дербачок, какой-то Адам Хрепта, которым Никола всегда делал только добро. И они непременно убьют его, если оставить их в живых.
Адам приходил вчера, приносил урду и мешок кукурузной муки, побрил Николу. Просил денег: свою долю за проданную материю. Теперь понятно, отчего ему вдруг загорелось. Конечно, Никола с Юраем, соблюдая закон первозданного леса, не были настолько беспечны, чтобы залечь при нем в свое убежище или показать дорогу туда: как только начало смеркаться, они простились с ним в двух километрах от оборога и, чтобы сбить с толку, пошли совсем в другом направлении. Но он их перехитрил. Тоже притворился, будто идет в село, а сам, видно, пошел за ними и выследил, где они ночуют. Ночь была светлая, и он мог пуститься напрямик и поспеть обратно в долину, прежде чем пал туман.
«Дербак Дербачок? — подумал Никола. — Что ж, Юрай прав. Но почему он говорит только о Дербачке? И ни слова об Эржике?»
— Дербачок и Адам — предатели. Их нужно убить, — промолвил Юрай.
Никола поглядел на брата. У Юрая букетик на шляпе. Он не сводит глаз с губ Николы.
Никола опять устремил взгляд на расстилающуюся вокруг картину.
Там внизу — Колочава: целая россыпь домишек, которые можно сгрести в кучку, как крошки, и всю поместить на ладони. А что, если сдунуть их с ладони и рассеять по ветру? Ровно ничего бы не случилось; никто даже не узнал бы, что была какая-то там Колочава. А внизу, запрятавшись где-то в ней, маленькие, незаметные, живут Дербак Дербачок со своим побочным сыном и валяются на сеновалах жандармы. Что они могут ему сделать, коли все это огромное, изумительное вокруг — леса и горы, облака и солнце — заодно с ним, и сам он — плоть от плоти их, кость от кости?
Никола глядит с улыбкой на брата.
— Они нам не страшны, Юрай!
— Ты что-нибудь сделал Дербачку и Адаму? — мрачно спрашивает Юрай.
Никола улыбается.
Он сдунет их с ладони. Не потому, что боится. А потому, что никто не смеет безнаказанно предавать Николу.
— Эржика — хорошая жена, Юра.
— Я страшно голоден, Никола.
В самом деле. Парень со вчерашнего дня ничего не ел!
Никола встал. Закинул ружье за плечо. Обвел взглядом весь кругозор на прощанье, вдохнул еще раз воздуху и силы гор.
— Так подымайся. Пойдем на Сухар.
Они пошли к лесу.
Солнце палило, ветер трепал их рубахи.
— Нынче вечером мы пойдем в Колочаву, Юра. Возьмем с собой побольше патронов.
Юрай не вполне понял, зачем. Но — все в порядке. Раз так хочет Никола — значит, в порядке!
Ночью сгорела хата Дербака Дербачка.
В одиннадцать часов вспыхнула, как куча хворосту, — и жаркий огонь без дыма взвился высоко к звездному небу.
Жена Дербачка Марийка проснулась только от яркого света во дворе и потрескиванья огня. С испуганным криком она бросилась к детям. Все повскакали с постелей и кинулись к двери. Но — о, ужас! Дверь оказалась загороженной снаружи. Принялись неистово толкаться в нее всем телом. Дверь не уступала. «Никола!» — промелькнуло в сознании Дербачка и Адама; яркий свет, метанье и рев скотины в хлеву придавали этому имени страшные размеры.
Мать кричала не своим голосом: «Топор! Топор! Топор!» Окна были слишком малы, не вылезешь. Пламя свистело. Наконец, где-то в сенях нашли топор.
Вырвались из хаты в последнюю минуту. Дом и хлев полыхали сплошным костром. Побежали было отвязывать скотину, но дверь в хлев тоже оказалась загорожена стволами молодых берез, вбитыми крест на крест между косяками.
Вдруг землю двора стали рыть пули. Кто-то открыл стрельбу. Откуда-то издали донеслись выстрелы.
Все в испуге понеслись вон со двора. Мать, с маленьким на руках, потащила другого ребенка за собой.
С колокольни медленно поплыли удары набата, наводящие такой ужас на жителей деревянных хижин. На порогах появились женщины в длинных холщовых рубашках, заспанные мужчины, торопливо натягивающие штаны. Несколько жандармов быстро прошли к месту пожара.
Что такое?
Вверху, над селом, кто-то стреляет? По десяти выстрелов подряд. Целыми обоймами. Все глядят в ту сторону.
Где горит?
У Васыля Дербака Дербачка.
Стрелять может только один-единственный человек, больше никто!
Вокруг пылающего строения светло, как днем. На четыреста шагов в длину, на триста в ширину. В этом пространстве — кусок улицы с блестящим щебнем. Резко выступают зеленые гряды огородов и два соседних строения, тени которых в этом полуденном свете кажутся страшно длинными. Яркий день среди ночи, резко очерченные стены человеческих голов, глазеющих на удивительный пожар, как будто ненастоящий, на котором никто не мечется, никто ничего не вытаскивает из огня, никто не вопит, не взывает к богу и святым угодникам, только бездымное пламя в мертвой тишине столбом подымается к звездам. В самую середину пространства, где царит день, сыплются пули из тьмы, роя землю и не позволяя никому войти в царство дня. Протяжные удары церковного колокола усиливают страшное впечатление чего-то фантастического, веющее от всей картины. А над огнем, над областью ночи и дня, нависло внушающее ужас имя знаменитого разбойника Николы Шугая — парит над ними, как хищная птица на неподвижных крыльях.
Дербак Дербачок предал.
Никто не смеет безнаказанно предавать Николу.
К утру от хаты Дербака Дербачка остались только две обугленные балки. Да на месте хлева лежали в пепле два обугленных коровьих трупа с лопнувшими брюхами, распространяя белый пар. Набат давно умолк. Стрельба прекратилась. В рассветном сумраке слышались только деревянные тупые удары колочавской мельничной толчеи.
Евреи смеялись, как безумные, — смехом, полным гнева и беспредельного презрения:
— Тупицы! Идиоты! Свиные головы! Выпустили Эржику!
Спокойное пребывание в белой тюремной камере при хустском окружном суде не затянулось. Она съела кукурузный хлеб, принесенный отцом, вымыла три раза камеру, познакомилась с несколькими женскими судьбами — по рассказам таких же, как она, заключенных, самолюбиво наслаждаясь их доверием, но не платя им той же монетой. Караульный несколько раз водил ее на допрос к следователю — в красивую комнату, где ее ждали чисто выбритый пан в пенсне и барышня, которая печатает на машинке. Эржика сидела на стуле, положив руки на колени поверх фартука, спокойно глядела в глаза пану в пенсне и врала, нисколько не заботясь о том, верят ей или нет. На третьем или четвертом допросе он сказал ей:
— Послушайте, Шугаева! Ваш выкрик «Никола, беги!» слышали человек десять, не меньше, а то, что вы вообще что-то кричали, — еще гораздо больше народу. Между тем вы утверждаете, что вовсе не кричали, а побежали только оттого, что испугались жандармов. Нами установлено, что там, где вы обогнали цепь жандармов, никто не ходит; и в тех местах на большом пространстве нет вовсе никаких пастбищ. А вы утверждаете, что в этот ранний утренний час случайно проходили там, направляясь на пастбище. Родной брат ваш, Юрай, заявляет, что был вынужден охранять вас от вашего мужа, что Никола Шугай, преследуя вас, пробирался даже к вам прямо в дом и однажды ваш брат сам застиг его там. А вы утверждаете, что почти целый год не видели Шугая. Как вы объясните все эти противоречия? Я хочу вам добра, Шугаева. Скажите правду! Этим вы значительно облегчите свою участь.
Но Эржика промолчала. И на дальнейшие бесконечные вопросы следователя твердила попрежнему: «Шла на полонину; не кричала; Николу с прошлого лета не видела. Это все жандармы выдумали; брат на нее злится; пастбище там есть».
— Ну, ваше дело, Шугаева. Запишем так. Но если вы думаете, что эта ложь вам поможет, то сильно ошибаетесь.
Следователь продиктовал показания Эржики барышне, та их отстукала, машинка напечатала, и Эржика поставила под ними три крестика.
Из Хуста ее вызволил колочавский капитан.
Нервы его пришли в полное расстройство. Когда Эржика провалила его экспедицию против Шугая, он был в отчаянии. Когда отряд, посланный за обоими Шугаями в ночную тьму во время пожара, уничтожившего хату Дербачка, вернулся с пустыми руками, он пришел в ярость. (Ах, трусы! Ясное дело, не захотели найти! Им, видно, приятно, что бандиты спокойно выбирают места, откуда стрелять! Теперь и жандармы мало-помалу начнут верить россказням о неуязвимости Шугая!) Но он продолжал упорно держаться своего плана. Эржика. Вот на кого возлагал он все свои надежды! От нее зависели успех и неудача его миссии. Его честь и карьера.
Он поехал к председателю краевого суда.
— Поверьте, господин председатель, она нам в Колочаве просто необходима, и, может быть, ее освобождение уже не помешало бы следствию. Нам известны только двое знающих о местопребывании Шугая: она и Дербак Дербачок. Но Дербак теперь бессилен. Это — страшное село, господин председатель! И страшный край!
Таким образом, Эржика снова стала гонять по утрам гусей на речку, копаться в огороде, доить корову и два раза в неделю ходить на пастбище за молоком, сопровождаемая на каждом километре скрытым в кустах жандармом, наблюдающим, не свернет ли она где в сторону. Она знала по опыту, что нетрудно было бы ускользнуть, но не делала этого, а шла спокойно — переметная сума, двойной мешок с ведрами, через плечо — и, не показывая виду, что знает, думала: «Вот где-то там один спрятался», потом, через четверть часа — опять: «А вон из гущи ветвей другой глядит». Бежать было незачем. О Николе — ни слуху ни духу; Игнат Сопко и Данило Ясинко на все ее вопросы отвечали, что ровно ничего не знают. Видно, он с Юраем где-то далеко, и, может, правду говорят люди, будто видели его на румынской границе: разъезжает верхом вместе с демаркационной комиссией, любуясь парадами чехословацких и румынских жандармов, церемониями чиновников при торжественной передаче населенных пунктов. Дома было невесело. Брат с самого ее возвращения из Хуста с ней не разговаривал, но иногда ночью тихонько отворял дверь к ней в комнату и заглядывал внутрь, а в сенях, на балке под потолком, у него всегда лежала наготове заряженная винтовка.
Ефрейтор Свозил иногда встречал Эржику. Может быть, чаще, чем другие жандармы, потому что ему чаще приходилось ходить мимо хаты Драча. Завидев иной раз Эржику на дворе или в огороде, он решительно проходил своим путем, полон справедливого гнева, ни слова не говоря, нахмурившись и не здороваясь. Но она, склонясь над грядкой или неся ведро воды, не замечала его либо делала вид, будто не замечает. И это было просто нестерпимо.
За что?!
Вот вопрос, навалившийся на него всей своей свинцовой тяжестью и не дававший ему ни минуты покоя.
Все дни его были наполнены сознанием стыда, унижения, позора. Он, храбрый солдат, привыкший всегда драться честно, в открытую, вынужден смотреть, как допрашивают Герша Вольфа и Кальмана Лейбовича с их семейными — о том, кто мог выдать Эржике тайну; глядеть, как капитан в припадке бешенства и антисемитской ярости рычит на них, тыча кулаками в лицо плачущим женщинам. Вынужден притворяться спокойным при виде того, как на жандармском посту бьют тринадцатилетнего мальчика, которого кто-то видел утром того рокового дня входящим в хату Драча. Вынужден выслушивать догадки товарищей насчет измены, пожимая плечами на прямые вопросы. А в ужгородской больнице, говорят, помирает раненый жандарм Бочек, тот, что рассчитывал, вернувшись домой, жениться. Наедине с самим собой ефрейтор Свозил плакал от стыда.
Понятие измены родине было низведено войной до уровня смешного, но в солдатском словаре нет более тяжкого обвинения, чем измена товарищам, измена общим интересам твоей части. От этого слова пахнет могилой и несмываемым позором. Ефрейтор Свозил думал обмануть женщину. Но, в солдатском рвении выполнить свой долг и стремясь сократить для себя и товарищей пребывание в этом проклятом месте, он переоценил свои силы. Помня кое-какие удалые проделки в Сибири, он подошел к Эржике с задней мыслью. Но натуре его был чужд обман. И на деле получилось обратное. Он не умел лгать. А она умела. Она, так вкрадчиво прижимавшаяся головой к его груди, так томно полузакрывавшая глаза, вдруг укусила. Да как больно!
За что? Ефрейтор Свозил вновь и вновь задавал себе этот вопрос во время своих бесконечных служебных хождений по первозданным лесам, повторял его, лежа на траве с устремленным в пустоту взглядом и куря сигарету за сигаретой. Это «за что» вместе с лицом Эржики будило его ото сна на соломе в школе. Неужели после всего, что между ними было, она до сих пор любит бандита? Или это темные подземные силы здешних гор заставили ее бежать на помощь против чужаков к человеку одного с ней бога? Кто ответит на эти вопросы? И он, твердо уверенный, что больше никогда в жизни не скажет с ней ни слова, ловил себя на том, что в уме его слагаются целые речи, полные горечи, с которыми он обратится к ней, как только ее увидит, встают настойчивые вопросы, которые он будет ей задавать, то с ненавистью тиская ее красивую грудь и плечи, то нежно, любовно с ней беседуя. На его вопросы никто не даст ответа. Разве может ответить кошка, которая не умеет говорить, в чьих широко открытых глазах ничего не прочтешь?
Однажды он увидел ее совсем близко. Только руку протянуть! Как раз в тот момент, когда она шла на полонину, и его обязанностью было следить за ней. Он прислонился лбом к стволу дерева, за которым прятался. Из груди его вырвался лишь судорожный вздох:
— Эржика!
Но его мужества хватило только на один раз.
В следующий он вышел из леса и встал у нее на дороге. Она сразу узнала его, но не замедлила шагов, а, глядя на него в упор, пошла навстречу.
— Куда вы идете, пани Шугаева? — спросил он строгим, официальным тоном, стараясь, чтобы голос не выдавал внутренней дрожи.
— На полонину, — ответила она, как ответила бы любому, нисколько не смущенная ни формой вопроса, ни внезапностью появления.
Она хотела обойти его, но он преградил ей путь.
Они встали друг против друга на зеленой лесной тропинке. Огромный жандарм и девятнадцатилетняя женщина с пестрыми бусами на шее, в одежде, которая, не подчеркивая форм, представляла собой все же лишь холщовую рубаху, надетую прямо на голое тело. Он видел всю ее красоту.
— Эржика…
Они смотрели в глаза друг другу.
В ее глазах что-то чуть дрогнуло. Что это было? Воспоминанье? Насмешка? Жалость? Детская душа его плакала. И голос тоже.
— Что ты мне сделала, Эржика!
Он шагнул к ней, протянул обе руки. Она вложила в них свои, без малейшего колебания, будто и не могло быть иначе.
— Что ты мне сделала, моя девочка!
И вдруг сжал ее в своих объятиях, по-мальчишески неистово, так что она совсем в них исчезла.
— Ненаглядная! Самая дорогая на свете!
Потом, весь дрожа — не то от печали, не то от радости, — стал жадно целовать ее куда попало.
— Куплю тебе бусы, шелковый платок, замуж тебя возьму, брошу службу и увезу домой, в Чехию.
Она не сопротивлялась. Как в тот раз, когда он впервые схватил ее в свои могучие лапы.
У них не было времени на разговоры о том, что произошло, и вообще о чем бы то ни было. После целого града поцелуев в губы, руки и колени (ах, как Эржике было смешно и приятно!) он сказал ей:
— Ты задержалась, милая. Ступай скорей дальше. А то сюда придет соседний дозорный — будет спрашивать, не проходила ли ты мимо меня и почему до сих пор не дошла до него.
Она не удивилась. Повязала как следует платок на голове, расправила фартук и пошла.
Он смотрел ей вслед. Ждал, что она обернется. Но она этого не сделала.
«Опять я выдал ей служебную тайну!» — подумал он.
Но все его существо оказало отпор уже подкрадывающейся скорби.
«Она мне дороже товарищей, — подняло оно голос в свою защиту. — Я женюсь на ней».
И, отбросив ложь, которая так долго сжимала ему горло и не давала свободно дышать, смущенный внезапностью принятого решения, счастливый вновь обретенной любовью и слегка испуганный принимаемыми на себя обязанностями, он принялся беспокойно шагать по лесной тропинке, глотая дым сигареты и время от времени останавливаясь с безмолвным, а иногда и громким, уверенным «да!»
С этого момента Никола Шугай стал его личным врагом. И с тех пор у Николы не было более заклятого врага, чем ефрейтор Свозил.
Добыть Николу! Эту задачу, пусть непосильную для всего отряда, разрешит он один! Хотя бы для этого пришлось спуститься в преисподнюю!
Он его добудет. И добудет мертвого!
Жандармский капитан писал донесение окружному начальству. Но дело не клеилось. Он бегал по комнате, сердито пиная ногой попадавшиеся на пути предметы и грызя ногти, потом выпивал рюмку коньяку, садился писать и опять вставал, чтобы на минуту прилечь на походную кровать.
Капитан болен. Он знает, что ему надо лечиться. Чувствует что нервы его здорово развинтились, что у него мутится рассудок. И он не один в таком состоянии: то же заметно и у рядовых, и если им придется гоняться за Шугаем по этим треклятым горам еще полгода, то все они как есть спятят либо сопьются. Либо то и другое сразу. У капитана разбаливается голова от громогласных рапортов вахмистра, он не выносит голоса некоторых жандармов, он выходит из себя по каждому пустяку, он боится, как бы вдруг идиотски не захохотать или не запеть песенку в присутствии подчиненных. И его одолевают приступы антисемитизма. Как он ненавидит этих евреев! Ненавидит их физиономии, такие печально-серьезные, когда никого нет, такие преданно-льстивые — во время беседы с посторонними. Ненавидит их нервную жестикуляцию, их взгляд — то испуганный, то твердый, как камень. Эх, был бы он здесь диктатором! Он бы четвертовал их всех, развешал бы на деревьях. Никто из них не смеет подойти к нему. Встретив Абрама Бера, почтенного патриарха Герша Лейба Вольфа или кого другого из них, достойного быть замеченным, он растопыривает пальцы обеих рук и кричит, как мальчишка:
— Ай-вай! Хосту гезен?[51] Фи!
Евреи мстят ему. Пишут на него анонимные письма в жандармское управление и в земскую управу, шлют о нем статьи в ужгородские газеты, в кошицкие газеты, в пражские, будапештские, венские: что он совершенно не отвечает назначению; что он не сумел сохранить в тайне от Эржики поход против Шугая; что о его приказе следить за тем, куда она ходит, всем известно; что каждый ребенок в Колочаве знает, где находится приставленный к хате Драча караульный; что Эржика дала жандарму Власеку взятку — тридцать тысяч (пусть проверят, не продала ли она в тот самый день, когда скрылся Шугай, скотину и сколько за нее выручила); что он не сумел изобличить ни одного сообщника Шугая, так как восстановил против себя все население и оно относится к жандармам враждебно; что он никуда не показывается, сидит дома и тайно глушит коньяк, который выписывает из Ужгорода… Экая сволочь! Резать их надо. Как Петлюра! Погром им хороший устроить! А то выгнать всех в Палестину. Пускай себе жрут там друг друга!
Но если капитана не сведет с ума их обрезанное племя, так это наверняка сделает окружное жандармское управление. Вот один из его миленьких приказов: дескать, в краю продолжается разбой; почему до сих пор не обнаружены хотя бы сообщники Шугая?.. Ну просто курам на смех! Сообщники… Если бы ему велели арестовать тех, кто не является сообщником Шугая, он, может быть, с некоторой натяжкой сумел бы отыскать двух-трех человек. Сообщники! Что же ему, посадить две трети округа — от малых детей до стоящих одной ногой в могиле старух?
Вот, например, что произошло три дня тому назад.
Ему сообщили, что последнее время Шугай ночует в Нижней Быстре, только неизвестно, у кого именно. Эти чешские сторожа и лесники наговорят с три короба, а толком никогда ничего не разузнают. Так вот не угодно ли самому — за сорок километров, в Нижнюю Быстру! Да с тридцатью рядовыми — почти всю дорогу в лесу, чтоб вас ни одна душа не заметила, и в деревню вступить, после того как стемнеет. А самое главное: не забудьте перед походом отслужить молебен о мало-мальски приличной погоде. Когда они туда пришли, лило как из ведра; промокли до нитки. Нельзя было ничего предпринять. Он разместил жандармов по хатам, а сам с шестерыми остановился у старосты. Хозяин отвел ему с вахмистром свою супружескую кровать, а для остальных навалил на земляной пол вонючей соломы. Славный ночлег в этом смрадном мусоре, с прыгающими по телу блохами! Чуть только утром дождь перестал — сейчас же назад. Встретили лесника-чеха. И будто бы ему лесорубы сказали, что Шугай этой самой ночью у старосты ночевал. «Что такое?» — «Ну да, у старосты». Обратно! К нему! «Каналья, скотина, мерзавец, говори!» Оказывается, вот как дело было. Заснули они, приходит через час к старосте Шугай. «Пусти переночевать!» — «Беги, Николка, скорей отсюда. У меня в хате семь жандармов!» — «Куда ж мне идти в такое ненастье? Я лягу на чердаке». Лег. И, видно, славно выспался… Они внизу, он наверху… Капитан чуть своими руками старосту не задушил. Схватил за горло и давай трясти, только голова взад и вперед болтается. «Почему молчал?» — рычит. А тот его жалобно обеими руками за рукав держит и так ласково говорит, ясным взглядом в глаза ему глядя: «Да как же я мог сказать, господин офицер? У вас — мамаша есть, господин вахмистр — женатый, другие господа жандармы — наверно, тоже. А ведь у него винтовка: он бы вас тут всех перестрелял».
Капитан тут же велел арестовать и увести его. Ужас! Семь против одного. И он перестрелял бы их. Тут кругом сумасшедшие. Поневоле и капитан с ума сойдет. И остальные.
Капитан мечется по комнате, как дикий зверь. Ему хочется хохотать! Неистовствовать!
— Нет! — кричит он уже в истерике, отталкивая стул ногой в сторону, к стене. — Просто рвет от всего этого!
Опрокинув еще две рюмки коньяку, он снова садится за столик — продолжать писанье.
Он старается выражаться по-деловому.
…«стоит только преступнику добежать до леса, который начинается тут же, в нескольких шагах от гумна, — он уже в безопасности, так как в условиях сильно пересеченной и малонаселенной местности систематическое преследование неосуществимо и вверенный мне сводный отряд вынужден рассчитывать главным образом на счастливую случайность. Соучастниками Шугая являются почти поголовно все здешние обыватели, так как они под влиянием упорной, настойчивой и организованной националистической пропаганды со стороны лиц иудейского вероисповедания относятся к чехословацкому правительству враждебно. На основании изложенного полагаю, что осуществить первоначальный замысел, то есть схватить бандита живым и заставить его назвать всех его соучастников, не представляется возможным, а следует пока удовлетвориться устранением Шугая. Я не вижу другого способа, кроме как объявить Шугая вне закона и назначить за его устранение возможно более крупную награду. (Ах, включить в текст своего послания еврейскую формулу: «Отпустите товарищей, посадите Эржику», — капитан все же не решился!)
Что же касается полученного краевым жандармским управлением анонимного письма, в котором помощник жандарма Иржи Власек обвиняется в получении 19/VII прошлого года взятки в размере 30 тысяч крон, за каковую Никола Шугай будто бы был им выпущен из-под ареста, — то данное обвинение расследованием не подтвердилось. Допрошенные Эржика Шугаева, ее отец Иван Драч и брат Юрай Драч факт продажи скота в означенный период отрицают, и на селе о нем никому неизвестно. Членов семьи Петра Шугая допросить не удалось, так как они все скрываются. Я отношу это письмо к числу тех клеветнических антиправительственных измышлений, с помощью которых местное венгрофильски настроенное иудейское население пытается подорвать авторитет республиканских властей. Относительно авторов анонимных писем веду расследование. Помощник жандарма Иржи Власек — образцового поведения, усерден. Ввиду того, что это один из самых способных людей в отряде, к тому же прекрасно знакомый с здешним краем, прошу до окончания расследования его не отзывать».
Капитан встал из-за стола, выпил еще рюмку и опять повалился на походную кровать.
«Ужас! — думал он. — Я приехал сюда порядочным человеком. А теперь пью горькую. Показываю старым евреям на улице язык… Проклятое племя! Перебить их всех, вырезать, истребить, как Ирод!»
Таким образом, к пожеланию, впервые высказанному Абрамом Бером о том, что хорошо бы добыть Шугая мертвым, присоединялось все больше народу. При этом ни Абрам Бер, ни Дербак Дербачок, ни Адам Хрепта, ни ефрейтор Свозил, ни жандармский капитан, наконец, не были из тех, кто откладывает исполнение своих намерений в долгий ящик. От Николовой гибели зависело слишком многое: безопасность и богатство, честь и карьера, любовь и самая жизнь. Если б удалось убедить власти в необходимости назначить за голову Шугая награду, быть может, было бы спасено немало дорогих человеку ценностей.
Со своей стороны, Данило Ясинко с Игнатом Сопко — единственные из колочавских друзей Шугая, остававшиеся по милости Дербака Дербачка до сих пор на свободе, — были полны неуверенности и страха, видя, какие силы подымаются на него. Пока только на него, не на них. Дербак Дербачок, да и Эржика еще заинтересованы в том, чтобы молчать, а Сопко и Ясинко осторожны и не сорят деньгами, так что никто ничего про них не знает; только Абрам Бер напрасно задает им разные каверзные вопросы. Но на что рассчитывает Никола? Сколько раз они говорили ему: «Николка, беги! В Галицию, либо в Румынию, либо в Россию, либо в Америку. Денег у тебя вдоволь, там тебе будет хорошо, и Эржика сможет к тебе приехать». Не тут-то было. Только засмеется или сверкнет глазами: «Избавиться от меня хотите?» Господа бога искушает. Ходит на село к жене, любит в трактирах слушать, что о нем народ толкует, разъезжает верхом с комиссиями, показывает туристам горы. Словно ослеп и не видит, какая сила со всех сторон обложила его; как будто это только его одного касается, а не товарищей, чья жизнь зависит от его безопасности… И от Колочавы — ни на шаг! Известно, почему: Эржику потерять боится. Пропадет Никола. Коли сам себя не доведет до погибели, так погубит его этот бешеный щенок — Юрай.
Что ж, и им погибать вместе с ним? Прежде они себе таких вопросов не задавали: когда только вернулись с войны, когда в крови и нервах у них еще жила смерть в многообразных своих обличиях, когда они не знали, что будет завтра, и было все равно, помереть от голода или от пули. Это время тихо, незаметно ушло; все вдруг стало совсем другим. А Никола у себя в лесах не хочет этого видеть. Что ж, связывать им свою судьбу с его судьбой? Но у них другое положение: для него нет возврата; для них, может быть… может быть, еще есть. Но как с ним порвать? Взять и сказать ему в один прекрасный день: «Ты уж извини, Николка, мы больше не принесем тебе кукурузной муки, не придем тебя брить, не пойдем с тобой завтра грабить почту, это нам больше не с руки»? О, они хорошо знают, что из этого вышло бы: Никола еще никому ничего не прощал, и достаточно одного его слова, чтобы они погибли — вместе с ним или сами по себе. И та дорога, по которой пошел, спасая свою жизнь, Дербак Дербачок, для них тоже закрыта, хотя бы уж потому, что у них на совести гораздо больше злых дел, чем у него. Так неужели для них больше нет отступления? Или они попали в то заколдованное место в первозданном лесу, где напрасно блуждают человек и зверь в поисках выхода?
Они идут вдвоем в горы. Черноволосый мужик средних лет Ясинко и другой — помоложе — Игнат Сопко. На плечах — топоры. Верховинцы никогда не ходят в лес без топора. Иной раз воткнешь его в дерево и придержишься за рукоятку, чтобы легче вскочить на камень; а то понадобится дорогу себе проложить в сучьях бурелома, либо нарубить дров для костра, либо укрытие над головой себе сколотить от дождя и утренней росы. Топор — это оружие, источник существования, все на свете, — и если не сам господь бог дал его людям, то да наградит он того, кто это сделал! Они идут на Заподринскую полонину, где летом пасутся колочавские лошади. В лесу опять начинается работа: лесничество нанимает возчиков, и Данило Ясинко идет на Заподрину за своими конями. Игнат Сопко провожает его.
Полдневное солнце жарит, и они шагают в гору молча. А ведь есть о чем поговорить: дело идет о жизни и смерти. Они долго жили вместе и знают друг о друге всю подноготную. Можно друг другу довериться?
Миновав узкую долину Колочавки, стали подыматься вдоль порогов Заподринского ручья. Лес стоит — не шелохнется в знойной тишине, нарушаемой лишь шумом мелких водопадов. Кажется, вот только остановиться, поглядеть друг другу прямо в лицо и сказать: «Так как же, Данило? Так как же, Игнат?» Но страшно: а вдруг тот не решится ответить? Оба смотрят на положение как будто одинаково и уже не раз давали понять это друг другу озабоченным выражением лица, отрывистым суровым словом, бранью по адресу Юрая, резким движением руки. А если все-таки нет? Вопрос слишком серьезный. Можно и жизнью поплатиться!
Ровными, широкими шагами подымаются они вверх по крутому склону. Оба держат топоры на плече. Молчат, друг на друга не смотрят. Можно довериться?
Подошли к Заподринской полонине. Но выходить из лесу в полдневное пекло не хочется. Они не спешат, время у них есть, за три часа успеют обернуться. Положив в сторону топоры, ложатся ничком на высохшую хвою, под деревья на краю поля. На пастбище — лошади со всего села. Но и они ушли от солнца на лесную опушку, встали там по две, одна задом к голове другой, и обмахивают друг друга хвостами.
Ясинко и Сопко лежат на боку друг против друга. Вот оба сразу поглядели друг другу в глаза. Пристально, вопросительно, как бы говоря: «Начни первый, скажи только слово, я думаю то же, что ты, ты можешь мне довериться…» А вдруг нет?
Жара. Пахнет хвоей.
«А вдруг нет?» — думает осторожный Ясинко, прищурившись. Но, наконец, решается:
— Так как же, Игнат?
— Как же, Данило?
— Плохо, Игнат.
— Плохо, Данило.
И там, возле Заподринской полонины, жарким полднем, ободренные тем, что их голоса звучат в унисон, они раскрылись друг перед другом до конца.
Не только при помощи слов. И, может быть, даже не столько при помощи слов. Потому что говорят здесь одни евреи. Нет, они увидели, что одинаково смотрят на вещи, и поняли, что в это мгновенье заключают союз, союз не на живот, а на смерть, совсем особый, совершенно отличный от прежних.
Да, конечно, они любят Николу, или, лучше сказать, очень любили его, готовы были полжизни за него отдать. Много с ним пережили, притом хорошего больше, чем дурного, и кое-чем обязаны его разбойничьему счастью, которое с ним делили. Данило Ясинко стал теперь богатым хозяином. А как только уйдут жандармы и шум вокруг Шугая поутихнет (эх, поскорей бы!), Игнат Сопко, пока что безземельный, работающий в людях поденщиком, тоже поставит себе хату и женится на Анче Гречиновой. Но Никола упрям и не поддается на уговоры. А с тех пор как возле него появился этот злобный щенок, он стал совсем другим. Страшно подозрительным. Правда, они устроили на свой страх несколько грабежей, и, между прочим, произошла эта ужасная, отвратительная история, при воспоминании о которой у них до сих пор мороз пробегает по коже (как могли они предвидеть, что этот бешеный «американец» вздумает открыть в доме стрельбу из револьвера?); но чтобы ни с того ни с сего убивать евреев, у которых все богатство — черная курица, этого они никогда себе не позволяли. Чего-он к ним привязался с воловской ярмаркой и тремя застреленными мукачевскими евреями? Зачем выслеживает их, потихоньку выпытывает одного о другом, допрашивает, как жандарм? Как перед богом, насчет Волового ни одному из них, ни Дербаку Дербачку, ни Адаму — ничего не известно: видно, тут кто-то прикрылся Николой. Он грозит виновникам смертью, и, право, даже самые близкие друзья Николы не чувствуют себя в безопасности перед винтовкой Юрая. Какая бессмыслица — угрожать товарищам! И хотя Дербак Дербачок был вынужден предать его, какая глупость — доводить его до крайности, какое безумие — отталкивать друзей в тот самый момент, когда в них так нуждаешься! И какое тупоумие — оставаться на месте!.. Никола погибнет.
Игнат Сопко от волнения не мог больше лежать: он сел. А Данило Ясинко повернулся на бок и стал смотреть в землю. Он долго глядел на сухую хвою. Его внимание привлек муравей, волочивший какое-то крылатое насекомое. Потом взгляд его упал на лежащий рядом топор. Какая удивительная штука этот топор! Игнат как будто в первый раз увидел его. Топорище было в тени, но на лезвии играли падающие сквозь ветви деревьев солнечные лучи. Наверно, оно теперь такое же горячее, как они; его тонко, остро отточенный край сверкал и переливался тысячью маленьких солнц.
А что, ежели Никола не погибнет в лесах? Ежели его возьмут живым? Товарищи, которые в хустской тюрьме, ничего не говорят; молчит и Дербак Дербачок; им выгодно молчанье. Но будет ли молчать Никола, честолюбивый Никола, который не может ждать и не ждет снисхождения, но который предпочтет быть повешенным только за свои грехи, — не за чужие? И будет ли молчать Юра? А тогда что?
У них обоих спирает дыхание. Муравей тащит свой груз через сучки, и одно крыло его добычи, прозрачное, напоминает крылышко елового семени. Солнце льет потоки лучей на полонину; лошади стоят, как неживые, только хвосты их двигаются. Узкое, отточенное лезвие топора блещет с каким-то вызовом.
Жандармам не удастся застрелить Николу. Этого не может никто. Он заговорен от пуль. Своей тайны не выдает, никогда не говорит о ней, а ежели кто спросит — увильнет либо засмеется, но шутить насчет нее не позволяет никому. Под градом пуль, что были в него выпущены, птице не пролететь, а он стоит себе, как ни в чем не бывало, и только выбирает, в кого бы самому смертельную пулю послать? Они своими глазами видели. Но огражден ли Никола и от любой другой смерти… ну, хоть… скажем… а лежащий вблизи топор назойливо блестит в глаза своим собственным, присущим ему самому сверканием… скажем, от удара топором?
Тут и Ясинко от волнения тоже сел.
— Как же быть, Игнат?
— Как быть, Данило?
Они уставились друг на друга.
Но слово, которое было у обоих на языке, ни тот, ни другой не произнес.
Колочава вынесла Николе Шугаю смертный приговор.
Остальная Верховина не знала об этом. Она не испытала даже доли того давящего ужаса, что навис, безыменный, седой, длительным гнетом над Колочавой!
Она попрежнему любила Шугая. За его чудесную силу, за его отвагу, за его любовь, за печальные звуки его жалейки. За то, что он поднял на свои плечи такое дело, на которое у них никогда не хватало смелости. За то, что наводил страх на господ, любил униженных, отнимал у богатых и отдавал бедным, мстил за все их беды и обиды.
При имени Шугая возникало представление о сумраке, запахе и звуках, наполнявших в воскресный день церковь, где присутствует тот, кого нужно любить, но нельзя не бояться.
Шугай! Никола Шугай! Забыты змеи — и те, что выползают на благовещенье из земли, и те, что живут в доме за печью и приносят счастье. Забыты их заклинатели, которые с помощью заговора и плевка табачным соком на ранку залечивают любой укус, колдовством на бруске для точки серпов снимают с коровьего вымени любую опухоль, появившуюся после того, как корову подоит на выгоне змея, умеют, накинув на пень куртку, свистом созвать змей со всей окрестности и заставить их проползти сквозь рукава. Нет уже разговоров о волшебницах — добрых и злых, о ведьмах, о чаровницах, накликающих бурю, о бабах-ягах, колдующих на трех коровьих следах, насылающих болезнь на человека и град на коноплю, а вечером оборачивающихся большими жабами. Потому что только и разговоров, что о Николе, который со злыми зол, а с добрыми — добр. И не проходит дня, чтоб о нем не появилась какая-нибудь новость.
В Изках, возле польской границы, живет еврейская девушка Роза Грюнберг. Она пользуется большим уважением среди подруг, так как знакома с Николой Шугаем. В конце войны, когда отца ее убило снарядом, они с матерью переселились из Колочавы в Изки, к дяде, и стали у него работать. Когда она и Никола были еще маленькими, он приходил к ним на двор — играть в «копай колодец» и в жмурки, а она с сестрой ходила летом на Сухар по чернику и малину. Об этом знает вся деревня. И по субботам, в единственный день, когда можно собираться вместе, она, сидя с подругами на лавочке перед дядиным домом, как только зайдет разговор о каком-нибудь новом подвиге Шугая, должна рассказывать о его юности. Какие у него глаза? Красивый он? Видный? Целовал тебя, когда вы в «копай колодец» играли? А отец позволял тебе играть с ним? С Юраем ты тоже знакома? И Роза гордится своей осведомленностью.
Вчера она получила из Америки от замужней сестры (какая счастливая эта Эстерка!) большую посылку с ношеными нарядами. Там оказались туфельки из змеиной кожи, только чуть-чуть стоптанные, и пара шелковых чулок, стиранных самое большее — ну, два раза! Роза влюбилась в туфельки. Но перед кем же в них покрасоваться? Неужели ждать до самого субботнего вечера, когда на пыльной дороге между Изками и Келечином начнут прогуливаться группами десять изских еврейских девушек и отдельно от них — восемь еврейских юношей, обмениваясь улыбками и взглядами в первом, еще несмелом любовном заигрывании и выставляя напоказ все, что у них есть самого нарядного. Нет, Роза была не в силах расстаться с туфельками: погнав пастись в лес корову, она взяла их подмышку. Пока скотина пощипывала траву, Роза то наденет змеиные туфельки на босу ногу, то опять снимет их, то приподымет юбку, то повернется, то сделает несколько танцевальных па. Наконец, она поставила свою драгоценность каблучками вместе, как в обувных магазинах, рисуя в воображении роскошную витрину с ботинками в Мукачеве. Легла перед ними и начала на них любоваться. Глядела-глядела, и стало ее клонить ко сну… «Что это там блестит на солнце в глубине леса? — подумала она в полудреме. — Ведь еще рано для сенокоса? Откуда же косе взяться?» — И совсем было заснула.
Но через мгновение открыла глаза, да так и обмерла! Над ней стоял Никола Шугай… «Корова!» — пронеслось у нее в мозгу. А потом: «Туфельки!» В нескольких шагах от Николы стоял Юрай и с ним еще два парня спиной к ней, очевидно, для того, чтоб не показывать ей лица. У всех на плече винтовки.
— Послушай, — промолвил Никола, видимо тотчас ее узнав. — Ты не видала в деревне жандармов?
— Нет, не видала, — еле выговорила она.
— Это правда, Розочка?
— Зачем я буду врать, Николка?
Он смотрел на нее, и на губах его играла улыбка. Он как будто что-то вспомнил — и улыбка была не очень веселая.
— Ты меня боишься?.. Неужели боишься, Розочка?
— Зачем мне тебя бояться, Николка? — с улыбкой отвечала она, стуча зубами. — Нет, я ни чуточки не боюсь, Николка!
И она попробовала улыбнуться пошире.
— Убей ее! Чего смотреть на еврейку! — проворчал Юрай.
— Разрази вас гром! — рассердился Шугай. — Я сколько раз из одной чашки кашу с ней ел… — Потом опять обратился к Розе: — Что поделываешь?.. На что живете?.. Работа есть?..
— Сам знаешь, Николка: у бедного пара рук — все богатство.
Шугай вынул записную книжку. У него была там какая-то крупная кредитка, потом сотенная и несколько мелких бумажек. Эти бумажки и сотенную он отдал Розе.
— Дал бы тебе еще, Розочка, да нету. А эта вот нужна.
И они пошли. Ружья у них на плече опять заблестели.
Как Розе сохранить до сумерек эту удивительную тайну? Величайшее событие, какое только происходило в Изках за все время их существования! И кругом — ни души, не с кем поделиться! В волнении, с пылающими щеками, она пересчитывала деньги и повторяла каждое сказанное слово, потеряв всякий интерес к змеиным туфелькам и нетерпеливо поглядывая на солнце: когда же, наконец, зайдет оно за вершины деревьев!
Но вот солнце скрылось за лесом, и она, с туфельками подмышкой, скорей побежала домой, погоняя корову хворостиной. Крикнула свою новость первому встречному подростку, которого увидала на перекрестке двух тропинок; тот подбежал и затрусил вместе с ней за коровой. Гордая своей потрясающей новостью, Роза принялась подробно ему рассказывать, а он, открыв рот, глотал каждое ее слово, которое через несколько мгновений взбаламутит всю деревню.
Дома она повторила свой рассказ, расписав великое событие самыми яркими красками, наслаждаясь изумлением дяди и испуганно расширенными глазами матери. А когда выложила все, умолчав лишь о кое-каких пустяках, побежала в ближайшую еврейскую хату и еще раз повторила там все — от слова до слова, — за одним только исключением: насчет денег. Много их в этот счастливый день упало на нее с неба, и много можно на них купить прекрасных вещей, которые она так любит и приобретение которых ни в коем случае нельзя ставить под удар. О деньгах она скажет только мамочке, в постели…
А вечером в Изки пришло известие, объяснившее подлинный смысл Розиного приключения: среди дня возле Подобовцев были ограблены два торуньских купца, возившие в Воловец тес для дороги и возвращавшиеся с деньгами.
Наступил вечер пятницы, начало шабаша; через несколько мгновений на небе взойдут три звезды. Еврейки до блеска все выскребли в хатах, вымыли окна, и в этих окнах, сияющих огнями на темный большак, стали видны покрытые белыми полотенцами субботние вечерние хлебы на столе и множество зажженных свечей в подсвечниках либо просто налепленных на банки из-под рыбных консервов — по одной свече на каждого члена семьи, живого или умершего. Ночью, когда все лягут спать, эти огни сами догорят, ибо нынче день господень, когда работать грех, а гасить свечи — это работа. Мужчины, празднично одетые, ушли к Хаиму Срулевичу молиться и вернутся через час. Но этого достаточно, чтобы все десять еврейских девушек сбежались к Розе и уселись, прижавшись друг к дружке, на лавочке перед освещенным окном, вокруг нее. Ай-ай-ай! Только одному из тысячи, да и то раз в жизни, выпадет такая удача: увидеть его! Ну, до чего хорош! Смуглый, как дерево в лесу, а рот маленький, красный, как черешня, брови тонкие, и черные глаза сияют, словно вот это субботнее окно за спиной! А Юра? Жестокий Юра? Ай, он хоть мальчик, а еще красивей, если только это возможно!
А на другой день, в христианскую субботу, на противоположном конце страны — в Хусте, возле самой венгерской границы — рабочие, возводившие дамбы на Тиссе, при выплате жалования вступили в спор с кассиром и после бурных сцен, напрасных требований вызвать предпринимателя и угроз по адресу служащих бросили работу. Гневной толпой повалили в город, неся на шесте бумагу с надписью крупными буквами:
Слава Николе Шугаю!
Шугай поведет нас!
Ночью накануне этого рокового дня Никола с Юраем шли по большаку, долиной Теребли, в сторону Драгова. Никола хотел навестить Михаля Грымита, потолковать с ним и переночевать у него. Ночь была светлая, и высоко над узкой долиной, над шумом Теребли, текла другая узкая река: река переливающихся звезд. Братья шагали с винтовками на плечах, ни о чем не тревожась, так как Колочава была далеко, а попадется навстречу патруль — будут два против двух.
Услыхав стук колес на дороге, они скрылись в чащу.
— Кто же это? — напряг зрение Никола.
Ого! В самом деле он! Рядом с телегой спокойно шагал Юрай Драч.
У Николы закипела кровь. Не от ненависти к Юраю, нет: при мысли о Эржике! Кровь переполнила его жилы знойной волной.
На телеге, обложенные соломой и привязанные веревками, — две бочки. Юрай Драч едет в Шандрову за ропой, соленой водой. Его два дня не будет дома! Эржика осталась одна с отцом! В его воображении мелькнули ее бедра.
Они подождали, пока телега проедет. Потом вышли на дорогу. Никола торопливо зашагал своими широкими шагами, чуть бегом не пустился — так что Юрай еле поспевал за ним. Когда они подошли к хате Михаля Грымита, Никола заявил:
— Мне не о чем говорить с Михалем. Ночуй у него один. А завтра в полдень жди меня на Бояринской полонине.
Юрай нахмурился.
К утру Никола отмахал все тридцать километров. Пришел в Колочаву в четыре часа, когда было совсем светло. Женщины уже встали, и хозяйка одной из крайних хат удивленно поглядела ему вслед с порога. Он свернул к Колочавке и оттуда, по перелазам между огородами, задами прокрался к избе Драча.
— Эржика!
Он настиг ее на пороге, при входе во двор.
— Эржика! Кровинка моя!
Схватил ее в охапку и втолкнул внутрь хаты.
В сенях кинул в угол винтовку, потом быстро запер на крючок дверь на улицу, дверь во двор.
— Отец где? — спросил, задыхаясь.
— Я одна, Николка.
В ее голосе был смех.
— Рыбка моя!
Он потащил ее, сдавив в объятии, — так медведь тащит в лес свою добычу, — через порог избы, к постели, а она не спускала глаз с его каменного лица, улыбаясь взглядом и ртом. Вдруг кто-то постучал в дверь со двора.
— Эржика! — послышался чей-то голос.
Он ничего не слыхал. Но женщины бывают умней и сообразительней в такие минуты, когда мужчины теряют голову.
— Погоди… погоди… — прошептала она, отталкивая его.
— Молчи! — крикнул он.
Но она изо всей силы уперлась ему в подбородок.
Стук повторился.
— Эржика!
Теперь услыхал и он.
— Кто это? — прохрипел он с ненавистью.
— Жандармы! — промолвила она, бледнея. — Беги!
Обуревавший его хаос чувств прорезала прямая огненная черта. Он бросился в сумрак сеней. Схватил оставленную там винтовку.
Эржика откинула крючок, приоткрыла дверь. В узком светлом пространстве появился вооруженный жандарм. Шугай сжал в руках винтовку. Эржика хотела выскользнуть из хаты, но жандарм уперся в косяк и втолкнул ее обратно.
— Я с дежурства. Соскучился по тебе; решил зайти, повидаться.
Что это? Где-то в глубине существа Николы забушевали буруны. Темные, но в то же время прозрачные. На поверхность взметнулись волны. Омут у порогов Теребли… Разве так говорят жандармы с колочавскими женщинами?
Ефрейтор вошел вслед за растерянно отступающей Эржикой в светелку.
Она спряталась от него за дверью, которую он оставил открытой, забилась там в угол, как преследуемая охотничьей собакой куропатка с перешибленным крылом, и когда он к ней подошел, чтоб обнять, она сжала его руки прямо у него перед глазами, стала ломать их до боли. И Свозил первый раз в жизни увидел, что ее глаза говорят. Нет, кричат, стонут!
— Что с тобой?
Вонзив ногти ему в щеки и прижавшись ртом к самому уху, она прошептала:
— Ради бога, молчи!
— Что с тобой?
И вдруг понял.
— Шугай дома! — громко крикнул он.
— Нет, — прошептала она.
У нее подкосились ноги.
— Он тут… Где он? — загремел Свозил.
В нем проснулся жандарм.
— Нету его! — крикнула она, испытывая желание убить, и быть убитой, и от всего отпереться этим пронзительным криком, и во всем признаться. — Нету!
Ефрейтор окинул быстрым взглядом хату: здесь спрятаться негде. Звякнул металлический затвор его винтовки.
Ефрейтор пробежал через сени, выбежал в дверь, но вернуться уже не имел времени: на углу дома стоял Шугай.
Эржика слышала, как на дворе бахнул выстрел. Если выстрелить между домами, получается всегда громче. Этот звук резко ударил Эржику по нервам. Она слышала, как звякнула винтовка, ударившись о камень. Как упало большое тело… Майданская ворожея!
В окне промелькнуло несколько жандармов. За ними кучка людей. С противоположной стороны улицы кто-то взволнованно крикнул:
— За хлев побежал!
От хлева послышался выстрел.
— В хлеву! В хлеву! — отчаянным голосом завопил какой-то еврей.
На улице гремели выстрелы. В окно, выходящее на огород, Эржика видела, как Николка промелькнул между фасолевыми тычинами, перепрыгнул через перелаз, побежал, скрылся из виду. Ока закрыла глаза и несколько раз судорожно выдохнула воздух из легких. Теперь, когда она это видела, ей захотелось сесть к столу и опустить на него голову.
Снаружи палили из винтовок, и долина отвечала гулким эхом; кто-то отдавал какие-то приказания, и снова стреляли, но все происходящее потеряло свою остроту, притупилось, доходило как будто из другого мира; оно не имело уже никакого отношения к Эржике, ей хотелось опустить голову на стол и заснуть.
Жандармы постелили убитому на койке в школе. Глядя на его простреленную голову, они опять подавляли подступающие к горлу рыдания и предавались гневу… Потом забегали, как бешеные, по словно вымершей деревне, избивая всех встречных, чтоб не ходили зря по улице, врываясь в дома и там тоже колотя всех без разбору.
— Всех перебьем!.. Всю деревню вырежем!
А заходя в еврейские лавки — что-нибудь спросить, снимали винтовку с плеча, орали и вели себя так, словно решили истребить всю семью.
Капитан бегал по казарме, бледный как смерть. Опять убийство! И опять все напрасно: из арестованных ни слова не выжмешь. Как ни лупи — ни слова. Который уж раз! Он сам приказал прекратить эти допросы с пристрастием, с битьем головой об пол и ударами по пяткам в доме Драчей. Просто смотреть невозможно! И этот нестерпимый рев Василины Дербаковой, жены Михаля Михалева… Господи Иисусе!.. А насчет Власека неужели правда? Капитан почувствовал, что силы оставляют его, что он теряет рассудок, что все это неминуемо кончится помешательством. Но его опять охватил гнев: почему они так скверно стреляют? Или эту каналью в самом деле пуля не берет?
Капитан начинает бегать по комнате. Потом орет, чтоб ему позвали вахмистра. Тот приходит. Капитан выкрикивает ему в лицо какие-то бессмысленные вопросы. Распекает. Рука его все время ощупывает у пояса кобуру с револьвером, и в самом деле становится страшно, как бы он вдруг не потерял голову. Вахмистр стоит навытяжку и сперва отвечает, как полагается по уставу:
— Не могу знать, господин капитан. Так точно; никак нет, господин капитан.
Но потом слушает все эти вопли уже равнодушно и только следит за тем, как бы не пожать плечами слишком явно.
— Они должны указать, где он скрывается! Должны! Слышите, вахмистр? Должны! А не станут говорить, убивайте! Всех! Я отвечаю. Вот вам мой приказ. Слышите? Исполнение поручаю вам. И насчет евреев! Это все они. Устройте им погром! Натравите на них население! Бейте их, стреляйте, вешайте!
Вахмистру кажется: у капитана вот-вот выступит пена на губах. Он не знает, отнестись ли ему к этим бешеным выкрикам, как к бессмысленным служебным приказам, которые для спокойствия лучше попросить дать в письменном виде, либо как к бреду полупомешанного.
— Поняли, вахмистр?
— Так точно, господин капитан.
Он выходит из помещения, нахмурившись, но за дверью совершенно спокойно машет рукой. Подать об этом рапорт в краевое жандармское управление? Или завтра все уляжется, и начальник даже не вспомнит про свои распоряжения?
Это был один из тех страшных дней, какие так часто приходилось переживать Колочаве.
На дворе у соседа Драчей — Михаля Михалева Дербака — лежали навзничь связанная по рукам и ногам Эржика и старый Петро Драч с тринадцатилетним сыном Иозефом, арестованные утром, тотчас по возвращении с полонины. А рядом с ними — Михаль Михалев Дербак и жена его Василина, брошенные сюда же неизвестно за что, — видимо, за то, что Никола, убегая, прежде всего перелез через их забор. Все они избиты, с опухшими лицами, с подбитыми глазами, в залитых кровью рубахах. Даже теперь, когда солнце начало склоняться к закату и, умерив жар своих лучей, перестало печь им лица, к ним еще подходили жандармы, усталые от пережитых волнений, но, при взгляде на арестованных, находившие в себе достаточно сил, чтобы пнуть того или иного из них ногой либо приставить ему к груди штык.
— Ну, куда пырнуть тебя, гадина?
И с трудом удерживались, чтобы в самом деле не прикончить.
Только неподвижного тела Эржики они не трогали.
Утром, когда их на этом самом дворе таскали за волосы, били кулаками по лицу, пинали ногами, она, увидев среди своих мучителей Власека, крикнула, мстя в его лице им всем:
— Вот этому я тридцать тысяч дала!
Он двинул ей в зубы и, чтобы смыть перед товарищами нанесенное ему оскорбление и в то же время во что бы то ни стало заставить ее замолчать, стал бить по щекам. Но она, между ударами, выплевывала ему прямо в лицо:
— Получил… тридцать тысяч… Выпустил Николу… ровно год назад!..
Он стал колотить еще ожесточенней. Она упала. Он, даже не стоя над ней на коленях, а прямо лежа на ней, схватил ее дрожащими руками за горло.
— Врешь! Врешь!
Но стоило ему только чуть ослабить пальцы, как она, обратив к нему окровавленное лицо и безумно расширенные глаза, опять хрипела:
— Получил… от меня… тридцать… тысяч… выпустил Николу… развязал его…
И эти выкрики сопровождались новыми ударами.
Остальные жандармы в изумлении отступили. Оставили их один на один. Ее, яростно наступающую, и его, отчаянно обороняющегося. Жандармам казалось, что перед ними бешеная кошка, царапающаяся, кусающаяся, цепляющаяся за жизнь.
Власек? Вот оно что? Это Власек виноват в гибели стольких человеческих жизней?
К нему подошел старый жандарм. Приподнял его за ворот, схватил за грудки́ и, держа на вытянутой руке прямо перед собой, вперил в него огненный взгляд. Он увидел, как горящие глаза Власека вдруг погасли и бешенство сменилось в них отчаянием.
— Оставь ее! — прошипел старый жандарм и оттолкнул Власека прочь, к забору.
Кто спокойно выдержит впечатления такого дня?
Когда стемнело, хата Драчей вспыхнула, как костер.
Жандармы бегали по вымершему селу, готовые размозжить голову каждому, кто высунется из хаты. Но всюду было пусто, мертво. Никто не решался зажечь огонь в доме, а еврейские лавки стояли закрытые еще с полудня.
На месте хаты Драчей в пустых безмолвных сумерках был воздвигнут огромный столб сухого, бездымного пламени в честь погибшего товарища. А набат провожал убитого похоронным звоном.
В тот же вечер Никола очутился на водоразделе двух рек — Теребли и Рики, над лужайкой с серным источником, где два с лишним года тому назад так удивил ребят, игравших в Николу Шугая.
— Шуга-а-ай! Дайте нам веточку! — кричали они ему вслед, приложив руку к губам.
Это воспоминание невольно промелькнуло у него в мозгу.
Он спустился по косогору в долину Рики. Он бежал, сам не зная от кого. Но сегодня первый раз в его жизни было то, что можно назвать бегством. Он не знал, куда идет, — только смутно, глухо сознавал, откуда. Лишь бы дальше, дальше, — и чтоб никаких людей, даже Юры!
Внизу мелькнул огонек, другой, третий. Вучково? Нет, туда не надо. Он свернул с тропинки, ведущей в деревню, и углубился в лес.
Увидал, что находится на небольшой просеке, на косогоре, над вучковским охотничьим домиком. Внизу шумела Рика. А за ней, на том берегу, в каких-нибудь трехстах шагах по прямой, виднелся домик с высокой крышей и двумя светящимися красноватым светом окнами.
Никола остановился. Над долиной плыл в тучах месяц, и деревья вокруг отбрасывали резкие синие тени. Долина тоже казалась удивительно синей и лежала, как покойник. Только красные, налитые кровью глаза домика тупо уставились в вечернюю тьму, говоря о наличии чего-то мутного, скверного за ними, внутри домика, о каком-то недуге, который там царит.
— О-го-го! — вдруг взревел Никола.
Он сам не знал, как это у него получилось, и был удивлен своим собственным голосом. — О-го-го! — И лес понес этот вопль во все стороны огромными волнами. — Вот он я — Никола Шугай!
Никола Шугай! Ему показалось, что это имя, его имя, вздымается над вершинами деревьев, заполняет всю долину — до самых облаков.
— Слышите? Я — Никола Шугай!
Но никто не ответил.
В охотничьем домике и в деревне была великая тишина. Тишина хороша в лесу: там она говорит об отсутствии опасности. Но возле людей она страшна.
З-з-з! Ба-а-ах! — вскрикнул лес от ружейного выстрела.
Пуля пробила крышу домика, темный мозг мерзкого здания.
З-з-з! З-з-з! З-з-з!
— О-го-го!.. — ревело в долине и в лесу. — Шугай!.. Никола Шугай!.. Невредимый… Которого пуля не берет!
Он посылал пулю за пулей в домик, прямо в его жалкую, тупую башку. Оба глаза погасли. Погасли и огоньки в деревне. Никола выпускал обойму за обоймой, гремели выстрелы, вся окрестность стонала в ответ… Никола знал, что, если он перестанет, наступит опять тишина, страшная, невыносимая.
Внизу люди впотьмах вскакивали с постелей и ощупью пробирались в самые отдаленные углы хат или хлевов. Матери волочили плачущих ребят, зажимая им рот рукой.
Над Вучковом бушевала буря. Могучий Шугай гневался.
И страшен был в гневе своем.
ДРУЗЬЯ
— Тсс! — произносили евреи, пожимая правым плечом по поводу сообщения из Хуста, что в ближайшие дни все заподозренные в соучастии с Шугаем и действительные его соучастники будут выпущены.
Это полное презрения «тсс!» означало: «Наконец, дождались через год! Подумать, сколько народу зря погибло, сколько имущества пропало даром!»
После гибели Свозила Эржика, наконец, попала-таки в тюрьму. Видно, новый начальник все-таки толковый…
Впрочем, вопрос о Шугае утратил в глазах еврейской молодежи прежнюю занимательность и отступил на второй план. Внимание ее было теперь сосредоточено на старом споре между двумя семьями: Вольфов и Беров, вылившемся в открытую войну за новую табачную лавочку, и на клеветах, интригах, ненавистях, с этим вопросом связанных. Да и это начинало уже надоедать: животрепещущее значение приобретал вопрос о замещении вакансии кантора{199} в хустской синагоге, вызвавший ожесточенную борьбу между хасидами, правоверными{200} и сионистами.
Однако молодых евреев очень сильно взволновало появившееся через несколько дней на углу Вольфовой и углу Лейбовичевой корчмы следующее объявление на чешском, русинском и венгерском языке:
Назначается награда
В хустском, воловском и смежных горных округах продолжительное время свирепствует грабитель и убийца Никола Шугай со своей шайкой. У этих бандитов, в особенности у главаря их Шугая, на совести несколько исключительно дерзких и жестоких убийств с целью ограбления. До сих пор, участникам шайки, имеющей приверженцев среди населения, удавалось избегать заслуженной кары.
Предлагаю всем, располагающим какими-либо сведениями об участниках этой банды, сообщить их, в интересах мирного населения, ближайшему жандармскому посту или органу власти.
Лицу, оказавшему существенное содействие в деле поимки главаря банды Шугая или хотя бы наведшему на его след, гражданским управлением Подкарпатской Руси в Ужгороде будет выдано вознаграждение в размере 3000 (трех тысяч) крон.
За вознаграждением обращаться к ближайшему органу власти.
Начальник гражданского управления государственный советник Блага.А рядом — другое объявление, маленькое, незаметное: еврейские религиозные общины хустского и воловского округов назначали за поимку Шугая награду в размере тридцати тысяч крон.
— Ну, наконец-то!
А теперь — пораскиньте мозгами, евреи! Вы же знаете: руки ничего не могут сделать; все делает голова. Наступил решительный момент.
Но местный нотар устроил евреям неприятность: велел вывесить оба объявления утром в субботу. И старикам пришлось важно расхаживать вокруг них, не читая самим, а только слушая, что говорят другие, менее набожные, и при том — не задавая вопросов. Нелегко весь день держать свой мозг в полной отрешенности от повседневных забот, устремив все помыслы к вечному, сохранять на лицах спокойствие, не хмуря бровей, ходить медленно, чинно, как на прогулке. Тела их то и дело порывались куда-то, на лица просилось озабоченное, напряженное выражение, души все время стремились думать не о господе и небесной царевне Саббат{201}, а о мирских делах, о Шугае. Но при наличии доброй воли и некоторого опыта по части общения с господом богом можно было найти компромисс и думать о том и другом: дело избранного народа божьего непременно победит, и, хотя бы через столетия, бог обязательно поможет; но, господи, как долго, на человеческий взгляд, приходится ждать, пока ты вспомнишь, что нас мучают враги, среди которых Шугай — не на последнем месте! Что нам с ним делать! Как быть? Не упрутся ли Вольфы? И где общинам верующих взять такую сумму? Ай-ай! Неужели это они серьезно? Собираются в самом деле выплатить?
И вот в субботний вечер, только на небе взошли три звезды, призывающие царевну Саббат вернуться к звездному трону вечного, старые евреи собрались в комнатке патриарха Герша Лейба Вольфа, за опущенными оконными занавесками. Руки ничего не делают, все делает голова, а рука понадобится — тоже найдется. Присутствующие тотчас разбились на группы, поднялись дискуссии, все стали кричать, настаивая каждый на своем предложении — самом благоразумном и единственном, обеспечивающем успех. Спор Вольфов с Берами не был забыт, но его отложили до завтра. Надо вызвать шугаевых друзей! Пусть капитан обещает им места лесников и обходчиков! Пусть обещает хоть луну с неба! Разделите их, пробудите в них зависть друг к другу, разожгите между ними соперничество; тридцать тысяч — большие деньги, страшно большие. Стрелять в Шугая никто не решится: они на самом деле верят, что пуля отскочит обратно и ударит в стрелявшего. Но разве у них нет топоров? А в лесах мало дубин растет? А старая Дербакова не умеет приготовлять разные снадобья?
Все ясно. Абсолютно ясно.
Ясно? Ну нет, вовсе не ясно.
Это обнаружилось сразу же, как только все уселись на кушетке, на стульях, на кровати, на подоконниках и Берка Вольф (ну конечно, пан Бернард Вольф не может без затей!) выдвинул, в форме совершенно невинного вопроса, проблему о том, как надо понимать то место объявления, где сказано: «Лицу, оказавшему содействие в деле поимки Шугая, будет выдано вознаграждение в размере 3000 крон». Что значит — поимка? Задержание, но не убийство? Кроме того, требуется содействовать задержанию, но не задерживать самому? А убивать Шугая запрещено? Или это только так сказано — для красоты слога, а понимать нужно иначе? Спор между Вольфами и Берами снова вспыхнул и достиг высшей точки, когда на обсуждение был поставлен также чрезвычайно сложный вопрос о допустимом и недопустимом с религиозной точки зрения, предоставлявший столько возможностей доказать свое знанье священного писания и сразить противника логикой, диалектикой, цитатами из крупнейших раввинских авторитетов, упоминанием о колочавской табачной лавочке и должности хустского кантора. Спорящие вскакивали с места, выкрикивали ядовитые замечания, разражались саркастическим смехом, друг над другом иронизировали и, раскрасневшись, ожесточенно жестикулируя, завязывали друг с другом словесные поединки.
— Вы будете учить меня талмуду, это вы-то, господин Иосиф Вольф? Который по субботам торгует водкой с заднего крыльца?
— Чего вы лезете со своим талмудом, приблудный польский еврей? Мы здесь хасиды. А у вас любая девушка ради хустского офицера креститься готова. Лучше заткнитесь!
В конце концов страсти так разгорелись и поднялся такой крик, что в битву вынуждена была вмешаться всем своим авторитетом белая борода восьмидесятилетнего Герша Лейба Вольфа.
Хасидский мудрец, до тех пор не пошевеливший бровью и не проронивший ни слова, спокойно поднялся с засаленной кушетки. Тотчас воцарилась тишина. Все знали: сейчас совершится что-то необычайное. Он слегка развел в стороны руки, как кантор перед торой, и, возведя глаза к небу, медленно, торжественно, пророчески произнес:
— Вы уже держите Шугая? Кто он — вошь или блоха?
Изрек и опять медленно сел.
Собрание почтительно молчало.
Какая мудрость! Старец прав, как всегда… Да, ничто так не содействует пониманию проблемы, как уподобление. Страсти утихли, мозги прояснились, мысль получила новое — единственно правильное — направление. Вошь во время шабаша убивать не разрешается: она ведь до завтра не убежит. А блоху — можно: блоха до воскресенья ждать не станет. В самом деле, Шугай еще не пойман и понадобится много усилий, чтобы его обезвредить. Нет, Никола — не вошь, которую бери, когда угодно. С Шугаем невозможно соблюдать букву писания. Но разве есть день священней субботы? И разве в любой другой день может быть запрещено то, что разрешено в субботу? Мудрость сказала свое слово; спор был окончен.
Абрам Бер участия в дискуссии не принимал. Но страшно, волновался.
На другой день, в воскресенье, после полудня новый капитан созвал в корчме Лейбовича собрание граждан. Сводный жандармский отряд уже неделю имел нового командира. Так как никто его не знал — от встречи с еврейской депутацией он вежливо уклонился, сославшись на чрезвычайную занятость, — и было неизвестно, чего от него можно ждать, всех мучило любопытство.
Под яворами возле Лейбовичевой корчмы собралось около трехсот человек: беседовали группами, сидели на ступеньках, у стены, стояли, прислонившись к забору. Войти в горницу, уставленную треногими столами, решились лишь немногие, самые важные. Остальные ждали, когда жандармский начальник придет и станет объяснять, чего ему от них нужно; тогда они начнут один за другим протискиваться в дверь корчмы и толкать вперед других. Лейбовичева лавочка была битком набита нетерпеливо ожидающими евреями. Среди собравшихся расхаживали четверо жандармов, но без винтовок и касок, совсем запросто, улыбаясь, заводя с мужиками разговоры о ценах на скот, об оплате перевозок, словно отродясь были в самых приятельских отношениях с соседями. Что делается!
В толпе ожидающих находились почти все обнаруженные и необнаруженные сообщники Шугая, выпущенные из предварительного заключения или осужденные условно: Васыль Кривляк, произведший вместе с Шугаем роковое похищенье бочки овечьего творогу из колыбы на Довгих Грунях; Юра и Никола Штайеры; Митер Дербак — Васыля Васылева, опознанный по разорванной штанине и поясу с нашитыми на нем солдатскими пуговицами, как участник ограбления почты на Греговище, Иозеф Грымит, Олекса Буркало, Митер Вагерич. Только Эржику и старого Драча оставили в Хусте. Но были здесь и Васыль Дербак Дербачок и побочный сын его Адам Хрепта. Был также немного взволнованный Игнат Сопко. Не хватало одного Данила Ясинко.
Он правильно сделал, что не пришел. Был опасный разговор. Увидев прислонившегося к забору Игната Сопко, Дербак Дербачок подошел к нему. Стал колотить себя в грудь кулаком.
— Довольно я молчал о приятелях Николы! Видит бог, довольно…
Игнат Сопко постарался взглянуть ему твердо в глаза.
— Зачем ты это мне говоришь? — огрызнулся он.
Но Дербак Дербачок как будто не слышал.
— А что сделали для меня мои приятели, когда я погорел? Да и до того?
Удары кулаком в грудь привлекли внимание окружающих: вокруг Игната и Дербака стал собираться народ.
— Довольно! Николу убью я. Найду его я. Я больше его не боюсь. А не найду, так ты мне его найдешь, Игнат!
— Почему ж это я?
Но Дербак Дербачок, полный гнева, досады и к тому ж еще жажды получить тридцать тысяч, как бы пронзая собеседника указательным пальцем, воскликнул:
— Ты! Никто другой как ты, Игнат!
Быстро, какими-то веселыми шагами подошел жандармский командир. Совсем молодой. Толпа стала перед ним расступаться, снимая шапки. Он с улыбкой отдавал честь, ласково глядя всем в лицо. Что только делается!
Перед дверью в корчму обернулся.
— Ну, входите, входите, соседи!
И сделал жест рукой, как будто погоняя гусей.
Потом стал продвигать людей от двери глубже в помещение, следя, чтоб был порядок, отпуская шутки, смеясь. Наконец, легко, как юноша, вскочил на лавку и обратился к набившемуся в корчму народу с такой речью:
— К сожалению, приходится признать, что отношения между гражданами местной общины, с одной стороны, и жандармерией, с другой, до сих пор не были дружескими. Причина — взаимное непонимание. Жандармерия не учитывала чувств населения и трудностей, связанных с возникновением новых, совершенно отличных от прежнего условий. А граждане не понимали тяжести и опасности тех задач, которые встали здесь перед жандармерией, не понимали ее огорчения, больше того — гнева при виде гибели стольких прекрасных товарищей от руки подлого убийцы и при мысли, — слава богу, ошибочной, — что преступник, быть может, пользуется поддержкой населения. С этим взаимонепониманием надо покончить. Власти сделают все от них зависящее; они отдали целый ряд новых приказов жандармерии… дали строгий пример, наказав помощника жандарма Власека, на которого поступили жалобы от населения… («Что врешь-то? — подумали мужики. — Будто мы не знаем, о чем кричала Эржика на пожаре». «Зря он это сказал!» — отметили про себя старые евреи. «Хазеркопф!»[52] — заговорила вполголоса еврейская молодежь, расположившаяся на прилавках, на ящиках и глядящая через открытые двери, поверх голов толпы в помещение корчмы, на оратора…) Жители Колочавы тоже должны забыть прошлое и взглянуть на нас, настоящих своих друзей, другими глазами. Давно пора нам установить взаимопонимание. Война, этот страшный бич человечества, кончилась, и нанесенные ею раны понемногу залечиваются. Напряженность военного времени всюду уступила место нормальным отношениям, и с ними вернулись уважение к законам, порядок, дух сотрудничества, благосостояние. И только в этом пункте земного шара, в виде какого-то пережитка, продолжается война; здесь идет самый жестокий из всех боев: бой с преступлением.
Речь была довольно длинная. Веселое настроение, вызванное мягким произношением говорящего и языком его, который не был ни колочавским наречием, ни украинским, ни русским, ни чешским языком, но все это вместе взятое, — понемногу исчезало: слушатели привыкли и стали скучать. И пока оратор перечислял социальные бедствия, вызванные Шугаем, крестьяне думали: «Ну-ну, валяй, валяй, коли тебе нравится… Та-та-та-та-та-та… Можно часок посидеть, выкурить трубочку…»
Но вдруг они встрепенулись.
— Никто из вас не может считать себя в полной безопасности от этого злодея («Это как сказать!» — возразили мысленно и колочавцы и пришлые) — ни бедный, ни богатый, ни еврей, ни христианин. Вы знаете, сколько он здесь народу перебил, знаете, что он сжег хату родного отца, чтобы правосудие не могло наложить руку на спрятанную там добычу, знаете, что он сжег дом гражданина Дербака из мести, что он устроил пожар во владении своего тестя Драча, не поделив с ним награбленное.
«Ишь чего прет, молокосос, будь он неладен! — заметили про себя мужики. — Голову задурять нам вздумал. Больно ловок… Да не на таковских напал, приятель!»
Но никто не пошевелился, все сидели серьезные, почтительно глядя на оратора. Старые евреи покачивали головой, а молодежь на прилавках, решив, что оратор окончательно обанкротился, махнула рукой:
— Э-э-э!
— Нужны совместные усилия: только при этом условии злодея удастся обезвредить. Одним жандармам поймать его не удастся, это теперь ясно («Ай-ай-ай; так не надо было говорить!» — в один голос беззвучно воскликнули все старые евреи). Мундир виден издалека, а отдельный жандарм, переодетый в штатское, может рассчитывать лишь на случайность, не слишком вероятную. Но население с преступником сталкивается. Сталкивается поневоле. Оно встречается с ним на полонинах и в лесу, где он с помощью насилия вымогает у вас нужные ему сведения («Опять врешь! Ничего не вымогает. Сам дает».), заходит к вам в хижины в ненастную пору переночевать. Не буду говорить о назначенном вознаграждении («Ага!»), не хочу говорить о нем («Ага!»). Я обращаюсь к вашему гражданскому чувству: обезвредьте Микулаша Шугая! Когда он к вам придет, пошлите кого-нибудь из ваших ребят за нами. И будьте всегда вооружены, друзья! Властям хорошо известно, что после войны у населения осталось много оружия, — почти в каждом доме имеется винтовка либо револьвер. Достаньте же их, граждане! («Ну да, чтоб ты потом отобрал!» — подумали граждане.) Закон предоставляет широчайшие возможности. В данном случае мы не будем говорить ни об убийстве, ни о нанесении ран или хотя бы о превышении необходимой самообороны, поскольку каждая встреча с Шугаем представляет, как мы, к сожалению, знаем на основании огромного количества случаев, крайнюю опасность для жизни и непосредственную угрозу существованию. Если вы в любой момент тем или иным способом его обезвредите, это будет лишь необходимой и законом дозволенной самообороной. Где б вы его ни встретили, застрелите его, друзья!
Тут слушатели чуть не покатились со смеху: «Ах ты, дурья башка!.. Он воображает, будто Николу можно застрелить!»
— Мы выпустили соучастников Шугая, убедившись, что вина их не так велика, как сперва казалось, что они действовали не столько из преступных побуждений, сколько под влиянием послевоенного психоза. Но мы ждем, что они оценят нашу снисходительность и загладят свою вину, оказав нам помощь в деле поимки убийцы. Вы читали, что нами назначена награда. Мы гарантируем безопасность. Но не только: мы обещаем, что каждый, активно участвовавший в обезвреживании бандита, получит возможность поступить на государственную службу. При наличии некоторых знаний гражданин, содействовавший поимке Шугая, может стать чиновником. Но, как я уже сказал, я не хочу говорить о наградах, которые для вас, как и для меня, имеют второстепенное значение. У нас у всех другие мотивы.
Тут капитан повысил голос:
— Гражданский долг, чувство законности и порядка!
Оратор закончил свою речь страстным, хотя, быть может, несколько растянутым призывом, который, однако, пробудил в слушателях твердую надежду на то, что собрание, слава богу, скоро кончится.
Уже к вечеру колочавские жители стали расходиться по домам.
— Хазеркопф! — сказали евреи. Это единственное жаргонное слово, которого им было достаточно, чтобы выразить свое мнение, значит: «свиная голова».
А пока капитан отдыхал у себя в комнатке, улыбаясь, чрезвычайно довольный своей дипломатической речью, мужики, сняв дома праздничные белые суконные куртки, толковали со своими любопытными женами:
— Врал, как сивый мерин!
— Да что говорил-то?
— Покорно просил нас, чтоб мы ему Николку поймали. Сам, мол, не могу…
Потом вспоминали:
— Дескать: а кто поймает, чиновником будет… Такой дурень!
— Ну, а насчет тридцати трех тысяч?
— Об них, мол, говорить не стану… Тут какое-то жульство!
«Игнат Сопко? — сидя на собрании, думал Абрам Бер, уже осведомленный о столкновении между Дербаком Дербачком и Игнатом. — Этот незаметный парень? До чего же мы слепы, воображая, будто видим каждого насквозь!»
Он стал рыться в памяти, стараясь обнаружить хоть какой-нибудь признак, на который в свое время не обратил внимания. Но так ничего и не обнаружил.
После собрания сам он вслед за Сопко не пошел. Было еще светло, поэтому он послал еврейского мальчика.
— Увидишь, куда войдет Игнат, приходи ко мне в лавку: получишь конфету.
Через минуту мальчик доложил:
— Сопко пошел к Даниле Ясинко.
Ага, Ясинко, старый хвастун и буян! Это другое дело. Прошлую зиму вернул сразу весь долг… Абрам Бер давно уже его подозревал.
Абрам Бер опять страшно взволнован. На щеках между глаз и бородой — красные пятна, сердце колотится, мысль лихорадочно работает, сопоставляя действительное с возможным. Бесспорно одно: если Николу не удастся убить теперь же, в ближайшие дни, этого вообще не удастся сделать. Новый жандармский начальник — дурак, не умеет использовать предоставленные ему возможности, проморгал все свое богатство. Абраму Беру придется самому этим делом заняться… Ясинко!.. Ясинко!.. Да, Ясинко — подходящий человек. Тут нужны как раз такие руки…
На дворе дождь? Тем лучше. По крайней мере Сопко никуда не денется. Переждав два часа, чтобы друзья могли наговориться, и помолившись об успехе предприятия, Абрам Бер взял зонтик и пошел.
Друзья сидели у Ясинко одни. Уже смеркалось, и от дождя в горнице было темно.
Не может ли Ясинко привезти ему воза четыре дров?
Почему нет? Завтра? Ладно.
Абрам Бер сел в углу на лавку.
— Дождь.
— Да, дождь.
С первых же слов все волнение улеглось. Сердце стало биться ровно, нервы успокоились. Абрам Бер подождал. Весь настороже. Ему ходить, а ставка крупная.
— Ну, как вам понравился новый командир?
Ответа не было.
— Ммм, — проворчал, наконец, Игнат Сопко.
И снова молчанье. Обороняются. Испытанным колочавским оружием… Обороняются — значит, чувствуют опасность. Но откуда? От него? Какое недоразумение! Он пришел вовсе не для того, чтобы делать им неприятности, а подбодрить их, подогнать. Пришел только довести до конца дело, так неудачно начатое капитаном. Только помочь им, чтобы в них скорей созрело то, что уже давно зреет.
— Никола — дурной человек, но теперь, когда ему скоро конец, его все-таки жалко, — произнес Абрам Бер медленно и раздельно.
Как бы он хотел в это напряженное мгновенье услыхать их голос, поглядеть им в лицо. Но они молчат, а лица их — просто расплывчатые красные пятна. Ему становится страшно. Он чувствует, видит воочию, как страх ходит по избе.
— Николу поймают, — говорит он.
Они ни о чем не спрашивают, не хотят. Но их праздничные белые рубахи — единственное, что ясно видно в сумерках, — неподвижны. Будто просто белье, развешанное в безветрие на заборе. Даже рукав не шелохнется.
— Живым возьмут… Это для него хуже всего.
Он чувствует, что они ловят каждое слово. Почти видит это.
— После собрания мы были у капитана… Говорили с ним…
Он встал, подошел к окну, наклонился над горшками базилика к самым стеклам, словно его страшно интересует дождь. Но даже и вблизи не мог рассмотреть их лиц.
— Дождь.
И так как это слово прозвучало одиноко, не вызвав ответа, повторил еще раз, возвращаясь снова на лавку, в угол:
— Дождь.
Потом опять заговорил. Медленно, осторожно, словно разматывал спутанную пряжу. В его словах не было обычной лжи; они представляли собой лишь исправление психологических ошибок, наделанных капитаном, лишь опыт, демонстрирующий, как с тем же самым материалом выступил бы он, Абрам Бер, если б это поручили ему. Но этот воображаемый опыт стал в глазах Абрама Бера самой подлинной реальностью.
— Капитан говорил не совсем то, что думал. Это неправда, будто он считает, что жандармы сами не в силах поймать Шугая. И чтобы кто ни увидит Шугая, сейчас же застрелил бы его — это он тоже не всерьез. Это всегда успеется. Сейчас он хочет захватить Николу живьем. Чтоб тот заговорил. Чтоб рассказал все, что знает. И он захватит его живьем. Он договорился с двумя выпущенными из тюрьмы товарищами Николы. Не знаю только, с кем. План с ними разработал. Говорит, на днях поймают. Этот капитан побашковитей прежнего. У него есть список всех, у кого Никола ночует; с ними он тоже договорился. Ежели тем двум не удастся, зимою мужики ему Николу, веревками связанного, с гор приведут. Если только эти тридцать три тысячи не заграбастает прежде Дербак Дербачок. Я слышал, он на собрании грозил до Николы добраться. Для него это вопрос жизни и смерти: либо Николка, либо он… Нет, Николе теперь не вывернуться… Кончено… Нипочем…
Две белые рубахи на заборе — неподвижны.
— Большие деньги. Ай-ай-ай! Целое состояние. Теперь ведь не то, что во время войны, когда за корову тысячи платили. За такие деньги брат брата, сын отца продаст.
Протянув левую руку вперед, в полутьму, Абрам Бер прижал к мизинцу большой палец правой.
— Первое: тридцать тысяч от еврейской общины. На бочку. Сейчас же. Без задержки. Уже приготовлены: у капитана в кассе лежат.
Он прижал большой палец к безымянному.
— Второе: три тысячи — от государства.
Большой палец передвинулся к среднему.
— Потом — тридцать тысяч контрибуции, наложенной на Колочаву. Ежели Николу поймают, ее снимут, и село, понятное дело, наградит того, кто помог поймать.
Наконец, Абрам Бер дошел до указательного.
— Теперь насчет службы, о которой говорил капитан, — вот как: хочешь лесником стать — становись лесником, обходчиком — будь обходчиком; хочешь всю жизнь ничего не делать, только господам пиво да колбасу носить, получай место рассыльного в какой-нибудь канцелярии в Ужгороде. И ко всему — еще пенсия… У-уй, сколько денег!
Абрам Бер посидел еще немного. Поглядел в окошко на дождь, сказал что-то о дровах и подводах. Потом ушел.
В горнице было тихо. И душно после теплого дождя.
Одна из праздничных белых рубах шевельнулась и сделала попытку встать. Но не встала.
— Николу поймают, Данило.
И лишь после долгого молчания глухой, упавший голос произнес в ответ:
— Поймают, Игнат!
Никола застрелил Дербака Дербачка!
Эту весть принесла на село девочка в красном платке, прибежавшая что есть духу с гор. Она кричала ее всем встречным, пока не оказалась перед хатой Дербачковой сестры.
— Где? Где? — спрашивал каждый, останавливаясь.
— На Черенинской полонине.
Жена и сестра Дербачка завопили. Из соседних хат выбежал народ.
Адам Хрепта с мачехой и теткой кинулись на Черенину. Ребятишки Васыля Дербака Дербачка и какие-то соседские подростки побежали за ними: как же упустить такое событие! Мать убитого, колдунья, смотрела с порога вслед уходящим, сжимая в тонких губах короткую трубочку. Женщины плакали, но глаза у них были холодные, злые.
Известие было даже слишком правдоподобное. В августе в Колочаве как раз сенокос, и Дербак Дербачок ушел утром на Черенинский луг косить участок, который арендовал у лесничества.
Бегущих подгоняла слабая надежда на то, что в раненом, может быть, еще теплится искра жизни.
На лугу уже собрались пастухи. Они стояли на выкошенном пространстве, не топча высокой травы, полукругом возле мертвого тела, с серьезными лицами, уважительные к причитанию женщин. Дербак Дербачок был мертв; может быть, уже несколько часов. Он лежал навзничь, на ряду скошенной травы, устремив остекленевшие глаза к небу. Рядом валялась его коса и торчал воткнутый в землю рог с бруском. У него была ранена рука и прострелен живот. Рубаха у локтя вся пропиталась кровью.
Тут же появились жандармы во главе с капитаном и стали ругать собравшихся за то, что они уничтожили все следы. «Какие же еще нужны следы? — с досадой подумали пастухи, расступаясь. — Неужели и так не видно, что он мертв? И разве неизвестно, кто его застрелил? Чего же еще?..»
Узнав о том, какие раны у Дербачка, Колочава поняла, что девчонка зря кричала насчет Николы, хоть капитан и поверил ей: нет, Васыля Дербака Дербачка убил не Шугай. Он никогда не стреляет по одному и тому же человеку дважды. Это сделал Юрай.
Игнат Сопко, бледный, прибежал к Ясинкам. Вызвал Данила на двор.
— Ты после собрания видел Николу? — выдохнул он ему сразу, как тот к нему вышел.
— Нет.
— Плохо, Данило!
И потащил Ясинко огородами к реке.
— Откуда же Никола узнал, что Дербачок грозится?
В глазах Игната был страх.
— Не знаю, Игнат. Я пойду к нему послезавтра: муку и сыр понесу. А ты его не видал?
— Видал. Утром встретил его с Юраем, когда на луг «У ручья» сено ворошить ходил. Они меня, видно, ждали. Но — странное дело — ни о чем не спрашивали…
— А о том, что Васыль грозился, ты ему ничего не говорил?
— Нет… Дело скверное.
В испуганном сознании Сопко всплыл вчерашний подозрительный взгляд Шугая, его мимолетный вопрос: что делает Дербак Дербачок? Верно, мол, после второго предупреждения — пожара хаты — больше не путается с жандармами?.. Всплыли и злые улыбки Юрая.
— Отчего не сказал? — спросил Ясинко.
— Побоялся. Ведь Васыль заставлял меня отыскать ему Николу.
Они стояли на каменистом берегу Колочавки. Глядели на текучую поверхность и на скалу над ней. Со скалы сбегал, крутясь, узенький белый водопад, похожий на сученую нитку.
— Плохо дело, Данило. Видно, у Николы есть связь с кем-нибудь из старых товарищей.
— Да, не иначе.
— Данило! Ведь Юрай нас всех перестреляет.
— Ну да, всех как есть перебьет.
— Убьем его, Данило!
Страшное слово, которого в знойном лесу возле Заподринской полонины ни один из них не решился вымолвить, наконец, было произнесено.
— Убьем, Игнат!
У обоих бешено колотилось сердце. Перед глазами Данила Ясинко мелькнуло острие топора, которое тогда на Заподрине… серебристое, искрящееся.
— Когда, Данило?
— В понедельник. Послезавтра.
В это время Адам Хрепта уже в третий раз заглянул к Сопко. Ему был нужен Игнат. Он в исступлении искал его по всему селу. Бегал по огородам, по хатам, вне себя от злобы и горя.
Ему все время мучительно ясно представлялся мертвый отец с остекленевшими глазами, лежащий на ряде скошенной травы, и душу его терзала жажда мести. Он уничтожит убийцу! Пускай на защиту злодея встанут все силы ада, пускай он напоен всеми колдовскими снадобьями, какие только существуют на свете, Адам уничтожит его! И тут должен помочь Игнат. А начнет упираться, Адам закричит на весь мир, кто убил возле Буштины семью «американцев», кто устраивал все эти грабежи весной, когда Никола больной лежал в постели. Он и себя не пощадит, все расскажет — только попросит у капитана отсрочки, чтоб отомстить. Он должен уничтожить убийцу! И уничтожит его! Бог свидетель — уничтожит!
Адам искал Игната Сопко. Ярость его росла с каждой минутой; он уже не расспрашивал людей, а рычал на них. Но они не обижались, понимая его состояние. Наконец, возле церкви кто-то сказал ему, что видел, как Игнат шел с Ясинко к реке. Адам кинулся туда.
Он нашел их там. Двинулся прямо к Сопко. Полный угроз и проклятий. Крикнул:
— Отец тебя перед смертью просил?
— Просил, — спокойно ответил Сопко.
— Чтобы ты отыскал ему Николу?
— Ну да.
— Теперь отыщи его мне.
— Да, да.
— Что — «да, да»?! — заорал Адам, сжимая кулаки.
— Я отыщу тебе Николу.
Игнат тоже вперил в Адама сверкающий взгляд.
— Ты… мне… отыщешь Николу?
— Ну да, отыщу.
— Когда?
— В понедельник. Послезавтра.
На другой день, в воскресенье, из Волового приехали в трех колясках господа: окружной начальник, окружной судья с помощником и секретарем, окружной врач, рассыльный и еще какие-то господа из Праги, прибывшие в эти края в качестве туристов и пожелавшие познакомиться с разбойничьим селом.
На покрытую травой лужайку в саду за Лейбовичевой корчмой поставили стол и положили на него обнаженный труп. Господа, стоя группами, беседовали. Вдоль забора, покрытого свисающими на длинных стеблях желтыми розами рудбекии (бог ведает, кто и из каких господских садов занес в Колочаву это живучее растение!), с внешней и внутренней стороны были расставлены жандармы. Потому что Колочаве совать сюда свой нос нечего!
Окружной врач надел белый халат, достал из сумки скальпели, пинцеты, зонд, маленькую пилу, разложил все это рядом с собой на доске, опустил таблетку сулемы в таз, приготовил полотенца, намазал себе руки вазелином.
«Которого ж я вскрываю в этом проклятом селе?» — подумал он и почувствовал легкое угрызение совести.
Он вспомнил темную горницу с земляным полом и средневековым ткацким станком. Вспомнил свои поездки в распутицу, горящие лихорадочным огнем глаза Шугая и его великолепную грудную клетку. Зворец — так, кажется, называлась деревня? Зачем он не послал туда жандармов? Из романтических, рыцарских побуждений? Ах, какие там рыцарские побуждения, когда ему перед этим угрожали! Просто из трусости! Жалкой, дрянной, подлой трусости! Дал себя загипнотизировать именем «Никола Шугай» — совершенно так же, как все здешние глупцы. Рыцарем оказался Шугай, который до сих пор никому не сообщил о визитах доктора, а тем, кто о них знает, велел молчать. Но — тут врача снова охватило то неприятное ощущение, которое уже столько раз вызывало появление морщин у него на лбу — как бы этот рыцарь Шугай не вздумал доказывать свою непричастность к отвратительным весенним убийствам, в которых он неповинен, ссылкой на алиби, подкрепленное показаниями доктора. Нет, уж если доктору суждено еще когда-нибудь встретиться с Шугаем, так пусть это будет не в Хусте, а здесь, на вскрытии шугаева трупа.
Он стал осматривать рану. Ввел в нее зонд.
— Эти разбойники всегда прекрасно сложены! — заметил помощник судьи.
— Да, — ответил врач и подумал: «Великан Свозил, бедняга, был сложен еще лучше».
— Вы знаете, доктор, что по-румынски «гуцул» значит разбойник?
— Здесь не говорят: гуцулы. Здесь говорят: бойки{202}.
— Гуцулы или не гуцулы, а разбойники. Да и «бойки» происходит, наверно, от слова «бой». А скажите, сколько здесь Дербаков?
— Точно не скажу, но, наверное, один из пяти жителей Дербак.
Врач продолжал свое занятие. Вскрыл скальпелем брюшную полость.
— Славная окрошка в брюхе, — сказал он. — Кровь пополам с калом.
Он осмотрел рану с внутренней стороны. Обнаружил в ней конопляные волокна дербачковой рубахи: значит, убийца стрелял издали.
— Попадание в тощие кишки. Перфорация кишечника. Внутреннее кровоизлияние в брюшную полость.
Жандармский капитан тоже следил за вскрытием. В Галиции и в Сибири он видел сотни застреленных, но на это профессиональное копание во внутренностях мертвеца смотреть было неприятно, — может, еще потому, что зелень сада, желтые цветы и обнаженное мертвое тело приводили ему на память жуткие впечатления, которые он испытал еще ребенком возле часовни в лесу. Кроме того, это дело слишком близко касалось его: он чувствовал себя виноватым в смерти Дербачка.
«Ничего у тебя не получится. Спятишь — только и всего», — сказал его предшественник, передавая ему командование сводным отрядом.
На самом деле, прослужив год в этом селе, говоривший явно нуждался в санатории для нервнобольных.
— Пуля — в теле? — осведомился судья.
— Нет, нет, — ответил доктор, раздвигая руками кишки. — Она вышла на спине — примерно возле первого поясничного позвонка. Видимо, это пехотная винтовка австрийского образца, как в случае Свозила и Бочека… Конечно, поражена и aorta descendens[53]. Поэтому столько крови. Ну, хоть смерть была скорая.
«Еще бы! — подумал капитан. — Шугай целился не куда-нибудь, а именно в тощие кишки и, главное, старался попасть в aorta descendens!.. Эх, к чему все это потрошенье? — Он почувствовал к доктору такую же неприязнь, какую накануне почувствовали к нему самому пастухи на Черенине. — Дело ясное: все эти ученые премудрости, вместе взятые, называются — смерть. И остальное все ясно: конечно, кто-нибудь из товарищей Шугая рассказал ему об угрозах Дербачка, которые тот произносил на собрании неделю тому назад. А кто именно, этого в брюхе у Дербачка не написано. Там и пули-то не найдешь!»
Капитана охватила мучительная тревога. Может, это безумие — сажать в тюрьму Эржику, единственную приманку для Шугая, и требовать (да еще так настойчиво!) освобожденья всей этой своры мерзавцев, которые шатаются теперь по селу, бездельничают в корчмах, разводят философию, ходят к Шугаю, замышляя с ним, конечно, новые злодейства, и вовсе не собираются выдавать его. А во всем виноваты евреи! Предшественник-то был прав. Эти колочавские евреи — страшный народ! Фамильярничают, бегают за тобой по пятам, ни на минуту не оставляют тебя одного, гудят у тебя над ухом, не дают покою. То вдруг выдумают какую-то мистическую чушь, будто люди погибают не из-за того, что в них есть хорошего, а из-за того, что в них — дурного. И так долго жужжат об этом, что в конце концов сам начинаешь верить. Да страшны и колочавские бойки! Пугай, мучай их, цацкайся с ними, как с малыми ребятами, проявляй ангельское терпение, — с места не сопрешь! Хоть режь на куски, а есть, мол, у Николы волшебная веточка, и старуха Дербакова умеет колдовать… Ну и наколдовала сыну!
Врач окончил вскрытие. Вымыл руки в жестяном тазу.
— Давайте составлять протокол, господин Ширек! — обратился он к секретарю суда.
В это мгновенье над забором, над желтыми розами рудбекии появилась чья-то бледная физиономия. Поднялся чей-то кулак.
Господа в саду оторопели. Их охватила невольная дрожь. Это была доля секунды, подобная той, какая бывает в жизни монархов, когда в пяти шагах от их коляски в воздухе промелькнет кулак, а из него — бомба!
Но из руки, поднятой над рудбекиями, бомбы не вылетело.
Взмахнув кулаком, незнакомец крикнул:
— Нынче режете тятьку, а через три дня будете резать Шугая!
Окружной начальник очнулся.
— Кто это? — растерянно воскликнул он.
Жандармы стащили незнакомца с забора.
— Сын убитого, — ответил капитан и махнул жандармам рукой, чтоб они отпустили Адама.
«Проклятое село! — подумал окружной начальник. — Как я испугался!»
На следующее утро, в понедельник, Игнат Сопко и Адам Хрепта пошли убивать Николу Шугая.
Адам явился за Игнатом очень рано. Сопко, немного бледный, вышел в сени — взять топор; в полутьме он три раза перекрестил лезвие. Потом поднял глаза к небу и три раза перекрестился сам. Отступать некуда. Господи, помоги!
Они вышли на улицу. Утро было пасмурное.
Два человека с топорами на плече не привлекут ничьего внимания: в лес иначе не ходят, а им как раз надо было в Сухарский лес, на полонину «У ручья», поработать: отец Сопко там участок под сенокос снимал. Это — в полутора часах ходьбы от села, на горном склоне над Колочавкой, пробивающей себе дорогу в лесистом ущелье, и недалеко от того места, где днем должна была произойти встреча Шугая с Ясинко. Получалось очень удачно: Игнат уже несколько дней работал на этом лугу, и не было ничего подозрительного в том, что ему пришел помочь товарищ. А Ясинко придет в полдень.
Обороги были уже сложены, и оба молодых крестьянина принялись огораживать их плетнем, чтобы, когда скотина будет пастись здесь осенью, — не растаскивала бы сена.
Тесали колья, вбивали их в землю вокруг оборогов и оплетали принесенными из лесу ветвями. День был пасмурный. Еще когда они шли сюда, небо было покрыто тучами и шел мелкий дождик, вернее какая-то мокреть, от которой куртки набухли и стали тяжелыми, а скошенная трава покрылась пеленой блестящей росы.
Адаму Хрепте трудно было работать молча, не давая нервам дрожать от страха в ожидании того, что им предстоит перенести. Он поминутно клал топор, подходил к Игнату и только для того, чтоб услышать человеческий голос, задавал ему вопросы, на которые либо сам прекрасно мог ответить, либо заведомо не могли ответить ни он, ни Игнат. Но Игнат был осторожней.
— Говорить — говори, но не подходи ко мне, — останавливал он Адама. — И не бросай работы. Может, он на нас откуда-нибудь из лесу смотрит.
Он был прав.
В лесу, шагах в четырехстах от них, сидели Шугаи. Николка глядел на товарища, — бывшего товарища, у которого Юрай третьего дня застрелил отца. Предателя, конечно. Но Никола знал, как сын с отцом любили друг друга.
Юрай держал на коленях винтовку.
Отчего Никола не позволяет немножко поближе к ним подобраться и застрелить обоих, раз выпал такой счастливый случай, что они вместе? Ни от того, ни от другого не жди добра. Так чего ж их щадить? Адам — враг, он вместе с отцом доносил жандармам и никогда не простит убийства отца. Игнат — тоже предатель. Еще во время последней встречи он покрывал Дербака Дербачка, ни словом не обмолвился об его угрозах. Почему же не обезвредить и того и другого? Будь Юра сейчас один, он не раздумывал бы ни минуты.
— Чего им здесь нужно? — задал он себе вопрос уже не в первый раз за сегодняшнее утро.
Никола посмотрел на него искоса.
— Оставь винтовку. Ты же видишь: они обороги огораживают. Сам ведь знаешь, что Игнат ходит сюда почти целую неделю.
— А Адам?
— Видишь: помогает ему.
— Берегись, Никола! Они хотят тебя убить.
— Э-э! — махнул рукой Никола.
Внизу Адам Хрепта с Игнатом Сопко продолжали оплетать торчащие колья еловыми ветвями, не подозревая, что Юрина винтовка и его палец на спуске — так близко от них.
Через час, уже около одиннадцати, в тумане, покрывавшем луг, появился Данило Ясинко. Он шел, опираясь на топор, как на палку; на плече у него была переметная сума — половина на спине, половина на груди: очевидно, с припасами для Шугая. Никола направил на него бинокль. Ясинко подошел к оборогу, поговорил минутку с Адамом и Игнатом; они тоже взяли топоры — и все трое зашагали к лесу.
Никола встал, чтоб идти к ним навстречу.
Юра вскочил.
— Не ходи, Николка!
— Отстань, Юра!
— Никола, не ходи!
Это прозвучало, как рыдание.
— Глупости, Юра! Ведь у нас винтовки.
И пошел.
Юра за ним.
Они спустились по лесной опушке к лугу и, выйдя на него, остановились в пятидесяти шагах от тех троих.
У Адама Хрепты страшно заколотилось сердце.
Они сошлись. Никола подал Ясинко и Сопко руку. На Адама не обратил внимания. В голове у Адама промелькнула вчерашняя сцена в саду Лейбовичевой корчмы: на столе — голый отец со вскрытым животом, рядом — господа, а на заборе — он, грозящий кулаками и стаскиваемый жандармами. Никола о чем-то говорит с Ясинко. Юра остановился поодаль, держит винтовку на боевом взводе, не спускает глаз с их топоров, следит за каждым движением.
— Что нового на селе?
Ясинко стал рассказывать о вчерашнем приезде господ, высмеивать нового жандармского капитана.
— Тебе не надо тут быть, Никола! — сказал Юра. Нет, почти крикнул.
Никола окинул взглядом луг и часть леса у себя за спиной.
— Правда, спрячемся от дождя.
Они пошли глубже в лес. Впереди Никола, за ним Ясинко, потом Сопко, последним Адам, а в четырех шагах позади него, с винтовкой на изготовке, Юра.
Ясинко, обернувшись, быстро обозрел всю картину и, при виде мрачного лица Юры, засмеялся:
— Что это ты, Юра, за нами, как жандарм с ружьем шагаешь?
Никола тоже обернулся, остановился. Весело поглядел на брата. Потом пробежал глазами по лицам товарищей. Кивнул на Адама.
— А ему здесь чего надо?
Адам почувствовал, что бледнеет.
Юра крепче сжал винтовку в руках и вперил в брата вопросительный взгляд.
— Помогал мне обороги огораживать, ну и пошел с нами, — ответил Игнат.
Веселые глаза Николы, его улыбка и чуть заметное покачивание головы ответили Юре: «Без глупостей, Юра!»
Странная процессия, похожая на группу пленных под охраной, молча двинулась дальше. Повернула к покрытому орешником косогору.
Остановилась на лужке посреди него. Дождик моросил, не переставая. Но был уже полдень и стало немного светлее.
Тут они сели полукругом. Никола на правом конце, рядом Игнат, потом Ясинко, Адам и слева, опять на несколько шагов поодаль, Юра. Братья оказались прямо друг против друга. Земля была здесь вся покрыта шуршащей ореховой листвой и усеяна мелким хворостом, так что если б кто захотел подойти незаметно, его приближение сейчас же выдал бы шум шагов. Никола был спокоен.
Но не Юра. У того было предчувствие беды. Почти уверенность. Как в тот раз, весной, когда бог лесов вывел его прямиком на Зворец, к больному брату. Он явственно чуял нависшую опасность. Она была здесь, рядом, касалась каждой точки его тела. А так как Никола не ощущал ее присутствия в каждом глотке воздуха, которым дышал, не замечал ее запаха вокруг, не догадывался о ней по тоскливому ощущению под ложечкой, Юра чувствовал, что вся ответственность падает на него одного. Его глаза и нервы были начеку. Только выдержать! Не устать! Отдых — после того как уйдут. Завтра. Может быть, всю жизнь. Только не сегодня!
Ясинко с Игнатом стали опять рассказывать о собрании, о новом жандармском капитане, о толках крестьян насчет его бессмысленных предложений, о том, что говорят выпущенные из тюрьмы. Обо всем, только не о Дербаке Дербачке. Но Никола как нарочно вдруг перебил их, обратившись к Адаму:
— Жалко отца-то, Адам?
Тот испугался.
— Понятно, жалко.
Никола пристально посмотрел на него.
— Ничего не поделаешь, — промолвил он.
И, помолчав, прибавил:
— Ты женишься, говорят?
— Женюсь.
— Приходи, дам на свадьбу.
«Ни черта уж ты мне на свадьбу не дашь!» — подумал Адам.
Тут Игнат принес в горшочке воды и стал брить Николу. Настороженность Юры напряглась до предела. Он видел только, как белая мыльная пена на щеке у брата постепенно исчезает от движений Игнатовой руки. Винтовка на коленях Юры стала как живая; он остро ощущал пальцами холодное прикосновение спускового крючка.
«Может… сейчас? — спрашивал себя Игнат, скользя бритвой по горлу Николы. — Уговор был другой, но подвернется ли нынче еще такой случай?» Но, взглянув искоса на Юру, увидев его рысьи глаза и будто случайно направленное в эту сторону дуло винтовки, не подавая вида, продолжал бритье. Намыленная физиономия Николы несколько раз ласково улыбнулась Юре.
«Господи, только зря убегают дорогие минуты, — думал Адам. — Игнат струсил… Неужто мы за весь день так ничего и не сделаем?»
Нервы Юры не выдержали такого продолжительного напряжения.
— Никола, Николка, уйдем отсюда!
Это было нетерпеливое рыданье упрямого ребенка. Глаза его впились в глаза брата.
Но Ясинко развязал переметную суму, свой двойной мешок, и достал оттуда харчи: брынзу, лук, еврейский пшеничный хлеб, бутылку спирта. Подбор не случайный: ежели запивать мягкий белый хлеб спиртом, быстро опьянеешь.
Вынули ножи, стали закусывать, прикладываясь к бутылке. Вокруг еды расположились немножко иначе: Ясинко с Адамом подсели ближе к Юре, Игнат Сопко оказался сейчас же позади Николы. Уперев конец топорища в покатый склон, он сидел на обухе.
И тут-то свершилось.
Когда Никола наклонился, чтобы взять бутылку со спиртом, стоявшую у его ног, Игнат Сопко, не спеша, поднялся, взял в руки топор и, медленно потягиваясь, поднял его кверху:
— Эх, что-то нынче поясницу ломит!
Но тут топор со свистом опустился вниз, впившись острием в голову, прямо в подставленные затылок и темя.
Юра выстрелил. Вскочил на ноги.
Адам схватил его сзади за плечи. А Ясинко спереди рубанул по голове. Но так как Юра рванулся и отклонился назад, чтоб освободиться из рук Адама, удар пришелся не на темя: лезвие, только оцарапав лоб, со всего размаху погрузилось в живот. Показались внутренности.
Юра выстрелил еще раз. Потом вырвался и с распоротым животом побежал. Ясинко поднял его винтовку и с шести шагов пустил ему пулю в спину. Юра упал. Несколько мгновений он дергался, царапая камни и кусая землю.
Кинулись к Николе, чтобы добить, если подаст признаки жизни. Но, повернув его навзничь, увидели, что у него уже мутнеют глаза.
«Конец… Дело сделано!» — пронеслось у них в мозгу.
В воздухе стоял горький запах прелого орехового листа. Было страшно тихо. Моросил дождь. В висках у Адама неистово стучала кровь.
Чтоб ни с кем не встречаться и не разговаривать, они до вечера оставались в лесу. Бродили без цели по тропинкам, отдыхая после отвратительной работы, осмотрели возле какого-то ручья свою одежду и обмыли топоры, потом долго сидели под старым буком, — сперва молча, потом начали советоваться, какое дать этому делу объяснение и о какой части шугаевых денег заявить.
Днем, когда прояснилось и воздух приобрел желтоватый оттенок, они вернулись на полонину «У ручья» и с удовольствием принялись доделывать плетни вокруг оборогов; все-таки это занятие успокаивало нервы, хоть и не позволяло совсем забыть об убитых, лежавших на лужайке, в траве и листьях густого орешника, под мелким моросящим дождем.
На полонине оставались до темноты. Потом, перейдя по бревну Колочавку, пошли дорогой вдоль берега — домой, как можно медленней, чтобы прийти попозже, когда в Колочаве все лягут спать.
Послали Адама в Колочаву-Горб — чтобы спрятал у сводной сестры двадцать тысяч; а шесть тысяч шестьсот решили отдать жандармам. Потому что, покончив дело в орешнике, они обыскали убитых. У Николы оказались золотые часы и в бумажнике на груди двадцать шесть тысяч шестьсот крон. Да у Юры нашли две золотые цепочки; на одной из них был перочинный ножик.
Игнат Сопко и Данило Ясинко пошли в корчму Лейбовича. Адам тоже должен был прийти туда.
Они сели за треногий стол под привернутой керосиновой лампой. В корчме никого не было, никто не слыхал, как они вошли, и у них не возникло желания сердиться на то, что им плохо прислуживают: наоборот, они были рады подольше побыть одним и сосредоточиться.
Дверь в комнату хозяина была открыта настежь. Там горела настольная лампа-молния. Вокруг стола, покрытого вышитой скатертью, собралась шумная, веселая компания жандармов и сборщиков налога; тут же находились Кальман Лейбович и его семнадцатилетняя дочь. Сборщики подучили какого-то новичка попотчевать Лейбовича вином из своего стакана. Наивный юноша принялся угощать, Лейбович отказывался, дочь улыбалась; юноша настаивал, потом обиделся; присутствующие, зная, что еврей ни за что не станет пить вина, от которого отхлебнул христианин, так как последний мог произнести над этим вином какие-нибудь ритуальные заклинания, громко смеялись. В ярком свете лампы плавали облака табачного дыма. Ясинко с Игнатом сидели в темном углу, глядя оттуда в соседнюю комнату, будто из зрительного зала на освещенную сцену.
Наконец, в корчму заглянул Лейбович. Но ему пришлось заслонить глаза рукой, чтобы увидеть сидящих.
Они потребовали бутылку пива. Когда он поставил ее на стол, Ясинко промолвил:
— Нам надо кое-что сказать вам, Лейбович!
— Ну, в чем дело? — нетерпеливо спросил он, так как боялся оставлять дочь одну в пьяной компании.
— Присядьте.
— Времени нет.
— Важное дело.
Это было сказано так решительно, что Лейбович посмотрел в лицо ему, потом Сопко, подошел к двери в комнатку и крикнул:
— Файгеле! Ступай на кухню. Мама зовет.
Сам закрыв за ней дверь, он подсел к Ясинко и Сопко под привернутою лампой.
— Ну, что такое?
Ясинко минуту помолчал, глядя ему в глаза.
— Что бы вы сказали, Лейбович, если б узнали, что Шугаев нет на свете?
— Как? — прошептал Лейбович, не решаясь сразу даже понять, о чем идет речь.
— Их нет на свете, — сказал Ясинко. — Мы убили их.
— Что? — Лейбович прижал все пять пальцев ко лбу. Но нетерпение превозмогло растерянность. — Когда? Где? Обоих? — зашептал он, схватив обеими руками Ясинко за руку ниже локтя.
Ему наскоро объяснили, что произошло.
— Ступайте, Лейбович, скажите вахмистру!
Лейбович побежал. На пороге комнатки сделал было движение вернуться. Но открыл дверь в накуренное и освещенное пространство.
— Пойдите-ка сюда! — шепнул он вахмистру.
И вышел с ним через черный ход на погруженный во мрак дворик.
— Оба Шугаи убиты. Ясинко и Сопко зарубили их топорами.
— Фу-у-у! — вырвалось у вахмистра.
Но он сразу оценил положение. Подумал. Приложил палец к губам.
— Никому ни слова, Кальман!
Лейбович хотел что-то сказать. Но вахмистр весь уже превратился в жандарма.
— Пошлите ко мне вахмистра Шроубека!
Потом повторил еще раз предостерегающе:
— И никому ни слова! Даже жене. Слышите, Кальман?
Целый год все только и думали о Шугае, целый год преследовали его, целый год ждали этой самой минуты. Вот она настала, — но вахмистр не радовался ей. Он как будто утратил смысл жизни. Драгоценную добычу подстрелил кто-то другой. И чем дольше он стоял в темноте двора, тем большее значение приобретала эта новость. Тридцать три тысячи. Благодарность начальства. Карьера и слава. Столбцы газетных статей с полными именами. И долг Кальману… Все пропало… Или нет еще?
Явился вахмистр Шроубек. Они стали совещаться, шагая по двору и присаживаясь на бревна.
Потом приказали трем жандармам остаться, а остальную компанию попросили разойтись. Опоясавшись ремнями, подсели впятером к Ясинко, Сопко и Адаму, который к тому времени тоже пришел. Суетливого Лейбовича выгнали, не позволив ему даже припустить огонь в лампе.
Вахмистр велел подать пива.
— Пейте! Я плачу!
А когда чокнулись, спросил товарищеским тоном:
— Ну, так как дело было?
Ясинко стал рассказывать, как было условлено и как они уже рассказали в общих чертах корчмарю. Дескать, Игнат Сопко позвал Адама Хрепту помочь огораживать обороги; Данило Ясинко тоже случайно оказался на лугу; из лесу вышли Шугаи, стали с ними толковать, позвали их всех в орешник. Там оба брата вели себя подозрительно, перемигивались, видимо замышляя что-то недоброе; и, когда Юра поднял винтовку, они втроем кинулись на Шугаев и убили их.
Пятеро жандармов постарались записать все — от слова до слова — в памятную книжку своих мозгов.
— Та-а-ак! — протянул вахмистр, поглаживая усы.
Как человек опытный, он сразу заметил, что Ясинко что-то слишком уж подробно описывал, как ставили плетни, как шли по лесу, а самого главного коснулся чуть не мимоходом. Страх перед Шугаями заставлял вспомнить речь капитана на собрании.
Он начал задавать вопросы, соображая, как было на самом деле. Конечно, теперь можно уже не держаться по-товарищески; можно вдруг приказать, чтоб прибавили огня в лампе, встать во весь рост, гаркнуть, ошеломить. Но положение все же тонкое: лучше держаться спокойно, дипломатически и удар нанести во-время и наверняка. Вахмистр приготовился к этому моменту.
— Та-а-ак! — повторил он.
Ясинко, Сопко и Хрепта мгновенно почувствовали подвох.
— Иначе дело было, ребята.
Они насторожились.
— Вот как. Вы не случайно встретились с Николой. Особенно Хрепта, — вахмистр зловеще усмехнулся, — который нам еще вчера пророчил, что не дальше как через три дня нам придется вскрывать Шугая. Вы встретились с Шугаем для того, чтобы условиться с ним насчет какой-нибудь пакости. Но вам захотелось получить тридцать три тысячи. И вы боялись, что мы поймаем Николу живого и он будет показывать насчет вас. К тому же при нем, наверно, кое-какие деньги… Правда? Вот как дело было, приятели. Поверьте, нам о вас известно немножко больше и подробней, чем вы думаете. Ну, ладно!.. Ваша обязанность была — взять Шугая и привести его к нам, а не хватило смелости — так прийти и сказать; мы бы сами взяли его. А то, что произошло, чертовски пахнет убийством из-за угла. А может, даже убийством с целью ограбления. Разве не правда? В сущности моя обязанность — сейчас же всех троих вас арестовать.
Произнеся это ужасное слово, вахмистр сделал паузу. Посмотрел каждому из них — одному за другим — прямо в глаза, поглаживая себе усы и бороду.
— Но-о… пейте себе спокойно, ребята!.. Я этого не сделаю… Может быть, не сделаю… Только о тридцати трех тысячах забудьте, заранее вам говорю… Понятно?
Трое слушающих так и обмерли. Душа ушла в пятки! Ясинко вынул из кармана шесть тысяч шестьсот крон. Перед глазами Игната Сопко опять возникли два мертвых тела в орешнике и шугаева слава, мокнущая под мелким дождем. Может, лучше было не браться?
— Кто еще знает об этом?
— Никто, кроме Лейбовича.
— Еще, еще кто? — настаивал вахмистр.
— Больше никто.
— Послушай, Хрепта, ты пришел сюда позже. Где ты был, с кем говорил?
— Ни с кем. У меня голова болела, я пошел купаться в Колочавке.
Это было похоже на правду: Адам был очень бледен.
Вахмистр отвел одного из жандармов в темный угол и потолковал с ним о чем-то. Потом они вернулись к столу.
— Вы умеете держать язык за зубами? — строго спросил вахмистр.
— Умеем, — ответил Ясинко.
— Так вот. Чтоб никому не было обидно. Шугая поймали мы. Понятно? Награда пополам.
— Понятно.
Они толком не поняли. Но, может, так, правда, лучше? Ведь еще остался этот старый волк Петро Шугай, подрастают братья Николы, и будет гораздо верней, если никто не узнает, кто на самом деле убил его. Адам, Игнат и Ясинко опять вздохнули свободно. Правда, награда уменьшилась, сильно уменьшилась; и, конечно, жандармы прикарманят еще сверх этого; но ведь двадцать тысяч Адам хорошо спрятал, а это большие деньги. Лицо мертвого Николы там, на лужайке, опять перестало казаться угрожающим. Его невредимость, сраженная топором, больше не воскреснет, и рот его заперт накрепко…
— А теперь, ребята, пейте, не думайте ни о чем!
Пили до поздней ночи.
В полночь жандармы вскинули винтовки на плечи, и все двинулись в путь.
Светил месяц. Они миновали погруженное в глубокий сон село, пересекли луга и, светя себе под ноги электрическими фонариками, поднялись по покрытому лесом косогору на бегущую вдоль Колочавки каменистую тропинку. Перешли по бревну через реку и взобрались на обрывистый берег. Ясинко вел их, как будто это было днем.
Стали продираться сквозь густой орешник.
— Вон там! — промолвил Ясинко, показав пальцем.
Шагах в десяти от них, на лужайке, можно было различить два черноватых предмета. Пять светлых треугольников, отбрасываемых фонариками жандармов, вырвали из мрака зелень мокрой травы, ореховый куст и два трупа. Они лежали навзничь, раскинув окоченелые руки и ноги.
Луч вахмистрова фонарика обшарил лужайку, проникая в самую чащу орешника, освещая все ее тайники. Вахмистр выбирал подходящее место.
Отведя жандармов за кусты, он приказал им стрелять по трупам.
Они стреляли в Николу, стреляли в Юру, словно желая разом вознаградить себя за все промахи, сделанные за год. Посылали во тьму один залп за другим, как придется, изрешечивая пулями тела братьев Шугаев.
Над орешником появились первые проблески рассвета.
Ну, кончено! Слава тебе, господи! Честь имею, гнусная Колочава! Счастливо оставаться!
Послали одного из ефрейторов на село, к Лейбу Ландсману — за телегой. А сами, завернувшись в плащи, легли под деревьями — вздремнуть после бессонной ночи.
Теперь Ясинко, Хрепте и Сопко было все понятно. Ну да, так на самом деле, пожалуй, лучше. Теперь, после того как их действия получили официальное признание, им казалось, что на лужайке лежат совсем другие мертвецы, что братьев Шугаев уже давно нет на свете, и если они втроем имели к ним какое-нибудь отношение, то теперь это полностью им прощено, внешним подтверждением чего была стрельба жандармов. У них стало легко на сердце.
Лейб Ландсман приехал уже под утро; он подал телегу, по самому берегу Колочавки, прямо к откосу. Перед его появлением Хрепта, Ясинко и Сопко ушли в лес, чтоб он их не видел. Жандармы стащили трупы с обрыва и взвалили их на телегу.
К жандармскому посту в Колочаве подъехали, когда было уже совсем светло.
Это было во вторник. Весь тот день евреи ходили по камням колочавских улиц совершенно спокойно, почти как во время шабаша. Молодежь забыла о волновавшей еврейскую общину вражде Беров и Вольфов из-за табачной лавочки, перестала думать о своем тайном сионизме, об осторожном подрыве авторитета хустского раввина и опять почувствовала себя в одной семье со стариками. Еврейские девушки, надев чулки и нарядные блузки, прогуливались парами, подходили к группам парней и отвечали любезными улыбками на приветствия жандармов. Старые евреи беседовали у дверей своих лавочек; был тут и Адам Бер, сдержанная улыбка которого была полна небывалого ликования; когда мимо них проходил капитан, они кланялись ему сердечно, приветливо. Дурак. Но все-таки свой человек и дело сделал неплохо. Потому что их послушался. Ведь это они открыли вечную истину, что человека губит не то, что в нем есть хорошего, а то, что в нем — дурное, — мудрость, которую они из области теории перенесли в область практики, выдвинув лозунг: «Освободите товарищей! Посадите Эржику!» Кто будет отрицать, что смерть Шугаев находится в причинной зависимости от ареста Эржики и облегчения участи товарищей? Ну как можно закрывать глаза на факт? И какому безумцу придет в голову утверждать, что он познал связь вещей и проник в замыслы вечного, да будет имя его благословенно?
Торжествующий капитан, герой дня, человек, который пришел, увидел, победил, помчался на Горб, в лесоуправление — просить у заведующего фотографический аппарат.
Потому что в саду жандармского поста на траве лежали два трупа. Они лежали рядом, но слегка крест-накрест, как охотничья добыча: ноги Николы были положены на живот брата. Может быть, так было сделано для того, чтобы закрыть страшную рану Юры; а может быть, оригинальное положение это понадобилось, чтобы снять обоих на одну пластинку и чтоб получилось эффектно. На груди у мертвецов были скрещены две жандармские винтовки, а между ними по черному фону сделана красивая надпись мелом:
КОНЕЦ ШУГАЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этом кончается повествование о Николе Шугае.
Что можно еще добавить?
У автора нет ни малейшей охоты теперь, спустя одиннадцать лет, заниматься собиранием и проверкой всяких исторических подробностей, связанных со знаменитым разбойником Полонинских Карпат и относящихся к периоду после его гибели. Нет ничего любопытного в том, что Эржика вторично вышла замуж — за крестьянина Илька Дербака Дичка (действительно, сколько этих Дербаков в Колочаве!), или в том, что после смерти Шугая у нее родилась в хустской тюрьме дочка Анка, причем Эржика, желая облегчить свою участь, отцом ребенка записала ефрейтора Свозила, — ложь, способная вызвать только улыбку, стоит взглянуть на эту прелестную девчонку с выпуклым лбом и маленьким подбородком, как у всех Шугаев, — да и по расцветке совсем такую, каким видела Николу Шугая Розочка Грюнберг: смуглую, будто дерево в лесу, с красными, как черешня, губами, тонкой бровью и черными глазами, сияющими, как окно во время шабаша. И право, нет особой надобности подчеркивать, что окружной врач из Волового, производя вскрытие братьев Шугаев («В конце концов и до тебя дошла очередь, Николка!» — думал он при этом, втайне чувствуя стыд), не мог не обнаружить с первого взгляда, что страшная рана на голове Николы и развороченный живот Юрая невозможно приписать жандармским пулям и штыкам, так что назначенной награды не получил никто. («Ай-ай-ай, сколько было бы злобы и ссор в синагоге, если б на самом деле пришлось собирать тридцать тысяч», — толковали между собой евреи.) И нет решительно никакого смысла излагать тягучие протоколы ужгородского дивизионного суда с материалами следствия по делу помощника жандарма Иржи Власека и делам целого ряда других лиц, обвинявшихся, помимо прочих преступлений, в поджоге: эти документы в конце концов ничего вам не дадут, так как вы не будете знать, чем эти дела кончились. И совершенно лишнее — распространяться о ходатайствах, просьбах, жалобах, о настойчивых домогательствах, которыми докучает земскому начальнику господину Бескиду{203} старый Иван Драч, добиваясь возмещения стоимости сожженной хаты и скота: этот глухой, как пень (может быть, от ударов, которых он получил в жизни немало), упрямый старик обязательно дождется, что его когда-нибудь посадят месяцев на восемь за дерзкий язык и оскорбление должностных лиц.
И уж совсем скучное дело — разбирать отвратительный почерк следователя при хустском краевом суде, изучая протоколы показаний Адама Хрепты, Данила Ясинко и Игната Сопко, находившихся почти девять месяцев в предварительном заключении по обвинению в убийстве из-за угла, но в конце концов освобожденных на том основании, что они объяснили совершенное ими убийство необходимостью самообороны: потому что, конечно, убийство есть убийство, но Шугай — ведь это только Шугай!
И, право, нет смысла хвалить государственные органы за то, что они выполнили свое обещание насчет предоставления службы тому, кто сумеет обезвредить Шугая. Или сообщать, что Адам Хрепта стал работать по договору в управлении казенных лесов и угодий и был бы вполне доволен, если б только его перевели из Колочавы, где он не чувствует себя в полной безопасности; что Игнат Сопко служит обходчиком в Воловском округе и что только Данило Ясинко предпочел государственной службе положение самостоятельного хозяина, продал свое колочавское хозяйство и купил где-то в районе Свалявы усадьбу, которая, правда, с тех пор, к несчастью, два раза выгорала.
И неужели для людей серьезных и солидных могут представить какой-нибудь интерес изучение книги записей недвижимого имущества при воловском окружном суде, просмотр материалов налогового обложения и констатация того факта, что Абрам Бер является в настоящее время не только официальным владельцем того луга на берегу Колочавки, но и фактическим его обладателем?.. Автор повествования о разбойнике Николе Шугае придает этим обстоятельствам мало значения. В самом деле, разве не очевидно, что какой-то удар топором в Сухарском лесу — хотя бы даже по голове самого выдающегося человека — не остановит ни бега воды на порогах Колочавки, ни теченья облаков в берегах, образуемых двумя горными хребтами, и дни, заполненные пестрой смесью событий, пойдут и дальше своей чередой?
С точки зрения автора важно другое: Горб, Дервайка, Тиссова, Стримба, Стременош, Красна, Роза и Бояринский Верх, возвышающиеся над узкой долиной Колочавки, задерживающие наступление в ней рассвета, ускоряющие приход вечерних сумерек и пропускающие туда весну с таким запозданием, не испытали в течение тысячелетий таких изменений, которые были бы доступны человеческому восприятию. На их косогорах и кручах, в их пропастях и ущельях стоят первозданные леса, темные, печальные, пахнущие прелью, и если там протянешь руку к обломившемуся суку, чтобы сделать себе палку, он рассыплется от твоего прикосновения, как трут, потому что пролежал здесь десятилетия, не тронутый ни зверем, ни человеком. Огромные мертвецы, сраженные бурей, молнией или старостью, считают делом чести никому не уступать своего места даже после смерти, не позволяют жить множеству малых живых существ, которые вступают в борьбу с их умершей славой, продираются к солнцу сквозь их засохшие ветви, разрушают их своими жадными корнями и добираются до самых их вершин, не зная и терзаясь страстным желанием поскорей узнать, кому из них суждено жить, а кому исчезнуть вместе с последними останками мертвеца. Здесь страшно тихо: нет ни певчих птиц, ни мелких зверушек. Если не считать совершенно ничтожных созданий — насекомых, мхов, грибов и плесени, на которых не стоит обращать внимания, здесь в состоянии выжить только тот, у кого всегда наготове оружие — ястребиный или орлиный крепкий, изогнутый клюв, клык, бивень, рысий коготь, медвежья лапа либо оленьи рога, самое страшное оружие, так как его обладателю чужда жажда убийства. А высоко в горах, над первозданными лесами, уже вблизи плывущих облаков, лежат залитые солнцем плоские пространства знаменитых полонин, чей роскошный пестрый наряд из горечавки, белых лютиков, желтых фиалок, анютиных глазок, ястребинки, поповника и кровавых гераней тем пышней, чем хуже трава для пасущихся там стад. Здесь жив еще бог. Древний бог земли. Он губит ледяными вихрями и весенними разливами рек все больное и хилое, любя всех, кто ему дорог, — деревья, речные пороги, зверей, людей, скалы, — одинаковой любовью, своенравной, суровой и щедрой, как средневековые властители. Склоняется в знойный полдень над источником, чтоб утолить жажду, зачерпнув воды горстью, и отдыхает в кронах старых яворов; играет с медведями в чащах, ласкает отбившихся от стада телок и любуется заснувшими во мху, в тени ветвей, человеческими детенышами. Изначальный языческий бог, бог земли, хозяин лесов и стад.
Только это существенно. И еще вот что.
В узких долинах, на склонах, где леса оставили немного места лугам, и наверху, на полонинах, живут люди. Они живут в хатах, напоминающих избушку на курьих ножках, либо сбившуюся в кучу семью подберезовиков. От мужчин пахнет ветром, а от женщин — дымом печей. Это пастухи и дровосеки, еще не успевшие подняться на земледельческую ступень и не дошедшие до изобретения плуга. Потомки пастухов, скрывшихся в эти неприступные горы от набегов татарских ханов на украинскую равнину; праправнуки взбунтовавшихся крепостных, бежавших от плетей и виселиц подстарост и атаманов пана Юзефа Потоцкого; правнуки повстанцев, поднявших оружие против вымогателей — румынских бояр, турецких пашей и венгерских магнатов; отцы, братья и сыновья тех, кто погиб на кровавых бойнях австрийских императоров, сами терзаемые еврейскими ростовщиками и новыми, чешскими, господами. И поголовно все в глубине души — разбойники. Потому что это единственный известный им способ защиты. Защиты, которая действительна — на неделю, на месяц, на год, на два года, как было с Николой Шугаем, на семь лет — как с Олексой Довбушем. Что в том, что она дорого обходится, что за нее платят самое меньшее жизнью? Все равно вечно жить не будешь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Между тем каждая кровинка в их жилах хранит смутное воспоминание о прошлых обидах и жгучее ощущение нынешних, каждый их нерв полон неистовой жажды свободы. Это жажда Довбуша. Жажда Шугая. Они любят их обоих — за нее.
Близ окраины Колочавы, у самого большака, недалеко от впадения Колочавки в Тереблю, стоит конусообразный, обрывистый, каменистый пригорок, подобный глыбе, что скатилась с возвышающихся тут же рядом гор. На нем — ни куста, ни деревца, травы между каменной осыпью совсем мало, и коровам, перебирающимся из одной травянистой долинки в другую, почти не приходится здесь задерживаться, звеня подвешенным к шее колокольчиком, и чего-нибудь пощипать. Это колочавский погост. Вы всходите на этот холм, не проходя никаких ворот, не перелезая никакой ограды, и, только очутившись там, догадываетесь о том, где вы, по наличию нескольких торчащих между камнями совершенно одинаковых крестов, представляющих собой пару сколоченных гвоздиком планок, длиной каждая не более двух с половиной пядей; а остальные валяются здесь же в виде сырых, трухлявых обломков, так как, подгнив у основания, были повалены скотиной. Здесь не знают нежных воспоминаний о мертвых. «Приидите, последнее целование дадим, братия, умершему…» — с этим призывом священника, взмахом его кропила и возгласом дьякона: «Упокой, господи, душу усопшего раба твоего…» — все для тебя кончено, умерший: ты живешь теперь где-то в другом месте, не в Колочаве, — не возвращайся же, не пугай, не балуй; тут тебе больше нечего делать.
Здесь рядом, бок о бок, лежат останки братьев Шугаев. Но могилы их не укажет вам ни один из жителей стоящих внизу, у дороги, хат и никто из семейства Шугаев. Даже Эржика Дербакова Дичкова вынуждена всякий раз разобраться в этом нагроможденье камней и поискать немножко, прежде чем остановиться перед холмиком из щебня, давно сравнявшегося с землей, постоять полминуты молча и неподвижно, вздохнуть тихонько и пойти дальше своей дорогой.
Но слава Николы Шугая живет. В Колочаве, где у него остались друзья и где подростки, никогда его не видавшие, не доросли еще до первых девичьих венков из ромашек и первых кованых поясов, вы можете до сих пор различить под личиной разбойничьей славы Шугая человеческое лицо Николы. Но за пределами Колочавы образ его окружен тайной. О его подвигах и чудном стрелковом мастерстве поют песни, о его зеленой веточке и кладах, которые, если б их открыть, засияли бы на весь мир, рассказывают изумленным слушателям зимой на посиделках, когда на дворе валит снег, а в печи пылают буковые поленья. Никола Шугай стал легендой. Легендой о борьбе за свободу. Потому что он был другом угнетенных и врагом господ, и, будь он жив, не было бы на свете столько горя. Эх, кабы и они могли отнимать у богатых и давать бедным! Кабы и они могли мстить за мирскую обиду! Кабы и им — его веточку да его клады! Синими ночами, когда над головой твоей — бездонное ледниковое озеро звезд и в первозданном лесу пляшут болотные огни, пастухи, поборов страх и трижды осенив себя крестным знамением, отваживаются войти в лесную чащу, чтобы заметить место, где играют таинственные огоньки, и на другой день прийти выкопать клад Шугая. А в вечерних сумерках, у костра перед шалашом, наевшись кукурузной каши, достанут из-за пазухи свои жалейки и, чередуя слова песни со звуками свирели, огласят сгущающийся сумрак жалобой:
Стонет горькая кукушка, плачет в темном гае: не видать тебе вовеки Николы Шугая!Тут конец повествования о разбойнике Николе Шугае.
Нам хотелось бы только на минуту вернуться к началу: к шалашу над Голатыном. И вспомнить о том, что Шугай всем существом своим чувствовал себя частью этих гор, с их лесами и потоками, медведями, стадами и людьми, тучами и молниями, со всем — от зерна высеваемой нами конопли до грустной песни жалейки и мысли, с которой мы отходим ко сну.
Он не ошибся, сказав: «Я не умру». Никола Шугай жив. Он живет в этих горах, одной жизнью с ними. И будет жить. Мы не скажем «вечно», так как понимаем это выражение еще меньше, чем понимали его наши набожные прадеды, а удовлетворимся более простым словом: долго.
Так что прав был внутренний голос Николы, как правы и голатынские пастухи, которые, имея в виду его личное существование, были вынуждены ограничить пророчество о невредимости понятием невредимости от пули, оставив тем самым лазейку, в которую мог бы пробраться черт человеческой смертности.
В ГОРАХ ЗАКАРПАТЬЯ{204}
ХЛОПОТЫ АНЧИ БУРКАЛОВОЙ{205}
Да, одного нотара{206} и в Колочаве арестовали. Правда, не за то, что он драл с людей три шкуры, а за то, что однажды протоптал в снегу тропинку от проезжей дороги к своей собственной канцелярии, разбил окно и похитил двадцать тысяч казенных денег, которые жандармы нашли потом под лифом у его супруги.
В прошлом году посадили колочавского пана священника Кирая. Он распродал из-под полы церковную утварь, разбазарил общинное имущество и пустил по миру всех, чьи три крестика вместо подписи на векселях имели обеспечение и не вызывали в банке никаких сомнений. Когда же в Колочаве таковых больше не оказалось, он провозгласил с кафедры, что по случаю своих именин собирается заколоть три свиньи и купить пива, пусть поэтому в следующее воскресенье придут крестьяне с самых отдаленных полонин, которые обычно в церковь не ходили, потому что ему, мол, надо знать, сколько у него будет гостей. Крестьяне пришли, и в доказательство того, что они наверняка примут участие в празднестве, священник заставил каждого из них поставить по три крестика на каких-то бумажках. Бумажки оказались векселями. Благодаря подобным аферам пан священник Кирай положил себе в карман свыше двух миллионов крон. Сумма для здешних мест неслыханная.
Однако куда делись эти деньги, никто не знает, так как после пана священника остался лишь автомобиль, конкурировавший в свое время с машиной пана нотара. За него, как после выяснилось, не было уплачено. Надо думать, денежки пан Кирай припрятал за границей.
В этом году посадили окружного школьного инспектора пана Дубровского. В бумагах воловского податного правления он значился как «окружной школьный инспектор, владелец недвижимого имущества и сезонный торговец скотом». Он брал взятки с помощников учителей, подавал с целью наживы неправильные сведения об учителях, выплачивал только часть заработка преподавательницам и инструкторам курсов домоводства, школьным учителям сбывал в счет жалованья своих свиней, судился с крестьянами, по дворам которых кормилась его скотина, клеветал и подделывал подписи на долговых обязательствах.
Как установило следствие, вышеперечисленные махинации принесли Дубровскому миллион с лишним крон. На что растратил их этот до скупости экономный субъект, тоже неизвестно. Наверное, и он поддался слухам о скором пересмотре мирных договоров{207} и укрыл свой куш на чужбине.
Нужно сказать, что стоило большого труда обезвредить этих грабителей, охраняемых влиятельными людьми и до последней минуты поддерживаемых своими политическими партиями. Против них долгое время были бессильны не только люди доброй воли, но и жандармерия, докладные записки которой исчезали в ящиках неизвестно чьих письменных столов.
Однако эти три официальных лица были не единственными паразитами, пившими кровь закарпатского бедняка, — они принадлежали к категории преступников солидной квалификации, — а сколько еще остается мелкотравчатых — cur tu non, Augustine?[54] — которые пока удерживаются в рамках законности или слишком ловко обделывают свои делишки и потому не попадаются? Наконец, сколько еще высокопоставленных негодяев, которых никто не отваживается призвать к порядку, опасаясь их могущества?
Но как могут на изможденном теле русина еще существовать паразиты? Неужели это такое легкое дело?
Известно, что на самом худосочном теле всегда больше всего кровопийц, и дело их действительно очень не трудное.
— Как вы могли предоставить этим людям такие права? Ведь это несчастье. Великое несчастье! — говорят мне богатые евреи.
Но это не права. Это то, что демократическое государство и жизнь двадцатого столетия, в котором так внезапно очутились они, вменяет им в обязанность. Это ураган повинностей, которые не может постичь их ум, которые внесли путаницу в их жизнь и обычаи и поставили их самих в зависимость от добрых или злых помыслов любого нотара, жандарма, финансового чиновника, канцелярского служителя, от наглости и бесчинства любого мошенника.
Вот, например, история Анчи Буркаловой. История эта не является исключением, она типична для здешних мест. И да будет принято во внимание то, что излагается она добросовестным репортером.
Деревушка Кальновец расположена на крутом склоне под Прислопским перевалом у маленького озера, служившего когда-то запрудой для сплавленного леса. Она состоит из нескольких убогих халуп и домика лесника, где я остановился в надежде застать там какого-нибудь заклинателя змей, который впоследствии предстал передо мной в образе ничем не примечательного мужичка.
Местные жители убеждены, что я обладаю какой-то властью. Разубедить их в этом невозможно, и они постоянно приходят ко мне за помощью. Как-то вернувшись с озера во второй половине дня, я увидел у печи выстроившихся в ряд четырех бедняков — трех мужиков и старуху, одетых в лохмотья. Все они были одинаково жалки, забиты и себе на уме, глаза их пристально смотрели на дверь. Особенно выделялись твердые, как два камешка, глаза старухи.
— Вы ко мне? — совершенно излишне спрашиваю я, не подавляя эгоистического вздоха.
— Да, — подтверждает лесник Зиллер и начинает объяснять, в чем дело.
Но это излишне. Я и сам знаю, о чем может идти речь: о пособиях для сирот или о пенсиях.
Деньги некоторых детей, чьи отцы погибли на фронте, были во время войны помещены в седрии{208} в Мармарошской Сиготе, теперь отошедшей к Румынии, и в свое время выплачены сиротам. Несмотря на то, что сумма значительно уменьшилась от бесконечных перечислений венгерских крон в леи, а лей в чехословацкие кроны, эти дети все же кое-что получили. Но часть сиротских денег поступила в будапештскую сберегательную кассу. Об этих деньгах до сих пор, когда прошло уже шестнадцать лет после войны, ведутся международные переговоры, а тогдашние дети, сейчас уже взрослые парни, голодные и затравленные чиновниками, и слушать не желают о международных трудностях, о которых им кричат в учреждениях. Они знают только то, что господа их обокрали, и потому тратят деньги на бесполезные жалобы и просьбы, попадают в руки к прохвостам, сидят в тюрьмах за оскорбление властей, теряя последние остатки веры в существование справедливости и элементарной человеческой добропорядочности.
Что же касается пособий пострадавшим от войны, то здесь дело обстоит таким образом.
Во время войны, а также в течение двух лет после нее они получали пенсию через податное правление. Деньги выплачивали им (иначе в закарпатской деревне и быть не может) сельские нотары. Но в «Своде законов и уложений» был опубликован параграф под номером 142 от 1920 года, согласно которому потерпевшие от войны, если они не хотят остаться без пенсии, обязаны в определенный срок пройти перерегистрацию… «Свод законов и уложений»? Это еще что такое? Правда, параграф 142 печатали все газеты. Но кто и когда в Кальновце видел газеты? Потерпевшим говорил о нем также колочавский нотар. Но сей сановитый вор делал это, видимо, только для того, чтобы снова иметь возможность выуживать у них деньги за писание заявлений. А где им напастись на него? Поэтому одни проходили перерегистрацию, другие нет. Срок ее дважды продлевался. Наконец, был установлен окончательный день подачи заявлений — 31 декабря 1923 года. И опять — одни знали об этом, другие не знали, одни подавали заявления, другие не подавали. Те, которые не подали, имели в скором времени основание посмеяться над теми, кто подал, так как пенсия приходила попрежнему как тем, так и другим, и деньги, уплаченные пану нотару за составление заявлений, казались выброшенными на ветер. Через некоторое время нотар выдумал новый способ вымогать деньги: на протяжении года после подачи заявления люди, получавшие пенсию за своих погибших сыновей и мужей, должны в письменном виде обратиться с просьбой публично объявить их родных погибшими. Необходимо было, разумеется, заплатить за писание прошения, а потом еще и за объявление в ведомственной газете. Черт бы вас побрал! Платить стали не все. А деньги продолжали приходить как и раньше… Но в один прекрасный день, когда их ждали, они не пришли. Пострадавшие помчались к нотару. А пан нотар стоял за столом во всем своем величии и орал: «Я вас сто раз предупреждал! Теперь вы добились своего!»
Испуганные люди сгребали все, что у них осталось, продавали последнее, занимали где только могли, платили пану нотару за каждую бумажку гусями и курами, которые теперь уже ничего не могли изменить. Дела пана нотара процветали. А отчаявшиеся бедняки бегали от евреев к священнику, совали деньги выгнанным за пьянство с работы лесникам и налоговым чиновникам, тайно занимавшимся посредничеством, посылали к властям депутации… Но все было тщетно. Срок прошел — «пропало дело».
Да, визит трех кальновецких мужиков и старухи касался именно пенсии. Восемь лет уже они добивались ее. Люди настойчивы в поисках справедливости.
Лесник Зиллер пространно объясняет мне то, что я так хорошо знаю и без него. Затем четыре гостя, считая целесообразным возбудить во мне сочувствие, с лукаво утрированным смирением рассказывают о своей горькой нищете, которая мне тоже хорошо известна, преувеличивая то, что совсем не нуждается в дополнениях.
Я в нерешительности.
Тут нельзя пожать плечами и отделаться отговоркой. Но что им сказать? Растолковать юридическую сторону вопроса, повторить то, что они уже слышали, чего не понимают или чему не верят? Или просто сказать: вообще не существует никакой справедливости, все ваши усилия напрасны, никто за вас не заступится, никто не боится вас, потому что каждый может сделать с вами все, что ему заблагорассудится, потому что ни один пан о вас не позаботится, если вам нечего дать этому пану, если вы задаром отдаете ему свои голоса на выборах?! Или: организуйтесь! Боритесь! Или посоветовать: уповайте на будущее, на то время, когда станете опытнее, сильнее, когда станете грамотными?.. До чего это нелепо в данной ситуации! Ведь они ждут помощи, немедленной помощи.
Но, видимо, я все-таки говорю им нечто в этом роде. Они слушают, и их фигуры и их глаза застывают в одном положении.
Я прощаюсь с ними.
Но они не уходят.
Я подаю им руку.
А они стоят и не двигаются с места.
Затем один из них говорит серьезно, веско и глухо:
— Мы знаем, что вы можете нам помочь, что ваше слово значит больше, чем слово окружного начальника, что вам понадобится написать всего лишь одну строчку…
Страшные слова!
Я объясняю им, что это не так, что я только пишу книжки.
Возможно, конечно, — лгу я, — что кто-нибудь обратит на них внимание и задумается над тем, как все исправить, но сам я не могу сделать ничего, абсолютно ничего и никакой власти у меня нет.
Они молчат, смотрят на меня и продолжают стоять. Очевидно, после восьми лет я — их единственная надежда.
Остается одно — пойти на гнусность: ut aliquid fecisse videatur[55], — и написать какое-нибудь прошение, о котором заведомо можно сказать, что оно ничего не даст.
Мне приходит в голову глупая идея…
Ладно — буду проводить оппортунистическую политику!
— Кого вы избирали? — спрашиваю я.
— Аграрников.
Я это знаю. Но меня интересовало, знают ли они?
Действительно, колочавский пан нотар, верный старым традициям австро-венгерского чиновника, сделал свое дело, то есть провел выборы — на этот раз чехословацкие — отлично: вся Колочава и весь Кальновец голосовали за аграриев{209}. Начиная от самого богатого торговца Герша Вольфа и кончая самым бедным безземельным крестьянином. Труд этот не прошел без пользы и для пана нотара. Теперь его снова на шесть лет оставят в покое, и он сможет делать в округе все, что ему взбредет в голову. Итак, я провожу оппортунистическую политику и пишу от имени четырех кальновецких бедняков послание аграрной партии.
Лесник Зиллер, мокранский немец{210}, — человек цивилизованный. У него есть бумага, а в нижнем ящике комода он находит даже голубой измятый конверт.
Прежде всего я осведомляюсь о материальных ресурсах этих людей. Нет, отчаянного ничего нету в их положении, как это они мне описывали сначала. Каждый из этих мужиков что-нибудь да имеет: халупу, корову или две-три овцы, клочок земли или небольшие выгоны, и в глазах чиновников ни один из них не является неимущим. Тем более что долины в этих краях шириной всего в несколько десятков метров и пахотной земли ужасно мало. Куцый отрезок немногим больше полугектара стоит здесь пять, а то и десять тысяч крон, то есть дороже, чем на самых плодородных землях в Чехии. Но что говорить о цене, когда сена для коровы все равно не хватит и до половины зимы, а картофеля с огорода едва-едва дотянуть до рождества и наступает голод?!
— А у вас есть что-нибудь, Буркалова? — спрашиваю я старушку, которая назвала себя этим именем.
Ее глаза, похожие на два черных камешка, становятся мягкими и влажными. Она намеревается заплакать, но этак мы ни к чему не придем, и я сдерживаю ее. Да, когда-то у нее был домишко. Но черви могут подтачивать балки на протяжении жизни только пяти или шести человеческих поколений, и потому в один прекрасный день, который был даже не очень ветреным, халупа обрушилась ей на голову. Теперь она живет у родственников. Летом пасет их скотину, а зимой помогает на ручном станке ткать полотно для семьи, за это ей дают место на печке и за столом у общей миски с токаном{211}. Ах, была у нее и корова, да она вынуждена была с ней расстаться. Еще шесть лет тому назад была у нее яловая корова, но пришлось продать ее за шестьдесят крон для того, чтобы пан нотар написал прошение.
— Это он столько с вас взял? А за какое прошение?
— Чтобы мне снова выписали пенсию.
Шесть лет тому назад? В 1926 году? То есть в то время, когда уже любое прошение было недействительно.
— До этого он вам ничего не писал?
Буркалова опять плачет.
— Ох, много денег я ему снесла, много он мне всего понаписал, только у него так — сначала заплати, не то и делать не станет…
— Когда же все это было?
— Уж и не помню, родимый.
И это, я знаю, водится за нотарами. Нотары — институт австро-венгерского происхождения и, не используйся он в политических целях, мог бы приносить даже некоторую пользу, В селах, за исключением священника, учителя и одного или двух богатых евреев, никто не умеет писать. Избранный староста, как правило, тоже неграмотный, а ведь сельскую канцелярию вести кому-то надо. Австрийское правительство, раздумывая над тем, как обеспечить сельских нотаров, рассудило: разве мало людей насыщается русинской кровью? Лесопромышленник, подрядчик, банкир, богач еврей, священник. Прокормится ею и еще один. И действительно прокармливался, к тому же сытно. Сельские нотары оплачивались неполностью. Возмещено это было тем, что они получили некоторые адвокатские полномочия. И, соединив последние со своей административной властью, эти господа лакомились богатой добычей. Контора сельского нотара стала разбойничьим логовом. Неограниченным хозяином села сделался общинный чиновник, нотар, а староста превратился в его прислужника, имеющего право лишь ставить печати да иногда попросить у него на чай. Такое положение нотара было наградой за его политические услуги: за мадьяризацию в областях с нацменьшинствами, за организацию пресловутых выборов. Мне рассказывали о довоенных нотарах, у которых на столах лежало по три пера и которые орали приходящим: «Каким из них написать тебе» — и проситель знал, что обычным пером стоит три золотых, серебряным — пять, а золотым — десять и что прошение, написанное золотым пером, почти наверняка будет удовлетворено. Мне рассказывали также и о послевоенных нотарах, которые разбогатели, обжуливая русинов, возвращающихся из Америки, при обмене долларов; рассказывали о тех, которые на протяжении многих лет забирали себе предназначавшиеся инвалидам пенсии; о таких, которые крали денежные переводы, поступающие из-за границы. Делать это им было тем легче, что деревенская почта проходила, да и теперь еще проходит, через их руки. Мне рассказывали о лихоимстве нотаров в земельных и денежных делах, о спекуляциях государственной кукурузой и нарезами для безземельных, о целых украденных ими наследствах. Зажиточные семьи сельских нотаров, живущие в гордой замкнутости и заключающие браки только между собой или с семьями священников (что означало для нотара подняться еще на одну ступеньку по прочно устроенной общественной лестнице), составляли низший слой иерархии венгерской gentry[56]. Хотя представители этого слоя слегка презирались и даже высмеивались, все же они являлись деревенской аристократией, без которой невозможно обойтись в общественной и государственной жизни. Наиболее пожилые из них и по сю пору сохраняют за собой положение провинциальной шляхты. Их невысокие каменные дома властно белеют на фоне покосившихся хижин, внутри они отделаны по-европейски, иногда даже со вкусом. Живя в окружении нищих крестьян, они имеют автомобили, их жены и дочери во время поездок в город соперничают своими туалетами и драгоценностями с самыми богатыми еврейками. После переворота{212} республика решила провести небольшую чистку в нотарских конторах. Но именно небольшую, да и то только в приливе первых демократических восторгов, так как правительственные партии очень скоро воздали должное государственной мудрости венгерской gentry и по заслугам оценили институт сельских нотаров. Было разрешено остаться на службе старым, опытным практикам, проявившим желание служить новым господам. Правительство назначило также ряд лиц, которые, нельзя не отметить, были более честными. Однако, несмотря на то, что новички и чиновники, переведенные из других, менее аристократических окраин, являются скорее бюрократами, чем аристократами, в принципе ничего не изменилось. Они делают политику и выборы, будучи ставленниками правительственных партий, собственно говоря, одной партии — аграрной. Цель осталась, вознаграждение сохранилось. Они пишут заявления, прошения, апелляции по всем вопросам, как гражданским, так и военным. И самое опасное во всем этом то, что вопросы эти в большинстве случаев они решают сами, так как прошения из высших инстанций возвращаются в конце концов вновь в село, чтобы община сказала о них свое мнение. Но ведь община — это пан нотар. И если он хочет выудить деньги или имеет еще какую-либо причину не удовлетворить просьбу, то все усилия темного крестьянина добиться своих прав напрасны. Следовательно, и могущество нотаров также сохранилось.
Итак, я допрашиваю Буркалову в домике кальновецкого лесника.
— Как звали вашего сына?
— Грегор.
— В каком полку он служил?
— Ах, откуда мне знать, сынок?
— И когда он погиб, тоже не знаете?
— Да где там!
Я отмечаю все у себя, пишу и одновременно говорю.
— Грегор Бурка…
— Нет! Грегор Игнатишин, — поправляет меня старуха.
— Так это ваш сын от первого брака? — поднимаю я на нее глаза от бумаг, предполагая тотчас услышать положительный ответ. Но не тут-то было.
— Нет, я всего один раз была замужем.
— Так он у вас внебрачный?
— Ой, что это вы такое говорите?!
Приходится прервать письмо.
— Как фамилия вашего покойного мужа?
— Игнатишин.
— А ваша?
— Буркалова, Анча.
— Не понимаю. Это что, сын вашего мужа? Не ваш? Или вы не были зарегистрированы?
— Ах, да что ты, миленький?! Все было честь по чести, как же иначе? Это был мой сын.
— Так почему же ваша фамилия не Игнатишина?
— Нет, моя фамилия Буркалова.
Я беспомощно оглядываюсь на трех мужиков. Но те не видят в словах Анчи Буркаловой ничего особенного. Собственно как же так? Неужели эти люди не знают даже, как ее зовут?.. «Эх, милый, — смеялся впоследствии мой приятель адвокат, — если уж ты захотел конкурировать с нами, так должен был знать, что здесь замужние женщины всю жизнь называют себя своим девичьим именем!» Но я не знаю этого и продолжаю спорить с крестьянами. В конце концов они умолкают и отступают от меня, как от своевольного ребенка, который уперся на своем и во что бы то ни стало хочет оказаться правым.
— У вас, должно быть, дома есть какие-нибудь документы, бумаги?
— Нету у меня никаких бумаг.
— Я вам не верю, Игнатишина или Буркалова. Вы получали пенсию за сына. Что-нибудь да должно быть. Или вы все потеряли?
— Нету у меня ничего, родимый. Я все отдала этим господам.
— Каким господам?
— Тем, которые собирали бумаги и писали заявления.
— Кто-то здесь что-то собирал? Когда?
— Лет пять-шесть тому будет.
Если даже старушка и ошибается и с тех пор минуло восемь лет, то все равно это безусловно произошло тогда, когда все прошения уже были бесцельными. Я обращаюсь с вопросами к трем мужикам. Да, так и было. И из их уст я узнаю историю чисто закарпатскую.
Несколько лет тому назад в село пришли два пана с барышней и с пишущей машинкой. Они сняли комнату в корчме у Лейбовича, и пан священник объявил с кафедры, что «эти господа уже здесь» и что они будут помогать людям добиваться получения пенсии. Народ повалил к ним валом, барышня писала, а господа отбирали документы. Отобрали и у моих четверых кальновецких гостей.
— Кто были эти люди?
Никто не знает.
— Откуда они были?
Может, из Ужгорода, а может, откуда-нибудь еще.
— Вам ответили на ваше прошение? А бумаги хотя бы вы получили обратно?
Нет, они никогда ничего не получали.
— Как же можно давать документы незнакомым людям?
— Все это делали.
— Кто это — все?
— Ну, все, тысячи.
Люди бросились к Лейбовичу, барышня четыре дня стучала на машинке и не успевала.
— Сколько вы платили за одно заявление?
— Пятнадцать крон.
Сущая дешевка! Пан нотар брал шестьдесят. Компенсировалось это, вероятно, количеством, хотя и тут надо осторожно обращаться с цифрами и не принимать «тысячи людей» за чистую монету. На машинке барышня строчила четыре дня, этому, пожалуй, можно поверить. А по прошествии четырех дней господа и барышня куда-то исчезли, и село о них уже больше никогда не слышало. Ни о них, ни о своих бумагах, ни о тысячах крон, которые оно подарило им.
Я принялся расследовать это дело.
Да, в Колочаве все помнили машинку, панов и девицу. Но кто они были и откуда — никто не знал. Нотар ничего не мог объяснить, так как в те времена здесь был другой. Священник — тоже, — по той причине, что уже несколько месяцев находился под следствием, и село пребывало без духовного пастыря. Я запрашивал Ужгород. «Нет, — сказали мне хорошо информированные люди, — правительство не проводило подобных мероприятий. Вероятно, это дело рук какой-либо политической партии. Или, возможно, просто аферистов».
Определенно это были аферисты. Только, кажется, не из тех, кого можно схватить за шиворот и позвать жандарма. Скорее они были из той же породы, что и священник Кирай, пан школьный инспектор Дубровский или некоторые нотары.
Кое-какой свет пролился на эту историю только через два года, уже нынешним летом, когда земская управа разослала всем окружным управлениям циркуляр, в котором власти требовали усилить контроль за деятельностью служащих различных объединений инвалидов, предписывали предавать огласке злоупотребления и призывали растолковывать клиентам истинное положение вещей.
В этом циркуляре, вышедшем слишком поздно, чтобы быть полезным моим четырем кальновецким знакомым, говорится буквально следующее:
«Секретари и прочие должностные лица часто злоупотребляют своим служебным положением. Товарищества служат им источником и средством бесчестного добывания денег, которые они получают не только путем незаконного писания бесцельных прошений и обещанием бесполезных ходатайств, но часто и посредством прямых угроз и подлогов. Так, например, новых членов объединений они вынуждают платить членские взносы за несколько лет. Бо́льшую часть этих денег они оставляют себе, объединения же получают лишь незначительные суммы; они обманывают членов объединений, обещая присуждение первой группы инвалидности, самые высокие пенсии; принимают плату за медицинские осмотры, которые проводят сами, занимаются вымогательством «добровольных» взяток, достигающих временами тысяч крон…» и т. д.
Что-нибудь подобное случилось и в Колочаве? Пожалуй. Если голодом верховинца кормится столько людей, почему бы не покормиться и чиновникам объединений инвалидов?
Я продолжаю допрашивать трех мужиков. Неожиданно я замечаю, что руки Анчи Буркаловой становятся неспокойными и пальцы начинают нервно бегать по кофте. Одна из этих старчески жилистых рук мнет у шеи какой-то воображаемый предмет. Вдруг она звонко ударяет себя по лбу.
— Ох, дурная баба! Ведь есть же у меня бумаги!
— Ну, очень хорошо! — говорю я. — Выходит, что вы не все отдали тем панам!
— Ах, я!..
— Ну, вот видите! — смеюсь я вместе с ней.
Каждая морщинка на ее лице полна радости, и черные камешки ее глаз светятся. Нет, никто не лишил ее этого чудодейственного документа! Он дома. У хозяина. В сундуке. Стоит его только предъявить куда следует, и она будет получать пенсию!
— Наверное, Буркалова, вы знаете, о чем говорится в той бумаге?
— Знаю, знаю…
— Ну, расскажите мне!
— Это прошение, что написал мне пан нотар.
— То самое, за которое вы заплатили шестьдесят крон?
— То, то…
Старушка еще сияет, а у меня зарождаются сомнения.
— Почему же оно у вас дома, Буркалова? Вам его вернули из ведомства?
— Нет, мне его дал пан нотар.
— Когда?
— А как написал, так и дал.
— Значит, пан нотар никуда его не посылал?
— Нет.
Вспыхнувшие было глаза Анчи Буркаловой снова угасают. Мой затянувшийся допрос вселяет в нее тревогу. Морщинки ее снова ложатся печальными складками.
— А вы посылали его куда-нибудь?
— Нет, — отвечает Анча Буркалова опасливо.
О боже! Она допустила какую-то оплошность в свершении этого таинственного обряда и теперь за это будет наказана?
— Что же вы сделали с этим прошением?
— Спрятала.
— Дома? В сундуке?
— Да… — И это «да» звучит крайне несмело.
Ужасно!
Ответа на прошение, за которое была отдана телка, то есть последнее, что у нее оставалось, она ждет уже шесть лет. Но чего она ждет — чуда? Не думает ли Анча Буркалова, что пенсию ей принесут ангелы небесные? Она сама не знает. Какими, видимо, всемогущими и таинственными для этих людей, сбитых с толку, кажутся любая официальность, любой клочок исписанной бумаги!
— Принесите мне ваше прошение, Буркалова.
Старушка сбегала за документом. На половинке листа написано: «Я, Анча Буркалова-Игнатишина из Колочавы, прошу определить мне пенсию за погибшего на войне сына Грегора Игнатишина». И все. Точка. За шестьдесят крон.
Кошмар!
Я провожу оппортунистическую политику и от имени четырех бедняков пишу письмо руководству аграрной партии. Примерно такого содержания: мы, такие-то и такие-то. Наше материальное положение такое-то и такое-то. Речь идет об известных вам пенсиях. Помогите нам! Все мы избрали вас своими депутатами. Поэтому ваш долг отстоять наши интересы. Если же вы ничего не можете для нас сделать, то посоветуйте по крайней мере хоть что-нибудь, чтобы мы не отдавали напрасно свои последние крохи тем, кто нас обманывает.
И подписи. Один из моих гостей научился в армии писать свою фамилию, остальные ставят три крестика, царапая пером бумагу и окропляя ее крошечными кляксами. Но это не имеет значения. Все наше послание не что иное, как удобное ut aliquid fecisse videatur, которое в секретариате аграрной партии выбросят в мусорную корзинку. Не иначе…
Затем на голубом конверте Зиллера я пишу адрес, вручаю наиболее смекалистому из них, тому, который умеет подписываться, крону и говорю: «Когда пойдете в Синевир, — не обязательно это делать завтра или даже на этой неделе, — время терпит, — купите на почте марку за крону, прилепите ее в этот уголок, смотрите, — вот сюда, и бросьте письмо в почтовый ящик». От Кальновца до Синевира, то есть до ближайшей почты, восемнадцать километров.
— Вы поняли меня?
— Да.
В тот день я взобрался на полонину.
— Почему вы не пишете о том хорошем, что дала наша республика Закарпатью? — спрашивают меня мои пражские знакомые. А один мой коллега так поддался нахлынувшему на него первому бесконтрольному восторгу по поводу прелестей этого края, что свою статью о Закарпатье назвал: «Край улыбок». Что ж, пишите о том хорошем, что дала республика Закарпатью. И улыбайтесь!
В домик лесника Зиллера я вернулся уже в сумерках. В полутемной комнате, чуть освещенной слабым, колеблющимся светом, меня ждал тот самый мужик, который умеет писать свою фамилию.
— В чем дело?
— Пришел попросить вас, чтобы вы приклеили марку. Он вынимает из кармана голубой конверт с письмом к аграрной партии и заботливо завернутую в тряпицу почтовую марку.
Человек, попадающий в эти места, привыкает ничему не удивляться. Точно так же, как давно привыкли к этому местные жители…
— Откуда вы взяли марку? Ходил за ней в Синевир.
— Пешком?
— А то как же?
— И теперь снова принесли письмо в Кальновец? Почему же вы ее сами не наклеили?
— Боялся!
— Чего?
Вопрос излишний! Разумеется того, чтобы из-за какой-нибудь ошибки в обряде отправления письма не испортить всего дела.
— А почему вы не попросили почтмейстера прилепить ее?
— Боязно было…
— Почему? Он с вами грубо обошелся?
— Нет.
— Он нехороший человек?
— Нет.
— И вы снова теперь отмахаете восемнадцать километров туда и восемнадцать обратно?
— Да.
Тридцать шесть километров из-за марки. Тридцать шесть — из-за письма, которое и ломаного гроша не стоит!
И после этого — сохраняйте спокойствие! Говорите себе, что это наследство хозяйничанья мадьярской gentry! Пишите о том хорошем, что сделала республика для Закарпатья! Умиляйтесь тому, что по новым шоссейным дорогам снуют господские автомобили, что несколько улучшилось гражданское судопроизводство, что работает несколько вполне сносных чешских школ! Восхищайтесь прекрасной архитектурой административных зданий и деловых кварталов Ужгорода и Хуста! Наслаждайтесь фотографиями в журнале «Пестры тыдень»{213}, на которых русинские новобранцы весело хохочут в окнах железнодорожных вагонов!
То, о чем я рассказал, происходило в начале лета 1932 года.
Ровно через год я снова приехал в Колочаву. За это время я забыл о четырех кальновецких бедняках, но Анча Буркалова дала о себе знать сама. Она выглядела измученной и, когда попыталась что-то сказать, горько разрыдалась.
— Чем все это кончилось, Буркалова? Ничем, конечно?!
— Ах, худо, худо все… Украли у меня мою пенсию.
— Как украли? Кто ее у вас украл?
— Ох, кабы знать… Не то нотар, не то староста, не то племянник!
— Как так?
Оказалось, что это было неверно. Никто ничего у нее не крал. Но пока мне удалось выяснить истинное положение вещей, прошло немало времени.
Аграрная партия не выбросила наше письмо. Однажды утром в Кальновце появились жандармы. Они ходили из хаты в хату, всюду внося смятение и наводя ужас. Однако они никому не грозили штыками и никого не увели с собой закованного в кандалы. Просто они пришли проверить правильность наших показаний.
Осенью Анчу Буркалову вызвали в Севлуш на медицинский осмотр. До Севлуша — больше девяноста километров.
— Как вы добрались туда?
Конечно пешком. Хозяин положил ей в узелок кусок кукурузной лепешки. Ночевать просилась в первую попавшуюся хату.
Дорога в оба конца заняла у Анчи Буркаловой шесть дней. Мне говорили потом, что она могла бы и не ходить пешком. Нужно было только представить соответствующий документ и тогда бы ей выслали денег на дорогу. Но откуда Анче Буркаловой знать об этом? Кто мог растолковать ей что к чему? Кто убедил бы ее не бояться новых формальностей? Где взять ей денег на заявление? То ли дело пешком. Это гораздо проще!
В Севлуше она подверглась осмотру медкомиссии при земском комитете опеки пострадавших от войны. При условии, если Буркалова из сложного и длительного комплекса беганья, платежей, просьб ничего бы не упустила, ей нужно было еще доказать, что она потеряла трудоспособность по меньшей мере на двадцать процентов. Но комитет опеки потерпевших от войны не признал за ней этих двадцати процентов.
Зимой она получила заключение, датированное 22 ноября 1932 года, в котором приводились результаты медосмотра: «Вы признаны трудоспособной. В пенсии вам отказано».
Кажется, эта весть Анчу Буркалову нисколько не встревожила. Похоже на то, что неудача ее даже не обеспокоила и остальных трех, что приходили тогда с ней к леснику Зиллеру. Ведь ее дело в руках знаменитого пана, который сильнее самого окружного начальника. Это, повидимому, послужило также причиной того, что, когда в конце зимы Буркалова была вызвана в Ужгород на земскую медицинскую комиссию, соседи одолжили ей на дорогу денег.
В Ужгороде Буркалову снова осмотрели. Она получила заключение от 6 марта 1933 года. Ужгородский врач констатировал: «больные зубы, хронический бронхиальный катарр, эмфизема легких, общая дряхлость». В заключении также было сказано: «Согласно мнению врача-специалиста и решению комиссии трудоспособность потеряна на 75 %…»
Мнения различных врачей и тем более, конечно, квалифицированных врачей разнятся между собой.
— Как возможна такая разноголосица? — спросил я у доктора, по случайному совпадению у того самого, который признал за Анчей Буркаловой ее 75 процентов инвалидности.
— Нельзя называть это разноголосицей, — сказал он. — Мы в Ужгороде обладаем большей компетенцией и потому можем быть более снисходительными. А коллега в Севлуше просто оберегал интересы государственной казны. К тому же все бабы в Закарпатье бледные и тощие. У всех у них больные бронхи. Ни у одной нет зубов. Все работают.
Это, разумеется, верно… Но вскоре после Ужгорода на Анчу Буркалову свалилась новая беда. Выяснилось, что пенсию имеют право получать только чехословацкие граждане. И хотя Буркалова родилась в Кальновце и, насколько она знает, никто из ее предков не жил в других местах, чехословацкого гражданства или по крайней мере документа о гражданстве у нее нет. Нужно было еще только хлопотать о нем. Пан нотар потребовал за заявление сто крон. Соседи дали ей и эту сумму.
И вот после этого случилось большое несчастье… Анча Буркалова опять горько плачет… Две недели назад на ее имя пришло письмо, в котором сообщалось, что просьба ее удовлетворена. Но пан нотар говорит, будто он отдал письмо старосте. Староста твердит, что передал его племяннику Буркаловой, а племянник отпирается.
— Ох, и горюшко же, родимый… Никак до правды не добраться. Теперь мою пенсию получает кто-нибудь другой. Помогите мне!
Однако нужно знать, как в Колочаву, село с населением в две тысячи человек, доставляется почта. Собственно о какой почте можно говорить, если начальник сельского лесоправления и фининспектор посылают сами в город за письмами?! Какое-нибудь торговое уведомление для Герша Вольфа да несколько открыток панам учителям — вот и вся почта.
Хотя Колочава и соединена с хустской железнодорожной станцией прямым шоссе, своего почтового отделения она не имеет, и корреспонденция в Колочаву идет самыми странными путями. С запада в Хуст она прибывает скорым поездом в половине второго дня. На следующее утро за ней приезжает автобус из Волового. На третьи сутки крестьянская телега везет ее через горы в Синевир, где находится почтовое отделение, обслуживающее несколько сел, в том числе и Колочаву. На четвертый день, — если вам везет, а то и на пятый, — если вам не везет, — за письмами приходит колочавский почтальон Шемет, который появляется в Синевире четыре раза в неделю. Синевирский пан почтмейстер кладет ему письма в сумку, запирает ее на ключ, и старый Шемет топает двадцать километров до Колочавы к пану нотару. У того есть свой ключик. Он открывает сумку, осматривает ее содержимое, и только потом дети Шемета, если им, конечно, удается улучить свободную минутку, разносят письма адресатам. Но когда случайно в этот день пана нотара не оказывается дома, то сумка остается неоткрытой и писем приходится дожидаться до завтра, если, разумеется, завтра — паче чаяния, не воскресенье или какой-нибудь праздник, так как ни Шемета, ни его детей никто не заставит грешить против божьей заповеди. Может, это кого-нибудь не устраивает? Ну, тогда пусть он сам ходит в Синевир за корреспонденцией! Почтальон Шемет вовсе не почтальон, а служащий сельской управы, доставляющий нотару письма по собственному желанию, а посылки и бандероли за чаевые. И разве кто-нибудь вправе требовать от его детей, чтобы они из-за письма Анчи Буркаловой лезли куда-то к черту на кулички? Эдак они истопчут сапог на сумму большую той, какую, зарабатывает их отец. Итак, пан нотар отдал письмо папу старосте, а тот утверждает, что поручил колочавскому племяннику Анчи Буркаловой передать его тетке, если в воскресенье будет хорошая погода и та придет в церковь. Племянник же клянется, что ему никто ничего не поручал, и, таким образом, никак не установить, кто же все-таки лишил покоя кальновецкую старуху: то ли дети племянника, то ли кошки пана старосты.
Раз уж взялся за дело — надо довести его до конца. И я отправился к пану нотару. Русин по национальности, он, как и его предшественник, переведенный на новое место, относился к числу старых австрийских служак.
— Пусть Буркалова не сходит с ума! В письме только подтверждалось, что ее прошение относительно признания за нею чехословацкого гражданства благополучно дошло до места назначения. Беда со здешним народом!
— Никто, Буркалова, не украл вашу пенсию. Говорят, вы должны ждать.
Осенью этого же года мы снимали в Колочаве картину{214}. Никаких сдвигов. Анча Буркалова ждет.
Через год, летом 1934 года, то есть по прошествии двух лет после того, как мы написали письмо аграрной партии, я снова попал в Колочаву.
В первое же погожее воскресенье, когда из Кальновца можно было спуститься в долину в церковь, передо мной предстала Анча Буркалова.
— Дай вам бог доброго здоровья и долгой жизни!
Теперь Анча Буркалова получает пенсию. Пятьдесят крон ежемесячно. Из расчета: «1) Денежное пособие в год — 400 крон, 33 кроны 33 геллера в месяц и 2) пятидесятипроцентная надбавка на дороговизну, то есть 200 крон ежегодно, или 16 крон 17 геллеров ежемесячно».
— Слава богу! Слава богу! — восклицает Анча Буркалова.
И все-таки она опять чем-то встревожена. Кто-то сказал ей, что она имеет право получить пенсию и за прошедшие годы и что это — большая сумма. Она ходила к пану нотару, но тот потребовал с нее пятьсот крон. И вот теперь Буркалова пришла ко мне узнать — правду ли ей говорили?
— Я в этих делах не разбираюсь, Буркалова. Вот будете в Воловом и посоветуйтесь там с адвокатом. А скажите мне, — за что пан нотар требует с вас пятьсот крон?
— За то, что он выхлопотал мне пенсию, и за то, что ему со мной одна морока.
— Вы ему уже заплатили?
— Где же мне взять столько денег?! Была я еще у одного, который тоже умеет писать, просила его написать мне прошение, а он говорит — не хочу браться за это. Боюсь, говорит, пана нотара.
— Серьезно, я в этом не разбираюсь! Надо бы вам сходить к адвокату.
— Ну, да и так слава богу!
Но, желая получить информацию, я все-таки еще раз побывал у нового нотара.
— Собственно что это такое — государственная пенсия или благодеяние? И почему Буркалова получает пенсию, а остальные три крестьянина не получают?
Оказывается, эти трое и не получат ничего. Они опоздали с заявлениями — не подали их в срок, то есть до 31 декабря 1923 года.
— Ну, а Буркалова во-время подала заявление?
— Конечно. Мой предшественник лично писал ей. Эти люди сами никогда ничего не знают.
— Буркалова во-время подала заявление???
— Да.
— А скажите, пожалуйста, как же случилось, что пенсию ей дали только сейчас, одиннадцать лет спустя после подачи заявления?
— Это печальное недоразумение. Таких случаев сколько угодно. В те времена заявлений была уйма. Окружные канцелярии пересылали их управлению по гражданским делам, вернее, отделу социального обеспечения этого управления, нынешнему ведомству по опеке над пострадавшими от войны. Там какой-нибудь недобросовестный чиновник положил эти заявления под сукно, и вот только теперь дошла до них очередь.
— Чисто случайно? Выходит, мы зря писали письмо? Послушайте, пан нотар, но выходит, Буркалова права́ и ей законно причитается пенсия, которую задерживали все предыдущие годы. Это почти семь тысяч крон!
— Она абсолютно неправа и ничего не получит.
Так ли это на самом деле? Следует ли мне сказать Анче Буркаловой об этом и тем самым нарушить ее спокойствие, направить к адвокатам и в учреждения, вынудить делать долги? Или не следует ничего говорить, а предоставить ей возможность мирно наслаждаться своим богатством?
Перевод Н. Порочкиной и И. Иванова.
РАЗБОЙНИКИ{215}
У народа Прикарпатья нет своих национальных традиций, нет письменной истории. Но можно не сомневаться, что рано или поздно она будет создана; придет время — и где-нибудь в средневековье отыщется даже некий богатый землевладелец (мужественный полководец, основатель монастырей, покровитель наук и искусств), которому поставят конную статую на одной из площадей Ужгорода. Имя его будет произноситься так часто, так почтительно и благоговейно, со столь многозначительными намеками и многочисленными титулами, что оно вскоре окутается мистическим туманом и уже само по себе окажется способным пробуждать гамму чувств, необходимую в интересах современной или будущей политики. Но этого еще не случилось, и у народа Прикарпатья нет официальных героев.
И все же у него есть свои герои. И они гораздо привлекательнее всех этих средневековых рыцарей, восседающих на конях, вдев ноги в стремена, с мечами на боку. Подлинные герои Прикарпатья — это разбойники. Они живут в воспоминаниях, в песнях, в народных преданиях и рассказах. Скажем прямо: достоверность их существования ничуть не большая, чем официальных героев. Человеку свойственно неукротимое стремление к справедливости. Он таит в себе глубокий протест против строя, который отказывает в ней людям. И неважно, обвиняет человек в несправедливости общественное устройство или сам порядок вещей в этом мире. К тому же людям свойственно удивительное пристрастие к воспоминаниям, вымыслу и различным превращениям, в них всегда живет желание, хотя бы в сказке, придать себе черты, которых им недостает. Все вместе это и составляет основу легенд о героях всех времен, всех вероисповеданий, наций и классов. Относится это и к разбойникам, которые были героями бедного люда в средние века. И если смотреть на дело только с такой точки зрения, нам, право, не пришлось бы слишком задумываться, как быть с реальным существованием этих героев. Ведь куда интереснее заглянуть в мастерскую человеческого духа (или по крайней мере попытаться сделать это), чем исследовать деятельность какой-нибудь исторической личности, заведомо зная, что она не стоит вашего внимания. Но мы изучаем Прикарпатье. И здесь нам многое смогут объяснить и сами разбойники и легенды, которые создал о них народ.
Кто такие разбойники?
Прежде всего это корыстолюбцы. Часто — люди с неясными политическими и социальными устремлениями, свойственными простому народу. Всегда фигуры трагические. Ибо они никогда не могли даже приблизиться к своим целям и не пошли дальше первых шагов на пути собирания сил и организации, которая только и делает возможным превращение толпы в войско и атамана в вождя. И всегда это жертвы, потому что умирали они от руки палача, из-за коварства друзей или измены возлюбленной.
Закон видит в них преступников. Это бунтари, которых не терпит ни один общественный строй. Убийцы, поджигатели и грабители.
Официальное право их осуждает, но природное правовое чутье угнетенного люда оправдывает. Ибо они — выразители народного стремления к справедливости и жажды слабых стать сильными, пусть только на минуту и ценой собственной жизни; они — воплощенная ненависть и месть народа.
Уже много столетий нет разбойников на Западе. Основатели дворянских родов и монархических династий, собственно, уже не разбойники, поскольку, достигнув своей цели, они потеряли право на это почетное звание и исчезли из памяти народа. А с настоящими разбойниками быстро окрепшая на западе Европы государственная и монаршья власть сумела справиться. Совсем не то на Балканах и в Карпатских горах. И если балканские гайдуки{216}, постоянно вовлекаемые в политическую борьбу, уже в минувшем столетии превратились в военную и политическую организацию, то прикарпатские разбойники сохранили свой первоначальный облик и до наших дней. Украинский народ называет их «опришками». Это как-то более резко, чем в чешском языке, подчеркивает разницу между грабителями, которых привлекает только добыча, и разбойниками, то есть подлинными или мнимыми народными мстителями и борцами за социальную справедливость.
Современное Прикарпатье — край мало населенный. Его дремучие леса, скалы и пропасти как бы нарочно созданы для разбойников. Особенно удобны в этом отношении Черные Горы на востоке Прикарпатья, которые до недавнего прошлого лежали на рубеже трех государств — Польши, Румынии и Венгрии. Здесь разбойники могли найти достаточно убежищ, а, спасаясь от преследования, за несколько часов достигали территории другого государства.
Разбойничество в Карпатских горах и областях, примыкающих к ним, имеет давнюю традицию. Уже в конце пятнадцатого столетия история называет имя буковинского крестьянина Мухи, грабившего дворянские поместья между Галичиной и Рогатином и захватившего на короткое время городок Снятин. Под его началом было девятьсот человек. А с такой силой в ту пору можно было осуществлять и политические планы, и уж во всяком случае по численности его дружина превосходила обычные разбойничьи шайки. Против Мухи было направлено дворянское ополчение Галичины, но схватить разбойника не удалось. Только позднее, в полном соответствии с мотивом, вновь и вновь повторяющимся в разбойничьих легендах, он был предан своей возлюбленной, взят в плен и замучен в Кракове.
Люди, бежавшие в горы от панского гнета, чумы или войны, дезертиры из самых различных армий, наемные солдаты, которым не заплатили жалованья, и, разумеется, преступники, спасающиеся от дыбы и виселицы, — вот из кого состоят отряды карпатских разбойников. Они разоряют и поджигают панские поместья, мстят за свои обиды, истребляют панов и богатых евреев, грабят и убивают купцов, взимают большие денежные откупы, завербовываются в войска разных магнатов, а иногда выступают и в качестве действительно революционной военной силы, как это было во время восстания Богдана Хмельницкого против польской шляхты. Так обстояло дело в течение шестнадцатого и семнадцатого столетий, и разбойничество становится характерным явлением для края, расположенного у подножья Карпат.
Но своей наибольшей славы оно достигло в середине восемнадцатого столетия. Это эпоха наиболее тяжелой эксплуатации крестьянства и вместе с тем период глубокого политического кризиса в Польше, Венгрии и Румынии. В Польше после междоусобной войны Августа II со Станиславом Лещинским и при Августе III царит анархия; в Венгрии догорают последние очаги восстания Ференца II Ракоци{217}, а вторая турецкая война и вооруженная борьба Карла VI за престол{218} вызывает в стране новые беспорядки; Румыния после войны с Россией охвачена волнениями{219}. А поскольку войны поглощают и много денег и много людей, угнетение крестьян становится невыносимым. В ту пору, области по обе стороны Карпат кишат разбойниками. Уже тогда назревают социальные и моральные предпосылки восстания против польской шляхты, для «резни» 1768 года{220}. Во время этой страшнейшей вспышки народного гнева за короткий период было убито двести тысяч панов и их прислужников, богатых евреев и римско-католических попов. В эту эпоху вырастает фигура разбойника Олексы Довбуша, народного героя, наиболее правдоподобного и исторически достоверного Яношика{221} Полонинских Карпат, до сих пор прославляемого в многочисленных легендах, сказаниях, песнях.
О настоящем Олексе Довбоше, Добоше, Довбуше или Довбущуке у нас есть довольно подробные сведения из протоколов станиславского суда. Сам Олекса никогда не судился, но в Станиславе велось кровавое следствие над членами его дружины и преемниками.
Карпатским разбойникам, в том числе и Олексе Довбушу, посвятил свою статью «Опришки» доктор Юлиан Целевич{222}. Она напечатана в XIX томе «Русинской исторической библиотеки» (Львов, 1897), и исторические даты настоящего очерка заимствованы из нее.
Олекса Довбуш, сын печенежинского батрака, рано уходит в разбойники и уже в 1738 году возглавляет группу «черных хлопцев». Он разоряет и поджигает дворянские поместья, убивает и грабит дворян, богатых евреев и купцов. Крестьян он не обирает, но иногда убивает их или поджигает дома либо из мести, либо за отказ подчиниться его распоряжениям. Случается, что он нападает и на целые деревни, жители которых позволили завербовать себя в отряды «смоляков»{223} или «пушкарей»{224}, посылаемые для его поимки. Сначала Довбош разбойничает вместе со своим братом Иваном, но весной 1739 года, в ночь на страстную субботу, в родной деревне между ними произошла пьяная драка. Олекса был ранен в ногу и с тех пор хромал до самой смерти — подробность, которая неоднократно встречается в преданиях о нем. Когда оба брата лежали в корчме, пьяные до бесчувствия, произошел случай, частично объясняющий нам, почему Олекса Довбош, под началом которого никогда не было более тридцати человек, мог в трех государствах грабить и сеять ужас в течение целых семи лет (эта цифра также часто повторяется в посвященных ему легендах). Как раз в ту пору через Печенежин проезжал панский подстароста Рушель. Еврейка — хозяйка корчмы — рассказала ему, в каком беспомощном состоянии находятся оба разбойника: их мог бы связать и малый ребенок. Но Рушель ответил ей: «Зачем я стану их связывать? Мне они никакого вреда не причинили». Как это следует из других судебных протоколов, панский служащий Рушель был подкуплен Довбошем. После ссоры братья разошлись. Олекса остался разбойничать в Кутском округе и на Гуцульщине, а Иван отправился к бойкам{225} в Галичину, где и умер. Перед смертью он завещал церкви свой разбойничий нож, на одной стороне рукоятки которого было вырезано: «Иван Довбущук, славный разбойник с гор, оставил перед смертью этот нож церкви в Бенешках», а на другой стороне: «Этим ножом Довбущук убил…» — имя неразборчиво.
Архивы города Станислава сообщают о двадцати семи кровавых преступлениях Олексы Довбуша, совершенных им только за два года разбоя, то есть с 1738 по 1740 год. С некоторыми вариациями это одно и то же: убийства, поджоги, налеты на поместья, грабежи. Отряд Довбоша не растет, число его хлопцев не меняется. Очевидно, серьезных политических и социальных целей он себе не ставит. Это корыстолюбец и мститель. Однако за социальные обиды, нанесенные его классу, Довбош мстит и без корыстных намерений. Часто он творит расправу только из благородных побуждений, когда личные его интересы даже не затронуты.
В летописях львовских монахов-бернардинцев{226} засвидетельствован характерный в этом отношении эпизод, касающийся нападения на Борщово, поместье пана Константина Злотницкого близ Бучача в мае 1744 года. Довбош жег руки пана Злотницкого, сыпал ему на тело под одежду раскаленные уголья и отказался от предложенного выкупа: «Я пришел не за деньгами, а по твою душу, чтобы ты больше не мучил людей». Олекса убил пана, его жену и малолетнего сына. В заключение львовские монахи отмечают, что Злотницкий был жестоким паном и загубил много людей.
Но в характере Довбоша есть и мягкость чувств непосредственного и близкого к природе человека, которая только на первый взгляд кажется несовместимой с кровавой жестокостью его ремесла и примитивностью социальных устремлений. Вот еще один эпизод, зафиксированный в протоколе станиславского суда… Польский полковник Пшелуский, преследуя Довбоша, с отрядом «смоляков» зашел далеко в горы. Довбош устроил им западню. Но когда разбойники, выбрав себе в жертву по ополченцу, тщательно прицелились, Довбош дал знак не стрелять в преследователей, «потому что у каждого из них есть жена и дети». А польский поэт Франтишек Карпинский{227} рассказывает в своей автобиографии о факте, который имел место при его рождении, в октябре 1741 года. Отец поэта, пан Онджей, получив известие, что на него идет Довбош с двенадцатью хлопцами, наскоро собрал все ценное, что мог с собой унести, и бежал в лес. Дома он оставил жену, корчившуюся в предродовых муках, и повивальную бабку. Уходя, он приказал только, чтобы Довбоша угостили хлебом, сыром и водкой. Когда разбойники вошли в дом, роженица от ужаса не могла говорить, но бабка, взяв в руки новорожденного, сказала: «Он родился час назад. Помните о боге, больной женщине и ребенке». Довбош дал бабке несколько талеров, принял с хлопцами угощение, ничего не взял и только попросил молодую мать, чтобы она дала ребенку его имя — Олекса. (Это пожелание, правда, не было выполнено.)
Об ужасе, который Довбош наводил на польскую шляхту, свидетельствует грамота тарнопольского коронного гетмана, в которой он угрожает полным уничтожением деревень, оказывающим поддержку разбойнику. О том же свидетельствует и заседание сейма Галичины 10 сентября 1743 года: депутаты вынесли благодарность гетману за организацию ополчения для борьбы с Довбошем и призывали его и в будущем пресекать преступные действия этого «дерзкого змия». Против тридцати человек дружины Довбоша был отправлен из Галичины более чем двухтысячный отряд «смоляков» и «пушкарей» под командованием полковника Пшелуского. Преследовали Довбоша и венгерские власти. Многие из его товарищей были убиты, многие схвачены и подвергнуты пыткам, еще более страшным, чем те, которым некогда подвергались жертвы разбойников: пленников жгли свечками и раскаленным железом, вгоняли им в тело гвозди, перед казнью отрубали конечности, — все это было самым обычным проявлением панской мести. Но Довбош научился быть осторожным. Он постоянно переходил с места на место, появляясь то в районе Черных Гор в Прикарпатье, то на Венгерской равнине, то в Польше, то в Румынии. Даже своим ближайшим приятелям он никогда не говорил, где заночует, где будет зимовать. В 1744 году, за год до смерти, он зазимовал в Венгерских Карпатах. Там, в прикарпатских деревнях, он вербовал в свой отряд новых «черных хлопцев» и считал себя настолько в безопасности, что вскоре переселил в Ясиню даже свою жену. Но и здесь его преследовали венгерские власти; он бежал.
Погиб Довбош 24 августа 1745 года в селе Космач. «Из-за неверной возлюбленной! Когда он шел добывать Кутский замок и по пути остановился у нее». Так, согласно старинным образцам, поется об этом в песнях и рассказывается в народных преданиях. Но случилось это иначе. Космачский крестьянин Степан Дзвинка после смерти своей первой жены отказался отдать ее отцу приданое. Тот попросил Довбоша о помощи, и Олекса отправился с хлопцами в Космач, чтобы, если понадобится, вернуть приданое силой. Смерть Довбоша подробно описана в протоколах допроса Степана Дзвинки, дополненных со слов Васыля Баюрака — члена дружины Довбоша, а после его смерти — атамана, который девять лет спустя был схвачен, подвергнут пыткам и казнен в Станиславе.
Олекса пришел с хлопцами в Космач ночью. Жена и мать Дзвинки не хотели впустить Довбоша в хату, потому, мол, что не знают его, а Степана нет дома. Но тот был заранее предупрежден и, едва заметив в окно Довбоша, спрятался на чердаке с ружьем наготове. Довбош налег на дверь, немного приподнял ее и вломился в сени. В ту же минуту Дзвинка выстрелил и попал Довбошу в спину. В наступившей суматохе обитателям дома удалось бежать. Довбош лежал на земле, над ним склонились хлопцы. Предводитель был тяжело ранен. Превозмогая боль, он приказал поджечь хату Дзвинки (сделать это не удалось, так как, вероятно, подвело огниво). Олекса попытался идти с хлопцами к лесу. Однако вскоре совсем ослабел, и двое из них, Баюрак и Орфенюк, понесли атамана на руках. Но и это продолжалось недолго. Из других источников известно, как поступали с раненым товарищем вечно спешившие «опришки», жизнь которых и судьба шайки всегда находились под угрозой: они относили его в укромное место, прикрывали хвоей, оставляли ему немного водки и табаку и расставались с ним. То же они сделали и с Довбошем. Прощаясь, Олекса подарил свое ружье Баюраку, а пистолет Орфенюку.
Степан Дзвинка всю ночь прятался с семьей в зарослях травы. Утром он поднял на ноги деревню, собрал людей — с ним пошли также священники — и отправился по следам Довбоша. Олексу они нашли еще живого, одетого в просмоленную, пропитанную жиром рубаху (пастухи в горах и теперь просмаливают рубахи, чтобы охранить себя от насекомых и от дождя). Дзвинка спросил Довбоша, кто подговорил его на это нападение. «Не все ли равно, — ответил Довбош. — Такая смерть была мне суждена». Священники предложили ему исповедаться и причаститься. Олекса отказался: «Я исповедался и принял причастие, когда вступал на этот путь». У него пытались узнать, где он зарыл свои богатства. «На полонинах в Черных Горах. Знает то место бог да я. Польза от моего клада будет земле, а не людям». Его донесли до Космача, и здесь он умер. При нем нашли немного денег, золотой крестик, похищенный из богородчанского замка, и серебряную пороховницу, принадлежавшую когда-то пану Злотницкому. Эти вещи не сохранились. Тело Довбоша положили на телегу и возили от села к селу. Потом его выставили для обозрения в Коломыйской ратуше, а сообщение о смерти Довбоша публично зачитывали в деревнях. Степан Дзвинка в награду получил вольную и был освобожден воеводой Яблонским от податей и оброка.
Такова действительная история разбойничьего предводителя Олексы Довбоша.
Однако после его смерти разбойничество в Карпатах не прекращается: в архивных документах мы находим длинный список имен разбойников, многие из которых жили уже в XIX столетии. Больше того — разбойничество становится организованным. Примером может служить шайка Ивана Бойчука, зажиточного крестьянина, друга Довбоша и Баюрака. Ради денег он не убивал, нападал только на панские поместья, грабил иноземных купцов и брал откупные. Шайка эта, по-военному организованная, возглавлялась старшинами, у которых были точно разграниченные военные, снабженческие и финансовые обязанности. Все важные дела решались путем голосования. Несомненно, здесь мы имеем дело с явлением, перерастающим масштабы обычного разбойничества и приближающимся к той ступени, на которой атаман становится революционным вождем, а шайка — революционной организацией.
В Карпатах и близлежащих долинах появляются еврейские разбойники, поступки которых ничуть не менее жестоки, чем их собратьев других национальностей. В 1837 году был отдан приказ об аресте шайки Мойше Янкеля Рейзнера, по прозванию Шварцнер, или Пуцлик, Сруля Менделя Шора, Герша Мендона и Берла Леви, по прозванию Левер. Кроме того, евреи вступали в союзы со всеми разбойничьими предводителями прошлого (в том числе и с Довбошем). Именно они натравливали атаманов на своих богатых единоверцев и готовили нападения на них. До сих пор в Карпатах живут предания об еврейских разбойниках.
Вероятно, стоит упомянуть еще о смерти друга Довбоша — Васыля Баюрака. Главным образом из-за одной подробности его казни, которая в различных вариантах повторяется в разбойничьих преданиях и песнях. О ней рассказывает в своей автобиографии и поэт Франтишек Карпинский, тот самый, чье появление на свет застал Олекса Довбош: «Первая казнь, которую я в ту пору увидел и которая сильно на меня подействовала, происходила в Станиславе. Казнили одного из двенадцати хлопцев Довбоша, разбойника по имени Баюрак, который был выбран предводителем после смерти Довбоша. По пути к месту казни он попросил дать ему пастушью дудку, любимый инструмент горцев, и стал наигрывать на ней грустные горские думки». Сначала Баюраку отрубили по локоть руки, потом тем же топором отрубили голову (очевидно, в память об армянском купце, с которым точно так же поступила когда-то шайка Баюрака). Тело его было четвертовано, голову и конечности подвесили к виселичной перекладине.
Народ любит своих героев. И люди по обоим склонам Карпат еще сегодня вспоминают о своем Довбуше (так его имя произносят в Прикарпатье).
«Он казнил за людскую кривду». — «Был жестоким к панам, а к простым людям милосердным и ласковым». — «У богатых брал, а бедным давал». — «Пока он был жив, паны его боялись — лучше стали, и бедному люду было легче». — «Появится еще на свете новый Довбуш».
Это уже не Олекса Довбуш, каким он был в действительности. Это легенда. Или лучше сказать: глубокий вздох, который рождает легенду.
Преданий о Довбуше много. Народ связывает с его именем горы, деревни, замки, одинокие деревья и камни. Он убил дьявола, который поносил господа бога, и бог сделал его самым сильным из людей и неуязвимым в бою. Убить его могла только серебряная (или стеклянная) пуля, над которой двенадцать священников отслужили двенадцать обеден. Причем предварительно они должны были спрятать ее в яровую пшеницу, освящаемую духовным пастырем во время богослужения. Он нападал на замки, наказывал жестоких панов, раздавал мешками дукаты, возвращал бедным людям заклады от еврейских ростовщиков, наносил поражения регулярным войскам. На Кедроватом у него был каменный трон, с которого он отдавал распоряжения народу, и там же он зарыл клады. Если бы кто-нибудь нашел эти клады и выкопал, они ослепили бы своим блеском весь мир. Предала его возлюбленная, по имени Дзвинка (в легенде уже забыто, что Дзвинка — это фамилия, а не имя). Она, девять раз поклявшись молчать, выведала от него тайну серебряной пули. Могила его затеряна где-то среди скал Кедроватого, и когда в тень ее проникает первый весенний луч и касается сердца Олексы Довбуша, в мире наступает пасхальное воскресенье. Но придет время и появится новый Довбуш. Перед смертью закопал Олекса глубоко в землю свой мушкет. Каждый год он поднимается чуть-чуть ближе к поверхности, и, когда совсем выйдет из земли, это предсказание сбудется.
О смерти Довбуша сохранилась народная баллада. Суровая и прекрасная, жестокая и нежная, как Карпатские горы.
Она возникла, очевидно, в ту пору, когда воспоминания о действительном Олексе Довбуше еще живы были в памяти людей. Разумеется, и эта баллада повествует о возлюбленной разбойника и о выведанной ею тайне серебряной пули, продолжая тем самым старую традицию и утверждая, что не приличествует мужчине, если он желает чего-нибудь добиться в жизни, связываться с этим чертовым коварным племенем. Но смерть Довбуша, о которой мы знаем из протокола допросов Степана Дзвинки и Васыля Баюрака, баллада рисует удивительно верно. Автору ее известны местные названия, он знает о Степане Дзвинке и не путает его фамилии с именем. Известны ему и подробности. Он осведомлен о времени нападения на хату Дзвинки, о том, как Довбуш высадил двери, и о том, откуда раздался роковой выстрел, о приказании Олексы Довбуша поджечь дом, о двух хлопцах, несших раненого (имена, правда, здесь приводятся другие, но возможно, что это только прозвища Баюрака и Орфенюка), упоминает он и о хвое, которой был прикрыт Довбуш. Только об одном он ничего не хочет знать — о надругательстве над телом Довбуша, о том, как его труп возили от деревни к деревне, а потом выставили для всеобщего обозрения в Коломыйской ратуше. Между тем столь хорошо осведомленный автор или авторы наверняка знали бы факты, известные всей округе. Но в песне, разумеется, всего этого нет. Она милосердна к мертвому телу Довбуша и не допускает, чтобы в балладе произошло то, чего не должно было произойти в действительности. А это уже стилизация и искусство.
Песня о смерти Довбуша по сей день поется по обоим склонам Карпат. Автор этих очерков приводит ее в той редакции, которую дает в своем романе «Каменная душа» Гнат Хоткевич{228}.
По бескидским горным склонам, там, где лес шумит зеленый, Добош удалой гуляет, на валашку{229} припадает, добрых молодцев скликает. «Ой, вы, хлопцы молодые, вы, опришки удалые. Трубки, братцы, набивайте да совет мне добрый дайте: как нам лучше выбрать путь, чтобы Кута не минуть да в Косово завернуть. А теперь вы спать ступайте да ранешенько вставайте. Надевайте утром рано ваши новые жупаны, да узорчаты опанки, да шелковые портянки. Гей, вы, хлопцы молодые, вы, опришки удалые! Кто со мной на хутор к Дзвинке да к его красотке жинке? Перевалим через горы, доберемся к месту скоро. Ой же бегом, хлопцы, бегом, заметает стежки снегом». «Ой, Олекса, батька наш, может, слово молвить дашь: страшный сон приснился ночью, он измену нам пророчит. Мы немало промышляли, а измены не видали, не пойдем в Космач с тобою, сон грозит лихой бедою». «Ой, вы, хлопцы молодые, вы, опришки удалые. Только бабы снов боятся, не привык я отступаться. Вы со мною не ходите, только ружья зарядите, ждите здесь в лесу покуда… Я обратно мигом буду. Надо милую спросить, всех ли сможет накормить». Встал Олекса под оконце, а в окне пылает солнце. «Спишь, молодка, почиваешь иль к вечере накрываешь?» «Я не сплю, не почиваю, я к вечере накрываю. Хороша вечеря будет, вся округа не забудет». «Эй, кума, довольно спать, пустишь в хату ночевать?» «Я не сплю, Олекса, слышу, не пущу тебя под крышу. Мой Степан в отлучке снова, и вечеря не готова». «Отвори добром, родная, а не то — замки сломаю». «Понапрасну не старайся. Вон отсюда! Убирайся!» «Открывай скорее, ну-ка! Двери выломаю, сука!» «Семь годков мы миловались, иль забыл, как запирались. У меня замки стальные, двери крепкие, двойные, ключ серебряный, точеный, в окнах рамы золочены». «Я замки твои сломаю, двери с петель посрываю». Добош разом навалился, — Дзвинка в хате притаился. Добош крепче напирает, дверь кленовую шатает, все замки с нее сбивает. «Милый, я не виновата. Берегись! Степан проклятый ждет тебя под крышей хаты». Добош двери вышибает — с чердака Степан стреляет, в грудь Олексе попадает Чуть повыше сердца рана, кровь на свитке атамана. «Ой, Степане, ты за суку на Олексу поднял руку…» «А зачем ты с ней слюбился, что же сучке ты открылся? Ведь от бабы жди измены: их любовь — что в речке пена». «Были б тут мои ребята — не уйти вам от расплаты: вмиг тебя бы изрубили, вражью женку пристрелили. Я б им крикнул — не кричится, я б им свистнул — не свистится». Ой, как крикнул, — докричался, ой, как свистнул. — и дозвался. Хлопцы ветром с гор примчалась, рядом с батькой оказались. «Где ж вы, хлопцы, пропадали, смерть мою не увидали?» «Ты зачем на этот раз не послушал, батька, нас? Где мы только не бывали, но измены не видали. А теперь она над нами, удалыми молодцами. Эх, Олекса Довбущуку, что же не убил ты суку?» «Как бы я ее убил, коли нежил и любил? Вы спросите у желанной: не забыла ль атамана?» «Если б, Добуш, не любила, если б, Добуш, позабыла, я б нарядов не носила и монистом не звонила». «Ближе, хлопцы, подойдите. Тяжко батьке. Помогите. Дай-ка мне, Раховский, руку… Вон к тому несите буку. Эх, настало время, братцы, нам навеки распрощаться». «Ой, Олекса, батька наш, ты какой совет нам дашь? Окажешь — суку мы зарубим иль иначе как загубим». «Бросьте, хлопцы, не губите, хату Дзвинки подпалите, всю усадьбу разорите, а хозяйку отпустите. Девять раз она божилась, да, видать, чертям молилась. Гнить мне скоро под землею — ей вовек не знать покою». «Ой, Олекса, батька наш, ты какой совет нам дашь? Без тебя твои ребята — словно без орла орлята. Как на панов нападать нам, как их замки добывать нам, как без батьки воевать, где свой век довековать? Что ж теперь — идти к мадьярам иль в Валахию к боярам?» «Впредь разбоем не живите, по домам, друзья, идите. Разделите честно клады, а валашки бросить надо. В землю спрячьте их сырую, чтобы кровь не лить людскую. Кровь людская — не водица, ей за зря не гоже литься. Начинайте жить иначе. Вам теперь не знать удачи, — батьки с вами больше нету. Расходитесь все по свету. А теперь меня возьмите, на валашки положите, на валашки положите, в Черны Горы отнесите. Сердцу любы эти горы. Там навек усну я скоро. Вот уж виден Кедроватый! Там две елки-невелички — это две мои сестрички. А два явора, ребята, — то родных мои два брата. Ну же, хлопцы, поднимите, в Черны Горы отнесите, в Черны Горы отнесите, тело батьки разрубите, в землю черную заройте, хвоей свежею прикройте, чтоб его потом на плахе не четвертовали ляхи»{230}.Олекса Довбуш был последним крупным разбойником Полонинских Карпат.
У него нашлось еще много последователей, но почти никто из них не оплодотворил народную фантазию, и все они исчезли бесследно.
В Колочаве, историей которой я больше всего занимался, живы воспоминания еще о двух разбойниках, но, как мне кажется, весьма смутные. Тут нельзя с уверенностью положиться ни на факты, ни на имена, не говоря уже о датах. Одно из них — это предание о еврейском разбойнике Хаиме Пинте. Рассказывают, как, обобрав до нитки попавшихся к нему в руки богатых евреев, он, чтобы выведать, где они прячут деньги, прикладывал к их телу раскаленные монеты. Однажды, когда Пинтя ночевал на Квасовце, его враги повалили пастушью колыбу, в которой он спал, и прямо сквозь хвойные ветви проткнули его тело заостренными кольями. Помнят здесь и о Иосифе Полянском, о том самом Полянском, который субботними вечерами через освещенные окна стрелял в евреев, склонившихся над белыми хлебцами и рыбой праздничной трапезы. Этого Иосифа Полянского не могли одолеть двенадцать высланных против него парней. А когда его, уже в кандалах, вели солдаты, Полянский волочил за собой, «как метлу», парня из Кричова, к которому он был прикован, и пел:
Гляньте, девки, как скрутили сокола солдаты. У которой сын родится, пусть отплатит катам.Но это все мелкие, так сказать, местные разбойники, и скромная их слава не выходит далеко за границы села.
Последним разбойником Полонинских Карпат был Никола Шугай. И я осмеливаюсь утверждать, что он был не только последним из прославленных разбойников прошлого, но и вообще последним разбойником в этих краях. Дело в том, что предпосылки для столь героического ремесла исчезают даже здесь. Мало изменились дремучие леса, где попрежнему можно встретить оленя или рысь, увидеть орлиные и вороньи гнезда. Все теми же остаются пропасти и скалистые лесные лощины с медвежьими берлогами. Но меняются условия жизни людей, а значит и их мысли. В Прикарпатье едва ли еще родится разбойник. Ведь это слово подразумевает соединение в одном человеке черт обыкновенного грабителя и народного вожака. Теперь же и в Прикарпатье будут рождаться либо просто грабители, либо настоящие народные вожди.
О Николе Шугае я написал книгу. После ее издания в периодической прикарпатской печати появилось несколько «Антишугаев», написанных в форме художественного произведения, воспоминаний или полемики, а в чешских и местных газетах много раздраженных статей. Министерству юстиции было предложено запретить мою повесть и изъять ее с книжного рынка или по крайней мере не разрешать чтение ее в средних школах. Украинский перевод книги конфисковали. Подобные факты не укладываются в рамки литературной борьбы. Но тем, кто действовал по принципу: бороться против литературы литературой и против печатного слова печатным словом, нужно отдать справедливость хотя бы за их добрые намерения. Люди, от которых бесполезно требовать, чтобы они признали какую-нибудь иную правду, кроме своей собственной, и в литературе плохо мирятся с тем, что с их точки зрения не соответствует действительности. Поэтому все полуграмотные официальные журналисты, в чьи добрые намерения я, разумеется, не верю, а также все искренне возмущенные жандармы, лесничие и, как мне кажется, даже один из убийц Николы Шугая, продиктовавший кому-то свою статью, пытаются изобличить меня во лжи, ссылаясь на два следующих факта: они утверждают, во-первых, что Никола Шугай — это обыкновенный бандит, и, во-вторых, что он никогда не был на фронте. Между тем я косвенно отрицаю первое, прославляя убийцу (и, таким образом, воспитываю из молодежи преступников, наношу урон жандармской чести и беру на себя ответственность за жизни жандармов), и оспариваю, второй из этих фактов, приписывая Николе воспоминания о фронте. И они правы: с точки зрения закона Никола Шугай попросту бандит, а нападения на проезжих рекомендовать молодежи не следует. В окопах Никола Шугай тоже никогда не был, и это всего-навсего основанный на народном предании вымысел, к которому я прибег, чтобы облегчить для себя соединение легенды с действительностью. Но в остальном внешняя сторона жизни подлинного Шугая выглядела так или почти так, как я ее описал.
Его отец, Петро Шугай, — лесоруб, бедный крестьянин. Раньше он браконьерствовал, охотился на оленей и медведей в государственных лесах. Это еще крепкий мужчина и отличный стрелок. Когда он при деньгах, что бывает, к сожалению, весьма редко, то не прочь выпить мандры{231} («Как бы я стал жить, если б не выпивка?»). Старик и теперь не может вспомнить о сыне без волнения. Никола был неграмотный горский парень, каких еще и сегодня на Верховине тысячи, сильный и закаленный, немного пастух, немного лесоруб и немного браконьер. В 1917 году его призвали на военную службу. Но дальше своего 85-го полка в Дерматах (Венгрия) он не попал. Сбежал оттуда, как это часто делают деревенские парни: из отвращения к дисциплине, от страха перед окопами, из-за тоски по горам, по любимой девушке. Но колочавский жандармский вахмистр Ленард Бела выследил Шугая в Сухарских лесах, обманным путем захватил его и отправил обратно в полк. Никола сбежал во второй раз и с новым запасом патронов. Однако теперь дело обернулось хуже. Во время погони за ним в Сухарском лесу жандармы стреляли; Шугай, не желая дешево отдать свою жизнь, стрелял тоже и, когда им были убиты двое из людей Ленарда, решил, что пропал окончательно и никогда уже не сможет вернуться домой. Приблизительно так — несколько иной была только униформа преследователей — начинал, вероятно, в далеком прошлом свою разбойничью жизнь и какой-нибудь его предшественник.
Но время, которое поставило Николу Шугая вне закона, миновало, и, казалось, сама история позаботилась о том, чтобы все было забыто и Никола мог вернуться в родное село. Война окончилась, представитель венгерских властей Ленард Бела сбежал вместе со своим отрядом, в деревню пришли румыны, потом чехи. И те и другие смотрели сквозь пальцы на совершенные во время войны преступления или по крайней мере не собирались придавать им слишком большого значения. Никола вернулся, женился на своей возлюбленной Эржике Драчевой и полтора года жил мирной жизнью крестьянина и счастливого молодожена. Во всяком случае, ничто не опровергает такого представления о его тогдашней жизни. Тем не менее надежда на возвращение старых, довоенных времен не оправдалась: в хате было съедено все до последнего зерна кукурузы, и настала нищета более жестокая, чем во время войны. Верховинцы не из тех, кто смиренно дожидается смерти, лежа в своей постели и перебирая четки, а Никола за время пребывания в лесу убедился, что умирать с голоду нет никакой надобности. 16 июля 1920 года он отправился со своим другом Васылем Кривляком на полонину Довги Груни и, напугав пастухов стрельбой, унес ночью из колыбы бочонок брынзы и бочонок овечьего творогу — урды. Хотя во время грабежа нижняя часть лица Николы была скрыта платком, его опознали и через два дня арестовали на полонине. Защищая свою свободу, он оказал сопротивление жандармам. Отправить пленника в Воловое сразу не смогли, поэтому его сковали и привязали в служебном помещении к швейной машинке пани вахмистерши. Жена Шугая, Эржика, носила ему туда еду. На третий день он исчез. Позднее, давая показания дивизионному суду в Ужгороде по делу, возбужденному против жандарма вспомогательного отряда, охранявшего в тот день Николу, Эржика призналась, что продала весь свой скот и подкупила обвиняемого за тридцать тысяч крон. Жандарм получил дисциплинарное взыскание с последующим увольнением со службы, но 26 марта 1925 года был освобожден из-под стражи за недоказанностью проступка. Эржике суд не поверил.
Конечно, теперь за право вернуться домой Николе пришлось бы заплатить довольно дорого — ему угрожало более или менее длительное лишение свободы, — но этой ценой он еще мог вернуться. Никола отказался платить так много. Он остался в сухарских лесах. Вскоре после этого вблизи родной хаты им был убит жандарм, который, приняв в утреннем тумане Эржику за переодетого Николу, стрелял в нее, из-за чего у спасавшейся бегством молодой женщины случился выкидыш. Теперь Николе не оставалось иного выхода, как стать настоящим разбойником. Он организовал небольшую шайку — точное число ее участников не установлено, но, насколько известно автору этого очерка, их было одиннадцать — и нападал на почту из Волового, на обозы, направлявшиеся на ярмарку в Хуст, и на отдельных проезжих. Мужеством Шугая восхищались еще во времена войны, а его борьба против новых чешских панов с сочувствием воспринималась бедным людом. К тому же, будучи хорошо осведомленным, он грабил только людей состоятельных, а бедняков не трогал. Наконец, значительную часть награбленного Никола раздавал, либо оплачивая мелкие услуги, либо просто ради собственного удовольствия. Поэтому население относилось к нему благожелательно и даже оказывало поддержку. Слава о нем росла, и ему стали приписываться социальные замыслы, каких на самом деле у него никогда не было. Правда, подобные легенды распространялись не в Колочаве и ее окрестностях, где Шугая слишком хорошо знали, а далеко оттуда. Так, в Хусте, в шестидесяти восьми километрах от Колочавы, рабочие, возводившие дамбы на Тиссе, забастовали и двинулись в город с плакатом: «Слава Николе Шугаю! Шугай поведет нас!» Возможно, что в то время и при тогдашних условиях Шугай мог бы сыграть действительно революционную роль. Но ничего подобного не случилось, и событие в Хусте — единственный, известный автору случай, когда Никола, сам того не зная, оказал на общественную жизнь более значительное воздействие, чем простой раздачей награбленного. Началась борьба жандармов, представителей молодой государственной власти, с дерзким разбойником. Борьба жестокая. Озлобленные неудачами и потерей своих товарищей, жандармы безуспешно гонялись по окрестным горам. Жандармский пост в Колочаве постоянно усиливали, и в мае 1921 года там стоял уже отряд в сорок человек. Многие были арестованы, многих избили. Старый Петро Шугай увел семью и скотину в горы, а сам бежал в Румынию. Хата его была сожжена. Сгорели постройки тестя Николы — Ивана Драча, и в ужгородском дивизионном суде три свидетеля утверждали, что подожгли их жандармы, а один из свидетелей уверял даже, что видел это собственными глазами. Суд, однако, не поверил крестьянам и прекратил начатое против жандармов дело.
Преследуемый по пятам, Никола больше года хозяйничал в лесах вокруг Колочавы. Все пути к возвращению назад или к бегству были для него отрезаны, верная смерть стерегла его на каждом шагу, и он мог откупиться от нее на какой-то срок только тем, что приносил ей в жертву других. Ужас, который Шугай наводил на округу, достиг предела незадолго до его смерти, весной 1921 года, когда к нему в лес сбежал, спасаясь от жандармов, совсем еще мальчишка, пятнадцатилетний брат Юрай (так определяет его возраст отец, но служебные бумаги говорят о парне лет шестнадцати — восемнадцати). Тогда же было совершено нападение на ночное убежище Шугаев, спавших в стогу на полонине. Братья спаслись только благодаря мужеству Эржики, предупредившей их, и Никола тяжело ранил одного из жандармов. Через некоторое время в повозке, которая стремительно удалялась от Шугаев, был без всякой надобности застрелен еврей. В своей книге я дал ему имя Мейслер. Сгорела хата старого сотоварища Николы — Дербака Дербачка, который предал братьев жандармам. Затем ими был убит жандарм, будто бы возлюбленный Эржики (так она по крайней мере утверждает и так с ее слов записано в протоколе). Наконец, на полонине нашли труп предателя Дербака Дербачка. Это преступление братьев оказалось последним. Через два дня они сами были убиты в Сухарском лесу. Три их товарища из разных побуждений, среди которых не последнюю роль играла надежда на собственную безнаказанность и обещанную награду, зарубили Шугаев топорами. Это случилось 16 августа 1921 года. Николе шел тогда двадцать третий год.
Узнав от убийц о происшедшем, жандармы во главе со старшим вахмистром в ту же ночь отправились в лес и буквально изрешетили трупы братьев пулями. Они не желали после такого длительного напряжения и стольких трудностей уступить кому-нибудь славу героев, обезвредивших Шугая.
Старшему колочавскому вахмистру, который разослал вышестоящим органам телеграммы о том, что оба Шугая убиты во время перестрелки с его отрядом, и семи жандармам, инсценировавшим ночной бой, ужгородский военный прокурор предъявил обвинение в подаче ложного рапорта о применении огнестрельного оружия. Но позднее бумаги были переданы в окружное жандармское управление, и оно подвергло дисциплинарному взысканию лишь старшего вахмистра. Трое убийц братьев Шугаев, после почти одиннадцатимесячного пребывания под следствием, 3 июля 1922 года были освобождены. В результате окончательного разбора дела судом в Хусте с них сняли обвинение в убийстве и ограблении мертвых на шесть тысяч шестьсот крон. Суд счел доказанным, что они имели основания бояться Шугаев, действовали в целях самозащиты, но по своей малообразованности не поняли разницы между достойной награды «поимкой» преступника и убийством и ошибочно предположили, что оставляют себе шесть тысяч шестьсот крон с разрешения жандармерии. Разумеется, убийство убийством, но ведь и Шугай был Шугаем. Награду в три тысячи крон, обещанную за поимку братьев, не получил никто, да и тридцать тысяч крон, о которых говорилось в неопределенных и ни к чему не обязывающих посулах еврейских общин, также, понятно, никому не достались.
Сохранилась фотография обоих разбойников. Словно кровавый охотничий трофей лежат крест-накрест их тела, а сверху два карабина и табличка с надписью: «Конец Шугая. 16.8.1921 года». Была также сделана попытка сфотографировать Николу после вскрытия. Но день выпал дождливый, негатив получился очень неясный, и, кроме вывалившихся внутренностей Шугая, на снимке почти ничего нельзя рассмотреть. Фотографию с изображением мертвых братьев Шугаев предполагалось пустить в продажу, однако вскоре последовало запрещение, и весь тираж конфисковали.
Таковы скупые факты жизни разбойника. Его преступления, в том числе уголовные, вероятно, никогда нельзя будет с достоверностью установить, так как он не привлекался к суду и против него поэтому даже не был собран материал. Человек, интересующийся биографией Шугая, вынужден полагаться на память и откровенность его современников. Кое-что можно найти в протоколах хустского окружного суда, где судили некоторых соучастников преступлений Шугая, и в бумагах дивизионного суда в Ужгороде, перед которым предстало в свое время несколько провинившихся жандармов. Особенно трудно ответить на вопрос, убивал ли Никола в целях грабежа. Народная традиция, природному правовому чувству которой убийство из справедливой мести не только не претит, но которая, наоборот, одобряет его, — точно так же, как она полностью оправдывает убийство при самозащите, — не знает ничего более омерзительного, чем эгоистичное и корыстное убийство в целях грабежа. Поэтому легенды о Николе Шугае не могут допустить, чтобы он унизился до такого преступления. Но и автору этих строк, свидетелю, правда, не беспристрастному, кажется, что обоснованно обвинить Шугая в подобном преступлении трудно. За время его разбойничанья в округе было совершено много убийств, виновники которых не обнаружены, и все они, таким образом, приписываются Шугаю, но убедительных доказательств этого нет. И, напротив, установлено, что несколько убийств с целью грабежа было совершено зимой 1921 года, когда больной тифом Шугай лежал в Зворце. Отец Николы и некоторые его друзья утверждают даже, что жестокости последнего периода жизни разбойника, особенно убийство Мейслера и Дербака Дербачка, а также поджог хаты последнего совершил не сам Никола, а дикое дитя — Юра.
Шугай — не прирожденный преступник. Это не тронутый цивилизацией, легко поддающийся инстинктивным побуждениям парень, которого время и условия заставили действовать на собственный страх и риск в борьбе за жизнь и свободу. Совершив однажды «на собственный страх и риск» ошибку, он едва ли мог кончить иначе.
У Николы Шугая не было никаких политических или социальных интересов, и все свидетельства об этом — либо вымысел, либо ошибка. В волнениях, происходивших в Колочаве после переворота{232}, он не участвовал и относился к ним безразлично, счастливо живя со своей Эржикой и наслаждаясь свободой, которая, как ему казалось, чудом упала с неба. Автор специально собирал сведения о политических взглядах Шугая, но не обнаружил ничего, что бы свидетельствовало о них.
Никола Шугай не был великим разбойником в социальном или политическом смысле. Но он осуществил иную, действительно прекрасную миссию разбойников и, таким образом, занял место рядом с известнейшим из них, рядом с самим Олексой Довбушем: он оплодотворил народную фантазию.
Ведь это душа русинского народа, тоскующая по своей правде и своей справедливости, сделала из Николы Шугая Безликого разбойника и фигуру трагическую, наделив его всей той силой и всем тем могуществом, которых у нее самой нет, но к которым она так горячо стремится. Посмотрите: мы жаждем социальной справедливости, но, недостаточно мужественные для восстания, напрасно ищем того, кто бы дал нам ее; в нищете мы страстно мечтаем о богатстве, но слишком слабы, чтобы завладеть им, не находим никого, кто бы преподнес нам его. Он был мужественный, убивал панов и мстил за людскую несправедливость, он был сильный, у панов брал, а нам, беднякам, давал. Посмотрите: мы — жалкие и слабые в бою, безоружные, когда нужно обороняться, и не имеющие ничего, кроме своих кулаков, когда нужно наступать; он был могуществен, броня неуязвимости защищала его тело, в руках он держал страшное, бьющее без промаха ружье с изображением креста на стволе. Таков легендарный Никола Шугай.
Предания, повести, были о Николае Шугае представляют собою смесь недавней действительности, вновь и вновь повторяющихся древних легендарных мотивов и чисто художественного творчества. В их увлекательности отнюдь не последнюю роль играет и то, что они относятся к человеку, умершему только недавно, что рождаются они, так сказать, на наших глазах, и мы можем наблюдать их развитие, еще ясно различая элементы, из которых они складываются.
В Колочаве, где все взрослые хорошо помнят Шугая, о нем рассказываются только были. Конечно, и они преувеличивают, приукрашивают, рисуя события, которые только могли бы произойти, но в целом образ разбойника они не искажают и никогда не выходят за рамки реальности. В них рассказывается о смерти Шугая под топорами трех друзей-предателей; о его щедрости; о дарах в две, три и пять тысяч, которые он ночью засовывал за окно вдовы бедняка Мейслера, из озорства застреленного Юрой; о нападениях на почту и брички с торговцами; о его мужестве в схватках с жандармами; о том (вот ведь здорово!), как он водил их за нос, как охотился на медведей и оленей в господских лесах, как сиживал в хустском трактире за одним столом с панами и не был ими узнан, как подшутил над женой окружного начальника; о его любви к Эржике и ночных свиданиях с ней, когда он, пробравшись ползком в село, ждал ее, прильнув к углу хаты или лежа в конопле; и опять об его огромном богатстве, о кладах, которые он закопал перед смертью, скрыв их местонахождение даже от ближайших друзей.
Но уже в Воловом, селе, расположенном не более чем в двадцати шести километрах от Колочавы, я слышал повторенное мне позднее в Майдане и Вучкове предание о том, что была у Николы чудесная зеленая веточка, которой он обмахивался в бою, отгоняя жандармские пули, так что они возвращались и поражали тех, кто их послал. В Торуни и Майдане знают о его чудесном ружье с высеченным на стволе крестом, о ружье, которое никогда не давало промаха. В Ясине мне рассказывали о чудесной пещере Николы, полной сокровищ и охраняемой злыми духами, рассказывали, что еще и теперь пастухи ищут эти клады, осеняя себя крестным знамением и копая в местах, где ночью танцуют блуждающие огоньки, либо отваливают валуны, на которых, как им кажется, можно разглядеть какие-то знаки. Так сливается реальность с фантазией, сказка с былью. И право, в среднем и восточном Прикарпатье вряд ли найдется селение, где нет человека, который бы не помнил Николу или по крайней мере не врал бы, что видел его или узнал в переодетом незнакомце. Миф растет вместе с расстоянием, отделяющим его от источника.
А на полонине над Голатыном у вечернего костра один пастух рассказал мне настоящую легенду о Николе Шугае. Это подлинно художественное произведение, еще не устоявшееся в своей основе и допускающее дальнейшую переработку, но в общем виде вполне законченное. Эту основу составляет повествование о неуязвимости Шугая, о его чудесной меткости, о том, как он у богатых брал, а бедным давал, как он мстил панам за несправедливость, о том, что, живи он на свете, бедному люду было бы лучше. Но здесь нет ни слова об Эржике и ее романе с жандармом, ни слова о Юре, фигуре социально и художественно весьма интересной, ни слова о предателе Дербачке; а чудесная зеленая веточка даже решительно отрицается. Легенда кончается рассказом о смерти Шугая под топорами трех друзей и, не отклоняясь далеко от правды, в целом верно угадывает основные побудительные причины этого убийства. Однако самое замечательное — начало легенды; в нем есть и философская глубина.
Материалом для него, — что возможно только в этом крае, который живет одновременно в нескольких столетиях, — с одной стороны, служат явления и факты совсем недавние: мировая война, пулеметы, дезертирство, умышленное членовредительство; с другой — мотивы времен язычества: колдуньи, волшебные напитки и средневековая жестокость. Никола Шугай был неуязвим. Но откуда у него неуязвимость, если рассказы о зеленой веточке — выдумка? Случилось это вот как: Никола вместе с каким-то дезертиром скрывался за линией фронта у русской бабы. Та хотела женить их на своих дочерях и, чтобы застраховать будущих зятьев от опасностей войны, дала им выпить волшебного зелья. Но солдаты, поняв, что имеют дело с колдуньей, убили ее и скрылись. Потом решили подстрелить друг друга, чтобы вернуться из фронтового ада домой, пусть и калеками; палили друг в дружку в лесу, но ранить не могли и догадались, что стали неуязвимыми. Однако невредимый Шугай, герой и защитник социальной справедливости, погиб все же, не завершив своего дела. Как совместить одно с другим? И вот мы у истоков древнего мифа. Он возник еще на заре истории человечества и дошел до нас в сказаниях о волосах Самсона{233}, о пяте Ахиллеса, о лопатке Зигфрида, о пророчестве, предвещавшем Макбету смерть от руки человека, не рожденного женщиной{234}, о единственной пуле, которая могла сразить Олексу Довбоша. Мы у истоков легенды, снова и снова повторяющейся и спустя столетия всегда рождающейся вновь. Возможно, это происходит потому, что она вызывает подражания, но, возможно, также и потому, что человеческая мысль, бьющаяся над вопросом жизни и смерти, может прийти только к одному выводу: нет бессмертия, нет неуязвимости, нет власти, силы, жизни, которые не оказались бы в конце концов преходящими. А значит, и все подобные пророчества и обещания всегда должны о чем-то умалчивать, оставляя тем самым лазейку, в которую могла бы проникнуть судьба и отдать смерти то, что ей по праву принадлежит. Точно так же было и с Николой Шугаем. «Не коснется тебя пуля ни из ружья, ни из пулемета, ни снаряд из пушки», — сказала ему старуха. И он погиб под топорами друзей.
Мотив поистине прекрасный.
Никола Шугай живет и в песнях. Некоторые я записал. Все они родились в Колочаве или на полонинах вокруг нее. Слышал я их от деревенских парней и пастухов, обычно слишком молодых, чтобы помнить действительного Николу Шугая: легенда растет не только с расстоянием, но и с отдалением во времени.
Чтобы понять эти песни, нужно знать, как они здесь поются.
В Колочаве известны и напевы, принесенные солдатами из чешских или словацких городов, но собственная мелодия здесь только одна. Минорная, еще не застывшая, не законченная и необыкновенно пластичная. Поется она иногда полным, иногда приглушенным голосом и меняет свой ритм и весь свой характер в зависимости от текста и обстановки, в которой ее поют: ночью ли у костра, во время танца, кутежа или в любовной тоске. У нее нет даже определенной тональности, и все зависит от случая, от того, в каком месте свирели вырежет пастух звуковое отверстие. Ибо на полонинах у пастушьих хижин поют всегда в сопровождении сопелки.
Именно здесь, на полонинах, как и столетья назад, рождаются песни, никем никогда не записанные, тут живущие долго, а там уже забытые, и часто никому, кроме самого поэта, не известные. Да и декорации, на фоне которых происходит акт творчества, за тысячелетия не изменились. Это — вершина горы с низкой травой, пригибаемой к земле вечными ветрами, пастбище, широкое небо над ним, а все остальное, все, что мы привыкли называть миром, внизу: кроны буков, возникающие на склонах гор, там, где кончается полонина, долины, реки, деревни, люди. А на одном уровне с этой вершиной только гребни других гор да заходящее или восходящее солнце. Где-нибудь здесь стоит и колыба, то есть небольшой навес из хвороста, опирающийся одной стороной на склон, а с другой — поднятый на двух кольях и в профиль напоминающий арабскую единицу, ту самую, которую так старательно выводят в первом классе дети. Здесь рождаются карпатские песни, или, лучше сказать, попевки о друзьях, о разбойниках, о нищете, о чернобровых красавицах, о деревьях и тропах. Песни эти состоят большей частью из одной строфы, редко — из двух и похожи больше на выкрики горя или восторга, на отрывочные воспоминания, чем на песни… Рождаются они по вечерам, когда краски и линии вокруг становятся мягче и расплываются в сумраке, когда поет вечный ветер, а привязанный к кольям скот тихо жует свою жвачку, когда перед колыбой пылает большой костер и, прочерчивая огненными зигзагами темноту, рассыпает снопы искр, из которых взмывают вверх маленькие драконы с белыми головками и красными, пляшущими в воздухе хвостами.
Тогда чабаны или одинокий пастух вынимают из-за пазухи сопелки и играют на них, а еще чаще лишь слегка прикасаются губами к отверстию, так что тона звучат неясно и приглушенно. И поют. Слова песни без музыкального сопровождения чередуются с мелодией без слов. А потом в просторах неба загораются звезды. На севере возникает четкая буква Кассиопеи, слева от нее — Большая Медведица. Ведает бог: более прекрасной рабочей комнаты не было ни у одного поэта.
Вот как поют здесь о Николе Шугае:
Стонет горькая кукушка, плачет в темном гае: не видать тебе вовеки Николы Шугая!Почему в словах этих песен так часто упоминается кукушка? И уже вскоре после смерти Николы. Ясно, что никто здесь не думает о ней, как о птице смерти. Едва ли кому из местных жителей известно, что, по верованиям славян-язычников, в кукушек переселялись души умерших. Может быть, это — только подражание старым образцам? Или так же, как у их предков, в нервах и в мозгу здешних людей ощущение смерти и печали настолько неразлучно срослось с представлением о тоскующей птице, что нельзя затронуть чувство, чтобы не возник образ кукушки.
На сучок кукушка села, жалобно кукуя: «Ой, Шугая загубили. Жди беду лихую! Стала дочь твоя сироткой, Эржика — вдовою. Обручился ты, Никола, с черною землею».А вот еще попевка, в которой слово «револьвер» искажено на чешский и русинский лад — «левор»:
Ой, кукушка куковала в утреннюю пору, Бил без промаха в жандармов Шугай из левора.Как уже говорилось, эти попевки о Шугае большей частью состоят из одной, редко — из двух строф, поскольку на одной полонине не знают песен другой; но можно с уверенностью сказать, что если бы мы захотели соединить строфы разных авторов, у нас получился бы связный текст. Я это здесь и делаю:
Веет ветер от Сухара, тучи подгоняя. Но не слышно там сопелки славного Шугая. Ой, в густом лесу три друга Шугая убили. Три дружка к нему на Сухар тайно приходили. Приходили для совета, совета не дали. Топорами атамана взяли порубали. Под явором говорили, под явором пили, под явором, под зеленым, Шугая убили. Ищет Эржика Николу, слезы проливает. Ой, беда нам, трем убийцам, трем дружкам Шугая.А вот эти строки сложил себе в утешение и пропел парень, тоже Никола, которого избили ревнивые товарищи. Ведь какая это утеха — иметь не только имя Николы, но и таких же, как у него, неверных друзей!
Мы, Шугай, с тобою тезки, оба мы — Николы. На тебя в лесу напали, на меня — у школы. За горилку с медом Шугая сгубили. А меня за девку парубки избили.Иногда вспоминают Николу и пьяницы:
Плохо будет без Николы пьющему народу. Ой, любил Никола водку, как гусята воду.Возможно, и это воспоминание относится к Шугаю, но возможно, и просто к разбойникам:
Эх, любили мы друг друга, хорошо нам было. Дюжина жандармов, братец, за нами ходила.И право, так ли уж это важно, кем Никола Шугай был на самом деле? Если вечерами о нем поют пастушки у костров перед колыбами. Если он заставляет рассказчиков говорить о недолговечности всего прекрасного на свете и о предательских пророчествах. Если умеет пробудить в людях сознание естественного права, которое значительно лучше и нравственнее, чем официальное. Если он принуждает их думать о справедливости. Если он умеет возбудить в них стремление к лучшей жизни, решимость бороться за нее и уверенность, что она придет.
Несомненно, все это — чувства, мысли и стремления обитателей здешних гор, а не Николы Шугая, которому принадлежит в них доля не бо́льшая, чем всякому другому. И все же эти чувства, мысли и стремления сосредоточены в нем. А это славный удел, награда Николе за его мужество — добродетель, выше которой нет у мужчины. Благодаря ей он стал святым Георгием, единоборствующим с драконом. Статуей, которую жители здешних гор сами вырезали из доброго букового дерева и, раскрасив пришедшимися по вкусу красками, поставили в церкви. А теперь они приносят к ней, воплощению их тоски и надежды, рудбекии и пионы из своих палисадников, герани и анемоны с полонин.
На Западе чувства, мысли и стремления народа уже более определенны, и с ними не обращаются ни к святым, ни к разбойникам. Скоро так будет и в Карпатах.
Никола Шугай — последний здешний разбойник. В самом деле — последний. Ибо разбойничество вырождается. Плачевнейшим образом.
Взять хотя бы такой случай. Весной этого года где-то у Мерешура, на дороге между Колочавой и Хустом, навстречу трем пешеходам, направлявшимся в Хуст на ярмарку, из леса вышли три разбойника с ружьями в руках; лица их до самых глаз были скрыты платками. Вероятно, и в Прикарпатье говорится: «Деньги или жизнь». Три испуганных путника предложили откупное: одну крону. Долго торговались. Через полчаса дошли до пяти крон. Тогда разбойники разозлились и применили насилие: избили крестьян и отобрали все, что у них было. У всех троих вместе оказалось одиннадцать крон.
Где вы, пещеры Довбуша и Шугая с кладами, которые, если б их открыть, ослепили бы своим блеском весь мир? Куда уж там. Нечего есть. Нечего грабить.
Или, быть может, мне следует подтвердить этот упадок разбойнического промысла ценой собственного позора и рассказать о факте более печальном, чем многие другие, а для влюбленного в своих персонажей автора таком грустном, что грустнее его ничего и быть не может.
Вот он.
Могила на каменистом холме колочавского кладбища, в которой похоронены оба брата Шугая, сравнялась с землей, затоптана коровами, и где она находится — толком не помнят теперь даже местные старожилы. Этим летом мне кто-то рассказывал, что туристы наносили на нее камней и поставили крест. Встретив как-то Эржику, я сказал ей: «Посмотри, правда ли, что там могила Николы…», и через несколько дней она подтвердила это. С тех пор — о, ужас! — прославленная Эржика, возлюбленная разбойника и самоотверженная его жена, в погожие дни, когда можно ожидать посещения туристов, стоит там, молитвенно опустив глаза и печально поджав уголки губ, и принимает от приезжих кроны и двадцатигеллеровые монеты.
Ой, баба! Или ты не знаешь, что о тебе на полонинах поют песни?
Перевод О. Малевича.
ЧУДО С ЮЛЬЧЕЙ{235}
Люди хотят за свои деньги что-то иметь, но торговля — это не просто купля-продажа, это и забава. И, право же, не будь это так, дело с развлечениями в Поляне обстояло бы чертовски плохо. Торговля — забава не только для покупателя, но и для продавца; торговля, лишенная занимательности, — пожалуй, простое добывание денег, а никак не торговля.
Вот и тут, в деревенской лавке, благоухающей востоком республики, а также уксусом, керосином и дешевой материей, Сура Фуксова «развлекается» с Митрием Мазухой, бедняком русином. За полтора часа Мазуха успел осмотреть и простукать все косы, и теперь, остановившись на трех особо отобранных, пробует, насколько они остры, а по одной из них — лучшей из лучших — недовольно постукивает согнутым пальцем, словно желая отстучать от косы еще хотя бы пятьдесят геллеров, которые, как видно, Сура не уступит. Отец Суры, Соломон Фукс, «забавляется» с покупающей головной платок девушкой-русинкой и тремя женщинами, которые пришли помочь ей при этом. Он снимает с полки платки — красные, зеленые, желтые, с мишурой и без мишуры, раскладывает их, потрясает ими и, поднося к свету, демонстрирует игру тонов. С другой стороны прилавка ему помогает расхваливать дешевизну и качество товара Байниш Зисович. Но поскольку Соломон Фукс запросил за тот красный платок с желтыми розами и серебряными блестками двадцать пять крон, а женщины дают десять, поскольку они только еще на двадцати двух кронах пятидесяти геллерах, — Байнишу Зисовичу ясно, что забава эта будет продолжаться долго и ему не удастся обстоятельно поговорить с Соломоном. Поэтому он направляется к Суре.
— Сура, отвесь мне четыре кило муки! — просит он.
— Только платить сейчас, Байниш! — говорит Сура.
— Ц-ц! — обиженно произносит Байниш, качая головой, потому что, ей-богу, грязное подозрение даже не стоит того, чтобы отвечать на него словами.
Тогда Сура ставит на весы бумажный кулек и набирает горшком из ларя кукурузной муки.
— Значит, пятьдесят геллеров уступите! — говорит Митрий Мазуха таким тоном, словно они уже давным-давно договорились.
— М-м! — вертит головой, улыбаясь, Сура.
— Ну, тогда дайте мне впридачу кулек леденцов для детей.
— Он стоит крону.
— Ну, дайте хоть сахару кусок! — ворчит крестьянин.
— Нет, нет!
Кулек кукурузной муки для Байниша Зисовича уже взвешен, упакован, и Байниш намеревается его схватить. Но Сура, положив на кулек обе руки, крепко держит его.
— Деньги! — смеется Сура, смеется потому, что от человека давно бы ничего не осталось, если б он то и дело сердился.
— Да что я тебе, не отдам, что ли?
— Ну так давай!
— Как будто я первый раз покупаю у них четыре кило кукурузной муки… — произносит Байниш с некоторым раздражением.
— Ну, так, значит, кусочек сахару для детей! — громогласно заявляет Митрий Мазуха и с сознанием собственного достоинства выкладывает деньги на прилавок.
Сура завладевает кульком с кукурузной мукой и ставит его позади себя на полку, не обращая внимания на то, что Байниш Зисович весь перегнулся через прилавок, тянет ее за юбку и кричит: «Да подожди же!»
Сура подходит к Мазухе и обнаруживает, что недостает двадцати геллеров. Но он долго не дает себя убедить в этом и опять возвращается к кульку конфет для детей. Потом начинает доказывать, что коса слишком дорога. Но Сура стоит перед ним неподвижно, смотрит поверх его головы куда-то в пространство и, когда Мазуха принимается рассказывать ей о ценах на косы у Шенфельдов, в городе, и о том, какой это будет позор, если она не даст ему впридачу хотя бы кусочек сахару, повторяет скучным голосом, попрежнему глядя в пустоту:
— Тут не хватает двадцати геллеров.
— Так я вам завтра их принесу! — объявляет, наконец, Мазуха.
— Ну, ладно, — ласково соглашается Сура, сгребает деньги, берет косу и кладет ее тоже на полку, — я вам эту косу до завтра сохраню.
Мазуха доказывает, что коса ему нужна сегодня, бранится, а Сура в это время обслуживает мальчугана, пришедшего за уксусом.
— Ну давай, Сура! — энергично произносит Байниш как раз в ту минуту, когда Митрий Мазуха со злостью швыряет на прилавок двадцатигеллеровую монету.
— М-м! — вертит головой Сура.
— Шулем! — злобно окликает Байниш старого Фукса, который настаивает на двадцати одной кроне и вместе с женщинами и платком стоит уже у самых дверей, так как отступать к дверям и снова возвращаться к прилавку — одно из правил торговли-забавы.
— М-м! — вертит головой Соломин.
Тогда Байниш Зисович облокачивается на прилавок, теребит густую каштановую бороду и, пока Сура отвешивает какой-то женщине мешочек неочищенной соли для скотины, думает про себя: «Ну, нет у меня… Кровопийцы! Живодеры! Чтоб вам пусто было, свиные головы! Были б у меня эти пять крон — швырнул бы я их вам под ноги. А то ведь нету, нету!..» Байниш Зисович размышляет не просто так, в голове его копошатся не просто какие-то неопределенные думы. Напротив, все мыслится у него совершенно конкретными словами, а это последнее «НЕТУ» он произносит даже вслух, да так внушительно, точно оно написано у него в мозгу большими буквами. «Нету, нету, нету… Но что же делать? Жена дома ждет муку».
Он направляется к дверям, где стоят Соломон и три женщины, и говорит старику по-еврейски:
— Шулем, неужели вы мне не поверите четыре килограмма муки?
— Нет.
— У меня же восемь человек детей!
— Я в этом не виноват, — холодно отвечает Соломон Фукс и раскидывает перед женщинами красный платок с желтыми розами.
— Я знаю. Но поймите — они со вчерашнего дня ничего не ели…
— Все это напрасно, Байниш! Ты мне уже два года должен восемьдесят крон.
— Разве я не работаю на вас со своею лошадью?
— О! Ты работаешь!.. На двадцать крон наработаешь, а на двадцать пять наберешь товару.
— Так мне и дали!
— А долг все время прежний. Что тут еще рассуждать, Байниш! — И Соломон Фукс снова обращается к женщинам: — Ну, так уж и быть, по доброте душевной… за двадцать! — и ведет их назад к прилавку.
Байниш снова облокачивается на прилавок и размышляет: «Что, если бы у меня, например, — это ведь всегда можно себе представить, — была в кармане сотня. Стал бы я ее менять ради этого паршивца? Если такую зелененькую стокроновую бумажку разменять и не припрятать всю до последнего гроша, — так она вроде бы и стокроновой никогда не была… Недаром женщины насчет денег, что дикари какие… Ведь и кукуруза нужна, и картошка, и белый хлеб в субботу. У Ганеле под ее тряпьем даже рубашонки нет! А обувь на зиму? Всего и не упомнишь. — Байниш вздыхает. — Ой-ой-ой, может, все-таки разменял бы… Наверняка бы разменял. — И тут же убеждает себя: — Но нету, нету! Ой-ой-ой! Столько денег! Сто крон! Откуда возьмет их бедный возчик в теперешние времена?!»
Видимо, долго еще-будет Соломон возиться с этими женщинами. Вон они опять собираются уходить, соглашаясь пока только на тринадцать крон, а Фукс упрямится на девятнадцати с половиной.
— Послушайте, Шулем, ведь я вам серьезно говорю. Дети, честное слово, не ели. Какие-то пустяковые пять крон. Да я за них отработаю.
— Нет.
— Пожалейте мою семью, Шулем!
Эта фраза слишком сильная, таких выражений Соломон не терпит. Он начинает кричать, что, мол, всем этим сыт по горло, так как подобная история повторяется каждую неделю по два раза и даже тогда, когда Байниш должен отработать за старое; что сам он тоже не ворует и что вообще он теперь не даст ни геллера, пусть тот хоть в лепешку разобьется. Хватит! Баста!
Байниш оскорблен до глубины души. С минуту он еще стоит, мысленно ругаясь, а когда в лавке собирается народ и на него уже никто не обращает внимания, незаметно проскальзывает в безлюдную пивную, а оттуда — в кухню.
Пани Эстер раскатывает тесто на лапшу, и рукава, засученные выше локтей, впиваются в ее пухлые руки. Обернувшись, она злобно смотрит на вошедшего. Ее взгляд, которого люди боятся, не то чтобы сразу пронзает Байниша, а некоторое время покалывает его с головы до пят.
— Гит морген! Послушайте, Эстер, не найдется ли тут у вас кусочка хлеба? — выпаливает Байниш с таким видом, точно в его просьбе нет ничего удивительного. — Чуть-чуть. Один раз откусить, мне сегодня весь день некогда было…
— Ц-ц! — гневно вскидывает голову Эстер. — Что ж ты не купишь в лавке?
— Да ведь я же вам говорю: мне только один раз откусить.
Байниш Зисович садится на низкую скамеечку у плиты, давая этим понять, что он готов подождать, и начинает развлекать Эстер новостями о свадьбе в Прибуе Хавы Давидович с Менделем Розенталем. Он рассказывает ей, в каком наряде была невеста, о том, что молодому Глезеру его черный пиджак, огромный накрахмаленный воротник и белые нитяные перчатки шли как корове седло; о том, что толстухе Малке Герготовой сестра из Америки прислала какое-то старое желтое бальное платье с громадной пунцовой розой, вышитой шерстью, что этот наряд чуть не лопнул на ней.
«Хи!» — взвизгнула пани Эстер. Байниш засмеялся. Эстер вытерла запорошенные мукой руки о толстый живот и пошла отрезать Байнишу кусок пшеничного хлеба.
— Что это вы варите на обед? — принюхивается Байниш.
— Что варю, то и варю! Тебе-то какое дело? — взрывается пани Эстер.
Стараясь загладить промах, Байниш продолжает рассказывать о свадьбе, о барышне Вилкович, прическа которой смахивала на вавилонскую башню, о желтых штиблетах Ицка Гершковича, похожих на лодки, и о трясущемся носе старого Розенталя. Он отламывает от хлеба крошечные кусочки, ест и, улучив момент, когда Эстер, увлеченная лапшой, не смотрит на него, запихивает ломоть в карман. Наконец, пани Эстер снова проявляет свой интерес несколькими писклявыми «хи!». Байниш поднимается, доканчивает у дверей рассказ и говорит как бы между прочим:
— Послушайте, Эстер, в лавке не хотят мне поверить в долг четыре кило муки. Замолвите словечко Суринке…
Однако Байниш ткнул пальцем в осиное гнездо. Пани Эстер ударила скалкой по доске и, подбоченясь, начала визгливо кричать.
— Ну, нет, нет… — поспешно ретируется Байниш.
Но пани Эстер уже не унять. Может, кто-нибудь воображает, что они крадут? Да они неделями ломаного гроша не видят, все только «дай, дай, дай». «Дай» да «подожди»! У Шулема голова кругом идет. За кукурузу плати, за товар плати, в банк плати, налоги плати. А тут еще каждый норовит за их счет поесть да одеться! Скоро ей придется босой ходить! Суринка и так уже каждую тряпку у отца со слезами вымаливает…
И Байниш вышел, но не через пивную и лавку, а через двор.
— Паршивцы! — ругается он про себя.
На дворе, у конуры, лежит лохматый пес. Через раскрытые ворота важно входят гуси. Пес, не двигаясь с места, поглядывает на них снизу вверх. Черт возьми, до чего у этих богачей все предусмотрено! Тот же пес, скажем! На своих гусей внимания не обращает, пусть они ему хоть в пасть залезут, — не пошевелится. А попробуй пристань к ним чужая гусыня — уж он ей задаст перцу. Гусыня бежит, гогочет, хлопает крыльями, а он ее за хвост, за хвост. Вот ведь собака! И никто ее не учил этому!
«Ну, погодите, свиные головы, — думает Байниш. — Господь бог вам за все отплатит, на детях выместит. Вырастет из вашего мальчишки бандит. Фи! Сколько было шуму, чванства, когда он родился! А теперь из Кошиц только и знает, что денег просит».
Байниш Зисович бредет по дороге через село. Воспоминание о большом увесистом кульке в Суриных руках и о жене, ожидающей дома муку, вновь наполняет его заботами. Он останавливается меж покосившихся плетней и хлопает себя по бедрам: «Нету!» На лбу его появляются морщины, левый уголок рта, левый уголок глаза и левая ноздря подаются вверх. Лицо искажается гримасой, скорбной и задумчивой в одно и то же время. «Нету! Нету ни кроны, ни пятидесяти геллеров, ничего нету».
Он идет к Срулю Нахамкесу, в кузницу.
— Гит морген! — приветствует он его в дверях.
Сруль Нахамкес, весь черный, с черными как смоль волосами, с черными глазами, черными руками и в черном кожаном фартуке, из трех кусков старого железа выковывает в черной кузнице новую подкову. Одной рукой он держит клещи, поворачивая раскаленные куски металла в горне, а другой, дергая за цепочку, надставленную обрывком веревки, раздувает меха.
— Ты не мог бы, Сруль, одолжить мне две кроны?
Сруль, не прекращая работы, поворачивает голову и сердито говорит:
— В наше время только и одалживать две кроны!
— Я знаю, нет, не надо… — соглашается Байниш левым уголком рта, левым глазом и левым плечом. — Но корзинку картошки ты все же дашь взаймы?
Сруль Нахамкес готов рассердиться.
— Ну, нет так нет, — предотвращает катастрофу Байниш. — Дай-ка мне тогда щепотку табаку!
Сруль достает жестяную коробочку, в которой табаку — на донышке, и Байниш сворачивает цыгарку. Затем он подходит к мехам и, берясь за цепочку, надставленную обрывком веревки, раздувает их вместо кузнеца.
— Скажи, Сруль, если ты такой уж мудрец, отчего это гои[57], когда здороваются, говорят «добрый день», а мы — «доброе завтра»?
— Не знаю.
— Видишь ли, «Гит морген» — это не «доброе утро», потому что «морген» означает не «утро», а «завтра». Гои — лошади! Они думают только о сегодняшнем дне, о «сейчас», о настоящем моменте. А мы смотрим дальше. По крайней мере на один день. По крайней мере.
— Откуда ты это знаешь?
— Учитель в хедере говорил детям.
— Мои девочки никогда ничего такого не приносят из школы. Им бы только поесть… Знаешь, а то, что ты сказал, — это хорошо!
— Это очень хорошо, Сруль! «Завтра», «завтрашний день» — это самое главное, Сруль! Потому что «сегодня» уже не в счет, раз мы дождались сегодняшнего дня — так мы его и проживем с божьей помощью. Нет у меня муки — ну и нет, нет двух крон — ну и нет, нет картошки — ну и ладно, небось до вечера не помру. А завтрашний день! Это главное, Сруль! «Доброе завтра»! А после «доброго завтра» — опять «доброе завтра». И так всегда.
Сруль Нахамкес вытаскивает клещами из горна раскаленные добела куски железа, кладет их на наковальню, и оба мужчины принимаются бить по ним молотами — Сруль тем, который побольше, Байниш — тем, который поменьше. Наковальня звенит, железо постепенно краснеет, отскакивает окалина.
А когда соединенные куски вновь оказываются в горне, Нахамкес спрашивает, подгребая уголь:
— Говоришь, Байниш, одолжить тебе две кроны? А ведь ты больше недели был со своей лошадью в Прибуе, возил камень на строительство дороги.
— Я? В Прибуе? Возил камень на строительство дороги? Больше недели?
— Ну да. Борах Давидович тебя видел.
— Борах Давидович меня видел? А почему бы ему меня не видеть?! Больше недели! Ц-ц! Да я всего один день возил! За пятнадцать крон. Много ли купишь на них кукурузы? А ведь у меня восемь душ детей! Это я у зятя был неделю. Помогал ему дом строить, к зиме он должен быть готов. Я еще тебе расскажу кое-что, Сруль! Знаешь, как попали люди в Америку?
— Ну, как, как! Доплыли на кораблях.
— Ясно, что доплыли! Как-нибудь да надо было добираться! Но когда они туда доплыли?
— Ну?
— При царе Соломоне. У него были громадные корабли.
— А отчего те люди стали краснокожими?
— От солнца.
— Это тоже учитель говорил?
— Ну да. Хаймику.
— Ох, мудрец.
— Еще какой. Но Хаймик тоже будет таким.
Когда куски старого железа на наковальне начинают приобретать форму подковы и Сруль, держа их, вместе с Байнишем бьет молотом, Байниш говорит:
— Послушай, Сруль, мне ужасно хочется есть. Отродясь еще не испытывал такого голода! Весь день потею от этого. И не завтракал и не ужинал. Нет ли у тебя чего перекусить?
— Пойди спроси у Лаи!
Байниш идет через маленький дворик, подходит к дому и просовывает голову в дверь:
— Гит морген, Лая, что на обед варишь?
— Что варю? Ничего не варю! — отвечает маленькая кузнечиха.
И в самом деле. Плита холодная. Но на скамье лежит пучок свежих, только что нарванных редьки и лука. Байниш направляется прямо к ним.
— Одолжи мне парочку…
Но маленькая кузнечиха всполошилась, как наседка, подбежала к зелени, закрыла ее своим телом и ну разоряться:
— Нет! Ничего не получишь! Что я дам детям на обед?
— Ну, ну… — укоризненно произносит Байниш. — Разве я никогда не угощал твоих девочек редькой!
— Ладно, одну! — Кузнечиха стоит красная как рак.
— Нет! Четыре! Каждому по половинке!
— Нет! — кричит Лая.
— Ну, три! — кричит Байниш.
— Одну! — пищит Лая.
— Три!
— Нет!
— Три!
— Две!
— Ладно, давай! — глаза у него горят, кажется, он готов убить человека. — И три луковицы!..
— Нет! — визжит Лая.
— Две!
— Нет!
— Одну! — кричит Байниш.
— На!
После этой сцены, которая походила скорее на грабеж, чем на дружеский разговор, еще не успокоившись, дрожа, как конь от быстрой езды, Байниш опускается на скамейку. Кузнечиха, продолжая защищать зелень своим телом, понемногу приходит в себя после неожиданного нападения и вот-вот заплачет, но Байниш ее мигом обезоруживает словами о том, какое доброе дело сделала она для его детей, и о том, что осенью он поедет в соседние села и привезет ее девочкам яблок. Однако кузнечиха того и гляди расплачется и раскричится, и Байниш ее чуточку побаивается. Поэтому он предпочитает уйти в кузницу и еще некоторое время раздувает меха.
— Ну, с богом, Сруль, — говорит он, когда подковы готовы. — Скажи Лае, что она хорошая, что я привезу ей огурцов.
И вот он уже идет домой. До дома полчаса ходьбы. Его голова, устремленная вперед, опережает сгорбленную спину.
Он проходит мимо русинских халуп, где не на чем остановить взор, мимо еврейских лачуг, у хозяев которых нет ничего за душой, мимо лавчонок, где ему не поверят в долг потому, что в одних он никогда ничего не покупает, а в других уже задолжал.
«Добрый завтрашний день»! Это главное. Потому что сегодняшний он уж как-нибудь проживет. Фи! Мало ли он их скоротал за те тридцать два года, которые он живет на свете! И разве когда-либо допустил всевышний, чтобы кто-нибудь из его евреев умер от голода? От сотворения мира такого еще не случалось. В самые критические моменты бог посылал с неба манну и перепелок{236}. И если бы жизнь стала совсем невыносимой, то и тогда бы ни он, ни его дети не погибли от голода. Хорошо! Борах Давидович видел его в Прибуе. Видел, как он возил камень. Хорошо! Но он заработал только пятнадцать крон. Ему и выплатили пятнадцать крен, ровно пятнадцать, ни на геллер больше, ни на геллер меньше. Нужно только внушить себе, что в день выдачи заработка все обстояло так: у подрядчика на столе стояла кружка из-под кофе с засохшей пенкой, тут же лежал открытый складной нож с роговой рукояткой, а возле него — деньги Байниша, десятикроновая бумажка и пятикроновая монета. Больше на столе не было ничего. Совершенно чистый, пустой стол. Заработанные пятнадцать крон он отдал жене, та купила на них кукурузы, которой они и питались. Трудно сейчас даже представить, что было бы, не заработай он эти пятнадцать крон. Умер бы, пожалуй, от голода, а? Ведь могло же случиться так, что эту работу подрядчик отдал бы Гутману Кацу, или Гоби Абрамовичу, или, наконец, Мордхе Гершковичу? Значит, тогда бы его дети умерли с голоду, так, что ли? Нет, не умерли бы… Милый боже послал бы им на следующий день перепелок.
Когда Байниш выходит за околицу, приближается к дому и за поворотом дороги видит развешанные на плетне возле своей хибары лохмотья, среди которых выделяется красная юбка жены и надетый на шест горшок, рези в желудке переходят во что-то такое, что уже является не только голодом.
— Принес? — спрашивает его жена, едва он закрывает за собой дверь.
— Нет, — робко отвечает он и отворачивается от жены прежде, чем увидит в ее глазах слезы злобы.
Он подходит к своему первенцу, десятилетнему мальчугану, который, стоя у стола, бубнил что-то из древнееврейской книги, а теперь смотрит на отца умными, черными миндалевидными глазами. И страх, внушенный укоризненным выражением лица жены, полностью уравновешивается чувством гордости, испытываемым Байнишем при виде этих глаз, краше которых не могло быть даже у самого царя Соломона, этого лица, нежного, как овечья шерсть, этих золотых кудрей, что сияют, как солнце.
Но в хижине с земляным полом детей много, и забыть о них нельзя.
— Дети! — торжественно восклицает Байниш и поднимает кверху указательный палец, — папа вам что-то принес. Что-то очень хорошее. Конечно, немного, хорошего всегда должно быть понемножку, но зато это очень полезно, очень, очень. — Байниш причмокивает, складывает большой и указательный пальцы щепотью. — И очень вкусно… Ну, мама, нарежь-ка нашим детишкам ровненькими кружочками вот эту замечательную редьку и луковичку. — Но так как мама и не думает этого делать, а срывает с шеста над печкой белье и со злостью швыряет его на край скамейки, Байниш принимается за овощи сам. — Теперь немножко посолим их и дадим детишкам… А нашим самым маленьким папа принес еще кусочек белого хлеба… белого, белого, как первый снежок, и сладкого, как сахар… Вот и будет у нас обед, какого не было сегодня у самого пана президента…
После этого Байниш Зисович подзывает своего первенца, Хаймика, и выходит с ним в сени.
Он садится на старую бочку из-под капусты, а мальчугана помещает между коленями.
Какой ты красивый, Иосиф, сын Иакова!{237} Байниш чувствует, что если он еще хотя бы минуту будет смотреть в черную глубину его глаз, если он хоть раз проведет рукой по этим светлым, почти белокурым волосам, если эти чудесные губки будут продолжать мудро улыбаться ему, то мягкая волна, которая пробегает по его позвоночнику, превратится во что-то такое, чего он сейчас никак не может желать. Поэтому он говорит с ласковой отцовской строгостью:
— Хаймик, ты съел за завтраком три картофелины.
— Две, — поправляет мальчик.
— Ну, это все равно, две или три. Папа тоже хочет кушать. Но дома мало еды, и то, что у нас есть, мы должны оставить самым маленьким…
Мальчуган смотрит на отца миндалевидными глазами и горячо кивает головой, словно желая этим сказать, что таково и его мнение, словно стараясь как можно скорее рассеять даже тень подозрения в том, будто он мог подумать иначе.
— …потому что мы оба не какие-нибудь там гои, которые думают только о еде, потому что мы евреи и должны обращать свои мысли к предметам возвышенным, потому что мы закалены и нам нипочем такой пустяк, как минутка голода, потому что мы знаем, что вечный всегда заботится о том, чтобы ни один еврей не умер с голоду, и что он еще пошлет нам что-нибудь до вечера.
Хаим энергично кивает головой и широко улыбается.
— Ну, я так и знал, мой милый, мой сынок, — говорит отец, гладит мальчика по волосам и снова чувствует, как по всему телу разливается теплая волна. — Ну, пошли к детишкам!
Собственно, как представлял себе все это Байниш Зисович? Сколько человек он собирался насытить этими несколькими колечками редьки и лука? Сколько раз, думал он, откусят самые маленькие ломоть от каравая Эстер Фукс?
— Папа, я хочу кушать, — сердито проговорил семилетний Гоби.
— Папа, я хочу кушать! — как попугай повторил шестилетний Шлойме.
А пятилетний Сами, уразумев тщету словесных аргументов, сразу принялся реветь. За ним зарядила Ганеле. И все вдруг сразу заревело, жалобно, зло, укоризненно, вызывающе, неумолимо, настойчиво, а тут еще, боже ты мой, из-за печки выскочила беременная жена Ройза, хватила раз, другой крышкой от кастрюли и ну визжать, да так, что уши заложило. Кричит, причитает что-то о непутевом муже, о лодыре, который целую неделю шлялся со своей клячей черт знает где, а принес всего-навсего пятнадцать крон, о несчастном том дне, когда она появилась на свет божий, о своем отце и покойной матери, о раввине, а сама в это время, стиснув кулаки, с красными пятнами на щеках подступает к столу. Тут уже не удерживается и десятилетний Хаймик. Он отчаянно кричит: «Мама! Мама!», обеими руками упирается в ее живот, отталкивает назад.
Байниш Зисович озадачен этой домашней революцией. Он не знает, что ему предпринять. Голова идет кругом, в глазах темно. Но уже в следующее мгновение он опускается перед детьми на корточки. Бьет в ладоши. Хохочет.
— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Детишки Зисович будут плакать? Го-го-го! Где там! Ладушки, ладушки! Юла-ла! Юла-ла! Детишки Зисович никогда не плачут! Никогда, никогда. Потому что у них богатый папа, и он им наносит еды и всего, всего, чего они только захотят, потому что у него много денег, уй-уй, очень много денег, потому что он богач, и ребятишки Зисович — дети богача, уй-уй, юла-ла, юла-ла, юла, юла-ла.
Байниш Зисович вскакивает и пытается перекричать всеобщий плач:
— Юла-ла, юла-ла, юла, юла, юла-ла! — И он отплясывает, прыгает, закидывая ногу за ногу, поочередно выбрасывает их кверху, гулко притопывает, а руки то упирает в бока, то вскидывает над головой, то разбрасывает в стороны и бьет в ладоши: — Юла-ла, юла-ла… Потому что из Хаймика господь бог сделает великого доктора… а из Гутманека — великого купца, и у него будут в Мукачеве на площади три дома, уй-уй… А Гобинек и Шлоймечек поедут в Америку… Гоби будет там королем, Шлоймек губернатором, юла-ла, юла-ла… И они пришлют оттуда за Самичком и Пинкасеком чудесный корабль и билеты первого класса, юха-ха, а для Ганеле и Ентеле справят приданое, каждой по миллиону… юла-ла, юла-ла, юла-юла, юла-ла.
Теперь к отцу присоединяется десятилетний Хаймик, и тоже танцует, и тоже прыгает: «юла-ла, юла-ла», и тоже закидывает ногу за ногу, и выбрасывает их перед собой… Отец и сын берутся за руки, и оба вскидывают ноги, топочут, напевают: «юла-ла, юла-ла, юла-юла, юла-ла, юла-ла, юла, юла, юла-ла…»
Нет, в этот день всевышний уже не послал с неба манны и ни единой перепелки до самого вечера. Чудо это господь бог сотворил только на следующий день, к полудню. Байниш Зисович был на другом конце села и неожиданно заметил двух туристов: пана в костюме из клетчатой материи, метр которой стоил по меньшей мере шестьдесят крон, и хорошенькую пухленькую пани, которая, как показалось Байнишу, немножко прихрамывала. Он сразу понял, что их посылает к нему сам господь бог так же, как когда-то послал барана Аврааму{238}. Посылает для того, чтобы их сделать жертвами, а не его детей. В ту же минуту голова Байниша начала лихорадочно работать.
Божьи умыслы были ясны. А если ясны божьи умыслы — значит, ясно все. Тогда уже человеку остается только руководствоваться ими и всеми силами стараться претворить их в жизнь. Бог посылает к нему господ. О подробностях он не заботится, да и не может заботиться. Это уже дело человека, его обязанность — перестроить окружающий мир так, чтобы в нем божья воля могла быть исполнена.
Он подождал туристов на дороге, и так как обычай не позволял ему снять шапку, то он принял учтивую позу и сказал почтительным, но отнюдь не просящим тоном:
— Извините меня, ваше благородие, но, видит бог, мои дети не ели со вчерашнего дня…
Пан холодно осмотрел его с головы до пят и сказал:
— Есть в этой деревне хорошая лошадь?
— Хорошая лошадь? — переспросил Байниш. «Ага! Видно, паничке уже невмоготу идти. Видно, она ссадила или подвернула ногу…» Голова Байниша работала, фантазия разыгралась. Высоко над землей была божья воля, единственная опорная точка во всем небесном пространстве, крепкая и сверкающая, как алмаз… А внизу лежал мир, который хотя и не утратил своего обычного вида, но формы которого стали какими-то удивительно мягкими, словно они были из воска и их можно было мять. Мяли их руки Байниша. Его пальцы лихорадочно работали и тогда, когда он, прикрывая свою работу словами, повторил: — Хорошая лошадь? — и потом вдруг выпалил, энергично взмахнув рукой, словно работа его была окончена: — В этой деревне есть только одна хорошая лошадь. У Мордхе Вольфа.
— Знаю я, — заметил пан, — какая-нибудь слепая, хромая двадцатилетняя кляча!
— Гм… — Байниш учтиво улыбнулся шутке. — Этой лошади семь лет, ваше благородие. Мордхе Вольф отдал за нее тысячу четыреста. Будет великим счастьем, если она стоит у него дома. Сейчас в деревне вы не найдете ни одной лошади. Кто на полонинах, кто в Прибуе возит на шоссе камень.
— Так погоди! Дома она или нет?
— Я думаю…
— Ты не думай! Говори «да» или «нет»?
— Наверное, дома.
— Ну и прекрасно! — засмеялся пан. — А далеко идти к этому твоему Мордхе?
— Далеко? Нет, совсем недалеко! Самая малость.
— А в какую это сторону?
— А вот, ваше благородие, как к городу идти, в ту же сторону. Самая малость. Только как же пойдет милостивая пани?
— Ага, уже заметил и это! Ну, четверть часа пройдем?
— Пройдем.
— А! Ну это значит, что все полчаса.
— Полчаса! — Байниш обиженно ухмыльнулся.
— Ну, этак мы можем долго препираться! — И пан заговорил с пани на каком-то незнакомом языке, наверное на французском. Байнишу показалось, что дело решается в его пользу. Наконец, пан обратился к нему: — Вот что я тебе скажу, — при этих словах он посмотрел на часы. — Даю тебе двадцать минут. Приходим через двадцать минут — получаешь плату, приходим хотя бы на полминуты позже — ничего не получишь. Согласен? Не согласен?
— Ведь я же вам говорю, ваше благородие, четверть часа! А может быть, милостивая пани хочет подождать здесь, пока Мордхе Вольф приведет лошадь?
— Нет! Милостивая пани не хочет здесь ждать. Милостивой пани хочется как можно скорее увидеть этого арабского скакуна.
Байниш берет у господ рюкзаки — о боже, какие они тяжелые! — и чуть ли не бегом устремляется по направлению к дому.
— Передавай там привет! — насмешливо кричит ему вдогонку пан.
Тогда Байниш старается идти с ними в ногу. «Сколько взять за лошадь?» — думает он и говорит:
— Вы здесь давно уже, ваше благородие?
— Вполне достаточно для того, чтобы не позволить ни тебе, ни Мордхе обвести меня вокруг пальца! — смеется пан.
— Может быть, подыскать и вторую лошадь? Я тогда забегу…
— Нет, нет. Мы еще о первой не договорились. Сколько тут берут за лошадь с человеком в день?
— Сколько берут за лошадь с человеком в день? За лошадь с человеком берут по-разному. Когда как…
— Понимаю, понимаю. — Пан грозит Байнишу пальцем и смеется.
— Это очень хорошая лошадь, — говорит Байниш, а сам думает: «М-м, хитрый гой! Но у него хорошее настроение, он смеется, и пани тоже, а это не так уж плохо…» — Эта лошадь, если только милостивая пани пожелает, полетит с ней, как ласточка, а не пожелает — пойдет под ней, как покорная овечка. А как эта лошадка умеет карабкаться на горы! Уй! Прямо как кошка. Вы спрашиваете, сколько берут за лошадь и за человека в день? А я почем знаю, сколько Мордхе запросит?
Вот уж воистину: торговля — это не просто добывание денег, это и забава. И часто забава очень волнующая, так как во время торговли дело заключается ни много ни мало как в том, чтобы снова и снова преображать мир. Ошибочно полагать, будто все окружающее нас является тем, чем оно представляется нашим чувствам, чем-то чуждым, чем-то несокрушимым, чем-то не поддающимся нашим трудовым усилиям. Ничего подобного! Мир есть то, что мы из него сделаем сами! Так же вот и минута является тем, чем мы ее сделаем сами! Равно это относится и к людям и к окружающим нас предметам.
Байниш бежит к дому, увлекая за собой двух господ. Бог творит только чудо. Все остальное — человеческая голова.
Нет, они шли не четверть часа. Но обеспокоенный Байниш, который готов был лететь в десять раз быстрее, чем этого желали господа, сумел достичь по крайней мере того, что за пятнадцать минут они миновали покосившуюся деревню, где за каждой хижиной таилась смертельная опасность, попросту говоря — лошадь, которая могла объявиться в любую минуту, и вышли на окраину, где одинокие домики были разбросаны только на склонах холмов у дороги.
Шли они и не двадцать минут и не полчаса. Путешествие их заняло добрых три четверти часа. После первых пятнадцати минут у пана начало пропадать хорошее настроение. Он то и дело посматривал на часы, беспрестанно спрашивая, далеко ли еще, и голос его становился все более и более гневным. Потом он начал что-то со злостью говорить женщине по-французски. Потом стал ругаться. Сначала ругался вообще, а затем перешел на Байниша. Само собой разумеется, он оказался антисемитом. Наконец, он рассвирепел не на шутку, орал, что больше не сделает ни шагу, срывал у Байниша с плеч рюкзаки и швырял их на дорогу, в пыль. Но самое опасное — он кричал людям, которых видел у хат или в поле, чтобы они привели ему лошадь, немедленно, сию же минуту, что он заплатит за нее столько, сколько они пожелают. Но, слава богу, люди пугались его крика, не понимали, чего от них хотят, и либо прятались в хаты, либо удивленно озирались на пана. Милостивая пани тоже было сначала начала кричать что-то о бесстыдстве, какого она никогда, за всю свою жизнь не видела, а потом принялась успокаивать пана. Но тот ей что-то с яростью отвечал, так что в конце концов они уже ругались между собой.
Когда рюкзаки с плеч Байниша были сброшены в очередной раз, Байниш, как человек деликатный, отошел от господ шагов на десять и сделал вид, будто не слышит супружеской ссоры. Интересно, как долго может такой пан кипятиться? Четверть часа? Полчаса? Только нет, не дольше, дольше он не выдержит. И лишь когда сумасшедший гой зашел так далеко, что даже перестал ругать евреев и величал ослом и балбесом уже самого себя, только тогда учтивый Байниш отважился приблизиться на несколько шагов. Несмотря на то, что господа его вовсе не слушали, несмотря на то, что им было безразлично, существует он на белом свете или не существует, несмотря на то, что он был для них ничтожней червя, ничтожней праха, «ничто», невзирая на бесцельность своих слов, он все-таки говорил. Говорил о том, что осталось еще идти совсем немного, что дом Вольфа в двух шагах вон от того места, где у реки поворачивает дорога; о том, что, пожелай их благородие нанять какую-нибудь другую лошадь, им все равно пришлось бы ждать несколько часов, пока ее приведут с полонины, что еще не известно, какая это будет лошадь, и, кто знает, сумеют ли они на ней добраться до города к вечеру. Но в пана вселилась какая-то дьявольская энергия. Он вдруг взбежал по склону к ближайшей из тех трех хат, которые расположились там. Ну, что ж, пускай пробежится. У Мазухи лошади нет, а полезет еще выше, к Иванишам и Косяковым, — так и оттуда уйдет не солоно хлебавши. И Байниш спокойно продолжает стоять, где остановился.
— Ярда, Ярда! — зовет пани мужа, когда тот, разъяренный, выбегает из дверей мазуховой халупы. Но пана уже не остановить.
Он забирается еще выше — к Иванишам, и еще выше — к Косяковым. Байниш что-то смиренно рассказывает пани, которая не слушает его и кричит: «Ярда! Ярда!»
Все это кончилось, разумеется, тем, что через четверть часа Байниш снова взвалил себе на плечи рюкзаки, и все трое отправились дальше.
В самом деле, коммерция бывает порой захватывающей забавой.
Последние пятнадцать минут буйный господин шел покорно, как ягненок. И он и его супруга были настолько вялы, что походили на хорошо замешенный бархес{239}.
А когда показалась красная тряпка на плетне и посаженный на шест горшок, Байниш весьма укоризненно и обиженно сказал:
— Ну, вот и пришли!
Байниш вбегает в сени и кричит так, чтобы его голос был слышен на дороге:
— Мордхе Вольф дома?.. А лошадь дома? — После чего тихо шепчет жене: — Двадцать пять крон! — и выбегает из хаты.
— Слава боту! — весело кричит он. — Лошадь дома. Я и сам рад-радехонек! Но Мордхе дома нету. Так что вместо него пойду я. Сейчас придет его жена. Через пять минут милостивая пани уже будет сидеть на лошадке.
На пороге появляется Ройза, пряча руки под фартуком.
— Послушай, Ройза, — неторопливо обращается к ней Байниш. — Тут вот господа хотели бы взять ненадолго вашу лошадь, милостивая пани ссадила себе ногу. Сколько Мордхе за это берет?
— Двадцать пять крон, — послушно и бесстрастно отвечает Ройза.
— Что-о-о? — снова намеревается вознегодовать пан, но тут же, махнув рукой, говорит: — Седлай, седлай уж!
Тогда Байниш выносит из темного крошечного хлева — как там вообще помещается лошадь? — деревянное седло. Делает он это невероятно медленно. Но критическая минута когда-нибудь должна настать — от этого никуда не уйдешь. И Байниш выводит свою Юльчу. Пока она перешагивает через порог, он еще прикрывает ее собой, но все это напрасно! Чему быть, того не миновать. Освещенная лучами солнца Юльча предстает во всей своей «красе», которую не умалят никакие смешки Байниша, ни бойкое: «Но, но! Одну минуточку, милостивая пани!» И когда разозленный пан видит этого, самого лучшего коня во всей деревне, этого скакуна, который через минуту полетит с милостивой пани подобно ласточке, когда он видит эту, немногим больше козы, вздутую, как футбольный мяч, грязную, с согнутыми коленями, с бельмом на правом глазу, с шеей, натертой от многолетнего таскания с гор мешков с влажным сыром, эту по меньшей мере двадцатилетнюю клячу, — он, подавляя гнев, разражается смехом. Смехом, который, будучи злым в самом начале, скоро переходит в совершенно искренний, захлебывающийся, веселый и невероятно звонкий хохот, от которого пан беспрестанно мотает головой и содрогается всем телом. И паничка тоже заливается подобно горлице, и, заражая один другого, они хохочут, не зная меры, и веселью их нет конца края. А Юльча, опустив голову, равнодушно стоит на своих кривых ногах, настолько кривых, что, кажется, она готова тут же рухнуть на колени, и, сонно моргая здоровым глазом, ждет, когда ее оседлают. Байниш чуточку обижен.
— Ведь это очень хорошая лошадь. Я ее отлично знаю.
— Ну, погоди у меня, — тщетно пытается защитить свое достоинство строгим тоном сангвинический пан, — окружной гетман покажет этому твоему Мордхе, как брать за такую дохлятину двадцать пять крон!
— Сядешь на эту развалину? — спрашивает он жену.
Та, вытирая глаза, отвечает ему что-то по-французски, что не может быть не чем иным, кроме как «что еще остается делать!»
Пан с веселым ужасом качает головой — уж как я знаю этих шарлатанов! А все-таки каждый раз остаюсь в дураках!
Байниш Зисович приносит рваные Ройзины юбки, подкладывает их под седло, а сверху постилает старые мешки, чтобы пани было мягко сидеть. Его беременная жена неподвижно стоит около дома, безучастно наблюдая за действиями мужа. Десятилетний Хаймик с серьезным видом, ничем не выдавая, что Байниш Зисович его отец, приносит из дома обрывки веревок и проволоки и связывает их вместе. Господа снова говорят по-французски. И уже снова дружески и весело. Божьи замыслы претворяются в жизнь, и Байниш чувствует, что он, наконец, может получить часть своей мзды.
И пока Хаймик завязывает на конце размочаленной подпруги большой неуклюжий узел, соединяя подпругу с обрывком проволоки, чтобы потом сделать из них стремя, Байниш учтиво подходит к пану-антисемиту:
— Простите покорнейше, ваше благородие, не извольте гневаться, но я еще ничего не ел со вчерашнего утра, ни я, ни мои дети. Бог тему свидетель. Не откажите мне в небольшом задатке, я обслужу вас, как полагается, а с Мордхе мы уже как-нибудь сочтемся. Мне бы только хотелось купить на дорогу кусок хлеба.
Хорошенькая паничка, о чем-то переговорив с мужем, приказывает:
— Развяжите этот рюкзак! — И когда Байниш исполняет ее приказание, добавляет: — Наверху лежит хлеб!
И в самом деле, хлеб лежит на самом верху, завернутый в чистую белую салфетку. Каких-нибудь следов свинины и в помине нет. В таком случае он вправе принять от гоя хлеб. Байниш вежливо, отнюдь не униженно, благодарит господ, разрезает хлеб и большую половину протягивает жене:
— Ройза, отнеси, пожалуйста, этот хлеб моей жене, пускай покормит детей!
Хаймик устремляет на хлеб красноречивый взгляд.
Пан дает Байнишу десять крон задатка.
— И это, Ройза, отнеси жене!
Теперь можно ехать.
Пан-антисемит, то ли потому, что ему стало стыдно за свой крик, то ли потому, что его немного тронула нищета этой деревни, улыбается и говорит:
— А теперь скажи мне, любезный, сколько ты получишь от Мордхе за то, что тебе удалось сосватать глупому гою эту клячу?
Байниш отламывает кусочки хлеба, набивает ими рот, и его шевелящиеся губы расплываются в широкую улыбку.
— Сколько-нибудь должен дать! Сами знаете, ваше благородие.
— Ах, мне ли вас не знать, прохвостов!
Они поднимаются вверх по крутому склону холма, держа путь в горы, с тем чтобы оттуда попасть в другую долину, на шоссе, а по нему добраться до ближайшего города. Старая ревматическая Юльча разошлась и хотя не спешит, но трусит с паничкой на хребте и рюкзаком, укрепленным у седла, вполне сносно. Кругленькая паничка, разумеется, далеко не цирковая наездница, и поэтому она рада уже тому, что сидит. Над ними по небу проплывают барашки, уходящий ввысь склон впереди окутан полумраком, но все остальное вокруг — и горы с обеих сторон и глубокое ущелье позади с маленькой речкой — все залито солнцем, а река под его лучами сверкает и искрится. Пани ежеминутно останавливает Юльчу, обращает свой взор к ущелью и вздыхает: «Боже, какая прелесть!» И это «боже» она произносит с таким пафосом, точно господь бог в самом деле нужен ей в этот момент до зарезу. Сангвинический пан, глядя на нее, ласково улыбается.
Само собой разумеется, все это только господские выдумки. День, правда, хорош, и идти под тенью облаков не так уж плохо, но все же это еще недостаточное основание для безудержных восторгов, тем более что в этих глыбах мертвого камня ничего, ну абсолютно ничего привлекательного нет. Но Байниш разделяет вдохновение пани и про себя и вслух. Правда, вдохновляют его не эти горы, а та радость, какая царит в его душе, где так же, как и здесь, на земле, все залито солнцем, и плывут такие же курчавые барашки, и все весело покачивается то вперед, то назад, и поет: «юла-ла! юла-ла!» — и все танцует, и все закидывает ногу за ногу, и выбрасывает их кверху, притопывает, только происходит это бесконечно спокойнее, чем вчера, и совершенно бесшумно, как скольжение тени по стене, юла-ла, юла-ла, юла, юла, юла-ла. Адонай{240} сотворил новое чудо, и то, чего вчера еще не было, сегодня уже есть, юла-ла, юла-ла, и это «то», чего вчера еще не было, а сегодня уже есть, — не что иное, как зеленая стокроновая ассигнация. Она спрятана у него на груди в холщовом мешочке с тесемочкой, та самая ассигнация, которую он заработал за шесть дней, пока подвозил камень на строительство прибуйского шоссе, та самая, которая при выплате заработка лежала на столе подрядчика возле десятикроновой бумажки и пятикроновой монеты, отданных им жене, возле раскрытого складного ножа и кружки из-под кофе с засохшей пенкой, та самая, которую он завтра положит к уже имеющимся у него девяти, на которые Хаймик будет учиться и станет важным господином, и которые он умножит в тысячу, в десять тысяч раз, потому что бедный человек подобен мертвому человеку, юла-ла, потому что руки не делают ничего, а все делает голова, юла-юла, потому что надо перестраивать мир в свете божьих замыслов и потому что всевышний еще ни разу не допустил того, чтобы хоть один из евреев умер с голоду, юла, юла, юла-ла.
И неприметный кусочек горячей благодарности и любви к богу, до смешного неприметный, хотя даже и в этих размерах похожий на гигантскую гору, он переносит на орудия своей мудрости, на этих двух гоев, которых господь, как когда-то барана Аврааму, послал ему для того, чтобы его первенец не стал жертвой голода. Что он должен сказать им приятного, что он должен сделать для них, чтобы они радовались вместе с ним?
— Боже, какая прелесть! — вздыхает хорошенькая пани и оборачивается в седле.
— Это что, милостивая пани, то ли еще увидите, — улыбается Байниш и думает о городских улицах со сверкающими витринами, полными товаров, о бочках золота, серебра и драгоценных камней, о глазах Хаймика, обо всем том воистину прекрасном, что ему хотелось бы показать этой ласковой гоичке.
— Как называется эта конусообразная вершина?
— Эта вершина? Та, что похожа на конус? А, она называется Амгорец.
— А та как называется, вон та?
— Вон та?
Разумеется, Байниш не знает названия ни одной из гор. Такие глупости могут занимать только гоев. Какая разница, как называется та или иная гора (разве заслуживает вообще какого-нибудь названия никчемная громада из камня и глины?), но почему бы ему не сделать приятное пани, а тем самым и себе? Поэтому пока кругленькая паничка (она действительно великолепна!) вынимает из нагрудного кармана своей туристской блузы записную книжечку с золотым обрезом и все в нее записывает, Байниш придумывает новые и новые названия: Цицкес, Тохес, Шамесова, Миква, Ганев, Коветны, Толе, Большой Мингорец и Малый Мингорец, Большой Келев и Малый Келев{241}, и если понадобится, то он будет придумывать их три недели кряду.
— Какие странные названия! — удивляется красивая пани.
— Да, тут вообще названия интересные, — замечает пан-антисемит. — Здесь славянский элемент соприкасался с румынским, а туземным населением были татары.
— А разбойники тут водятся? — спрашивает паничка.
На этот раз Байниш оказывается в несколько затруднительном положении: спрашивает ли его об этом пани потому, что она боится разбойников, или же ей просто хочется послушать о них разные истории. И тотчас, по его воле, оказывается, что дело с разбойниками обстоит так: сейчас их уже нет совсем, так что даже можно открыто возить жемчуга и бриллианты на Юльчином хребте, но они были до недавнего времени, совершали жестокие поступки, убивали, пускали петухов, грабили, избивали путников и вообще «ой-ой-ой, как было страшно!»
Байниш проездил с гоями не день и не два, а целых четыре. Пан обращался к нему по имени и на «ты», пани говорила ему «вы» и величала его «пан Байниш». Они не только платили ему двадцать пять крон в день, но еще сверх того давали пять крон на пропитание. И если бы Байниш осмелился есть трефное{242}, они кормили бы его с утра до вечера. Пан-антисемит пообещал ему старый костюм, а красивая пани — пальто для жены и ботинки для детей. Их адрес лежит у Байниша в кармане на тот случай, если господа забудут свои обещания и им понадобится напомнить о них.
Чудо свершилось. Восторг прошел. Пылающий куст в пустыне, в котором перед ним явился Христос, догорел, и пустыня вновь обрела трезвое освещение будней. Ее формы отвердели, как остывший воск, который уже нельзя мять. Нельзя мять до тех пор, пока снова не дозволит всевышний.
Да будет благословенно имя господне!
Перевод И. Иванова.
О ПЕЧАЛЬНЫХ ГЛАЗАХ ГАНЫ КАРАДЖИЧЕВОЙ{243}
Глаза Ганы Караджичевой, когда-то самые прекрасные во всей Поляне, глаза-миндалины, неслыханно большие, черные и такие глубокие, — глянешь, закружится голова! — с длинными ресницами, нежно смягчающими их блеск, без чего он был бы невыносим для мужского сердца, эти самые удивительные на свете глаза стали печальными и печальными останутся до той минуты, когда ее дорогой Иво (дай бог, чтоб это был он!) закроет их серебряными монетами. И очень возможно, что дивный блеск ее глубоких глаз унаследуют и дети Ганеле Шафар.
Иво Караджич с супругой Ганой, урожденной Шафаржовой, оповещают…
Боже мой, как это странно звучит!
Как по-гойски это звучит! Все меняется из-за лишней буквы… И до чего правы мудрые, знающие люди, говоря: «Иудейство — это цепь. Троньте одно звено — зазвенит вся. Прибавьте какой-нибудь значок или уберите хоть одну запятую — и вы все уничтожили».
Гана Караджичева лишь по рассказам знала о богатстве своей семьи да немного помнила его со времен деда Абрама. Она знает только, что самая старшая сестра, Этелька, получила в приданое двести тысяч довоенных крон, и Балинка столько же, так что ей удалось выйти за мукачевского торговца овчинами. Ганеле, самой младшей, ничего не досталось… А когда-то Шафары были очень богаты, и дед был знатным из знатных: не кто-нибудь — Абрам Шафар из Поляны! Бывало, в Будапеште он пил с графом Полудёем, Палфи и Берчени дорогие ликеры (не вино, нет, боже сохрани, этого нельзя, над вином христиане творят свое церковное колдовство{244}), играл с ними в карты на дукаты. Но во что превратились теперь корчма и лавка, которую можно всю унести за плечами в три приема… Во что превратился этот большой дом с обветшалыми хозяйственными постройками, с полуразрушенной галереей, щелястым полом, в котором при каждом неосторожном шаге так и хлопают доски? Можно ли сравнивать с тем, как все это выглядело в дедовские времена? Деду Абраму принадлежала чуть не половина всей полянской земли, больше половины урбариальных лесов;{245} у него была каменоломня, семь русинских хат и все три мельницы, что стоят на реке и на ручье. Ах, мельницы, чудесные маленькие мельницы, которых Гана Караджичева никогда не забудет, даже если проживет сто лет. На каждой из них была толчея, деревянные песты стучали по шерсти удивительно ритмично, и стук этот был слышен лишь в ночной тишине. Удивительная ночная песня, которую не услышишь больше нигде на свете. Мельницы баюкали маленькую девочку Ганеле, вторили мечтам юной Ганеле, и ритм смягчаемых шерстью ударов, несшихся от мельницы к мельнице, конечно, стал бы ритмом ее жизни, если б полянская ночная песня не оборвалась так внезапно и навсегда.
Дед Абрам был богат не только этим. Он арендовал у князя полонину в горах и выгодно сдавал ее отдельными участками под пашню русинам. По хатам и на зимовках далеко в горах держал он свой скот, так как господь благословил плодовитостью стада его, и дед отдавал своих яловых коров на летнюю пастьбу и зимний откорм крестьянам, а те получали за это молоко и половину телят. И еще дед Абрам ссужал деньги — пятьдесят золотых из десяти процентов в день — дороже только в том случае, если русинам удавалось выгодно продать скот контрабандой и если речь шла о более крупном кредите лишь на несколько дней. Гана Караджичева как во сне, не то по рассказам, не то на основании виденного, припоминает таинственные денежные сделки в каморке за корчмой, шушуканье с крестьянами где-нибудь в углу лавки, строгий взгляд деда из-под взлохмаченных пучков бровей, и пальцы, медленно тянущиеся к кошелю с ремешком, когда-то бывшему красным. К более позднему времени относятся отчетливые воспоминания о ряде крестьянских телег со щебнем из дедовских каменоломен и людях, ждущих в корчме приказа: потому что все должники отрабатывали проценты, а иной раз и долг, конской тягой и собственными руками — либо в дедушкином хозяйстве, либо при мощении шоссе, починке лесных дорог и мостиков. Никто не мог состязаться с полянским Шафаром в уменье получать наряды на общественные работы. И что бы ни заработала деревня на рубке или сплаве леса — все это рано или поздно неизбежно оказывалось между другими банкнотами в дедушкином кошеле с ремешком или, звеня, скатывалось в одно из прямоугольных отверстий, когда-то вырезанных в прилавке и буфетной стойке, но со временем отшлифованных концами пальцев всей семьи до того, что они потеряли правильную форму.
Куда девать деньги, если они непрерывно текут в дом (не всегда рекою, — так спокойным ручьем, слава богу)? Если грязь большого двора всегда истоптана курами, гусями, утками и стаями индюшек, если мука — с собственных мельниц, овощи и фрукты — собственных садов и огородов, молоко и мясо — от собственных многочисленных стад; если сундуки полны белья и посуды, а серебряные подсвечники для субботних торжеств унаследованы еще от предков? И если даже на сапоги потрачен только кусок кожи из своей лавки, а за работу ничего не отдано, потому что старый Лейзер Абрамович тоже выплачивает проценты шитьем? Удивительно ли, что семейное богатство день ото дня растет?
Биограф наместника Эдмонда Эгана{246}, этого бича божьего и губителя еврейского благополучия в тех краях, Барта{247}, видимо, не интересуется ни участниками, ни ареной событий, о которых ведет речь, — он не уделяет им никакого внимания. Но все это произошло в Поляне, и героем был Абрам Шафар. Он был тогда в зрелых летах. Когда страшный наместник с небольшим отрядом охотников проезжал по деревне, Абрам Шафар вышел из дома ему навстречу. Вместе с тремя младшими дочерями, — очень красивыми девушками в белых муслиновых платьях, со сборчатыми воланами на юбках, шарфами у пояса — красным у одной, белым у другой, зеленым у третьей, — Абрам Шафар отважился встать посреди дороги и остановить коляску охотников, низко кланяясь и протягивая руки вперед. Самая младшая дочь поднесла могущественному господину серебряный поднос, на котором стояли три чарки водки — красная, белая и зеленая, — тоже символизировавшие венгерское трехцветие, и когда наместник, которому трудно было отклонить угощение, поднесенное в таком патриотическом виде и такой красивой девушкой, пригубил одну за другой все три рюмки, — Абрам Шафар выступил вперед.
— Не разрешит ли милостивый господин смиренному еврею один-единственный вопрос? — спросил он. И, приняв двухсекундное молчание изумленного наместника за согласие, промолвил: — Могущественный и благородный господин имеет пруд, и в нем есть два сорта рыб: немного больших и жирных, которые ежегодно приносят господину отличный доход, и множество мелких рыбешек, ни на что не пригодных, которыми питаются большие. Говорят, господин решил уничтожить больших рыб, очень выгодных, чтоб было просторней малым, ни на что не пригодным. Темный полянский еврей, которому многое на свете непонятно, не понимает и этого и спрашивает покорно: поступит ли мудро могущественный и благородный господин?
Эган весело рассмеялся, кивнул кучеру, и лошади тронулись.
Понятно, почему Ганеле не помнила семейного богатства, но помнила деда. Добро тает незаметно, уплывает между пальцев, и если не считать отдельных неудач, которые сами по себе не могли быть причиной несчастья, — мы не можем даже установить, когда оно произошло. А человек умирает вдруг, его уход сопровождается надрывающими душу горькими рыданиями, которых нельзя забыть, и религиозными обрядами, которые трогают сердце. Тут не одна только смерть. И не только похороны с «Упокой, господи, душу раба твоего!», как поступают со своими покойниками гои. Нужно обязательно рвать на себе одежду, хоть и не в буквальном смысле слова, потому что, кроме небесных предметов, надо еще помнить и о дороговизне материи, а покойнику довольно, если мы надрежем ножичком лацкан кафтана или краешек женского платья и дернем; предписано неделю сидеть босым на голой земле, читая заупокойные молитвы; надлежит заказать и повесить на стену табличку, где — на десять лет вперед — по еврейскому календарю указаны годовщины смерти, когда необходимо угощать в молельне всю общину водкой, а потом идти на могилу и опять сидеть на голой земле по обычаю «шиве». Бог и покойник устроили так, чтоб их помнили: бога — вечно, а покойника — пока живы близкие.
Но есть и еще воспоминания, которые никогда не позволят Гане Караджичевой забыть деда. И если первое мы назовем чудовищным, то какое же название найдем для второго, еще более страшного? Воспоминание это связано с молитвой, которую произносит Израиль в ту минуту, когда из дома выносят покойника: уже не человека и не брата, — потому что душа его отлетела к своему творцу, — а человеческий труп, нечистый кусок смердящего мяса, вокруг которого в эти мгновения вьются демоны, терзая и пожирая его. С безжалостной, жестокой, ненавистной и тысячекратно проклятой молитвой, которой еврейская община извергает все нечистое из своей среды…
Нет, в тот раз, когда из дому выносили гроб с телом деда, Ганеле плакала, как все вокруг, но не думала о молитве. Она не знала, кто о чем просит, ничего не понимала, так как девушек не учат талмуду… Но Ганеле было суждено, чтобы эта похоронная молитва в ее жизни повторилась. И что хуже всего — повторилась без похорон. Без чьей-либо смерти. При таких обстоятельствах, когда смерть была бы для нее милостью, избавлением. Это произошло в тот миг, когда мягкий ритм полянских ночей, всю жизнь так ласково баюкавший ее стуком толчеи на дедушкиных мельницах, вдруг оборвался навсегда… И лишь роковое повторение этой жестокой молитвы было причиной тому, что самые прекрасные глаза во всей Поляне стали печальными, и, быть может, печальными будут глаза Ганиных детей.
И принес несчастье действительно Эган, ненавистный наместник. Он притеснял евреев большими налогами, установил новые законы, из-за которых евреи не могли больше выгодно ссужать деньги и скупать общинную землю; он создал множество кредитных и торговых обществ и научил деревенских жителей тратить деньги в других местах.
Бог покарал этого человека еще здесь, на земле. Однажды, когда Эган ехал один в охотничьей повозке и в сумерки слез на заброшенной лесной дороге, господь послал в него свою стрелу. На следующий день люди нашли запряженного коня, спокойно пасущегося в овраге, и в нескольких шагах от него мертвое тело со страшной раной внизу живота. Тогда обвинили евреев, и повторяют это до сих пор! Безумные! Как будто бог не сильнее всех людей в мире! Как будто еврей когда-нибудь убивал! Но, может быть, иудеи прогневали господа тем, что в этот день славили его слишком радостно и слишком громко ликовали от того, что мера его гнева исполнилась? Эгана бог уничтожил. Однако законов его не тронул. И это затем, чтоб отвлечь свой народ от накопления богатств, чтобы еще раз напомнить ему о долге покорности и о его призвании в голете{248}.
Но не только ненавистник евреев все это учинил. Может быть, виноват отчасти был и дедушка.
Дедушка начал судиться с Гершем Фуксом, отцом Соломона Фукса. С отвратительным польским евреем, который неизвестно зачем явился с подростком-сыном в Поляну откуда-то из Галиции, никем не замеченный и почти нищий. Он немного поправил свои дела, женившись на тетке Байниша Зисовича, вдове на десять лет старше его. Они перебивались, как могли: брались за поденную работу в княжестве, весной с мешком и плетеной корзинкой за плечами обходили хаты, покупая на вывоз яйца — конечно, за дедушкины деньги, из двадцати процентов. И это больше напоминало благотворительность, чем торговлю, потому что в другом месте Гершко не получил бы никакого кредита. Как-то раз он пришел и стал взывать к набожности евреев, напоминая им о долге помогать ближнему (а произнести среди евреев «гемилут хасадим»[58] — большое дело!); просил ссудить ему восемь тысяч; говорил, что скоро у него будет возможность купить за бесценок участок леса, он хорошо заработает — от этих восьми тысяч зависит вся его жизнь… Ну разве таким, как Гершко, — даже русины не звали его иначе, — можно ссужать большие деньги? Дед покачал головой. Но Гершко приходил каждый день, просил, плакал… клялся перед раввином, без конца повторял «гемилут хасадим» — и в конце концов Абрам Шафар согласился. Но Гершко на дедушкины деньги не стал покупать лес; вместо этого он открыл лавку с корчмой… Когда до деда из города дошли вести о новом заведении, он не сказал ни слова, только побелел как стена.
С тех пор Герш Фукс начал богатеть. Он снижал цены, нарушая торговую этику, переманивал у Шафара заказчиков, с каждым днем все выше поднимал голову, хорошо одевался, купил одно из самых почетных мест в синагоге, освободившееся после смерти Вольфа, и высоко носил голову — господин Герш Фукс!
Дедушка был удивительный человек; сказать по совести, он отличался неслыханным честолюбием. Целые годы он молчал; принимая от Герша платежи по договору, обменивался с ним несколькими ничего не значащими словами и только в душе грыз себя за то, что допустил все это. Но вдруг произошло одно событие. В субботу перед обедом Герш появился в синагоге в новом талесе{249}. В роскошном талесе с серебряными полосками, который был гораздо красивее дедушкиного талеса, до сих пор считавшегося самым дорогим в Поляне. Все подмигивали, посматривая на оба талеса, косились то на Фукса, то на Шафара — и усмехались. И опять побледнел дед. Нет, этого он не мог стерпеть.
На другой день он потребовал, чтобы Герш вернул весь долг до последнего геллера. Да! К черту! Пора поставить господина Фукса на место! Паршивый польский еврей! А Абрам Шафар? Пусть узнает, кто такой Шафар из Поляны! Но Герш Фукс стал оспаривать остаток долга. Дед подал на него жалобу. В ответ Герш Фукс заявил, что дед берет ростовщические проценты. Дед поднял тяжбу о луге Герша. О саде, который один крестьянин заложил Фуксу, о праве жены Герша проезжать через его двор. Дед объяснил русинам, что долг за спирт нельзя обжаловать, и навел их на мысль не платить Гершу. Так ему, паршивцу! К черту!
Ненависть еврея к гою — вещь необычайная; еврей не считает гоя равным себе, не обращает на него внимания, пренебрегает им, порой даже презирает его. Но нет на свете ничего страшнее ненависти еврея к еврею. Вражда Шафара с Фуксом продолжалась и после их смерти. После смерти обоих, потому что тяжба тянулась всю войну и еще долго после нее, и закончили ее только продолжавшие враждовать сыновья их, господин Соломон Фукс и отец Ганы Иосиф Шафар, когда шла речь о слишком большом состоянии, чтобы можно было подумать о примирении. Процессы эти стоили колоссальных денег, приходилось платить адвокатам и свидетелям. Но пока был жив дедушка, на его стороне свидетелей было больше.
Много зла причинила эта война. Однако кое в чем, наверное, был виноват и отец.
Дедушка тогда был уже очень стар, часто болел и подолгу молился в своей комнатке за корчмой. Самую младшую из своих шестерых дочерей он давно выдал замуж. За несколько месяцев до войны он договорился с сыном, который жил в Будапеште, об отцовском наследстве, продал часть поля, а всю усадьбу завещал сыну Иосифу, Ганелиному отцу. Отец всегда жил у дедушки, был давно женат, имел больших детей: Этелька стала невестой, Балинка ходила в школу, и уже появилась на свет Ганеле, в то время учившаяся ползать. Но хозяином в доме был дедушка, а отец с мамой — только продавцами в лавке и корчме; они слушались его; к серьезной торговле Абрам Шафар сына не допускал.
— Э, я сам это сделаю, у тебя несчастливая рука, — говаривал он.
Пристало ли еврею стоять на заводе за токарным станком? Да поймет ли он, что с этим станком делать? Но в то время Шафары были еще богаты, дедушка имел большие связи, а самое главное, знал, по каким адресам деньги посылать. Денег тогда, все эти четыре года, было много, но отец всю войну проработал на токарном станке в Будапеште, делая шрапнель и гранаты для армии. Говорят, за войну много народу разбогатело. Но отец этого не умел. А дедушка был стар.
Потом война, наверно, кончилась или, может, и не кончилась, а только так писали. Но отец вернулся. И как раз от того времени, которое Ганеле уже хорошо помнит, у нее сохранилось о деде одно ужасное воспоминание, отвратительней, чем рассказы о привидениях и трупах, горящих в геенне огненной; тягостное воспоминание, такое стыдное! И тем более стыдное, что никогда в жизни Ганеле не сможет рассказать об этом ни родителям, ни сестрам, ни подругам, ни даже будущему мужу.
Удивительное было время! Кому принадлежала тогда Поляна? Венграм, румынам, большевикам? В Ясине утвердилось украинское правительство{250}. А народ толковал — придут чехи. В те дни было выгодно и не очень опасно заниматься контрабандой табака. В Поляне за него платили в шесть, а то и в десять раз дороже, чем в Румынии, и под козлами можно было уместить его на сто тысяч. А стоило ли в то время говорить о границах, к тому же вот она, граница, — рукой подать. Отец ездил в одну деревню, в корчму на окраине, за румынским табаком. Приезжал туда всегда ночью в своей пролетке, а утром, чуть свет, увозил товар.
Но вот как-то ночью у этой корчмы раздался громкий крик; кто-то забарабанил в дверь. Корчмарь бросился отворять. Солдаты! Отец ни жив ни мертв вскочил с постели, стал бегать по комнате, потом залез под кровать. Вошел поручик с двумя рядовыми. Они нашли табак, который отец даже не прятал, а просто сложил в сенях. Отца тоже нашли, вытащили его из-под кровати, стали бить, надавали ему пощечин. Поручик улегся на его постель, а солдаты по очереди стерегли отца до утра.
Утром все уселись в его пролетку.
— Как тебя звать, вонючий еврей?
— Иосиф Шафар из Поляны.
— Лезь! Живо!
И поехали. Но не в Поляну, а, видно, в какое-то управление. Один солдат, верно, цыган, правил, другой поместился рядом с отцом, а на заднем сидении восседал поручик, куря папиросу за папиросой. Табак сложили под козлами. У солдат были винтовки. С полчаса ехали молча.
Километров за пять до перекрестка, где еще можно было свернуть на Поляну, отец сказал, будто про себя или так, в пространство:
— Господину офицеру могло бы быть хорошо, и мне тоже могло бы быть хорошо.
Никто ему не ответил. Поручик курил, равнодушно глядя через его плечо. Проехали еще минуту. Вдруг сидевший рядом солдат спросил отца:
— Сколько?
— Десять тысяч, — ответил отец.
— Когда?
— Если мы поедем не в управление, а в Поляну, то сейчас.
Опять наступило молчание, но отцу показалось, что офицер и солдат переглянулись. Через минуту, словно поразмыслив, солдат промолвил:
— Мало!
— Пятнадцать, — быстро сказал папа.
— Мало, еврей!
— Больше дома нет.
Но, доехав до перекрестка, они все-таки повернули к Поляне.
Приехали туда после полудня.
Отец велел маме приготовить самый вкусный обед. Солдат он усадил в корчме, а поручика провел в лучшую комнату в доме. Отец выплатил ему все деньги до последнего геллера, угостил его как следует, налил ему хорошего вина — вообще принял прекрасно.
После обеда поручик заявил, что ему скучно.
— Может быть, господин офицер играет в карты?
Но офицер с досадой махнул рукой и пошел в корчму к солдатам, которые уже пообедали и теперь потягивали дешевое вино.
Поручик подсел к ним. Они стали пить втроем, а отец то и дело подливал. Затянули какую-то песню. Горланили так, что стены дрожали. Потом опять принялись за водку. Отец, улучив момент, снял с вешалки винтовки, отнес их в конюшню и спрятал там под колодой.
Он был рад, что они пьют водку: авось скорей опьянеют, заснут, и все успокоится. Сидеть с ними было противно, но увести их в другую комнату никак не удавалось.
— Куда? — начинали шуметь солдаты, протягивая к нему руки.
В кухне отца встретила мама и очень огорчила его: оказывается, не зная, что приедут солдаты, она не успела услать Этельку из дому и впопыхах спрятала ее у больного дедушки. В дедушкину комнатку можно было пройти только через корчму, окно было забито, и Этелька никак не могла выйти оттуда. Кучер Янкель, которого мать послала в село посмотреть, где другие две девочки, нашел Балю и маленькую Ганеле на улице и отвел их к бедру{251} Кагану. Мать была очень напугана.
Солдаты скоро перепились. Пьянее всех был поручик: он все время хохотал и, видимо, не привыкший к водке, лил ее в себя как воду; отец с матерью надеялись, что он скоро свалится с ног и, бог даст, все обойдется. Солдаты заставляли еврея пить с ними за здоровье правительства, за короля, за христианскую религию, и отец с вежливой улыбкой пил, зная, что все это не имеет никакого значения, раз он мысленно говорит наоборот. А в стакан себе он наливал только воду.
Поручик на минуту вышел во двор. Он еле передвигал ноги, и это его забавляло.
Обнявшись, солдаты горланили песню. Отец запер входную дверь на засов. Но вдруг он услышал громкий хохот. Это вернулся поручик. Он споткнулся на пороге, уперся руками в косяки, и смех его превратился в ликующий вопль:
— В доме красавица! Замечательная! Я должен ее видеть! Приведите ее сюда!
Он, наверно, увидел со двора промелькнувшую в окне неосторожную Этельку.
Отец страшно испугался. Но не подал виду.
— Господин офицер шутит, — сказал он.
— Нет! — крикнул поручик, выпучив глаза.
— Господину офицеру показалось. Красавица? Какая? Где? — Отец улыбнулся.
— Нет! — гаркнул поручик, как на плацу.
Из кухни прибежала бледная, испуганная мама. Схватив поручика за рукав, она стала гладить ему плечо, умолять. Голос ее дрожал:
— Нет, нет. Тут никого нет, господин поручик. Уверяю вас, нет…
— Есть! — ревел поручик.
— Клянусь вам! Клянусь всем, что у меня есть дорогого на свете. Клянусь жизнью своей и своих детей!
Но сильное волнение выдавало ее. Отец старался оттащить ее от поручика.
— Никого нет, поверьте мне…
Вдруг поручик словно отрезвел.
Он выпрямился. Глаза его горели скорей от оскорбленной гордости, чем от алкоголя. Он твердо произнес:
— Я не стану клясться. Но даю честное слово офицера, что девушка не пострадает ни одним волосом на голове. Я должен ее видеть! Я только вежливо поцелую ей ручку, и она уйдет. Приведите ее сюда!
Но по тому, как он запнулся на слове «вежливо», было ясно, что он пьян.
— Нет! — крикнула мама и опять стала клясться, что никакой девушки нет.
Но поручик слушал ее лишь мгновение. Его глаза стали дикими. Лицо налилось кровью. Обернувшись к солдатам, он указал рукой на дедушкину каморку:
— Она там! Вышибайте дверь!
Солдаты скользнули взглядом по стенам, ища свои винтовки. Не найдя их, бросились к двери.
— Там больной оспой! Вы умрете! — не своим голосом крикнула мама.
Пощечина сбила ее с ног. Отца оттащили в угол. Навалились на дверь. Толчок, другой. Дерево затрещало.
Но вдруг дверь отворилась изнутри и оттуда с громким рыданием выбежала Этелька. Проскользнув под руками солдат, она через кухню выскочила во двор.
Солдатам понадобилось две секунды, чтобы прийти в себя от неожиданности. Потом все трое кинулись за нею.
Отец стоял посреди корчмы, схватившись за голову. Но мама нашла в себе силы броситься через комнату, через кухню — к окну; она видела, как Этелька промчалась по саду, шмыгнула в отверстие забора, где была вырвана доска, и убежала вниз к реке. Солдаты замешкались, перелезая через забор, а потом не знали, куда направиться.
— Ох! — облегченно вздохнула мама и бессильно опустилась на стул; голова ее упала на руки, уроненные на стол. — А теперь будь что будет!
И началось.
Солдаты вернулись озверелые. Начали громить корчму. Первым делом сорвали маленькие висячие керосиновые лампы, потом стульями перебили стаканы на буфетной стойке и, наконец, принялись за окна. Стекло со звоном так и посыпалось на галерею.
Папа заставил маму совсем уйти из дому, а сам спрятался во дворе, лишь изредка решаясь высунуться на галерею и через окно с треугольными обломками стекла осторожно посмотреть внутрь, на опустошение.
Все было разбито вдребезги.
Стаканы, графины, бутыли, стулья. Осколки и щепки. Стойка опрокинута. Один солдат колотил обрубком скамьи по столу, и удары гремели, как выстрелы. Другой, который утром правил лошадьми, видимо цыган, старался развалить печь, но все никак не мог поднять ногу выше фундамента и при каждом ударе чуть не падал. На столе, заставленном бутылями с водкой, их составили туда солдаты (о, они были осторожны!), сидел по-турецки поручик; он смеялся, орал и подбадривал солдат.
Отец ломал руки. Что будет дальше? Начнут грабить дом? Ворвутся в комнаты? Но до этого они еще не додумались.
Цыган добился своего. Ему надоело зря прыгать вокруг печки, и он принес пустой двадцатипятилитровый бочонок. Изо всех сил ахнул этим бочонком в печь. Печь с грохотом рухнула. Из груды камней к потолку поднялся целый столб копоти и рассеялся по всей комнате. Солдаты почернели от сажи. Поручик уже не смеялся, а хохотал, как безумный. Он повалился на стол (две бутылки полетели на пол) и катался по нему, рыча и воя.
Этой минутой воспользовался отец. Покачиваясь, спотыкаясь, размахивая руками, прерывающимся голосом подражая их крику, он прокрался с бутылкой водки в корчму и, приплясывая среди обломков, тоже весь покрывшись сажей, стал смеяться, кричать, дрыгать ногами, приплясывать. Позволил, чтоб офицер швырнул ему в лицо бутылку, которую отец ему протянул, чтобы солдаты пинали его, таскали за пейсы, еще не отросшие после войны, волочили по полу. Потом встал посреди комнаты и провозгласил тост за короля.
Слава тебе, господи!
Цыган попался на эту удочку. Он схватил огромную бутыль и стал пить из нее большими глотками. Остальные не захотели ударить лицом в грязь. Отец сейчас же принес из кухни новую бутыль и налил им.
Увидев из кухни, что с поля вернулись работники и крестятся, отец выгнал их из дома, зажег в корчме керосиновую лампу, закрыл на разбитых окнах ставни, и пошло: король, правительство, армия — до дна. Водка, водка, опять водка. И среди этого страшного разрушения отец пил вместе с ними.
Первым свалился поручик. Это было неожиданно. Он упал как подкошенный.
Недолго держался и второй солдат. Он хотел выйти, но никак не мог найти выхода и сидел теперь на полу, среди осколков, прислонившись спиной к железной выходной двери и бессмысленно уставившись перед собой стеклянными глазами.
Но с цыганом не было никакого сладу. Это была бездонная бочка. Он сидел и все кричал, а когда до него хотели дотронуться, всякий раз пробовал даже вскочить. Отец позвал батрака Янкеля. Янкель, подойдя сзади, ухватил цыгана за челюсть.
— За здоровье короля! — уже не скрывая своей ярости, крикнул отец и опрокинул цыгану в рот большой стакан денатурата.
Цыган выпучил глаза, вскинул руки, будто хватая воздух, минуту посидел с выпученными глазами и повалился навзничь.
— Сейчас, мамочка, сейчас все устрою, — крикнул отец матери, которая уже нетерпеливо стучала в окно.
Шатаясь, он вышел во двор, и мать повела его к колодцу. Там он напился, размазав холодной водой копоть на лбу, потом дал увести себя в сад, глотнул вечернего воздуха и, наконец, позволил себя пожалеть.
Между тем Ганеле, которой еще не было и шести, верно, почувствовав, что пора спать, оставила сестру и детей бедра, потихоньку ушла от Каганов и затопала домой.
Почему заперты лавка и корчма, почему закрыты ставни?
По трем ступеням, сложенным из жерновов, она поднялась на галерею, завернула за угол и, встав на цыпочки, прильнула к щели между ставней и рамой.
Два каких-то черных… два мертвых солдата… А то и три: вон там еще чьи-то ноги! Она видела все; во всяком случае — очень много.
Вот, еле передвигая ноги, входит дедушка. В одной рубашке, совсем лысый, возле ушей белые пейсы, на грудь свесилась пожелтелая от старости борода. Дед останавливается, разглядывая солдат; узнав офицера, ковыляет к нему. Вот он стоит над ним, пристально смотрит на него, и его черные глаза на белом лице, горящие из-под бровей, которые похожи на два пучка травы, взъерошенных вихрем, — страшны. Вот он немножко расставил ноги.
Но… что ж это он делает?
Дед мочится на офицера… Брызжет ему в покрытое копотью лицо… Поливает его одежду.
Нет, Ганеле не может понять, что это такое; а высший смысл дедушкиного поступка ей, наверно, не откроется никогда. Это было не просто осквернение человеческого лица. Не только месть. То, что видела Ганеле, было страшней, чем убийство.
Даже в пище, будь она приготовлена по всем правилам, есть что-то нечистое, и тот, кто хочет быть силен духом, не должен слишком много есть. В ней — некое нечистое вещество, вредное человеку, ослабляющее его, особенно в духовном отношении, обессиливающее. А в человеческой моче содержится вся нечистота, в ней как бы слилось все нечистое, она — самая нечистая из всех нечистот. Человек, забрызганный ею, перестает быть человеком. Он никогда уже не будет способен к духовной жизни, он лишится всех сил и станет совсем безвольным, навеки останется лишь призраком человека, куском грязной материи, подвластной ветру. Вот что сказано в средневековых талмудах, теперь давно уже вышедших из употребления: когда честолюбивый Ешуа Ганоцри тайно проник в Иерусалимский храм, похитил там «шем гам фореш» — листок с подлинным именем божьим, которого никто не должен знать, — приложил его к ране, а пергамент этот врос в тело и Ешуа Ганоцри стал силой его творить чудеса, тогда собрался совет старейших и, возмущенный таким соблазном и обманом стольких мудрых людей, избрал из среды своей благочестивого раввина Иегуду и ему тоже вложил божье имя в рану на груди. И стал раввин Иегуда странствовать по следам Ешуи и творить такие же чудеса. А когда однажды Ешуа поднялся к небесам, раввин Иегуда поднялся еще выше и, воспарив над его головой, «излился на него». В это мгновение подлинное имя божие утратило всю свою силу. Ешуа Ганоцри рухнул на землю, был схвачен и казнен.
Так же и дед поступил с солдатом. С тем, который хулил имя Израиля, который уничтожал еврейское добро, который хотел обесчестить внучку Абрама Шафара.
Он стоял там, в желтоватом озаренье маленькой керосиновой лампы, выпрямившись, в белой одежде, старый и немощный, и жизнь светилась только в его блестящих черных глазах под пучками бровей. Дед пел. Грустным минорным речитативом тянул он мистическую восточную мелодию, словно вызывая из далеких пустынь и степей подземные силы, находившиеся пять тысяч лет под заклятьем, те силы, что погубили амалекитян, мидианитов и филистимлян{252}, стерли с лица земли Рим, Вавилон и Египет, замучили Онана, Кораха с Датаном и Абирамом{253} и Толе{254}, и с ними всех, кто когда-либо пытался вредить народу израильскому и его богу. Забыв о старческой дрожи, дед пел над бессильным солдатом, произнося медленно, по слогам, страшное талмудское проклятие.
— Эй, гей регел шелхо тисхабеш… — «Да высохнет кровь в жилах твоих»… да омертвеют руки и ноги твои, чтоб тебе ими больше не владеть; да притупятся мысли твои, и злоба твоя да утратит силу! Ибо такова отплата за грехи; ты уже не в силах будешь творить зло, которое замышлял против нас, израильтян. Так карает тебя господь! Аминь.
Ганеле не выдержала. Она со всех ног бросилась бежать по галерее, скатилась по ступенькам во двор и там в темноте закричала от ужаса:
— Мамочка! Мамочка! Мамочка!
Мать прибежала из сада.
— Почему ты не у бедра? Ведь я тебя послала? — крикнула она и в волнении шлепнула ее.
Но Ганеле ни слова не сказала о том, что видела. Только ночью, в постели, ей было страшно, и она лежала, широко раскрыв глаза.
Потом папа с Янкелем отнесли поручика в комнату, обмыли его, уложили в чистую постель. Отец сложил его деньги и вещи в кучку на ночном столике, а мундир отдал Янкелю:
— Отнеси сейчас же к Якубовичам. Пусть Хай Пинхес вычистит, выстирает, выутюжит. К утру чтоб был, как новый, даже если придется работать всю ночь. А сапоги вычисти сам, чтоб блестели, как зеркало.
Когда Янкель вернулся от Якубовичей, отец пошел с ним в корчму. Отец брал солдат за ноги, Янкель за голову, и они кидали их с галереи к навозной яме, в собачий помет. Только на другой день Янкель оттащил их в конюшню, чтоб никто не видал.
Солдаты проспали всю ночь, весь день и еще ночь, а на цыгана пришлось даже вылить ушат воды, чтоб он очнулся.
В четверг утром на кухню вышел бледный офицер в отутюженном мундире и начищенных сапогах.
— Сегодня среда?.. — брюзгливо спросил он отца.
— А то как же, ваше благородие!
— Кажется, мы были вчера того?..
— Нисколько, господин офицер. Только немножко навеселе, — вежливо улыбнулся отец, потирая руки.
Янкель запряг, и они поехали. И сзади него, куря папиросу за папиросой, сидел бывший человек, призрак человека, лишенный силы и воли, навсегда обезвреженный, чья жизнь, сколько бы она ни длилась, будет только слепым и жалким блужданием по свету.
Никто не знает, какую судьбу определили для этой земли бог с Израилем и кто будет ею владеть.
Первыми были венгры. Потом русские. Потом немцы. Потом румыны. Теперь ее забрали чехи. Правда, в Поляне об этом узнавали только по фуражкам жандармов и таможенных чиновников.
А семье — одно разорение.
Чехи объявили, чтобы в частной торговле не расплачивались венгерскими деньгами, а только чехословацкими. Но они любезно соглашались до определенного срока произвести официальный обмен: сто на сто; за сто крон венгерских — сто чехословацких.
Ужасное положение; мучительная головоломка. Венгры заранее предупредили, что, вернувшись, не будут обменивать чешских денег и ни от кого их не примут. А чехи объявили, что будут менять только до срока, после чего венгерские деньги потеряют цену. На кого ставить? На Венгрию? На Чехословакию? Что знает бедный полянский еврей о международных интригах, о противоречивых интересах и общественных отношениях, о чем рассуждает английский король с итальянским, французский президент с немецким и на чем они в конце концов поладят? Какая жестокость — ставить человека перед такой задачей! Это все равно, что привести его и сказать: ставь все, что имеешь, на любую из двух карт; тяни хоть белую, хоть черную — все равно ничего не выиграешь, только проиграешь. Решайся, несчастный игрок! Вернутся венгры? Не вернутся? Менять? Не менять?
Деньги! В нашем мире — это самое драгоценное достояние человека. Все равно, что здоровье или семья; «четверо мертвы заживо: бедный, слепой, больной и бездетный», — говорит талмуд. Бедный — в первую очередь. Только хамы думают, будто деньги — это средство к цели и коли они есть, так только для того, чтоб купить кукурузной муки или водки, либо стеклянные бусы на шею женщине. Нет, деньги — это доказательство успеха в жизни. Это — зримый знак милости божьей. В красивых металлических кружочках и синеньких картинках воплотилась вся красота, вся сила жизни. Они — творение господне. Ими нельзя сорить.
Отец пошел к дедушке посоветоваться. Дедушка был очень слаб; он уже не вставал с постели и не выходил из своей комнатки. Он пожал плечами, сделал гримасу и прищурил левый глаз. Потом повернул на одеяле свою белую костлявую руку — сперва ладонью вверх, потом вниз. Да? Нет?
— Тяжелая задача. Надо было бы разузнать. Да разве я теперь могу?.. Сто на сто! Это ничего не говорит. Если б сто на девяносто или сто на сто десять — было бы понятней, твердо они сидят или только пускают пыль в глаза. А тут все зависит от того, счастливая ли у тебя рука. Лучше бы, конечно, поменьше наличных, а купить бы золото, доллары, фунты, землю или что угодно, но теперь понятно, все умными стали — разве кто продаст? Покупай, что можешь, плати — кому должен! Пока время есть, выжидай! А хочешь действовать осторожно, обменяй половину: хоть часть денег не пропадет.
Отец тоже так думал, но мамочка ночью, лежа в кровати, плакала:
— Выбросить половину денег? Целое состояние! Для этого мы из себя жилы тянули? Нет, нет! Все останется как есть. Побывали тут и русские, и немцы, и румыны, и чехи… Никто не задержится — вот увидишь, поверь мне. Не меняй!
Кто ничего не имеет, тот никогда не поймет, как трудно решиться! Красная, черная? Правая, левая? И бродил Иосиф Шафар по Поляне, погруженный в раздумье, не замечая здоровающихся.
А деревня не имела никакого представления о его тревогах. Они ее не интересовали. Это не ее дело. Это касается только Шафаров и Фуксов.
Что скажут Герш и Соломон Фуксы?
С семьей Фуксов Шафары уже давно порвали отношения, еще во время тяжбы. Шафары и Фуксы даже не здоровались друг с другом. Но папа видел, что Соломону все удается, что он богатеет, — чувствовал, что Соломон хитер: у него связи с чехословацкими властями, новые хозяева во всем идут ему навстречу, он наверняка знает больше других.
— Что говорит Соломон Фукс? — спрашивал отец у Мордухая Файнермана, выведывал у Лейба Абрамовича, разузнавал у Мойше Кагана, даже снизошел до беседы с Байнишем Зисовичем.
— Соломон Фукс? — ответил ему как-то раз перед миквой{255} Мойше Каган. — Он над тобой смеется.
— Смеется? Почему?
— Потому что ты не знаешь, что делать.
— А он что будет делать?
— Не говорит.
Отец ездил в Мукачево, побывал в Берегове и в Хусте, но и после этого знал не больше, чем раньше. Всюду слышал он те же тревожные вопросы, какие волновали его. Всюду видел те же неподвижные, устремленные в пространство взгляды, то же пожиманье плеч.
— Что говорят об этом Фуксы?
— Что говорят об этом Фуксы? — переспросил Лейб Абрамович. — Я знаю? Что могут говорить об этом Фуксы? Соломон говорит: пускай, мол, каждый делает, что хочет, а он менять не будет.
Этим «каждым» мог быть, конечно, только Иосиф Шафар.
— Он знает, что делает. И смеется.
Иосиф опять шел в комнату к дедушке.
— Что делать, папа? Уже ничего не купишь; никакие деньги не идут.
Дедушка поворачивал на перине белую руку ладонью вверх — ладонью вниз.
— Коли не веришь в свое счастье, меняй половину, а другую оставь.
— Нет, нет! — плакала вечером в постели мамочка.
Евреи устроили в Сваляве секретное совещание на частной квартире Эфраима Вейса. Из Будапешта был тайно вызван финансист, доктор Мор Розенфельд, и евреи очень волновались, как он переберется через границу. Но он приехал.
За спущенными жалюзи, закрытыми окнами и ставнями в двух комнатах Вейса собралось человек сорок, — все влиятельные евреи, съехавшиеся из дальних мест. Были тут и полянские — Иосиф Шафар и Соломон Фукс. Пришел свалявский раввин в шелковом кафтане. Многие от волнения курили, и скоро вся квартира наполнилась дымом.
Эфраим Вейс ввел своего гостя, упитанного господина в очках, видимо уже обуржуазившегося: он был без пейсов, без ермолки. Эфраим Вейс, заметив этот недостаток, побежал в переднюю, принес шапку и, добродушно улыбаясь, надел ее доктору на голову. Тот засмеялся, но надвинул шапку на лоб, поблагодарив хозяина кивком головы, и все присутствующие улыбнулись. Доктор познакомился со всеми, причем каждый старался задержать его подольше, и в глазах у всех был один и тот же вопрос: «Что делать, доктор?» В конце концов гостем завладел свалявский раввин.
Но через минуту Мор Розенфельд уже отошел от раввина. Он сел за стол. Наступила мучительная, напряженная тишина, которая, казалось, вот-вот должна прорваться. Розенфельд достал из портфеля пачку газетных вырезок, наклеенных на бумагу, и, подвинув их вправо, начал говорить.
Прежде всего он подчеркивает, что не имеет ничего общего с венгерской властью и выступление его — отнюдь не агитация. Он — еврей, и ему, к сожалению, слишком хорошо известно, что евреи ничем особенно не связаны с европейскими странами и им с религиозной и национальной точки зрения безразлично, где жить. Но так как его пригласили, он охотно сообщит своим единоверцам все, что ему известно. Однако, как человек добросовестный, он понимает, что из его речи могут быть сделаны очень значительные выводы. Он хочет сначала коснуться еще одного вопроса. Предположим, что, как директор банка, он информирован лучше других; но из этого вовсе не следует, что он может взять на себя какую-либо ответственность, тем более что речь идет, главным образом, о вопросах, связанных с тайной дипломатией, и его сведения — не из первых рук. Многоуважаемые господа сами оценят, насколько вески или ничтожны документы, которые он намерен зачитать; не может быть также сомнения, что здесь присутствуют умные люди, располагающие информацией из другой страны, и сопоставление фактов и выводов во время дискуссии будет только полезным для обеих сторон.
Застраховав себя этими оговорками, Мор Розенфельд приступил к делу. Он обрисовал международную ситуацию, рассказал о возникновении новых союзов и новых европейских государственных образованиях, о положении Чехословакии, о надеждах Венгрии вернуть отторгнутые у нее территории или по крайней мере часть их, о все еще неопределенном и неясном положении Подкарпатской Руси. Все это он подкреплял множеством цитат, оглашая выступления премьер-министров и министров иностранных дел: английских, французских, итальянских, немецких и польских. Читал выдержки из английских, американских и итальянских журналов, и толстая пачка газетных вырезок мало-помалу перемещалась из правой его руки в левую. Говоря о настроениях в Венгрии, сказал, что может совершенно определенно утверждать только одно: если сюда вернутся венгры, их политические деятели сами решат, обменивать чехословацкие деньги или нет, а те, кто, желая избавиться от венгерских денег, будут обменивать их, могут быть объявлены изменниками со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Он говорил два часа с четвертью. В комнатах было накурено так, что дышать нечем; когда кто-нибудь выходил, из двери валил дым, как от сырой соломы во время пожара, и головы под бархатными и фетровыми ермолками потели. Нет, он не сказал «венгры вернутся» или «никогда не вернутся», но не могло быть сомнения: они вернутся. Он не говорил «меняйте» или «не меняйте», но вопрос был ясен. «Белая!», — крикнул какой-то внутренний голос Иосифу Шафару. И еще: «Не меняй!»
Докладчик просил собравшихся говорить. Но никто не решался. Он подождал минуту, приветливо улыбаясь и скользя взглядом по лицам, потом с мягким нетерпением протянул руку ладонью вверх и произнес:
— Ну-у?
— Береговские не меняют, — сказал, обращаясь к своим соседям, Гутман Давидович из Берегова.
— Я уже давно решил не менять! — твердо заявил полянский Соломон Фукс.
У Иосифа Шафара забилось сердце. Но те, кто ставил на чехов, — о них было известно, что они обменивают, — то есть как раз те, кто, по словам докладчика, располагал информацией с другой стороны, молчали.
— Что же вы молчите? — кричал на них торуньский Яков Рапопорт, маленький, худой человек с седеющей русой бородой. Кричал так, словно ему хотелось плакать.
— Почему ты молчишь? — взывал он к Менделю Лейбовичу из Соймы. — То говоришь без умолку, так, что голова идет кругом, а собрались — ты ни слова.
Дело в том, что торуньский Рапопорт недавно получил четыреста шестьдесят тысяч за плоты, которые отправил в Хуст по Рике.
Но сойминский Лейбович только пожал плечами. «Ну что я могу сказать, — подумал он. — Что у меня — два кило газетных вырезок? Это любого заставит призадуматься!»
Собрание затянулось далеко за полночь. В комнате было невозможно дышать. Шли ожесточенные споры между отдельными участниками и целыми группами. Свалявский раввин ушел, щадя свои глаза, и по лицу осаждаемого со всех сторон будапештского доктора было видно, что он тоже охотно пошел бы спать.
Его держал за пуговицу торуньский Яков Рапопорт, и в голосе маленького человечка дрожали слезы: «Менять или не менять?»
Мор Розенфельд улыбался, слегка пожимал плечами, пытался что-то ему объяснить, но тот отвергал все объяснения и твердил только: «Нет, нет!.. Менять или не менять?» «Не менять!» — хотелось крикнуть Иосифу Шафару.
Но плотовщик не дождался прямого ответа от доктора. Он стал бегать по комнатам, повертелся вокруг отдельных групп, поговорил с одиночками, потом опять вернулся к Мору Розенфельду:
— Менять или не менять?
В конце концов он истерически расплакался от волнения.
Сидели до утра. Никак не могли разойтись, даже после того как Эфраим Вейс уложил гостя в постель.
Продолжали спорить даже утром, на улице. Невыспавшийся отец вернулся с Янкелем в Поляну на другой день в сумерки. Мамочка торопливо сбежала с галереи.
— Не меняю, мамочка! — крикнул Иосиф Шафар, выскакивая из пролетки.
— Слава богу!
Срок истекал. Венгры все не появлялись, а мимо дома Шафара по булыжной мостовой каждый день шагали по двое патрули из чешских жандармов или таможенные чиновники в плоских фуражках, с карабинами в руках. Но вопрос был решен.
Срок кончился. Ничего не изменилось.
Чехи вывесили новое объявление. Теперь они уже меняли сто на пятьдесят; за сто венгерских крон пятьдесят чехословацких.
— Меняй все! — лежа в постели, говорил дедушка. — Чехи подымают цены, по всему видно. Меняй скорее!
— Нет!
Из Венгрии приходили успокоительные вести. Не торопиться! Выждать! Еще только несколько недель. Пересмотр мирного договора — вопрос недели.
Потом чехи стали обменивать сто на двадцать пять. Потом сто на десять.
— Меняй хоть теперь! — твердил дедушка слабеющим голосом.
Потом за венгерские деньги никто ничего уже не давал. Это был конец. У отца в самом деле была несчастливая рука.
Соломон Фукс обменял все. Сто на сто. Только немного, — то, что из осторожности оставил дома, чтобы иметь хоть сколько-нибудь венгерских денег на случай, если б венгры вдруг вернулись, — он обменял сто на двадцать пять.
— Что об этом говорят Абрам и Иосиф Шафары? — спросил он перед миквой Кагана, скрывая улыбку: знал, что Мойше передаст это Иосифу.
А у отца дома лежало двести пять тысяч наличными. Все Ганелино приданое. И до сих пор лежат. Ими набит большой десятикилограммовый бумажный мешок, спрятанный за посудой в нижнем отделенье буфета, в парадной комнате. Когда из города приезжают в деревню на комиссию господа и заходят ненароком не к Фуксу, а к Шафарам, и среди них окажется какой-нибудь понимающий в деньгах, и попросит папочку показать их, — отец вынесет десятикилограммовый мешок, и господа весело роются в тысячекронных, стокронных и пятидесятикронных кредитках, — все Ганелино приданое! — и смеются, а отец из вежливости грустно улыбается в ответ.
Если ты целый день крутишься на кухне, да в комнатах с неубранными постелями, да на грязном, затоптанном домашней птицей дворе, с коровами, которых надо утром выгнать, а вечером они сами вернутся домой, с лошадью, которой надо открыть ворота; если перед твоими окнами только сад, где на веревках между корявыми яблонями сушится белье, а глянешь чуть дальше, взгляд твой упрется в высокие горы по обе стороны долины, — так поневоле удивишься, как быстро проходит время между «Гите вох!» и «Гит шабес!», от посещения миквы до возвращения из нее, от «Иом кипура» до «Рошо шоно»{256}.
А годы неслись стремглав.
Дедушка давно умер.
Папа, продав две мельницы и часть поля, выдал замуж Этельку и с великим торжеством проводил ее в Кошице.
Немного спустя он проиграл два процесса против Фуксов, а вскоре и третий. Расходы были ужасные, мамочка ломала руки, а папа был вынужден продать третью мельницу и часть земли.
Потом, когда Ганеле подросла, отец выдал в Мукачево Балинку. Свекор был злой человек. Зять тоже вел себя нахально, и, хотя они с Балинкой жили хорошо, имели прекрасных детей, мама не простила ему этого до сих пор. Свекор и зять вымогали побольше приданого, дважды грозили расторгнуть помолвку, и папа в конце концов дал им, что требовали. Ему пришлось продать еще часть земли, а так как он не хотел лишиться всего, то залез в долги. Может быть, уступил он отчасти назло Фуксам. Ведь низеньких, толстых дочерей Фукса никто не хочет брать замуж. Сваты напрасно водят женихов к ихней Суре, которая вот-вот будет старой девой, и единственная гордость Ганелиных родителей — то, что они удачно выдают своих красивых дочерей.
Но потом пришло новое несчастье, еще хуже прежнего.
Отец проиграл свой последний, самый крупный и дорогой процесс против Фуксов. Это уж было не дедушкино время; теперь у богатого господина Соломона Фукса было больше свидетелей. С тех пор отец стал нищим.
Когда обеим сторонам был вручен приговор последней инстанции, Фуксы нарядили всех пятерых своих низеньких, толстых дочерей в самые лучшие платья. Двадцатитрехлетняя Цеза и Лая — на два года моложе ее — были в белых батистовых платьях, с вишневым шарфом у Цезы, зеленым — у Лаи. А самая старшая, Сура, несмотря на то, что стоял июль месяц, напялила открытую спереди каракулевую шубу. Напудрились, накрасили губы сердечком, увешались всеми драгоценностями — своими и материнскими. Кольца надели, браслеты, брошки, а у Суры из-под шубы виднелась золотая цепочка от шеи до пояса. И давай прохаживаться перед шафаровой лавкой.
В будний день медленно прогуливались по пустынной полянской улице, четыреста шагов туда, четыреста обратно, шутили, весело смеялись, а на шафаров дом и не смотрели. Только брат их, Бенци, всякий раз останавливался в двух шагах перед лавкой, оборачивался лицом к Шафарам и пронзительно свистел, засунув пальцы в рот. Прошлись четыре-пять раз и поплыли домой, оставив одного Бенци, который, расставив ноги, пытался просвистеть на двух пальцах свою песенку до конца.
Мама стала совсем старухой, а за последние годы просто в тень превратилась. То и дело на кухне без всякой надобности какую-нибудь вещь возьмет и сейчас же обратно поставит. В задней комнате у окна плакала Ганеле. Она видела, как по саду мечется отец, и лицо его кажется еще мертвенней под зеленым пологом деревьев.
С тех пор все пошло под уклон; непрерывно, быстро все катилось вниз.
Соломон Фукс вошел в доверие к новым властям, работает с ними и будет проводить для них выборы; он получил разрешение открыть табачную торговлю, получил разные подряды, построил себе дом с большим магазином и уже не с корчмой, а с гостиницей, где бывают жандармы, таможенные чиновники, служащие лесного управления и господа из города. Русины тоже устроили себе кооператив и корчму. «Свой к своему!»{257} К Шафарам не заглядывает даже тот, кто не хочет останавливаться у Фуксов или русинов: все знают, что папа не может отпускать в кредит.
Большая часть ящиков и отделений в отцовской корчме пустует. Там только мешок с солью для скота да одна запыленная коробка самых дешевых конфет; в углу свалены в кучу ржавые цепи, на стене висит жестяная лоханка — в хозяйстве пригодится, — а к полке, на которой полтора куска материи да пять красных платков, прибито объявленьице: «Собственность фирмы Гершкович и Лейбл, Мукачево». Все это вместе можно купить за несколько десятков крон. С богатством исчез и почет, и если теперь в деревню приедет раввин, ласковый, добрый раввин, который прежде так отечески нежно гладил Ганеле по головке, — он тоже остановится у Фуксов.
Чтобы обеспечить родителям хоть какие-нибудь средства к существованию, кошицкая сестра позволила переписать заложенный дом с последним участком поля на свое имя, а единственная оставшаяся в хлеву корова, вся птица на дворе и два серебряных субботних подсвечника принадлежат — во всяком случае формально — мукачевской сестре. Все это сделано для защиты от судебных исполнителей. Отец — безземельный бедняк, живущий в большом ветхом доме.
Ганеле — горничная, кухарка, прачка, швея; встает в половине четвертого выгонять на пастбище корову и гусей, а в восемь часов, подоивши, может опять идти спать.
Цель жизни еврейской женщины — иметь сыновей: может, какой-нибудь из них окажется мессией{258}. Но Ганелина мама этой цели не достигла. Удастся ли Ганеле? Фуксовы детища неудачные, нескладные, какие-то нелепые, с волосами на носу, маслеными глазками и потными руками, — противные злые обезьяны с шишкой вместо носа. Но если они не найдут никого подходящего им по знатности (а они не найдут, не найдут!), так после тридцати лет хоть помогут Соломоновыми деньгами какому-нибудь нищему. А кто возьмет ее, Ганеле? Когда такие мысли заставят тебя ночью проснуться в испуге и дедушкины мельницы вдруг застучат, хочется зарыться головой в подушки и плакать от горя и обиды. Да, кто захочет взять в приданое корчму, где никто ничего не пьет, лавку, где никто ничего не покупает, и дом, который принадлежит не отцу невесты, а зятю? Может, выйти за кого-нибудь из здешних парней, которые ничего собой не представляют, никогда ничего не добьются и даже не знают, что будут есть завтра? Или свершится чудо? Ганеле плачет. Но ей семнадцать лет, и она еще верит в чудеса.
В субботу после обеда, если на дворе не слишком плохая погода, еврейские девушки в Поляне надевают все лучшее, что у них есть, парни тоже стараются приодеться, и все идут гулять на нижнюю дорогу — полкилометра до охотничьего домика и обратно; девушки — группами, отдельно, парни — тоже группами, отдельно; но при встречах те и другие улыбаются и кокетничают друг с другом. Это в Поляне — единственное развлеченье. С Ганеле заигрывал Шлойме Кац. Он ей нравился. У него были красивые зубы, он весело смеялся и был хорошо одет.
Как-то раз под вечер, когда корова вернулась с пастбища (Бриндуша была умная, приходила сама и у ворот звенела своим колокольчиком, чтобы ей открыли) и Ганеле пошла в хлев подоить ее, там сейчас же появился Шлойме. Ганеле, сидя на скамеечке, обернулась. Он, улыбаясь, стоял у двери.
— Отойди! Ты мне свет заслоняешь! — крикнула Ганеле.
Он вошел внутрь.
Стал рассказывать разные веселые истории, смеялся, она тоже; было очень хорошо. Наступили сумерки; от Бриндуши пахло теплом; молоко журчало, пенясь в деревянном подойнике. Вдруг Шлойме наклонился и поцеловал девушку. Она покраснела до корней волос.
— Погоди!.. Я маме скажу!
После этого он стал ждать по утрам, в холодных предрассветных сумерках, когда она будет выгонять корову и гусей. И в лавку заходил — купить что-нибудь.
Ганеле ничего не сказала матери. Но та догадывалась. С этих пор мать сама стала выгонять корову, наблюдала за доением, сама отпускала Шлойме спички, мыло и по субботам ходила вместе с дочерью на прогулку. Шлойме? Шлойме Кац? Который только потому и одевается хорошо, что хромой отец его ездит летом с рекомендацией раввина в Прагу, Брно и Братиславу просить милостыню? Фу!
Как-то раз сестра пригласила Ганеле в Кошице, на свадьбу одного из родственников мужа. Этелька наняла швею, просмотрели множество модных журналов, и Ганеле сшили этаминовое платье, красивое, пышное. Ганеле очень понравилось на свадьбе. Она много танцевала, и молодые люди говорили ей, что у нее красивые глаза. Но и только. У Этелькина мужа было много хлопот с полянским домом, он часто ругался в кофейне, и все знали, кто такой полянский Шафар. Через две недели Ганеле вернулась домой… Что делать, мамочка?
«Четверо мертвы заживо: бедный, слепой, больной и бездетный». Кажется, Ганеле быть мертвой дважды…
Есть ли что страшней измены богу Израиля и перехода в иную веру?
Есть.
Вспомните поучительный талмудский рассказ Пинхеса Якубовича о раввине на распутье!
…Шел по дороге мудрый раввин. Догоняет его какой-то гой и предлагает сесть в телегу. Оба в хорошем расположении духа — доехали вместе до распутья. А там висит — ну тот, на дереве, — знаете, как бывает на перекрестках. Гой не перекрестился.
— Почему ты не снял шапку? — минуту спустя спросил раввин.
— А почему я должен снимать? — засмеялся гой. — Я ни во что не верю.
— Тогда останови, пожалуйста, лошадь: я слезу, — говорит раввин. — Я могу ехать с человеком другой веры, но с тем, кто ни во что не верит, боюсь — такой на все способен.
Беда! В Поляне наступило такое время, что никто не хочет больше слушать чудные рассказы Пинхеса Якубовича. В Поляну проникло неверие…
Скажите ради бога, откуда это?! Трудно сказать. Известна только последняя станция, с которой оно в конце концов нашло дорогу в Поляну.
Это Мукачево. Тамошняя неверующая еврейская гимназия. Неверие это называлось сионизмом{259}.
Нескоро волны, переносящие человеческую мысль, — зрительные, звуковые, электрические, радиоволны или другие, еще не известные, — доходят сюда, в лощину, меж покрытых дремучими лесами гор, где кому-то когда-то пришло в голову поместить Поляну. Сто, тысячу раз на своем пути по неровному склону Карпат они ударятся о препятствия, отскочат назад, снова набегут и по какой-нибудь лощине в конце концов найдут-таки дорогу сюда. Но что такое немножко лишнего времени для голета, где только и делают, что ждут мессию, а все остальное — лишь средство заполнить дни и месяцы?
Манит обетованная земля отцов, которую вот уже две тысячи лет ежедневно поминают обрядами, сотнями движений и тысячами молитвенных слов, а по субботам — вдыхая ее аромат, хранящийся в закупоренной бутылке.
И манят гроздья виноградные в земле Ханаанской{260}, каждую из которых должны нести на топорище двое мужчин.
«Несчастный народ израильский! — взывали раввины, — Опять завелась ересь в среде твоей. Забыл ты клятву, которую дал господу, когда он отправлял тебя в голет: о том, что никогда не попытаешься вернуться в землю обетованную, а будешь ждать, пока бог пошлет мессию, который приведет тебя туда? Ныне же те, кто желает вести тебя в Палестину, делают избранный народ одним из многих, вызывая этим гнев господень и новую вражду народов против нас.
Несчастный народ израильский! Опять воздвигся в среде твоей новый идол, новый золотой телец: лживая наука. Вы утверждаете, будто земля кругла и будто она вертится, вы верите, будто человек возник из животных и будто мир существовал до нашего летоисчисления. Безумные! Оставьте при себе свои цифры, не трогайте нас, — мы не станем опровергать ваших доказательств.
Мы ведь знаем, что ваша наука каждое столетие проповедует новую правду, и сегодня ваша правда не та, что была вчера, а завтра будет не та, что сегодня. Мы знаем, что неверующие народы, не имея другой возможности, при помощи науки ищут то, что нам было открыто тысячелетия тому назад, и наука их, если она верна, может только после многих заблуждений, ошибок и новых заблуждений подтвердить то, что мы давным-давно знаем и без нее: бог! бог! бог! Да будет прославлено имя его!
Проповедуете чистоту народных нравов и в то же время стрижете пейсы, бреетесь, едите нечистую пищу и утверждаете, что суббота ничем не отличается от остальных дней. Безумцы! Вы забыли, что господь рассеял народы, гораздо более многочисленные, чем народ израильский (где вавилоняне, где римляне?), развеял их, как песок пустынь, смел с лица земли, а мы живем как раз потому, что соблюли заповеди, которыми господь отличил нас от остальных!
Уйдите от нас! Будьте прокляты! Да высохнут колодцы ваши, и жены ваши да пребудут бесплодными!»
Но такие мысли еще не приходили в голову жителям Поляны. Началось все как-то несерьезно, больше было похоже на шутку.
Случилось, что где-то в Черенине заболел брат сапожника Лейба Абрамовича, того, который в субботние вечера громким голосом распевал: «Ти-ри-ри! Та-ра-ра! Выйди, друг мой, встреть невесту!» Брат Лейба Абрамовича тоже был сапожник. Когда его в июле отвезли в больницу, Лейб на время переехал туда поработать за него. Поляна подождет, а семью брата в несчастье покидать нельзя: гемилут хасадим!
В Черенине жил богатый купец и корчмарь Зелиг Вольф; у него было двенадцать человек детей; а вместе с ним, женой и сестрами жены семья состояла из шестнадцати человек; и все носили обувь. За таких заказчиков надо благодарит бога! Зелиг Вольф договорился с Лейбом Абрамовичем, чтобы тот к осени починил для его семьи старую обувь и сшил новую. Он отвел Лейбу во дворе отдельный сарайчик, выдал ему из лавки кожу, щетину, деревянные гвозди и навалил в углу целую кучу старых ботинок.
Лейб принес от брата инструменты и начал сапожничать. У Зелига Вольфа был сын Герш, ученик седьмого класса мукачевской гимназии. Он каждый день до полудня просиживал у входа в сарайчик, болтая с Лейбом Абрамовичем. Может, отец посылал его наблюдать за сапожником, может, просто от скуки или ему хотелось похвастать своими познаниями… Так или иначе, он стал рассказывать Абрамовичу о вселенной, о науках, о сионизме и социализме, читал ему газеты, показывал картинки в книжках. Пусть бы все это делал гой, — они верят всякой чепухе… Но еврей, который учится в Мукачеве на доктора!
Перед Лейбом Абрамовичем, жадным к знанию, открывались совершенно неожиданные просторы, и он кидался в них с упорством и яростью отчаянного мореплавателя. В сарайчике Зелига Вольфа много спорили и мало работали.
— Надрываться для капиталиста! Очень нужно! — говорил Герш.
Совсем затуманил он мозги сапожнику.
И вот, сбитый с толку, Лейб Абрамович в августе, когда его брат вернулся из больницы, уехал в Поляну. Он начал болтать всякую чепуху, вроде того, что земля круглая и что она вертится. Лейб Абрамович весь зарос: окладистая рыжеватая борода его начиналась от самых глаз, а волос у него было столько, что их хватило бы на троих, и, когда он на улице перед своей хатой рассказывал смеющимся евреям о новой науке, вся его львиная физиономия словно щетинилась от азарта, а глаза так и горели.
Евреи смеялись еще громче: «Как же, олух ты этакий, дома не падают?» Он в бешенстве бежал к себе в хату и тотчас появлялся опять с полотенцем и горшком воды; взяв в руку оба конца полотенца, он в сгибе его ставил горшок и начинал все это крутить, доказывая таким способом, что дома не должны падать.
Евреи покатывались со смеху.
Но старому Мордухаю Иуде Файнерману, глядя на эти сумасбродства, было не до шуток.
Однажды в будний день после молитвы «Майрив», когда молельню уже окутал вечерний сумрак, он отозвал Лейба в угол и, тыча ему в грудь длинным указательным пальцем, медленно, строго произнес:
— Ты болтаешь на селе всякий вздор. Люди над тобой смеются. Но я не смеюсь, нет. Потому, что так вот всегда начинается раскол в еврействе. Предупреждаю: если ты не перестанешь, придется вмешаться общине, вмешается раввин. Помни это!
Он повернулся и скрылся в сумраке молельни, — всеми уважаемый святой Мордухай Иуда Файнерман.
Но Лейб Абрамович готов был жизнь отдать за вновь обретенную правду. Бог знает, почему именно сапожникам приходят в голову бунтарские мысли; этого никто еще не исследовал, но, может быть, это как-нибудь связано с их ремеслом, с запахом кожи, с их мужественным характером. Лейб Абрамович ходил в Черенин за новой мудростью. Сразу после празднования субботы, каждое воскресенье, еще до рассвета, пробегал он долиной по дороге — тридцать километров туда, тридцать обратно, возвращаясь домой поздно ночью, — только чтоб поговорить с Гершко и облегчить душу от тяжести проблем, мучивших ее всю неделю.
— Откуда шел свет, который бог сотворил в первый же день, между тем как солнце и месяц — только на пятый?
Или:
— Если в земном шаре просверлить большую дыру и бросить в эту дыру сапожный молоток, выпал бы он с другой стороны или остановился бы посредине и так и повис там прямо в воздухе?
Но многие вопросы Лейба касались самых основ философии, и на них не мог ответить даже всезнающий Герш.
— Ты сказал, что за вселенной больше ничего нет! А что такое ничего? Там тьма? Но ведь тьма — что-то!
Кончались все их разговоры политикой, и, напичканный этой мудростью, Абрамович возвращался домой только ночью. В его полянской мастерской стали собираться для беседы: кузнец Сруль Нахамкес, молодой Эйзигович, Мошко Мендлович, элегантный Шлойме Кац. Лейб Абрамович выкладывал все, что знал. Он говорил о бедных и богатых. О том, почему у Фуксов все, а у остальных ничего. О сионизме. О заселении Палестины. О братстве и новой жизни.
— А это на самом деле правда, что земля круглая?
— Есть доказательства!
— Гойские!
— Нет, и еврейские!
Подумать только, Лейб Абрамович! Сумасбродный сапожник, амгорец[59], полуграмотный, самый пустой человек, до которого никогда никому не было дела. Что ж это такое, он вдруг ни с того ни с сего вбил себе в голову, что уж не страшны ему ни мудрость Мордухая Иуды Файнермана, ни святость Пинхеса Якубовича, ни могущество Соломона Фукса? Еще, чего доброго, из-за Лейба Абрамовича в общине произойдет раскол!
И произошел.
Как-то в воскресный день Герш Вольф в каком-то наитии вдруг засмеялся и захлопал в ладоши:
— Погоди! Заложу я папину пролетку — теперь же, на каникулах, — объеду нескольких товарищей, и мы устроим в вашей заплесневелой деревне сионистское собрание. В щепки Поляну разнесем. Вот будет потеха!
И вот в один прекрасный день приехали шестеро вместе с Гершком Вольфом. Это были халуцы{261}, социалистические сионисты. После обеда устроили собрание. Возле миквы, где ручей впадает в речку и на мысу образовалась большая груда голышей и валунов, принесенных весенним половодьем.
Собрались тут все полянские евреи: ремесленники, батраки, возчики, лесорубы, земледельцы, лавочники, нищие — (все эти ремесла нередко совмещались в одном лице) — с пейсами и без пейсов, в кафтанах и городской одежде, а то и просто в лохмотьях; члены сорока восьми семей с талесами, не считая вдовых. С женами, с детьми. Столпились на площадке, встали на мостике через ручей, на дороге.
Мальчишки галдели, а Рива Каган и Бенци Фукс, при оглушительных криках зрителей, старались столкнуть друг друга в ручей.
Ни Мордухая Иуды Файнермана, ни Пинхеса Якубовича не было. Не пришли ни Иосиф Шафар, ни Соломон Фукс. Но дочери Фукса прогуливались по дороге, и Сура улыбалась своей кисло-сладкой улыбкой. Ганеле ходила под руку с Ривкой Эйзигович и Машеле Гершкович; их окружали студенты с Шлойме Кацем. Молодые люди шутили, смеялись, и Ганеле радовалась, что может посмеяться на глазах у девиц Фукс.
— Так как же, барышня с прекрасными глазами, — сказал один из студентов, — поедем с нами в Палестину?
— Думаете, не поехала бы? Да хоть сейчас, — ответила Ганеле.
— Правда? — переспросил Шлойме Кац и посмотрел в лицо Ганеле пристальней, чем полагается.
Потом молодой Эйзигович принес стол, на который, по всем правилам гимнастики, вскочил самый старший из студентов. Все спустились с дороги вниз, и митинг начался.
Стал говорить студент. Он начал с улыбкой, дружеским тоном, стараясь расположить к себе слушателей, и непредубежденным это понравилось. Люди напряженно слушали. Успокоились и перестали шуметь даже озорники Бенци и Рива. Рива был весь мокрый, потому что Бенци в конце концов удалось столкнуть его в воду. Оратор говорил о единстве всех евреев. О их страданиях и преследовании в голете. Ярко описывал нищету именно этого края, безработицу, нужду, голод, высокую смертность детей и взрослых. Слушатели понимали, что он говорит о каждом из них, и это приводило их в умиление. Они, никогда не слыхавшие других ораторов, кроме бродячих проповедников да учеников раввинских школ, были взволнованы, и не одна мать при упоминании о детской смертности не могла сдержать слез.
— Но одинаково ли мы все страдаем? — повысил голос оратор. — Нет! — загремел он. — Как все народы, еврейский народ тоже делится на богатых и бедных. Еврейские бедняки терпят вдвое больше мучений — из-за своей национальности и из-за своей нищеты. Богатым хорошо и в голете; они не стремятся к переменам, никакого выхода им не требуется. Потому что у них одно занятие, как и у всех богатых: эксплуатировать бедных. Эксплуатировать их труд и обирать их, вздувая цены…
В двух шагах от толпы слушателей стояли дочери Соломона Фукса. Возле Суры остановился Байниш Зисович.
Он, может, как родственник Фуксов, хоть и дальний, а может, от того, что был должен им, на этом митинге принял сторону реакции.
— Спроси его, Байниш, правда ли, что земной шар вертится? — сказала Сура.
И Байниш тотчас закричал:
— Эй ты, Мошко, или как там тебя! Это правда, что земля вертится?
Часть слушателей, вспомнив колдовство Лейба с полотенцем и горшком, засмеялась. Но большинство было неприятно задето. У Лейба Абрамовича борода ощетинилась, глаза засверкали, и он рванулся от столика. Но студенты удержали его.
Докладчик выпрямился и, вытянув в сторону Байниша указательный палец, патетически воскликнул:
— «И все-таки она вертится!»{262}
Этот плагиат рассмешил его самого; студенты тоже засмеялись его остроте, и через минуту на площадке у ручья смеялись все.
Но оратор поспешил вернуться к своей теме, чтобы хорошенько подготовить то, ради чего он сюда пришел. Он опять заговорил о богатых, которые не хотят никаких перемен и не нуждаются в выходе.
— А для бедных и угнетенных выход есть, — воскликнул оратор и сделал паузу, чтобы дать слушателям возможность приготовиться к тому, что он скажет дальше. — Да, для них выход есть: сионизм!
И он заговорил о сионизме. О Палестине. О новой родине. О равенстве в труде и в достатке. О земле, пусть небогатой, но все-таки обеспечивающей всем работу и приличную жизнь. О земле свободы! Он говорил об этом с вдохновением, весь сияя и страстно жестикулируя, так что воспламенил и себя самого и слушателей.
— Байниш, — шепнула Сура, — мы отойдем, а ты спроси, ест ли он свинину.
И девицы Фукс, как бы прогуливаясь, стали удаляться от толпы. Вот они вышли на дорогу и направились домой.
Но через минуту замедлили шаг, чтобы еще послушать.
— А ты ешь свинину? — раздался голос Байниша.
Слушатели рассердились не на шутку. Поднялся крик. Лейб Абрамович вырывался у студентов, выворачивал им руки, пинал их коленками и кричал не своим голосом:
— Я брошу его в ручей! И этих фуксовых шлюх тоже!
Да, Лейб Абрамович был герой. Настоящий герой. Ради истины он готов был пожертвовать не только жизнью, но и Соломоном Фуксом, лучшим своим заказчиком.
В это время года тень от гор очень рано падает на долину. После того как все ораторы высказались и собрание кончилось, полянским евреям пришлось расходиться по домам в густых сумерках. Люди шли молча, пораженные тем новым, что они узнали, мысленно взвешивая все за и против.
Мама три раза приходила на митинг, смотрела пытливым взглядом, но каждый раз, не дождавшись конца, уходила и теперь опоздала: Ганеле возвращалась домой в компании студентов. Шлойме Кац шел рядом, стараясь коснуться ее руки.
— Почему я с тобой никак не могу поговорить, Ганеле? — грустно спросил он.
— Ты же знаешь, Шлойме: мамочка меня никуда не пускает.
Вот уже часть дороги позади.
— Я так люблю тебя, Ганеле. — И, пользуясь темнотой, он взял ее за руку. — Только о тебе думаю. Одну тебя вижу во сне… Я не могу жить без тебя.
— Я тебя тоже люблю, Шлойме, ты знаешь, — промолвила Ганеле и опустила глаза. — Давно уже. И во сне тебя вижу. Думаю о тебе. Все время думаю, Шлойме. Да что поделаешь?..
— Ганеле! — Он порывисто сжал ее руку.
— Можешь ты прийти к нам и сказать отцу: «Выдайте ее за меня?»
— Могу! — решительно ответил он.
— А кто будет нас содержать? — печально возразила она. И подумала: «Может, твой отец соберет для нас милостыню в Праге, когда у него дома еще шестеро…»
Они молча шли рядом, в темноте держа друг друга за руки и размахивая ими взад и вперед. Собственно, это Ганеле приводила руки в движение, и в этих размахах постепенно замирал ее вопрос и необходимость ответить на него.
Только через минуту Шлойме несмело и уже без всякой надежды спросил:
— А ты не поехала бы со мной в Палестину, Ганеле?
«Ах, какие глупости ты говоришь», — подумала она, но вслух ответила:
— Не знаю. Может быть…
Они подошли к дому Шафара.
— Я пойду! — сказала Ганеле, выдергивая свою руку. — А то мама придет.
— Нет… — с жалобной настойчивостью сказал Шлойме.
Но она сделала несколько быстрых шагов, догнала студентов и подруг и смешалась с ними. А мать в самом деле была уже здесь и старалась рассмотреть в сумерках, с кем идет дочь. Ганеле простилась со всеми, но Шлойме забыла подать руку. Студенты проводили самую красивую девушку деревни и, когда за ней закрывалась дверь, громко крикнули: «Шалом!»[60] Мама приветливо улыбнулась: кричал ли кто-нибудь «шалом» дочерям Фуксов?
Дома отец стал спрашивать Ганеле о митинге.
— Они правы! — сказала девушка, встряхнув кудрями.
Но отец покачал головой:
— Нет, не правы. Земля не вертится. А Лейб — сумасшедший.
Может быть. Но его влияние росло с каждым днем. Он высоко держал голову; устроил еще одно собрание, и в глазах его появился гордый блеск. Его худенькая жена, тихая, молчаливая, стала иногда разговаривать с соседками на улице и даже улыбаться, так что Сура Фукс у себя в лавке язвительно поджимала губы: «Ишь ты, сапожница!» Конечно, у Абрамовича вечно затоптанный пол, а по вечерам стоит такой дым, что детишки на печи во сне захлебываются от кашля чуть не до слез, но разве не возвышает мысль о том, что ты — жена вождя, который поведет когда-нибудь полянцев в обетованную землю? Муж заложил основу организации; теперь у них в доме происходят регулярные собрания, и Лейб выкрикивает:
— Палестина! Земля Отцов! Свобода! Достаток! Счастье! Прочь от нищеты, от эксплуататоров, вырвемся из мрака голета! И если скоро придет мессия, мы встретим его там!
Новым учением было заражено уже полдеревни. Если положение казалось еще не безнадежным, то во всяком случае опасным; ведь когда начинают говорить: «Тут что-то есть», — это уже плохо. И на молитве «Майрив» в синагоге среди евреев разгорались споры.
Одним из немногих, понявших, что происходит что-то скверное, был Соломон Фукс. Он знал по опыту, что общественные дела тесно связаны с частными и что речь тут идет не только об Израиле, но и о нем, Соломоне Фуксе.
Он стал советоваться с влиятельными людьми общины. Поговорил с Мордухаем Иудой Файнерманом. Святой человек поднял указательный палец и с злым лицом строго произнес: «Что-то должно совершиться». А что, не знал.
Ну его к черту, этого старого Мордхе! Он годен только для пейсов, для стрижки и свечей да на то, чтобы преследовать шехтера{263} и бедра! А когда что-нибудь происходит — подымает палец!
Соломон Фукс поговорил и с Пинхесом Якубовичем. Пинхес, каббалист и последователь раввина из Бэлза{264}, был печален, глубоко несчастен. «Разумом и доказательствами вы ничего здесь не сделаете, — грустно сказал он. — Тут может помочь только молитва. Молитесь! Я тоже молюсь». — «При чем тут разум и доказательства, дурак? — подумал Соломон Фукс. — Кому нужны твои молитвы? Эх! Если б господь мог или захотел сделать все сам!»
Соломон Фукс забросил торговлю. Он предоставил все жене и дочерям. Бродил задумчивый по двору — к хлевам и обратно, машинально открывал калитку в огород и входил туда, опустив голову, носки внутрь. Прищелкивал языком, тер тыльной стороной руки стриженую бороду, останавливался и время от времени поправлял шапку на голове.
Лишить Абрамовича всякой работы и потребовать, чтобы он уплатил долги! Ясно. Не давать раскольникам ни геллера в долг, опротестовать векселя и не идти ни на какие отсрочки, пока эти отступники не заявят перед всей общиной в молельне, что убедились во враждебности нового учения богу и Израилю, пока от него не отречется сам Абрамович! Да, вот так!
Но поможет ли это? Речь идет не о ком-нибудь, а о нем самом. Лейб Абрамович пропагандирует эмиграцию. А в каждом уезжающем он, Соломон Фукс, теряет клиента и, значит, несколько сот крон в год, даже если это последний бедняк! Но где гарантия, что он не лишится клиентуры и без всякой эмиграции?..
Абрамовича уже два раза видели у Шафара, а Нахамкес и молодой Кац там все время торчат. Шафару, слава богу, пока нечего продавать, и если кому-нибудь понадобится мыло, он идет на кухню и отрезает от своего. Но почтальон, который носит через поле письма на почту, вчера сказал, что Шафар написал дочери в Мукачево. Почтальон не дал прочесть Фуксу это письмо ни за два, ни за три кило муки в долг, сказал, что и миллиона не возьмет, потому что теперь в округе новый нотар{265} и он его боится. Что же может писать своей дочери Шафар? Ну что он может писать? Чтобы она ссудила ему несколько сот для торговли?.. И выборы на носу! А ему поручено выгодно продать общественную кукурузу!
Но мысль о выборах навела его на размышления. Он забегал среди грядок моркови. Остановился. Потрогал шапку, надел ее прямо. Ну, да!
На другой день Соломон Фукс уехал в город.
К окружному начальнику.
И вот он сидит в личной канцелярии господина советника в мягком кресле (что может случиться?), прямо против него и рассказывает ему обо всем, что делается в Поляне…
Господин окружной начальник кивнул.
— Я об этом информирован. Что вы предлагаете, господин Фукс?
— Арестовать Абрамовича.
— Насколько я знаю, нет никакого законного повода. Сионисты-халуцы находятся под охраной социал-демократии. На устройство студенческого митинга было выдано разрешение.
— Но ведь скоро выборы, господин советник.
— Верно. В этом деле мы тоже полагаемся на вас. В Поляне полтораста еврейских голосов. На правительственные учреждения вы, надеюсь, не можете пожаловаться, господин Фукс? Но откровенно вам говорю: наше внимание в дальнейшем будет зависеть от результатов выборов.
Соломон Фукс остановился на лестнице управления.
…Вот и все!.. А ему поручено выгодно продать общественную кукурузу! Он стоял, передвигая шапку на голове. Вот и все! Он хлопнул себя по бедрам.
Потом пошел к раввину.
— Ты не слышал об организации мизрахистов?{266} — спросил раввин, взбалтывая что-то в чашке: он как раз завтракал. — Мы много занимались вопросом о нынешнем развращении нравов и пришли к выводу, что сионизм можно уничтожить только сионизмом. Против эмиграции уже невозможно бороться, и, пока они не смешивают ее с мессией, мы против нее не возражаем. Если уж сионизм возник, нам необходимо приобрести на него влияние. Мы основали организацию мизрахистов. Она тоже опирается на сионизм, но при этом строго религиозна. В ней принимают участие молодые люди из лучших семей. У них очень красивая форма; они занимаются спортом, пением, устраивают всевозможные развлечения. Пускай ваша Суринка организует в Поляне группу мизрахистов. А вы зайдите к Гидалу Штейну, он вам кое-что посоветует. Пришлет вам в Поляну нужных людей.
Раввин указал правильный путь. И Гидал Штейн подал тоже хорошие советы.
Сура Фукс основала в Поляне организацию мизрахистов, в которую вошли ее сестры и брат, а также Хаимек Зисович и еще восемь юношей и девушек. Соломон Фукс открыл им кредит, и они сшили себе форму: зеленые спортивные блузы с желтой звездой Давида{267} на рукаве.
Через неделю в Поляну приехали из города пять молодых людей, тоже в форме, и вместе с полянскими мизрахистами устроили экскурсию к охотничьему домику. Там произносили речи, — правда, не так долго, как на студенческом митинге, — пели, а вечером танцевали у Фуксов под граммофон. Молодые люди угощали девушек конфетами, Сура как руководительница сладко улыбалась — сладко потому, что, кроме политических, рассчитывала и на другие результаты этого визита: она тщательно накрасилась и нацепила все свои драгоценности.
А через неделю в Поляну съехались халуцы Абрамовича. Это были уже не студенты, — те в это время находились в Мукачеве, — но все же люди, знающие, что язык нужен не только при еде, а и для кое-чего другого. Они дали великолепный бой предателям-мизрахистам и продажным богачам. Но главное было — организоваться. Организация, организация, организация!
— Что это такое? — кинул издали Байниш Зисович.
— Дурак, это значит — объединиться, заняться саморазвитием, сбором денег! — крикнул вместо докладчика Шлойме Кац.
— Ага! — захохотал Байниш, но получил отпор.
— Дурак, как ты думаешь добраться до Палестины без денег? — оборвал его Шлойме Кац.
Все засмеялись, и громче всех Ганеле.
Через несколько дней Абрамович и его ближайшие друзья — Нахамкес, Кац, Эйзигович и Мендлович — получили от адвоката напоминание о необходимости под угрозой опротестования оплатить векселя, выданные фирме Соломон Фукс. Соломон Фукс мог с легким сердцем прибегнуть к этой мере; он не терял клиентов; эти пятеро все равно ходили к Шафарам. Правда, Иосиф Шафар, на жалкие пятьсот крон, присланные ему мукачевским зятем с неприятным письмом, не мог купить особенно много товару для своей пустой лавки, но немножко кукурузной муки для будних дней, немножко пшеничной на субботний бархес{268} да немножко соли он все же купил.
Напоминания адвоката встревожили. Кто не знает, какое это несчастье, когда вдруг от вас требуют выплатить в две недели сорок, а то и все сто двадцать крон да еще — подумать только, какая наглость! — пять крон адвокату за уведомление.
И вот общественный конфликт, подкрепленный личным, прорвался.
Как-то ночью, крепко проспав два часа, Соломон Фукс проснулся от удара в окно и дребезжания стекол.
— Рибейней шел ойлем! «Господи боже!» — крикнул он, вскакивая. Но сейчас же лег на пол и закрыл голову руками.
Дзинь!
Нет! Это был не камень, это какая-то бутылка вдребезги разбилась об оконную решетку. Жена и обе дочери, спавшие тут же, подняли отчаянный крик.
Дзинь! Дзинь! Дзинь! Стекла со звоном вылетели из рам.
Еще два глухих удара: камни отскочили от решетки.
Соломон Фукс, спасая свою жизнь, пополз на коленях к стене.
— Не кричите! — приказал он жене и дочерям. — Лезьте под перину! А потом осторожно сползите на землю и спрячьтесь под кроватью.
В соседней комнате закричали остальные дочери, заплакала меньшая.
Камни с грохотом падали на пол.
Дзинь!
Вся семья — кто раньше, кто позже — сошлась в сенях, в кромешной тьме. Отсутствие окон и обитые железом двери делали это место наиболее безопасным. Все тряслись от холода и волнения. Сколько нападающих? Один? Тысяча?
Теперь удары доносились с другой стороны дома.
— Свиньи! — первая выдыхнула Сура.
И первая решилась выйти из сеней. Оделась, заглянула в лавку — не выбиты ли там тоже окна, — скорчившись, проползла по комнате и осторожно выглянула в окно: не узнает ли кого из нападающих? Нет, ночь темна; не видно ни зги.
Дзинь! — опять прозвенело с задней стороны дома.
Разве где-нибудь еще уцелели стекла?
Они стали ждать новых ударов, не решаясь ни зажечь свет, ни вернуться в постель. Им было холодно, и они в потемках вынесли в сени одеяла и перины, чтобы укрыться ими. Вся квартира была усеяна стеклом, камнями, осколками бутылок.
Только грохот повозки по булыжной мостовой и удивленный вопрос русина за решеткой разбитого окна: «Эй, что тут стряслось?» — освободил их из плена. Выйдя наружу, они увидали, что все их овощи вырваны из грядок, выкинуты на мостовую и смешаны с грязью. В огороде все фасолевые подпорки были переломаны, а гряды лука растоптаны и превращены в кашу, словно там хозяйничало целое стадо скота. Желая смочить пересохшие от волнения горла, они зачерпнули было воды из колодца, но оказалось, что ее нельзя пить: кто-то налил в колодец керосину.
Госпожа Эстер сверкнула глазами из-под нахмуренных бровей:
— Кто покупал вчера керосин?
— Вчера, мамочка? — горько усмехнулась Сура. — А может, на той неделе?
— И даже наверное в долг! — со злостью прибавила Цеза.
О происшествии узнала вся деревня; холодным утром перед домом Фуксов столпился народ; подходили все новые любопытные. Прибыли и жандармы.
Когда слух о событии дошел до Шафаров, взволнованная мамочка накинула хорошую юбку, надела жакетку, схватила Ганеле за руку:
— Пойдем!
Подошли к дому Фукса. Работник и работница вычерпывали бадьей воду, и вода текла через весь двор на улицу. В дверях лавки среди пестрых реклам мыла и сластей стоял Соломон Фукс.
Но Соломон Фукс — это не папа: он не испугался двух женщин, не схватился за голову и не стал бегать по саду.
— Чего надо? — крикнул он.
— Ах, я только думаю, — спокойно сказала мама, хотя голос у нее немного дрогнул, — что господь бог всегда найдет злого человека.
Но кого именно она имеет в виду, мама не сказала. Может быть, того, кто ночью выбивал стекла.
Рядом с отцом, среди реклам, появилась Сура.
— Сущий пустяк, — промолвила она с кисло-сладкой улыбкой. — Неужели вы думаете, госпожа Шафар, что у нас не найдется несколько оконных стекол? Бог миловал!..
Так из-за помешанного сапожника среди евреев произошел раскол. Деревня разделилась на два лагеря, и в этой борьбе всех против всех нашлось, к сожалению, только два справедливых человека.
А может быть — только один? Потому что святой Мордухай Иуда Файнерман, величайшая надежда Поляны во всех грядущих испытаниях, подвел. Он ничего не видел и не слышал. Что ж, разве в талмуде не сказано, что мочки для того и сделаны мягкими, чтобы ими можно было затыкать уши, если при вас говорят худое; а веки подобны завесе, которую можно опустить, если на ваших глазах творят неправедные дела?
Раз мы ничего не видим и не слышим, значит ничего и не происходит. И для Мордухая Иуды Файнермана ничего не происходило. Или, быть может, он затворил душу свою, зная, что глупо, мелочно и ничтожно все, что проходит, не оставляя ни отклика, ни следа, и недостойно быть принятым в душу, которая бессмертна? И если во время вечерней молитвы в молельне поднималась слишком громкая перебранка, он, Мордухай Иуда Файнерман, продолжал молиться, только немножко повысив голос, и будто вырезанная из старой слоновой кости голова его с пожелтелой от старости бородой начинала кланяться быстрее, с единственной целью — вымолить познание.
Зато Пинхес Якубович весь был — пламя страсти и тоски. Тайное, незримое пламя, которого никто не видит, но который пылает в груди, жжет, пожирает душу. Таков удел ламед вова{269} (а ведь он — ламед вов!). Он знал: либо теперь, либо долго не придет мессия!
Никогда, с тех пор как стоит мир, вещи не казались такими страшными. Но если бог все это допустил, значит они — лишь предвестья того, что должно свершиться. Много претерпел Израиль со времен разрушения храма{270}. И все-таки были страдания, посланные с того света, приближавшие избранный народ к господу, сплачивавшие его и закалявшие. Что такое телесная болезнь? И вообще — что такое телесное? Пар и дым! Но теперь дело идет о душе. Какие беды обрушились на еврейство! Идолопоклонство! Лжепророки! Раскол! Брат против брата! В какую бездну падаешь ты, несчастный народ израильский? В бездну гибели и распада? Неужели ты совсем забыл своего бога?
Ах, поймите, какое это бремя, когда несешь на своих плечах тридцать шестую часть тяжести всего мира! Поймите, какие испытываешь страдания, скрывая в своей груди тридцать шестую часть боли всего еврейства!.. Быть одним из тридцати шести?..
А если так, — значит, гибель и спасение мира зависят от тебя. Пускай весь мир обезумеет, ты, ты один, не смеешь ни на пядь сойти с того места, на которое тебя поставил бог.
Нет, никто больше не хочет слушать поучений и притч Пинхеса. Все их знают и только отмахиваются: «А ну тебя с твоими сказками!»
Даже у друга, Мойше Кагана — свои заботы. Даже с ним Пинхес Якубович не говорит притчами. Все, что можно сказать, уже сказано, а доказывать свою правоту словами — бесцельно. Только молитва может помочь: она сильней ангелов. И Пинхес Якубович молится.
Несмотря на крик и ругань Браны, — ах, Брана, быть тебе рыбой! — он вернулся к ночным молитвам. Так делают все тридцать шесть — в Мельбурне, в Нью-Йорке, Сингапуре и Париже, в Иоганнесбурге, в глухих деревнях Галиции и Сибири, — все одновременно сливают голоса свои в одну отчаянную молитву о мессии, в один настойчивый вопль, который не может не дойти до небес. По понедельникам и четвергам, когда близится «хцот», — так в каббале называется полночь, — Пинхес Якубович осторожно встает с постели и надевает саван — рубашку, получаемую каждым евреем в день свадьбы: в ней его когда-нибудь положат в гроб. Он готовится читать каббалистическую молитву «Хурбан баит», известную лишь посвященным. Эта молитва должна заставить бога послать мессию, потому что именно в этот день и час можно многого добиться от божества. Пинхес тихонько выходит в холодные сени с утоптанным глиняным полом и расставляет вокруг себя свечи.
Босой, в длинной белой рубашке стоит он среди них и вот начинает раскачиваться и петь рыдающим речитативом: «Горе детям, которых проклял отец, горе и отцу, которого покинули дети». И в этих начальных словах нет ни хулы, ни даже угрозы по адресу бога. Пинхес Якубович, раскачиваясь все быстрее, рыдает над рухнувшим храмом, воздевает ввысь руки, волнуется, жалуется богу на все страдания, испытанные евреями в голете; с испариной на лбу напоминает богу о необходимости выполнить обещание, угрожает ему, бросается наземь, плача бьется головой о глиняный пол и взывает: «Доколе нам терпеть? Мы совершили порученное, сроки исполнились, смилуйся, пошли нам мессию!» И в эту минуту тридцать шесть избранных, ничего не знающих друг о друге, рыдая, бьются в разных уголках земного шара головой о землю, и причитают, и плачут вместе с Пинхесом Якубовичем: «Доколе нам терпеть, мы уж больше не в силах страдать, исполни свои обещания! Пошли мессию! Почему ты медлишь? Мессию! Мессию!» И, честное слово, Пинхес с его худым, дрожащим телом, жалкой головой, с заплаканными глазами и красными пятнами на щеках вряд ли мог бы пережить ужас этого мгновенья, если бы не получал поддержку от тридцати пяти, с которыми он в этот момент соединялся. Ибо есть один час: полночь с четверга на пятницу, — для Шанхая, Поляны и Чикаго — одинаково.
— Чтоб ты лопнул! Кляча несчастная! Провалиться тебе сквозь землю! Дурак! Дурак!
Это Брана вернулась из хлева, подоив корову. Она срывает с Пинхеса Якубовича одеяло, бросает его на пол, ругается, кричит:
— Полуночничает, а днем дрыхнет! Год целый пальцем не пошевелит, я просто извелась совсем, всюду сама ступай, все сама сделай. Кляча! Кляча! Кляча! Разрази тебя гром! Чтоб все зубы у тебя выпали, только один бы остался, да и тот болел… Дурак, дурак, дурак!
Ой-ой-ой!
Пинхес Якубович покорно встает, покорно одевается.
Брана бушует.
И, не позавтракав, покорно бредет Пинхес Якубович на улицу. Худой, в лохмотьях, похожий на отодранную от забора жердь, большеухий, с жидкими, обвислыми пейсами. Зайдет к Эйзиговичам, к Кацам, к Зисовичам, посидит, послушает, скажет два-три слова и идет дальше.
В Поляне человек должен уж очень скверно выглядеть, чтобы кто-нибудь обратил на это внимание. Меж заборами Пинхес встречает своего друга Мойше Кагана.
— Что с тобой, Пинхес?
Но разве может ламед вов кому-нибудь рассказать о том, кто он? И смеет ли он с кем-нибудь делиться своею болью?
Пинхес Якубович качает головой.
— Я знаю, тебя Брана мучает! — говорит Мойше и, догадываясь, что его предположение не очень-то расходится с действительностью, почесывает у себя за пейсами. — Ничего не поделаешь…
Когда Ганеле с матерью, вернувшись к себе, рассказали, что перед домом Фукса навалены груды стекла, что кто-то разорил его огород и налил в колодец керосину, отец сказал:
— Кажется, они правы. Можешь идти к ним.
Так Ганеле стала халуцкой.
Организация насчитывала тридцать членов. Пражский центр прислал хорошенькие зеленые копилки, которые полянцы прибили у себя в домах к стене, а ключи от этих копилок хранились у казначея Эйзиговича. Собирайте, евреи! Бросайте пяти- и двадцатигеллеровики, просите у чужих! Каждый день хоть немного! За каждый успех, каждую радость, каждое удовольствие, каждый поцелуй жены! Создадим себе родину, жизнь и счастье!
На вечерних собраниях у сапожника Лейб Абрамович рассуждал о равенстве и братстве бедных и, от волнения впадая в молитвенный нигун{271}, растягивал концы слов.
Потом вставал Шлойме Кац и читал письмо из пражского центра. Мизрахисты — изменники и саботажники: их нужно всюду уничтожать — при любых обстоятельствах и любыми средствами. Главная задача — поддерживать движение среди молодежи. При первой возможности в Поляну будет прислан инструктор, который обучит молодежь халуцким песням и массовым танцам. Полянская организация должна стать самой боевой, ударной на Карпатах. Что касается вопроса о соблюдении субботы и об общей столовой в рабочих лагерях, то и суббота и закон о чистоте пищи строго соблюдаются в гахшарах{272} больших еврейских поместий Словакии и Подкарпатской Руси; но в крупных центрах — в Праге, в Брно, где члены организации работают большей частью на промышленных предприятиях и где часто трудно бывает достать ритуальную пищу, — оба старых обычая соблюдаются в той мере, в какой это позволяют обстоятельства. В письме также спрашивалось, почему Поляна еще не собрала вступительных взносов.
Сообщение о субботе и столовой озадачило полянцев. Даже очень… По поводу этих двух вопросов мизрахисты больше всего шумят. И кажется, кое в чем они правы.
Шлойме Кац был секретарем организации. Хотя мама, из-за Ганеле, приходила на каждое собрание и могла появиться в любой момент, все-таки удавалось, не привлекая внимания, на минутку встретиться во дворе, перекинуться парой слов и поцеловаться.
«Любовь? — спрашивала себя Ганеле под пение дедушкиных мельниц в ночной тишине. — Любовь? Он нравится мне, когда шутит, когда можно с ним посмеяться и когда он не очень надоедает».
Так приятно знать, что тебя кто-то любит… Но мысль о будущем свекре была отвратительна. С парализованными ногами, с большим горбом на груди и на спине, лакомка и обжора, которому привозят мясо и копченую говядину из города. Он единственный человек в деревне, кроме Фуксов, которому живется хорошо, потому что летом он стоит с костылями у пражских рынков, склонив набок свою голову мессии с черной, как уголь, бородой и большими темными глазами, и печально смотрит на возвращающихся с покупками богатых евреек. Ганеле слегка морщит носик: любовь?
— Поедешь в Палестину, Ганеле? — спросил ее Шлойме на темном дворике у Абрамовичей.
Ганеле стояла, прислонившись к заготовленной на зиму поленнице, глядя на звезды.
— Не знаю, Шлойме… Я поехала бы… Всюду люди живут. Видела я у сестры в Кошицах… А у нас — не жизнь!
— Поедешь со мной, Ганеле? — горячо спросил он, схватив ее за руку.
Это был очень серьезный вопрос, и Ганеле не могла не понимать этого. Чтобы население палестинской колонии росло, палестинский комитет разрешил въезд только женатым, и вопрос Шлойме был в то же время предложением.
Ему долго пришлось ждать ответа.
Поставив ногу на полено, Ганеле глядела на звезды, мерцающие высоко над головой. За освещенным окном шло собрание. У Шлойме громко стучало сердце.
— Со мной! Со мной, Ганеле! — пылко воскликнул он, обнял девушку и крепко прижал ее к себе, стараясь поцеловать. Но губы его встречали только воздух.
— Нет… Нет… Пусти! Пусти, Шлойме!..
Наконец, она выскользнула из его рук и пошла на собрание. Охваченный нервной дрожью, он шел за ней.
— Ганеле…
На пороге она остановилась и, хотя голос ее дрожал, сказала спокойно:
— Не делай так, Шлойме! Ты же знаешь: нельзя. Я должна буду сказать маме.
Вскоре из пражского центра пришло письмо, вызвавшее среди халуцев большое волнение: в Моравской Остраве возникла новая гахшара, и полянцам предоставлялось право послать туда двух членов организации. Кроме того, опять задавался вопрос: почему Поляна еще не уплатила членских взносов.
Кто поедет в гахшару? Кто будет этим счастливцем?.. Гахшара — это Палестина, жизнь, счастье, родина.
Здесь чувствовался также привкус совершенно нерелигиозной мистики. Гахшара! Какое чудесное слово! Это как раз то самое братство бедных, о котором твердит Лейб Абрамович. Составится группа в двадцать — двадцать пять юношей и девушек, и уедут они в далекие края (ах, где это — Моравская Острава?), найдут себе работу в чужом городе, — безразлично какую: у каменщиков, на заводе, в магазине или рассыльным в канцелярии, — и безразлично как оплачиваемую, ибо весь заработок сдается в общую кассу. Будут жить вместе, держать общий стол, иметь общую одежду и белье, так как сегодня должен лучше одеться тот, кто идет искать работу, а завтра другой, отправляющийся на прогулку. Это братья и сестры. По вечерам и воскресеньям руководители преподают основы движения и древнееврейский язык, — да, язык пророков, поэтов и царей евреи тоже восстановят на своей новой родине. А потом, потом — Палестина!
Но кто туда поедет? Прямым путем и окольными дорожками в комитет явилось тринадцать человек — все молодежь, не считая семьи кузнеца Сруля Нахамкеса с семьей, который, наверно, поедет прямо, не останавливаясь в гахшаре.
Создаются новые общественные связи, забываются старые обиды. Но кого признает организация достаточно зрелым и достойным, кому, за все время существования Поляны, первому из ее жителей выпадет счастье увидеть обетованную землю? Эти вопросы волновали не только халуцев. Они волновали всю деревню.
— Правда? — спрашивают недоверчивые мизрахисты, тараща глаза. И им становится досадно, что они заказали себе куртки с желтой звездой Давида на рукаве, о которых Соломон Фукс ничего еще не говорит только потому, что зимой у него будет мизрахистский бал. Но какое же может быть сравнение: бал или Палестина?!
Днем в лавке у Фукса собираются Сурины приятели, сидят на ящиках со свечами, с гвоздями, на бочонках из-под уксуса.
— Что вам угодно? — спрашивает Сура покупателей-русинов, вешая им соль и муку, наливая в бутылки керосин, уксус и в то же время разговаривая на еврейском со своими приятелями: — Погодите! Еще посмотрим, кто из полянцев поедет в Палестину! Просто опять кто-то начал охоту за деньгами глупых евреев. Как живут в гахшаре? Что вы меня спрашиваете? Спросите Гану Шафар… Нет, нет, — обращается она к старухе русинке, которая, наклонившись над прилавком, что-то таинственно шепчет. — Нет, нет, вы знаете: мы в кредит не отпускаем. — Сура берет сверток с солью для скотины и, положив его сзади на полку, идет отпускать гвозди крестьянину. — Там все будут спать вместе, — усмехается она. — По крайней мере не страшно. Еще двенадцать крейцеров, — говорит она крестьянину. — Кажется, Шлойме Кац тоже едет. И субботу, понятное дело, на остравских фабриках праздновать будут. Нашла все-таки? — смеется она над старухой, подавая ей сверток. — И кошерное{273} будут есть, конечно.
Жажда выбраться из местной серости, жажда жизни и счастья, — а все это содержалось в слове «Палестина», — захватила и Ганеле.
Как-то солнечным осенним днем, во время листопада, склонившись в одной юбке, рубашке и туфлях на босу ногу у забора над корытом с бельем, Ганеле все сказала матери. Та в это время обламывала сухие ветки с яблони, чтобы развести огонь под котелком, да так и застыла с охапкой хвороста в руках, уставившись на дочь.
— Ты с ума сошла?
— Нет, нет, мамочка. Если вы меня пустите, я попрошу у Этельки денег и поеду в Палестину.
— С ума сошла, глупая девочка!
Ганеле наклонилась над стиральной доской. Волнистые пряди волос упали ей на лоб.
— А второй кто? — строго спросила мама. Она думала, что услышит имя Шлойме Каца.
— Не знаю. Это еще не решено. Может быть, молодой Эйзигович.
Тут в огороде появился гость — Пинхес Якубович. Он уселся на край деревянной лохани с мокрым бельем и, глядя на алые языки огня, лижущие дно котла, стал слушать женщин. В Поляне мало такого, о чем не рассказывали бы открыто перед всей общиной, и все привыкли, что Пинхес иной раз зайдет, посидит минутку, поговорит и пойдет дальше.
Мать и дочь разговаривали, продолжая работать. Обе были немного раздражены.
Пинхес Якубович сидел и глядел. Он глядел на Ганеле, но не видел ни ее раскрасневшегося лица, такого красивого в эту минуту, ни ее обнаженных рук, ни груди, во время работы двигавшейся под рубашкой. Глядел ей в душу. И вдруг в душе его все стало ясно. Словно кто-то разогнал дождевые тучи и солнце залило луг и стада овец. Это была одна из тех минут, когда он видел то, что видят лишь избранные, когда у того, кто почти совсем отвык от речи, слова рождаются неожиданно, сами собой.
— «Когда-то давным-давно жил в Кракове один еврей…»
— Ах, ну вас с вашими сказками, Пинхес! — сказала Ганеле, не отрывая глаз от белья.
— «…и явился к нему ангел сна. И говорит: «Если пойдешь прямо на запад солнца, придешь в город, который называется Прагой. Течет в том городе река Вилтава, и ведет через нее каменный мост. Там найдешь золотой клад. Пускайся в путь». Утром еврей проснулся и думает себе: «Ну, сон есть сон».
Но на следующую ночь ангел сна опять к нему приходит и говорит то же самое. А когда ангел явился и на третью ночь, еврей понял, что этот сон от бога, и отправился в путь-дорогу. Нашел Прагу, и Вилтаву, и каменный мост. Ходит перед мостом, за мостом, по мосту, ищет, глядит себе под ноги — нигде ничего нет. Вдруг сзади схватили его за руки два солдата: «А, еврей вонючий! Для врагов шпионишь? Погоди же!» Стал он их просить, все напрасно. Отвели они его в мостовую башню к офицеру. А тот: «Шпион? Повесить его!» Опять еврей умоляет, объясняет, что он вовсе не разведчик. И когда уж ничего больше не оставалось, рассказал он офицеру свой сон. Тот хохочет:
— Ах ты, глупый еврей! Он верит снам! Да кабы верить снам, так я должен был бы сегодня поспешить в Краков: мне ночью приснилось, будто я был у одного еврея, даже помню, как его зовут (и офицер назвал имя арестованного), как у него в доме (он описал его жилище). И будто я нашел в печи у него большой клад. — И до того развеселился офицер, что приказал отпустить еврея; тот вежливо поблагодарил и — обратно в Краков. А дома, только вынул из печи первый кирпич, сразу нашел золотой клад. Да какой богатый!..»
Так рассказывал великий раввин своим ученикам, а кончив, спросил их: «Зачем я рассказал вам этот случай? Затем, чтобы вы знали: все мы чего-нибудь ищем. И рано или поздно — непременно найдем. Не обязательно в далеком, чужом краю. Дома. В своем сердце. В душе своей».
Отстаиваешь ли перед матерью свое право пуститься в широкий мир, составляешь ли мысленно просительное письмо к сестре и в который уж раз обдумываешь маленькие хитрости, чтобы добиться разрешения, — без этого не обойтись, разве что в сказках, — а желтые листья яблони все падают и падают в прозрачном воздухе, опускаясь в мыльную пену под твоими пальцами. Может, все это одни фантазии только для утешения собственного сердца?..
Ночью, лежа в постели, родители долго говорили о Ганеле, было много убедительных доводов за то, чтоб ей не ехать, — и тот, что отец с матерью останутся одни, — при этом мамочка заплакала, — не был самым главным, ибо таков уж удел родителей — стареть и оставаться одним. Но, с другой стороны, ведь зимой Ганеле исполнится двадцать один год! И найдет ли ей Этелька или Балинка мужа, когда теперь каждый гонится только за деньгами? А что сестры могут ей дать? Может, дадут приданое, но — бог знает! И она выйдет замуж здесь? За Шлойме Каца? Фи!
В конце концов папа нашел выход, как раз по своему характеру, ни то ни се: в Моравскую Остраву — да, в Палестину — нет. Такое решение успокаивало и тревогу матери: может быть, Ганеле подвернется кто-нибудь в Остраве!
Утром Иосиф Шафар сказал дочери:
— Мы с мамой говорили вчера о тебе. Я ничего не обещаю, но в Моравскую Остраву мы тебя, вероятно, пустим, это будет зависеть еще от того, кто с тобой туда поедет и с кем ты там будешь жить.
Да, Ганеле это понимала.
— Но в одном ты должна мне поклясться, — строго сказал отец, — что поступишь на работу к еврею, будешь праздновать субботу и в рот не возьмешь трефного{274}.
Клятвы он не ждал. Это было просто оправданием отца, отвечающего за свою дочь перед судом господним.
Вторым, кто мог больше всего рассчитывать, что его пошлют в гахшару, был, конечно не Эйзигович, а Шлойме Кац, усердный и добросовестный секретарь организации. Ганеле прекрасно понимала, что если она во время следующего собрания выйдет во двор и встанет в темноте возле поленницы, то через минуту появится Шлойме.
— Ганеле! — Он взял ее за руку. — Почему ты тогда рассердилась на меня?
— Ты же знаешь, Шлоймечек, что так нельзя целоваться, как ты меня целовал. — Она погладила его по щеке. — Но теперь о другом: кто из девушек поедет?
— Еще неизвестно.
— А я бы не могла?
— Ты, Ганеле? — радостно воскликнул он и задумался. — Думаю, что если б я поговорил кое с кем, может и могла бы. — Но вдруг он понял, что ее слова — это ответ на его вчерашний вопрос. Его охватила огромная радость. Он страстно обнял девушку, впился в нее взглядом. Ганеле увидела — в его глазах заплясали огоньки.
— Ганеле! Я так счастлив! Ты меня поняла? Не забыла обо мне? — прерывающимся голосом воскликнул он. Искры в его глазах вспыхнули пламенем, засверкали. — Со мной?! Со мной!
Он целовал Ганеле как безумный, как пробовал целовать накануне. Она почти не защищалась.
— Об этом я и хотела поговорить с тобой, Шлойме, — сказала Ганеле, высвободившись, наконец, из его объятий. Она стояла вся красная, опустив глаза и поставив ногу на полено.
— Знаешь, Шлойме… у меня к тебе просьба. Видишь, в чем дело: если поедешь ты, родители меня не пустят… Послушай, Шлойме, не согласишься ли ты поехать в следующий раз?
Он ожидал совсем другого. Он был поражен.
— Я бы ждала тебя там…
Он молча смотрел в землю, обдумывая ее слова, наморщив лоб. Потом, вдруг решившись, взял девушку за обе руки.
— Ты любишь меня, Ганеле?
— Почему же мне не любить тебя, Шлойме?
— Нет, — сказал он, обнимая ее. — Скажи искренно.
— Я очень люблю тебя, Шлойме.
И она поцеловала его в щеку.
— Я сделаю для тебя все на свете, Ганеле.
Собрание поручило Шлойме снова написать в Прагу. Многое нужно было узнать; еще многое оставалось неясным. Когда дело идет о всей жизни — нельзя действовать легкомысленно.
— Как только придет ответ, выбор будет сделан, — объявил председатель Лейб Абрамович.
Сколько волнений!
Кто будут те двое? Вы, слушавшие своего председателя в такой тишине, что было слышно, как жена Абрамовича делает стежки иголкой с ниткой, латая детские штаны, используйте эти несколько дней, агитируйте, уговаривайте, просите, обещайте, угрожайте, подрывайте авторитеты, создавайте группы, разоблачайте злоупотребления, обучайтесь азбуке внутрипартийной политики: речь идет о всей жизни!
Гана Шафар, напряги все свои силы: речь идет о твоем счастье!
Девственные леса Поляны бесконечно далеки от мира, а от Праги — дальше, чем любое другое место в Европе. На второй либо на третий день придет письмо из Праги на железнодорожную станцию, на четвертый за ним приедет почта из города, на пятый деревенская телега повезет его через горы в деревню у подножия холма, на шестой или восьмой его заберет полянский почтальон, совершающий это путешествие только три раза в неделю.
В общем, если ничего не случится, ответ надо ждать через две недели, здесь не торопятся.
На этот раз получилось еще дольше. Ответ пришел, но почтальон принес его в пятницу, и так как шел медленно, то появился в Поляне, когда сияли уже не три звезды, а весь небосклон был усеян ими.
В это время Лейб Абрамович стоял в молельне перед амвоном, завернувшись в полосатый, черный с белым, талес и, надсаживая голосовые связки, вопил свой знаменитый семикратный припев:
— Ти-ри-ри! Та-ра-ра! Выйди, друг мой, встреть невесту!
Жена Лейба, как раз зажигавшая субботние огни, нехотя взяла письмо. Наверно, теперь опять устроят собрание, и пол, только сегодня после обеда так чисто вымытый, снова станет грязным. И она бросила конверт на мужнин сапожный столик.
Вернувшись домой после «Гит шабес», Лейб не стал читать письмо. Это не разрешается.
Слух о письме из Праги быстро распространился по всей Поляне. Но оно лежало нераспечатанным весь этот вечер. И всю субботу. На столике — возле клещей, шила, дратвы, жестянки с клеем и осколками стекла для скобления кожи, придавленное сверху сапожным молотком. Люди приходили на него поглядеть, стараясь скрыть свое волнение веселой улыбкой. Но были и такие, которые лукавили с богом. Почему бы не вскрыть письмо? Разве в субботу не подобает читать о благочестивых предметах? Конечно, да! А разве обетованная земля — не благочестивый предмет и не угодна богу?
Но Лейб Абрамович протянул руку над письмом, отвергая эту попытку:
— Всему свое время!
Вечером все решится!.. Вечером выборы!
Волнение росло. В последнюю минуту перед выборами кандидаты забегали по деревне, добиваясь от своих сторонников подтверждения обещаний. Ганеле тоже волновалась. Отец и мать вечером будут с нею; они тоже вступили в организацию: ведь торговля возрождается, а дочери понадобится помощь.
Время от полухолодного субботнего обеда, со вчерашнего дня хранившегося во влажной хлебной печи, до того мгновенья, когда бог, зажегши в небе три звезды, опять призовет принцессу Саббат{275} к своему престолу, тянется всегда очень долго. В эти часы, когда нельзя делать ничего, хоть немного похожего на работу, люди семейные спят в постели. А молодежь, одевшись по-праздничному, прогуливается между деревней и охотничьим домиком. Но что делать в долгие осенние сумерки, когда нельзя даже свет зажечь и минуты текут так лениво?
Взволнованная Ганеле выбегала на галерею посмотреть, не взошли ли уже три звезды, верней — не взошла ли третья, потому что ту, которая мгновениями трепетала на пепельном небосклоне среди туч над Менчулом, папа не видел или во всяком случае не узнавал. Но в конце концов появилась и третья, бесспорная. Мамочка зажгла первый будничный огонь — лампу, и теперь у Шафаров, как во всех семьях, можно было приступить к обряду «гавдоле»{276}.
Ганеле — самый младший член семьи — держит высоко над головой пылающую свечу о шести прядях и пяти огнях; у отца в правой руке чарка водки, в левой — склянка с душистыми кореньями; он молится над кореньями, молится над огнем. Подносит к глазам склянку, смотрит на нее, потом откупоривает, нюхает коренья, чтобы всю неделю помнить, как благоухает обетованная земля, потом выливает немножко водки на стол, берет из рук Ганеле свечку и зажигает пролитое.
В синее пламя погружает он пальцы и трет себе лоб, чтобы он был ясным, сердце — чтобы оно было добрым, шею — чтобы была крепкая, и мажет себе изнутри карманы… Но поможет ли эта манипуляция с карманами, если в них не появилось ничего ценного после стольких расставаний с принцессой Саббат?.. Ах, помогло бы на этот раз, хоть немного!
Но нет, опять не помогло.
У папы несчастливая рука.
В полянских семьях уже обмениваются пожеланием «Гите вох!»
— Папа, мама, идемте! — зовет Ганеле.
В потемках тянутся халуцы к хате Абрамовича. Комната полна народу. Дети притаились на печи. Вот Лейб Абрамович встает — и все смолкает. Он разрезает сапожным ножом конверт, и кажется, будто это архангел взмахнул мечом своим. Лейб Абрамович вынимает письмо, разворачивает его и торжественно подаст Шлойме Кацу. Шлойме умеет читать без запинки. Наступает полная тишина. У Ганеле колотится сердце.
Письмо оказалось длинное, деловое.
Палестинский комитет жаловался, что переселенцы, присылаемые из Подкарпатской Руси, — самые неквалифицированные из всех эмигрирующих рабочих, наименее способные и прилежные. Поэтому кандидатов для гахшары нужно отбирать особенно тщательно и обдуманно. Желательны квалифицированные земледельцы, столяры, плотники, каменщики, штукатуры, кузнецы (ах, Срулю Нахамкесу словно кто поднес сладкого вина, и оно вдруг разлилось у него по жилам), слесари, механики, инструментальщики и лечебные массажисты. Но там ощущается избыток портных, швей, сапожников (узкая полоска щек между бородой и глазами у Лейба Абрамовича сильно покраснела), стекольщиков, мужских и дамских парикмахеров, зубных техников, — приезд этих специалистов нежелателен.
Что касается гахшары, организованной в Моравской Остраве, то каждый новый член должен сам оплатить все путевые расходы и привезти: два верхних платья («Ого!»), две смены белья, две пары обуви, подушку и одеяло («Ай-вей!»). Общежитием обеспечивает организация, работа членам гахшары будет предоставлена на фабриках и в мастерских Большой Остравы{277}.
Заработная плата каждого, независимо от размеров, вносится в общую кассу. Из этой суммы покрываются расходы на общественную кухню, стирку белья и уборку помещения; курящим мужчинам выдается на руки три кроны в неделю на папиросы, женщинам — крона на почтовые марки. Остаток будет передан палестинскому фонду («Ай-вей!»). Пребывание в гахшаре продлится не менее восьми месяцев. Руководитель, которому надлежит беспрекословно повиноваться, будет каждый вечер, а в праздничные дни до обеда преподавать членам гахшары древнееврейский язык и основы идеологии. В конце будут произведены испытания, после которых лица, признанные комиссией годными в умственном и физическом отношении, будут внесены в список уезжающих в Палестину и отправлены туда по мере получения эмигрантских удостоверений, выдаваемых Палестинскому комитету Великобританией{278}. Дорога до Палестины стоит тысячу пятьсот крон, и каждый оплачивает ее сам («Ай-ай-ай-ай… Ай-ай!»). Еще раз настойчиво напоминаем вам, что совершенно недопустимо, чтобы организации проявляли такую медлительность в переводе членских взносов, какая наблюдается в полянской организации. Уведомляем вас, что если вы в ближайшее время не погасите задолженности по вступительным и очередным взносам, мы будем вынуждены написать об этом случае в прессе.
Обетованная земля отцов исчезла в неоглядной дали; благовоние Палестины, заботливо хранимое под пробками склянок и так благоговейно вдыхавшееся полчаса тому назад, улетучилось, сменившись запахом пота в сапожной мастерской.
Полянцы стояли и сидели, не двигаясь; только из груди у них вырвался последний вздох, как из баллона, подвергнутого сильному давлению: «Ай-ай-ай-ай-ай…» Но вздох тихий, неслышный.
Львиная физиономия Лейба Абрамовича вовсе не была победоносной, а его блуждающий взор отнюдь не обличал в нем полководца, когда он спросил голосом, полным сердечной тоски:
— Кто желает ехать в гахшару?
Никто не ответил.
Стояла тишина, от которой веяло холодом. «Конец халуцев… конец руководству… конец Поляне», — зашевелилась в мозгу Лейба Абрамовича мучительная мысль. Но вдруг в тишине прозвучал ясный голос:
— Я.
Это был голос Ганеле Шафар. Все повернулись к ней.
Благословенна спасшая великое движение!
Ах, в ушах Лейба Абрамовича звук ее голоса прозвенел серебряным колокольчиком!
Никогда еще сигнал горниста, возвещающий осажденному лагерю приближение помощи, ни вызывал такого ликования в предрассветной мгле.
Да вознаградит тебя бог! И душа вождя, съежившаяся было на дне окопа, сразу воспрянула. Вот она уже ринулась из ворот, размахивая мечом над головой.
— Гана Шафар! — кричит во весь голос Лейб Абрамович. — Кто за?
Все!
— Кто против?
И его голос, его блуждающий взгляд, кажется, готов заранее сокрушить всякого, кто посмеет голосовать против, а взъерошенная борода грозит бедой.
— Никого.
Гама Шафар выбрана.
И Ганеле, героиня вечера, воплощение славы и предмет ненависти в ближайшем будущем, стоит, выпрямившись, на виду у всех, раскрасневшаяся, улыбающаяся, и сердце у нее стучит, как молоток. Потому что судьба Ганеле Шафар решена на всю жизнь. Бесповоротно.
На другой день утром на ящиках и бочонках в лавке Фукса сидело народу больше, чем обычно, а Суриным приятелям и подругам пришлось даже стоять, опершись на прилавок. Они смеялись, им было весело. Какая радость! Какая победа! Сапожник обанкротился! Вот потеха!
Сура, улыбаясь, делила свое внимание между друзьями и покупателями.
— Нет, в кредит мы не отпускаем, и отцу никакой работы не требуется, — говорила она со спокойной улыбкой русину-лесорубу. — Ну, пойдите в кооператив: там, наверно, поверят; или, может, у Шафаров… Что я вам говорила? — продолжала она по-еврейски. — Никто не едет! Одна Ганеле Шафар. Понимает, что, если у тебя ничего нет, ты должен позаботиться о себе, пока молод и красив. А в Остраве, конечно, женихи только и ждут, когда из Поляны приедут невесты… Отца нет дома, — ответила она лесорубу. — Не знаю, когда придет, но в кредит и он вам не даст… Дурачье! Рассчитывали прокатиться в Остраву и в Палестину даром. Вчера удивлялись, что надо восемь месяцев за так проработать в Остраве! Ну, не говорила ли я вам, что это просто выманивание денег?.. И что нужно взносы платить, тоже не могли понять.
Сура смеется и кладет перед русинкой сверток со словами:
— Нет, конфет мы не даем… Господин Шафар всегда дает вам пакетик для ребенка? Да? Ну и я в грязь лицом не хочу ударить. Но дайте-ка мне на минутку вашу покупку, я положу вам товара на три кроны дешевле или обвешу вас на две, и тогда тоже на пятьдесят геллеров насыплю пакетик… Ах, не хотите? Вот видите!.. Вам что угодно? — обратилась она к другой покупательнице, набивая себе рот шоколадом с начинкой. — А чем живет вся эта куча секретарей, которые разгуливают по Праге и ничего не делают?.. Или они думали, что кто-то будет обучать их древнееврейскому языку и этой их идеологии за «гемилут хасадим»? А эти зеленые копилки, — смеется она, — которые надо вешать над постелями и бросать туда двадцать геллеров за поцелуй, — это что, просто так? Зря?..
— Вы напрасно ждете, — говорит она русинке, — отца дома нет и придет не скоро… А теперь вот что я вам скажу: увидите, полгода не пройдет, как Лейб Абрамович останется один и у нас в общине все успокоится… Ой, я еще вам не рассказала: остальные не могут ехать в гахшару — денег нет; но знаете, почему не поедет Шлойме Кац? Раввин предупредил старого Каца, что, если Шлойме дадут деньги на проезд и вообще если Шлойме не угомонится, он отнимет у старика разрешение просить милостыню…
Друзья смеются.
— А по чьему настоянию раввин это сделал?
— По чьему настоянию? Не все ли равно?
Ганеле уже два месяца жила в Остраве.
В день отъезда, на рассвете, когда в кухне зажгли маленькую лампу и Ганеле, с уложенным чемоданом, ждала экипажа, а мама утирала слезы, к Ганеле подошел отец. И он, всегда такой молчаливый, а с дочерью вообще разговаривавший только о самых обыденных вещах, сказал ей:
— Я не умею говорить, но если бы жив был твой дедушка, он сказал бы тебе: никогда не забывай, что ты дочь Израиля. И если бы ты встретилась даже с самыми могущественными и богатыми гоями, хотя бы князьями, — окажи им почет, которого они заслуживают, и даже больший, чем они заслуживают, но не забывай, что ты выше их. Что ты еврейка. Царская дочь. Что ты не знаешь над собою иного господина, кроме своего бога. Дедушка сказал бы это красивее; я не умею…
Острава! Кошице лучше. В Остраве даже снег не такой: черный и сразу превращается в грязь. Но зато здесь — новые дома, электрический свет, роскошные витрины, много народу и вообще все замечательно.
Наконец-то Ганеле в Остраве или, лучше сказать, вдали от полянской праздности, вдали от обязанностей по отношению к Шлойме и от его настойчивости. Он становился несносным. Даже приплел своего отца. «Это ты из-за него не любишь меня, да?» — спросил он ее тот раз, и она видела, каким злым огнем загорелись его глаза и какое жесткое выражение появилось на лице. Но дело не только в отце… Была одна отвратительная ночь, о которой Ганеле не любит вспоминать…
Нет, она еще не встала обеими ногами на остравской земле. Слишком крепко еще связана она с Поляной. Гахшара оказалась не такой прекрасной, как ее изображал Лейб Абрамович, но и не такой плохой, как расписывала Сура Фукс. Кедмой{279} служило здание в Марианских Горах с шестью комнатами и огородом, засаженным картофелем. Сюда съехались двадцать шесть парней и двенадцать девушек; вместе с ними жили и питались шесть постоянных платных служителей.
— Это настоящие сионисты! — говорил о них Пепик Таусик, которому нашли место слуги в магазине. Пепик Таусик говорил только по-чешски и знал все новейшие анекдоты.
— Знаете, что такое сионист? — спрашивал он и отвечал: — Это еврей, который на деньги другого еврея посылает третьего еврея в Палестину.
Днем работали, вечером и в воскресенье учились или проводили собрания. Собрания Ганеле совсем не нравились, особенно те, которые посвящались критике: разгорячившиеся юноши, красные от возбуждения, ожесточенно нападали на неправильное понимание идеологии, ее основ; а девушки, стараясь скрыть взаимную неприязнь, попрекали друг друга беспорядками в спальне и умывальной, разбросанным бельем, раскиданными бумагами, грубостями, так что иной раз крик и плач стоял до самого утра. Кормили хорошо, но не все было кошерное. Таких гадостей, как свинина, которую выставляли в окнах магазинов, здесь, правда, не подавали; члены гахшары питались привычными молочными и мясными блюдами; но порой случалось и трефное, — например, молоко: перед тем, как доить корову, доильщик, конечно, не мыл рук ключевой водой и не окунал их в отруби. Принцип общности одежды и белья тоже не соблюдался со всей строгостью. Жить было можно. Хотя Пепик Таусик, с хохотом всегда норовил хлопнуть Ганеле по спине в коридоре, и Павел Гартштейн тоже изредка приставал, а спавшая рядом с Ганеле в женской комнате Сельма Странская была противная, сварливая девица, — но движение и суета гахшары были много приятней полянской тишины.
Ганеле нашли место в фирме «Рубичек и Лебл», и по крайней мере в этом отношении она могла успокоить отца. О том, что здесь в субботу работают, она домой не написала, и отец предусмотрительно никогда не спрашивал об этом. Фирма «Рубичек и Лебл» делала охотничьи сумки и рюкзаки. Ганеле пришивала лямки к мешкам, а «Рубичек и Лебл» выплачивали за нее кедме шестьдесят крон в неделю. Из этой суммы Ганеле выдавали в субботу пятьдесят геллеров на почтовую марку и открытку с сионистским воззванием, а так как фабрика была далеко и Ганеле не успела бы попасть в Марианские Горы в обеденный перерыв, то она получала каждый день еще две кроны пятьдесят геллеров на обед. На фабрике ей тоже нравилось. Работа была приятная, чистая, — она привыкла к гораздо более тяжелой. Рядом с ней за швейными машинами сидели веселые, общительные крестьянские девушки, и Ганеле часто смеялась с ними. Они весь день болтали о кино и парнях.
— Почему ты, Ганка, ни об одном парне никогда не расскажешь? Ты что, там у себя еврейской монашкой была? — спрашивали они.
Как это странно звучит: Ганка, Ганичка! Ганеле смеялась. Но о чем могла она рассказать?
Только об одном. Об этой отвратительной ночи у них в саду. О том, что постоянно живет внутри нее и вместе с нею. Что ей мерещится по ночам, когда она вздрагивает спросонок (почему не стучат дедушкины мельницы?), не понимая, где она, и на лбу у нее выступает испарина. Но этим она не стала бы делиться ни с кем на свете.
Несмотря на настойчивость Шлойме Каца, Лейб Абрамович до отъезда Ганеле больше не собирал полянских халуцев. Может, боялся свести на нет успех прошлого собрания, к сожалению, уже последнего.
И это политическое обстоятельство не могло не повлиять на сокровеннейшие чувства секретаря: Шлойме не мог больше встречаться с Ганеле. Но он искал только подходящего случая и решил сам создать его. Вначале это выглядело довольно невинно. Он по нескольку раз на день заходил в лавку купить какую-нибудь мелочь и перекинуться с Ганеле парой слов в присутствии матери: мама всегда была тут как тут, и Ганеле уже не досадовала, что ее так берегут, потому что начинала побаиваться Шлойме. Но потом он через русинских ребятишек стал посылать ей записки, и это было очень неприятно и даже рискованно. Он писал, что хочет ее видеть, должен видеть, хотя бы ценою жизни. Она не отвечала. За несколько дней до ее отъезда он опять написал ей, и по зачеркнутым и перечеркнутым строчкам было видно, как он взволнован: «Я не могу без тебя жить. Если ты не дашь мне возможности встретиться с тобой, произойдет что-то ужасное. Я еще не знаю, что именно, но что-то страшное». За два дня до отъезда она еще с утра заметила, что за хатами в конце забора, по ту сторону улицы, что-то по временам мелькает. Шагах в трехстах от того места стояло здание, откуда был хорошо виден дом Шафара. То и дело над грядами картофеля вырастала чья-то голова, и порой Ганеле казалось, что она узнает Шлойме.
Ганеле была полна тревоги. Шлойме ждал ее там с самого утра почти до полудня. Папа ушел куда-то в деревню, и, только мамочка вышла на минутку во двор, Ганеле увидела, что Шлойме перепрыгнул через забор, вот он мчится по огородам — прямо в лавку и к ней. Он был бледен как смерть.
Сверкая глазами, тяжело дыша, он проговорил:
— Осталось две ночи до твоего отъезда. Я буду ждать тебя у вас в саду. Две ночи напролет. Придешь или не придешь — твое дело. Но только знай: произойдет что-то ужасное.
И убежал. Какой страх! Только этого не хватало: Ганеле никуда не пойдет! Разумеется, не пойдет! Но когда она вечером осталась одна, а родители в соседней комнате заснули, нервы ее не выдержали. Ее мучила мысль, что он ждет — может быть час, а может и два. Она встала и увидала его за окном. Опять легла на постель и зарыла голову в подушки. Она то злилась, то готова была заплакать. Нет, она не пойдет! Но все-таки пошла. Только на минутку и сейчас же назад… Отругает его как следует и выгонит из сада. Она надела башмаки на босу ногу, накинула поверх рубашки старое пальто. Но Шлойме не дал ей уйти. Он потребовал, чтоб она перед отъездом поклялась выйти за него замуж. Слушать ничего не хотел. На ее увертки, уговоры, попытки отложить это дело на будущее он отвечал глупостями, твердил свое, а ее раздраженное «ну, так нет!» вызвало с его стороны целый град страстных упреков. Он стал упрекать ее в том, что она стыдится его отца, что изменила ему, обманула его, лишила его возможности ехать в Палестину и разбила ему жизнь. Он весь дрожал. Потом хотел поцеловать ее. Она защищалась. Он бросился на нее. Она давила ему пальцами глаза, отгибала назад его голову. Он боролся с ней, оборвал ей все пуговицы, сжал ее, полуголую, в своих объятиях, а когда она, укусив ему руку, кинулась бежать, догнал у яблони и стал трясти так, что она ударилась головой о ствол. Все это было тем отвратительней, что они боролись при свете звезд молча, так как рядом за окном спали родители. Потом он упал к ее ногам и стал целовать ей колени, горько рыдая. Она совсем измучилась, и, когда он встал, шепотом умоляя сжалиться и простить его, она была уже не в силах защищаться от его поцелуев. Она заплакала: ей стало жаль его, и они целовались, дрожа от волнения и холода.
Почему и здесь, в Остраве, ее все время тревожит мысль о Поляне? Шлойме прислал ей сюда уже три письма, и она тоже послала ему одну из своих субботних открыток с приветом. Он писал, что не может без нее жить, должен хотя бы ценой жизни ее увидеть, и, если ему не удастся собрать денег на дорогу, он пойдет в Остраву пешком! Но Ганеле не хотела, чтоб он сюда приходил и даже чтоб он ей писал. Почему ей не дают жить новой жизнью? Поляна, вечно Поляна!.. А если он все-таки вдруг приедет? Дома были родители, которым можно во всем признаться. А здесь кто ее защитит? Пепик Таусик или Павел Гартштейн?
Как-то раз в обеденный перерыв, вымыв руки и одевшись, Ганеле пошла обедать. В ее распоряжении был только час, а молочная находилась довольно далеко. На углу она увидела какого-то высокого еврея. Он был хорошо одет, тщательно выбрит, но, несмотря на это, черен, как кузнец. С очень большим носом. На вид — года тридцать два — тридцать три. Он пристально смотрел на приближающуюся девушку, любуясь ею, но без навязчивости. Ганеле многим нравилась, на нее часто заглядывались, и она это знала.
Когда она поровнялась с незнакомцем, он ласково улыбнулся, обнажив крупные зубы, и спросил:
— Вы из Словакии или из Подкарпатской Руси?
Ганеле еще дома, в лавке и в корчме, привыкла разговаривать с чужими приветливо.
— Я из Подкарпатской Руси.
Незнакомец пошел рядом.
— Ну, как там дела? Меня зовут Иво Караджич. Разрешите вас немного проводить? Все ждут мессию?
— Да, — не без удивления ответила она и взглянула на него.
У-у! Вот так нос! Таких носов она не видала даже в Поляне. Она улыбнулась, как доброму знакомому, который, с тех пор как мы с ним не виделись, страшно растолстел или отрастил себе смешную окладистую бороду.
Нет, этот человек некрасив; он казался красивым только издали; но у него хорошие глаза и милая улыбка.
— Так когда же мессия? — спросил он.
— Свалявскому раввину приснилось, что этой весной, — ответила Ганеле.
Губы его чуть дрогнули в улыбке, которая тотчас исчезла.
Он заглянул ей в лицо и слегка покачал головой, словно говоря: «Ужас», — но через минуту, уже не отрываясь, смотрел только на нее.
— У вас чудесные глаза. Да вы, наверно, уже много раз это слышали, правда? Вы халуцка? Или бетарка?{280}
— Халуцка.
— Значит, два мессии: старый и новый.
— Как это?
— Разве Палестина — не тот же мессия? — сказал он полушутя, полусерьезно. — Тоже иллюзия!
— Не понимаю.
Он весело рассмеялся, опять показав два ряда белых зубов.
— Вы правы: я сумасшедший, это мне и мама всегда говорит. Но я хотел вам сказать совсем другое, вернее, не сказать, а попросить. Вы, кажется, никого не ждете? Я тоже один. Так позвольте мне немного вами полюбоваться. Сделайте мне удовольствие, не откажите пообедать со мной.
Это было неожиданно.
— Хорошо, — робко ответила она, не успев обдумать ответ.
— Вы очень милы. Спасибо. А теперь давайте поговорим о Подкарпатской Руси.
— Лучше об Остраве. — Она не хотела думать о Поляне. — А там не будет трефного? — вдруг спохватилась она.
— Ах, вот что! — засмеялся он. — Мы спросим что-нибудь кошерное и скажем, чтобы нам не давали к мясным блюдам молочных приборов{281}.
Он привел ее в ресторан, посещавшийся коммивояжерами, канцелярскими и заводскими служащими. К оконному стеклу было приклеено отпечатанное на гектографе меню. Ганеле увидела большую застекленную буфетную стойку с закусками, вазочки с искусственными цветами на столах, люстры, швейцара, помогающего господам снимать пальто, и вспомнила, что под плащом на ней блузка, которая хороша только для Поляны.
— Я сюда не пойду…
Он шутил, объяснял, настаивал, но она заупрямилась.
— Куда же вы ходите обычно?
— В молочную.
Они пошли в молочную. Сидя возле нее, он терпеливо жевал яблочные слойки и трубочки с кремом, пил молоко. Все время что-то рассказывал, не сводя с нее глаз, расспрашивал ее о Поляне, о гахшаре, о том, что она видела в Остраве за эти два месяца. Потом опять угощал ее, и они опять смеялись. Ганеле смотрела на круглые часы в молочной, удивляясь, как быстро бегут минуты.
Расплачиваясь, он взял пальцами десятикронную монету: «Санже пасе чары муры фук», — щелкнул пальцами — и монета исчезла. Потом положил ее на левую ладонь, сжал кулак: «Ук, мук, фук», — и в левой руке пусто, а монета оказалась в правой.
— Путешественник должен все уметь!
И он залился вместе с ней звучным, мальчишеским смехом.
Почему у них дома никто никогда не смеется?
Они сидели в молочной до самого конца перерыва, а потом вместе рысцой побежали на фабрику, тоже смеясь.
Так началось. Ганеле помнит каждое сказанное тогда слово.
«…за измену, за преступную связь с главными врагами иудейства, за грубое нарушение дисциплины и безнравственный образ жизни Гана Шафар исключается из кедмы. Настоящее решение будет сообщено местной организации».
Так на одном собрании, посвященном критике, закончил свою обвинительную речь председатель гахшары. Юноши приняли это спокойно, как единственно возможный логический вывод, девушки бурно аплодировали, а Сельма Странская крикнула: «Браво!»
Ганеле никогда не любила собраний, посвящавшихся критике. К счастью, на этом собрании ее не было.
— Так-то так, — сказал секретарь кедмы, — но извольте сообщить об этом местной организации, когда она ни в какой организации не состоит!
— Как не состоит? Кто же ее сюда послал? — строго спросил председатель.
— Им четыре раза писали из центра, но они не отвечают: мы письма словно на ветер бросаем. Вступительные марки не оплатили и не думают их возвращать, членские книжки тоже не оплачивают и не возвращают, денег из копилок не присылают, и самих копилок — тоже нет! Хоть бы какая-нибудь польза от них! С паршивой овцы хоть шерсти клок!
Пепик Таусик засмеялся:
— О полянской организации даже два раза в журнале писали. Сначала предупреждали ее, а потом исключили… Погодите гоготать! У меня есть еще кое-что: Гане Шафар сегодня письмо пришло. Переслать ей по новому адресу?
— Нет! — крикнул председатель. — Отправить обратно!
— Идет. Значит, Поляна, Шлойме Кацу.
Ганеле больше не жила в кедме и не пришивала ремней к мешкам на фабрике «Рубичек и Лебл». Она работала теперь в редакции «Вольного мыслителя»{282} и жила в славной комнатке, которую снимала за тридцать крон в неделю.
Все произошло очень быстро. Однажды она не вернулась в кедму, а на другой день господин Караджич послал рассыльного из большого склада эмалированной посуды, где он был агентом, за Ганелиным чемоданчиком — и дело с концом! И в редакцию устроил ее тоже господин Караджич. Он был секретарем «Вольной мысли», председателем «Общества сторонников кремации» и членом редакционной коллегии двухнедельника «Вольный мыслитель». И Ганеле, вместе с пожилым господином по фамилии Пшеничка, чья длинная трубка причиняла ей немало беспокойства, стала работником общей канцелярии этих трех организаций.
Спору нет, прыжок, сделанный Ганеле, был огромен: Поляна — кедма — «Вольный мыслитель». И все это за какие-нибудь десять недель… Куда же больше?
Как?.. Стало быть, гои сжигают своих покойников? Бросьте шутить! Кидают прямо в печь? Что?.. И евреи тоже?
Как же так? Неужели так и кидают? Что же здесь, в Остраве, вовсе нет евреев? Или евреи — только в Поляне да еще кое-какие в Кошицах, а больше нигде нет? Так, что ли? Ну, что это за евреи, которые не знают своего языка, говорят между собой по-гойски, по-гойски одеваются, не празднуют субботы, едят трефное, не молятся и не делают ничего, что полагается правоверному еврею? Даже дают себя сжигать? В печи?
— Ах, мадмуазель Ганичка, — говорит господин Пшеничка, — чему только учили вас в вашей чешской школе? «Евреи» пишется не с большой буквы, а с маленькой. Да вообще не говорят «еврей», а просто в рубрике «вероисповедание» пишут «иудейское»; и даже не выписывают все слово, а только «иуд.».
— А что при этих сжиганиях делает господин Караджич?
— Произносит речи.
— Что?
— Ну, учит народ.
— Чему?
— Не верить длинноволосым и другим таким же тварям. Ни христианским, ни еврейским. Вообще никаким.
Если Иво Караджич не уезжает по торговым делам, то в полдень или к пяти часам приходит в редакцию «Вольного мыслителя».
— Как вы себя чувствуете, Ганка? — смеется он, показывая свои красивые зубы. — Идем сегодня вместе обедать? А в кино сходим, Ганичка?
Он водит ее в кинематограф. Как-то раз пригласил в театр. После кино и театра они идут в кафе, где играет музыка, и все кругом золотое и много огней. До Остравы Ганеле никогда не бывала в кино. И никогда не видала театра. Не слушала концерта. А электрический свет видела только раз, в кошицком ресторане, — и то с улицы.
Ой-ой-ой, как далеко Поляна! О серьезных вещах Иво Караджич говорит с ней редко и всегда как-то мимоходом.
— Бросьте, Гана, эти полянские взгляды! — сказал он ей однажды в кафе полушутя, полусерьезно. — Нет никакого бога, нет никакой обетованной земли, нет ни христиан, ни евреев.
«Чудеса! Люди с ума сошли», — подумала Ганеле.
Бог воспрещает ехать в Палестину… Бог повелевает ехать в Палестину… Нет никакого бога, нет никакой Палестины, земля вертится, и у пражского моста можно найти сокровище своего сердца.
Что ж это такое?
Может быть, в Поляне бог есть, а здесь, на западе, его нет? Что же, он тут никогда не был или его больше нет теперь? Несомненно одно: в Поляне бог есть! Кто же объяснит все это? Дедушка — тот объяснил бы: он все знал. Но у него уже нельзя спросить.
Да, за эти стремительные недели в голове Ганеле зарождались такие мысли.
Но только зарождались — не больше; сказать, чтоб они ею овладели, — нельзя; пусть о таких вещах спорят мужчины на собраниях, посвященных критике.
— Как же так? — спросила она тогда в кафе. — Нет ни христиан, ни евреев?
— Понимаете, Ганичка, когда-то все это было, но теперь уже нет. Что евреи, что христиане — все равно. Никакой разницы.
— Значит, мы с христианами ровня?
— Ну, конечно, Ганичка! Вот уже пятьдесят лет, а то и больше. Это чувство неполноценности и многое другое, с ним связанное, должно исчезнуть.
— Значит, гои равны нам? — Ганеле задумалась, наморщив лоб.
— Ах… вот что! — медленно произнес Иво Караджич, как бы начиная что-то понимать. Он ударил себя по лбу. Губы его стали расползаться в улыбку. Но вдруг он словно взорвался: захохотал громко, неудержимо, как безумный, так что к ним повернулись сидящие за соседними столиками.
— Ганеле, это потрясающе! — Он схватился за голову, корчась от смеха. — Самая лучшая острота, какую я слышал в этом году… Весь мир признал Поляну равноценной другим местам, но сама Поляна еще не признала себя равноценной ему!.. Вот это здорово! Ганеле, ты заслуживаешь поцелуя.
«Так что же ты меня не целуешь?» — подумала Ганеле, сердясь, что он смеется над ней… И почему он ее вообще ни разу не поцеловал?
Иво Караджич все никак не мог успокоиться. Но вдруг он заметил, что девушка залилась румянцем и в глазах у нее слезы.
— Ганичка. — И он сделал движение, как будто погладил ей руку, но это напоминало скорей прикосновение ветерка. — Ганичка… не сердитесь… Поверьте, я отношусь к вам хорошо…
Вскоре они поехали в Прагу. Отчаянная, просто безумная поездка… Но ни одной подробности этой безумной поездки Ганеле, конечно, тоже никогда не забудет.
— Мне предстоит небольшое путешествие, — сказал он ей однажды в субботу после обеда. — Вы не приняли бы в нем участие, Ганичка, — хотя бы частично?
Он сам привел автомобиль, принадлежащий фирме, — маленькую желтую машину, с одним только местом возле шофера и большим отделением для чемоданов с образцами позади, и Ганеле, согнувшись, не без колебания взобралась на место пассажира.
— Только недалеко, да? Чтоб мне вернуться на трамвае?
Ганеле еще ни разу в жизни не ездила на автомобиле, и езда по Большой Остраве очень увлекла ее. Может, с кем-нибудь другим она боялась бы немножко, но у руля сидел Иво Караджич.
Они доехали до конечной трамвайной остановки.
— Большое спасибо, — в восхищении сказала она. — Это было чудесно.
Но машина продолжала мчаться дальше.
— Нет… нет… господин Караджич, прошу вас.
— Еще немного.
— Нет… Когда же я вернусь?
— Ну, вернемся вместе, Ганичка.
— Когда?!
— В понедельник утром.
— Вы с ума сошли!
Она даже подпрыгнула на сиденье и ткнулась головой в полотняный тент. Караджич засмеялся, а желтый автомобильчик все летел вперед.
— И вообще, как вы разговариваете со своим тройным начальником? Впрочем, мама тоже так со мной говорит. А я ее люблю еще больше, чем вас. А это кое-что значит… Только ни-ни, не держите меня за рукав, Ганка. А то вон черешня — трах! — и попадем с вами к Аврааму. Это просто похищение, самый элементарный случай похищения по всем правилам и с осложняющими препятствиями.
— Куда мы едем? — тревожно спросила она.
— В Прагу.
— В Пра…?
Мимо бежали заснеженные поля, проносились деревни, и маленький автомобиль вбирал в себя дорогу, словно макаронину.
Ганеле не знала, плакать ей от злости или смеяться. Но не успела она решить, — еще какая-то деревушка осталась позади.
— Я ведь еду, в чем выбежала из «Мыслителя», — сказала она полушутя, полусердито.
— Эх, Ганка, — засмеялся он, правя рулем, — на это в Праге никто не обращает внимания.
Желтая спичечная коробка, мчавшаяся по дорогам Северной Моравии, отнюдь не была гоночной машиной, но в Поляне привыкли к гораздо меньшим скоростям, чем та, какую способен был развить автомобиль фирмы «Дуб и Арнштейн», и Ганеле езда казалась каким-то сумасшедшим полетом: Орава, Брюнталь, Шумперк… Радость движения… Справа — снежные горы, слева — поле, непривычные деревни с белыми каменными домиками, леса, которые исчезают — не успеешь к ним подъехать, легкий испуг на поворотах, потом в Градце на вокзале поздний обед — с веселыми взглядами Караджича и поглаживаньем Ганелиной руки, — потом опять поле, равнины, все больше обгоняющих автомобилей и все меньше улепетывающих с дороги кур, и вот уже — дымовые трубы пражских предместий… Ну, долго ли это могло длиться?..
В Прагу приехали в пятом часу. Он поставил машину в гараж, взял чемодан, и они поехали на трамвае в гостиницу. Но что там творилось! Какие-то люди в золотых фуражках, а у лифта шут весь в красном. Ганеле ни за что не вошла бы в кабинку, но здесь она была у них в руках. Кроме того, она решила держаться совершенно спокойно, не выдавая своего удивления даже взглядом.
У нее в комнате он сказал ей:
— Ганичка, подождите меня немного. С полчасика! Я должен кое-что устроить в Праге.
Через полчаса он постучался к ней в дверь. Вошел с каким-то серьезным видом и сразу, еще на пороге, начал:
— Послушайте, Ганка, мы ведь платим вам бешеные деньги. В общем крон четыреста пятьдесят в месяц. Сколько вы могли бы уделить из этой суммы?
— На что?
— Сейчас объясню. Я уже неделю схожу с ума по «Кармен» и очень хотел бы показать вам Национальный театр. Но, понимаете… вы одеты, конечно, как всегда, с большим вкусом, Ганеле, но я ведь вас знаю: если вы увидите там каких-нибудь женщин с голыми спинами, то из полянского самолюбия сбежите от меня, как тогда у ресторана из-за искусственных цветов. По-моему, вы должны купить себе каких-нибудь платьев. Так сколько же в месяц: двадцать, тридцать?
Она, разумеется, сразу поняла его хитрость.
— Нет, — сказала она, покраснев.
— Ну, конечно, нет! — рассердился он. — Это на вас похоже: отравить мне радость.
Она подошла к нему и ласково на него посмотрела. Потом пожала плечами и слегка покачала головой.
— Нет, господин Караджич, идите один. Я гляжу в окно; мне очень нравятся эти огни. Я еще никогда не видала таких красивых. Лучше я похожу по улицам и подожду вас.
— Вы с ума сошли! — воскликнул он. — Это вам не Острава. Неужели вы не слышали: если здесь женщина выйдет на улицу одна, без мужчины, ее сейчас же заберет полицейский? Ганеле, клянусь, я буду брать с вас каждый месяц понемногу.
И тотчас оказалось, что платья уже здесь. Даже целых пять — на выбор. И туфли тоже, и красивое пальто, и чулки, и шляпка, и вечерняя нарядная сумочка с пудреницей, с платочком, и несессер.
— И действуйте, действуйте! — проворчал он, уходя. — У нас не так уж много времени.
Как Ганеле любила красивые вещи!
Она все рассмотрела, перетряхнула, — потом, погрузив в них голову, прошептала:
— Сумасшедший… сумасшедший… дорогой, любимый, сумасшедший!
И глаза ее увлажнились.
Сколько раз он стучался в дверь и спрашивал:
— Уже?
Сколько раз подымал шум в соседней комнате и ударял кулаком в стену!
Наконец, она вышла к нему сама.
— О… Ганка! — протянул он с неподдельным восторгом. — О… Ганка!
Она была бледна. Неторопливо шла к нему. Имеет ли она право нарядиться во все это? Не уронила ли она себя в своих собственных и в его глазах? И понимает ли человек, который стоит перед нею в восхищении, какое доверие она ему оказывает?
Она остановилась перед ним, глядя прямо в его сияющие глаза.
И вдруг внутри нее сломилось что-то хрупкое, как будто порыв ветра внезапно переломил маленькую веточку. Она сделала еще шаг вперед и поцеловала его в щеку. Подавила рыданье.
Он хотел ее обнять. Но она отстранила его.
Она медленно отступала к дверям и, выпрямившись, как тогда, в первый раз смотрела на него большими красивыми черными глазами, из которых теперь ручьем текли слезы. Как только она подошла к дверям и прислонилась к ним спиной, гроза разразилась со всей силой. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. У нее было такое чувство, будто она стоит здесь полуголая, как тогда дома, в осеннем саду, и ей было мучительно стыдно. Она плакала громко, жалобно, как ребенок.
Он подошел к ней, хотел ее обнять. Но она резко его оттолкнула.
Он, почти ничего не понимая в происходящем, стал кричать:
— Фу, Ганка! Фу… фу… фу!..
Она с трудом выпрямилась, улыбнулась и сказала:
— Наверно, пора в театр?..
Ганеле увидела Национальный театр.
Она прошла по фойе, опершись на руку Иво Караджича. «Никогда не забывай, что ты царская дочь», — сказал бы дедушка.
Какой вздор! Разве можно забыть то, что всегда с ней, и нужно ли вспоминать о том, что слито с каждой каплей ее крови? Когда она, прямая, важная, шумя платьем из хорошего магазина, но все-таки только из магазина, поднималась по мраморным ступеням, когда снимала в вестибюле пальто и усаживалась в первом ряду балкона, положив себе на колени сумочку, она делала все это так непринужденно, словно была здесь только вчера.
После театра они ужинали в хорошем ресторане, потом пошли в кафе, где звучала легкая музыка; глаза Караджича весь вечер были полны нежности. А когда они на такси возвращались в гостиницу, он несколько раз поцеловал ей руку.
В гостинице он зашел к ней в комнату и не сводил с нее глаз, пока она снимала пальто и шляпку.
— Можно мне выкурить у вас папиросу?
Она улыбнулась.
Он сел на диван, положив ногу на ногу, и закурил.
— Послушайте, Ганка, — начал он. — Я загадал, если у нас в Праге будет все хорошо, я спрошу у вас одну вещь… Пошли бы вы за меня?
Она побледнела, как в тот момент, когда стояла у шкафа.
— Я вас не понимаю… — У нее дрогнул голос.
— Очень просто, как говорит господин Пшеничка. Выйти за меня замуж.
— У меня нет приданого, — тихо, но твердо промолвила она.
— Гм! — улыбнулся он. — Очевидно, это надо считать неприятной новостью. В таком случае я тоже скажу вам кое-что. Я не еврей.
— Вы… вы… не еврей?
Иво Караджича не было в Остраве. Вот уж скоро неделя, как он уехал по торговым делам. Ганеле грустила. Правда, он каждый день присылал ей письмо, иногда даже два. Ганеле бегала за ними домой и быстро проглатывала их. Потом читала в столовой за супом слегка косые, не очень разборчивые строчки и даже вечером перечитывала в постели, но нежные слова, долетавшие издалека, только усиливали ее тоску. Прошла целая неделя после пражских чудес и отъезда Иво.
Наконец, в субботу утром он пришел в редакцию «Вольный мыслитель». Это ее даже рассердило. Не могла же она в присутствии господина Пшенички вскочить с места и закричать: «Иво!», не могла порывисто броситься ему на шею и обхватить ему голову руками. И хотя внутри ее все трепетало, она только смотрела на него сияющими глазами.
— Одевайтесь, Ганичка. Я должен кое-что вам сказать! — объявил он.
И вот они на лестнице.
— Иво, Иво! Я люблю тебя, люблю, люблю больше жизни!
Он целовал, ласкал ее.
Потом они шли вместе по улице.
— Ганичка, — сказал он, — с тобой хочет познакомиться моя мама. Беги, надень свою белую блузку и приходи к нам обедать. Я зайду за тобой.
— Мне немножко страшно, Иво.
Перед обедом он за ней зашел. Когда они поднимались по лестнице, когда он отпирал дверь квартиры, у Ганеле громко стучало сердце. В передней навстречу им вышла маленькая старушка в белом кружевном чепчике. Ганеле, взволнованная, поцеловала ей руку.
Старушка ввела Ганеле в комнату. Первое, что бросилось в глаза девушке, — это большая библиотека.
— Исина, — сказала старушка. — Вы тоже когда-нибудь прочтете. Там много чепухи.
Ганеле сильно покраснела, поняв, что старая дама заметила ее любопытный взгляд. Иво громко засмеялся у них за спиной:
— Она ведь не знает, кто такой Ися!
— Мой сын надеется, — спокойно сказала старая дама, — что я, пока жива, назову его хоть раз этим гадким именем: Иво! Но он ошибается. — Она склонила головку набок и не без лукавства поглядела на Ганеле снизу умными старческими глазами. — Моего сына зовут Исаак… разве он еще не говорил вам?
Чопорная размеренность речи и важное покачиванье головы придавали ее живым глазам еще больше лукавства.
Иво обнял мать сзади, стал целовать ее белые волосы возле чепчика, лицо и шею, смеяться, играть ею, как куклой.
— Входите, пожалуйста! — промолвила она с прежним спокойствием.
Ганеле усадили в кресло против света, старая дама села на диван, Иво возле матери. Правой рукой он обнял мать, левою держал ее за руку, то и дело поднося эту руку к губам и целуя.
«Не придется ли мне немножко ревновать его к этой старой даме?» — подумала Ганеле.
Комната была большая и обставлена в основном в то время, когда мать Иво выходила замуж. Чем-то она приятно напоминала Поляну времен дедушки. Ганеле очень боялась, как бы старая дама не заметила ее любопытных взглядов, но все-таки не могла не обратить внимания на увеличенный портрет молодого мужчины с большим носом, видимо, отца Иво, на старые кресла и белизну накрытого к обеду стола. Вдруг украдкой брошенный взгляд ее упал на предмет, пронизавший ее радостным воспоминанием. Мезуза!{283} На дверном косяке, такая же белая, как сама дверь, висела мезуза! Славный, милый футлярчик с пергаментным свитком внутри, который должен висеть на дверях у каждого еврея!
— Вы смотрите на мезузу, дитя мое? — спросила умная старая дама, и Ганеле опять покраснела. — Она пустая, договора с господом там уже нет. Как-то раз, когда тут работали маляры, мы вынули пергамент, а они замазали отверстие масляной краской, и мы так и не положили туда договора. Забыли о нем, и я даже не знаю, где он теперь. Вообще забываем… И в то, что милосердный господь любит нас больше, чем других, тоже уже не верим.
Она окинула гостью материнским взглядом. Не назойливо, но внимательно. От нее не укрылись ни движение, ни взгляд девушки. Ганеле ей нравилась.
— Ну, о чем мы будем говорить с вами, мадмуазель Ганичка?
— О чем вам угодно, сударыня, лишь бы я могла понять вас, — ответила Ганеле, изо всех сил стараясь, чтобы голос ее звучал непринужденно.
— Вы очень проницательная девушка, я вижу. Потом вы мне расскажете что-нибудь о себе. А сейчас вам, может быть, будет интересно поговорить о моем сыне.
— Да, конечно… — прошептала Ганеле.
Иво Караджич громко засмеялся и поцеловал матери руку.
— Перестань, Ися! — сказала ему мать и так же ласково продолжала: — Очень боюсь, что я не буду иметь случая встретиться с вашими родителями или по крайней мере к этому еще долго не представится возможность. Поэтому вы меня извините, Ганичка, если я заговорю с вами сначала о невеселых вещах: знаете ли вы, что мой сын не богат?
Да, Ганеле это знала. То есть что Иво не богат по остравским понятиям. Мать Иво не представляла себе Поляны! Ганеле вспомнила о королевских покупках в Праге. Зачем старая дама все время заставляет ее краснеть?
— Я ни минуты не сомневалась, что он вам это сказал. Он учился в торговой академии, хотя, я знаю, его интересовало другое, — она кивнула головой в сторону библиотеки, — но тогда это было невозможно… Говорят, он хороший торговец и зарабатывает очень прилично. А если вспомнить нашу жизнь вдвоем в недавнем прошлом, то можно сказать, что даже много.
Иво откинулся на спинку дивана и смотрел в потолок, прижав руку матери к губам.
— Так что в этом отношении вам нечего тревожиться. — Она взглянула на девушку. — Но кое о чем необходимо подумать. Я должна сказать вам, что вы умная девушка. Мой сын говорил мне, что вы в первые же дни знакомства поняли, что он сумасшедший. — Иво громко засмеялся. — К сожалению, это правда, и это очень грустно. Я отношусь к этому очень серьезно, дитя мое. Вы, наверно, слышали, что евреи здесь часто крестятся? У нас смотрят на это проще, чем у вас там, на востоке; мы привыкли к этому. Слышали вы, наверно, и о том, что Исаак Коган меняет свое имя на Игнац Кольбен, Иозеф Кастнер или какое-нибудь еще обыкновенное имя — ну, скажем, Иржи Копецкий. Но, господи боже, видали вы когда-нибудь Исаака Когана, который назывался бы у нас в Моравии Иво Караджичем? Просто ужас! Не знаю, право, как выглядит обряд крещения. Наверно, не особенно приятно. Но моему сыну этого было мало. Он отказался и от католицизма и примкнул к «вольным мыслителям». Подумайте только, дитя мое: человек с таким носом устраивает демонстрации против епископа, на всех похоронах в крематории произносит речи! И страшно радуется, если в католической печати его хоть раз в неделю обругают вонючим евреем, а в сионистских газетах изменником и ренегатом. У него это, наверно, от дедушки с отцовской стороны, который каждый год точно высчитывал, что на следующую пасху обязательно придет мессия, а прошлый год просто вышла ошибка в умножении… Теперь Ися задумал жениться на девушке из правоверной еврейской семьи. Если б это был возврат к прежнему — хорошо! Но ведь это не так. Для того, кто не знает моего сына, поступок этот кажется нелогичным до абсурда. Если уж отходить от еврейства, — то как можно дальше, не правда ли? На прошлой неделе он толковал мне что-то о чистой случайности и других неразумных вещах. Но я скажу вам, дитя мое, в чем тут дело, — в этом он нам никогда не признается, — в нем заговорила кровь предков. Несмотря на все его похоронные речи и антисемитские фразы! Но я хочу быть справедливой к своему сыну. В остальном — это самый милый, самый нежный и внимательный сын, какой когда-нибудь был у матери, и вы выйдете за самого порядочного человека в мире. А вы за него выйдете. Он страшно упрямый и ни за что никогда не уступит. Может быть, потому что у него не было отца и я его любила без памяти… Не хочу обижать вас, Ганичка, но вы уж простите старуху: этот брак я тоже считаю чистым безумием. Хотя со своей стороны я его одобряю, как всегда одобряла все, что делал Ися. Очевидно, он в конце концов решил порадовать меня. Но боюсь, что у него хватает бесстыдства не понимать, в какое положение он ставит вас. Не рассчитывайте, Ганичка, что он вернется к иудейству; впрочем, не думаю, чтоб он старался ввести вас в заблуждение на этот счет. Но вы тоже хотите отречься от иудейства? А что скажут на это ваши родители? Что скажет ваша Поляна? Объясните мне, дитя мое.
— Мама… — начал было Иво.
— Подожди, Ися, — прервала она. — Пусть ответит Ганичка.
Во время тихой, плавной речи старой дамы Ганеле бросало то в жар, то в холод. Она отвечала, покраснев, но все же прямо и твердо глядя в глаза матери Иво:
— Мы много говорили об этом. Вы думаете, сударыня, Иво не уступит, даже если увидит, что мы оба очень страдаем?
— Боюсь, что нет, дитя мое.
— Тогда уступлю я. Для него я сделаю все на свете.
— А что будет дома?
Ганеле взглянула в старческие черные глаза, казавшиеся в эту минуту особенно мудрыми.
— Наверно, будет хуже, чем мы думаем, — медленно произнесла она.
Старческие глаза оживились. Они сияли теперь ясным, спокойным светом.
— Вы мне по душе, дитя мое.
Старая дама медленно встала.
— Пора обедать. Садитесь, дети! И давайте говорить о пустяках. Мои сдобные булочки, наверно, готовы.
Она поцеловала Ганеле в лоб и вышла.
Ганеле и Иво, оставшись одни, посмотрели друг другу в глаза и быстро обнялись, а потом Ганеле поспешно вышла за хозяйкой.
— Правильно! — крикнул вслед ей Иво. — Помоги немного маме.
За обедом Иво вернулся к своему обычному тону. Он шутил, показывал фокусы с ножом и вилкой, называл укропный соус угробным, гладил поочередно то руку матери, то руку Ганеле, и живые глаза старой дамы снисходительно улыбались.
— Иногда мне приходит в голову, что я плохая мать, — сказала она, разливая кофе. — Ися пьет слишком много черного кофе, а слабого не любит. Я буду вам очень благодарна, если вы отучите его от этой привычки.
Разговаривая с Иво, Ганеле заметила, что старая дама, не участвуя в их разговоре, все время переводит взгляд с сына на нее и обратно, изучает ее лицо, каждое движение, а потом смотрит куда-то в пространство мимо нее. Вот этот взгляд остановился на глазах Ганеле и задержался на них, даже после того как Ганеле взглянула ей прямо в лицо.
— У вас очень красивые глаза, дитя мое, — сказала старая дама. — Немного печальные. Тысячелетняя печаль — называют ее наши поэты. Но боюсь, что потом эти глаза станут еще печальнее. Вы знаете глаза первого поколения? Я имею в виду глаза первых в роду, которые отходят от еврейства, которые выбрасывают все эти красивые и отвратительные сказки древности из средневековья на свалку, куда их бросать не следует, или складывают хорошенькие подсвечники, талесы и вышитые мешочки в семейный шкаф, где их настоящее место. Меня всегда волновали глаза этих людей. В них есть что-то гораздо большее, чем скорбь тысячелетий. В них тревога, какая-то особенная горечь, вечный страх, — наверно, страх оскорблений со стороны тех, от кого мы отошли, или тех, кто еще не принял нас в свою среду. Боюсь, моя девочка, что и у вас будут такие. А может быть, и у ваших детей… Так должно быть… Да, должно быть, дитя мое. Возьмите еще булочку, Ганичка. Они, кажется, вкусные, — сказала она побледневшей Ганеле, посмотрела на нее глубоким взглядом и, вынув кружевной платок, коснулась им уголков глаз, будто снимая соринку.
— Тра-ля-ля-ля, — загудел Иво, — ничего этого не было, дети, вообще ничего, как сказал бы поэт Славомир Яробой Пшеничка, о котором я вам уже говорил. Будьте добры, взгляните сюда. На этот вот уголок совершенно пустой, как вы видите, салфетки я ставлю маленькую солонку.
— Ися, ох… Иво, бросьте! — промолвила Ганеле, сдерживая не то смех, не то слезы.
Старая дама выпрямилась и прищурила свои умные глаза.
— Как вы сказали, дитя мое? — на ее красивых губах, похожих на губы сына, заиграла улыбка. — Я не ослышалась?
Иво громко захохотал.
— Вы, кажется, сказали Ися?! — старая дама опять лукаво взглянула на Ганеле. — Или нет? — И она с тем же выражением покосилась на сына.
Все засмеялись. Ганеле, радуясь, что может хоть таким способом освободиться от внутреннего напряжения, и, заразившись хохотом Иво, смеялась частым, прерывистым смехом. Старая дама тоже громко смеялась; у нее до сих пор были красивые зубы.
Они посидели еще немного, но к рискованным темам больше не возвращались.
Потом простились. Иво Караджич, провожая Ганеле, обнял ее на лестнице за талию.
— Я очень счастлив, Ганичка! — сказал он.
Первые дни следующей недели ушли на сборы, так как во вторник Иво Караджич с Ганеле должны были отправиться в путь. Речь шла собственно о путешествии по торговым делам в Восточную Моравию, Словакию и западное Подкарпатье, но Иво хотел объединить его с поездкой в Поляну. Зима стояла мягкая, дороги были хорошие, снегу выпало мало, так что особых трудностей не предвиделось.
Ганеле написала родителям. Нет, не все: на это у нее не хватило духу. Написала только, что в конце месяца или в начале следующего приедет в Поляну. Ответа все не было; может, просто не успел прийти: ведь до Поляны далеко, и там не скоро отвечают.
Господин Пшеничка выдал Иво Караджичу три удостоверения о командировке: от «Общества сторонников кремации», от секретариата «Вольной мысли» и от издательства «Вольный мыслитель».
И вот в один прекрасный день перед квартирой Ганеле загудел маленький желтый автомобильчик, принадлежащий оптовому складу эмалированной посуды фирмы «Дуб и Арнштейн», — только на двоих, с большим отделением для образчиков позади. Ганеле положила в это отделение свои вещи, села на место пассажира, и машина покатила по улицам, прогудев на прощание старой даме, которая кивала им с крыльца; из машины высунулись рука и платочек, помахали ей в ответ — и желтый коробок полетел по Остраве.
Морозило, и утренняя Поляна лежала под снегом. Деревня была пуста; иногда из какой-нибудь хаты выбегал оборванный русинский или еврейский ребенок, торопясь по снегу к кому-нибудь из соседей — попросить угольков на лопату; летел стрелой, чтоб только поскорей очутиться опять в тепле.
Над двором и садом Шафаров летали вороны.
У окна, размером меньше пяди, выходящего во дворик с ясенем, молился, повернувшись лицом на восток, Пинхес Якубович, завернутый в черный с белым полосатый талес, с костяным тефилином{284} на лбу и ремешками, обмотанными семь раз вокруг его обнаженной левой руки, по которой кровь текла прямо из сердца. Брана ушла в деревню занять, выпросить, выплакать, вымолить или вырвать угрозами немного сена для коровы — свое уже кончилось. А дети то и дело скрипели дверью, напуская со двора холод.
Пинхес Якубович творил утреннюю молитву: «Да славится и возвеличится бог живой. Он сущий, и неограничен срок его бытия. Един, и нет единства более его единства. Ни телесного образа не имеющий, ни тела, и ни с чем не сравнится святость его».
Дойдя до слов: «Вот владыка вселенной всем созданиям являет величие свое и власть свою; богатством пророчества своего одарил мужей избранных и славы своей!» — Пинхес Якубович расплакался. Но крупные слезы, стекавшие по его ввалившимся щекам и падавшие на талес, были слезами радости. Сегодня самый светлый день его жизни, господь бог нарек его ученым: ламед вов.
Сегодня, в ночь на вторник, Пинхес Якубович, одетый в саван творил страшную каббалистическую молитву «Хурбан баит». Когда он вернулся из морозных сеней в теплую постель со вспотевшим лбом и окоченевшими ногами, ему, только он уснул, пригрезился ангел сна.
— Встань, ламед вов Пинхес!
Пинхес Якубович в страшном испуге вскочил и встал перед ангелом. Ему было очень стыдно, потому что на нем были рваные подштанники.
— Я послан господом богом, — сказал ангел.
Как попал сюда этот ангел, через двери или иным путем, Пинхес не знал. Это был огромный юноша в белом одеянии и золотых сандалиях, — когда он сел на стул, стоявший у стола, то коснулся теменем потолочной балки. Длинные ноги он вытянул было по направлению к Браниному дивану, из которого торчало сено; но, видно, не захотел прикасаться к их ложу, в то время нечистому; а так как ноги у него озябли, он передвинул их в печке и сидел немного наискосок от Пинхеса.
Ангел заговорил. Сперва с достоинством, хотя ангел, сидящий на стуле, греющий себе ноги и бросающий слова чуть ли не через плечо, производит не очень внушительное впечатление. Но какой несолидный, легкомысленный тон позволил он себе в дальнейшем! Он говорил явно от себя, ни в коем случае не по внушению бога. Пинхес обдумывал это событие весь остаток ночи. И будет размышлять о нем еще долго, — бог даст лет сто.
— Господь бог говорит с тобой устами моими, — так начал ангел. — Ламед вов Пинхес, сын Янкеля! Дошла молитва твоя до слуха моего, и внял я ей. Думал я сокрушить полянскую еврейскую общину за грехи ее жезлом железным, как сосуд скудельный, разметать ее, как песок пустыни. Но смягчились гнев мой и ярость моя молитвами твоими, и смиловался я. Вот нет уже ни халуцев, ни мизрахистов. Стер я их с лица земли, как скверну, и отныне Поляна вновь будет единой, как искони. Но взамен я требую искупительной жертвы. Одной от всей общины. Одной, но самой страшной из всех, какие когда-либо приносились. Смерть! Смерть! Смерть! Смерть, какой Поляна еще не видела, грозней меча, огня и могилы. Из всех смертей смерть. Завтра же. Принеси мне ее без промедленья! Это первое, ламед вов Пинхес, сын Янкеля. И второе: другим людям я могу не внимать, а тебе не могу. Оставь меня в покое с мессией, не надоедай! С какой стати должен я два раза в неделю выслушивать твои напоминания, брань и угрозы? Мне лучше знать, какие у меня намерения насчет моих евреев и когда послать мессию. У тебя не должны зябнуть ноги, и у ангела тоже… И в-третьих: ты очень ошибаешься, думая, что я превращу Брану в рыбу. Она будет причастна славе небесной наравне с тобой. Сразу видно, что ты еще плохо понимаешь меня. Зачем создал я Брану? Для того, чтоб она в поте лица своего добывала хлеб твой. Но все в меру. Займись немного шитьем. Соломон Фукс продырявил себе брюки на заднице, попроси у него работы. И почему ты топчешься перед вестником моим в таком рваном белье? Стыдись, портной!
Пинхес Якубович дочитал утреннюю молитву у окна, за которым стоял покрытый инеем ясень. Потом уложил талес, тефилин и молитвенник под кровать, в ящичек из-под мыла. Он еще слышал внутри себя слова ангела. А в ушах его звучал отголосок двух небесных мелодий, доносившихся издалека — с той стороны, куда улетел ангел. Двух напевов, проникающих в душу, сплетающихся и скрещивающихся там. Один был по-субботнему радостный, но светлый мотив: «О, ламед вов!», другой — на мотив смерти, тоскливый и печальный, как будто кто-то рыдал в сумерки в синагоге в день покаяния. Но вот тягостная мелодия смерти берет верх над благовестом, оттесняет его все дальше, потом небесные врата чуть приотворяются, песня радости проскальзывает туда, ворота закрываются, и в мире остается лишь темная, грозная мелодия: смерть! смерть! смерть!
Завтра? В Поляне?
Пинхес Якубович надел на рваный лапсердак еще один короткий рваный лапсердак и вышел на мороз.
К кому в Поляне войдет смерть — грозней меча, огня и могилы, такая, какой Поляна еще не видела, из всех смертей смерть?
Пинхес Якубович думает об ужасных несчастьях, о неслыханных злодеяниях, о пытках, об оскверненных трупах, о растерзанных телах, брошенных на съеденье собакам и свиньям. Но всего этого слишком мало, все это еще не соответствует пророчеству. Он начинает думать о страшных демонах, припоминает исторические сведения о их делах.
Он бредет по деревне: нет ли где признаков их близкого появления?
Идет, замерзший, втянув голову в плечи, засунув руки глубоко в карманы брюк; проходит и мимо дома Шафара. Там, в корчме, у застекленной двери стоял Иосиф Шафар. Продышав на замерзшем стекле маленький кружок, он глядел в него на пустынную улицу. Завидев Пинхеса Якубовича, постучал в стекло, приоткрыл дверь и позвал:
— Эй, Пинхес, зайдите сюда на минутку!
«Может быть, смерть войдет к Шафарам?» — проносится в голове ламеда вова.
Он покорно идет на зов.
— Послушайте, Пинхес, — говорит ему в корчме Иосиф Шафар. — Вы — человек бывалый. Слышали вы когда-нибудь фамилию Караджич?
— Караджич? Нет. Наверно, какой-нибудь турок.
— А не еврей?
— Нет.
Вот уже две недели, как эта фамилия не выходит у Иосифа Шафара из головы: Караджич! Караджич! Караджич! От частого повторения он уже сам не чувствовал, как звучит это слово; а жена только твердила: «Ну-ну!» и «Вот увидишь!» Фирма «Дуб и Арнштейн» — хорошо. Торговый агент — тоже неплохо. Но — Караджич? Иво? Уже две недели собирается Иосиф Шафар написать Ганеле, но дома — ни бумаги, ни конверта, а послать за ними к Фуксу никого нельзя: Соломон сейчас же догадается, для кого это. Караджич! Эта фамилия не дает ему спать, вызывает в душе его мучительную тревогу. Как жестока бывает порой судьба! И ничего нельзя сделать, абсолютно ничего, — остается только терпеть эту пытку и ждать, может еще целые недели, их приезда.
— Ты слышал когда-нибудь, чтоб еврея звали Иво?
— Нет, не слыхал.
— А может еврей носить такое имя?
— Не может, — ответил Пинхес.
В это время влюбленные находились уже недалеко от Поляны, в местах хорошо знакомых Ганеле: они остановились в деревне Григорове, примерно на полупути между железной дорогой и Поляной, чтоб покормить и напоить лошадей.
За десять дней они проехали Словакию, пролетая по мерзлым дорогам с занесенными снежной порошей обочинами и оставляя за собой перекрестки, где у подножья распятий сложены цветы из деревенских садов, давно смерзшиеся в бурые пучки. Останавливались в городах и местечках, и, пока Иво объезжал заказчиков, Ганеле нетерпеливо ждала его, с любопытством осматривая старинные замки, площади, на которых множество витрин, и заглядывая в еврейские лавчонки.
Спали в гостиницах и на постоялых дворах, где комнаты напоминали пражские только сладким ароматом ночей да матерчатыми колпачками электрических лампочек на ночных столиках. Это была поездка, полная красоты, здоровья и огромной нежности.
Однажды после полудня они пролетели по мосту, пересекли железнодорожное полотно, проехали мимо станции и по улицам Ганелиного краевого города со знакомыми лавками и все тем же швейцаром у подъезда гостиницы. И Ганеле, с легким волнением выходя из машины, вдруг почувствовала, в какое далекое прошлое ушла поездка по Словакии: на горизонте, за равниной уже виднелись заснеженные горы.
— Доедем мы до Поляны? — спросил Иво Караджич метрдотеля в гостинице, глядя в окно, как валит снег.
— На машине? — усмехнулся тот. — Хорошо, если удастся на санях.
Они наняли русинского крестьянина Двуйла с санями и взяли у него напрокат кучу кожухов с мохнатой меховой оторочкой, напоминающей овечье руно. Иво купил теплые войлочные галоши — надевать поверх сапог. Предстояло по меньшей мере десять часов пути, а с остановками и все двадцать.
Рано утром в половине четвертого перед гостиницей их ждали сани. Керосиновый фонарь, прикрепленный к левой оглобле, освещал пустынную улицу и выпавший за ночь снег. Мороз обжигал носоглотку. Завернувшись в кожухи, они уселись на сене, как на самом удобном диване. В темноте тронулись в путь. Бубенчики зазвенели.
И вот они в Григорове, на еврейском постоялом дворе. Иво уложил Ганеле на старом клеенчатом диване в ледяной комнате, где, кроме стульев, каких-то ящиков да паутины по углам, ничего не было, и укрыл ее кожухами. Ганеле заснула. А он сел с Андрием Двуйлом в пустой корчме пить бурую жидкость, которую здесь называли чаем. С улыбкой, но односложно он отклонял вопросы шинкарки в порыжелом парике: откуда господин едет? Господин — купец? Господин едет с Ганеле Шафар из Поляны? Время от времени он выходил взглянуть на лошадей, которые стояли во дворе, укрытые попонами, с заиндевевшими мордами, среди клочьев сена на снегу.
Уже давно не чувствовал он себя таким бодрым и свежим. Что за езда! Белая равнина, горы впереди, горы позади, солнце, вдруг появившееся утром и покрывшее равнину ослепительным блеском, лошади, мчащиеся по морозу, бубенчики, звенящие в ритм их топоту, руки возлюбленной, которые нелегко найти под горою кожухов, и в складках одежды — ощущение себя и тепла своих тел. И теперь, глядя на потолочные балки и единственный стол этой убогой корчмы, на женщину в парике, подкладывающую в печь длинные буковые поленья, глядя в окно на русинок, торопливо шагающих по снегу в бараньих полушубках, на бородатого еврея в высоких валенках, который вышел из лавочки напротив и, потерев руки, тотчас опять в ней исчез, вдыхая такой непривычный воздух, Иво был в восторге и с улыбкой мысленно твердил: «Гоголь, том первый». О том, что они всего в пяти часах езды от Поляны, он не думал.
Тихонько заглядывал он в соседнюю комнату. Там, разрумянившись от мороза, спокойно спала Ганеле.
«Какая прелестная! — думал он. — Кто когда видел такие чудные губы? Какое счастье, что я нашел вас… моя девочка!»
В пятом или шестом часу утра он встал перед ней навытяжку и, стукнув по-военному каблуками, доложил:
— Ваше высокоблагородие, государыня, самовар готов. Лошади поданы, ваше превосходительство!
Вместе с Андрием Двуйлом они поели в корчме яичницы, уже почерствевшего с пятницы бархеса и выпили чаю.
Корчмарка, желая завязать разговор с Ганеле, о чем-то спросила ее по-еврейски. Ганеле ответила неохотно, но Иво Караджич, хоть не понял ни слова, сказал насмешливо, слегка подражая ее интонации.
— Меня зовут Иво Караджич, я из Остравы, мне тридцать три года, я представитель фирмы эмалированной посуды «Дуб и Арнштейн»; я очень богат и еду в Поляну просить руки Ганеле Шафар.
Корчмарка засмеялась, немного задетая. Прежде чем они сели в сани и нашли в сене свои насиженные места, Иво Караджич с некоторой тревогой сунул руку за пазуху: цел ли бумажник?
Заметив это движение, Ганеле испугалась, так, что ей даже захватило дыхание: там были ее свидетельство о рождении и документ о совершеннолетии, полученные три недели тому назад…
Отдохнувшие лошади помчались по замерзшей дороге; равнина стала сужаться, и они въехали в горное ущелье. Вскоре горы сошлись очень тесно, их разделяли теперь только дорога да замерзшая у берегов речка.
Он опять погладил Ганелину руку под складками кожухов. Но рука была неподвижна.
Зимою солнце садится за полянские горы вскоре после трех, и они приехали в сумерки.
Возле первого дома у околицы Ганеле сказала:
— Давай остановимся здесь, Иво. У Буркала есть место для лошадей, а у нас в конюшне сложены дрова. И потом я не хочу, чтобы люди видели, кто приехал, а чужие бубенчики все в деревне заметят. А ходу отсюда до нас всего двадцать минут.
Она опять тяжело вздохнула.
Скинув с себя груду кожухов, они пошли. Ганеле отогнула воротник пальто. Они проходили мимо первой хаты.
— Это путешествие доставляло тебе такую радость, что мне не хотелось ее отравлять, — сказала она через минуту. — Я решила отложить разговор до приезда сюда. Сегодня ночью я много думала обо всем. Как ты захочешь, так и будет. Я пока еще не все понимаю, но кое-что за эти три месяца все-таки поняла. «Наверно, так должно быть», — сказала твоя мама. Вы с ней похожи, как две капли воды: никто из вас ни за что не уступит, потому что вам кажется — погибнет весь мир, если не будет по-вашему. Я между вами, и мне придется тяжелей всех. Не знаю, что произойдет. Наверно, меня уведут из дому, и ты меня здесь больше не увидишь. Есть немного мест, куда меня могут спрятать. Может быть, у Абрамовичей, может, у Каганов. Вряд ли в микве… Если не в Поляне, так только у сестер. Не забывай, что я первая. Того, что я делаю, в Поляне никогда не бывало. Я буду сопротивляться лишь поскольку это будет необходимо. Ты легко нашел бы меня, но не ищи: этим ты создашь мне только лишние затруднения. И самое главное: не подымай переполоха, пусть все идет своим чередом. Я сама к тебе вернусь. Завтра, через неделю, через год. Хоть босая. Деньги на дорогу у меня спрятаны.
Они были возле дома Фукса. Мерзлая земля звенела под ногами. Пошел мелкий снег.
— Часто я в Остраве думала: неужели все, что мы сейчас затеваем, напрасно? Ведь надежды так мало, в сущности — никакой. И не лучше ли было просто написать им о нашем браке?.. Но нет, так лучше. Надо расстаться. Полагаются похороны. Только б они не были слишком шумные.
Они шли мимо ворот Каца. Смеркалось. И если Ганеле думала, представляя себе этот момент, что у нее будет колотиться сердце, — она ошиблась. Она даже не обратила внимания, где они.
Вот они подошли к дому Шафара. Большому, обветшалому, вырисовывающемуся в вечерних сумерках среди снегопада. Дедушкин дом!
Она не сказала ему об этом, даже когда они оказались перед самым домом. Только остановилась и судорожно сжала его руку.
— Любимый мой, не оставляй меня!
Не по ее спокойному голосу, а по нежному слову, с которым она впервые обратилась к нему, он понял всю ее тоску. А она уже взбежала на галерею по трем старым мельничным жерновам, служившим ступеньками, и решительно открыла дверь на кухню.
Иво Караджич вошел вслед за нею. Шагнул в темноту и не увидал ничего, кроме отблесков огня на печной дверце. Но Ганеле подошла к какой-то неясной тени.
— Это я, мамочка! — и слилась с ней, видимо, в объятии.
— Отец, отец! — радостно закричала мать.
— Это господин Караджич, — представила Ганеле.
Откуда-то появился отец. По тому, как он поднял руку, было видно, что он растерян. Мамочка старалась засветить керосиновую лампу зажженной от печки лучиной. Но у нее дрожали руки, и это никак не выходило. В конце концов лампу зажгла Ганеле, и желтый огонек в сумерках угасающего дня напомнил ей то раннее утро, когда она три месяца тому назад уезжала отсюда. Как только загорелся свет, отец и мать повернулись к гостю.
Материнские глаза сияли, губы приветливо улыбались.
Но отцовские так и впились в глаза жениху дочери. Однако и отцовское лицо стало понемногу проясняться: все больше и больше. Вот губы и глаза улыбнулись. Ого, огромный нос, какого в Подкарпатской Руси никто еще не видел! И красивые миндалевидные глаза под черными, как уголь, бровями! И красивая форма рта! И эти щеки, только полдня небритые, а уже черные, как у нахамкесова ученика! С сердца у Иосифа Шафара будто камень свалился, — нет, целые оползни, каменные глыбы, и оно лежало освобожденное, раскрытое, теплое, трепещущее. И Иосиф Шафар протянул это сердце на ладонях Иво Караджичу.
— Милости просим!
С сияющей улыбкой он обеими руками пожал руку гостю.
— Милости просим! Милости просим, господин Караджич. — И страшное имя, причинившее ему столько тревог, вдруг зазвучало знакомо и приятно. «Дурак этот Пинхес! Дурак! И умная у меня жена!»
Он радостно обернулся к ней. И они, понимая друг друга, обменялись улыбкой.
Он опять подошел к Ганеле, словно еще не поздоровался с ней.
— Здравствуй, Ганеле, здравствуй, дочка!
— А у меня на ужин ничего нет! — вдруг с отчаянием воскликнула мама.
Иво Караджич попросил Ганеле, до того как совсем стемнеет, показать ему дом, о котором он столько от нее слышал. И Ганеле, предчувствуя, что ни она, ни он никогда больше не смогут радоваться жилищу, где прошла ее юность, показала ему пустую корчму и лавку (несмотря на возражения отца), полупустые комнаты с шаткими половицами, покрытый птичьими следами, заснеженный двор, навесы и хозяйственные постройки. Нет, в сад она его не повела: с садом были связаны слишком неприятные воспоминания.
Получилось настоящее прощание: когда предметы чудесно оживают, и мы любим их, и нам хочется приласкать их рукой или хоть взглядом. Отец, объяснявший себе этот подробный осмотр по-своему, ходил с ними, слегка взволнованный, улыбаясь, стараясь быть как можно приветливей, и все время испытывал потребность трогать зятя за рукав. Не зная, чем бы похвастать, он рассказывал о дедушкиной славе. Мать поминутно вызывала Ганеле на кухню, и той приходилось быстро, хоть и не особенно охотно, отвечать на ее взволнованные вопросы. Богат ли он? Не захочет ли приданого? С положением ли? Из хорошей ли семьи? Живы ли еще его родители? «Ах, это совсем неважно, мамочка», — думала она.
Потом они опять вернулись во двор, занесенный сыпучим снегом. Здесь ей удалось, пользуясь сумерками, пожать возлюбленному руку, а в хлеву, почесывая Бриндушу между рогами и ласково прижавшись головой к ее шее, произнести безразлично, будто что-то ему объясняя: «Я вас обожаю, мой милый». А запирая ворота сарая, повторить: «Понимаешь, милый? Обожаю!»
И он понял, что она употребляет эти книжные выражения при отце потому, что Иосиф Шафар плохо знает чешский.
Они поужинали в дедушкиной комнатке, дверь которой выходит в корчму. Чай, яичница, немного черствый кусок оставшегося от субботы бархеса. Мама очень огорчалась, что не может предложить ничего другого гостю, которого столько лет ждала в постоянном страхе: а вдруг не придет? Ганеле была рассеяна и становилась все тревожней. Зато Иво Караджич, полный надежд, весело рассказывал об Остраве и путешествии по Словакии, шутил, и мамочка была им совсем очарована. Отец же, хоть и блаженно улыбался, слушал не особенно внимательно, зная, что еще сегодня, может быть даже через несколько минут, его ждет неприятный разговор. Он только заблуждался насчет его содержания.
Ганеле не выдержала этого напряжения. Это было свыше сил. Как только допили чай и мать хотела было принести еще, Ганеле встала.
— Пойдем, мамочка. Иво должен поговорить с папой.
Она побледнела. Взглянула на Иво. Мамочка жалобно посмотрела на него.
Они вышли.
Иво Караджич зажег папиросу… Он слегка улыбался.
Ну, конечно. Они договорятся! Как-никак здесь ведь тоже Европа!
— Ганеле, наверно, писала вам, господин Шафар, что я люблю ее и хочу просить у вас ее руки. Но прежде я хотел бы выяснить некоторые вопросы, собственно даже один вопрос.
Сердце Иосифа Шафара сильно забилось.
— Добрый господин мой, — начал он, и голос его дрогнул. — Не знаю, говорила ли вам Гана о нашем несчастье? Я давал за дочерьми большое приданое. А при теперешних обстоятельствах дать за Ганеле большого приданого не могу… Но она у меня одна осталась, и все, что я имею… Все, что, может быть, еще буду иметь…
— Я знаю, господин Шафар, что у Ганички нет приданого. Я его не прошу, мне оно не нужно; я достаточно зарабатываю, чтобы прилично содержать семью. Об этом не думайте!
Ну, что за человек! Караджич! Караджич! Караджич! Какой замечательный человек! Иосифа Шафара охватила радость. Последнее, что еще давило его, свалилось с плеч. Какой день! Мог ли он ожидать, что ему выпадет такое счастье?
— Вы, наверно, очень любите мою дочь. — Иосиф Шафар весь сиял.
При виде такого ликования Иво Караджич почувствовал, что мужество изменяет ему, и заколебался.
— Конечно, я очень люблю вашу дочь, — сказал он, глядя в эти горящие глаза и улыбающееся лицо. — Иначе я не просил бы у вас ее руки.
Они сидели друг против друга. Между ними — белая скатерть и чашки. Иво Караджич нервно стряхнул на блюдце пепел с папиросы.
«Этого не миновать! Но ведь они договорятся!»
— Меня занимает другое, господин Шафар, — сказал он. — Я считаю это пустяками, но вы, быть может, взглянете на это по-другому. Ганеле уверена, что мы не придем к согласию. Но я этому не верю. Мы должны понять друг друга и поймем. Я не еврей, господин Шафар.
Глаза старика чуть не вылезли из орбит.
— Я не понимаю вас, добрый господин, — прошептал он.
— Я не еврей, господин Шафар.
С лица старика понемногу исчезла вся краска. А в глазах всякий блеск. Взявшись обеими руками за стол, он начал медленно вставать. Встал, опираясь ладонями о стол, покачиваясь взад и вперед, устремив мертвые глаза в пустоту и ничего не видя.
— Вы… вы не еврей? — переспросил он, как тогда в Праге Ганеле.
— Нет.
— Крещены? — Это произнес как будто удавленник.
— У меня нет религии.
— Простите, я плохо знаю чешский. Означает ли это, что вы не верите в нашего единого бога?
— Да.
— Это еще хуже, мой господин.
И Иосиф Шафар так же медленно, как раньше вставал, теперь стал садиться.
Он схватился за голову. Долго молчал. Удар, поразивший его с такой силой, был слишком неожидан. Пульс его жизни ослабел; ему захотелось умереть.
— Но тогда что же вам здесь нужно, мой господин? — прошептал он.
Какое значение имеют тут все веские доказательства, которые ты так уверенно приводил в сотнях докладов, на сотнях собраний и митингов? Какое из них окажется здесь настолько авторитетным, чтобы его хоть выслушали сочувственно?
Указать ли, что бог — плод несовершенного человеческого мышления, которое неспособно понять природу времени и пространства и пытается выйти из положения, задавая вместо одной загадки другую? Или сослаться на общественное развитие, на страны востока, где в примитивных условиях идея бога еще отвечает своему назначению и, быть может, имеет оправдание, и страны запада, где бог умер и был заменен новыми божествами? Или, может быть, лучше подействуют доводы из области естествознания, лекция о происхождении видов? Или исторические сведения — о происхождении библии и мифов, о создании образа Иеговы из образов божеств ассирийских, вавилонских, египетских и других предшествовавших ему форм. Или пустить в ход самые незатейливые доказательства и список неуклюжих вопросов — например: кто создал бога, откуда появилась у Каина жена{285}, как мог Ной взять в ковчег майского жука, если потоп произошел осенью, или того паучка, что ткет свою паутину в бабье лето, если он был весной{286}. Или, может быть, лучше всего воздействовать на отцовские чувства и просить, чтоб он не губил счастья двоих ради собственных представлений, ради пустоты, пара и дыма? Или прибегнуть к помощи лжи: деревня не узнает, что я не еврей, не узнает никто никогда?
Ах, Иво Караджич даже не помнит всех доводов, какие он приводил! А против него попрежнему сидел Иосиф Шафар, закрыв глаза, как мертвец, прижав ладони к вискам и запустив пальцы в жидкие седые волосы.
Слушал ли он его? Или, может быть, даже не слышал? Нарочно опустил веки и заткнул себе уши мочками?
Голова старика опускалась все ниже и ниже, пока лоб не коснулся скатерти.
Но он тотчас же поднял ее, как бы устыдившись своей слабости, выпрямился и промолвил через силу:
— Прошу вас извинить меня, мой господин. Я приду через минуту.
Прошел корчмой на кухню, где ужинал Двуйло. Вошел в комнату. Там горела только свечка на столе.
Ганеле стояла у окна, прислонившись затылком к раме и устремив неподвижный взгляд в верхний угол, между стеной и потолком. Заплаканная мать сидела у стола. Было ясно, что здесь тоже все сказано. Отец быстро зашагал из угла в угол, поминутно хлопая себя по бедрам. Он не проронил ни слова. Побегал по комнате и опять ушел.
В дедушкиной комнате его ждал Иво Караджич.
«Какая бессмыслица», — подумал он, идя навстречу старику.
— Господин Шафар! — воскликнул он, протягивая к Иосифу Шафару руки. — Господин Шафар… Отдайте мне Ганеле!.. Вы об этом никогда не пожалеете…
Старик опустился рядом с ним, на тот стул, на котором раньше сидела Ганеле. Он смотрел Караджичу прямо в глаза. Выраженье лица его было бесконечно печально.
— Послушайте, добрый мой господин, — сказал он. — Вы говорите, что вы не еврей. Вы ошибаетесь. Ваши предки — вечный им покой! — были евреи. И вы, мой господин, — тоже еврей. Хотите или не хотите. Вы еврей, хоть и богохульствуете и не верите в бога; от вашего еврейства вас не может освободить никакой союз и никакое крещение. Вы должны быть благодарны, что это так, что вы, несмотря ни на что, остаетесь царским сыном со всеми правами, каких не имеет никто ни на этом, ни на том свете. Но вы не верите в бога… Послушайте, мой господин! Вы подали жаждущему стакан ключевой воды, а когда он протянул за ней руку, отняли ее от его уст и разбили стакан. Вернитесь в лоно Израиля! Знаете, мой господин, что бы это значило для нас, если б наша дочь вышла замуж за человека, который отрекся от бога? Может быть, Ганеле рассказывала вам, какие несчастья преследовали нас всю жизнь. Удар за ударом. Сто раз я молил о смерти. Но что все эти муки по сравнению с той, которую вы и наше дитя причинили бы нам? Я стал бы бессильнее, чем жалкий отверженец человечества. Был бы мертвей мертвеца. А какой это ужас — быть мертвым и ходить среди людей!.. Вернитесь в лоно Израиля, мой дорогой господин! И я отдам, вам дитя свое, отдам от всего сердца, с великой радостью. Я благословлю вас самыми святыми благословениями, полюблю вас, стану самым счастливым человеком в Поляне, возликую и прославлю победу свою над врагами своими… Ах, если б вы знали, что это для меня значит!
Иво Караджич задумался. Ему было жаль старика.
— Мне трудно вас понять, — сказал он. — Не знаю, почему вы станете мертвым и бессильным из-за того, что ваша дочь хочет выйти замуж за порядочного человека. Но я понял: вы, видимо, имеете в виду, что в этом случае вам нельзя было бы оставаться среди здешних фанатиков. Хорошо! Я предлагаю вам выход и, — уверяю вас, — совершенно искренно. Продайте все, что вам здесь принадлежит, и переселяйтесь к нам в Остраву. Вы еще в состоянии работать, и мы хорошо заживем. И Ганичка повеселеет. А я буду вам хорошим зятем, и вы никогда не пожалеете, что выдали ее за меня.
Ганелин отец сдержанно покачал головой.
— Великое вам спасибо, мой господин. Но я этого не сделаю.
Иво Караджич нахмурился в раздумье.
— Вы сказали, что я никогда не переставал быть евреем, — сказал он. — Что же означает: возвратиться в лоно Израиля?
— Это просто формальность, мой господин! — Иосиф Шафар протянул руку к лицу собеседника, как бы умоляя и в то же время желая погладить его. — Тогда все будет хорошо… ох… ох… все будет хорошо, чудесно… чудесно… хорошо… чудесно, хорошо…
Иво Караджич видел, как глаза старика наливаются слезами. Он был тронут. Но нахмурил брови.
— Я ждал такого предложения, господин Шафар, и боялся его. Для Ганеле я готов сделать все. Но этого не могу.
Голова старика тихонько кивала, как в знак согласия.
— Это ваше последнее слово? — прошептал он.
— В этом вопросе — последнее, господин Шафар.
Голова старика продолжала тихонько кивать.
Потом он встал и вышел.
Его долго не было. Прошло пять, десять минут. Иво Караджич ждал. Прошло четверть часа. Он нахмурился, стал зажигать сигарету за сигаретой и тут же бросал; чайные блюдца были полны окурков. Наконец, он встал и начал ходить взад и вперед по комнате.
Что же старик не идет? Иво Караджич взглянул на часы. Уже полчаса? Его охватил страх за Ганеле. Он не находил себе места.
Наконец, из корчмы послышался голос Иосифа Шафара. Иво Караджич сел, ожидая, что тот сейчас войдет.
Но Иосиф Шафар не вошел… Что это значит?
Иво Караджич отворил дверь в корчму. Там было темно, горела только маленькая свечка. Ганелин отец как будто что-то прибирал на буфетной стойке, хотя прибирать там было нечего; наверно, просто делал вид. К Караджичу он не повернулся.
— Господин Шафар…
Старик спокойно выпрямился.
— Что вам угодно, мой господин? — спросил он учтиво, как посетителя, который хочет еще выпить.
Иво Караджич сделал к нему два шага. Из дедушкиной комнаты через открытую дверь проникали свет и дым. Корчма наполнилась каким-то особенным светом и запахом.
— Господин Шафар, я хотел бы поговорить с Ганеле.
— Это, наверно, невозможно. Ганеле уже спит.
Его глаза были холодны, как лед. Иво Караджич вынул часы.
— Спит? В семь часов?
— Мы зимой рано ложимся спать, мой господин.
Иво Караджич быстро подошел к кухонной двери и взялся за ручку. Дверь была заперта. Он повернулся. Обитая жестью дверь на улицу тоже была заперта. Ловушка? Ему невольно вспомнились страшные рассказы о ритуальных убийствах.
— Почему всюду заперто? — крикнул он.
— Мы на ночь запираемся, господин.
— Где Ганеле? Я хочу с ней поговорить.
— Она спит.
Иво Караджич постучал в дверь на кухню.
— Ганеле! — позвал он. — Ганеле!
Никто не отозвался.
Он подождал…
Тишина…
— Ганеле! — крикнул он во весь голос.
Иосиф Шафар спокойно стоял, глядя прямо перед собой.
— Там никого нет, — сказал он через минуту.
— Вы лжете! Там мой возница.
— Я говорю правду, мой господин. Возница ушел с вашими чемоданами к Фуксам.
— Как! — возмутился Иво Караджич. — Вы отказываетесь предоставить мне ночлег в гостинице?
— Прошу прощенья, но наша религия не разрешает, чтоб мужчина спал под одной кровлей с девушкой, на которой он хочет жениться. У Фукса вы получите очень чистую постель — лучше, чем я мог бы вам предложить.
— Где Ганеле?
Иосиф Шафар не ответил. Как упрямый мальчишка. Будто не слышал.
Иво Караджич стал обдумывать положение. Что сделать? Вынуть из кармана браунинг и насильно заставить старика отвечать? Схватить стул и колотить им в дверь, пока ее не проломишь? Пойти по спящей деревне, стучать во все окна и кричать, что еврейские фанатики держат под замком и мучают девушку?
Ему стало страшно за нее. Голова его пылала, сердце учащенно билось.
— Вы не имеете права держать ее взаперти! — воскликнул он. — Ведь она совершеннолетняя!
— Вы мне об этом напомнили, мой господин.
Он решил обыскать всю деревню. «У Кагана, Абрамовича, вряд ли в микве», — вспомнил он ее слова.
— Отворите! — крикнул он.
Вдруг он увидел, что его пальто и шапка уже приготовлены на стуле. Но, прежде чем уйти, он нашел в себе силы еще раз спокойно обратиться к Иосифу Шафару.
— Господин Шафар! — сказал он, весь дрожа. — Очевидно, мы оба слишком взволнованы. Может быть, нам поговорить об этом завтра? Но поймите: я не откажусь от самого себя, Ганеле независима, мы будем принадлежать друг другу, я ее найду. Честное слово, я хочу с вами по-хорошему: отдайте мне ее!
Старик медленно, но решительно покачал головой.
— Скажите хоть, где она!
Старик опять покачал головой.
Тогда дикий гнев и ненависть овладели Иво Караджичем.
— Ладно! Вы хотите насилия? Будь по-вашему! Я приду за ней!
Он пошел к двери, но на пороге обернулся и с оскорбительным спокойствием бросил старику:
— Я забыл уплатить вам за себя и за свою невесту: мы у вас ужинали!
Старик стоял мрачный; прищурив один глаз, он смотрел в землю. Но сейчас же взглянул на Иво Караджича и любезно ответил:
— Ганеле пока еще моя; за нее вы ничего не должны, мой господин. А за себя — две кроны восемьдесят геллеров.
Иво Караджич положил деньги на стол; Иосиф Шафар открыл и закрыл за ним дверь.
Но Иво Караджич не сошел по трем мельничным жерновам на улицу. Быстрыми шагами он стал ходить по галерее, вдоль трех стен дома, которые она огибала.
— Ганеле! — кричал он во весь голос.
Потом сбежал вниз, во двор.
— Ганеле!
Но всюду — тишина. В корчме погас свет.
В полной темноте он побежал к Фуксам: в Поляне была уже ночь.
Он знал, что делать: «у Кагана, у Абрамовича, вряд ли в микве!» При слове «миква» он ощутил настроение антисемитских рассказов о ритуальных убийствах, хотя и не припомнил сразу содержания этих рассказов; ему начинало вдруг казаться, что он слышит влажный запах воды и крови.
У Фукса горел свет: в лавке и в доме.
Ганеле ошиблась, думая, что в сумерках их никто не заметил. Когда несколько часов тому назад они проходили мимо Фуксов, в промежуток между висящими на стеклянных дверях рекламами глядела Сура.
«Уж это не Ганы ли Шафар походка? Да и фигура ее, — подумала она. — Значит, Гана Шафар убежала из гахшары? А кто этот господин, которого она сюда ведет? И как они тут очутились? Может, оставили сани у Буркала?»
Сура страшно разволновалась. Надела жакет и вышла на улицу, под мелкий снежок. Через минуту мимо прошел какой-то незнакомый с двумя ручными чемоданами.
— Вы привезли Гану Шафар? — приветливо спросила его Сура.
— Да, как будто так ее зовут. Я туда иду. Где это?
— Немножко дальше. А кто этот господин?
— Не знаю. Какой-то из Чехии.
— Жених ее?
— Наверно.
Сура вернулась, заперла лавку и пошла к родителям и сестрам.
— Новость! — сказала она с кисло-сладкой улыбкой. — Гана Шафар из Остравы вернулась. Жениха привезла. Чемоданы — настоящие, кожаные.
И вдруг вечером, к ее изумлению, тот же самый человек с чемоданами явился к ним.
Что только делается! Она сгорала от любопытства. Потащила Андрия Двуйла на кухню.
Он не ошибся? Иосиф Шафар в самом деле посылает своего гостя сюда? — накинулась она на него с вопросами. — К ним, к Фуксам? И этот господин сию минуточку придет? Так сказал Шафар, правда? Иосиф Шафар, — такой высокий, с седеющей черной бородой? (Она искоса поглядела на мать, и госпожа Эстер в недоумении пожала плечами.) Теперь этот господин с Шафаром в маленькой комнатке, а мать с дочерью — в большой? Ну, а еще?.. еще что?..
Но Двуйло больше ничего не знал.
Скоро явился сам приезжий.
Только Иво Караджич отворил дверь в лавку и зазвенел звонок на упругой пружине, Сура была тут как тут. Она приветливо улыбалась. Соломон Фукс с госпожой Эстер тоже вышли встречать незнакомца. У Суры сильно билось сердце.
Она отвела приезжего в комнату, для Поляны вполне приличную. В печи горели буковые дрова.
— Господин желает ужинать?
— Нет, благодарю, — ответил он угрюмо. — Мой кучер здесь?
— Да, на кухне.
— Пожалуйста, пошлите его ко мне.
На лестнице Сура тихонько засмеялась.
Приехал свататься, а потом, недовольный, перешел к конкуренту! Дело ясное: в комнатке старого Абрама не договорились! Гана расписала жениху, будто у нее бог знает какое приданое. Но он не дал себя одурачить и сбежал!
— У Шафаров не договорились о приданом, — объявила она отцу и сестрам и отправилась на кухню — сообщить эту новость матери.
Иво Караджич открыл чемодан и вынул из него электрический фонарик; когда пришел Андрий Двуйло, он сказал ему:
— Вы мне нужны на всю ночь. Я уплачу вам вдвое больше, чем было условлено.
Разговаривать на двух языках трудновато, но они друг друга поняли.
— И еще вот что. Вы были на кухне, когда барышня Шафар уходила? Не заметили, куда она прошла по галерее: в сторону двора или к улице?
— Этого не видал, а только из дому она не выходила, — ответил Двуйло.
— Почем вы знаете?
— Да она не одетая была, даже без башмаков. Она в кухне переобулась, когда мы приехали.
— Расскажите мне все подробно.
— Значит, старуха еврейка куда-то вышла, потом вернулась, а минуты не прошло — еще одна еврейка пришла; видно, та позвала. Молодая и прошла с ними.
У Иво Караджича мороз пробежал по коже.
— Они ее увели?
— Нет.
Неужели она в самом деле дома? — рассуждал он. — Это меняет все его планы. Но тогда почему же она не отзывалась? Может быть, эти женщины где-нибудь ее заперли и заткнули ей рот? Не вызвать ли все-таки жандармов? «Но главное: не подымай переполоха, — сказала ему Ганеле, — этого пока не нужно!» Предпринимать ли вообще что-нибудь? Может, во всем виноват его разгоряченный мозг, рисующий невероятные сцены, уместные только в бульварных романах?
— Вы служили в армии, Двуйло?
— Унтер-офицером.
— Отлично! Предстоит важное дело. Пока ничего у меня не спрашивайте; потом я сам вам все объясню. Пойдите оденьтесь. Мы проведем всю ночь на улице, будем наблюдать за домом Шафаров. Наймите четырех крестьян… нет, лучше шестерых, и договоритесь с ними о вознаграждении. Скупиться не надо. Скажите им, что хотите, но меня они пусть ни о чем не спрашивают.
«Не устраивай переполоха!» Может, я делаю глупости? — опять подумал он. — Схожу с ума, как говорит мамочка?..»
Двуйло в сенях надевал овчинный кожух.
— Куда? Куда вы? — высунулась Сура из кухни.
— Я сейчас.
Но она следила за ними и, увидав, что оба выходят на улицу, взволнованная, побежала в комнату.
— Бенци! — крикнула она брату. — Они уходят! Живо оденься и беги за ними!
Потом кинулась в номер — проверить, остались ли чемоданы. Чемоданы были на месте.
Двуйло в темноте стучал в окна, вызывал людей, и они, только было уснувшие, сердито выглядывали из маленьких окошек. А Иво Караджич поспешил за дом Шафара — туда, где когда-то промчалась мимо офицера Этелька. Он хотел проверить, не ведут ли из дома какие-нибудь следы, но запутался среди заборов и заборчиков, стал проваливаться в занесенные снегом ямы и был рад, когда выбрался опять на дорогу.
Люди быстро собрались.
«Шпионов он ловит, что ли, — думал Двуйло. — Но ведь мы бы знали…»
Иво Караджич послал одного к Абрамовичам, другого к Каганам, третьего к микве, — посмотреть, горит ли там свет. Один довел его через перелазы — низкие места в русинских заборах, где может перебраться человек, но не скотина, — до самой речки. Иво Караджич, освещая себе путь электрическим фонариком, убедился, что вокруг глубоким слоем лежит старый снег и по рыхлой поверхности его не ступала нога ни человека, ни зверя. Но для верности он и с этой стороны поставил караульного.
Когда он вернулся на улицу, ему доложили, что в дом вошли две женщины.
— Кто именно? Вы узнали их?
— Файга Каган из миквы и Ройза Абрамович, — ответил Иван Москаль.
— Кто они такие?
— Да еврейки…
Иво Караджич велел затопить печь и зажечь свет в одной из хат, чтобы четверо могли спать, пока другие четверо наблюдают.
Он никогда не видел карпатских хат, и от этой, тускло освещенной маленькой коптилкой без стекла, с глиняным полом, с большой печью и подвешенной над общим ложем простой, выдолбленной колодой вместо люльки, на него повеяло чем-то нереальным, напоминающим приключенческий роман. Расставив караул, сам он с Митром Дацем спрятался за забором москалевой хаты, стоящей у дороги против дома Шафаров.
Снег перестал падать; из-за туч выглянул месяц.
Иво Караджич ждал.
Ночью время тянется долго, и промежуток между одной и другой сигаретой короче, чем кажется.
Но что собственно хотел он увидеть, кроме этой светлой ночи, кроме замка из озаренных месяцем снежных облаков над головой, кроме улицы и силуэта шафарова дома? Или он переступал тут с ноги на ногу для того, чтоб увидеть тех двух евреек, что вошли в дом? Или, быть может, его фантазия возжаждала сцен из кровавых романов, с таинственными санками, из которых выходят какие-то люди в масках, чтобы вынести из дома загадочный узел, где под черной материей угадываются очертания девичьего тела? Сумасшедший!
И все-таки он дождался. Через полчаса в темном доме скрипнули обитые железом двери. Ночью секунды между одним звуком и другим длятся долго и сердце бьется тревожно. Двери заперты. С галереи сошел человек, который мог быть только Иосифом Шафаром.
— За ним! — шепнул Иво Караджич Митру Дацу.
Потом пришли караульные и сообщили, что у Кагана, у Абрамовича, в микве темно. На дороге они встретили Файгу Каган и Ройзу Абрамович. Но это Иво Караджич уже знал…
Удивительное дело! Эта ночь была полна движенья. Через некоторое время к дому подошли три женщины. Поднялись на галерею. Тихонько постучали в ставню. Осторожный звук едва нарушил тишину, и дом таинственно впитал его в себя.
— Кто это был? — прошептал Иво Караджич.
— Машеле Гершкович и Хава Глезер, а третья, наверно, Ривка Эйзигович, — ответил Иван Мадярчук. — Это подруги Ганеле Шафар.
Что им нужно?
Когда опять наступила тишина, а улица опустела, Иво Караджич вышел из своего укрытия за забором и быстро перебежал дорогу. Взошел по трем ступенькам на галерею и на цыпочках, чуть касаясь концами пальцев холодного снега на перилах, обошел дом. Вздрогнул от скрипа половицы под ногой. Дошел до задней стены дома, где галерея кончалась и все было мертво, как и с другой стороны, потому что ставни были плотно закрыты и за ними царила тьма… Нет!.. В одном окне, последнем, виднелась узкая полоска желтого света.
Он подкрался к ней. С этой стороны не было двери, и можно было почти не опасаться, что обнаружишь себя. Он попробовал заглянуть внутрь, под задвинутые снаружи ставни, но это было невозможно. Напрасно старался он расширить эту щель пальцами или ножом. Она пропускала только вот эту полоску света, тонкую, как листок бумаги, и уходила куда-то в сторону, к белой стене.
Ему оставался только слух. Он начал прислушиваться.
Внутри разговаривали. Голоса безусловно женские. Но слов нельзя было разобрать, и о чем шла речь — неизвестно. Говорили, видимо, по-еврейски..
Чу, не Ганелин ли голос?
Наступило молчанье… Потом упало еще несколько слов. Как будто важное уже сказано и больше не о чем говорить. Как среди родственников, перед которыми стоит неблагодарная задача утешать на похоронах застигнутую горем семью.
Ну, конечно, это голос Ганеле!
Она отвечала какому-то высокому сопрано, — верно, приятельнице.
Но большое значение имело и очень успокаивало Иво Караджича то, что не было слышно ничего другого: ни злобного пыхтенья, ни криков боли, ни рыданий — ничего, что говорило бы о насилии.
«Сумасшедший! — прозвучал в мозгу его голос матери. — Позволяет себе устраивать в чужой деревне явные сумасбродства! Служанка, читающая в постели бульварный роман, умней: она верит нелепостям до последней страницы, но прочла — укрылась одеялом и заснула… А он изображает сыщика!.. Глупый!»
Но через минуту он действительно попал в дурацкое положение.
На галерее скрипнула половица, послышались осторожные шаги.
Что делать? Галерея шла только вдоль трех стен дома, и он стоял как раз у третьей. Спрыгнуть в сад? Но шум падения привлек бы внимание. Оставалось только поскорей забиться в угол, в самую тьму.
Появился какой-то паренек.
Он шел на цыпочках, но уверенно, как к себе домой. Вот он подошел вплотную к Иво Караджичу, вскочил на перила галереи. На колени скорченному Караджичу посыпался снег. Мальчик, согнувшись пополам, как складной нож, и упираясь ладонями в стену, стал смотреть сверху, сквозь щель, в комнату. Ясное дело, он тут лучше ориентировался.
Иво Караджич проклинал все на свете. Он понимал весь комизм этой осторожной, тихой ругани человека, сидящего на корточках с холодной снежной глыбой на коленях и раскоряченным мальчишкой над ним. Он смеялся над собой. Сколько же времени эта голенастая жаба будет стоять наверху?
Мальчишка стоял долго. Наконец, отполз. Осторожно прислушался на углу, не идет ли кто.
Через минуту Иво Караджич тоже ушел.
— Какой-то парнишка подходил к дому, — сообщил ему Иван Мадярчук за забором. — Теперь ушел. Я его не узнал, да по всему видно — Бенци Фукс.
Все это, кроме имени, Иво Караджич уже знал.
Повалил такой густой снег, что дом Шафара исчез из глаз. Улицу быстро занесло; снег падал большими хлопьями, ложась легко, как бумага.
Иосиф Шафар долго не возвращался. Прошел час. Полтора. Из дома вышли четыре обмотанные платками женщины, которых нельзя было как следует рассмотреть из-за метели. Значит, одна из ночных посетительниц осталась у Шафаров; Иван Мадярчук по росту определил, что это, наверно, Файга Каган.
Наконец-то!
На белой дороге вынырнул из снежных хлопьев Иосиф Шафар. Он был весь в снегу и устало волочил ноги. Но шедший рядом с ним закутанный по-бабьи мужчина в длинном плаще, с повязанными вокруг шеи и поверх шапки платками, шагал еще медленней.
— Кто это с Шафаром? — шепнул Иво Караджич.
— Старый Мордхе.
— А кто он?
— Еврейский святой.
Мордухай Иуда Файнерман в самом деле шагал с большим трудом, а когда стал подниматься по жерновам, Иосифу Шафару пришлось его поддерживать. Было слышно, как они стряхивают на галерее снег с башмаков; потом покрытый снегом дом поглотил их.
Удивительный дом, куда люди сходятся по ночам.
Бело-черная ночь таяла. Сменялись облепленные снегом караульные, уходили греться у горячей печи в москалевой хате, разувались, сушили портянки и ложились на два часа, где придется: хата была полна мужчин, женщин, детей. Крестьяне уже знали, в чем дело. Нет, ловят не шпионов. Ловят девушку. И они смеялись: «Неужели он думает, что евреи отдадут ее ему?» Окончательное мнение их об Иво Караджиче целиком совпадало с мнением его матери. Иво Караджич всю ночь провел на ногах. В хате Москаля такая духота, так жарко, столько блох! Он заплатил крестьянам и раздал им все свои сигареты.
Чуть свет, когда можно было думать, что теперь уж Ганеле не увезут, если не увезли ночью, он расставил последних караульных, оставляя первые следы на выпавшем за ночь снегу, и пошел к Фуксам — не для того, чтобы спать, а чтоб хоть погреться, вымыться и побриться. Ему было немного стыдно за то, что он поднял в деревне такой переполох, но он оправдывал себя тем, что это оказалось полезным: теперь он по крайней мере знает, где Ганеле.
Дом Фуксов был еще заперт; но не успел он постучать, как Сура в халате открыла ему.
— Господин был так долго в гостях? — невинным тоном спросила она.
Она уже все знала.
Какая сенсация!
«Гой? — думала она, провожая со свечой Иво Караджича в его комнату и поглядывая искоса на его огромный нос — Это гой?»
Евреи были взволнованы. Поражены. Оскорблены. Испуганы. Взбешены.
Что!.. Га-не-ле? Га-не-ле Шафар?
Что!.. Еврей, который не верит в бога!
Пускай Байниш Зисович рано утром, — но сразу же, сразу, как только рассветет, — запрягает лошадь и едет в город. Пускай мчится вскачь, не щадя лошади, и привезет раввина! И видит община духовным взором бешеный галоп зисовичевой Юльчи на рассвете и Байниша в виде Иуды на воинской колеснице в долине Айалонской{287}, держащего вожжи и размахивающего бичом над головой коня.
Вот видите? Разве не прав Мордухай, утверждая, что снять точку — значит уничтожить все?
Видите? Вы позволили выпасть одной только ниточке из цициса{288}, и вот к чему это привело! Бедный Иосиф Шафар! Несчастная мать!
Но потом, вспомнив о самом главном, в испуге закричали:
— Ведь это впервые с тех пор, как Поляна стоит, еврей отступился от бога!
Что же будет дальше? Господи, что будет дальше?
Какие смертельные болезни нашлет бог на Поляну в нынешнем году? Сначала уничтожили микву. Потом пошли эти ужасы с халуцами и мизрахистами. А теперь еще это! Неужели вы не замечаете, не чувствуете, не видите угрожающего перста божия?
Не позволяйте! Не попустите! Воспротивьтесь!
Страшная весть передавалась из уст в уста. Еще ночью она облетела всю деревню. Из домов выбегали женщины в одних башмаках на босу ногу, прикрыв голые плечи шерстяным платком, шагали по снегу и стучали в окна, чтобы их впустили. Вы слышали? Полусонные люди вскакивали в одном белье с постелей, хаты освещались маленькими керосиновыми лампами, и по стенам начинали двигаться длинные тени. Дома Ройзы Абрамович и родителей Машеле, Хавы и Ривки — очевидно, побывавших у самого источника грядущих бедствий, — принимали все новых посетителей.
Утром в хате Мордухая Иуды Файнермана перебывали все уважаемые люди общины. Мудрый старец печально покачивал головой, так же как и три его бородатых сына, и, не отвечая на праздные вопросы, отдавал со своей лавки у печи короткие приказания.
Нет, в самые тяжелые минуты Мордухай Иуда Файнерман не обманул доверия общины. Он мог еще закрыть глаза и заткнуть уши во время всей этой возни с мизрахистами и халуцами — возни глупой, жалкой, ничтожной, которой он не в состоянии посвятить ни малейшей частицы души своей, принадлежащей богу. Но тут речь шла об Израиле, о боге и о чести общины.
Однако побывали ли в это утро у Мордухая Иуды Файнермана действительно все уважаемые евреи?
Нет.
— Пинхес Якубович был? — спросил старик.
— Нет.
Мордухай Иуда Файнерман оделся с помощью сыновей; один натянул ему на ноги валенки, двое других повязали шарфом шею и уши, и он двинулся в путь по деревне.
Подошел с сыновьями к дому Пинхеса Якубовича.
— Ты знаешь, что случилось у Шафара? — гневно спросил он, обиженный тем, что Пинхес не счел нужным сам прийти к нему.
— Знаю, — тихо ответил Пинхес.
— Идем, — строго произнес Мордухай Иуда Файнерман.
Но тут произошло нечто неожиданное и совершенно непонятное: вместо того чтобы надеть лапсердак, Пинхес Якубович встал и, глядя куда-то в угол, ответил:
— Не пойду.
Это было еще большим вызовом, чем Мордухай Иуда Файнерман предполагал. Старец подошел к Пинхесу. Глаза мудреца под всклокоченными белыми бровями выразили не столько негодование, сколько удивление.
— Может быть, я не так тебя понял, — сказал он. — Ты отказываешься помочь общине в несчастье в самую страшную для нее минуту?
— Отказываюсь, — смиренно ответил Пинхес Якубович.
В глазах старца вспыхнул божий гнев. Он поднял кулак.
— Горе тебе, Пинхес!
— Горе тебе, Пинхес, — повторили сыновья. — Ведь ты еврей! Стыдись!
Старик ушел. Но сыновья обернулись еще раз и, не желая подымать шум в такой серьезный момент, только смерили Пинхеса взглядом с головы до ног.
И все-таки Пинхес Якубович не мог поступить иначе. Тайна — тяжелое бремя. И нести его умеют только избранные.
Да будет прославлено имя господне, которому Мордухай Иуда Файнерман хотел нанести оскорбление. Вчера господь бог передал Пинхесу через ангела свою волю: «Я требую искупительной жертвы. Одной от всей общины. Завтра же. Принеси мне ее без промедления». И разве после вестей, которые принесли сегодня утром с улицы Брана и дети, можно сомневаться в том, кто должен стать этой жертвой? Смерть! Смерть! Смерть! Смерть, какой еще не видала Поляна, — ужасней меча, огня и могилы. Из всех смертей смерть! О вы, заблудшие, помышляющие лишь о телесном, не умеющие отвратить душу свою от материального! О глупцы, пытающиеся вырвать добычу из когтей льва!
Иво Караджич зашел к Фуксам только умыться и побриться. Еще не было шести, он прилег на диван отдохнуть, заснул в тепле и проспал почти два часа.
Выспавшись, человек оценивает вещи лучше, точнее, и при свете дня все представляется ему в ином виде или по крайней мере приобретает иную окраску.
Он допустил ошибку, подняв, вопреки Ганелиной воле, переполох в деревне, и этим затруднил положение их обоих. Кроме того, он обидел ее отца (какая постыдная грубость и в то же время — какая неосторожность!). Этого уж не исправишь. Но должен ли он послушаться совета Ганеле и при таких тяжелых обстоятельствах уехать отсюда? Можно ли рассчитывать, что при создавшихся условиях им не удастся уговорить ее, что они не прибегнут к насилию, не помешают ее побегу? Нет, он этого не сделает. Она ему слишком дорога… В конце концов, наверно, придется применить насилие…
Иво Караджич готов и к этому. Он только сделает все от него зависящее, чтоб оно не было грубым и, по возможности, без участия властей. А пока он еще раз попытается договориться. Ради Ганеле он пойдет на все.
Выйдя из дому, он увидел, что на улице стоит юноша в щегольском зимнем пальто — фасона прошлого столетия, узком в талии и широком, как колокол, снизу, — может быть, выпрошенном у кого-нибудь, а может — купленном где-нибудь в городе на распродаже. Засунув руки в карманы, юноша нагло уставился на Иво Караджича. Тот смерил его взглядом, и глаза их встретились. У юноши глаза загорелись зеленоватым огнем.
Иво Караджич пошел по улице, испытывая неприятное ощущение, что незнакомец следует за ним.
На дороге ему встретился Андрий Двуйло.
— Нынче тоже караульщикам стоять? — спросил Двуйло.
— Да. Кто устал, пусть пошлет замену. Удвой им плату! А девушка до сих пор в том домике в саду?
— Никто ее не видал, но, верно, там.
Обернувшись, перед тем как идти дальше, Иво Караджич увидел, что юноша в щегольском зимнем пальто стоит в вызывающей позе прямо у него за спиной и глаза его мечут молнии.
У Иво Караджича закипела кровь.
«Если я не дам этой дубине сегодня в морду, то, верно, никогда никому не дам», — подумал он.
Но, вспомнив о своем решении, повернулся и пошел.
Этой «дубиной» был Шлойме Кац.
Вскоре он обогнал Караджича, кинул на него искоса угрожающий взгляд и больше не оборачивался…
«Разве нынче ярмарка? Нет, в Поляне не бывает ярмарки», — вспомнил он.
А храмовый праздник и крестный ход бывают в другое время года.
Так что же здесь? Похороны? Свадьба?
Перед домом Шафара толпился народ. Люди стояли, бродили, прогуливались, негромко разговаривая. Большинство — евреи, но были и русины. Русины, в овчинных кожухах, одинаковых у мужчин и у женщин, теснились напротив за забором хаты Москаля, молча ожидая не то представленья деревенского комедианта, не то какой-то торжественной процессии.
«Не из-за меня ли?!» — екнуло сердце у Иво Караджича.
Его появление было встречено внезапным молчанием. Большинство, обернувшись, уставилось на него. Скорей с любопытством, чем враждебно, как ему показалось. Стараясь показать своей походкой, что он полон энергии, — это было не совсем так, — он прошел сквозь толпу по ступенькам из мельничных жерновов. Но там его ждал юноша в щегольском зимнем пальто, и его пришлось обойти.
«Если я не дам этой дубине сегодня в морду…»
Иво Караджич вошел в корчму. Она была полна евреев.
— Где господин Шафар? — спросил он, быть может, слишком резко.
Один из присутствующих — это был Байниш Зисович — подошел к нему с поклоном, учтиво пожал ему руку и, отворив дверь на кухню, проговорил:
— Сюда пожалуйте. — И, проведя его через пустую кухню в комнату, прибавил: — Здесь, прошу.
«Куда же это я попал?» — подумал Иво Караджич. В комнате, почти пустой, с холодными белыми стенами, озаренной утренними лучами солнца, к нему, точно разбойники на большой дороге, устремились одиннадцать пар глаз, накинулись, окружили его плотным кольцом.
Здесь стояли в шапках бедр Мойше Каган, Лейб Абрамович с взъерошенной львиной гривой, черный кузнец Сруль Нахамкес, Гутман Давидович, Мордухай Иуда Файнерман в кафтане, окруженный сыновьями, старый Иосиф Эйзигович. Всего человек десять. Потому что один из двенадцати выборных еврейской общины — Пинхес Якубович — отсутствовал. А одиннадцатый был господин Соломон Фукс. Сколько десятилетий не входил он в этот дом! Теперь его привел сюда общественный долг. Когда-то он думал, что ему будет приятно поглядеть на горе и нищету там, где, как он помнит, были богатство и изобилие.
Иво Караджич очутился лицом к лицу с незнакомыми людьми. Кто эти одиннадцать человек?.. Тайный уголовный суд?
— Где господин Шафар? — мрачно спросил он.
— Сейчас придет, господин Караджич, — ответил ему Соломон Фукс.
«А, это мой хозяин», — подумал Иво Караджич, немного успокаиваясь, довольный тем, что видит знакомое лицо.
Но когда он решил уйти и шагнул было к дверям, двое преградили ему дорогу: Байниш Зисович и молодой Эйзигович.
В ту же минуту перед ним встал старик с длинной, пожелтевшей от древности бородой и белыми пейсами, спускающимися до самых плеч.
— Добрый господин, — промолвил Мордухай Иуда Файнерман, — уделите, пожалуйста, минутку внимания словам старого еврея, дни которого уже сочтены.
Не зная чешского языка, Иуда Файнерман старался приблизить свой еврейский язык к немецкому, и понимать его было нетрудно.
Попав нежданно-негаданно в такое положение, в первую минуту поневоле опешишь…
— Если это не долго, пожалуйста. Что вам угодно? — сказал Иво Караджич.
— Мы — представители местной еврейской общины, мой господин. И мы искренно приветствуем вас здесь. Искренно и почтительно, добрый господин.
— Очень приятно. Благодарю вас. — Он подал старику руку. — Чрезвычайно рад с вами познакомиться. Но сейчас я хочу видеть господина Шафара. Вам, повидимому, известна цель моего прихода. Я пришел за своей невестой Ганеле.
Все судьи, кроме старика, ласково улыбнулись, а Соломон Фукс — особенно доверчивой и широкой улыбкой.
— Я ищу ее, — продолжал Иво Караджич. — Наверно, господа, вам известно и то, что мадемуазель Шафар совершеннолетняя и ни вы и никто другой не имеет права задерживать ее насильно.
— Ох… ох… — Старик поднял руки, словно с досадой что-то отстраняя. — «Задерживать насильно!» Кто бы посмел сделать это! Наоборот, мой господин. Иосиф Шафар придет. И Ганеле тоже придет. Чудная девушка с глазами газели, самая красивая барышня во всем крае. Мы сошлись сюда для того, чтобы радоваться вместе с вами и благословить вас всей общиной. И мы просим вас кое о чем. Видите ли, у девушки нет приданого. Позвольте, чтобы она стала дочерью всего Израиля, чтобы все мы, каждый в меру сил своих, помогли ей обзавестись приданым и сами справили ее свадьбу. Добрый мой господин! — Подойдя вплотную к Иво Караджичу, старик слегка коснулся кончиками пальцев его пиджака. — Ах, дорогой мои господин, это будет такая свадьба, каких свет еще не видывал! Такой балдахин, какого никогда не бывало.
«Какая удивительная настойчивость, какое упрямство!» — подумал Иво Караджич, подавляя волнение и глядя в глаза старика, печальные, умные и решительные.
— Это, наверно, было бы в самом деле прекрасно, — спокойно сказал он. — Но я не могу принять ваши условия.
Мордухай Иуда Файнерман продолжал, будто не слыша:
— Вы — еврей, мой господин, и все мы — евреи. Вы из славного рода, из племени Коген{289}, откуда происходят те, кому раз в году дозволено произносить подлинное имя господне. А вы говорите: нет бога. Есть, мой господин!
Иво Караджич увидел, как у старика загорелись глаза.
— Есть. Единый, непостижимый — и не дозволено мыслить о его начале.
«Вот в этом-то «не дозволено» и скрыт корень всякой религии, — взбунтовалась в Иво Караджиче его кровь вольнодумца. Он хотел было высказать эту мысль вслух, но махнул рукой: какой толк начинать здесь дискуссию? Мордухай Иуда Файнерман, видимо, прекрасно знал о вчерашнем разговоре Иво Караджича с Иосифом Шафаром.
— В молодости вы, наверно, слышали, мой господин, о страданиях, которые терпит Израиль со времен разрушения храма, — страданиях во имя своего бога, потому что только бог мог подать ему силу, не доступную людям. Но, может быть, вы никогда не слыхали о наших страданиях? Так пойдите, мой господин, в наши жилища, посмотрите на нашу нищету, поглядите на наших голодных, умирающих малышей, взгляните на матерей наших, у которых не хватает молока для младенцев, и, если у вас сердце не из камня, оно заплачет. — Глаза старика налились слезами. — Ох… ох… мой господин, а вы говорите: нет бога! Как же могли бы мы жить, если б не знали, что страдаем во имя его? Ох, ох, господин, вы желаете, чтоб один из нас, пусть даже девушка, — встал и поступком своим провозгласил: «Сгинь, Израиль! Все, чем ты жил от сотворения мира, было ложью, и страдания твои — посмешище детей и безумцев! Вы умрете, полянцы, в горе и отчаянии. Вот я, Гана, ухожу от вас, и вы умрете, умрете, а я смеюсь, веселюсь, ухожу в мир, к пирам и наслаждениям, потому что мне нечего бояться, ибо нет расплаты ни на этом, ни на том свете, ибо нет бога!» Ох… ох… ох… мой господин!
И старик с грозным взглядом, опять протянув руки вперед, ладонями к гостю, стал медленно отступать.
«Ужас, ужас! — подумал Иво Караджич, как тогда на Остравской улице. — Какая трагедия! Две тысячи лет прошли для них бесследно». Он был взволнован. Что ответить старику с пылающим взглядом, на пергаментных щеках которого выступили красные пятна святого исступления? Можно ли тут сделать что-нибудь словом? Не останется ли каждый глухим? И все это Ганеле знала! И все-таки поехала сюда! Как же велика ее любовь… Ганеле! Бедная Ганеле!
— Вы, может быть, считаете нас глупцами за то, что мы соблюдаем его законы, — снова заговорил старик. — Но мы этим никому не причиняем зла, никого не задеваем. Мы молчим, когда другие народы поносят нас вот уже две тысячи лет. Но вчера сказал сын племени Коген: нет бога! И мы отвечаем: жив бог! Он — сущий, и нет границ его бытию. Единый — и нет конца его единству. Он был прежде всего сущего, и нет начала началу его. Наш бог — освободитель наш, твердыня наша среди скорби в годы притеснений. Наше знамя и прибежище, чаша еврейства. Да будет прославлен господь, властитель мира! А вы, сын племени Коген, никогда не говорите, что нет бога! Довольно, если скажете: я не верю в бога. Не познал еще бога. Не нашел еще бога. Мы не верим, а знаем: он есть и царствует. Не верим, а знаем: он пошлет мессию. И скоро, ибо мера страданий народа его переполнилась. А сегодня мы пришли сказать вам и просить вас: Исаак, сын Иосифа, возвратитесь к своему народу! Бог сам даст вам возможность познать его. А мы поможем вам советом и молитвой. Вот — мы предлагаем вам все, что у нас есть. И это больше, чем вам сегодня надлежит знать.
Старик кончил. Его руки дрожали мелкой дрожью, и пятна на щеках алели над желтой бородой.
«Какая сила убеждения! — думал Иво Караджич. — Какая мощь и какая опасность! Любая попытка привести к согласию двух людей с мыслями и языками более различными, чем у рыб и птиц, — заранее обречена на неудачу».
Он встал, ничего не ответив. У него было одно желание: бежать отсюда! Назад в Европу!.. Бедная Ганеле…
Отделившись от общей группы, к Иво Караджичу подошел вплотную Соломон Фукс. Презрительно покачав головой и взмахнув руками, он заговорил тихо, конфиденциальным тоном опытного торгаша:
— Не обращайте внимания на Мордхе, господин Караджич! Он — старой школы и не понимает того, что происходит в мире. Я даже не знаю, как эта школа до сих пор существует… Выйдемте со мной на минутку в соседнюю комнату. Мы договоримся, я не сомневаюсь. Вы не знаете здешних глупцов. Это на самом деле было бы для всех нас несчастьем. Но речь идет просто о формальности…
Иво Караджич отрицательно покачал головой и опять повернулся к старику.
— Господа, — сказал он, чувствуя, что все, что он скажет, прозвучит нелепо или бестактно. — Благодарю вас за любезность и доброжелательное отношение, особенно вас, уважаемый господин, — он взглянул на старика. — Я с большим удовольствием обсудил бы с вами вопросы, которые вы здесь подняли. Но, боюсь, разговор будет долгий. Эти вопросы нельзя решить несколькими словами, а сейчас мы уже не договоримся. У меня нет времени. Я ищу Ганичку Шафар. Ваш дружеский прием позволяет мне рассчитывать, что вы не будете чинить мне препятствий. Потом, если пожелаете, я буду весь в вашем распоряжении.
Он отворил дверь в соседнюю комнату, в которую заглядывал ночью, но она была пуста, как он и предполагал.
Он догадывался, где прячут Ганеле. Ночью ему подсказали это русины, а утром подтвердил Двуйло. В саду стоит маленький обветшалый домик деда Абрама, — старая кухня, где летом готовят для работников. Очевидно, Ганеле там.
Выйдя на галерею, чтобы спуститься во двор, Иво Караджич остановился в изумлении.
Большой двор, окруженный каменной стеной, был полон народу. Собралась чуть не вся еврейская Поляна. Мужчины, женщины, дети.
Сперва Иво Караджич подумал, что они смотрят на него, но тотчас же понял, что все взгляды устремлены на кого-то находящегося за его спиной. Он быстро обернулся. Сзади стоял бедр Мойше Каган. Он подавал людям какие-то знаки, но Иво Караджич не успел их понять.
Толпа вела себя спокойно. Чувствовалось скорей напряженное ожидание, чем вызов. Иво Караджич встал у перил, минуту соображал. Было ясно, что одному ему с четырьмястами не справиться. Через каменную стену, окружавшую двор, он видел, что за забором москалевой хаты стоят русины, с любопытством ожидая дальнейших событий. Происходящее нисколько их не касалось; оно интересовало их только как зрелище. Заметил также, что по улице ходят двое караульных, но и им не было до всего это никакого дела; спор идет между господином и евреями, а им за караул заплачено. Что ж, в конце концов они правы, Иво Караджич не станет их звать.
Но вдруг в тишине прозвучал враждебный призыв:
— Бей его, собаку!
Кто-то неистово рвался к галерее. Ах, это тот паренек в широком пальто колоколом! И, словно подстегнутый этим выкриком, раздался женский голос:
— Проваливай, откуда пришел!
Это напрягала свой голос Брана Якубович. Ее поддержала Малка Абрамович:
— Ко всем чертям!
Мальчишки оглушительно засвистали в два пальца. Предводителями у них были Рива Каган и его верный друг Бенци.
Шлойме Кац изо всех сил старался пробраться сквозь толпу. Иво Караджич сунул руку в карман за браунингом. Но у перил галереи появился Мойше Каган.
— Шлойме, назад! Моментально! Не пускайте его! — крикнул он. — А тебе я дома покажу — будешь знать! — пригрозил он своему Риве.
Шлойме Кац грозил кулаком в сторону галереи и что-то шипел про убийство. Но толпа преградила ему дорогу; его стали бранить, толкать со всех сторон и не пропустили. Шлойме Кац, конечно, забегал вперед: страсти еще не разгорелись по-настоящему, и применять насилие было слишком рано.
Только Брана Якубович могла померяться со Шлойме темпераментом:
— Пустите его! Он прав! Пускай этот убирается!
Но тихий Мойше Каган превратился во льва.
— Тихо, тихо! Ведь договорились! А ты разыгрывай генерала у себя дома, — крикнул он Бране, и все засмеялись. — Нами нечего командовать. Лучше бы Пинхесу скомандовала, чтоб знал свое место! Кто отвечает: вы или мы?
По той страстности, с какой Мойше говорил все это, Иво Караджич понял, что толпа раздражена против него, пришельца.
Бедр говорил по-еврейски и при том так быстро, что Иво Караджич ничего не понимал. А сознание, что его, торговца, которого вряд ли обманули бы где-нибудь в Европе, обманывают здесь, на родной земле, удручало и сердило его.
Он опять облокотился на перила.
— Я тоже хочу кое-что сказать вам… — начал он.
Но двор огласился неистовыми криками. Никто не хотел его слушать. Мальчишки снова начали свистать, заложив два пальца в рот, причем Рива отвернулся и скорчился, чтоб отец не видел, а Бенци Фукс защищал бога в открытую.
Иво Караджич был опытный оратор и привык к шумным сборищам. Он спокойно стоял, не пытаясь унять толпу. Он ждал. Оглянулся на галерею. Никого нет. Выборные еврейской общины скрываются или ушли.
Как только вопль толпы ослабел, он воскликнул:
— Друзья, позвольте сказать вам несколько слов…
Но голос его потонул в буре криков:
— Не хотим слушать! Вон отсюда! К черту!
Кричали по-еврейски и по-чешски, осыпая его ругательствами. Иво Караджич забыл, что он не на митинге и речь идет не о политике, а о боге и о святотатце, явившемся для того, чтоб красть души. Мысль о грабителе вскоре захватила весь двор.
— Похититель детей! Убийца!
Женщины просто надрывались от крика.
— Камнями его закидать! — гаркнул кто-то изо всех сил. Это взревел Шлойме Кац. Глаза его налились кровью, рот перекосило.
Пролетело полено. Молодежь, уже переставшая считать все это событие забавой, восприняла выкрик Шлойме как призыв. Но зимой под снегом не видно камней, а дрова из поленницы, когда их кидаешь, стоя в толпе, без размаха, не долетают или слабо бьют.
Один из парней, видимо будущий вожак, все-таки не подчинился общему настроению возбужденной толпы и выбежал в ворота на улицу.
— За мной!
И мальчишки стаей понеслись за ним.
Этого-то и боялся Иво Караджич. Запертая калитка со двора на галерею была у него перед глазами, но его могли захватить с другой стороны, с улицы.
Мальчишки с топотом мчались по галерее. Когда они появились из-за угла, Иво Караджич вынул браунинг. Навел на них. Передние встали как вкопанные, сдерживая напор задних. Все остановились. Двор, почуяв смерть, затих.
Иво Караджич громким голосом произнес:
— Каждого, кто сделает еще шаг, застрелю.
Это прозвучало спокойно и убедительно.
Но в мертвой тишине раздался еще один голос, отчаянный, резкий: «Ив…» — и тут же замер. Это был голос Ганеле. Из старой кухни в саду.
— Я здесь, Ганичка! Я приду! — крикнул он, не опуская руку с пистолетом.
Толпа стояла безмолвно. Раздастся выстрел или нет? Мальчишки спрятались за угол. Матери опомнились первые и подняли страшный гвалт. Настоящий еврейский гвалт. Но не против Караджича. Против мальчишек. Как будто развязался мешок и оттуда так и посыпались визгливые еврейские ругательства. Рты раскрыты, кулаки грозят. Матери мечутся в толпе, как наседки, стараясь вырваться вон. Мойше Каган надавал затрещин остававшимся на углу мальчишкам, разогнал их и побежал за Ривой, который пустился наутек.
Тогда, воспользовавшись общей растерянностью, Иво Караджич подошел к перилам, сунул браунинг в карман и сказал:
— Друзья! Я не разбойник, не убийца и не причиню мальчикам никакого вреда. Я такой же мирный гражданин, как и вы. Здесь держат под арестом свободного, полноправного человека, я пришел за ним, вот и все.
— Мы не отдадим ее вам! — решительно произнес какой-то старик в толпе.
— Я этого от вас не требую. Я не хочу ее брать. Она не моя, чтобы я имел право взять ее, и не ваша, чтобы вы могли ее отдавать. Пусть она сама решит свою судьбу! Это будет правильный выход.
Но ему не дали договорить. Огнестрельное оружие, мальчишки, диалог с невидимой Ганеле, спокойная речь Иво Караджича — этого было слишком много для их нервов: нужно прийти в себя. Шлойме Кац, смертельно бледный, опять крикнул:
— Бей его!
И тот же старик повторил еще тверже:
— Мы не отдадим ее вам.
Какая-то женщина, будто только теперь сообразив, что произошло, завопила:
— Он стрелять в нас хотел!
Эти слова были тотчас подхвачены женщинами и молодежью:
— Стрелять хотел в наших детей… убить… перестрелять… наших детей…
Весь шафаров двор вдруг превратился в умопомрачительный вой. В сплошной звук «и». Он кричал, визжал, бушевал, бесился, буйствовал, безумствовал. Мальчишки, выгнанные на улицу, засунув два пальца в рот, пронзительно свистели. Десять, двадцать, тридцать мальчишек. А взрослые мужчины, подхватив боевой лозунг, орали:
— Не отдади-и-и-им!
И в этом крике тоже звучало «и», творя чудеса. Это был какой-то дьявольский рев, терзавший слух и наполнявший полдеревни.
Иво Караджич сохранял спокойствие. Как посторонний, прислушивался он к этому неистовому гвалту, который, казалось, не прекратится, пока у четырехсот человек не лопнут легкие, и смотрел на шеи со вздувшимися жилами, на широко раскрытые рты с зубами и без зубов.
Удивительно! Разве он был герой? Или мог предвидеть, что начинающаяся трагедия кончится благополучно? Вот именно! Умом Иво Караджич, конечно, ничего этого не знал, но все его существо знало очень хорошо и определенно.
Жандармы явились без зова.
Застучали тяжелыми сапогами по галерее. Старший вахмистр и трое рядовых, все в полном вооружении.
Ну, еще бы!
Накануне. Иво Караджич решил все уладить «по возможности без вмешательства властей». Это «по возможности» — очень многозначительно. Не спросил ли он ночью у караульных, для большей уверенности, где здесь жандармский пост? Или, быть может, предполагал, что жандармы, находясь в пяти минутах ходьбы отсюда, узнают, что делается в общине и у Шафара? За весь сегодняшний день и во время всей этой бури он о них ни разу не вспомнил, но все же отнесся к их приходу, как к чему-то вполне естественному и заранее предусмотренному, а появление на галерее воспринял, как что-то уже виденное однажды или приснившееся ему сегодня утром на диване у Фуксов. Правда, было немного страшно, что трагический спор решается не так, как он велся до сих пор, а вмешательство властей в его личный подвиг и тяжбу с богом выглядело довольно комично, но Иво Караджич был очень рад, что дело приняло такой оборот.
Три жандарма встали у перил галереи, лицом к толпе, и стукнули ружейными прикладами об пол. Вахмистр подошел к Иво Караджичу.
Дьявольский рев сразу прекратился. Отдельные выкрики: «Он хотел в нас стрелять!» — уже не таили в себе угрозы смертью, а были лишь жалобой высшему начальству.
— Тихо! — крикнул один из жандармов.
Авторитет жандармов здесь непререкаем: во дворе сразу воцарилась тишина.
— Кто вы такой, сударь? — резко спросил вахмистр, как будто не знал уже этого от Соломона Фукса и Суры.
Иво Караджич вынул свои документы.
И в то время как вахмистр прятал их в карман, из старой кухни опять послышался жалобный крик. Крик человека, боящегося не за себя, а испуганного полной, нерушимой тишиной, непонятно чем вызванной.
— Иво!
— Сейчас, сейчас, Ганичка!
— Что такое? — крикнул на него старший вахмистр и скомандовал жандармам. — Очистить двор! — Потом подошел к перилам: — Именем закона! Разойтись! — И после этого торжественного вступления загремел, как разгневанный бог: — Шевелись! Живо! Не то, ей-богу, всех перестреляю. Ну вас к дьяволу. Покажу вам, как бунтовать!
Старший вахмистр был старый служака, опытный стратег: он знал, как действовать в Поляне.
Три жандарма с ружьями наперевес сбежали по ступенькам во двор, чтобы подгонять сзади устремившуюся к воротам толпу, а кого надо — и штыком угостить. Но этого не потребовалось.
Старший вахмистр гремел с галереи:
— Может, помочь тебе, Гершко?! И вы тоже там поторапливайтесь, Юдогорович! Слышите? А с тобой, Шлойме, мы еще поговорим, — погрозил он пальцем.
Сборище, к которому можно обращаться «Юдогорович», «Гершко», «Шлойме» и участники которого прекрасно знают, как старший вахмистр умеет придираться из-за дымовой трубы, из-за уборной, немного протекающей на улицу, из-за отсутствия фонаря при ночной езде в санях, из-за номера на телеге, — это даже не толпа. Ведь толпа, хотя бы минуту наслаждавшаяся сознанием своей силы, даже не успевшая применить ее, расходится неохотно, бранясь или по крайней мере ропща. Но полянцы не роптали. Они рвались к воротам! Только Рива и Бенци, отбежав шагов на двести от дома Шафаров, устроили дуэт, засвистав в два пальца настоящим разбойничьим свистом.
Иво Караджич собрался было спуститься вслед за жандармами с галереи во двор, уже почти очищенный от людей, но вахмистр закричал:
— Куда вы?! Останьтесь! Я буду составлять протокол.
— Знаю, господин старший вахмистр. Я не ухожу. Располагайте мной.
Вахмистр наблюдал за тем, как двор очищают от толпы.
Иво Караджич, пройдя двор, вошел в сад и забарабанил в дверь старой кухни.
— Отворите!
Взявшись за обломок ручки, он хотел было изо всех сил затрясти дверь, но обломок остался у него в руке, а ржавый замок, видимо, рассыпался где-то внутри. Дверь отворилась.
Ганеле. Родители. Незнакомая женщина, со злым взглядом которой глаза его встретились на какую-то долю секунды. Все страшно бледные, так что Иво Караджичу даже показалось, что перед ним привидения, — наверно, потому, что кухонька в бледном зимнем свете, проникающем через замерзшее окошко, напоминала мертвецкую.
— Ганеле!
У нее дрогнули губы. Может быть, она выдыхнула его имя?
В углу, головой к стене, закрыв лицо руками, полусидела, полулежала мать. У окошка, глядя в землю, стоял Иосиф Шафар. «В чем дело? — с удивленьем подумал Иво Караджич при виде этого отчаяния. — С кем тут несчастье? Господи боже, в чем дело?»
Даже Ганеле не пошевелилась. Словно не могла решиться.
— Пойдем, моя милая!
Две секунды она еще колебалась.. Потом встала на колени возле матери и поцеловала ее в голову.
— Прощай, мамочка!
Пошла к отцу, но тот поднял руку и, не отрывая глаз от земли, показал пальцем на дверь, — впрочем, так вяло и слабо, что Иво Караджичу опять показалось, будто перед ним привидение.
— Прощай, папочка!
Жандармский допрос, производившийся в ледяной корчме и в жутком, пустом доме, был мучителен своей продолжительностью и тупостью допрашивающего, который не хотел видеть вещи такими, как они есть, а упрямо добивался все новых подробностей — только их одних.
Нет, отвечал Иво Караджич, когда вахмистр, сообразив, что имеет дело с образованным человеком, отказался от попытки запугать его, — нет, он никого здесь не знает, не понимает их языка, не слышал никаких угроз и револьвер показал мальчишкам не под влиянием какой-либо реальной опасности, а на всякий случай, для острастки.
Нет, отвечала Ганеле, никто не лишал ее свободы и не задерживал. И никто — ни Файга Каган, ни кто другой — не душил ее, не зажимал рта, не затыкал его кляпом, когда она пробовала кричать. Да, она сама спряталась в старую кухню, испугавшись толпы, но могла уйти, когда хотела, и вообще делать, что вздумается.
— Откуда у вас красные полосы на запястьях?
— Я сжимала себе руки, когда народ кричал.
— Гм… И около губ тоже?!
— Да, наверно.
— Ну, дело известное, — сказал старший вахмистр, — еврей умрет, а своего не выдаст. Но мы расследуем…
Между тем к Иво Караджичу пришли русинские крестьяне получить доплату за труд. Появился и Андрий Двуйло. Иво Караджич поручил ему расплатиться с Фуксом, принести вещи и приготовить у Буркалов сани, а они, мол, сейчас же придут. Холодное жилье с распахнутыми дверями зияло пустотой. Ганелины родители ушли, и у Иво Караджича опять возникло впечатление мертвого дома. «Скорей прочь, прочь отсюда!» — думал он, пока перо вахмистра в тишине скрипело, царапая бумагу.
Когда допрос кончился, он спросил:
— Нам можно ехать? Мы свободны, господин старший вахмистр?
Тот долго раздумывал, прищурившись и явно давая понять, что только от него зависит, будут ли влюбленные избавлены от многих мучительных переживаний. Потом официальным тоном, скрывая свои расчеты, объявил:
— Что ж, у меня есть ваши адреса. Можете ехать. — И прибавил, повернувшись к жандармам: — Фоусек и Крауси, проводите их! Идите впереди, пока не отъедут подальше.
— Благодарю вас.
Они вышли. Был полдень; у дороги, за забором москалевой хаты, терпеливо стояла еще толпа русинов в бараньих кожухах. Еврейский парнишка, дежуривший в одиночестве на пустой улице, куда-то побежал.
— Ты не велел подать сани сюда? — тихо спросила Ганеле.
— Нет, Ганичка, — немного виновато ответил он.
Она подняла голову и пристально посмотрела на него широко раскрытыми, прекрасными, печальными глазами.
— Было бы скорей. Но так лучше. Вытерпим до конца наказанье за измену. Не поддерживай меня, милый, я хочу пройти кровавой улицей сама.
— О чем ты, Ганичка? — спросил он с замиранием сердца.
Она еще раз бросила взгляд на дом своей юности.
— Пойдем, мой Иво!
Возле дома Шафаров стоят окруженные садами три русинские хаты: одна справа, две слева. Дальше налево — хата Эйзиговича. Как только Иво и Ганеле вышли на улицу, они тотчас услышали доносившийся оттуда гул, странный ритм которого был для Иво Караджича совершенно непонятен. Чем ближе они подходили, тем отчетливей этот неясный гул превращался в нигун — тоскливый, надрывный, причитающий речитатив еврейских молитв. И вот он звучит уже как жалоба, во весь голос.
Перед домом Эйзиговичей собралась вся семья, с женщинами и детьми. Пришли даже те, кто жил на другом конце деревни; мужчины, раскачиваясь и ритмично завывая, пели похоронную молитву, которую Израиль трижды произносит в ту минуту, когда родные, окропив покойника уксусом и яичным белком, выносят его из дома. Человека уже нет, есть только нечистый человеческий труп, вокруг которого в эту минуту носятся демоны.
«Говорит равви Акиба{290}. Благословен будь тот, ради кого соблюдаешь ты чистоту, Израиль! Кто очищает тебя? Бог на небесах, изрекший: окроплю вас водой источников и пребудете чисты и свободны от всякой скверны. Обратитесь к господу, ибо, как вода источников смывает всякую нечистоту, так господь очищает Израиля».
И, раскачиваясь, безраздельно углубившись в себя, не обращая внимания на изгоняемую в это мгновенье из своей среды нечистую, они с воплем повторили вновь: «…говорит равви Акиба…»
И всюду на пути Иво и Ганеле перед всеми еврейскими хатами теснились семьи, и мужчины громко взывали:
— «…пребудете чисты и свободны от всякой скверны… так господь очищает Израиля».
Отверженная шла пустынной улицей, бок о бок со своим нечистым возлюбленным и двумя жандармами на десять шагов впереди, белая, как стелющаяся перед ней дорога, в отчаянии призывая на помощь кровь своих предков, привыкшую к унижению, обиде и мукам. Шагала под пение страшной дедовской похоронной молитвы, с лицом, устремленным вперед, глазами, горящими дивным огнем и обращенными в неизвестность.
Прошла мимо гостеприимного дома Лейба Абрамовича, где ее бывший единомышленник в кругу своих родных мощным голосом пел похоронную молитву. Мимо лавки Соломона Фукса, молившегося среди дочерей, которые не взяли бы и тысячи крон за то, чтобы пропустить это зрелище. Мимо Нахамкесов, где отец вывел дочек, чтобы на всю жизнь предостеречь их, показав проклятую. Мимо Давидовичей, и Лейбовичей, и Вольфов. Мимо Мордухая Иуды Файнермана, творившего обряд вместе с сыновьями, взрослыми внуками и множеством женщин. Мимо хаты Каца, откуда вышел хоронить ее горбатый нищий с прекрасной головой мессии, в то время как Шлойме, выкрикивая отдельные слова песнопения, старался заглушить свой безутешный, горький юношеский плач. Она шла от хаты к хате, и рыдающий речитатив хоров сливался в одно сплошное, страшное, угрюмое проклятие. «Окроплю вас водой источников, и пребудете чисты и свободны от всякой скверны».
Ах, кровь предков, оплеванная, травленная, пролитая из тысячи ран, не дай Ганеле упасть!
Шаг за шагом, машинально передвигая ноги, шла она по жестокой улице, между стен, воздвигнутых дедовской похоронной молитвой, ничего не видя, кроме стелющейся впереди белой дороги.
Вот Ганеле со своим милым уже возле тихих русинских хат, куда пение доносится лишь дальним отголоском.
Поровнялись с домиком Пинхеса Якубовича. Ламед вов тоже вышел с Браной и детьми под ясени на молитву. Но Пинхес Якубович при виде девушки, идущей на смерть, что страшней меча, огня и могилы, изо всех смертей смерть, смерть духовную, увидел иное, чем остальные полянцы.
Вот овечка божья, взявшая на себя грехи Израиля! Одна за всех!
Вот величайшая из жертв, закланная на алтаре господнем во славу примиренья. Велик, вечен, свят, непостижим господь бог толп! Да будет прославлено имя его!
Так покинула Ганеле отцовский дом и шатры бога своего, — первая с тех пор, как стоит Поляна.
Она почувствовала, как кто-то взял ее под руку и посадил на что-то мягкое и пушистое.
Дедовская похоронная песня отзвучала, и наступившая тишина была бесконечно отрадна и прекрасна.
— Благодарю вас, господа, — услышала она голос Иво.
Почувствовала легкий толчок, дуновенье ветра в лицо, услыхала звон бубенцов и топот копыт.
Поехали… Она сидела, закрыв глаза. Ах, поехали…
«В далекие края!» — сказала она себе, как говорят дети, играя. Посмотрела, тут ли Иво, и чуть коснулась его руки. И эта рука, до сих пор дарившая спокойствие, приблизилась, ошибочно предполагая, что от нее чего-то ждут. Но Ганеле отстранила ее.
И открыла глаза.
Лошади мчались вниз по склону узкой долины, вмещавшей только дорогу да замерзшую речку, где лишь посредине был виден прозрачный ток удивительно зеленой воды, а по обе стороны долины вздымались две кручи с покрытыми снегом лесами и прямо над головой плыла узкая полоска облаков.
Ганеле только скользнула взглядом по окрестности. Глаза ее устремились к облакам: к серому потоку туч, параллельному речке внизу, катящему свои волны с гор на равнину, как и река. Расширенные глаза Ганеле остановились на нем, и тот, кто сидел с ней рядом, хорошо понимая все, не пробовал ее отвлечь.
— Дедушка!.. — прошептала она.
Это было единственное имя, вынырнувшее из темных глубин ее существа.
Пока дома отец, навеки опозоренный, надрезал лацкан кармана и обрывал его, и рвал свой лапсердак, а мать, которая от срама и стыда перед людьми больше никогда в жизни не выйдет за ворота, разрывала платье на груди, и потом оба, босые, садились на землю, чтобы оплакать смерть младшей дочери и помолиться о покойной, — Ганеле не сводила взгляда с потока снежных туч, и прекрасные глаза ее впитывали в себя их печаль.
И когда над полянскими горами уже заходило багровое солнце и в полумраке молельни собралось десять человек, чтобы помолиться за умершую, — Ганеле, озаренная тем же самым солнцем, которое здесь еще стояло высоко и было лучезарно, выехала из горного ущелья на сияющую равнину, и взгляд ее, вместе с быстрой рекой туч, влился в огромное озеро, бурное и волнующееся только возле устья небесного потока, но чем дальше, тем более чистое, а на горизонте совсем уже ясное. И эту даль и ширь тоже впитали в себя глаза Ганеле.
А на другой день, когда раввин в городе зажигал в синагоге за упокой души ее черную свечу{291}, Ганеле мчалась в желтом автомобильчике, с большим отделением сзади, по мерзлой дороге, меж занесенных снежной порошей обочин, мимо покрытых виноградниками холмов, где среди голых жердей стояли домики, как игрушки; пролетала через села с большими крестами на колокольнях и еврейскими лавками, перед которыми играли ребятишки. Теперь она уже могла думать и вспоминать. И это придавало ее глазам упрямый, жесткий оттенок.
И эта печаль, отрешенность и капля жесткости останутся в ее глазах навсегда. В прекрасных глазах ее, которые, быть может, когда-нибудь унаследуют дети Ганы Караджичевой.
Перевод Н. Роговой.
ВОСПОМИНАНИЯ{292}
Перевод О. Малевича.
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ ЛЕНИНЕ{293}
Впервые я увидел Владимира Ильича 16 марта, вскоре после моего приезда в Страну Советов{294} в московском Большом театре. Там происходило траурное заседание, посвященное годовщине со дня смерти Якова Михайловича С в е р д л о в а, одного из вождей русской революции и основателей первого государства Советов рабочих депутатов.
Этого впечатления я не забуду никогда. Театр, один из крупнейших в Европе, — весь в золоте и пурпуре. Балконы и ложи выступают золотыми полукольцами на красном фоне обивки и шелковых занавесей. Расположенная против сцены просторная царская ложа с балдахином, занимающая в высоту три яруса, тоже сплошь золото и пурпур. Все заполнено рабочими. Они пришли в кожанках и полушубках, в фуражках, красноармейских шлемах и высоких белых папахах, в шерстяных платках, меховых девичьих шапочках и косынках, пришли как в собственный дом, просто и радостно, заняли все до единого места в партере и пурпурно-золотых ярусах, включая царскую ложу, расселись на стульях в глубине открытой сцены, задник которой представляет собой какой-то синевато-серый готический собор, украшенный колоннами. Между ними натянуто широкое кумачовое полотнище с надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А несколько ниже висит обрамленный хвоей портрет Свердлова.
Впереди, за покрытым красной материей длинным столом, занимающим всю сцену, — вожди революции, руководители Коммунистической партии, те, кто заложил фундамент истории новой эры.
Незадолго до открытия заседания на сцену из боковой кулисы выходит Ленин. Небольшой, широкоплечий, с темнорусой рыжеватой бородкой, лысиной и невысоким, по очень крутым лбом, устремленным вперед и словно готовым протаранить все, что только встанет на пути. Владимиру Ильичу через несколько дней исполнится пятьдесят. Его встречают аплодисментами. Не слишком шумными, скорее дружескими, чем восторженными. Ленин садится на один из свободных стульев за столом президиума — третий или четвертый от края: место совершенно неприметное. Почему? Да потому, что он здесь среди товарищей, с которыми уже двадцать пять лет работает вместе, которых хорошо знает и которые так же хорошо знают его.
Председатель открывает собрание краткой речью. Ленин смотрит на часы, проводит ладонью по лысине, затем трогает рукой полные губы, оборачивается к кому-то сзади и что-то говорит. Я гляжу на этого могущественнейшего в мире человека. Все его портреты неудачны. Они придают прищуренным глазам Ленина демоническое или саркастическое выражение, которое отсутствует в его лице, и не говорят, что у него светлые волосы. От уголков глаз Ильича веером расходятся морщинки.
Товарищ Ленин! Не больше, но и не меньше. Человек, которого эпоха вывела из чердачных каморок и музейных библиотек эмиграции и поставила в центр событий мировой истории. Он, которого из недр своих подняла на плечи окровавленная масса людей, чтобы в его ясных, твердых, как удар колокола, словах выразить свой нестройный крик, чтобы из мутного хаоса разрозненных помыслов он смог выковать идею, чтобы он руководил ими, сплотил их и вместе с ними завоевал мир.
И вот он встает и выходит на авансцену. Одет Ленин, как рабочий с какого-нибудь чистого производства: коричневый пиджак, порыжевшие, собравшиеся в складки брюки. Он берет слово и весь как-то становится тверже, как бы напружинивается. Голос у него сильный и звучный, но несколько приглушенный. Так бывает у людей, которые слишком часто напрягают голосовые связки, выступая на митингах. Но возможно также, что это последствия ранения в легкие, которое нанесла ему в позапрошлом году на заводе Михельсона эсерка Каплан.
Ленин говорит о Свердлове. Его фразы спокойны, выразительны, все одинаково четки и ясны, ибо все, что он произносит, важно: не нужно ничего особенно подчеркивать, и нет ничего лишнего. Таковы же и его жесты: категорические, не допускающие сомнений. Сжатые кулаки в такт речи поднимаются и опускаются: несколько плавных, широких движений указательным пальцем; решительный взмах руки, — страсть, выкристаллизовавшаяся в закон. Ее выгранила тюрьма, она отвердела в изгнании, была отточена под виселицей брата и под виселицами друзей, закалилась в кровавых кострах контрреволюции.
Но только ли о Свердлове говорит Ленин?
Да, имя этого замечательного человека оратор называет несколько раз; вот и теперь Владимир Ильич вспоминает о том, каким блестящим организатором был Яков Михайлович. Но, произнеся эту фразу, Ленин переходит к вопросу о значении организации и дисциплины. Только они могут привести русский пролетариат к победе. Без организации и дисциплины, без их постоянного укрепления невозможно завершить строительство советского государства и обеспечить победу рабочего класса во всем мире.
Ведь кем был Свердлов, соратник и друг Л е н и н а? Детищем эпохи, одним из многих, точно таким же, как и сам Л е н и н. Солдат революции, он был рожден ею и ей принадлежал.
Оратор рассказывает, что с людьми, которых Яков Михайлович умел так хорошо подбирать и расставлять по местам, он знакомился не в салонах и не на банкетах, как это принято на Западе, а в тюрьмах и на этапах, в Сибири и в эмиграции. А подобное упоминание необходимо лишь для того, чтобы подчеркнуть различие между Россией с ее старыми революционными традициями и остальной Европой, поскольку вообще необходимо сказать о Западе, о политике Антанты, исполненной ненависти к пролетарской революции, об агентах буржуазии в среде европейских лжесоциалистов, о попытке переворота в Германии, о сообщениях, полученных в этой связи сегодня вечером советским правительством, о надеждах и реальных возможностях немецкой корниловщины. Ленин живет только настоящим и будущим. Революция для него все: только к ней прикованы его мысли, только о ней он говорит, только ее духом он живет.
Кто он — наш Владимир Ильич Ленин? Зодчий! Теперь это для меня ясно. Достаточно взглянуть на его крутой, устремленный вперед выпуклый лоб, на жесты, которыми он приказывает: так, так и так! Величайший в мировой истории зодчий. Я безуспешно ищу историческую аналогию, нахожу образ, лишь отдаленно похожий на него, — Павел из Тарса, святой Павел{295}, который с той же обращенной в незыблемый закон страстью, с той же строгой последовательностью гениального строителя созидал царство, где властителем должен был стать не он, а мертвый из Назарета{296}. Иисус — вот правда и жизнь. Сегодня, две тысячи лет спустя, правда и жизнь — это Карл Маркс. Ленин не знал его лично, как не знал своего учителя и Павел. Может быть, именно поэтому, или также и поэтому, не отвлекаемые воспоминаниями и не выводимые из равновесия чувством к человеку, они могли полностью отдаться его идее. Карл Маркс для Ленина — архитектор. Карл Маркс! Его портрет висит в жилище каждого русского коммуниста, его бюст можно найти в любом общественном здании Страны Советов. С его лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — вы здесь встретитесь всюду, куда только ни обратите взгляд: на плакатах, в газетах, над заголовком всякого отпечатанного в типографии листка бумаги, на эмблемах и лентах, на рубле. Вот тот человек, в чьей увенчанной львиной гривой голове родился титанический план перестройки мира. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»{297}, — сказал он однажды. И у великого архитектора много последователей и почитателей.
А когда-то это была кучка людей с взлохмаченными волосами, несколько нервными жестами и глазами, устремленными в будущее, людей, прошедших через тюрьмы России, Сибирь и эмиграцию, проведших годы в мансардах пролетарских кварталов европейских метрополий, людей из другого мира, которых буржуазия считала преступниками, умалишенными, в лучшем случае — заслуживающими сожаления маньяками. Стоило одному из них где-либо обосноваться, как он тотчас вынимал план задуманного Марксом города, склонялся над его основными штрихами и погружался в мечты и размышления. А если им удавалось сойтись где-нибудь группой, они говорили, рассуждали, спорили, становились друзьями или смертельными врагами во имя этого плана и, что бы ни происходило на свете, следили за всем с настороженным вниманием, стремясь обнаружить, способствует или мешает это их будущему творению. Проходили годы, менялась политическая ситуация, таких людей бывало больше и бывало меньше, а иногда их вовсе насчитывались единицы, но Владимир Ильич Ульянов с ранней молодости был среди них всегда. Ульянов — пролетарий и вечный изгнанник. Его революционный псевдоним — Ленин.
«Что вы делаете? — сказал им как-то венский социал-демократ Виктор Адлер{298}, глядя на них сквозь очки своими добрыми глазами. — Ведь так вы из тюрьмы никогда не выберетесь и пролетариату пользы не принесете!» Старый Виктор Адлер был неправ. В январе 1912 года в Праге состоялся съезд левых русских социал-демократов{299}. Заседания затягивались до утра, а из помещения в пражском партийном доме, предоставленного съезду, по ночам доносился гул жаркого спора, выкрики. Чешские социал-демократы, снисходительно улыбаясь, пожимали плечами: ведь сами-то они в это время вели с правительством Штюргка{300} переговоры о новом законодательстве для государственных служащих! Но Ленин не унывал. «Не хныкать и не терять голову!» — говорил он всегда. Владимир Ильич чувствовал себя уверенно и ни разу не изведал колебаний. Он знал, к чему стремится и что принесет завтрашний день. Теперь, когда многое свершилось, его способность исторического предвидения поражает. Имеются свидетельства того, как он на годы вперед предсказывал ход событий, так что большевики шутили: «Голосуй с Лениным, никогда не ошибешься!»
Еще в 1901 году на страницах «Искры» Ленин развернул свою позитивную программу. Он пишет статью, явившуюся первым наброском знаменитой книги «Что делать?». Эта книга стала «Капиталом» будущего большевизма. В ней Владимир Ильич четко, без каких бы то ни было оговорок сформулировал требование вооруженного пролетарского восстания. Он разрабатывает и тактику революции. В своей основе она здесь та же, что и в знаменитых тезисах 1917 года.
Наступает 1905 год. Поп Гапон собирает вокруг себя огромные толпы простого люда, и со святыми образами они идут к царскому дворцу, чтобы просить царя об избавлении от нищеты и голода. Самодержец не принял депутацию рабочих и ответил так, как государи отвечают на все народные движения: он выслал против безоружных людей войска и казаков. Раздались ружейные залпы, засверкали казачьи клинки, полилась кровь. Мостовая перед дворцом покрылась трупами. Ленин, не медля ни минуты, спешит из-за границы на родину и через Швецию и Финляндию приезжает в Петроград. Он встает во главе революционного движения, организует рабочие боевые группы, пропагандирует большевизм и в нелегальных газетах «Новая жизнь»{301} и «Свобода»{302} призывает пролетариат к вооруженному восстанию. Владимир Ильич агитирует в Москве, В Таммерсфорсе (Финляндия) он руководит конференцией большевистской партии. Но революционный подъем, несмотря на все старания коммунистов, остановился на полпути. Все дальнейшие их усилия оказались тщетными. Ленин вынужден снова уехать за границу.
В феврале 1917 года был свергнут царь. Уже в апреле Ленин в России. Момент, о котором он всю жизнь мечтал, стремительно приближался. Владимир Ильич целиком отдается лихорадочной работе. Падение романовской колокольни, по его мнению, только первый небольшой шаг вперед: теперь очередь за рабочими, которые своими молотами должны разрушить до основания всю насквозь прогнившую постройку. События развертываются со скоростью несущегося на всех парах локомотива (Ленин очень любил сравнивать с ним революцию). В июле происходят кровавые столкновения в Петрограде. Центральный Комитет большевистской партии обсуждает вопрос о целесообразности захвата власти. «Нет! Еще не время, — говорит Ленин. — Армия продолжает верить Керенскому и разобьет питерских рабочих». Армия действительно подавляет волнения, и Ленин вынужден исчезнуть из Петрограда. Пока полиция лихорадочно ищет его по городу, Владимир Ильич скрывается в шалаше на одной из пригородных станций и дописывает книгу «Государство и революция». Однажды он здесь чуть не сгорел. По соседству возник пожар; к месту происшествия сбежались люди, а Ленин не решался, выбраться из своего тайника. Позже он нелегально живет в семье рабочего на окраине Петрограда. Затем уезжает в Финляндию.
Это было время наибольшего разгула буржуазных страстей. Вожди рабочих подвергались арестам, пролетарские организации разгонялись, в Москве устраивались контрреволюционно-шовинистические демонстрации и погромы. Однако по сравнению с июльскими днями обстановка резко изменилась. Рабочий класс горит нетерпением. Он хочет, чтобы его вели на баррикады. Но начинается корниловщина. Бывшие царские генералы наступают на Петроград. Крупная буржуазия призывает немцев ввести свои войска в страну и спасти ее от революционной опасности; мелкая буржуазия, которая одинаково боится и царя и немцев, находится в полной растерянности. В корниловском заговоре замешан и Керенский. Корниловщина оказалась высшей точкой подъема антирабочей агитации. Долгожданный момент настал.
«Сейчас или никогда! Немедленно берите власть в свои руки, иначе будет поздно!» — обращается Ленин из Финляндии к рабочим Петрограда. А Центральному Комитету большевистской партии он пишет: «Всю работу сосредоточьте на заводах! Куйте железо, пока горячо! Окружите Александринку{303}, разгоните весь этот контрреволюционный сброд и захватите власть!»
Тем не менее Центральный Комитет колеблется и боится принять решение. Ему кажется, что меньшевики и эсеры еще слишком сильны. А медлить нельзя! Дорога каждая минута! Ленин садится в поезд и едет в Петроград. Его можно видеть всюду. Он произносит речи на массовых митингах, до изнеможения работает в ЦК партии, в редакции, в революционном штабе. Каждый день он ночует у разных товарищей, порой не спит вообще, ходит переодетый и носит парик. Керенский издает приказ за приказом о его немедленном аресте. Но рабочий класс «штурмует небо» и захватывает власть в свои руки. Возможно, что через месяц и для пролетариата и для Ленина сделать это было бы уже поздно.
И вот Владимир Ильич выступает со сцены московского Большого театра. Он напоминает массам о необходимости организации труда, и его спокойные выразительные слова, его категорические жесты говорят: так, так и так! Речь его убедительна; ничто ей так не чуждо, как лесть; это язык элементарнейших истин и опыта. Он не терпит фразерства. Революции не оставляют непроверенной ни одной «фразы», и в этом их одна из самых прекрасных особенностей… И массы слушают Ленина. Кажется, что перед тобой огромный бронзовый барельеф застывших в неподвижности голов и бюстов. Тысячи взглядов, устремленных из партера и лож, скрещиваются в одной точке, и эта точка — рот Ильича. На губах у всех застыла одинаковая улыбка, тихая, едва заметная, нежная улыбка великой любви. Ведь Ленин — плоть от плоти и кровь от крови этих масс, и уста его ни разу не произнесли слова, которое одновременно не было бы их словом.
«Ильич» — называют они его просто. «За выздоровление доброго человека Владимира Ильича!» — с этими словами после покушения Каплан бедная набожная женщина поставила за него свечу в православной церкви. «Отец наш и освободитель!» — приветствовала его делегация возвращавшихся с фронта крестьян. Но Ленин рассмеялся своим искренним, идущим от сердца и таким человечным смехом: «Я вас освободил? Да ведь вы же только что с фронта!»
«Никто из наших врагов не знает, чего он хочет. Мы — знаем», — говорит он.
И это так. Владимир Ильич знает, чего он хочет, всегда знал, и в этом — огромная сила его и коммунизма. Значительная часть работы, требующей нечеловеческого напряжения, уже сделана. Первые два этапа: привлечение на свою сторону большинства и завоевание политической власти — уже пройдены и отошли в область истории; последний этап на три четверти завершен. Недалеко то время, когда в золотой полдень засверкает на земле новый город, законченный и прочный. И то, что будет построено, никто уже не сможет разрушить. Никто на свете!
Владимир Ильич кончил свою речь и уходит со сцены. Взоры всех присутствующих провожают его до кулис.
И оцепеневшая во время его выступления толпа снова охвачена прибоем повседневной жизни. Зрительный зал волнуется и приходит в движение.
Выступают другие ораторы, они тоже говорят о покойном Якове Михайловиче Свердлове. Потом оркестр заполняют музыканты, очевидно те же, которые играли здесь три года назад штабным офицерам, статским генералам и богатым купцам. Начинается концерт. Исполняют «Девятую симфонию», произведения Римского-Корсакова и Чайковского.
Концерт оканчивается пением «Интернационала». Все встают, шапки и папахи, которые до сих пор оставались на головах, сняты, и в московском Большом театре, в пурпурно-золотом театре с пятью ярусами и просторной царской ложей, тысячеголовая толпа рабочих, крестьян и солдат единым могучим хором подхватывает строфы «Интернационала».
Это есть наш последний И решительный бой…Западноевропейский пролетариат пока еще поет: «Это будет последний и решительный бой». Всего три года назад и здесь так пели.
За время своего девятимесячного пребывания в Стране Советов я несколько раз видел и слышал товарища Ленина.
Второй конгресс III Интернационала, на котором мне посчастливилось присутствовать, открылся в Москве. Затем он продолжал свою работу в Петрограде. От этого конгресса у меня сохранилось одно дорогое воспоминание: о Ленине, великом историческом деятеле, навсегда оставшемся простым и человечным.
Когда члены Исполнительного комитета партии заняли свои места в президиуме, на сцену вышел и товарищ Ленин. Он обвел взглядом огромный зал собрания, потом почему-то вдруг спустился в партер и направился вверх по проходу амфитеатра. Все оборачивались и не сводили с него глаз. Где-то в задних рядах сидел старый друг Ленина, ослепший питерский рабочий и революционер Шелгунов{304}. Это один из самых старых друзей Владимира Ильича, оставшихся еще в живых. Он работал вместе с Лениным в подпольных кружках, принимал участие в большинстве проводившихся тогда политических кампаний, распространял листовки, был в 1895 году в числе первых членов «Союза борьбы», а когда в 1900 году под редакцией Ленина начала выходить «Искра», Шелгунов, работавший в ту пору на электростанции близ Баку, стал ревностным распространителем газеты. Он принял участие в Октябрьской революции, но дождался ее уже слепым.
Когда Ленин подходил к его креслу, ослепшего большевика предупредили об этом. Шелгунов встал, сделал два шага навстречу Владимиру Ильичу, и два борца крепко расцеловались. Вот и все. Мне кажется, что они не сказали друг другу ни слова. И все же их встреча была прекрасна своей яркой человечностью. Потом Ленин вернулся на сцену, и вскоре заседание началось.
О Владимире Ильиче у меня осталось еще одно внешне незначительное, но приятное личное воспоминание.
Я написал пространную статью о положении в Чехословакии для большого сборника III Интернационала, издававшегося на нескольких языках. По-моему, это было первое обстоятельное сообщение с моей родины. Статья, написанная по поручению Чешского совета{305}, помещавшегося на Кудринской улице, очевидно, была направлена в ЦК партии. Я об этом, впрочем, ничего не знал. Позднее до меня дошло, что ее читал Ленин. Я был очень удивлен, найдя свою статью целиком напечатанной в сборнике Интернационала. Так Ленин узнал о моем существовании.
В конце весны из Чехословакии прибыла делегация чешских коммунистов, возглавлявшаяся товарищем Шмералем. Вскоре он был приглашен к Ленину. В книге Шмераля «Правда о Советской России»{306} под датой: пятница, 21 мая — имеется только следующая запись: «Сегодня вечером был у Ленина на его квартире в Кремле». И ни слова больше, хотя остальные главы этой книги весьма обстоятельны. О чем Ленин разговаривал с товарищем Шмералем, так и осталось неизвестным. Но об одной подробности Шмералю все-таки пришлось рассказать мне.
«Как нравится вашему товарищу в Советской России? — спросил Ленин. — Жалуется он на что-нибудь?» — «Ну, он, разумеется, восхищен Страной Советов, — отвечал Шмераль.
Но потом, вспомнив о чем-то, добавил: «Только никак не может достать спичек».
Ленин улыбнулся шутке, опустил руку в карман и вынул спичечный коробок: «Вот ему от меня». Ленинский коробок, конечно, уже пустой, я хранил некоторое время в ящике своего письменного стола. В ту пору в Москве действительно была большая нехватка спичек, и нам с пятого этажа II Дома Советов приходилось спускаться вниз, где на кухне всегда бурлила горячая вода, и прикуривать свои папиросы-самокрутки от пламени плиты.
Коробок. Мертвый деревянный предмет. Но все же это подарок Ленина. И он был мне очень дорог. Позднее, перед самым отъездом из Москвы, пришлось его уничтожить. Теперь, по правде говоря, не время для сентиментов.
ВОСПОМИНАНИЕ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ПЕРВОМАЕ 1890 ГОДА{307}
Эта картина никогда не исчезнет из моей памяти. Она будет стоять перед моими глазами до тех пор, пока я останусь жив. Полоса ровной белой дороги, по обеим сторонам ее луга и поля (домов здесь тогда еще не было), а совсем близко на горизонте — поросшая лесом вершина Варты. Между высохшей канавой (теперь ее уже нет) и дорогой, но не слишком близко к последней, — чтобы можно было во-время удрать, — собралась группка — пять восьмилетних мальчуганов: они тайком улизнули из дому и теперь, немного волнуясь, ожидают, когда же социалисты начнут «совращать христианские души». Один из них, служка костела, слышал об этом от пана священника во время проповеди, и дети полны любопытства, как такая штука, собственно, делается? За спиной мальчиков — опустевший городок. Он кажется совершенно вымершим и в тоске и страхе ждет того, что должно произойти. Немногочисленный жандармский пост приведен в боевую готовность.
На безлюдной дороге у «верхней» фабрики появляется колонна рабочих. Она проходит километра два до Рек — к «нижней» фабрике, чтобы там соединиться с ткачами, ткачихами и прядильщиками. Кто-то берет сердца мальчиков в ладони и тихонько сжимает. Впереди колонны на древке развевается красное знамя. Цвет его порой переходит в черный. Это идут рабы немецкого магната Шмидта, безудержного германизатора и жестокого притеснителя, которому принадлежит почти все промышленное Подкрконошье от Либерца и Железного Брода до самых Семиль. Это колонна узников двенадцатичасового рабочего дня, малокровных, исхудалых, видящих солнце только несколько воскресных часов, если оно в ту пору светит. Руки у них совершенно синие от сухих красок ситцепечатки. Их знамя кажется детским глазам до того страшным и черным, что я уже, вероятно, никогда в жизни не встречу ничего подобного.
Это было начало…
Только начало, которое мы видели восьмилетними мальчиками. Ничего более. История классовой борьбы начинается уже в те далекие времена, когда люди оставили первобытный образ жизни. В эпоху капитализма эта борьба всего-навсего приобрела другие формы. Однако человеку нужно долго жить, чтобы не только понять, но и явственно почувствовать это. Можем ли мы сравнивать прошлое с настоящим? Обязаны. Захлестнутая людскими волнами Вацлавская площадь. Руководители партии на трибунах. Лес флагов и знамен. Вся площадь, ликующая, поющая и танцующая, радостно оживает от белых блузок, красных галстуков и легких разноцветных флажков. А вслед за ними движутся организации, организации, организации, местные и заводские, тысячи лозунгов, портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Готвальда, Димитрова, Мао-Цзэ-дуна, Ракоши, и снова Готвальд, Готвальд, Готвальд и другие деятели партии. Синие комбинезоны рабочих Шкодовки, Татры, Кольбенки, Збройовки, «Рудого Летова»… Коллективы заводов с гордостью демонстрируют свою продукцию — достижения двухлетки. Проходят все новые и новые массы трудящихся. И вот — явление в Чехословацкой республике совсем необычное — впервые сплоченные воедино ряды солдат и членов Корпуса Национальной безопасности. А дальше — тоже нечто абсолютно новое и важное, возникшее в республике только при народно-демократическом строе, — дисциплинированное море заводской милиции: лес винтовок, твердый, решительный шаг по мостовой завоеванного города.
Нет, это не демонстрация людей, готовящихся к борьбе, это ликование и торжество победителей. Празднуют ли пролетарии, народы свою победу во всем мире? Еще нет. Только от Китая до Чехословакии! Только — говорим мы, совершенно не претендуя на скромность, ибо тем, кто идет за нами, будет принадлежать уже весь мир. Когда наше поколение бросает взгляд на пройденный путь, оно не сомневается в исходе последней и решительной битвы. Впрочем, оно не сомневалось в этом никогда.
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О 1920 ГОДЕ{308}
Это был самый беспокойный год в моей жизни. Но теперь, когда мои воспоминания поблекли, события его кажутся такими далекими, что я не знаю, сумею ли воспроизвести хотя бы некоторые из них. К тому же сразу после возвращения из Советской России{309} у меня было столько работы и волнений, что не появлялось даже желания вести какие бы то ни было записи.
К концу 1919 года в Чехию из Страны Советов начали поодиночке пробираться первые чешские коммунисты. Я тоже объявил себя сторонником коммунизма. Но того, что рассказывали и знали эти люди, было для меня слишком мало. Мне хотелось собственными глазами увидеть родину победившего пролетариата. Однако дорога в Советский Союз оставалась наглухо закрытой. И вот в конце девятнадцатого года мы — три чеха — решили: будь что будет, — отправимся туда на свой страх и риск. Поездку мы представляли себе весьма наивно, можно сказать — по-детски наивно. У нас не было даже денег на дорогу: едва ли у всех троих набралось хотя бы несколько тысяч крон, да еще я получил от какого-то родственника четыре золотые двадцатикроновые монеты и всерьез намеревался творить с ними чудеса. В первых числах января 1920 года мы тронулись в путь. В брюках у нас были зашиты написанные на кусочках шелка удостоверения, адресованные Российской Коммунистической партии (большевиков). Их выдал нам и помог спрятать Ярослав Гандлирж{310}, выполнявший тогда обязанности секретаря секции III Интернационала, которая получила полномочия для работы в Чехословакии еще до образования в чешской социал-демократической партии революционного, левого крыла{311}. Он же принимал меня в партию. Где-то близ Румбурка{312} незнакомый товарищ перевел нас с Салатом-Петрликом{313} через границу. Третий спутник должен был присоединиться в Берлине. Туда мы и направились.
Уже в Берлине возникли первые затруднения. У меня оказался только старый паспорт, у Салат-Петрлика вообще не было документов, а у нашего товарища — лишь просроченное удостоверение какого-то ведомства. Между тем, легкомысленно предполагая, что здесь никто не понимает по-чешски, мы запаслись всего двумя конспиративными адресами. Впрочем, Салат-Петрлику за небольшую взятку удалось раздобыть литовский паспорт, и утром мы отправились по одному из адресов… Фешенебельный квартал с виллами и особняками. Нас впустили в дом. Подходим к дверям. На табличке — титул какого-то высшего государственного чиновника. Здесь нужно назвать две фамилии. Отворяет нам элегантная дама. Держа дверь полуоткрытой, она сухо отвечает, что такие в квартире никогда не проживали. Тогда мы выражаем желание поговорить с главой семейства. «Господин советник умер в прошлом году», — говорит она и захлопывает дверь. Снова нажимаем на звонок. Никакого впечатления. Но адрес наверняка правильный, и мы упрямо ждем. Наконец, хозяйка открывает. «Есть ли у вас дети?» — спрашиваем мы. «Нет», — резко отвечает она и снова захлопывает дверь. После повторных звонков появляется молодой мужчина и категорически заявляет: «Тут либо ошибка, либо неслыханное легкомыслие». Но этот хоть разговаривает с нами.
Да, путешествие начиналось скверно.
Через весь Берлин мы поехали на поиски второго адреса. Унылый пролетарский жилой дом. Пролетарская кухня. Пожилая женщина-пролетарка. «Здесь проживает такой-то?» — «Я такого не знаю, а муж на работе». Мы разговорились, рассказали, откуда приехали, чего хотим. Женщина нам поверила и долго расспрашивала о положении рабочих в Чехии. У нас сложилось впечатление, что она умышленно затягивает разговор, словно кого-то ожидая. Вдруг открылись двери соседней комнаты, и на пороге появился тот, кого мы искали, — наш третий попутчик. Он собрал чемодан, и мы, попрощавшись с хозяйкой, ушли. Следующим было посещение литовского консула. Этот весьма приветливый господин явно не научился еще выполнять свои служебные обязанности — он не заметил, что паспорт Салата фальшивый, и после непродолжительного разговора дал нам разрешение на въезд в Литву. Не прошло и дня, как мы ехали к литовской границе. На немецкой пограничной станции у нас осмотрели багаж, заглянули в наши чехословацкие документы, ничего в них, разумеется, не поняли и, наконец, объявили, что мы имеем право на въезд только в Германию, а посему должны вернуться в Прагу. Посоветовать нам они ничего не могли. Пришлось обегать несколько канцелярий, прежде чем выяснилось, каким образом можно попытаться получить разрешение хотя бы на выезд. Нужно было ехать назад в Инстербург, где находилось тогда правительство Восточной Пруссии. Разыскав резиденцию правительства, часа три мы просидели в просторной пустой приемной. Сюда доносилось каждое слово из соседней комнаты, где обсуждалось какое-то непонятное для нас дело. Когда заседание кончилось, вышел чиновник и объявил, что господин государственный советник (титул я, разумеется, привожу условно, так как точно его не помню) уже уехал, и нам придется пойти к нему завтра на дом. Вернувшись в гостиницу, мы стали обсуждать, что же делать дальше. Исчезнуть из Инстербурга, вернуться на границу, перейти замерзший Неман и… бежать из Германии? Пока еще — нет! Раньше попытаем счастья у высокопоставленного лица. На следующий день мы отправились к нему на квартиру. Он очень любезно принял нас, и мы мило побеседовали о Праге. Господин советник говорил по-чешски, но совсем немножко. В Праге он учился, знал каждый уголок, сохранил о ней добрую память и в конце концов, даже не проверив наших документов и ни о чем не спросив, подписал злополучную Ausreisebewilligung, то есть визу на выезд из Германии. Итак, германские препятствия остались позади.
Мы едем в Литву, в Каунас. На границе в наше купе посадили какого-то господина. Он хорошо говорил по-немецки и расспрашивал нас обо всем, что только можно, с явным умыслом выпытать, какую цель преследует наша поездка. Но мы были подготовлены к этому и знали, как отвечать. Литва вела войну с реакционной тогда Польшей{314}, кажется, за Вильно, а у чехов тоже были свои споры с поляками из-за Тешинской области{315}. Вот почему нам хотелось создать впечатление, что никаких официальных полномочий мы не имеем и едем лишь с целью поверхностной информации о положении в Литве. Ночь пришлось провести в переполненном и полуразрушенном Каунасе. Это была одна из самых отвратительных ночевок за всю мою жизнь. Зато наша ложь накануне в поезде имела совершенно неожиданный результат. Утром явился чиновник и сообщил, что нам приготовлено более приличное помещение. Чрезвычайно удивленные, мы переселились на новое место. А на следующий день в Каунасе состоялся парад литовской армии. Мы, конечно, даже не предполагали, что он был устроен специально для нас, и сознательно на него не пошли, опасаясь подозрений в шпионаже. Поняли мы это, лишь увидев первую страницу местного официоза «Летува», где нашему приезду была посвящена обширная передовая и, кроме того, еще специальная статья. В ней обиняками намекалось на возможность заключения чехословацко-литовского союза. Вечером в польском кафе братья поляки пронзали нас полными ненависти взглядами. Позднее мы были приглашены к министру иностранных дел, который принял нас весьма любезно и с радостью готов был показать все, что только мы пожелаем осмотреть. Мы вели беседу очень осторожно и снова настойчиво давали понять, что не имеем никаких официальных полномочий, что наши намерения ограничиваются самой предварительной информацией. Поскольку министр тоже был дипломатом, он и словом не обмолвился о поляках, хотя наверняка должен был прочесть обе статьи в «Летуве». Затем, в сопровождении двух гидов, предоставленных в наше распоряжение министром, мы осмотрели город и совершили поездку в литовскую деревню. Несомненно, в союзную Латвию о нас тотчас же была отправлена депеша.
Дальнейшее путешествие по прибалтийским государствам оказалось уже довольно легким. Снова шпики, снова навязчивые расспросы и снова доброжелательный прием как в Риге, так и в Таллине. В Риге мы были приглашены на заседание парламента. Нас зазывали в семьи, где происходили интересные споры, в министерстве нас осаждали местные коммерсанты, выспрашивая, чем бы можно было торговать с Чехословакией, к нам липли бежавшие из России белогвардейцы и т. д. и т. п.
А потом Таллин. Там в нашу честь тоже устроили военный парад, на котором мы опять-таки из осторожности не присутствовали. Между тем нам удивительно повезло. Для ведения переговоров о мире с Эстонией (Эстония все еще находилась в состоянии войны с Советской Россией) в Таллин прибыл товарищ Гиллерсон, позже советский посланник в Праге. После долгих поисков жилья мы поселились в отеле. А на другой день случилось то же, что и в Каунасе. Внизу, немного испугав нас, зазвенел колокольчик саней, дверь распахнулась, и вошел полицейский офицер. Мы совсем было перепугались, но офицер, встав навытяжку, доложил, что господам приезжим приготовлена более подходящая квартира. Но для нас это было несчастьем. Комната оказалась большой и комфортабельной, с великолепной обстановкой и роскошными деревянными панелями. У нас же кончались деньги, и в моем кармане сиротливо позвякивали четыре никому не нужные двадцатикроновые монеты: дорогой мы придерживались принципа — ничего не принимать даром и за каждое приглашение старались отблагодарить хотя бы коробкой конфет. А такая комната должна стоить бешеных денег. «Не будем ничего есть», — предложил один из мае. Ребячество! Долго ли это можно выдержать?! На следующий день поздно вечером мы тайно отправились к товарищу Гиллерсону. Он хохотал, видя, как мы достаем из брючных швов свои шелковые документы, а потом долго обо всем расспрашивал. Нам он поверил, хотя фамилии наши слышал впервые. Выяснилось, что сначала необходимо запросить Москву, впустят ли нас в СССР. «Сколько времени придется ждать разрешения?» — «Не знаю, может быть, неделю, может быть — десять дней». Не оставалось ничего другого, как рассказать ему о денежных затруднениях. «Не нервничайте! Когда придет разрешение, получите деньги, а в Советском Союзе вас уж как-нибудь прокормят. Ведь вы будете работать». Но нас ожидала новая неприятность. Полиция дозналась, что мы тайно посещали советского посланника. Какой-то местный сановник пригласил нас к себе. Выражение его лица было холодным и явно не гармонировало с тем радушием, которое мы встречали в Таллине до сих пор. Он долго расспрашивал нас и очень холодно распрощался. В изменившейся обстановке, одинокие среди ледяного молчания таллинского общества, мы с некоторым опасением ожидали, что ответит Москва. Однажды поздним вечером в нашей комнате появился незнакомый улыбающийся человек. Товарищ Гиллерсон передавал: «Разрешение получено». Привет тебе, вестник радости! Но осложнения все же были. Впрочем, знал о них только сам советский посланник, а мы оставались на этот счет в полном неведении. Оказывается, эстонское правительство, указав срок отъезда мирной делегации, вместе с тем заявило товарищу Гиллерсону: «Чехи, пока мы не выясним, кто они, с нашей делегацией не поедут». Гиллерсон ответил коротко: «Если не поедут чехи, не поедет и мирная делегация». Тогда он уже мог так разговаривать: война Советской России с Эстонией была для последней проиграна…
И вот в ясные зимние дни мы вместе с эстонской делегацией, в терпимых отношениях с нею, едем по тающему льду рек и речек к цели наших заветных желаний.
С момента отъезда из Праги прошло уже шесть недель.
О своем пребывании в Москве я говорить не буду. Мне уже приходилось писать об этом, да и большая часть из того, что я мог бы рассказать, относится не к личным воспоминаниям, а к истории пролетарского государства. Самым значительным событием, моего пребывания в Москве и Петрограде было то, что я в непосредственной близости и несколько раз видел великого вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина и слышал ряд его выступлений: выступление в московском Большом театре, посвященное памяти товарища Свердлова, речь на огромном массовом митинге в Петрограде{316} перед бывшей царской резиденцией и, разумеется, доклад на II конгрессе III Интернационала. Фигуру Ленина я постоянно отчетливо вижу перед глазами, и его образ, пока я жив, навсегда останется в моей памяти. Мне посчастливилось также лично познакомиться со многими вождями победоносной пролетарской революции и с приехавшими со всех концов мира делегатами конгресса. В Москве работы у нас было по горло. Мы прочли довольно много доступной марксистской литературы, поддерживали тесную связь с Чешским советом на Кудринской улице{317} (председателем его был товарищ Салат-Петрлик), выступали перед чешскими солдатами, возвращавшимися в Чехословакию, и разъясняли, что нужно делать для подготовки революции (да, тогда нам казалось, что до нее рукой подать!), писали статьи о Чехословакии, побывали в Донецком угольном бассейне, на торфоразработках, осматривали крестьянские и государственные хозяйства, выступали с лекциями в Туле, готовились ко II конгрессу III Интернационала. На конгрессе, в Москве, а затем в Петрограде, мы присутствовали в качестве представителей от чешской, тогда еще формально не существовавшей коммунистической партии{318}. О некоторых своих впечатлениях я написал в то время три небольших книжки под общим названием «Картины современной России» и послал их в Прагу издательству Борового с настоятельной просьбой издать как можно скорее. Мне хотелось воздействовать ими на сознание чешского пролетариата. Однако брошюры не вышли. Я слышал, что это случилось в результате вмешательства некоторых государственных деятелен. Напечатать их удалось только после моего возвращения из Советской России.
А потом в Москву приехала чешская делегация во главе с товарищами Запотоцким и Шмералем. В числе ее членов находилась и моя жена Елена Малиржова{319}. Вести с родины… Одна из них была очень печальной: умерла моя мать.
С чешскими товарищами мы часто встречались. Я узнавал о дальнейшей дифференциации и радикализации чешского рабочего класса, разочаровавшегося в республике, об окончательной измене тогдашних вождей социал-демократии, о надеждах на скорую перемену обстановки. Таковы были темы всех наших вечерних споров. Вечера во II Доме Советов, где мы жили, проходили очень дружно. В Москве мне удалось пробыть около полугода. Уезжал я один. Чтобы во время массовой проверки на эстонской границе меня не опознали, пришлось отпустить бороду и запастись фальшивым паспортом на имя какого-то умершего австрийского солдата.
После возвращения я снова вошел в состав редакции газеты «Право лиду». Рабочую Прагу я застал в брожении. Впрочем, брожение охватило всю республику. Повсюду происходили бурные собрания. На каждом из них раздавались возгласы: «Ленин! Ленин! Ленин!» — и звучали приветствия Советской России. Но, кроме русской революции, здесь был еще один жгучий вопрос: что делать у нас, в Чехии? Порвать со старой социал-демократией и основать коммунистическую партию? В Москве ответ на этот вопрос казался нам абсолютно ясным. Но в условиях чешской действительности все было далеко не так просто. Меньшая часть рабочих, остро критикуя партийную бюрократию и правительство Тусара{320}, все же надеялась, что их можно заставить отказаться от тесного союза с буржуазией и принудить снова защищать интересы пролетариата. Однако подавляющее большинство чешских рабочих сознавало, что для них существует только один путь — путь борьбы, борьбы вплоть до самых решительных последствий, то есть вплоть до раскола старой партии и основания новой, коммунистической. Собрания проходили очень бурно, но уже тогда было ясно, что чешскому пролетариату необходим съезд! Раскол в социал-демократической партии стал неизбежен. 15 сентября 1920 года общее собрание в трактире «У Забранских» на Карлине постановило, что съезд должен состояться. Была намечена и его конкретная дата: 25—28 сентября. Местным организациям предложили сообщить о своем согласии или несогласии. Уже ночью толпы участников собрания двинулись по Гибернской улице к редакции «Права лиду», чтобы сообщить главным редакторам Стивину{321} и Немцу{322} свои требования и договориться о радикальном изменении направления газеты. Но полиция Тусара предупредила Стивина и Немца о том, что рабочие идут к редакции, и оба заблаговременно ее покинули. Остальные редакторы остались приветствовать рабочую депутацию.
Началось сражение за съезд. Первым его этапом была борьба за центральный орган партии. После собрания «У Забранских» «Право лиду» выходило всего несколько дней. Старое «Право лиду» было переименовано в «Руде право», и его первый номер вышел 21 сентября 1920 года. Издателем газеты стал Франтишек Тоужил{323}, ответственным редактором — Богуслав Новотны{324}, печатал газету Иозеф Скалак. С 19 сентября правое крыло социал-демократической партии возобновило издание «Права лиду» под старым названием. Печаталась газета теперь не в типографии партии, а в типографии Бофорта на улице Юнгмана. Издателем остался Антонин Немец, а ответственным редактором — Иозеф Стивин. Уже во втором номере «Руде право» сообщило о решении президиума партии (то есть точку зрения Тусара, Бехине{325} и Мейсснера{326}) перенести съезд партии с 25 сентября на 27 ноября. Причем указывалось, что на съезд будут допущены лишь те делегаты, которые в письменной форме обязуются не поддерживать III Интернационал. Но «Руде право» призвало делегатов явиться на съезд 25 сентября, вопреки запрещению президиума партии. В тот же день во дворах помещения «Руде право» состоялись многолюдные митинги. При всеобщем воодушевлении на них были приняты резолюции, в которых выражалась твердая решимость рабочего класса любой ценой удержать в своих руках Народный дом и типографию газеты «Руде право». Дело в том, что правое социал-демократическое руководство, опираясь на формальное положение, по которому владельцем Народного дома была не партия, а кооперативное товарищество, собственно Антонин Немец, предложило исключить из товарищества представителя левых Иозефа Скалака.
Съезд партии состоялся и прошел с исключительным подъемом. С основным докладом выступил товарищ Шмераль, замечательный человек, вдохновенный оратор, речь которого буквально потрясла съезд. Именно тогда и родилась в Чехословакии коммунистическая партия. Хотя формально она вступила в III Интернационал и приняла название Коммунистической партии Чехословакии только 16 мая 1921 года, началом ее существования можно считать славный карлинский съезд.
В «Руде право» мы работали до 9 декабря 1920 года. В середине сентября правительство Тусара вышло в отставку и передало власть чиновничьему правительству старого австрийского бюрократа Яна Черного. Бывшая австрийская бюрократия должна была осуществить то, на что не отваживалось оппортунистическое правое руководство социал-демократической партии, то есть потопить в крови молодое коммунистическое движение Чехословакии. И она выполнила свою задачу.
Под вечер 9 декабря в наполовину опустевший Народный дом (утренний выпуск «Руде право» и «Вечерник»{327} в этот день уже не вышли) явился чиновник магистрата и вручил управляющему обезлюдевшей типографии лист бумаги с печатью королевского города Праги. Это был приказ закрыть типографию. Оказывается, еще 11 ноября суд в округе Нове Место вынес положительное решение по иску Антонина Немца о присвоении чужого имущества. День 9 декабря председатель совета министров встретил во всеоружии. Армия находилась в боевой готовности, в Прагу со всей округи была стянута жандармерия, полицейское управление развернуло свою деятельность уже с утра. Телефонные линии Народного дома контролировались. Когда чиновник вручил управляющему приказ опечатать типографию, тот срочно позвонил в пражский магистрат, но к телефону подошел только канцелярский служитель. Управляющий вызвал полицейскую комендатуру, на его протест там ответили, что подадут рапорт о разговоре министру внутренних дел. Через минуту позвонили из министерства внутренних дел: необходимо, дескать, попытаться уладить дело мирным путем. Управляющий уведомил министерство, что в шесть часов он созывает в Народном доме собрание заводских уполномоченных, которое обсудит положение, и спросил, пропустит ли полиция уполномоченных. После продолжительного молчания голос на другом конце провода ответил: «Господин премьер-министр в настоящее время отсутствует, но я доведу это до его сведения. Если придут действительно только уполномоченные — возможно. Вероятно». Пока тянулись эти бесплодные переговоры, триста человек полицейской охраны занимали здание Народного дома. Они выстроились шпалерами во дворах и закрыли оба проезда в прилегающие улицы надежным кордоном. Крепость была отрезана от мира. Работало лишь несколько телефонов. Горсточка случайно оказавшихся в здании рабочих-активистов пыталась наладить связь с заводами: «Народный дом занят полицией. Сообщите об этом любыми средствами заводским организациям! На Прагу-Данек, Кольбенку, на заводы Чешско-моравской компании, рингофферовцам, на Капсловну! В шесть часов в садовом павильоне Народного дома созывается собрание заводских уполномоченных Большой Праги. Немедленно сообщите по заводам!» Между тем перед Народным домом собирались кучки любопытных. Они быстро росли. Полицейские разгоняли людей, но их становилось все больше и больше. В начале шестого к зданию подошла первая организованная колонна — 150 рабочих жижковской Капсловны. «Назад! — закричал из полуосвещенного проезда офицер, спрятавшийся за четырьмя рядами полицейских. — Назад, или будет применено оружие!» Бурное возмущение улицы и рабочих с Капсловны было ему ответом. Могучий натиск — крепко сцепленные руки полицейских разжимаются, кордон прорван, и толпа устремляется в проезд. Вскоре металлистам с Праги-Данек удался второй прорыв. Потом подошли рабочие Кольбенки и присоединившаяся к ним по пути вторая группа с Капсловны. Во дворах гремит напев «Красного знамени». Кто-то кричит, что полиция готовится напасть на собравшихся через кинотеатр в конце улицы Гавличка. Рабочие строят баррикады. Они тащат ручные тележки, ящики и заваливают запасной выход из кинотеатра. В обоих проездах за спинами полицейских они также возводят баррикады из ящиков и рулонов бумаги. Полиция, блокированная сзади и теснимая толпой спереди, бессильна. Полицейский чиновник посылает сыщика в штатском вызвать по телефону жандармов. На полутемной галерее появляется человек, который кричит: «Товарищи заводские уполномоченные! Срочно направляйтесь в садовый павильон, там идет совещание. Но только уполномоченные и больше никто!» И говоривший снова исчезает в доме. Садовый павильон в одну минуту оказывается переполненным. В то время в Народном доме имелся такой зал, теперь его уже нет. Он представлял собой довольно просторное, со всех сторон застекленное помещение, вероятно, бывшую оранжерею, так что все происходящее в нем было видно, как в зажженном фонаре. Совещание открыл товарищ Гавлин, рабочий с завода химикалиев. Он сделал обзор событий минувшего дня. После него взял слово управляющий домом товарищ Скалак, но не успел он сказать и двадцати фраз, как снаружи, с первого двора, послышался крик. Это к месту действия подоспели жандармы. Они прорвались через покинутую большинством рабочих баррикаду в проезде с Гибернской улицы и ринулись во двор. От ударов задребезжали стекла и узенькие планки в рамах садового павильона. Посыпались осколки стекла. Атакующие вышибали прикладами окна бывшей оранжереи и прыгали через них в зал. Одновременно с жандармами в помещение вломилась полиция. Началась свалка. Жандармы и полицейские неистовствовали. На полу в крови валялись раненые. А в это время другой отряд жандармерии, выполняя приказ премьер-министра Черного, хозяйничал во дворах Народного дома, выходивших на Гибернскую улицу и улицу Гавличка. Удары прикладов и дубинок сыпались градом, повсюду слышались стоны и отчаянные крики женщин, которых ворвавшиеся били и топтали ногами.
А ночью, уже после окончания кровавой работы, мимо шпалер жандармов, вытянувшихся для приветствия по стойке смирно, в Народный дом проследовали вожди правого крыла социал-демократической партии: впереди Франтишек Соукуп, потом — Антонин Немец, Габрман, Стивин, Бинёвец, Коуделка. Они шли через прибранные опустевшие дворы, ступая по земле, впитавшей кровь пролетариев. За ними — кучка редакторов, профсоюзных секретарей и человек пятнадцать шпиков в роли возмущенных происшедшим социал-демократических рабочих. Вместе со своими вождями они вошли в редакцию, отшвырнули к стене тщедушную фигурку престарелого поэта Антонина Мацека{328}, а ненавистного им Богумира Шмераля поволокли по лестнице, изорвав на нем одежду. Последним покинул редакцию доктор прав Вацлав Вацек{329}. Поэт товарищ Гора{330} оставил на своем письменном столе записку: «Пан Стивин, поздравляю вас. Вы вскарабкались в редакторское кресло по штыкам жандармов…»
На этот раз Иозеф Стивин и Антонин Немец еще победили.
В течение ночи и следующего утра сообщение о захвате Народного дома облетело всю Прагу. Пражский рабочий класс был возмущен грабительским захватом его достояния. Рабочие хорошо помнили, с каким напряжением, ценой каких жертв и лишений урывали они от своих нищенских заработков крейцер за крейцером, прежде чем появилась возможность купить Народный дом и основать центральный печатный орган партии — гордость чешского пролетариата.
Жандармерия и полиция еще свирепствовали во дворах и садовом павильоне, но уже было ясно, чем кончится схватка, и в редакции кипела работа. Была написана листовка о кровавых событиях в Народном доме, в ту же ночь ее доставили в «Графию» и там отпечатали. Кроме листовки, в «Графии» вышел очередной номер «Руде право» с обращением исполнительного комитета марксистской левой: «К рабочему классу Чехословацкой республики! Ответьте на насилие мощным протестом. Объявите по всей республике генеральную забастовку!» Крупнейшие пражские заводы остановились. С раннего утра огромные толпы рабочих запрудили улицы. Поднялась пролетарская Прага — Жижков, Карлин, Либень, Голешовице, Высочаны, Смихов. Тысячеголовый людской поток с красными знаменами впереди катится по городу. Армия, жандармерия и полиция в боевой готовности. Толпы направляются в центр Праги, к зданию парламента. На овальном газоне лежит мелкая снежная пыль. Здесь происходит массовый митинг. С лестницы парламента говорит старый член партии товарищ Вацлав Шульц. Через Капрову улицу подходят рабочие из восточной части Праги. Стены домов дрожат, сотрясаемые тысячеголосым пением «Красного знамени». Часть демонстрантов с парламентской площади бежит навстречу приближающимся колоннам. Вдруг из-за домов выскакивают полицейские и развертываются в цепь. Они хотят помешать соединению обоих потоков. Но полиция на несколько минут опоздала. За спиной у нее толпы, бегущие с площади, а спереди — массы людей, устремившихся из Капровой улицы. Цепь разрывается, и вслед за этим раздаются выстрелы. Площадь быстро покрывается телами раненых. Демонстранты оттеснены на Карлов мост. Некоторые бегут к мосту Легий, чтобы скорей перебраться в Смихов. На смиховском берегу тоже стычки с полицией. У завода Рингоффера стреляют…
В эти бурные дни родилась и прошла через свое кровавое крещение чехословацкая коммунистическая партия — та славная Коммунистическая партия Чехословакии, которая восприняла творческое наследие Маркса и Ленина, чтобы повести чешский пролетариат к новым боям, и которой после стольких жертв в конечном счете было суждено победить.
Чешская буржуазия тогда ликовала. Пан Черный предоставил для преследования рабочих весь свой государственный аппарат. По пражским улицам под усиленным жандармским конвоем проходили колонны закованных в кандалы рабочих. Тюрьмы были переполнены коммунистами. Так же обстояло дело и в остальных городах и населенных пунктах Чехословацкой республики. В большинстве из них в декабрьские дни происходили волнения, а во многих была объявлена генеральная забастовка. В Кладненском, Кралупском и Сланском административных округах специальным приказом запрещалось распространять «красную прессу». Затем последовали процессы и тюремные заключения. Чешская буржуазия мстила рабочим. Но никакими преследованиями ей не удалось сорвать широкий размах рабочего движения и повернуть вспять историческое развитие. Ей не удалось даже хотя бы на один день приостановить выпуск «Руде право». Разумеется, целые страницы запрещались цензурой, газету старались задушить финансовыми преследованиями, прокуроры отказывались объяснить, из-за чего, собственно, был конфискован тот или иной номер, и в результате мы даже не знали, что несколько выпусков подряд запрещалось из-за сообщений, которые ранее беспрепятственно появлялись в других газетах и нами были только перепечатаны. Каждый квартал мы поочередно сменяли друг друга на посту ответственного редактора. Ведь если бы этот пост все время занимал один человек, он никогда бы не выходил из тюрьмы. Сам я за трехмесячное пребывание ответственным редактором имел на своей совести, как мне помнится, сорок четыре судебных процесса, материал для которых предоставила, главным образом, фирма Бати.
Таковы мои личные воспоминания о 1920 годе. Конечно, мы забегали тогда вперед в своих предположениях о ходе исторических событий, мы не знали, как долго нам придется ждать исполнения своих надежд. Но, может быть, и хорошо, что мы этого тогда не знали. Все же мы дождались своего. И в этом самое большое счастье нашей жизни. Теперь мы уже можем спокойно умирать. Выполненную нами работу приняло в свои руки новое поколение. Пусть же и оно идет все время дальше, все время вперед!
Примечания
1
I. Olbracht, Obrazy ze soudobého Ruska, Прага, 1920.
(обратно)2
I. Olbracht, Tvorba, 1949, № 5.
(обратно)3
И. Ольбрахт, Ответ на анкету журнала «Огонек», 1936, Архив Литературного музея.
(обратно)4
I. Olbracht, Hory a staletí.
(обратно)5
Ю. Фучик, Избранное, М. 1955.
(обратно)6
V. Řezáč, Národní umělec I. Olbracht, Nový život, № I, 1952.
(обратно)7
Ротный писарь (немецк.).
(обратно)8
Здесь — «сесть!» (немецк.) Имеет также значение команды «ложись».
(обратно)9
Мне приказано явиться согласно рапорту (немецк.).
(обратно)10
Осмелюсь доложить (немецк.); здесь — «слушаюсь!», «есть!»
(обратно)11
Искаженное «Hier» (немецк.) — «здесь!»
(обратно)12
Да (немецк.).
(обратно)13
Вшивое отродье! Проклятый! Получишь взыскание! (немецк.)
(обратно)14
Отставить! (немецк.)
(обратно)15
Всем троим — сесть! (немецк.)
(обратно)16
Внимание! Встать! (немецк.)
(обратно)17
Герр майор, осмелюсь доложить: присутствует тридцать девять человек (немецк.).
(обратно)18
Благодарю вас. Продолжайте (немецк.).
(обратно)19
Вольно! (немецк.)
(обратно)20
Квер — винтовка (от немецкого Gewehr).
(обратно)21
Герр капитан, осмелюсь доложить, мне приказано явиться согласно рапорту (немецк.).
(обратно)22
Черт возьми! (немецк.)
(обратно)23
Герр капитан, осмелюсь просить вас… (немецк.)
(обратно)24
Посетить (немецк.).
(обратно)25
Свинья (немецк.).
(обратно)26
Приказ (немецк.).
(обратно)27
Пошел прочь! (немецк.)
(обратно)28
Рапорт полковому начальству (немецк.).
(обратно)29
Старый (немецк.).
(обратно)30
В два счета (немецк.).
(обратно)31
На понижение (франц.).
(обратно)32
С его (немецк.).
(обратно)33
(К тому же) — заметьте (лат.).
(обратно)34
Бессмыслица (лат.).
(обратно)35
Почему и тот и другой, но не ты? (лат.)
(обратно)36
Нет (немецк.).
(обратно)37
Пожалуйста (немецк.).
(обратно)38
Сегодня, вчера, завтра (немецк.).
(обратно)39
Сто (немецк.).
(обратно)40
Благодарю (немецк.).
(обратно)41
Тепло (немецк.).
(обратно)42
Чешское приветствие.
(обратно)43
Острый легочный туберкулез.
(обратно)44
Господин и госпожа N. N., министр… имеет честь просить Вас на чашку чая (франц.).
(обратно)45
Иноверец (евр.).
(обратно)46
Услышь, Израиль! (древнеевр.)
(обратно)47
Слава создателю! (древнеевр.)
(обратно)48
Вседержитель! (древнеевр.)
(обратно)49
Господин (евр.).
(обратно)50
Тупица, упрямец (евр.).
(обратно)51
Видали? (евр.)
(обратно)52
Еврейское ругательство («свиная голова»).
(обратно)53
Нисходящая часть аорты (лат.).
(обратно)54
Почему не ты, Августин? (лат.)
(обратно)55
Сделать вид, будто я что-то делаю (лат.).
(обратно)56
Земельной аристократии (англ.).
(обратно)57
Гой — иноверец (евр.).
(обратно)58
Помогите мне (евр.).
(обратно)59
Неуч (евр.).
(обратно)60
Мир тебе! (евр.)
(обратно)Комментарии
1
Большинство объединенных в этом разделе произведений написаны И. Ольбрахтом на злобу дня и первоначально публиковались в периодической печати, являясь непосредственным результатом журналистской деятельности Ольбрахта в период Австро-Венгерской монархии и буржуазной Чехословацкой республики. В 1927 году автор собрал эти произведения в книге «Девять веселых рассказов об Австро-Венгрии и республике». Семь из них были включены во второе издание книги, которое вышло в 1948 году под названием «Так бывало».
Для настоящего сборника все переводы этого раздела, кроме «Комедиантов», сделаны по последнему прижизненному изданию — V тому Собрания сочинений И. Ольбрахта, «Свобода», Прага, 1950.
(обратно)2
«Комедианты» представляют собой переработанный в 1952 году автором для детского издания отрывок из повести «Брат Жак», впервые публиковавшейся в 1908—1909 годах в литературном еженедельнике «Звон» (Прага). В 1913 году повесть была включена в первый печатный сборник Ольбрахта «О злых нелюдимах».
Рассказ переведен из книги «В конечном счете победит народ», «Детская книга», Прага, 1952.
(обратно)3
Шестак — мелкая австрийская монета.
(обратно)4
Ринальдо Ринальдини — герой романа немецкого писателя Христиана Августа Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо Ринальдини, предводитель разбойников» (1797). В первой половине XIX века роман пользовался большой популярностью в Европе. Имя его героя стало нарицательным именем благородного разбойника.
(обратно)5
Первоначальное название рассказа: «О любви к родине, фамилиях начальства и образованности».
Написан в 1909 году на основе впечатлений писателя о военной службе в 74-м Либерецком полку (1905).
Впервые был напечатан в «Рабочем календаре» чехословацкой социал-демократической партии в Австрии на 1910 год, выходившем как приложение к социал-демократическому журналу «Зарж» («Сияние»). Шестьдесят две строки в тексте были конфискованы цензурой.
В начале 20-х годов писатель намеревался на основе своих воспоминаний выпустить книгу очерков и рассказов об австро-венгерской армии. Однако в декабре 1920 года во время захвата полицией Народного дома в Праге, где тогда находилось «Дельницке накладательстви» («Рабочее издательство»), рукопись книги из редакторского стола перекочевала в архивы жандармского управления и была затеряна.
(обратно)6
Орден Марии-Терезии — один из высших военных орденов Австро-Венгерской империи; учрежден императрицей Марией-Терезией.
(обратно)7
Трамтария — сказочная страна; в современном чешском языке обозначение очень отдаленного места.
(обратно)8
Зламана Льгота — нарицательное название глухой деревни.
(обратно)9
«Орфей в аду» — оперетта известного французского композитора Жака Оффенбаха (1819—1880).
(обратно)10
…как два святых Яна на мосту. — Имеются в виду скульптурные изображения святого Яна Непомоука, патрона Чехии, которые воздвигаются на перекрестках дорог и украшают многие мосты в Чехии (в частности, знаменитый Карлов мост в Праге).
(обратно)11
Рассказ написан в 1913 году, в период пребывания Ольбрахта в Вена (1909—1916), где он сотрудничал в местной чешской социал-демократической газете «Дельницке листы», впервые опубликован в «Рабочем календаре» чехословацкой социал-демократической рабочей партии на 1920 год.
(обратно)12
Тарок — итальянская карточная игра.
(обратно)13
Христианско-социальная партия — реакционная клерикально-шовинистическая партия, защищавшая интересы крупных землевладельцев, капиталистов и Ватикана, но стремившаяся создать себе базу среди мелкой городской буржуазии и крестьянства. После первой мировой войны христианские социалисты возглавили блок реакционных партий Австрии и фашизировали страну, подготовив захват ее гитлеровской Германией в 1938 году.
(обратно)14
В том самом году, когда родился наш дорогой, добрый, старый император. — Имеется в виду император Франц Иосиф I (1830—1916).
(обратно)15
Император Фердинанд. — Подразумевается Фердинанд I (1793—1875).
(обратно)16
…отца нашего Радецкого. — Радецкий Иосиф Венцель (1766—1858) — граф, фельдмаршал Австро-Венгрии. С 1831 по 1857 год — главнокомандующий австрийской армией в Италии. Известен своими победами в период австро-итальянской войны 1848—1849 годов и жестоким подавлением итальянского революционно-освободительного движения. В императорской Австро-Венгрии Радецкого превозносили как величайшего полководца и «отца» своих солдат.
(обратно)17
Карл Люегер (1844—1910) — лидер австрийской христианско-социальной партии, с 1897 года — обер-бургомистр Вены.
(обратно)18
…граф Рюдигер фон Штаремберг. — Штаремберг Эрнст Рюдигер (1638—1701) — граф, австрийский фельдмаршал, комендант Вены во время ее второй осады турками в 1683 году в период австро-турецких войн.
(обратно)19
«Кавиар» («Икра») — австрийский юмористический журнал.
(обратно)20
«Райхспост» — газета христианско-социальной партии, отличалась сентиментально-слащавым стилем статей и погоней за сенсацией, проповедовала махрово-шовинистические взгляды.
(обратно)21
Пратер — остров между Дунайским каналом и основным руслом Дуная, на котором расположен крупнейший в Вене парк — место народных гуляний. На Пратере находится большое число увеселительных заведений.
(обратно)22
Евгений Савойский, принц Кариньянский (1663—1736) — австрийский полководец, прославившийся многочисленными победами в войнах с Турцией и Францией.
(обратно)23
Даун Леопольд Иосиф (1705—1766) — граф, австрийский фельдмаршал эпохи царствования императрицы Марии-Терезии, участник Семилетней войны (1756—1763).
(обратно)24
Лаудон Эрнст (1717—1790) — австрийский полководец, прославившийся победами в войнах с Пруссией (1756—1763) и Турцией (1788—1789).
(обратно)25
…в битве под Колином… — В период Семилетней войны, 18 июня 1757 г., близ чешского города Колина произошло крупное сражение между австрийскими и прусскими войсками, окончившееся победой австрийцев.
(обратно)26
…воевавшего еще против султана Сулеймана в парке на Турецких шанцах… — Турецкий султан Сулейман Великолепный (1494—1566) осаждал Вену в 1529 году. «Старые добрые венцы» путают две осады города турками (1529 и 1683 гг.); Турецкие шанцы — место бывших городских укреплений, где парк был разбит только во второй половине XIX века.
(обратно)27
Второе герцеговинское восстание. — Имеется в виду восстание 1878 года в Боснии и Герцеговине, направленное против владычества Австро-Венгрии.
(обратно)28
…отъезжал от завоеванной Новары… — Герой рассказа сравнивается с австрийским фельдмаршалом Радецким, который взятием города и крепости Новара окончил австро-итальянскую войну 1848—1849 годов.
(обратно)29
«Кроненцайтунг» — иллюстрированная венская газета, рассчитанная на широкого читателя.
(обратно)30
Кривошийские инсургенты. — Кривошия (Кривошие) — горная область на юге Далмации, населенная сербами и черногорцами, до 1918 года принадлежала Австро-Венгрии. Жители ее дважды (в 1869 и 1881 гг.) восставали против австрийского владычества.
(обратно)31
«Нейе Фрайе Прессе» — умеренно-либеральная австрийская газета; «Цайт» — австрийская газета, орган либеральной партии. Обе выступали против антисемитской пропаганды, которая велась газетами «христианских социалистов».
(обратно)32
«Бюргерклуб» — клуб, объединяющий промышленную и торговую аристократию Вены.
(обратно)33
Медаль Святого Сальватора (Спасителя) — австрийская почетная медаль.
(обратно)34
Брно — город в Чехии.
(обратно)35
Рассказ написан в 1921 году, в период активной политической и журналистской деятельности Ольбрахта в качестве одного из редакторов центрального органа чехословацкой компартии — газеты «Руде право»; впервые опубликован в «Коммунистическом календаре» на 1922 год.
(обратно)36
Джиу-джитсу — японская система борьбы, включающая большое число болевых приемов.
(обратно)37
Еврейские Печи — холмистая пустошь в рабочем предместье Праги Жижкове, место отдыха бедноты.
(обратно)38
Полиция нравов — особое подразделение полиции в Австро-Венгрии, обязанное следить за нравственностью населения и соблюдением общественных приличий.
(обратно)39
Кршикава Карел — начальник полицейского управления Праги в 1905—1914 годах; известен кровавыми расправами над рабочими. В 1915—1918 годах — полицейпрезидент Праги, после 1918 года перешел на службу к буржуазному чехословацкому правительству.
(обратно)40
Но в то время он уже подписывал свою фамилию без галочки над буквой «Z» и выговаривал ее «Цак». — То есть придал ей немецкое звучание (по-чешски Жак — Žák).
(обратно)41
…застрелил в 1905 году на углу Пршикоп и Гавиржской улицы ученика-ремесленника Губача… — 5 ноября 1905 года во время массовой манифестации в Праге за введение всеобщего избирательного права выстрелом полицейского был смертельно ранен восемнадцатилетний ученик стекольщика Губач. Губач упал всего в нескольких шагах от Ольбрахта, который также принимал участие в демонстрации.
(обратно)42
…в 1909 году раскрыл антивоенный заговор… — Имеется в виду процесс над членами чешских организаций, распущенных в 1909 году австрийским правительством за антивоенную пропаганду.
(обратно)43
…выследил группу анархистов, занимавшихся контрабандой сахарина… — Часть чешских анархистов, недовольных оппортунистической политикой руководства чешской социал-демократической партии, но в то же время не видевших правильных путей классовой борьбы, организовала контрабандный ввоз сахарина в Австро-Венгрию, видя в этом «прямое действие» против существующего режима.
(обратно)44
…использовали для провоцирования остравских шахтеров и северочешских ткачей… — Речь идет о полицейских провокациях в период крупнейших забастовок чешского пролетариата в 1909—1914 годах в Остраве.
(обратно)45
Прогрессисты — здесь члены радикально-прогрессивной партии (см. примеч. 105).
(обратно)46
«Вольнодумцы» — члены международной буржуазно-просветительной организации «Вольная мысль», которая ставила своей целью борьбу против клерикализма и религиозных предрассудков; чешское отделение ее возникло в 1906 году.
(обратно)47
Реалисты — члены реалистической народно-прогрессивной партии, организованной в 1900 году Т. Г. Масариком. Партия объединяла представителей буржуазной чешской интеллигенции и проводила реформистскую политику.
(обратно)48
Полицейский час — установленное законом время, после которого закрываются все рестораны и увеселительные заведения.
(обратно)49
…в это время на железных дорогах началось пассивное сопротивление. — Имеется в виду итальянская забастовка чешских железнодорожников в октябре — декабре 1905 года, в период борьбы за всеобщее избирательное право.
(обратно)50
Хухле — дачный поселок на берегу Влтавы в нескольких километрах от Праги, место отдыха и прогулок пражан.
(обратно)51
Орден Железной короны III степени — австрийский императорский орден, выдавался за военные заслуги.
(обратно)52
Дело о русских листовках, призывавших к государственной измене… — Осенью 1914 года полиция спровоцировала массовые судебные процессы в Чехии. Подсудимые обвинялись в государственной измене за хранение и распространение прокламаций с обращением представителей высшего русского командования к подданным Австро-Венгерской монархии. Во время этих процессов 149 человек были осуждены на разные сроки строгого тюремного заключения, а восемнадцать — приговорены к смертной казни.
(обратно)53
…заговор югославских студентов в Праге… — После убийства в Сараеве австрийского кронпринца Франца Фердинанда (28 июня 1914 года) в Вене и Праге были произведены аресты сербских, хорватских и словинских студентов, обвинявшихся в принадлежности к югославянской радикально-националистической организации «Омладина» и в антиавстрийской пропаганде.
(обратно)54
Кнотек Иозеф (Котек) (1883—1914) — чешский журналист, член национально-социалистической партии, был казнен в декабре 1914 года за антиавстрийскую и антимилитаристскую пропаганду.
(обратно)55
…нашел нити к делу о швейцарской пуговице… — В начале первой мировой войны к правому чехословацкому социал-демократу Франтишеку Соукупу (см. примеч. 71), члену тайного буржуазно-националистического общества «Маффия», явился неизвестный, который назвал себя представителем чешского движения сопротивления в Швейцарии и в качестве условленного пароля предъявил пуговицу. Соукуп не поверил такому странному паролю и выдал этого человека полиции.
(обратно)56
Венский процесс — процесс против ряда деятелей чешского буржуазно-националистического движения: Карела Крамаржа, Алоиза Рашина (см. примеч. 68, 69) и др., обвинявшихся в государственной измене и связи с «союзниками» (Англией, Францией, Россией); велся в Вене с декабря 1915 года по июнь 1916 года. Смертный приговор по этому делу, вынесенный 20 ноября 1916 года, не был приведен в исполнение и отменен во время правления императора Карла I (1916—1918).
(обратно)57
Святой Вацлав, покровитель земли чешской… — Вацлав, чешский князь (906—929), ввел в Чехии христианство. Впоследствии католическим духовенством был причислен к лику святых и считался покровителем Чехии.
(обратно)58
28 октября 1918 года была провозглашена независимая Чехословацкая республика.
(обратно)59
…двух императоров и эрцгерцога Фридриха впридачу. — То есть императоров Франца Иосифа I, Карла I и главнокомандующего австро-венгерской армией в период первой мировой войны — эрцгерцога Фридриха.
(обратно)60
Отряды «соколов»… — «Сокол» — массовая патриотическая спортивная организация, основанная в 1862 году Мирославом Тыршем. В 1918—1919 годах военизированные отряды «Сокола» послужили ядром чехословацкой армии и использовались чешской буржуазией в своих интересах.
В настоящее время ряды «Сокола» очищены от реакционных элементов, и он снова превратился в наиболее массовую спортивную организацию в стране.
(обратно)61
Белая Гора была отомщена, трехсотлетнее иго сброшено… — 8 ноября 1620 года у Белой Горы около Праги произошла битва между чешскими феодалами и армией австрийского императора Фердинанда Габсбурга, завершившаяся разгромом чешского войска. С этого момента Чехия окончательно подпала под власть Габсбургов, владычество которых продолжалось почти триста лет (с 1620 по 1918 год).
(обратно)62
…красно-белые полотнища… — Красный и белый — цвета чешского национального флага.
(обратно)63
…трехцветных лент… — Национальный чехословацкий флаг трех цветов: синего, красного и белого.
(обратно)64
Вести Иова — то есть печальные вести, предвещавшие бедствия. По библейской легенде, величайшему праведнику Иову, в испытание его веры, бог послал страшные бедствия.
(обратно)65
«Гей, славяне!..» — антиавстрийский гимн чехов и словаков, написан в 1834 году словацким писателем-патриотом Самуэлем Томашиком (1813—1887).
(обратно)66
Тонзура — выбритое место на макушке у католических духовных лиц, символ их отречения от мирских интересов.
(обратно)67
Патер Альбанус (Альбан Шахтлейтер) — католический сановник, доверенное лицо австрийской императорской фамилии.
(обратно)68
Крамарж Карел (1860—1937) — лидер младочешской партии (см. примеч. 106), основатель одной из наиболее реакционных в буржуазной Чехословакии национально-демократической партии, премьер-министр первого буржуазно-помещичьего чехословацкого правительства, ярый враг Советского Союза.
(обратно)69
Рашин Алоиз (1867—1923) — активный деятель чешского буржуазно-националистического движения, один из лидеров младочешской, а затем национально-демократической партии. С 1918 по 1923 год входил в состав всех буржуазных чехословацких правительств.
(обратно)70
Клофач Вацлав (1868—1942) — организатор и руководитель мелкобуржуазной национально-социалистической партии. В самом начале первой мировой войны был арестован по обвинению в государственной измене.
(обратно)71
Соукуп Франтишек (1871—1940) — один из основателей чешской социал-демократической партии и ее центрального органа — газеты «Право лиду»; принимал деятельное участие в чешском буржуазно-националистическом движении в период первой мировой войны; в буржуазной Чехословакии — виднейший идеолог правого крыла в социал-демократической партии, рьяно отстаивавший ее правооппортунистический курс.
(обратно)72
Врбенский Богуслав (1882—1944) — ветеран чешского рабочего революционного движения; деятель чехословацкой компартии. Перед первой мировой войной вел активную антимилитаристскую и антиавстрийскую пропаганду; в начале войны был арестован и заключен в тюрьму.
(обратно)73
Пани Масарикову и барышню Масарикову допрашивал он, барышню он лично возил в Вену, а папаша ее нынче — президент! — Т. Г. Масарик (1850—1937) — первый президент буржуазной Чехословацкой республики, идеолог чешской буржуазии, в период первой мировой войны возглавлял чешское движение сопротивления за границей. 4 августа 1915 года верховное командование австро-венгерской армии издало приказ об аресте Масарика, находившегося в этот момент за границей. Жена Масарика неоднократно подвергалась допросам, дочь была арестована к около года находилась в заключении в Вене.
(обратно)74
Бинерт Рихард (1881—1949) — один из высших австрийских полицейских чиновников в Чехии, перешедших на службу к буржуазному чехословацкому правительству; начальник пражского полицейского управления, известен кровавыми расправами над рабочим революционным движением в 1918—1921 годах. В период фашистской оккупации Чехословакии был министром внутренних дел при немецком наместнике Франке. В 1945 году осужден как военный преступник.
(обратно)75
…теперь здесь начнут руководить гуманными методами — намек на демагогические заявления Т. Г. Масарика о том, что Чехословацкая республика будет государством подлинного гуманизма и демократии.
(обратно)76
То есть чешские — ну, из России. — Речь идет о чешских военнопленных, которые в период Октябрьской революции встали на сторону Советской власти; в мае 1918 года ими была создана Чехословацкая коммунистическая партия в России и на Украине. В 1919—1920 годах они возвращались на родину и активно включались там в революционное движение.
(обратно)77
Габсбурги — австрийская императорская династия.
(обратно)78
…убийства легионеров… — Имеются в виду убийства участников контрреволюционного выступления чехословацкого корпуса в России (1918—1920), якобы совершавшиеся представителями чешских коммунистических групп.
(обратно)79
Народный дом — здание ЦК чехословацкой социал-демократической партии и ее печатных органов; в декабре 1920 года Народный дом был разгромлен полицией и незаконно передан отколовшимся от партии правым оппортунистам.
(обратно)80
Пан министр… — Имеется в виду Ян Черный, в прошлом один из высших австрийских чиновников, который, заняв пост премьер-министра и министра внутренних дел в реакционном чиновничьем правительстве, осуществил в декабре 1920 года разгром революционного движения в Чехословакии; позднее премьер-министр и министр внутренних дел в ряде правительств, возглавлявшихся аграрной партией.
(обратно)81
Кошице — город в Восточной Словакии.
(обратно)82
…меня назначат жупаном в Подкарпатскую Русь… — По административному устройству, введенному в Чехословакии в 1920 году, территория страны делилась на жупы, во главе каждой из них стоял жупан, высший административный начальник.
(обратно)83
Рассказ написан в 1922 году. В первоначальной редакции, опубликованной в «Коммунистическом календаре» на 1923 год, носил название «О том, чего не случилось в Праге 1 июля».
(обратно)84
Зборов — город недалеко от Тарнополя; 1 июля 1917 года чехословацкие части, сражавшиеся на стороне русской армии, выиграли сражение у Цецовой под Зборовом. Победа у Зборова использовалась чехословацкой буржуазией в целях шовинистической и милитаристской пропаганды.
(обратно)85
…итальянских легионеров… — Во время первой мировой войны в России, Франции и Италии из перебежчиков австрийской армии формировались чехословацкие легионы, солдат которых буржуазная пропаганда и командование убеждали в том, что они сражаются за свободную, подлинно демократическую республику, где будут осуществлены важнейшие социальные требования трудящихся.
(обратно)86
Эрцгерцог Фридрих — см. примеч. 59.
(обратно)87
…«наша программа — Табор». — Табор — город в Южной Чехии; в период национально-освободительной борьбы чешского народа в начале XV века являлся оплотом левого демократического крыла движения таборитов. Лозунг: «Табор — наша программа!» — был выдвинут в период первой мировой войны идеологом чешской буржуазии Т. Г. Масариком, чтобы привлечь широкие народные массы на сторону национальной буржуазии в ее борьбе с австро-венгерским абсолютизмом и немецкой буржуазией за политическую власть в стране.
(обратно)88
Гус Ян (1369—1415) — вождь чешского национально-освободительного антифеодального «гуситского» движения XV века, носившего, как и все общественные движения средневековья, религиозный характер. За выступление против римской католической церкви Ян Гус был обвинен в ереси и 6 июля 1415 года сожжен на костре в городе Констанце (Швейцария).
(обратно)89
Торговля турецким медом (иносказательно) — мелочная торговля.
(обратно)90
…был гетманом у Прокопа Голого и пал в битве под Липанами… — Прокоп Голы (1380—1434) — выдающийся чешский полководец эпохи гусизма, руководил военными силами таборитов с 1424 по 1434 год. В мае 1434 года при Липанах произошло сражение между таборитами и сторонниками компромисса с феодально-церковной реакцией — чашниками. Битва закончилась поражением таборитов.
(обратно)91
Ярослав из Штернберка — приближенный чешского короля Вацлава I, сыграл большую роль в победе над татаро-монголами под Гостином (1241), предотвратив их вторжение в Чехию.
(обратно)92
Карел Гавличек-Боровский (1821—1856) — один из классиков чешской литературы XIX века, выдающийся поэт-сатирик, журналист и общественный деятель.
(обратно)93
Радецкий — см. примеч. 16.
(обратно)94
Кронпринц Рудольф, (1858—1889), сын Франца Иосифа I.
(обратно)95
Лидова партия, католическая — реакционная партия, опиравшаяся на мелкобуржуазные слои населения, боролась за государственное субсидирование церкви, за подчинение школы церкви.
(обратно)96
…папашей… — Подразумевается первый президент Чехословацкой республики Т. Г. Масарик.
(обратно)97
…наши лучшие сыщики по приказу господина министра внутренних дел отбыли с политическими целями в Словакию. — После разгрома Словацкой Советской республики, провозглашенной в Кошицах в мае 1919 года и просуществовавшей около трех недель, Словакия все же оставалась одним из очагов активного революционного движения.
(обратно)98
Лурдское видение. — В одной из пещер близ Лурдского замка (Франция) в 1858 году жители якобы наблюдали явление божьей матери.
(обратно)99
Аграрная партия (полное название — «республиканская партия землевладельцев и малоземельных крестьян») — реакционная партия, защищавшая интересы крупных чешских помещиков, кулаков и связанных с сельским хозяйством кругов промышленной буржуазии; в течение почти всего периода существования буржуазной Чехословацкой республики фактически являлась правящей партией в стране. В области экономики партия проводила политику вздувания цен на продукты сельскохозяйственного производства.
(обратно)100
Национальные демократы — представители партии крупного финансового капитала, одной из самых реакционных в Чехословакии; в интересах чешской буржуазии добивались введения монополии на производство промышленных товаров и высоких пошлин, а также, ссылаясь на «тяжелые последствия» послевоенного кризиса, требовали льгот при оплате налогов на промышленную прибыль.
(обратно)101
Чехословацкие социалисты — подразумеваются национальные социалисты — представители национально-социалистической партии, опиравшейся в своей политике на среднюю и мелкую буржуазию.
(обратно)102
Специальный фонд — фонд для поддержки крупных банков и страховых обществ, создаваемый правительством в интересах финансовой буржуазии.
(обратно)103
…вокруг староместских часов ходит Христос с двадцатью семью казненными чешскими панами — Имеются в виду руководители чешских патриотов-протестантов, которые после поражения в битве у Белой Горы (1620) были захвачены в плен австрийскими войсками и по приказу императора Фердинанда Габсбурга публично казнены перед ратушей Старого Места. Староместские часы — знаменитые часы работы мастера Гануша, установленные на Староместской ратуше в 1490 году.
(обратно)104
Рассказ написан в 1926 году. Впервые опубликован в «Коммунистическом календаре» на 1928 год под названием «В оные дни колыбель, ныне…»
(обратно)105
…в руки радикально-прогрессивной партии. — Радикально-прогрессивная партия — националистическая буржуазно-либеральная чешская партия, созданная в 1897 году; выдвигала требование государственной автономии Чехии в рамках Австро-Венгерской монархии, видя путь к осуществлению прогресса не столько в политической борьбе, сколько в укреплении хозяйственно-экономических позиций чешского капитала. После образования в 1918 году Чехословацкой республики прекратила свое существование.
(обратно)106
…младочешские фразы… — Младочехи — националистическая чешская партия, представлявшая интересы промышленной и финансовой буржуазии. Стараясь привлечь на свою сторону широкие слои населения, младочехи выдвигали демократические лозунги, но на деле проводили консервативную политику, поддерживая по основным вопросам реакционное австрийское правительство.
(обратно)107
Ян Гус — см. примеч. 88.
(обратно)108
Рогозецкое — сорт чешского пива.
(обратно)109
Святой Вацлав — см. примеч. 57.
(обратно)110
Старочехи — партия чешской консервативной буржуазии и крупных землевладельцев, проводившая верноподданническую по отношению к Австро-Венгерской монархии политику; к концу XIX и началу XX века старочехи почти полностью утратили свое политическое влияние.
(обратно)111
Значки «Сокола» — см. примеч. 60.
(обратно)112
Палацкий Франтишек (1798—1876) — крупнейший чешский буржуазный историк XIX века, как политический деятель выступал за союз чешской буржуазии с дворянством и сотрудничество с Габсбургами; был одним из идеологов и вождей старочешской партии.
(обратно)113
Ригер Франтишек Ладислав (1818—1903) — чешский буржуазный политический деятель, публицист, лидер старочешской партии.
(обратно)114
Ян Коллар (1793—1852) — выдающийся поэт чешского возрождения, глашатай идеи славянского единства. Приведенные отрывки — из его поэмы «Дочь Славы».
(обратно)115
…о них разбили бы в кровь свои головы и Арминий, и Карл Великий, и Барбаросса, и Отто, и Фриц, и Блюхер, и Мольтке, и Гинденбург, и «Толстая Берта», и Стиннес… — Арминий, или Армин (17 г. до н. э. — 21 г. н. э.) — вождь германского племени херусков. Карл Великий (742—814), Фридрих I Барбаросса (1123—1190), Отто (вероятно, Оттон I Великий) (912—973) — германские императоры, известные своими военными победами и агрессивной политикой по отношению к соседним народам. Фриц — Фридрих II Великий (1740—1786) — прусский король. Блюхер Гебхард Леберехт (1742—1819), Мольтке Карл Бернгард (1800—1891), Гинденбург Пауль (1847—1934) — виднейшие прусские и германские фельдмаршалы XIX—XX веков. «Толстая (Большая) Берта» — крупнокалиберное дальнобойное орудие, из которого немецкие войска вели обстрел Парижа в период первой мировой войны. Стиннес Гуго (1870—1924) — крупнейший представитель немецкого финансового капитала эпохи первой мировой войны, один из фактических ее инициаторов.
(обратно)116
Роман Ольбрахта «Анна пролетарка» был написан в 1924 году и первоначально печатался в коммунистическом литературном журнале «Рефлектор» за 1925 и 1926 годы под названием «Об Анне, русой пролетарке». В 1928 году роман был доработан и вышел отдельной книгой в издательстве Франтишека Борового. Третья редакция романа была опубликована в 1946 году издательством «Свобода». В 1951 году в том же издательстве роман вышел в качестве четвертого тома Собрания сочинений Ольбрахта. В это издание автором были внесены исправления стилистического характера. В дальнейшем роман печатался без изменений.
Для настоящего сборника перевод выполнен по изданию 1951 года.
(обратно)117
…от старой партии… — Старой партией Ольбрахт называет здесь чехословацкую социал-демократическую партию, скатившуюся к началу первой мировой войны на позиции реформизма и социал-шовинизма. В 1918—1920 годах правооппортунистическое руководство чешской социал-демократии сыграло роль послушного орудия буржуазии в ее борьбе с нарастающим массовым революционным движением.
(обратно)118
Иозеф Гора (1891—1945) — выдающийся чешский поэт, Народный художник Чехословакии. Роман Горы «Социалистическая надежда» был опубликован в 1922 году.
(обратно)119
«Народни политика» — газета, отражавшая интересы наиболее реакционных кругов чешской буржуазии, поддерживала политику национально-демократической партии.
(обратно)120
Сокольский значок — см. примеч. 60.
(обратно)121
…повести о гуситских войнах… — Гуситские войны (1419—1434) — «…национально-чешская крестьянская война религиозного характера против немецкого дворянства и верховной власти германского императора» (Маркс и Энгельс, Сочинения, т. VII, стр. 275). (См. также примеч. 88).
(обратно)122
Общество «Карл Маркс» — дискуссионный клуб марксистского левого крыла чехословацкой социал-демократической партии, существовал в 1919—1920 годах.
(обратно)123
«Држеводельник» — профсоюзная социал-демократическая газета, в 1919—1920 годах — один из органов левого марксистского крыла партии.
(обратно)124
…эмигрант-революционер из Венгрии. — После разгрома Венгерской Советской республики в августе 1919 года многие венгерские революционеры вынуждены были эмигрировать из страны, спасаясь от фашистского террора.
(обратно)125
«Право лиду» (1893—1948) — центральный орган чешской социал-демократической партии.
(обратно)126
Гонведы — особый вид резервистских войск в Венгрии.
(обратно)127
Хорти Миклош — фашистский диктатор Венгрии в 1920—1944 годах; проводил политику кровавого подавления рабочего движения; был союзником Гитлера при нападении на Советский Союз. После разгрома фашистской Германии осужден как военный преступник.
(обратно)128
…после переворота… — то есть 28 октября 1918 года, когда Чехословакия была провозглашена независимой республикой.
(обратно)129
Пришли легионеры… — См. примеч. 85.
(обратно)130
«Долой тиранов, прочь оковы!..» — начало польской революционной песни «Красное знамя». В начале 90-х годов она была переведена на чешский язык и стала революционным гимном чешского пролетариата.
(обратно)131
Императорский рескрипт — манифест, изданный 12 сентября 1871 года австрийским императором Францем Иосифом I, в котором было выражено согласие признать историческое чешское государственное право и считать Чехию самостоятельным королевством, связанным с Австрией лишь единством правящей династии. Обещание императора осталось невыполненным.
(обратно)132
Вашингтонская декларация — опубликованная Т. Г. Масариком в Вашингтоне 18 октября 1918 года декларация, в которой провозглашалось право чешской нации на независимость и отказ признать династию Габсбургов правящей династией в стране. Вашингтонская декларация обещала также чешскому народу широкие демократические преобразования: республику, полную свободу совести, печати и собраний, обобществление шахт и тяжелой промышленности, выкуп и раздел помещичьей земли, энергичные меры против спекулянтов, замену регулярной армии милицией и т. п. Большинство этих обещаний осталось на бумаге.
(обратно)133
Табор — наша программа! — см. примеч. 87.
(обратно)134
…кто послал отряды наших спортсменов в Словакию. — Речь идет об отрядах спортивного общества «Сокол», посланных в апреле — июле 1919 года для борьбы с частями венгерской и словацкой Красной Армии.
(обратно)135
Тусар Властимил (1877—1924) — председатель чешской социал-демократической партии, проводил реакционную оппортунистическую политику. В 1919—1920 годах — глава чехословацкого буржуазного правительства. Габрман Густав (1864—1932) — один из основателей чешской социал-демократической партии, в конце 80-х — начале 90-х годов XIX века скатывается на позиции буржуазного реформизма; министр в ряде чехословацких правительств. Винтер Лев (1876—1935) — пражский адвокат, министр социального обеспечения в первом буржуазном чешском правительстве, один из видных правооппортунистических деятелей чешской социал-демократии, член Исполкома II Интернационала. Гампл Антонин (1874—1942) — один из правооппортунистических лидеров чешской социал-демократии, секретарь союза рабочих сталелитейной промышленности, депутат парламента, с 1926 года председатель исполкома социал-демократической партии.
(обратно)136
Старочехи, младочехи — см. примеч. 106, 110.
(обратно)137
Маркетский съезд — первый организационный съезд чешской социал-демократической партии (1878).
(обратно)138
Расточил — советник чешского земского суда, приобрел известность преследованиями социал-демократов. В 1880—1881 годах вел процесс против основателей и первых руководителей чешской социал-демократической партии.
(обратно)139
Антонин Немец (1858—1926) — один из основателей чешской социал-демократической партии, главный редактор и формальный владелец центрального органа партии газеты «Право лиду». Впоследствии руководитель правого крыла партии, предавшего в решительный момент интересы рабочего класса.
(обратно)140
…мы удалили Крамаржа из правительства. — 15 июня 1919 года в Чехословакии были проведены общинные выборы, на которых возглавляемая Крамаржем (см. примеч. 68) национально-демократическая партия потерпела полное поражение. Огромное большинство голосов было отдано представителям «социалистических» партий. Кабинет Крамаржа был вынужден уйти в отставку, и на смену ему пришло правительство, состоявшее из представителей социал-демократической, национально-социалистической и аграрной партий. Возглавил его социал-демократ Тусар.
(обратно)141
Швегла Антонин (1875—1933) — член первых двух чехословацких буржуазных правительств, в правительстве Тусара занимал пост министра внутренних дел, позднее неоднократный председатель кабинета министров; один из основателей и лидер аграрной партии.
(обратно)142
Оркестрион — механический музыкальный инструмент.
(обратно)143
Зауэр Франтишек (1882—1947) — чешский пролетарский писатель; в юности принимал участие в анархистском движении и на материале впечатлений этого периода создал роман «Контрабандисты». В творчестве Зауэра получила отражение деградация чешского буржуазного общества в период первой мировой войны и первых лет существования независимой Чехословацкой республики.
(обратно)144
Вот такая же, жаждущая справедливости толпа, отстаивая веру божию, выбросила вероломных городских советников из готических окон пражской ратуши… — Имеются в виду события, послужившие началом гуситских войн. 30 июля 1419 года восставшие пражане выбросили из окон ратуши семерых городских советников, представителей враждебного гусизму богатого немецкого купечества.
(обратно)145
«Ческе слово» — реакционная буржуазная газета, орган чехословацкой национально-социалистической партии.
(обратно)146
Швабинский Макс (р. 1873) — крупнейший представитель национальной школы живописи, ныне лауреат Государственной премии и Народный художник Чехословакии.
(обратно)147
Партия чехословацких социалистов — см. примеч. 101.
(обратно)148
Соукуп — см. примеч. 71.
(обратно)149
Шмераль Богумир (1880—1941) — видный деятель международного рабочего движения, один из вождей левого, революционного крыла чешской социал-демократии, позже — один из основателей и первый председатель Коммунистической партии Чехословакии, член президиума Исполкома Коминтерна. Умер в Советском Союзе 8 мая 1941 года.
(обратно)150
Трактир «У Забранских» — находится в рабочем районе Праги Карлине. В его помещении проходили многие исторические собрания чехословацкой социал-демократической, а позднее — Коммунистической партии.
(обратно)151
Тройя — дачная местность на север от Праги.
(обратно)152
Стивин Иозеф (1879—1941) — правый социал-демократический лидер, в предмюнхенской буржуазной республике был главным редактором газеты «Право лиду» и заместителем председателя парламента, представлял чешскую социал-демократию во II Интернационале; как журналист и политик выступал с клеветническими нападками на Советский Союз.
(обратно)153
Жиголо (франц.) — наемный танцор в кабаре. В Праге среди таких танцоров было много русских белоэмигрантов.
(обратно)154
…переименовав «Право лиду» в «Руде право». — В сентябре 1920 года, в связи с окончательным размежеванием революционного, марксистского и мелкобуржуазного, реформистского крыла в чешской социал-демократии, партия выпускала две центральных газеты: «Право лиду», которая отражала позицию оппортунистов, и «Старое право лиду», отстаивавшую интересы революционного пролетариата. Официальный издатель «Право лиду» Антонин Немец и главный редактор Иозеф Стивин обратились в суд с требованием запретить марксистской «левой» пользоваться старым названием газеты. Суд удовлетворил ах требование. Между тем рабочие, имея в виду контрреволюционное содержание «Право лиду», издаваемого новой оппортунистической редакцией, стали называть эту газету «Белым правом». Революционное крыло свой печатный орган переименовало в «Руде право» («Красное право»). Первый его номер вышел 21 сентября 1920 года.
(обратно)155
Маркиз Геро — маркграф германской Восточной марки, герцог Геро, который в X веке жестоко подавил сопротивление полабских славян. В 938 году Геро пригласил тридцать предводителей славянских племен якобы для заключения вечного мира и вероломно убил их.
(обратно)156
Бинёвец Франтишек (1875—1944) — депутат Чехословацкого парламента от социал-демократической партии, один из ее реакционных правооппортунистических лидеров. Коуделка Ян (1889—1942) — правый социал-демократ, член президиума социал-демократической партии, депутат парламента и журналист, вел активную антикоммунистическую и антисоветскую пропаганду.
(обратно)157
Антонин Мацек (1872—1923) — чешский поэт, журналист, прозаик, переводчик и критик, творчество которого было тесно связано с рабочим социалистическим движением. В период раскола внутри чешской социал-демократии решительно встал на сторону ее левого, революционного крыла. Восхищение и горячую любовь к молодой Советской республике поэт выразил в ряде своих последних стихотворений («Советской России», 1921 и др.).
(обратно)158
Большая Прага — Прага с предместьями.
(обратно)159
Впервые был опубликован в 1933 году издательством «Сфинкс», Прага.
Глава «Шалаш над Голатыном» выходила отдельным выпуском в том же издательстве (1932).
Для настоящего сборника перевод выполнен по тексту VIII тома Собрания сочинений И. Ольбрахта, «Чехословацкий писатель», Прага, 1953.
(обратно)160
Никола Шугай (Микола Шугай) (1899—1921) — реальное историческое лицо, крестьянин из села Колочава-Лазы Воловского округа (Закарпатская Украина), который, дезертировав во время первой мировой войны из австро-венгерской армии и убив нескольких из преследовавших его жандармов, был поставлен вне закона. Продолжая традиции карпатских повстанцев — «опришков», Шугай вместе с некоторыми своими товарищами-односельчанами вступил на путь стихийной социальной борьбы против новой чехословацкой администрации и местной буржуазии, мстя им за обиды, чинимые бедноте. Народ окружил его имя ореолом легендарного народного мстителя и защитника, создав о нем целый ряд песен и преданий.
(обратно)161
Пурьохес — занавес, за которым лежит «священная книга» — тора (см. примеч. 178).
(обратно)162
…макбетовская повесть — см. примеч. 167.
(обратно)163
Это было во время войны… — Речь идет о первой мировой войне 1914—1918 годов.
(обратно)164
Олекса Довбуш. — Довбуш Олекса Васильевич (1719—1745) — легендарный вождь опришков. С 1738 по 1745 год вел в Закарпатье и Буковине борьбу с местными феодалами и богатеями.
(обратно)165
Ахиллес — герой древнегреческого мифа. Тело Ахиллеса было неуязвимо, кроме одного места — пяты. По преданию, он погиб от стрелы бога Аполлона, пущенной троянским юношей Парисом.
(обратно)166
Зигфрид — герой древнегерманского народного эпоса, по мотивам которого в XII веке была создана «Сага о Нибелунгах». Единственным уязвимым местом на теле Зигфрида была лопатка, так как во время купания, сделавшего тело героя неуязвимым, к лопатке пристал упавший с дерева кленовый лист. Один из дружинников Зигфрида убил его, выведав эту тайну у его жены Кримхильды.
(обратно)167
Макбет — герой одноименной трагедии Шекспира. Ведьмы предсказали Макбету смерть от руки человека, не рожденного женщиной. Им оказывается шотландский дворянин Макдуф, который был «из чрева матери ножом исторгнут».
(обратно)168
Униатская церковь — здесь церковь, прихожанами которой были православные украинцы, признавшие главенство папы и основные догматы католической религии. В Закарпатской Украине уния католической и православной церкви была введена в 1649 году и служила средством насильственной мадьяризации славянского населения.
(обратно)169
Русины — местное название закарпатских украинцев.
(обратно)170
Талес — еврейское молитвенное одеяние из белой материи с черными полосами.
(обратно)171
Тефилин — особые футляры в виде игральных костей, внутри которых находятся тексты из библии.
(обратно)172
Гелет — деревянный подойник приблизительно на 10 литров.
(обратно)173
Гонвед — см. примеч. 126.
(обратно)174
Нотар — государственный чиновник, представитель власти на местах. В Подкарпатье нотары выполняли административные и адвокатские функции.
(обратно)175
Колыба — пастушья хижина, иногда просто шалаш.
(обратно)176
Жинчица — сыворотка от овечьего молока.
(обратно)177
«Кришма» — молитва, которая читается перед отходом ко сну.
(обратно)178
Тора — «священная книга», первая часть библии, так называемое Пятикнижие Моисея.
(обратно)179
Президентом — профессор, книги пишет… — Имеется в виду Т. Г. Масарик, первый президент Чехословакии, до 1914 года — профессор Пражского университета; автор ряда книг по вопросам философии, истории, социологии, права.
(обратно)180
Говорят, написал какую-то книгу о ритуальных убийствах — насчет этой самой Анежки Грузовой и бедняги Гильснера… — В 1889—1900 годах австро-венгерской и чехословацкой буржуазией был организован процесс против еврея Гильснера из закарпатского местечка Поляна. Гильснер обвинялся в убийстве малолетней Анежки Грузовой, осуществленном в ритуальных целях, то есть для совершения кровавых обрядов, якобы предписываемых евреям их религией. Масарик написал книгу, разоблачавшую эту реакционную выдумку, и выступал на процессе в качестве защитника.
(обратно)181
Бела Кун — один из руководителей Венгерской Советской республики.
(обратно)182
…разделены между Польшей, Венгрией и Чехословакией… — По Сен-Жерменскому и Трианонскому мирным договорам территория Закарпатской Украины в 1919 году была разделена между Польшей, Венгрией и Чехословакией.
(обратно)183
…в Словакии еще идут бои; в Венгрии захватили власть коммунисты… — Речь идет о боях между буржуазной чехословацкой армией и войсками Венгерской и Словацкой Советских республик, которые велись на территории Восточной Словакии в мае — июле 1919 года.
(обратно)184
Шехтер — резник в еврейской общине, который убивает скот в соответствии с религиозными правилами.
(обратно)185
Молитвы «Твилес» и «Дерех» («Тфилес Мцлиан га-Дерех») — молитвы, произносимые перед отправлением в дорогу.
(обратно)186
…ему пришлось испытать то, что испытала жена Лота, когда она, оглянувшись, увидела, что господь бог пролил с небес на Содом и Гоморру дождь серы и огня. — Содом и Гоморра — города в Палестине, которые, по религиозному преданию, за разврат их жителей были разрушены и сожжены небесным огнем. Жена праведника Лота, в наказание за то, что она обернулась и посмотрела на разрушенный город, была превращена в соляной столб.
(обратно)187
Молитва «Майрив» — читается после восхода звезд.
(обратно)188
Хасиды — еврейская религиозная секта. Учение хасидов возникло среди евреев Западной Украины в середине XVIII века и получило широкое распространение. Богослужение у хасидов основано на молитвенном экстазе, якобы сближающем молящегося с богом.
(обратно)189
…когда Август воевал со Станиславом Лещинским… — Король Саксонской династии Август II (1670—1733) боролся за польский престол с познанским воеводой Станиславом Лещинским, которого часть шляхты в 1706 году провозгласила королем Польши.
(обратно)190
Ракоци Ференц (1676—1735) — руководитель крупнейшего восстания венгерских крестьян против власти австрийских Габсбургов в 1703—1711 годах.
(обратно)191
…во время тяжелых внутренних неурядиц в Румынии, ведшей войну с Россией. — Речь идет о длительной вражде и распрях правителей румынского княжества Молдавии Кантемиров с валашским господарем Бранковано, продолжавшихся и в период Прутского похода Петра I против турок (1711), в вассальной зависимости от которых находились румынские княжества. В румынских княжествах Валахия и Молдавия после Прутского похода Петра I усиливается национально-освободительное и антифеодальное движение против турецкого владычества.
(обратно)192
Сенявский Адам Миколай (ум. 1726) — польский коронный гетман, возглавлявший войска Августа II в период его вооруженной борьбы со Станиславом Лещинским.
(обратно)193
Гольц — генерал, командовавший русским вспомогательным отрядом при армии Сенявского.
(обратно)194
Юзеф Потоцкий (ум. 1751) — правитель Краковского воеводства и великий коронный гетман, один из крупнейших польских магнатов, которому принадлежали обширные земли на Украине.
(обратно)195
Разбойники Довжа и Пинтя — предводители опришков, деятельность которых относится к началу XVIII века.
(обратно)196
Пандуры — здесь — телохранители у венгерских магнатов, а также солдаты особых отрядов легкой иррегулярной пехоты в Австрии XVIII века.
(обратно)197
…Иуда Искариот на горе Елеонской… — Иуда Искариот — один из апостолов, по евангельской легенде, предал Христа за тридцать сребреников. Ночь накануне предательства он провел на Елеонской (Масличной) горе близ Иерусалима.
(обратно)198
Сионизм — еврейское буржуазно-националистическое религиозное и политическое течение; закарпатские сионистские партии (халуцы и бетары), будучи мелкобуржуазными по составу, проводили политику, угодную крупной еврейской финансовой и промышленной буржуазии.
(обратно)199
Кантор — певчий в синагоге.
(обратно)200
Правоверные (правоверные раввинисты, или ортодоксальные талмудисты) — приверженцы строгого соблюдения правил и обычаев, предписываемых религиозной книгой евреев талмудом; закарпатская ортодоксальная еврейская партия отражала интересы раввинов и местной крупной буржуазии и была одной из наиболее реакционных партий в стране.
(обратно)201
Царевна Саббат (Шаббат) — здесь почтительное название субботы, еженедельного религиозного праздника евреев.
(обратно)202
Бойки — местное название украинцев, населяющих центральную часть Закарпатья.
(обратно)203
Бескид — видный представитель закарпатской буржуазии, в 1923 году за свою активную прочешскую деятельность был назначен губернатором Подкарпатской Руси.
(обратно)204
Произведения, включенные в этот раздел, написаны Ольбрахтом во время пребывания в Закарпатье.
Переводы сделаны по следующим изданиям: «Хлопоты Анчи Буркаловой» и «Разбойники» — по книге «Горы и столетия», IX том Собрания сочинений Ольбрахта, «Свобода», Прага, 1950; «О печальных глазах Ганы Караджичевой» — по сборнику «Голет в долине», «Народная библиотека», Прага, 1951. Рассказ «Чудо с Юльчей» переведен по последнему прижизненному изданию, просмотренному автором, — в сборнике «В конечном счете победит народ», «Детская книга», Прага, 1952.
(обратно)205
Очерк написан в 1934 году, впервые опубликован в книге «Горы и столетия», «Мелантрих», Прага, 1935.
(обратно)206
Нотар — см. примеч. 174.
(обратно)207
Наверное, и он поддался слухам о скором пересмотре мирных договоров… — Слухи о пересмотре Сен-Жерменского и Трианонского мирных договоров 1919 года, по которым Закарпатье было включено в состав Чехословакии, распускались агентами венгерской буржуазии и аристократии, мечтавших восстановить свое господство над Словакией и Закарпатской Украиной.
(обратно)208
Седрия — здесь опекунский совет.
(обратно)209
…вся Колочава и весь Кальновец голосовали за аграриев. — Имеются в виду выборы 1929 года, принесшие победу реакционной аграрной партии. Одной из причин успеха аграриев были мошеннические предвыборные махинации, проводившиеся при поддержке местных властей. Так, колочавский нотар убедил жителей округи, что, если они не будут голосовать за аграрную партию, в общину прекратят подвоз кукурузы и все они будут обречены на голодную смерть.
(обратно)210
Мокранский немец — то есть немец из села Немецкая Мокра, которое находится к востоку от Колочавы в долине реки Мокранки; заселено немецкими колонистами.
(обратно)211
Токан — каша из кукурузной муки.
(обратно)212
После переворота. — Имеется в виду 28 октября 1918 года — день образования самостоятельного Чехословацкого государства; Закарпатская Украина вошла в него на правах автономии.
(обратно)213
«Пестры тыдень» («Пестрая неделя») — чешский иллюстрированный журнал.
(обратно)214
…мы снимали в Колочаве картину… — В 1933 году под руководством писателя-коммуниста Владислава Ванчуры в Закарпатье происходили съемки кинофильма «Марийка неверная» по сценарию И. Ольбрахта и К. Нового.
(обратно)215
Очерк написан в 1934 году и впервые напечатан в сборнике «Горы и столетия». Это своего рода итог работы Ольбрахта над историческими источниками о карпатских опришках, служившей подготовительным этапом в создании романа «Никола Шугай, разбойник».
(обратно)216
Гайдук, комита — повстанец на Балканах.
(обратно)217
В Польше после междоусобной войны Августа II со Станиславом Лещинским и при Августе III царит анархия, в Венгрии догорают последние очаги восстания Ференца II Ракоци… — см. примеч. 189, 190.
(обратно)218
…вторая турецкая война и вооруженная борьба Карла VI за престол. — Имеется в виду война Австрии с Турцией 1682—1699 годов и участие австрийского императора Карла VI Габсбурга в войне за испанское наследство (1701—1714).
(обратно)219
Румыния после войны с Россией охвачена волнениями — См. примеч. 191.
(обратно)220
…для восстания против польской шляхты, для «резни» 1768 года. — В 1768 году произошло крупнейшее восстание крестьян Правобережной Украины и Галичины против польских панов, известное под названием «Колиивщина» (по оружию повстанцев — кольям). Крестьяне убивали помещиков, разоряли их усадьбы, а также мстили их прислужникам — римско-католическим священникам, проводившим политику насильственного обращения местного населения в католичество, и богатым еврейским купцам и ростовщикам. Восстание было жестоко подавлено царскими войсками.
(обратно)221
Яношик (1688—1713) — легендарный предводитель словацкого крестьянства в их борьбе против феодального и национального гнета.
(обратно)222
Юлиан Целевич (1843—1892) — украинский либерально-буржуазный историк, преподаватель истории и географии во Львовской академической гимназии; член буржуазно-националистической партии народовцев.
(обратно)223
«Смоляки» — местное военное ополчение; отряды смоляков обычно возглавлялись офицерами Станиславской крепости.
(обратно)224
«Пушкари» — род сельской полиции.
(обратно)225
Бойки — см. примеч. 202.
(обратно)226
В летописях львовских монахов-бернардинцев… — Бернардинцы — «нищенствующий» католический монашеский орден, один из самых богатых и влиятельных в средневековой Европе. Монахи-бернардинцы, обосновавшиеся во Львове в конце XVI века, способствовали насильственному обращению местного православного населения в католичество и укреплению власти польской феодальной знати.
(обратно)227
Франтишек Карпинский (1741—1825) — польский поэт, романтик, в творчестве которого проявилось сочувствие к крестьянству.
(обратно)228
Хоткевич Гнат — мелкобуржуазный украинский писатель-народник, романтически изображавший жизнь гуцулов. Известен как собиратель фольклора. Наиболее значительное его произведение — роман «Каменная душа».
(обратно)229
Валашка — топорик на длинной рукоятке, служащий также и посохом.
(обратно)230
Перевод баллады об Олексе Довбуше сделан по тексту, приведенному Гнатом Хоткевичем в книге «Каменная душа» (Гнат Хоткевич, «Камінна душа». Твори, т. VIII, Харьков, 1932).
(обратно)231
Мандра — местное название денатурированного спирта.
(обратно)232
В волнениях, происходивших в Колочаве после переворота… — то есть после образования Чехословацкой республики в октябре 1918 года.
(обратно)233
…в сказаниях о волосах Самсона… — Самсон — библейский герой, прославившийся в борьбе с поработившими израильский народ филистимлянами. По легенде, источником необыкновенной силы Самсона были его длинные волосы. Возлюбленная Самсона — коварная Далила, выведав эту тайну, обрезала спящему Самсону волосы, и Самсон был ослеплен филистимлянами.
(обратно)234
…о пяте Ахиллеса, о лопатке Зигфрида, о пророчестве, предвещавшем Макбету смерть от руки человека, не рожденного женщиной… — см. примеч. 165—167.
(обратно)235
Рассказ написан в 1936—1937 годах, впервые напечатан в книге «Голет в долине» (1937), представляющей собой цикл новелл и повестей из жизни закарпатских евреев. Сборник получил свое название от еврейского выражения «голет», что означает «страна изгнания», то есть прибежище евреев вне Палестины.
(обратно)236
…посылал с неба манну и перепелок. — По библейскому преданию, когда пророк Моисей выводил евреев из Египта, бог, чтобы утолить в пути их голод, послал им с неба манну и перепелок.
(обратно)237
Иосиф, сын Иакова — по библейской легенде, один из многочисленных сыновей сказочного патриарха Иакова.
(обратно)238
…как когда-то послал барана Аврааму. — По библейскому преданию, патриарх Авраам в доказательство своей веры должен был принести богу в жертву своего сына. Но когда Авраам уже занес над ним нож, с высоты послышался голос ангела и рядом появился баран, который был принесен в жертву вместо Исаака.
(обратно)239
Бархес — тесто для белого субботнего хлеба, сам хлеб.
(обратно)240
Адонай (евр. — «господин») — одно из имен бога; подлинное имя его верующие обычно не произносят.
(обратно)241
Названия, которые Байниш дает окружающим горам, выдуманы им: например, Амгорец (амгоорец) по-еврейски — «неуч», Ганев — «вор», Келев — «пес», Тохес — «задница» и т. п.
(обратно)242
Трефное — пища, не приготовленная по специальным религиозным правилам.
(обратно)243
Повесть впервые была напечатана в сборнике «Голет в долине» (1937).
(обратно)244
…не вино, нет, боже сохрани, этого нельзя, над вином христиане творят свое церковное колдовство… — Речь идет о христианском обряде причащения, заключающегося в том, что верующие вкушают хлеб и вино — «тело и кровь Христову».
(обратно)245
Урбариальные леса — помещичьи леса, которые находились во временном распоряжении крепостных крестьян, за что они должны были платить налоги и оброк. После отмены крепостного права в Словакии и Закарпатской Украине (1848) эти леса, как и другие урбариальные земля, отошли к их фактическим владельцам, бывшим крепостным.
(обратно)246
Эдмонд Эган (1851—1901) — крупный венгерский чиновник, буржуазный экономист. Заняв пост наместника Закарпатья, Эган в целях мадьяризации местного украинского населения провел ряд мероприятий, направленных на укрепление позиций венгерской буржуазии. В частности, он положил предел средневековому ростовщичеству местной еврейской буржуазии.
(обратно)247
Барта Миклош (1848—1905) — буржуазный венгерский политик и писатель, автор книги «В земле хазар», направленной против закарпатских евреев; апологет мадьяризаторской деятельности Эдмонда Эгана.
(обратно)248
Голет — см. примеч. 235.
(обратно)249
Талес — см. примеч. 170.
(обратно)250
В Ясине утвердилось украинское правительство. — В период существования «Западно-Украинской народной республики» (ноябрь 1918 — июнь 1919 года) в нее вошли и некоторые районы Восточного Закарпатья.
(обратно)251
Бедр — ритуальный банщик.
(обратно)252
Амалекитяне, мидианиты и филистимляне — по преданиям, народы, населявшие земли в соседстве с израильтянами, вели войны с ними, пока царь Давид (конец второго тысячелетия до нашей эры) не разбил их и не подчинил своему господству.
(обратно)253
Онан, Корах, Датан и Абирам — библейские персонажи, были покараны богом, обрекшим их на смерть.
(обратно)254
Толе — «висящий, повешенный» (евр.); так правоверные евреи называют Христа.
(обратно)255
Миква — помещение, в котором находится бассейн для совершения ритуального омовения.
(обратно)256
«Гите вох!» — «Доброй недели!» — приветствие, произносимое в субботу вечером, накануне новой недели. «Гит шабес!» — приветствие, которое произносят вечером, накануне субботы. «Иом кипур» — день отпущения грехов, десятый день седьмого месяца еврейского календаря, считается большим религиозным праздником. «Рошо шоно» — Новый год (евр.).
(обратно)257
«Свой к своему!» — лозунг, выдвинутый русскими и украинскими буржуазными националистами в Закарпатской Украине в целях облегчения конкурентной борьбы с буржуазией других национальностей.
(обратно)258
Мессия (от древнееврейского «машиах» — «помазанник») — в еврейском вероучении «спаситель», который будет послан богом и избавит еврейский народ от страданий.
(обратно)259
Сионизм — см. примеч. 198.
(обратно)260
…гроздья виноградные в земле Ханаанской… — Ханаан — низменность в Палестине, находящаяся к западу от реки Иордан. По библейскому преданию, перед приходом в эту землю евреи отправили послов, чтобы они узнали о ее богатстве и плодородии. Послы вернулись, неся огромную виноградную кисть, которую еле могли поднять два человека.
(обратно)261
Халуцы, «сионисты-социалисты» — реакционная мелкобуржуазно-националистическая еврейская партия в Подкарпатской Руси, примыкавшая к чехословацкой социал-демократической партии.
(обратно)262
«И все-таки она вертится!» — слова великого итальянского ученого Галилео Галилея (1564—1642).
(обратно)263
Шехтер — см. примеч. 184.
(обратно)264
Каббалист и последователь раввина из Бэлза… — Каббалист — исповедующий каббалу, средневековое религиозно-мистическое еврейское учение, которое признавало колдовство и магию. Бэлз — город в Западной Украине.
(обратно)265
Нотар — см. примеч. 174.
(обратно)266
Мизрахисты — сторонники партии ортодоксального сионизма (мизрахи), реакционной еврейской буржуазно-националистической партии, стремившейся примирить сионизм с ортодоксальным учением хасидов; организации мизрахистов носят полуполитический, полуспортивный характер.
(обратно)267
Желтая звезда Давида — еврейская национальная эмблема в виде желтой шестиконечной звезды.
(обратно)268
Бархес — см. примеч. 239.
(обратно)269
Ламед вов — один из тридцати шести тайных праведников, на которых, по еврейским религиозным преданиям, держится мир.
(обратно)270
Много претерпел Израиль со времен разрушения храма. — Речь идет о разрушении римлянами в 70 году нашей эры храма Соломона в Иерусалиме во время подавления восстания еврейских крестьян и ремесленников, известного под названием иудейской войны (66—73 гг. н. э.). Религиозные евреи оплакивают эту дату как начало своего национального и политического упадка.
(обратно)271
Нигун — напев, которым евреи сопровождают свои молитвы.
(обратно)272
Гахшара — особое общежитие, в котором евреи-сионисты готовятся к жизни и труду в Палестине.
(обратно)273
Кошерное (кошер) — разрешенное еврейскими религиозными законами к употреблению в пищу.
(обратно)274
Трефное — см. примеч. 242.
(обратно)275
Принцесса Саббат — см. примеч. 201.
(обратно)276
«Гавдоле» — обряд прощания с праздником, совершается в конце праздничного дня, когда восходят звезды.
(обратно)277
Большая Острава — город Острава с пригородами.
(обратно)278
…эмигрантских удостоверений, выдаваемых Палестинскому комитету Великобританией — то есть разрешение на въезд в Палестину, являвшуюся до 1948 года подмандатной территорией Великобритании. Распределение этих удостоверений было передано английскими властями сионистскому Палестинскому комитету.
(обратно)279
Кедма — здание, в котором помещается гахшара и ее администрация.
(обратно)280
Бетары — члены буржуазной радикально-сионистской партии, проповедовавшей воинствующий еврейский национализм.
(обратно)281
…скажем, чтобы нам не давали к мясным блюдам молочных приборов. — По еврейским религиозным законам, для мясной и молочной пищи должна использоваться определенная посуда, ее нельзя смешивать.
(обратно)282
«Вольный мыслитель». — Ольбрахт имеет в виду орган чешских сторонников «Вольной мысли» (см. примеч. 46).
(обратно)283
Мезуза — пергаментный свиток в футляре, помещаемый в религиозных еврейских домах с правой стороны от входа. На пергаменте написаны стихи из Пятой книги Моисея, говорящие о преданности евреев богу.
(обратно)284
Тефилин — см. примеч. 171.
(обратно)285
…откуда появилась у Каина жена… — Каин, по библейскому мифу, был сыном первых людей Адама и Евы. Поскольку, кроме его родителей и брата Авеля, других людей в то время на земле не существовало, ему неоткуда было взять жену.
(обратно)286
…как мог Ной взять в ковчег майского жука, если потоп произошел осенью, или того паучка, что ткет свою паутину в бабье лето, если он был весной… — По библейскому преданию, патриарх Ной взял во время всемирного потопа в свой ковчег представителей всех видов животного мира («по семи пар чистых и по паре нечистых»).
(обратно)287
Айалонская долина — близ города Айалон в Палестине, к северо-западу от древней столицы Палестины Иерусалима. По преданию, была завоевана израильтянами.
(обратно)288
Цицис — бахрома на молитвенном одеянии евреев.
(обратно)289
…из племени Коген… — Племя Коген — потомки патриарха Авраама, каста священников.
(обратно)290
Равви Акиба — Бен Акиба (конец первого тысячелетия до нашей эры) — один из создателей талмуда.
(обратно)291
…зажигал в синагоге черную свечу… — Черную свечу религиозные евреи зажигают в то время, когда кого-нибудь предают проклятию.
(обратно)292
Все очерки этого раздела переведены по книге «В конечном счете победит народ», «Детская книга», Прага, 1952.
(обратно)293
О В. И. Ленине И. Ольбрахт написал ряд очерков, которые вошли в книгу «Картины современной России» (издательство Франтишека Борового, Прага, 1920) и сборник «Они говорили с Лениным» («Руде право», Прага, 1950). Все они были включены в книгу «Дорога за познанием», которая составляет IX том Собрания сочинений Ольбрахта, выходящего в издательстве «Свобода» (Прага, 1952).
Очерк, помещенный в настоящем издании, представляет собой переработанные автором для сборника «В конечном счете победит народ» («Детская книга», Прага, 1952) воспоминания о В. И. Ленине.
(обратно)294
…вскоре после моего приезда в Страну Советов… — Ольбрахт приехал в Советскую Россию в марте 1920 года.
(обратно)295
Павел из Тарса, святой Павел — по библейской легенде, один из апостолов Христа, его ученик.
(обратно)296
Мертвый из Назарета — Иисус Христос, по преданию, родился в Назарете.
(обратно)297
«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы, изменить его» — тезис К. Маркса о Фейербахе из записной книжки 1845 года (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Маркс о Фейербахе, Сочинения, т. IV, 1938, стр. 591).
Как правило, И. Ольбрахт приводит цитаты — например, из произведений В. И. Ленина — неточно, вернее — пересказывает их.
(обратно)298
Виктор Адлер (1852—1918) — один из реформистских лидеров австрийской социал-демократической партии.
(обратно)299
В январе 1912 года в Праге состоялся съезд левых русских социал-демократов. — Имеется в виду шестая (Пражская) общепартийная конференция РСДРП.
(обратно)300
Штюргк Карл — граф, австро-венгерский министр, с 1911 по 1916 год-премьер, ярый реакционер.
(обратно)301
«Новая жизнь» — первая легальная большевистская газета; выходила ежедневно с 27 октября (9 ноября) по 3 (16) декабря 1905 года. Нелегально вышел только последний 28-й номер газеты, в котором была опубликована статья В. И. Ленина «Социализм и религия».
(обратно)302
«Свобода». — Ошибка автора: нелегальной большевистской газеты «Свобода», в которой бы публиковались статьи Ленина, в 1905 году не издавалось. Под названием «Свобода» в 1901—1903 годах издавался журнал группы «социалистов-революционеров», возглавляемой Л. Надеждиным (Е. О. Зеленским). В этом журнале Ленин ничего не печатал.
(обратно)303
Александринка — Александринский театр в Петрограде, где 14—22 сентября (27 сентября — 5 октября) 1917 года проходило Всероссийское демократическое совещание, на котором присутствовали представители социалистических партий, соглашательских советов, профсоюзов, земств, торгово-промышленных кругов и воинских частей. Совещание ставило целью ослабление революции, перевод ее на путь буржуазно-конституционного развития.
(обратно)304
Шелгунов Василий Андреевич (1867—1939) — старый большевик, рабочий-металлист, соратник Ленина по петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса»; один из редакторов большевистских газет «Звезда» и «Правда».
(обратно)305
Чешский совет. — В Москве, на Садово-Кудринской улице в первые годы советской власти помещался Чехословацкий национальный совет, организованный при Наркомате иностранных дел.
(обратно)306
«Правда о Советской России» была написана Шмералем (см. примеч. 149) в 1920 году по впечатлениям от поездки в Россию на II конгресс III Интернационала.
(обратно)307
Впервые опубликовано в газете «Руде право» 23 апреля 1950 года и под названием «1890—1950» в журнале «Творба» № 17 за 1950 год. Очерк Ольбрахта открывает собой в качестве предисловия антологию «1 Мая в чешской поэзии и прозе» («Мелантрих», Прага, 1950).
(обратно)308
Написаны к тридцатилетию «Руде право» (21/IX—1950 г.) и впервые напечатаны в юбилейном номере газеты.
(обратно)309
…после возвращения из Советской России… — Ольбрахт вернулся в Чехословакию в сентябре 1920 года.
(обратно)310
Ярослав Гандлирж — один из руководителей Чехословацкой коммунистической партии в России и на Украине.
(обратно)311
…до образования в чешской социал-демократической партии революционного, левого крыла. — К 1919 году в социал-демократической партии произошел раскол: на «левых», выражавших интересы рабочего класса, и «правых», которые вели политику сговора с буржуазией.
(обратно)312
Румбурк — город на севере Чехии близ границы с Германией.
(обратно)313
Салат-Петрлик Ярослав — один из первых коммунистов среди чехословацких пленных в России, член ЦК Чехословацкой коммунистической партии в России и на Украине.
(обратно)314
Литва вела войну с реакционной тогда Польшей… — Речь идет о вооруженном конфликте между Литвой и панской Польшей из-за города Вильнюса (Вильно) и Вильнюсской области. В феврале 1919 года белопольские войска начали наступление на Советскую Литву и заняли город Вильнюс, древнюю столицу Литовского государства. После падения Советов в Литве (август 1919 г.) Вильнюс оставался в руках белополяков, а панская Польша и буржуазная Литва находились в состоянии войны. 14 июля 1920 года Красная Армия освободила Вильнюс и передала его Литовской буржуазной республике. Однако, поощряемая империалистами Запада, панская Польша 9 октября 1920 года разбойничьим налетом захватила город и удерживала его весь период своего существования (до сентября 1939 г.).
(обратно)315
…у чехов… были свои споры с поляками из-за Тешинской области. — Богатая каменным углем Тешинская область, находящаяся на границе Польши и Чехословакии, в ноябре 1918 года была оккупирована панской Польшей. К концу января 1919 года часть области была вновь занята войсками Чехословацкой республики. По решению международного третейского суда и Севрскому договору (август 1920 г.) восточная часть области оставалась за Чехословакией, а западная отошла к Польше.
(обратно)316
…речь на огромном массовом митинге в Петрограде… — Имеется в виду выступление Ленина 19 июля 1920 года на митинге, посвященном закладке памятника Карлу Либкнехту и Розе Люксембург на площади Урицкого в Петрограде.
(обратно)317
Чешский совет на Кудринской улице… — см. примеч. 305.
(обратно)318
На конгрессе, в Москве, а затем в Петрограде, мы присутствовали в качестве представителей от чешской, тогда еще формально не существовавшей коммунистической партии. — На II конгрессе Коммунистического Интернационала, который проходил в Москве и Петрограде с 19 июля по 7 августа 1920 года, присутствовала делегация марксистского левого крыла чехословацкой социал-демократической партии в составе пяти человек. Возглавлял делегацию Антонин Запотоцкий.
(обратно)319
Елена Малиржова (1887—1940) — писательница-коммунистка, активная участница социалистического женского движения, член редакции газеты «Руде право»; о своей поездке в Советскую Россию на II конгресс Коминтерна Малиржова рассказывает в очерково-публицистической книге «Красные беседы» (1922) и автобиографическом романе «Десять жизней».
(обратно)320
Тусар — см. примеч. 135.
(обратно)321
Стивин — см. примеч. 152.
(обратно)322
Немец — см. примеч. 139.
(обратно)323
Франтишек Тоужил — член сената от коммунистической партии, в 1929 году выступил против большевистского руководства КПЧ, возглавляемого Клементом Готвальдом.
(обратно)324
Богуслав Новотны (р. 1874) — один из основателей газеты «Руде право» и видный деятель чехословацкой коммунистической партии.
(обратно)325
Бехине Рудольф — один из правых лидеров чешской социал-демократической партии, министр во многих буржуазных правительствах; во время оккупации Чехословакии немецкими фашистами принадлежал к реакционнейшим кругам лондонской эмиграции.
(обратно)326
Мейсснер Альфред — правый социал-демократ, с 1925 по 1934 год министр юстиции в буржуазной Чехословакии; подвергал жестоким преследованиям коммунистическое и революционное движение в стране.
(обратно)327
«Вечерник» («Руды вечерник») — вечерний выпуск газеты «Руде право».
(обратно)328
Мацек — см. примеч. 157.
(обратно)329
Вацлав Вацек (р. 1877) — старейший член Коммунистической партии Чехословакии, в течение длительного периода один из редакторов газеты «Руде право», после освобождения Чехословакии Советской Армией приматор (мэр) города Праги.
(обратно)330
Гора — см. примеч. 118.
О. Малевич
(обратно)




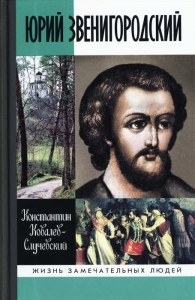
Комментарии к книге «Избранное», Иван Ольбрахт
Всего 0 комментариев