Вступление,
объясняющее, почему так долго писалась эта книга и для чего она все-таки написана.
Казалось бы, кому как не мне следовало первой написать книгу о Тарковском, кому, как не мне, как говорится, “и карты в руки”?..
Я узнала его еще во время съемок “Андрея Рублева”. А затем почти двадцать лет меня связывали с ним и его второй семьей самые близкие дружеские отношения — одно время мы даже состояли в родстве... Отношения эти продолжались вплоть до начала съемок последнего фильма Тарковского “Жертвоприношение” — вслед за Ларисой, женой Тарковского, я была первым слушателем только что законченного сценария.
Случилось так, что я единственная имела возможность наблюдать за работой Тарковского и происходившими с ним метаморфозами не только у нас на родине, в России, но и здесь, на Запаае, куда нас угораздило попасть одновременно, и был период, когда мы оба усматривали в этом “перст Божий”...
А самое главное, что все это время меня как журналиста, допускали в “святая святых” творческих замыслов, разочарований и надежд, профессиональных проблем и озарений, особенно щедро с того момента, когда Тарковский предложил мне стать соавтором “Книги сопоставлений”. Спустя десять лет эта книга появилась на Западе под заглавием “Запечатленное время”, переработанная и дописанная мною в соответствии с его соображениями и пожеланиями.
Почему же все-таки я молчала так долго, когда одна за другой продолжали появляться работы, исследующие феномен Андрея Тарковского? Почему я отделывалась небольшими статейками, бездействуя по-существу, точно в параличе?
Этому есть несколько объяснений. Отношения наши только внешне носили простой и однозначный характер. Действительно, долгие годы я с детской восторженностью боготворила великого и гонимого художника. О, как это типично для России! Бескорыстная и безоглядная помощь во имя торжества Правды, полной и абсолютной. Тарковский был окружен такого рода людьми, которые, почти обожествляя его, готовы были служить не только ему, но и его семье просто так, ради “святого искусства”. Готовыми помочь не только на съемочной площадке, но и дома, по-хозяйству, доставая дефицитные тогда “продуктовые заказы”, выбивая дешевые материалы на строительство деревенского дома, оплачивая мебель в рассрочку, бегая по мелким поручениям. Это осмысляло и облагораживало жизнь каждого из нас, допускало в круг избранных. А тем более я оказалась выделенной Мастером среди всех этих людей для самой почетной задачи, творческого сотрудничества — о большем счастье не приходилось даже мечтать!
Но по-существу, я постепенно “вырастала” из этого образа гимназически восторженной почитательницы “великого художника”, которого я узнала еще студенткой киноинститута. “Взросление” мое происходило тем быстрее, чем в более кричащее противоречие вступали на моих глазах декларируемые режиссером высокие и “бескорыстные” духовные ценности с его же “житейской практикой”. Тогда я решила для себя разделить эти две сферы существования художника: сосредоточиться на его творчестве и пренебречь бытовой стороной его жизни.
Время, запечатленное в его фильмах, хранит следы тяжелой и часто безуспешной борьбы с собою, неумения совладать с той ржавчиной, которая постепенно разъедала его душу, предательски расползаясь по экрану. Его фильмы, на самом деле, уникально интерсны и как объективное свидетельство этой борьбы.
Долгое время я не замечала, или не могла, не хотела замечать следов той эрозии, которая заметна на экране, и до конца объясняет мне сегодня уникальную художественную и человеческую судьбу Тарковского. Мы дружили, точнее Тарковский одаривал меня своей дружбой, и так хотелось, закрывая на все глаза, просто верить и любить идеал — “ах, обмануть меня нетрфщо, я сам обманываться рад”...
К тому же мы артрудничали, и я упорно старалась не замечать иногда очега досадных “мелочей”, совершенно не предполагая, что все движется к такой быстрой и неожиданной развязке не тольк%наших отношений, но, увы, всей его судьбы... Но не будем забегать вперед — об этом написана книга...
Прежде чем ее написать я должна была окончательно “остыть” и успокоиться, “Устраниться” от событий, когда-то столь близко задевавших меня. Я начинала писать книгу о Тарковском сразу после драматического для меня разрыва с ним в 1984 году, когда казалось, что режиссер полон сил и перед ним расстилается будущее — но это была бы другая книга. Я должна была переосмыслить и передумать все заново, пораженная его смертью. Ведь, в конце концов, что бы ни было, я так бесконечно любила и потому после, увы, так мучительно ненавидела все то, что связывало меня с Тарковским, Ларисой, их бытом, стилем жизни, их окружением. Душа моя должна была освободиться из многолетнего плена, мысли проясниться, чтобы я смогла, подобно заикающемуся мальчику из пролога “Зеркала”, обрести уверенность: “я могу говорить”!
“Книга сопоставлений”, над которой мне когда-то предложил работать Тарковский, задумывалась изначально как диалог критика и режиссера совместно с известным киноведом Леонидом Козловым. Но в этом соавторстве книга не состоялась. В процессе работы, мне кажется, я поняла, отчего не сложилось их сотрудничество. Тарковский был слишком авторитарен, так что задуманный “диалог критика и режиссера” неуклонно превращался в его монолог, который надлежало перевоссоздавать критику, взявшемуся за эту работу. Мое ощущение было правильным, так что следующий вариант книги, еще раз переписанный мною с уважением к желанию Тарковского “иметь свою книгу”, озаглавлен “Запечатленное время” и имеет на обложке одного автора. Он не вместил в себя не только полноправного соавтора-собесед-ника, но даже комментатора и интервьюера, каковыми я в реальности была в “Книге сопоставлений”, иллюстрируя и подкрепляя теоретические размышления режиссера примерами из его же художественной практики.
Тарковский был человеком очень чутким к высказываниям, соображениям и формулировкам, “попадавшим” в его все более строго выстраивавшуюся концепцию, развивающим, углубляющим и систематизирующим его вызревавшие ицеи. Требовался акушер, который бы эти идеи “принимал” и “выхаживал”.
В этом качестве я его, видимо, устраивала, поскольку он никогда не попытался избавиться от моего “соавторства” в Москве и просил меня приехать к нему в Италию дописывать главу о “Ностальгии” и “Заключение”, когда договоры на издание “Книги сопоставлений” были подписаны нами в Англии и Голландии и... почему-то одним Тарковским в Германии...
Мало сказать, что за годы нашего общения я научилась понимать его не с полуслова — с полувзгляда... Моя идентификация с ходом его мыслей была тогда столь велика, что мог произойти, например, следующий курьезный случай. Когда мы жили еще в Москве, Тарковский очень не любил встречаться с журналистами, тем более с западными, опасаясь, что они напишут “что-нибудь некстати и преждевременное”. Но однажды он доверился мне, попросив встретиться вместо него с итальянским журналистом из “Унита” и ответить от его имени на все интересующие вопросы. Тарковский даже не перепроверял “свои” ответы — так, очевидно, это интервью и вышло под его именем.
Но если вдруг я высказывала соображения, идущие вразрез его точке зрения, то Тарковский гневался и раздражался, как ребенок, в лучшем случае, недоумевал: “О чем ты говоришь? Я тебя не понимаю!” И подытоживал свою точку зрения своим обычным, “неотразимым” аргументом: “Это же естественно!”
Он не умел спорить, подбирая доказательства и аргументы — он просто не сомневался в своей правоте. Любое возражение, даже непонимание воспринимал болезненно, а потому сразу наступательно-агрессивно. В этом контексте вспоминается случай на пресс-конференции кинофестиваля в Роттердаме...
В тот вечер он много говорил о национальной культуре, утверждая, что “культура принципиально непереводима на другой язык”. Нельзя сказать, чтобы это утверждение было самоочевидным, тем более для голландцев, гордящихся своим “мультикультурным” обществом. А потому они, действительно, с некоторым недоумением обратились к Тарковскому с вопросом, наивно рассчитывая получить от него дополнительные разъяснения: “А что же тогда такое, по-вашему, “культура”? — “Если вы пришли сюда и даже не знаете, что такое “культура”, то я вообще не понимаю, о чем мы здесь с вами разговариваем!” — последовал раздраженный и лаконичный ответ Тарковского.
Для меня, человека хорошо его знавшего и любившего, в этой категоричности было, на самом деле, много трогательного и наивного, какого-то по-детски беспомощного. Как ни странно, но в такие минуты я ощущала себя рядом с ним “взрослым” человеком, готовым немедленно прийти ему на помощь, разразиться комментариями и пояснениями, следуя, конечно, его внутренней логике, чтобы уточнить, что же на самом деле он имел в виду. Это помогало в нашей работе над книжкой, для этого я была действительно ему нужна. Но он был капризным и своенравным “ребенком”, часто недовольным, убежденным, что все и всегда делает “сам”...
Наверное, в силу все той же своей неизжитой детскости он сам, похоже, верил порой всерьез, что издательство “Искусство” собирается издать нашу рукопись. Помню, как, поторапливая меня с завершением работы, он вдруг сердился: “Ну, что? Тянем? А мне сказали в издательстве, что сейчас откроют книге “зеленую улицу”... Я, конечно, не разубеждала его, полагая, что “блажен, кто верует”, но сама не верила в то время в подобный исход дела ни одной секунды, твердо зная, что пишу рукопись “в стол” и “для истории кино”...
В наследство от сотрудничества с Козловым я получила папку с ворохом разрозненных несистематизированных записей как самого Тарковского, так и Козлова: здесь были наброски отдельных статей, записи биографического характера, часть которых я публикую в этой книге. Далее я старалась копить и множить в записях все, что я слышала от Тарковского, как в специальных разговорах со мной, так и в самых разных местах и по разным поводам. Тем более, что любое застолье Тарковский немедленно превращал в трибуну для высказывания своих соображений об искусстве, о роли художника в современном мире, о самом этом мире и месте в нем кинематографа...
Но вот диалога между нами не состоялось, хотя чем далее развивались наши дружеские и профессиональные отношения, тем настойчивее назревала для меня его действительная необходимость.
Так что эту книжку, посвященную более проблемам жизни, а не творчества Андрея Тарковсккого, я воспринимаю тем не менее, как следствие нашей совместной работы, как обретенную возможность все-таки вступить с ним в диалог, высказаться и задаться вопросами с той долей “искренности”, к которой он не уставал призывать. Правда, мы снова в неравной позиции — теперь я веду диалог с несуществующим, увы, собеседником, который словно продолжает незримо присутствовать рядом со мной до сих пор, потому что разговор наш не был окончен...
В “Зеркале” Тарковский признавался, что ему “все время снится один и тот же сон”. Позднее, когда “Зеркало” было завершено, он сокрушался, что этот сон бесследно исчез, точно испарился из памяти вовсе: прошлое отслоилось и навсегда отошло куда-то, безжалостно и бесповоротно...
Работая над этой книгой, я, напротив, питалась тайной надеждой раз и навсегда избавиться от того, порою, мучительного для меня груза нашего общего прошлого, который давил меня и казался порою реальнее моей настоящей жизни. Я не стану сокрушаться о том, что книга, возможно, избавит меня от некоторых навязчивых сновидений в надежде, что вечно ноющая “печаль моя” об Андрее Тарковском будет все более “светла”, как сказал любимый им поэт.
Неожиданная попытка объясниться в ненависти
Это желание стало созревать во мне неугасимо и неотвратимо, когда Тарковские отмордовали меня после стольких лет дружеских, самых доверительных отношений по полной программе. Видимо, без особых раздумий и сомнений. Я честно старалась и не могла внутренне смириться с тем, что он тоже хладнокровно и обдуманно, без попыток честно объясниться, предал меня, просто выкинув мое имя из нашей общей работы, заверяя, пока это ему было нужно, что это всего лишь временное недоразумение, которое вот-вот будет исправлено... В немецком издании “Запечатленного времени”, той самой работе, с которой я нянькалась столько лет, он спокойно оставил только свое собственное авторское право, полагая, что денег на суд с ним у меня все равно нет.
“Караул! Грабят!” — как писал он в одной из своих записей. Конечно, я пыталась оправдывать его, долго полагая, что этой “идее” несомненно помогали поселиться в его голове его жена Лариса и ее вовремя подоспевшая новая подруга Кристиана Бертончини из немецкого издательства “Ullstein”. Забегая вперед, сразу сообщаю, что в итоге я судилась в Германии после смерти Тарковского, и суд, конечно, выиграла. Но о подробностях случившегося расскажу в соответствующем месте, разматывая клубок событий, в которых я участвовала или которые могла наблюдать радом с Тарковскими в разные периоды. А пока...
Моя память тормозит на том моменте, когда мне казалось я просто физически не переживу этого преднамеренного и совершенно хладнокровно рассчитанного удара. Вот то единственное письмо, которое я написала ему 28 февраля 1985 года в контексте уже завязавшихся грустных событий, полагая, что у Тарковского еще есть шанс одуматься и не за-мораться этой гнусной и глупой историей:
“Уважаемый Андрей Арсеньевич!
Видит Бог, что я сделала все от меня зависящее, согласилась со всем, чего Вы от меня хотели, дабы избежать необходимости обмениваться с Вами письмами, подобными нынешнему. И что же? К чему привела моя уступчивость? Как была использована моя доверчивость, в недостаточности которой меня упрекали, опираясь на высокие гуманистические принципы?
Я очень надеюсь, что подобное письмо я пишу первый и последний раз в моей жизни, честно говоря, после всего случившегося и имевшего длинное предисловие, не слишком уповая на благородство участников этого фарса, но на элементарное благоразумие — слишком больно отозвалось во мне все случившееся с нашей работой, которую в течение стольких лет я тянула на себе, добиваясь от Вас времени на интервью, при каждой возможности записывая Ваши беседы и разговоры по самым разным поводам, бережно сохраняя и систематизируя все то бесконечное, совершенно разрозненное количество материала, которое то “вытягивалось”мною из Вас, то обрушивалось на меня километрами случайной, не относящейся к книге пленки Ваших многочисленных выступлений.
Вы редко были расположены работать над книгой — вы “доверились ” мне, и могу Вам сказать с чистой совестью, что я долгие годы бесконечно ценила это доверие,
боясь утерять крупицу, оттенок, самый крохотный нюанс Ваших доводов и размышлений, возникавших по самым разным обстоятельствам — я писала и переписывала, систематизировала и искала общую логику часто противиречащим друг другу заявлений, старалась найти подтверждение Вашим теоретическим идеям в Ваших же фильмах, дабы “свести концы с концами ”. Я печатала и перепечатывала, как Вы знаете, находясь в Москве,совершенно не надеясь на возможность опубликовать там то, что Вы говорили в полном объеме, но счастливая тем, что я помогаю Вам “консервировать ” Ваши идеи для будущего, для развития кинематографа.
Я не хочу теперь вдаваться в подробности истории этого многострадального вопроса, хотя они красноречивы, не хочу воскрешать историю Утраченных иллюзий я хотела бы забыть все как можно скорее, если бы мое прекраснодушие не было наказано столь жестко и цинично. Хочу надеяться, что Вами не по злому умыслу, а по равнодушию, с которым Вы всегда относились к окружающим Вас людям. Их много — и наиболее сильно любившие Вас многое Вам прощали, видимо, полагая, что Ваше право на неучастие в судьбах других людей, сохраняет Вам духовную энергию для Вашего творчества.
Поэтому сейчас я хочу говорить о другом участнике этой грубо разыгранной истории. Сейчас я хочу говорить о том, мягко говоря, некорректном способе, которым ведутся со мною дела, связанные с изданием нашей книги в Германии, а точнее сказать: никакие дела не ведутся со мною вовсе после того, как книга была мною закончена и отдана Вам на правку.
В этой связи мне приходится напомнить Вам, что, когда весною 1984 года Вы попросили меня приехать к Вам в Сан-Григорио для написания последней, новой главы книги и заключения, то я пошла Вам навстречу, согласившись убрать свое имя с обложки книги и свои комментарии, но я не только не отказывалась, но ставила услови-
ем внесение поправки к подписанному Вами в Германии контракту (почему-то Вы это сделали один!), в которой были бы оговорены все мои полноправные юридические права на книгу, написанную, за исключением двух известных Вам глав, методом литературной записи.
Я не стану теперь напоминать Вам еще о том, что хотела написать вступительную статью к книге, коль скоро соглашалась убрать свои комментарии — и тоже просила оговорить этот пункт в новом контракте или поправке к старому контракту. В немецком контракте, точно также, как это было сделано в английском, я просила оговорить мое право на получение половины денег, как интервьюера, согласившегося Уйти за кулисы ”.
По этому поводу я вела бесконечные переговоры с Кристианой Бертончини, всякий раз заверявшей меня в полной необоснованности моих беспокойств, связанных с правами на эту работу. Признаться столь беспардонное поведение, последовавшее за столь же сладкоречивыми заверениями Бертончини в полном ее понимании ситуации, в ее решительном намерении обеспечить мои интересы, ее призывы “верить людям ” и “не онемечиваться” — буквально ошеломило меня. Ну, да не об эмоциях теперь говорить! Теперь надо говорить о юридических правах, увы!
Андрей Арсеньевич, я очень прошу Вас, поскольку так получилось, что для немецкого издателя Вы являетесь пока единственным полномочным автором книги “Запечатленное время ”, уведомить Бертончини о необходимости выслать мне контракт — даже теперь, после выхода книги — контракт с необходимой поправкой на мое имя, дабы я могла согласиться с правомочностью ее публикации в данном виде. Поскольку мои многократные переговоры и объяснения с немецким редактором так и не дали результатов, то теперь я прошу Вас объяснить ей, что книга “Запечатленное время”могла выйти только с согласия двух ее авторов, даже если один из них Убрался со сцены ” из безграничного уважения к Вам и Вашему желанию иметь авторскую книгу.
Но, повторяю, что я никогда не отказывалась от каких бы то ни было юридических прав на эту книгу, в которую я вложила годы работы, следы которой хранят горы черновиков. Я очень прошу Вас объяснить Бертончини, что в случае игнорирования ею моей совершенно законной просьбы на получение контракта, судья берется запретить дальнейшее распространение книги в связи с огромным количеством материалов, предоставляемых мною в этом случае следствию, и до выяснения конкретных обстоятельств ее создания. Мне кажется, что этот ужас не нужен ни Вам, ни мне.
Кристина также должна знать, что она не имеет права заключать никаких новых контрактов на издание этой книги без моего согласия рядом с Вашим.
Андрей Арсеньевич, я очень прошу, как можно быстрее сообщить мне, какова реакция Бертончини на мою просьбу, если она сама не пожелает проявиться “в действии ’’так сказать. Если же никаких ответов с ее стороны не последует, то я буду вынуждена искать защиты у закона от “гангстеризма ” редактора уважаемого издательства, введенного ею в заблуждение по поводу юридических прав на эту книгу, о моей прямой причастности к которым, надеюсь, Вам, Андрей Арсеньевич, мне не нужно объяснять. Хотя в самых общих чертах, увы, мне пришлось Вам кое-что напомнить на первой странице этого письма, дабы Вы утвердились в памяти, что я все-таки не чай Вам готовила, когда Вы благодарите меня “за ту помощь, которую я оказывала Вам в то время, когда Вы работали над этой книгой ”, как написано, то есть поправлено Вами в “Вашем ” теперешнем предисловии к книге, к слову сказать, составленном мною в основной его части из бывшего моего предисловия к “Книге сопоставлений ”.
Немыслимо неосмотрительно для себя поступила гораздо позднее госпожа Тарковская, но она так или иначе невольно одарила меня копиями нескольких страниц из дневника своего супруга, одна из которых гласит: “Да, забыл вчера: О.Суркова прислала ужасное письмо, полное хамства, претензий и проч., и проч. Надо отвечать, но очень не хочется”.Понятно, что этого своего нежелания Тарковский не преодолел, приписав однако ниже на той же странице прямо-таки своей рукой две, видимо, ассоциативно возникшие у него цитаты:
Честные люди не бывают богаты.
Богатые люди не бывают честны.
Лио-Тсе.
Никогда не беспокой другого тем,
Что ты можешь сам сделать!
Л.Н. Толстой.
Удивительные все-таки цитаты в удивительном, согласитесь, контексте! Сверху рукой Андрея обозначена дата и место записи: “Суббота. 9.111.85. Stockholm”.
Как же все это случилось? Как мы дошли до жизни такой? Какими мы были и какими постепенно становились? Почему? Как видится мне все это теперь, когда я в очередной раз чувствую необходимость высказаться, учтиво освобожденная Маэстро от связывавших меня дружеских уз? Может быть, в этом “освобождении” был некий высший смысл, обостривший мое зрение и заставивший меня менее восторженно и прямолинейно воспринимать даже лучших обитателей этой планеты? Наверное... Если я сумею все-таки объясниться с моими ближними в рамках этой книги... Если хватит ума и силенок рассказать о Нем, его окружении да и о самой себе тоже...
Для этого я подготовила два замечательных, может быть, слишком многословных эпиграфа из любимого Тарковским и мною Фёдора Михайловича Достоевского. С мстительным наслаждением впечатывала я абзацы, выдранные из “Записок из подполья”:
“Либо герой, либо грязь, середины не было. Это-то меня и сгубило, потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собой грязь: обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтобы загрязниться, следственно можно грязниться ".
А дальше больше, к сожалению: “Повторяю, сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово “шельмы ”я употребляю любя), такое чутьё действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумлённое начальство и публика только языком на них в остолбенении пощёлкивают ".
Потом я подумала, и память подкинула мне для записи рядом с Фёдором Михайловичем знаменательный тост госпожи Тарковской, произнесённый ею в отсутствие мужа под бутылку, которую мы распивали с рабочими, строившими деревенский дом в Мясном: “А сейчас, — торжественно провозгласила Лариса Павловна, — я хочу выпить за Андрея, моего мужа, гениального режиссёра! Я счастлива, что живу с ним в одну эпоху!”... Работягам, понятно, было бы вполне достаточно выпить и за одну эпоху, объединившую нас за одним столом. А ведь я пыталась скрыть своё очередное изумление и без того часто изумлявшей меня Ларисой, попыталась всё же тогда ещё раз ощутить в полной мере перепавшее и мне “счастье”, всякий раз не переставая удивляться, как странно и всё-таки необходимо для обоих выглядит это “эпохальное супружество”, зная уже многое, но ещё не предполагая, чем оно для меня обернётся в ближайшем будущем.
Это “будущее” окончательно определилось весной 1985 года, когда я, как говорили встарь, “обмакнула перо в чернила”, и текст, точно подошедшее тесто, начал неудержимо вылезать на бумагу... Я едва успевала записывать...
Сегодня, немедленно, сейчас и более ни минуты промедления. Иначе я задохнусь, захлебнусь в собственной обиде, не перенесу всей жизни своей — такой поистине идиотской и нелепой. Сегодня, как будто бы уже умирая, я хочу сделать о себе одно итожащее признание: “Я так ничего и не поняла в этой жизни!”
Зачем же тогда писать, спросите вы меня. А я отвечу: почему бы и не написать еще раз историю “утраченных иллюзий” и в назидание потомству, так сказать, не подтвердить еще раз всю непреложность заповеди Господней: “Не сотвори себе кумира”? Пусть, наконец, от души посмеются надо мной и другие — а сама себе я вообще стала вдруг смешна с некоторых пор. Итак, к делу!
Я — московская школьница, учусь в специальной школе, собираюсь стать математиком, и вдруг просмотр одного фильма переворачивает всю мою жизнь и будущую судьбу. Что же такое случилось со мной в темноте кинозала, когда только один кадр навсегда запечатлелся в моей памяти неизъяснимой болью и радостью постижения всего мира сразу, во всех его связях, гармонических и трагедийных? А было в этом кадре всего-навсего одно яблоко крупным планом в протягивающей его детской руке под хлещущим летним дождем. Но в контексте всего удивительного для меня фильма в этом кадре соединились в моем воображении плодородие жизни и предчувствие устрашающе-безнадежного конца, великость мира и призрачная хрупкость нашего присутствия в нем, душераздирающая любовь к нему и ностальгическая горечь его неизбежной утраты.
А было мне тогда еще всего 17 лет, а кадр этот принадлежал фильму “Иваново детство” совершенно неизвестного мне Андрея Тарковского.
А теперь, будучи уже довольно взрослой тетей, и, садясь за горестное для меня и, наверное, нелепое для других повествование, пытаясь отыскать начало того клубка событий, который непроизвольно снова и снова разматывает моя память, лишая меня сна и покоя, я снова торможу на том самом мгновении, на киевском Крещатике, куда я выехала на запланированную экскурсию с моими школьными товарища-
ми и угодила на просмотр “Иванова детства”... Значит это было в 1962 году?...
Каковыми же оказались юная впечатлительность и сила юного экстремизма! Если такое дано пережить в кино, то при чем здесь математика? Зачем же алгеброй поверять гармонию? Все прошлое побоку, и, к ужасу моих родителей, я резко меняю свою профессиональную ориентацию и с благоговением переступаю в 1964 году порог киноведческого факультета Всесоюзного государственного института кинематографии, преисполненная рыцарской любовью к искусству экрана.
Тема для вступительного экзамена не вызывала у меня никаких сомнений: конечно, работа об “Ивановом детстве” (Тарковский только готовился в ту пору к съемкам “Андрея Рублева”). Но удивительно, что уже тогда, не успев еще “скомпрометировать” себя “Рублевым”, он уже был, что называется “на подозрении” у советских идеологов. Всеми праведными и неправедными путями молодежь старались развести с Тарковским, а наиболее последовательных его поклонников относили в разряд “неблагонадежных”... Излишне объяснять, почему именно это обстоятельство лишь добавляло жару в “благородный пыл” тогда уже 18-летней девицы — ведь сегодня уже столько написано о романтиках и правдоискателях так называемых шестидесятых...
Мне было уже 40 лет, когда я решилась поговорить с Тарковским начистоту, и вот уже три года, как я навсегда поселилась в Амстердаме. А вчера получила письмо от известного московского критика, тоже когда-то очень любившего Андрея Арсеньевича и успевшего в тяжёлые времена кое-что для него сделать. Читая это письмо, я хохотала до упаду — оно подводило определённую черту под той уже многолетней дискуссией, которую я вела с моей любимой коллегой, увы, оказавшейся всё-таки значительно прозорливее меня и снова обвинившей меня по заслугам в моём слишком очевидном теперь попустительстве в отношении моего кумира.
Читаю: “А Вам это должен быть последний урок. “Не сотвори себе кумира” — ведь это Божья заповедь. Вы же видели, как этот человек поступает с друзьями, с родным отцом, с близкими, с сотрудниками, с помощниками, с поклонниками... Вспомните... (следовало перечисление)... Почему же Вы думали, что на Вас не упадёт тот же кирпич, который бросали уже в стольких? Вот это вечная ошибка наша: на глазах Ваш друг или Ваш кумир топчет другого, Вы молчите или даже одобряете, оправдываете вместо того, чтобы возмутиться, честно сказать ему или дать по морде и уйти”...
Моя любимая, уважаемая старшая коллега, Вы были правы, а я признаю, что получила по заслугам. И, ох, как не стоило бы себя жалеть! Но до этого нужно ещё созреть. А пока что-то захлёстывает:обида не отпускает, за горло держит, на даёт вздохнуть. Ох, как нехорошо, но именно теперь воспоминания, как будто вырвались из-под гнёта, захлёстывая мутным потоком. А ведь отмахивалась, отбрыкивалась столько лет, хотя ведь, действительно, знала... многое знала... слишком многое... А, может быть, даже кичилась этими знаниями. То есть, так или иначе, приходится снова согласиться с Вами: “А мы-то знаем, что началась эта дьяволиада давным-давно”. Правильно. Но мне так хотелось быть только послушной, старательной ученицей, продолжая фиксировать возвышенные мысли нашего Великого Романтика, отказываясь замечать, где он лжёт себе и нам, но почему и с какой целью? А сравнивая нынче его слова и дела, просто лезут в глаза зазоры между правдой и циничным враньём для толпы, от которых кружится голова, и челюсть сводит от ярости...
Ну, да полноте, не совсем сразу я всё это поняла, хотя и давно, не скрою... Но как бы это всё объяснить, если не оправдываться? Во-первых, наверное, чем дальше, тем больше было жалко своей же проделанной работы — а хотя бы для этого хотелось от грязной жизненной практики отрешиться, да чистым искусством заняться, то есть разделить Мастера и бытового человека на две несоприкосающиеся части. Но только, в конце концов, прямо-таки не дали мне этого сделать — не позволили! Буквально сами Тарковские и не позволили, не малюсенькой лазеечки не оставили, через которую я могла бы прошмыгнуть, не заморавшись, из духоты коммунальных склок к просторам живительных идеалов, точно ангелы парящих в разряжённом эфире. И так вот всё наизнанку невзначай вывернулось...
А сейчас хотелось бы попробовать отрешиться от эмоций и постараться изложить всё случившееся по-порядку — но не так-то просто, оказывается, это сделать, потому что, на самом деле, не какие-то отдельные “события” надо изложить, а целую жизнь... Жизнь! Понимаете? Вот в чём загвоздка! Извините за сентиментальность, но надо говорить о “лучших годах” да “свежих силах”, так глупо и нерасчётливо растраченных... На кош?... А теперь мне начинает казаться, что и не на что!... Но это уже совсем непозволительные мысли, которые заставляют задуматься о том, зачем вообще-то жила...
Общаясь почти двадцать лет с Великим Маэстро, и все далее продвигаясь рядом с ним по жизни, я все чаще задавала себе этот вечный вопрос, обращенный в знаменитой трагедии Пушкина Моцартом к Сальери: "... гений и злодейство — две вещи несовместные. Не правда ль?”, все более готовая ответить, увы, что “совместные”, да еще очень даже!...
А тогда, почему я должна была бы погнушаться начинавшими с некоторых пор все более тяготить меня в этическом смысле взаимоотношениями с супружеской четой Тарковских? Ведь именно их действия, все более удивлявшие меня, в конце концов, приводили к выстраданному опытом твердому убеждению, что Гений и Злодейство не только совместны, но и закономерны. Так что я постаралась не обращать более внимания на действия, производившиеся ими в житейской практике, и сосредоточиться исключительно на деятельности обожаемого мною Маэстро, ценной для всего человечества. Удивительно, но чем более сомнительными в своем нравственном отношении казались мне их бытовые поступки, тем все более настойчиво апеллировал Тарковский в своих выступлениях и интервью к таким категориям, как Мораль, Нравственность и Духовность, очень сокрушаясь, что в романо-германских языках нет слова, точно соответствующего “духовности” в русском понимании.
Но, как я уже призналась, мною было решено прощать ему маленькие неточности ради его творчества, “ценного для всего человечества”. Так, по крайней мере, я решила тогда. Так мне тогда казалось. А иногда, признаться, кажется и сейчас... Ничего не поделаешь...
* * *
Тогда весною 1985 года я волею судеб остановилась, схватила себя за руку и не позволила себе продолжать это сочинение, полное желчи и обиды. А недавно прочитала в статье у Померанца в “Искусстве кино”: “Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело”. И еще раз подумала, что не судьба, а Господь уберег меня тогда.
И решила я никогда больше не писать о Тарковском, позабыть о нем, вычеркнуть из свой жизни, потому что чувствовала, что “объективной” бьггь не сумею, а быть пристрастной в той степени, в какой меня подталкивал в тот момент опыт общения с ним, мне не хочется.
Прошло всего немногим более полугола, конец декабря 1985-го. Позвонила знакомая и сообщила: “Ты знаешь, я только что прочитала в газете, что у Тарковского рак легких, и только в связи с этим получено, наконец, разрешение на выезд к нему сына и тещи”...
Я не поверила своим ушам. Не могла поверить! Возможность подобного развития событий совершенно никак не приходила мне в голову. Мысли мои лихорадочно закрутились, и я пришла к твердому убеждению, зная хитрость и изворотливость Ларисы Павловны в достижении цели, что все это “утка”, новый трюк, состряпанный ею, чтобы получить, наконец, Тяпу (так с детства называли их общего маленького сына Андрюшку), которого не удавалось вызволить к себе на Запад тогда уже более трех лет. Трюк показался мне рискованным и неаппетитным с одной стороны, а с другой стороны я понимала, до какой степени отчаяния можно дойти в тщетных усилиях получить собственного ребенка.
Тем не менее, чтобы убедиться в своей предполагаемой правоте, я решила перезвонить в Швецию Анне-Лене Вибум, продюсеру “Жертвоприношения”, с которой я когда-то свела Тарковского. Я спросила, известно ли ей что-нибудь о заболевании Андрея, потому что в голландских газетах опубликован какой-то бред о раке легких? И услышала в ответ сдерживаемое всхлипывание: “Да, Ольга, это правда... Причем рак неоперабелен... Андрея может спасти только чудо, но ведь ты знаешь, как он верит в чудеса?!”...
В одно мгновение горе обрушилось на меня. В тот момент все события развернулись в другой плоскости: какая разница, чем закончились наши взаимоотношения? Ведь лучшие двадцать лет моей жизни были связаны с этой семьей и с этим человеком, Андреем Тарковским. Он более чем несправедливо обошелся со мною? Ну и что же? Все это не имеет больше никакого значения: он такой, какой он есть, и все мы, кто был к нему близок, в конце концов, любили его именно таким... От рака легких умер Толя Солоницын. Перед отъездом в Италию, зная, что Толя обречен, Тарковский не попрощался с ним. От рака легких умерла мать Тарковского Мария Ивановна Вишнякова, с которой, судя по “Зеркалу”, у него были непростые отношения... Вот ведь, какими парадоксами выворачивается жизнь!
Между прочим, в первом варианте сценария “Жертвоприношения”, который назывался “Ведьма”, герой тоже заболевал раком, излечиться от которого ему помогала ведьма. Тарковский часто обращался к истории излечения от рака Солженицына, с упоением цитируя, вроде бы высказанную писателем мысль, что рак поражает только людей с “нечистой совестью”... Вот тебе и на!...
А я еще хотела с ним судиться! Да пропади все пропадом! При чем здесь книжка? Да пусть себе наслаждается со “своей” книжкой — только бы выздоравливал, только бы не умирал! В голове просто не помещалась мысль, что Андрей действительно может так вдруг, неожиданно быстро умереть... Всегда казалось, что у него все еще только начинается... Все еще впереди... Кто-кго, но не он же! Какой фантасмагорический бред!
... А сейчас с удивлением перечитала написанную мною прежде идиотскую фразу: “Понаблюдайте, если вы столкнетесь с Маэстро, как он будет бесконечно ласков... с любым живым существом”... ПОНАБЛЮДАЙТЕ! Какая отвратительная человеческая самонадеянность, как будто бы мы всегда сможем “понаблюдать”?! А вот нет!
Уже никогда никто не сможет “понаблюдать” то, что в конце концов я все-таки имела счастье наблюдать, почти двадцать лет. А более никогда! Надо освоиться с этой мыслью, страшной и важной!
Возвращение к истокам
А где стрекоза? Улетела. А где кораблик? Уплыл. А где река?* Утекла.
В разрозненных автобиографических заметках, которые затерялись в папке материалов, переданных мне на*рассмотрение Тарковским, когда я была “призвана” им для работы над “Книгой сапоставлений”, именно эти строчки его замечательного отца, поэта Арсения Тарковского встречаются много раз.
Многие художники оставляли свои свидетельства о том, какую важную роль сыграли в формировании их личности детство, родители или первые впечатления. Но именно Тарковский стал одним из немногих кинематографистов, у которого собственное детство и воспоминания прошлого стали буквальным материалом для его фильмов или обозначились очень значительной ролью при формировании замысла. Трагически навязчивое осознание невозвратимости времени окрасило лучшие кадры фильмов Тарковского той всечеловеческой, ностальгической тоской по утерянному раю, которая составила наиболее неоспоримую и чувственно-убедительную сторону его искусства. “Зеркало” — по мнению многих поклонников, лучший фильм Тарковского — был инспирирован к появлению необоримой жаждой режиссера вырвать, “остановить” и властно присвоить себе назад и навсегда из небытия те самые “прекрасные мгновения”, которые позволят ему снова и снова “входить в одну и ту же реку”.
Гибельное для земного существования поступательное движение времени вперед и только вперед продвигает нас неумолимо к собственному концу, все более разъединяя с собственным прошлым. Экран Тарковского противостоит, казалось бы, самому непреложному закону трагического миропорядка — он хочет по-своему распорядиться временем, настаивая на его повторяемости, неизжитости в нашей памята и судьбах поколений. Он уже сейчас не хочет считаться со временем, которому только еще потом все равно предстоит отпасть за ненадобностью, когда “небо скроется, свившись, как свиток” или, по Достоевскому, “погаснет в уме”...
Экран Тарковского дарует нам катарсис в убеждении, что “смерть, — как сказал Пастернак, — можно будет побороть усильем воскресенья”. Тарковский пытается это продемонстрировать в своих фильмах уже сейчас и теперь в самой наглядной убедительности, к которой предрасполагают возможности киноязыка, фиксирующего убегающее время во всех его приметах навсегда. Для Тарковского — это единственная подлинная надежда, — возможность всегда разрешить катарсисом самое глубокое отчаяние.
Например, почему именно у Тарковского так эмоционально значительно в “Ивановом детстве” то самое простое яблоко, омываемое лешим дождем, которое девочка протягивает Ивану? Протягивает несколько раз в одном и том же кадре или тот же кадр повторяется несколько раз — но так или иначе, в результате этот кадр (кадры?) в повторяемости движения рождает в нас одновременно двойственное чувство как надсадной груста неизбежной потери, так и светлой ра-доста обретения. Потеря неизбежна, потому что даже если Иван останется жить, то яблоко все равно вместе с детством будет принадлежать уже невозвратамому прошлому. Снови-денческие образы памята Ивана даруют нам в то же время радость обретения на это мгновение и навсегда, снова и снова яблока своего детства, с которым не хочется расставаться, ощущая свое собственное бессмертие.
Удивительно, что Тарковский все более категорично и последовательно возражал против использования своих автобиографических заметок в “Книге сопоставлений”, которые я старалась как можно в большем объеме представить в главе “О времени”. Читая подготовленные мною тексты, отчасти скомпилированные из его собственных воспоминаний, он все более жестко выбрасывал то, что было связано с его наиболее непосредственным и простым “чисто человеческим” опытом, будничными подробностями. Мои возражения, конечно, не принимались в расчет, потому что он замыслил глобальный чисто теоретический труд. Так что мои попытки “утеплить” материал книги его собственным, конкретным, всегда уникальным личностным опытом принимались им в штыки. Топорща усы и недовольно их покусывая, он бормотал, вычеркивая очередной абзац: “а это еще зачем?” Ему хотелось иметь строгую теоретическую книгу — этакий “незаинтересованный” трактат об искусстве.
Теперь, когда Андрей, увы, больше уже не возражает мне, я все-таки публикую сохранившиеся у меня заметки о его собственном прошлом. Думаю, что сейчас он не рассердился бы на меня, потому что мне хотелось бы воссоздать его образ таким, каким он мне виделся и определял для меня его творчество. Тем более, что мое намерение находится в полном согласии с его точкой зрения: память и то, что она хранит, определяет личность как таковую. Наконец, в этих его заметках коренится будущее “Зеркало”.
Сестра Тарковского Марина выпустила сборник воспоминаний о брате. Он открывается ее собственной статьей, рассказывающей об их родителях и о первых месяцах жизни Андрея, когда он назывался в семье Рыськой и Дрилкой...
А где стрекоза? Улетела.
А где кораблик? Уплыл.
Где река? Утекла???..
Так что попробуем прошлое Тарковского сейчас развернуть вспять и все начать сначала.
“Что значит для меня память, связанная с детскими чувствами? Что значит она для меня? Почему она лучший друг и советчик, когда дело касается творчества? Потому ли, что напряжение связи с ней возбуждает твою волю, жажду творчества? Обязательства перед памятью? Не забыть, запомнить навсегда, закрепить, рассказать о своем детстве? О себе, когда мы были бессмертными и счастливыми?Когда все еще было впереди, все возможно...
“...Рассказ какой-то про одно и то же,
На свет звесды, на беглый блеск слюды,
На предсказание беды похожий.
И что-то было в нем от детских лет,
От непривычки мерять жизнь годами Нот того, чему названья нет,
Что по ночам приходит перед снами,
От грозного, как ранние года,
Растительного самоощущенья... ”
Вот, что писал мой отец Арсений Тарковский ”.
А вот что писал и вспоминал уже много лет назад сам Андрей Тарковский.
Во время эвакуации, когда мы жили в Юрьевце — зимы были прекрасными. Видимо, оттого, что в этом маленьком городке на Волге не было никаких заводов, способных перепачкать зиму.
В 1942 году, в канун Нового года, там выпало столько снега, что по городу было почти невозможно ходить. По улицам в разных направлениях медленно двигались люди, неся на карамыслах ведра, полные пенистого пива. Они с трудом расходились на узких, протоптанных в снегу тропинках и поздравляли друг друга с наступающим праздником. Никакого вина, конечно, в продаже не было, но зато в городе был пивной завод и по праздникам жителям разрешалось покупать пиво в неограниченном количестве.
Снег был чистый, белый. Он шапками лежал на столбах ворот, заборов, на крышах..
В шестнадцать лет меня поразил “Игрок ’’Достоевского. Я перечитывал его по нескольку раз. Дело в том, что я был азартным и распущенным. Улица влекла меня своей притягивающей властью, свободой и колоссальными возможностями выбора для применения своих истовых наклонностей.
В школе в то время со страстью предавались игре в “очко” и в “расшибалку” особого рода. Двое становились друг против друга, и каждый клал на асфальт или на каменный подоконник по монете. Следовало ударом другой перевернуть монету своего партнера. Тогда деньги, зажатые у того в кулаке, переходили к выигравшему. Если же монета не переворачивалась, тот пересчитывал их, и неудачник платил проигрыш в размере суммы, спрятанной в кулаке противника.
Мне везло. Я ходил, позвякивая мелочью, оттягивающей карманы, и похрустывал красными тридцатирублевками. Деньги на ведение хозяйства мать держала в ореховой шкатулке, и я иногда незаметно клал в нее часть выиг-раша.
Я считался мастером своего дела, но чемпионом был другой человек, которого всегда можно было увидеть на асфальтовых ступеньках продовольственного магазина на Серпуховке, который назывался “Ильичом У Ильича ”, “к Ильичу ” и так далее... Название это шло из-за расположенного по-соседству завода имени Ильича... Вспоминается еще тридцатилетний человек, высокий и грузный, страдавший частичным параличом. Лицо его было перекошено, руки прижаты к бокам и согнуты в локтях. Ходил он, припадая на одну ногу и подволакивая другую. Яне помню, как его звали. Но он был чемпионом по “расшибалке”, и “бился”он, закладывая в огромный кулак чудовищные деньги. По моим представлениям он был богачом.
Несмотря на болезнь, в момент удара монетой, руки его переставали трястись и обретали силу и твердость. Этот человек вызывал во мне удивление, уважение и зависть. Обыграть его было невозможно.
Можно себе представить, как я учился!
“Игрок ”меня поразил.
Когда я время от времени перечитываю его сейчас, то, несмотря на многие частности и линии, которые раньше до меня не доходили, я вспоминаю себя шестнадцатилетним, и каждый раз с изумлением констатирую, что глубже, чем тогда, я не способен понять характера Долгорукого. Он был для меня открытой книгой. Мне кажется, что я по-настоящему понимал “Подростка” именно тогда, когда бродил по улицам с карманами, набитыми выигранными деньгами. Мне была понятна и ротшильдовская “идея”Долгорукого и мотивы, которыё руководили им и его страстью к игре, к “накопительству” в духе Фрейда, потому что никогда не знал, куда применить выигрыш (отдать матери я боялся из-за возможности быть разоблаченным).
Я обожал книги о кладах и кладоискательствах, самыми любимыми местами их были списки, в которых перечислялись запасы и снаряжения из Жюля Верна, Торо, Дефо... “Пиковая дама ” доводила меня почти до исступления. Теперь мне понятна реакция Долгорукого на события, которые он пережил, выразившаяся в смерти его “идеи ”. Все душевные силы он отдал тем, кого любил, и это был самый высокий вклад его “капитала ”.
“Подросток”Достоевского — великий роман. Он повествует о становлении характера, стремящегося к любви и только в ней способного раствориться целиком. Это воспаленный, лихорадочный рассказ о мятущейся душе, переполненной любовью и обидой к тем, кто эту любовь отвергает. И он успокаивается, когда находит иной предмет, к которому можно приложить свою страсть. Круг замыкается. Ребенок становится взрослым. Его характер окончательно формируется.
Детством, воспоминаниями о себе, чувствами бессмертия и острой растительной радости художник питается всю свою жизнь. Чем ярче эти воспоминания, тем мощнее творческая потенция.
Поэтому автобиографический жанр, единственный, в котором художник цельно и недвусмысленно приносит жертву у истоков своего таланта. Поэтому-то я должен снять фильм, который будет называться “Белый день”(“Зеркало* — О.С.). Фильм о моем детстве, счастливой памяти и о любви, смысл которой можно осознать только сейчас, когда ты, наконец, понял, что и как ты любил и почему. Тогда же любовь была бессмысленна и поэтому радостна и безмятежна. А так как очень хотелось быть счастливым, то научиться этому можно, только вспоминая.
Детство, сияющие на солнце верхушки деревьев и мать, которая бредет по покрытому росой лугу и оставляет за собой темные, как на первом снегу, следы...
* * *
Я был хитрым и наблюдательным. Хитрость оплодотворяла мою наблюдательность и вместе с неумением ее скрывать выкристаллизовывалась в какую-то отвратительную и болезненную незащищенность. Незащищенность же эта своеобразно выразилась в моем патологическом нежелании действовать в нужный момент. Я как бы заскоруз в сладострастном эмпирическом пафосе. Я был похож на растение. На тыкву, с практическим умыслом выпускающую завивающийся ус, чтобы за что-нибудь уцепиться. Беда в том, что я так ни за что и не цеплялся. Тыква была дефективная... Усы ее не стремились к опоре, а с болезненной напряженностью вздрагивали в мутной парной темноте огородной зелени, лишенные цели.
Меня успокаивал огород. Он царственно покрывал пространство между домом и тремя заборами. Один отделял его от улицы, ведущей вверх, в гору, к кирпичной выбеленной Симоновской церкви, другой — от соседского участка, а третий, с калиткой на веревочных петлях, от нашего двора, заросшего лебедой и растением, названия которого я не помню — с шишечками, похожими на цветущий подорожник, которые пачкали руки черным, если их раздавить между пальцами...
Все три забора были старыми и поэтому прекрасными. Кстати! “Считается, что время само по себе способствует выявлению сущности вещей. Поэтому японцы видят особое очарование в следах возраста. Их привлекает потемневший цвет старого дерева, замшелость камня или даже обшарпанность — следы многих рук, прикасавшихся к краю картины. Вот эти черты древности именуются словом “саба ”, что буквально означает ржавчина. (Патиной это называется!) Саба, стало быть, — это неподдельная ржавость, прелесть старины, печать времени.
Такой элемент красоты, как саба, воплощает связь между искусством и природой”(Вс.Овчинников “Ветка Сакуры”. “Новыймир”’2,1970, стр.192).
Но я не японец! Откуда же такая тяга к патине?
Да, заборы — это особая тема. Заборы после дождя, когда они сохнут на солнце...
* * *
Детство моих сверстников связано с войной. Когда нам было девять лет, наступил 1941-й год. В 1945-м нам исполнилось тринадцать. Люди одного поколения в мирной жизни менее связаны друг с другом. Мы же были связаны войной. Ожиданием. Надеждой и страхом. Верой и голодом. Письмами от отцов в виде треугольников, приходивших с фронта. Обесцененными денежными аттестатами, а некоторые счастливыми короткими побывками и свиданиями с отцами и братьями.
Я помню, как это было у нас.
Редкие березы, ели — не лес и не роща, — просто отдельные деревья вокруг дачи, на которой мы жили осенью сорок четвертого года.
Мы бродили по участку и собирали сморчки. Я бесцельно слонялся между деревьями, потом наткнулся на канавку, наполненную талой водой. На дне, среди коричневых листьев почему-то лежала монета. Я наклонился, чтобы достать ее, но сестра именно в это время решила испугать меня, с криком выскочив из-за кустов. Я рассердился, хотел стукнуть ее, но в то же мгновение услышал мужской, знакомый и неповторимый голос: “Марина-а-аГ В ту же секунду мы уже мчались в сторону дома. В груди у меня что-то прорвалось, я споткнулся, чуть не упал, и из глаз моих хлынули слезы. Все ближе и ближе я видел его очень худое лицо, его офицерскую форму, кожаную портупею, его руки, которые обхватили нас. Он прижал нас к себе, и мы плакали теперь все втроем, прижавшись, как можно ближе друг к другу, и я только чувствовал, как немеют мои пальцы — с такой силой я вцепился ему в гимнастерку.
— Ты насовсем?Да? Насовсем? — захлебываясь бормотала сестра, а я только крепко-крепко держался за отцовское плечо и не мог говорить.
Вдруг отец оглянулся и выпрямился. В нескольких шагах от нас стояла мать. Она смотрела на отца, и на лице ее было написано такое страдание и счастье, что я невольно зажмурился.
Те, кто родились позже 1944-го года — совершенно другое поколение, отличное от военного, голодного, рано узнавшего горе, объединенного потерями, безотцовщиной, об-рушевшейся, как стихия, и оборачивающейся для нас инфантильностью в 20 лет и искаженными характерами. Наш опыт был разнообразным и резким, как запах нашатыря. Мы рано ощутили разницу между болью и радостью и на всю жизнь запомнили ощущение тошнотворной пустоты в том месте, где совсем недавно помещалась надежда.
Наше поколение — битое. В том смысле, который обычно употребляют в отношении женщины, печенками и бедами понявшей смысл и значение верности.
В нас еще долго жило эхо этой самой надежды, которая объединяла всех, кто пережил войну. Она связывалась с исполнением всех желаний, задавленных смертями, бомбежками, нищетой и разрухой.
Желание покоя и сытости выродилось после войны у одной половины в истовые убеждения и служение им, у другой — в приспособленчество и стремление к излишествам.
Несмотря на, в общих чертах, общий мартиролог, расслоение началось необратимое и ожесточенное, как только мы стали взрослыми.
Трудно говорить о специфике роли, которую играет в жизни наше поколение. Единственное, на что можно решиться — это рассказать о себе. Тем более, что говорить от лица многих недостойно и безответственно.
* * *
Самое старшее поколение кинематографистов-пионе-ров — самое трагичное. Судьбы Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина в высшей степени драматичны и многозначительны.
Пожалуй, едва ли не самым страшным и нелепым документом, свидетельствующим об этом, является опубликованное в печати письмо С.М.Эйзенштейна “Ошибки “Бежина луга”.
* * *
Первый раз я был в кино в 1939 году. Меня повела туда мать. Она считала, что кино вредно сказывается на детской психике и всячески старалась оградить меня от него. (Вот и оградила!)
Мать повела меня в “Ударник ”. Шел “Щорс ” Довженко. Картину я не запомнил. Я помню лишь голубоватое мерцание экрана и черные взрывы среди подсолнухов, сопровождавшиеся музыкальными аккордами. Из этого посещения “Щорса ” я ничего больше не помню. Эти взрывы и подсолнухи меня потрясли.
Довженко — гений. И, к сожакению, должен добавить — гений наполовину несостоявшийся. Его “Земля ” — великая картина. У нас в кино не так уж много великих картин. Из немых: “Земля ”, “Броненосец “Потемкин ”. Из звуковых: “Щорс” и, на мой взгляд, “Окраина” гораздо талантливее и значительнее “Чапаева ”. Сейчас “Окраина ” смотрится с огромным интересом. Она осталась современной даже по форме. Актеры там играют просто прекрасно.
Если говорить о корнях, которые питают меня, то они скорее связаны с литературой, живописью, поэзией и музыкой, чем с кино как таковым.
Удивительно, что разглядывая этот старый блакнот Тарковского, я замечаю на обложке какую-то странную запись, сделанную, судя по почерку, Ларисой для Андрея: “Оля предупредила, чтобы с Нелей не говорить ни о чем.
Неля Алекс. Кандюрина: д. 234-21-88; раб. 233-67-83 (с 5-6) Биби будет звонить Сурковой....” Убей Бог, чтобы я помнила сегодня что-нибудь по этому поводу, когда, наверное, меня просили помогать “плести интриги”, чтобы заполучить Биби Ацдерссон, снимавшуюся у Егорова, с которой я тогда дружила. Был замысел снимать ее в главной роли “Зеркала”. Все скрывалось, все делалось из-под полы, всего опасались...
Как дико и почти немыслимо сегодня осознавать, что вот эти вопросы, кажется, еще недавно так волновавшие нас, записовавшиеся на бумажках как неотложные, принадлежат ныне уже не существующим людям...
* * *
В 7 лет я поступил в музыкальную школу и с перебоями кончил ее в 1946году по классу рояля. Инструмента у нас не было, и занимался я у знакомых в разных домах. Кончил я ее частным образом, и Нина Александровна, моя учительница, за два последних года занятий не взяла с нас ни копейки. Она знала, что матери моей трудно. Если бы после школы, я поступал в консерваторское училище, я бы попал наверняка. Так говорила Нина Александровна. Но я бросил музыку, несмотря на отчаянные усилия моей матери, направленные на покупку билетов и абониментов в Консерваторию, куда мы ходили с ней по два раза в неделю.
Музыку я бросил. И до сих пор об этом не жалею. Жалею, что не стал дирижером. Но музыка легла мне на душу. Параллельно с 1943 года я два года занимался живописью в художественной школе, и живопись тоже бросил...
В нашем доме было много книг, и я привык много читать. Когда я занялся режиссурой: поступил во ВГИК в мастерскую М.И.Ромма, а потом оказался на Мосфильме и столкнулся с ней вплотную, я понял, что все, что я знал, мне пригодилось. Но что меня поразило на всю жизнь и за что я больше всего благодарен матери, это природа. Это чувство любви к ней — нежной и грустной, не только не
гаснет, но крепнет с каждым годом. Наверное, поэтому “Жизнь в лесу” Торо — моя самая любимая книга. Мне кажется имеет смысл перечислить мои первые книги, которые я перечитываю до сих пор.
Андерссен— “Сказки”
Марк Твен — “Том Сойер” “Гекельбери Финн”
*Дон Кихот”, “Робинзон Крузо”, “Гулливер”.
Рыцарские романы Вальтера Скотта, Стивенсон, Бр. Гримм, проза Лермонтова и Пушкина, “Записки охотника ” Тургенева, рассказы Бирса, Киплинга, А. Грина, “Детство”и “Отрочество”Толстого, Гоголя...
Это первое, что вспоминается.
В школе же, где, в основном, все учебное время я посвящал драматическому кружку, жажда творчества выражалась лишь в отвратительном самолюбовании... Главное, что я считаю важным для моего сегодняшнего занятия кино — это облик, который врезался в мою память — вода, деревья, леса, поля, дождь, листья, заборы под солнцем, огороды, раскаленные зноем крыши среди деревьев, и все это, словно минутные деления на часах моего детства. Детства, которое не более и не менее, материал духовной жизни, залог ее разрастания и соединения с другими людьми, организующими мою судьбу. Сейчас мой отец, Арсений Александрович Тарковский по праву считается лучшим из живущих русских поэтов. И я думаю, что его гены в формировании моих запросов сыграли немалую роль. В свое время и я пытался писать стихи — безнадежно бездарные и несамостоятельные. Еще в начальной школе меня поразил пушкинский “Пророк ”. Я его не понял, конечно. Но увидел. Он в моем воображении связывался с иконой времени Грозного “Иоанн Предтеча ”, которая висела на стене в комнате, где я спал. Мятежная с огромными крыльями фигура на красном, как кровь, фоне. И почему-то я видел песок. Плотный, убитый временем. Это, наверное, из-за строк, “как труп в пустыне я лежал ”. Правда, я не чувствовал тогда, что такое труп... И еще из-за строки: “В пустыне жалкой я влачился ”...
Я с благоговением перелистывал монографии о живописи, которые в огромном количестве стояли на отцовских полках. Тем не менее нельзя утверждать, что воспитывался я отвлеченно и метафизично. У меня была удивительная тяга к улице — со всем ее “разлагающим ", по выражению матери, влиянием, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.
Улица уравновешивала меня по отношению к рафинированному наследию родительской культуры. Что же касается родителей, то, если отец передал мне частицу своей поэтической души, то мать — упрямство, твердость и нетерпимость. Хотя у отца тоже всегда было достаточно этих необходимых в наше время качеств для тех, кто занимается творчеством.
Любопытная деталь в связи с данью, которую я с почтением приношу своим родителям. Когда уже во ВГИКе приемная комиссия решала, кому быть или не быть студентом, В. Шукшин и я были вычеркнуты из списка поступивших. И, как объяснил мне потом М.И.Ромм, за мою излишнюю интеллигентность и нервность, Васю же Шукшина за темноту и невежество. И только заинтересованность Михаила Ильича помогла нам стать студентами режиссерского факультета.
В детстве моя мать впервые предложила мне прочесть “Войну и мир ”. Потом в течение многих лет не переставала цитировать мне куски оттуда, обращая внимание на детали и тонкости толстовской прозы. Поэтому “Война и мир ”явилась для меня школой вкуса и художественной глубины, после которой я не мог читать муку-латуры, вызывавшей у меня чувство брезгливости и глубокого презрения.
Мережковский в своей книге о Толстом и Достоевском, которую я недавно впервые прочел, подчеркивает неудачные места, где герои пытаются либо философствовать, либо философски оценить явления. Подчеркивает с целью резкой критики. На мой взгляд справедливой. Но это не мешает мне любить Толстого за “Войну и мир ”. Теперь-mo я знаю, что гений не в абсолютной законченности произведения, а в произведении со следами даже невнятными и неумелыми кусками, которые он преодолевает талантом и страстью.
И снова я, как маньяк, возвращаюсь к своей теме. Теме детства, земли, которая сейчас для меня слилась в грустную на высоких регистрах, похожую на шарманку музыку. Это Бах — фа-минорная хоральная прелюдия для органа. Если я хочу сочинить для своего фильма что-нибудь толковое, я слушаю Баха и вспоминаю Симоновскую церковь.
Во время войны, когда мне было уже двенадцать лет, мы снова жили в Юрьевце. Но теперь нас называли “выкуй -рованными” или “выковыренными” как кому больше нравилось.
Симоновская церковь была превращена в краеведческий музей. Пустовал только огромный ее подвал. Стояло жаркое лето, и тени высоких лип вздрагивали на ослепительных стенах. Мы с приятелем, который был на год меня старше и вызывал во мне чувство зависти своей храбростью и каким-то не по возрасту оголтелым цинизмом, долго лежали в траве и, щурясь от солнца, со страхом и вожделением смотрели на невысокое приподнятое над землей оконце, черное на фоне сияющей белизны стен.
Замысел ограбления был разработан во всех деталях. Но от волнения все его подробности смешались у меня в голове и твердо я помнил лишь об одном: влезть в оконце вслед за моим предприимчивым приятелем. Мы позвали мою сестру, спрятали ее в траве за толстой липой и велели ей следить за дорогой. В случае опасности она должна была подать нам условный сигнал. Умирая от страха, она согласилась после напористых увещеваний и
угроз. Размазывая по лицу слезы, она лежала за деревом и умоляюще смотрела в нашу сторону с надеждой на то, что мы откажемся от своего безумного предприятия. Первым юркнул в прохладную темноту подвала руководитель операции. За ним я. Выглянув из оконца, я увидел перепуганные глаза сестры, отражающие блеск освещенных солнцем церковных стен.
Мы долго бродили по гулкому подвалу, по его таинственным и затхлым закоулкам. Сердце мое колотилось от страха и жалости к самому себе, вступившему на путь порока.
В ворохе хлама, сваленного в углу огромного сводчатого помещения, пахнущего гниющей бумагой, мы нашли бронзовое изображение церкви — что-то вроде ее модели искусной чеканки, формой напоминающей ларец или ковчег. Мы завернули ее в тряпку. Собрались уже было отправиться в обратный путь, как вдруг услышали чьи-то шаги. Мы бросились за гору сваленных в кучу заплесневевших от сырости книг и, прижавшись друг к гругу, замерли, вздрагивая от ужаса. Шаркающие шаги, звонко ударяясь в низкие потолоки, приближались.
Из боковой дверцы появилась сгорбленная фигура старика в накинутой на плечи выгоревшей телогрейке. Бормоча что-то про себя, он прошел мимо нас, свернул в коридор, ведущий к выходу, и через минуту мы услышали скрежет железного засова и визг ржавых петель. Потом грохнула дверь, эхо ворвалось под освещенные сумеречным светом своды и замерло, растворившись в подземной прохладе подвала.
Я уже не помню, как мы выбрались из подвала. Помню только, что у меня не попадал зуб на зуб.
Не зная, что делать со своей находкой и оценив ее, как предмет, обладающий сверхъестественной силой и способный повлиять на нашу судьбу самым роковым образом, мы закопали его возле сарая, под деревом. Мне было страшно, и долго после этого я ждал жутких последствий своего чудовищного преступления перед таинством непознаваемого. Особенно сильное впечатление эта эпопея произвела на меня, может быть, потому, что в старике, которого мы увидели в церковном подвале, я узнал человека, распоряжавшегося работами еще до войны, когда ломали Симоновские купола... при этом он доил корову, лежавшую на земле...
История эта до сих пор волнует меня и даже пугает. Я иногда думаю о том, что снова вернусь в Юрьевец и раскопаю наш тайник, где был зарыт ковчег. Я и сейчас помню, куда мы спрятали нашу находку, и мне почему-то кажется, что в эту минуту я буду счастлив.
* * *
Иногда куски из яростных фильмов Бунюэля, глубоко страдающего от своего безбожия, напоминают мне этот детский эпизод “грехопадения”. Переплетением своей детской ограниченности, равной Вере — с отчаянными пограничными конфликтами, имеющими свойства нигилизма, или, что еще мучительнее — отступничества. Отступничества от Общего и Трансцендентного, которое существо ребенка пронизывает более живыми и крепкими корнями, чем взрослого.
Отдельные жесткие и мучительные сцены, окрашенные у Бунюэля колоритом нравственного протеста ли, отчаяния ли, наивного ли и стихийного самоутверждения, через которые этот гениальный испанец вырывается за пределы морали в область нравственной ответственности в творчестве, всегда связанной с риском и искренностью.
Для меня это параллель кражи, о которой я только что рассказал, — и бунюэлевского “богохульства ” — понятия одной и той же чувственно-нравственной категории.
* * *
В студенческие годы из увиденных фильмов лучшими казались следующие: “Гражданин Кейн ” О. Уэллса, “Рыжик ”Ренуара, фильмыДж.Форда — “Табачная дорога” “Гроздья гнева”, “Долгий путь домой”, “Дилижанс”, “Как зелена была моя долина ”. Затем: “Великая иллюзия” Ренуара, “Огни большого города” и “Новые времена” Чаплина, “ИванГрозный”Эйзенштейна, “Пайза”Россе-лини.
Далее следуют отдельные записи, которые, по-моему тоже интересны и жалко их ушивать.
Режиссер как бы подвергся и поддался искушению быть демиургом чувственной реальности. Он грешник. Ему остается только заботиться о том, чтобы не употребить свою власть во зло.
(развить! — Как ?)
Убитая лошадь, не дающая покоя.
Легенда о задуманном убийстве приговоренного к смерти. (Это из области анекдотов.)
Интервью с реальной матерью: ход, принятый в штыки при обсуждении.
Но дело-то в том, что речь идет о связи создаваемой чувственной реальности с реальным личным опытом. Эту связь нужно установить. Приравнять “творческий акт ” к реальному поступку. И отвечать за него как за реальный поступок.
Вообще, создание искусственной, “второй ” чувственной реальности граничит с реальным деянием. Оно тяготеет к реальному поступку, может в него переходить. Опять лошадь в “Рублеве ”. Когда такое написано на бумаге — другое дело!
Итак, вопрос вот в чем: придать искусственной реальности вес реального факта.
Не дай Бог, заранее становиться на путь предвзятого морализирования, априорной оценки будущего “поступка”, взвешивания “можно”и “нельзя”.
(ПОЯСНИТЬ СИЕН!)
Дега говорил, что самочувствие художника в творческом акте должно быть равно самочувствию преступника, совершающего преступление. (Найти, откуда это.) Пример. Съемка того, как пуля входит в живое тело, — глядеть в глазок или уйти в кусты? Якопетти предпочел репутацию преступника репутации инсценировщика. При его пустоте, при его концептуальной нищете ему оставалось только это.
Это стремление — вовсе не эпатаж.
Это потребность. Не садистическая и не эксгибиционистская, но подсознательное желание (которое должно быть осознано!) отвечать за экранную реальность. Так же, как и за то, что ты делаешь в жизни.
И именно этим утвердить суть кино.
Конечно, тут есть опасность некоторого греха: и в отношении к себе и в отношении к зрителю.
Удвоение реальности, соблазн и так далее.
В чем-то очень важном кинематограф оказывается низкой формой культуры. Он, в отличие от книги, лишен мысленного возвышения над реальностью, реальность зримая, чувственная, не очищенная мыслью.
(развить)
Наркотическая опасность для зрителя — откуда она и как над ней подняться ?
(развить)
Чем агрессивнее претензия на “реальность опыта ”, тем ответственнее автор за содеянное.
Где залог спасения?
Как реализовать заповедь “не употреби во зло ”?
Выход, очевидно, — в авторской убежденности в своей правоте (только ли?)
НАДО ПОЧУВСТВОВАТЬ В СЕБЕ ПРОРОЧЕСКОЕ
ПРИЗВАНИЕ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ СМЕЛОСТЬ ПРИМЕНЯТЬ ТАКУЮ МЕТОДОЛОГИЮ ^выделено мною -
О.С.)
Эта крайняя точка зрения возможна или оправдана только в том случае, если художественная и нравственная идея опережает эту методологию.
(Для коммерческих картин такая методология — преступление.)
А критерий нравственного порыва — это поиск истины.
ЭТИКА-
Итак, речь идет о формах и принципах отношения режиссера к самому себе в процессе режиссерской работы. Об оценке собственного состояния в процессе творчества. Не формы развития замысла, не кристаллизация, не форма, а именно состояние самого режиссера. Перед лицом двух реальностей.
Я ДУМАЮ (ОЧЕНЬ М.Б.ЗАНЯТНО), что МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ В ЭТОТ ЭТИЧЕСКИЙ КУСОК нечто о СНАХ РЕЖИССЕРА И О ЕГО “сновидческой ” или “визионерской ’’сфере. ИБО — ОТКУДА возникает ВТОРАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? (Вспомни свой сновидческий аппарат в периоды постановок).
Гм-гм, а входит ли в эту тему отношение режиссера к своим соратникам по преступлению — то бишь к съемочной группе?
...сама “похожесть ”, зависимость от реальности делает творчество в кино удивительно соблазнительным.
Мне даже кажется, что инепохожесть ” на жизнь, т.н. образность, условность, для автора стремящегося к самоутверждению и парнасскому вознесению — попросту противопоказаны. Ибо что может быть выше, чем стремление к воспроизведению самой жизни в духовном, творческом смысле этого слова?
Соблазн огромен. Но понятно и простительно то, что мы подпадаем под его обаяние. Нет смысла в то же время описывать суть конфликта между желанием выражаться своим языком и материализацией реальности. (По поводу языка нам еще предстоит поговорить. Если иметь в виду мысль о том, что вряд ли и существует понятие языка без символа.)
Кстати, любопытно выразился Ф.М.Достоевский в 1861 году:
“...Нет, не то требуется от художника, не фотографическая верность, не механическая точность, а кое-что другое, больше, шире, глубже. Точность и верность нужны, элементарно необходимы, но их слишком мало; точность и верность покамест только еще материал, из которого потом создается художественное произведение; это орудие творчества... ”
Дать в качестве примера ПРОЛОГ к *Белому дню” — (ПОХОРОНЫ).
(Вопль человека, которого клюнул жареный петух.)
Лучшие десять фильмов по Тарковскому:
1. Дневник сельского священника
2. Причастие
3. Назарин
4. Земляничная поляна
5. Огни большого города
6. Угетсу-моногатари
7. Семь самураев 8'. Персона
9. Мюшетт
10. Женшина в песках
16 апреля 1972 (А. Тарковский)
“Рублева” мы снимали во Владимире и в Суздале. И оба эти города напоминают мне мое детство. Почему? Скорее всего, как это не странно, что в высшей степени удачно Юсовым и мной были выбраны места для съемок нашей картины.
Однажды, после работы, я вернулся в номер владимирской гостиницы, где жил в то время, и долго не мог заснуть. Потом встал, зажег свет и написал стихотворение о детстве. И после этого заснул. Вот оно:
Воспоминание детства
Сквозь пыль дорог, через туманы пашен,
Превозмогая плен паденья вкось,
Горячим шепотом пронизанное насквозь Пространство детства! Как сухая ость Качнувшая меня наклоном башен.
Беленою стеной и духотой заквашен,
Круженьем города — младенческий испуг,
Дрожаньем кружева тропинок. Залевкашен,
Как под румянцем скрывшийся недуг,
Брак волокна древесного. Украшен Смертельной бледностью воспоминаний.
Страшен
Бесстрашный вниз прыжок с подгнившей крыши вдруг...
14 сентября 1965. Владимир.
Нетрудно вообразить, как я любила вот этого, вот такого Тарковского. До сдерживаемого обожания....
Объяснение в любви
Владимир в марте 1966-го года — время, когда там снимался “Андрей Рублев”, а мне студентке второго курса ВГИКа удалось все-таки выбраться туда на практику. Но и сейчас еще, точно вчера — стоит напрячь память — звучит в ушах озорной и немного тревожный окрик Толи Солоницына, адресованный мне, охмелевшей в прямом и переносном смысле: “Огалец! Ты куда?”...
Да, меня, действительно, куда-то несло тогда совершенно неудержимо...
Странно... Но какое удивительное было время, совершенно неизживаемое в моей памяти... Мой дом полон фотографий, и вот одна из них, подписанная в 1968 году Толенькой, запечатленным на ней в мучении съемочного мгновения “Андрея Рувлева”: “Оленьке! На память об удивительных и прекрасных Владимирских днях. Толя Солоницын”.
А вот и другая фотография, сделанная мне в подарок В.Плотниковым уже на съемках “Соляриса”, в тот момент, когда Тарковский читает мое первое интервью с ним, предназначенное для публикации в “Искусстве кино”. На ней уже гораздо позднее, наверное, в 1970-м году расписался сам Андрей Арсеньевич: “Олечке в знак дружбы. А.Тарковский”.
Но сколько, однако, воды утекло даже за этот промежуток времени, обозначенного датами на двух фотографиях, сколько всякого неожиданного произошло и успело мне открыться уже тогда... Так что вернемся в этой главе к началу и истокам всего, о чем так отчетливо стонет моя память... Странно, как давно уже все это было, но снова и всегда странно вспоминать как неожиданность, что нет больше ни Толика, ни Андрея Арсеньевича... Толик, конечно, умер раньше, но многие другие тоже как-то быстро подобрались следом за своим Маэстро...
Например, будучи в Голландии, кажется, в 1989 году, Сокуров вдруг рассказал мне, что в своей собственной квартире сгорела Люся Фейгинова, монтажер всех фильмов Тарковского в России, замечательная, скромная, достойная женщина и очень высокий профессионал. Какой-то дикий конец! Кто-то, как мне рассказали, неизвестно почему, из “шалости”, решил поджечь дверь ее квартиры, где она находилась со своими внуками, которых, кажется, удалось спасти...
А вот и она на фотографии... Вместе со мной... Почти не изменившаяся за годы, которые мы не виделись... И вдруг встретились с ней тогда снова на интернациональных международных чтениях Тарковского в Москве, в апреле 1988 года, через год с небольшим после его смерти. Но и сегодня еще так славно звучит у меня в ушах ее радостное, такое теплое приветствие, когда мы неожиданно встретились вновь: “Олечка! Вот, кто был настоящим дружком Андрея...”
Ах, как горько и хорошо встретиться вновь со своими, такими, какими они были тогда в мосфильмовских перипетиях. И убедиться, что и Люсенька не запамятовала моих болтаний на съемках и многочасовых сидений в монтажной, где они вместе с Андреем не раз в муках рождали фильм, иногда в трогательном единстве, иногда в деликатных, но настойчивых спорах с ним, в которых рождалась истина. Люся умела любить его деятельно и строго. Какая же она была всегда достойная, не суетливая женщина, не старавшаяся ему угодить или понравиться во что бы то ни стало, но готовая всегда работать с ним на износ.
А самым странным тогда, на этих чтениях, было увидеть впервые только фотографию Тарковского на сцене Белого зала Дома кино, а не его самого. Здесь, где прежде, я так часто бывала, и где так долго не была, где сегодня собрались вдруг все те, кто изучают теперь его творчество и те, кто дружил и работал с ним в другие времена.
Но как же не хватало его самого! Того, который тоже бывал здесь, хотя, ох, как не часто. А теперь его представляет всего лишь портрет, водруженный на мольберт в левой части сцены, с которого “герой торжества” поглядывает в зал иронично, грустно и как будто не слишком одобрительно... Еще бы!.. Как мог он одобрить в здравом уме и доброй памяти многое из того, чему уже не мог возражать? Воображаю, сколько желчной иронии выплеснул бы он мне по поводу многих высказанных о нем соображений, недоуменно подергивая плечами, иронически прищуриваясь и невесело ухмыляясь...
Не любил он ни Дома кино, ни большинства его обитателей, всех ставших враз его сердечными друзьями уже после его смерти...
Да, еще одно удивительное совпадение поразило меня: буквально во время этих чтений не стало актера Николая Гринько, так любимого и ценимого Тарковским еще с “Иванова детства”. Залу была зачитана только что полученная тогда телеграмма о его кончине, и все поднялись почтить его память минутой молчания. Вот ведь какую “дурную” символику подбрасывает жизнь, которая уже давно кажется мне не слишком изобретательным, а то и попросту плохим драматургом. Также как и Солоницына, Андрей и снимал Гринько в каждом своем фильме, но тот обычно держался особняком и, как Люсенька, тоже никогда особенно не приближался к его частной жизни.
Тогда же мне вспомнилась жена Гринько, невысокая, худенькая, темноволосая женщина, всегда сопровождавшая своего мужа во время съемок. Скромная и незаметная, она возила за ним, видимо, серьезно страдавшим язвой, какое-то специальное диетическое домашнее питание, которым кормила его строго по часам, доставая из сумки свертки и термос. Так что он вообще никогда “не оттягивался” в кутерьме съемочной группы, не пил и не гулял в общем шалмане. А еще в эту драматическую минуту в ушах у меня почему-то звучала неуместная в данном случае шутка, которую, ерничая, любил повторять Толик Солоницын, очень уважительно относившийся к Гринько: “кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет”...
Оставалось утешаться только тем, что не слишком здоровый, но не пивший и не куривший Гринько все-таки пережил ни в чем себе не отказывавшего Толика на шесть лет, будучи еще старше его лет на четырнадцать...
* * *
Так что в целом ощущение у меня на этой конференции было странным. Время от времени я поглядывала на двери, ведущие в зал торжественного заседания, посвященного памяти Тарковского, ожидая, что с минуты на минуту он сам появится в этих дверях: легкой походкой, в элегантном сером костюме в полосочку, приталеном пиджаке с плечами, сшитом ему тещей, в белоснежной рубашке, в галстуке, небрежно заложив одну руку в карман брюк, чуть поеживаясь и посмеиваясь как-то вбок... то ли от смущения, то ли от волнения... А я побежала бы к нему, как было однажды на каком-то заседании Союза, мы затерялись бы на каких-то свободных еще стульях, и Андрей, опустив голову, глядя на все немножко исподлобья, бросал бы мне время от времени ядовитые, насмешливые замечания, нервничая и покусывая усы...
Ах, как было бы невообразимо хорошо... Как тогда... Во Владимире... Еще на съемках “Рублева”...
Когда все еще были живы, трепетны и полны надежд на будущее, которое у всех маячило где-то далеко впереди. И я сама, тогда еще только счастливая студентка, угодившая сразу прямо-таки в рай, снова выходила из ресторана в обществе Андрея Арсеньевича, Ларисы Павловны и Толи Солоницына. Именно тогда почему-то не столько после пьянящего застолья, сколько от общего ощущения благодати земной, меня непременно несло залезть на какое-нибудь дерево, а Толя, пытаясь поспеть за мной и остановить, смеясь, громко кричал мне вслед: “Оголец! Ты куда?”...
Я просто была слишком молода и слишком счастлива в тот момент, когда траектория всей моей будущей судьбы брала еще или уже свой завораживающий старт.
Но как я туда попала?
На втором курсе киноведческого факультета нам полагалась недолгая “производственная практика” на киностудии и на телевидении. Мы должны были побывать на съемках какого-нибудь фильма, чтобы посмотреть, каким образом, собственно, он создается в реальных условиях.
Тогда я выразила упорное намерение попасть только на съемки “Андрея Рублева”. А куда же еще, если снимает сам Тарковский? Руководство института было однако в замешательстве, быстро отыскав вполне “законное” основание отказать в моей заявке. Оказывается, практика предполагается только на территории студии, а Тарковский как раз в это время снимал натуру во Владимире.
Как странно себе представить теперь, что режиссер, уже первым своим фильмом завоевавший “Золотого Льва” в Венеции, видно, и впрямь находился под негласным надзором. Или скорее именно потому, что он сразу и вдруг завоевал себе международное имя почему-то сомнительным для начальства “Ивановым детством”, то особенно предосудительной казалась им там наверху возможность влияния Тарковского на “неокрепшие”, молодые и горячие головы.
Парадоксально» но единственной “виной” Тарковского перед любимым отечеством был его беззащитный талант. Именно он не нравился, а потому раздражал. Оставалось только поражаться совершенно безошибочному чутью тогдашнего руководства ко всему сколько-нибудь даровитому и неординарному. С какой-то методической последовательностью преследовалось и изымалось из обращения все, имевшее неосторожность обнаружить сложную, художественную емкость. Крупным литераторам просачиваться к своим читателям было отчасти легче — все-таки они развивались немного в стороне от всевидящего ока и нуждались только в пере да бумаге. Но уже живопись, выставлявшаяся на общественное обозрение в выставочных залах, а тем более такое “самое важное из искусств”, как кинематограф, находились, конечно, под наиболее бдительным и неусыпным наблюдением.
Самое дикое и нелепое состояло в том, что в “немилость”, как правило, попадали художники, по-существу ничем “не провинившиеся” перед советским отечеством и ни в коей мере не покушавшиеся на его устои. Откуда, собственно говоря, было браться таким лентам, утверждаемых и субсидируемых Госкино? Неслучайно много лет спустя на пресс-конференции в Милане, объявляя о своем вынужденном, намерении остаться, Тарковский настойчиво и справедливо указывал на то, что никогда не был диссидентом у себя на родине.
Более того, в своей общественно-социальной практике Тарковский никогда не бузил и не скандалил, демонстрируя скорее свою “лояльность”, которую стоящие у власти не поняли, не оценили и не сумели принять. Он избегал западных журналистов, чурался всяких двусмысленных в политическом отношении заявлений в противоположность, скажем, Юрию Любимову, делавшему на этом своеобразный капитал. Это были средства не из его арсенала. И в этом контексте мне припоминается следующий довольно курьезный случай.
Я дружила со славистом из Швеции Пер-Арне Бодином. Он часто бывал в Москве в конце 70-х, и я рассказывала ему о “Книге сопоставлений”, которую уже не приняли к печати в издательстве “Искусство”. Тогда он предложил опубликовать у себя дома какой-нибудь отрывок из этой рукописи. Я была в восторге, и Андрей, казалось, тоже с радостью согласился с этим предложением.
Я сделала соответствующие выжимки из текста, и, казалось бы, все складывалось как нельзя более удачно, потому что Андрей как раз планировал поездку в Швецию. То есть собирался взять с собой одобренный им кусок из книги. Однако, вернувшись из поездки, к которой мы еще вернемся, он сказал мне, что, к сожалению, в суматохе “забыл” этот текст дома.
Я догадалась, что его “забывчивость” объясняется лишь нежеланием рисковать только тогда, когда он тут же предложил мне опубликовать в Швеции тот же текст, но не как отрывок из нашей книги, а, как мое интервью с ним, то есть под моим именем. Тогда, в случае неприятностей вся вина за эту публикацию ложилась бы на меня.
Маленькая хитрость Маэстро была понятна, но нисколько не смутила меня, питавшуюся лишь неугасимым “пионерским задором”. Чего не сделаешь ради святого искусства?! Таким образом в пятом номере журнала “Artes” за 1981 год можно прочитать перекомпанованный для шведов кусок из книги, озаглавленный следующим образом: “Ольга Суркова. Беседа с Тарковским” и уже гораздо мельче первоначальный заголовок “Ощущение демиурга”.
А казалось бы чего было опасаться ему, режиссеру с мировым именем такой мелочевки? Но подашь ты... Что касалось меня лично, то я, как Зоя Космодемьянская, была бы счастлива и готова тогда “пострадать” хоть за эту публикацию на глазах у Андрея и всей московской общественности, но не пришлось, увы... А душа прямо-таки рвалась к подвигам... Вот какие странные коленца откалывала наша тогдашняя жизнь...
Я думаю очень важно для осознания общественной позиции Тарковского помнить, что до пресс-конференции в Милане в июле 1984 года он ни разу не выступал не только с прямыми, но даже косвенными заявлениями сколько-нибудь сомнительными в политическом отношении. Ему казалось, наверное, что на фоне диссидентского движения это “умолчание” каким-то образом зачтется ему во благо вершителями художественных судеб. Невмешательство в общественную жизнь, которой он чурался тоже, казалось ему некоторым гарантом его больших художественных свобод. Таким образом мне представляется, что в своих наследственных генах Тарковский нес не только традицию великой русской культуры, но и страх, так или иначе пережитый его родителями и так емко иллюстрированный в “Зеркале” сценой в типографии. Конечно, не о трусости режиссера идет речь или заведомой “лжи во спасение”, но о своеобразной интеллигентской фигуре умолчания, усвоившей уроки декабризма и не желающей мызгаться ни в какой грязной общественно-политической практике.
Помню, с какой решимостью и брезгливым негодованием отверг Тарковский предложение участвовать в выставке “Искусство “андерграунда” за железным занавесом”, организованной в Венеции, повторяя, что он не “желает быть игрушкой ни в чьих политических целях”! И в этом своем намерении Тарковский был честен и чист перед собою, а потому тем более совершенно искренне недоумевал, почему и за что именно он, “ни в чем не провинившийся” (хотя мог бы, предлагали!) все-таки попал в немилость. Что плохого увидели в том, что он “старался придать советскому киноискусству философскую глубину и значимость”? Ведь он по-настоящему так любил и ценил Россию с ее историей и ее культурой!
Сколько горечи прочитывается в письме к Андропову: “Смею надеяться, что я все же внес кое-какой вклад в развитие нашего советского киноискусства (выделено мною — О. С.) и постарался приумножить его славу. На кинофестивале в Канне в 1982 году Госкино не только не поддержал меня коксоветского режиссера с фильмом “Ностальгия”, который я сделал от всего сердца, как картину рассказывающую о невозможности длясоветского человека жить вдали от Родины и в которой многие критики и функционеры усмотрели критику Запада, но сделали все, чтобы разрушить ее успех на фестивале ”...
Мы еще вернемся к тому, что на самом деле случилось в Канне и что мне пришлось наблюдать. Но пока я снова и снова вспоминаю, как, возвращаясь совершенно измочаленным после переговоров с Павленком или Ермашом, Тарковский всякий раз в отчаянии восклицал: “Я не могу понять, чего они от меня хотят... Я не понимаю их... У меня полное ощущение, что они говорят со мной на китайском языке...”
Еще раз замечу, что, будучи рыцарем “чистого искусства”, он с искренней неприязнью относился ко всякому политическому резонерству с “фигами в кармане”, оставаясь, например, совершенно равнодушным к практике театра на Таганке. Даже песни обожаемого мною Высоцкого, и весь ше-стидесятнический кураж авторской песни были совершенно не для него...
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что не столько идеология фильмов Тарковского, которую чиновники от искусства часто до конца не понимали или истолковывали превратно, сколько поэтика его картин раздражала их на итуитивно-физиологическом уровне. Раздражение от непонимания — протовопоказанность, наконец, его поэтики уютно обустрившемуся обыденному сознанию, подозрительному к нему, как к чему-то чужеродному. Отсюда самые общие снобистские обвинения в “натурализме” и “элитарности”, последовательно и пожизненно преследовавшие его на родине...
Вспоминается другого рода курьезный случай неудавшейся попытки Тарковского инкогнито протащить на экран свой кадр.
Этот случай произошел в период самого тяжелого, мрачного и длительного простоя Тарковского после “Андрея Рублева”, когда положение казалось вовсе безнадежным. Кинорежиссер Александр Гардон, его бывший друг и к тому же муж его сестры Марины, с которым он еще в институте делал вместе курсовую работу, предложил ему сняться в эпизодической роли у себя в фильме “Сергей Лазо” (“Молдовафильм”), наверное, чтобы дать, по крайней мере, подработать...
Тем, “кто родился после нас”, объясняю, что Сергей Лазо был героем гражданской войны, заживо сожженным белогвардейцами в паровозной топке. Андрей должен был сыграть одного из них, этакого садистка и вырожденца от аристократии.
Но участие в работе такой мощной художественной индивидуальности, как Тарковский, конечно, не могло ограничиться только чисто исполнительской функцией. Совершенно ясно, что А.Гардон, в конце концов, попал под мощное обаяние своего коллеги.
Когда мне удалось посмотреть в Госкино первый вариант “Сергея Лазо”, то финал картины, исполненный подлинной трагедийной мощи, что называется “с головой” выдавал почерк Маэстро. Достаточно незамысловатое повествование, изложенное в добротной традиции историко-революционного жанра, венчала музыка увертюры к “Тангейзеру”. И под музыку Вагнера Сергея Лазо в мучительно длинном кадре волокли по грязи к той самой паровозной топке, где ему предстояло сгореть. Волокли его за ноги, но в кадре оставался только крупный план его лица, головы, просчитывающей каждую лужу и каждую колдобину последнего пути — вот так, “мордой об землю”, оказывалась для него выстрадана воспринятая им Идея. А чем невыносимее по длительности тянулся кадр, тем более мощно и горделиво звучал последний аккорд его жизни.
Но... Цензором было безошибочно точно указано сократить именно этот кульминационный план, сразу выводивший картину на совершенно другой эстетический уровень. Обвинение этому кадру было сформулировано чиновниками по известной статье: НАТУРАЛИЗМ. С поправкой: “совершенно непонятно, почему это героя нашей революции нужно тащить по грязи? Что это значит?”...
Звучит сегодня анекдотично, но в стенах Госкино вызрела еще одна очень “серьезная” догадка: играя в “Сергее Лазо” белогвардейца-садистика, стреляя в борца за народное счастье, Тарковский, оказывается, “продемонстрировал свою собственную белогвардейскую сущность”. Вот, какой неожиданный двойной сюрприз был заготовлен Госкино Тарковскому!
* * *
Впрочем, наверное, я уже забежала слишком далеко вперед, объясняя, почему было так трудно попасть на практику к Андрею Тарковскому, почему нужно было израсходовать столько сил, чтобы прорваться к нему на съемки во Владимир еще зимой 1966 года, то есть за несколько лет до этих событий...
Но тогда мечта сбылась! Я ехала к Нему во Владимир, впервые в своей жизни совершенно одна, без родителей или друзей, не зная ни его самого, ни кого-либо другого в съемочной группе “Андрея-Рублева”. Добравшись, наконец, до цели своего путешествия, я с трепетом душевным переступила порог гостиницы, где все они распологались...
Ко мне спустилась директор картины Тамара Георгиевна Огородникова, сообщившая, что места свободного для меня пока нет, во всяком случае, на первую ночь. Я приуныла в некотором недоумении — что же мне теперь делать? Но, очевидно, заметив горькую растерянность на моем лице, она сказала: “Ладно! На эту ночь поставим раскладушку в мой номер, а там посмотрим”... Наверное, в тот момент я почувствовала себя осчастливленной настолько, что поклялась никогда не забыть щедрость моей довольно суровой на вид благодетельницы. И надо сказать, что потом, при каждой новой встрече с Тамарой Георгиевной я не забывала снова поблагодарить ее за участие в моей судьбе в тот первый вечер “у Тарковского”...
А пока Тамара Георгиевна выясняла, где да как доставать эту самую раскладушку, мимо нас стремительно проскочил, едва кивнув ей, какой-то человек, похожий отчасти на Тарковского, каким я видела его на фотографиях. Но лицо его показалось мне гораздо менее значительным, а вся стать как бы несколько мелковатой. Хотя через минуту мне, однако, предстояло убедиться в том, что это все-таки действительно был он сам, собственной персоной. К тому же последовала вовсе огорчительная для меня информация: Маэстро, оказывается, только что уехал в Москву на прием к тогдашнему заместителю министра кинематографии В. Е. Баскакову, а вернется обратно только завтра к вечеру, так что грядущим днем съемок не будет. Вот тебе и на! Какая досада! Ведь дни моей практики были сочтены...
На следующий день я поехала с оператором Владимиром Ивановичем Юсовым и художником Женей Черняевым смотреть натуру в окрестностях Владимира. А вечером произошло событие, определившее мои взаимоотношения с Тарковским на грядущие двадцать лет.
С утра в номер к Тамаре Георгиевне вошла довольно крупная голубоглазая молодая женщина, как мне объяснили, помощник режиссера, к которой мне предложили переселиться. “Вы обе молодые, ближе друг другу по возрасту, и вам вместе, наверное, будет интересно”, — заключила Тамара Георгиевна, и я потащила свой чемодан в комнату моей новой товарки.
“Лариса, — представилась мне она. — А мы уже виделись с вами на студии. Помните, когда вы зашли в комнату нашей группы?” Голос ее журчал мягко и приветливо, так что мне показалось, что я ее, действительно, будто бы видела мельком на студии, собираясь во Владимир. Вроде такую же — высокую статную блондинку, ширококостную, с чуть выпуклыми большими голубыми глазами, опушенными сильно накрашенными ресницами. Уже вовсе не “девушку”, а, как говорится, “молодую женщину”. Лариса была, конечно, гораздо старше меня, как выяснилось вскоре, уже побывала замужем, носила фамилию своего мужа, Кизилова, и имела от него пятилетнюю дочь Олю — Ляльку, как ее называли в семье, рыжеволосую, веснусшчатую девочку, фотография которой стояла рядом с ее постелью.
Лариса предложила мне располагаться, а сама продолжала прерванный моим появлением разговор с какой-то женщиной. Разговор показался мне задушевным, моя новая соседка была возбужденно оживлена, в комнате висело облако табачного дыма, и я с радостью тоже затянулась сигареткой, неуверенно примостившись на краешке своей кровати. К тому же мне не давал покоя все более отвратительный голод, но поесть вечером можно было только в ресторане, а по тем временам идти туда одной было неловко...
Но счастье, кажется, улыбнулось мне. Я вдруг снова была замечена в полной мере а, главное, меня спросили, не хочу ли я спуститься с ними в ресторан. Хочу, хочу, конечно же, хочу! Как все вдруг оказалось уютно, просто и по-домашнему. Могла ли я вообразить тогда сколько раз мы побываем еще с Ларисой в ресторанах, сколько застолий разделим...
А пока, пользуясь возможностью, наконец, нормально поесть, я волею судеб оказалась свидетельницей продолжавшейся между подружками многозначительной “перетирки” каких-то событий, не допущенная пока в их суть. А косвенные улики свидетельствовали пока лишь о том, что Лариса кого-то весьма напряженно ждет, а курит совершенно нелегально, исподтишка, потому что, опасаясь быть уличенной, она то и дело прячет сигарету под стол...
После ужина мы с Ларисой последовали теперь уже в наш общий номер. Меня, честно говоря, успело разморить к тому моменту от усталости, впечатлений и сытости, а потому сильно клонило ко сну. Но Ларисе явно не спалось, она нервничала в ожидании кого-то и рассказывала теперь мне более подробно про своего мужа Кизилова, который, кажется, приезжал на съемки, снова демонстрировала свою Ляльку, и все время бегала к окну, выглядывая вниз с нашего этажа...
И вдруг комната огласилась торжествующе важным сообщением: “Приехал! Приехал! Смотри!” Последнее слово прозвучало так командно-повелительно, что я инстинктивно рванула к окну — глянула вниз и обмерла: из машины стремительно выскочил сам господин Тарковский, быстро зацепил глазами именно наше окно, приветливо махнул рукой и скрылся в дверях гостиницы. В то же мгновение Лариса, ведомая какой-то нечеловеческой силой, подскочила с подоконника и прежде, чем я успела до конца осознать новую для меня ситуацию, прожурчала мягким голосом: “Слушай, Оленька, рано утром перед съемками я тебе позвоню по телефону, а ты мне откроешь дверь в коридоре, а то на ночь ее запирают, ладно?” Вопрос, как вы догадываетесь, был вполне риторическим...
А Лариса уже скрылась за дверью нашего номера, оставив меня в шоковом осознании, что попала я в эпицентр вне-съемочных событий. То, что в советских гостиницах нашу нравственность так оберегают, перекрывая ночью все ходы и выходы, меня по тем временам совершенно не удивило. Но мозг мой вяло пытался понять новую ситуацию: что же означали эти владимирские страсти? По моим скудным данным Тарковский вроде бы был “в некотором смысле” женат на Ирме Рауш, игравшей Мать в “Ивановом детстве” и снимавшейся теперь в “Рублеве” в роли Дурочки... Так что на мою бедную, неподготовленную голову информация свалилась слишком “кучно” — словом. Отступив и сдавшись под ее напором, я провалилась в глубокий сон.
По моему ощущению он был глубоким и коротким, и прервался резким телефонным звонком. В номере была темень. Едва соображая, что происходит, я рванула к телефону, но спала я, видимо, не повернувшись ни разу, и нога у меня так затекла, что совершенно не чувствуя под собой второй точки опоры, я растянулась вдоль комнаты по диагонали. Кое-как ползком, едва добралась до телефонной трубки и услышала мягкий шепот: “Открой, пожалуйста... Я иду...” На часах вырисовывалась цифра 5, то есть 5 часов зимнего утра... Не слишком позднее время, чтобы отправиться на подготовку запланированной съемки “Голгофы”...
Так что впервые в своей жизни вместе с Ларисой и ей в помощь я выехала на какую-то съемочную базу, где хранились костюмы для массовки. Помню внутри строения, похожего на сарай, удушливый запах слежавшегося, отсыревшего тряпья. Горы драных мужицких зипунов, телогреек, шапок, грязных рубах, в которые оденут толпу, следующую за русским Христом по заснеженному пути...
А далее... Далее жизнь для меня пошла, как в сказке...
В период моего пребывания не снимались сцены с участием жены Тарковского — так что во Владимире ее тогда не было. И не от кого было, оказывается, более скрывать то, что было, кроме нее, увы, уже известно всей съемочной группе: бешеный роман Тарковского с Ларисой Павловной, своим помощником, самой мелкой сошкой на съемках, которую тогда на площадке и потом всю жизнь он величал только на “вы”...
В то время, как мне помнится, Лариса чаще всего носила “костюм-джерси”: черную юбку и кофту, мастерски скомпонованную на груди в какой-то абстрактный рисунок из кусков разного цвета, что-то серое с черным и красным. Надо сказать, что денег у Ларисы было совсем немного, хотя мама ее была, по ее рассказам, “художником-модельером”, а папа был отважным морским адмиралом.
Были у нее, как говорится, “простые” русые волосы на прямой пробор, в то время чаще всего собранные сзади в пучок или спрятанные под небесно-голубой шапочкой из ангоры в цвет ее глаз. Такие шапочки в обтяжку назывались тогда “чулок”. И эта ее прическа казалась мне всегда наиболее для нее выгодной и соответствующей тому образу, который ей был предписан Андреем и которому она пыталась соответствовать. Но она сама так не думала, предпочитая в торжественных случаях подвивать свои негустые волосы, рассыпая их по плечам, что уж совсем никак не вязалось с изысканным Андреем. “Русская барышня” была ему все-таки больше к лицу...
Так получилось, что во Владимире, сразу и вдруг, с гордым пониманием своей значимости я стала первой подругой, помощницей и доверенным лицом Ларисы Павловны, посвященная в “тайное тайных” всех ее дел. Она была уютной, и я с наслаждением купалась в бурных изъявлениях ее любви ко мне, готовая к любому подвигу ради нее и ее, как она мне объясняла, подвижнической страсти к Маэстро. Я верила с ее слов, что Андрея нужно было спасать...
Сколько еще пройдет времени, пока я доплетусь до всех “но” и “прозрений”, когда я, наконец, соображу, как умеет Лариса легко приспосабливать и использовать для своих целей всякого нужного ей в данный момент человека, и крупного и самого ничтожного. Все зависело только от масштаба поставленной ею задачи. И как нескоро еще я пойму, как может быть она льстиво-щедра в своих заверениях в “дружбе и любви”! А пока я, как подлинная идиотка, все принимала за чистую монету и обожала ее от всей души с каждым днем все больше и больше, вместе с ней спасая Маэстро от “не любящей его жены”...
Да и возможно ли вообще было сопротивляться тогда дурману, источаемому всем тем упоительным временем созидания чего-то самого Главного, полнящегося каким-то абсолютным и непонятным счастьем? Съемки “Андрея Рублева” были как будто окутаны какой-то совершенно особой удивительной атмосферой, точно пьянящей всех нас...
Тарковский снимал свой второй фильм, особенно ответственный для него после такого громкого успеха “Иванова детства”: венецианский Золотой Лев. Но не было тогда в Тарковском натужности или страха — скорее он источал ощущение легкости и какой-то звенящей напряженности в ожидании победного будущего. Это передавалось его окружению — ведь, в конце концов, жизнь еще не била его тогда и казалось, что все лучшее впереди. Ясно, что с “Ивановым детством” были свои проблемы: разногласия в прессе, ограниченный и неточно организованный прокат, чаще распространявшийся на... детские сеансы. Но это, как говорится, были еще только “цветочки”, не предвещавшие в полной мере дальнейшего развития событий...
Так что пока Тарковским несомненно владела одна идея — подтвердить и узаконить, укоренить успех своего “первенца” следующей, еще более несомненной победой: работать и работать, погрузившись с головой в выполнение своей задачи и выложиться в ее достижении до конца, до донышка...
Мы были так наивны тогда, уверенные, что только качество его фильма — а качество заявляло о себе каждым кадром — и есть подлинный залог грядущего и несомненного для всех успеха. На наших глазах просто ваялось чудо, и в ценность его верилось безоговорочно всем: от актеров до администраторов и рабочих. Всякая проблема Тарковского и неувязка в верхах воспринимались как nonsense, провоцируемый невежественными держимордами...
Толя Солоницын, никому дотоле неизвестный провинциальный актер, получил в руки такой шанс — главная роль в “Андрее Рублеве”, что его все время лихорадило то от неуверенности, то от надежды. Тарковского тогда он воспринимал как Бога, бесконечно винясь внутренне в своем несовершенстве. Не существовало ни времени, ни границ его занятости, если только было нужно и даже не очень... Он готов был мокнуть под пронизывающими насквозь дождями, валяться в сырости и грязи, а потом озвучивая роль, перетягивать себе горло шарфом почти до предела, чтобы голос прозвучал надломленно-слабо и неуверенно в нескольких финальных репликах, которые он произносит после долгого, принятого на себя обета молчания... Надо сказать, что и обет этот Солоницын старался буквально пытаясь неделями ни с кем не разговаривать.
Все мы были доверчивы, как дети, наслаждаясь каждым мгновением, и прямо-таки ликуя в предвкушении высокой победы Его “Рублева”...
В дни моего первого визита, когда снимали “Голгофу”, Солоницын был свободен от съемок. Будучи книголюбом, он обшаривал всех букинистов во Владимире, которые его уже знали. Бродил он по городу, сутуловатый, заросший щетиной, прокуренный, с лихорадочным блеском в глубоко посаженных глазах, пряча под воротником старенького синего пиджачка отпущенные для съемок жиденькие волосенки... Пил бесконечно много кофе, неважно питался, получая за свои съемочные дни какие-то гроши, но истою “наживая себе состояние” для предстоящих съемок второй части фильма...
Толя приехал из Свердловска, расставшись с театром, где он работал, во имя съемок в главной роли у Андрея Тарковского. Оттуда к нему время от времени приезжала другая статная полногрудая русская красавица, тоже Лариса, но с роскошными темными волосами и без макияжа. В Толиной возлюбленной, как мне тогда показалось, сразу просматривались как немалые и заметные глазу амбиции, так и решительная хватка, которых он сам не замечал. Казалось, что, приезжая к Солоницыну, она пыталась выстраивать аналитически строгие планы на Тарковского, полностью им покоренная. Но вскоре пришлось убедиться, что место это уже занято слишком крепко и вступать за него в борьбу уже поздновато... А совершенно особенный, замечательный Толик, думаю, был мелковат для ее запросов. Так что последовавший потом брак Солоницына с темноволосой Ларисой казался мне всегда скорее вынужденным компромиссом с ее стороны... Но об этом тоже позже...
А пока, подводя временный итог, замечу, что обе Ларисы были из той породы специфических русских женщин, которые “коня на скаку остановят” и “в горящую избу войдут”, но не просто так, а только ради воцарения на престоле радом со “слабым” русским мужиком, которого нужно взять в руки. Обе они были готовы к подвигам, особенно, если их готовность жертвовать заметят и оценят. Так в съемочной группе оценили, что, не будучи актрисой, но ради святого искусства Лариса Солоницына согласилась по тем временам очень смело сниматься совершенно голой, переплывая реку в сцене “Праздника”...
Те дни, которые я провела на съемках во Владимире, проходили для меня почти одинаково. Лариса Павловна охотно передоверила мне часть своей работы по организации массовок и по питанию Андрея Арсеньевича во время съемок. Я с трепетом выполняла обе возложенные на меня задачи, хотя самым сложным оказалось вовремя уличить удобный момент и почти незаметно поднести Маэстро бутерброды, которые Лариса заранее и собственноручно заготавливала перед выездом на натуру. А сама она предпочитала оставаться в гостинице, чтобы в “свободное время” сбегать на базар и закупить продукты. А потом... А потом совершать над ними колдовские действа, превращая их в потрясающие блюда на “конспиративной” плитке, “противозаконно” используемой в номере. Однако, запах от этих борщей и щей плыл по всем гостиничным коридорам — так что “тайна эта велика” охранялась от администрации какими-то, очевидно, высшими силами. Это было важное действо, потому как известно, что, в конце концов, “путь к сердцу мужчины” все-таки “лежит через желудок”...
В свете всего дальнейшего так симптоматично, что специально для Тарковского, жившего тогда еще в таких же гостиничных номерах, как и вся остальная съемочная группа, Лариса уже начала создавать особое меню и отдельный особый климат. Так что, когда к вечеру вся съемочная группа, усталая и замерзшая на февральских морозах, возвращалась домой, вынужденная снова и снова тащиться поесть все в тот же давно всем опостылевший ресторан, то Андрей, Толя и я направлялись в наш номер. А там заодно и нас с Толей ждал вкуснющий домашний обед, потела водка, и каждый вечер начиналось торжество, длившееся до часу-двух, а то и трех ночи. Ах, как умела Лариса устраивать застолья! Но самая большая загадка крылась еще и в том, как удавалось нам потом встать в пять утра... И откуда только брались силы? Наверное, от молодости и все той же уверенности в грядущее счастье. Будущее было светло, а настоящее упоительно.
Мы жили, как будто подпитываемые каким-то допингом, не замечая усталости и не желая знать, что такое будничная жизнь. Мы говорили и пили, пили и говорили снова, каждое слово казалось значимым на всю жизнь. Тосты полнились откровениями, а стихи Мандельштама, Гумилева, Пастернака, Цветаевой и Ахматовой читали наизусть, едва дослушав друг друга. Всякий раз Тарковский, конечно, еще непременно читал своего отца, Арсения Александровича. А еще Пушкина... Чаще “Пророка”... И мы все наслаждались...
Особенно часто слушали пастернаковское “Свидание”, которое Андрей любил тогда “ по-особенному”, явно адресуя его Ларисе Павловне. И, интонируя каждое слово, вкладывал в него так много своих интимных надежд, что оно прямо-таки врезалось мне в память, точно его собственное сочинение:
Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.
Одна, в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем И мокрый снег жуешь.
Деревья и ограды Уходят в даль, во мглу.
Одна средь снегопада Стоишь ты на углу.
Течет вода с косынки По рукаву в обшлаг,
И каплями росинки Сверкают в волосах.
И прядью белокурой Озарены: лицо,
Косынка, и фигура,
И это пальтецо.
Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен Из одного куска.
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом По сердцу моему.
И в нем навек засело Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.
Здесь я с тоской душевной прерываю этот стих, чтобы подчеркнуть, что именно слово “смиренье” Тарковский выделял интонационно с особым значением, вообразив, что именно этим неоценимым для него свойством Женщины сполна наделена его новая избранница Лариса Кизилова. Так срежес-сировал он свою собственную жизнь, полагая, что обрел для себя в ее лице многократно воспетую поэтами самоотверженно жертвенную русскую женщину. Это была его какая-то детская беззащитная придумка, в которую я сама тоже, будучи не слишком прозорливой, верила очень долго...
Удивительно, как схожи бывают судьбы и даже заблуждения, и даже надежды на помощь у наших слабых, но великих мужей. Очевидно, Пастернаку это стихотворение было навеяно его возлюбленной Ольгой Ивинской. Но, когда я читала ее воспоминания о нем и соображения о ней Ахматовой, то ясно понимала, как далека была эта женщина на самом деле от подлинного смирения, как целеустремленна и боевита в достижении своей, видимо, главной цели — занять и обозначить ясно свое место в судьбе великого поэта. И заняла. И обозначила. Но, Боже мой, сколько раз вспоминала я именно Ларису Павловну, читая “У времени в плену”... Конечно, при многих других особых различиях...
Но тогда Андрей был влюблен без памяти и с радостной убежденностью выговаривал:
И оттого двоится Вся эта ночь в снегу,
И провести границы Меж нас я не могу.
А затем произносил, наконец, последнее четверостишие декламационно точно, констатируя еще очень далекое будущее, как будто не имевшее ко всем нам пока еще никакого отношения:
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет Остались пересуды,
А нас на свете нет ?
Как молоды мы были, полагая, что только начинаем свой жизненный путь, и самое главное, что конец его, а тем более “пересуды” о нем еще где-то очень далеко, за невидимым пока горизонтом. Но как, в сущности, быстро потом все скрылись за ним, а “пересуды” остались...
* * *
На съемочной площадке Андрей, безо всякого преувеличения завораживал не только меня, но, кажется, всех своих сотрудников, работавших с упоением. Вспоминаются сирые, темные, зимние Суздаль, Владимир и их окрестности, на фоне которых мы сами пламенели внутренним несгораемым светом. И снова такие щемящие русские бедные пейзажи исхода зимы с подтаявшим местами снегом, когда снималась “Голгофа”...
И Он, Иисус, за которым через простое село, за Него, изнемогшего, понесут Его Крест. И не яростная раскаленная ненавистью толпа будет неистовствовать вокруг, требуя без сомнений “распни, распни Его”, а кучка нищих тихих оборванцев обречено проследует за Ним до “русской Голгофы”, лишь робко уповая на Спасителя этой Богом забытой земли.
Рублевского Христа по Тарковскому распинают одного, на заснеженном холме, близ белокаменных стен русского монастыря. И Он, совершая туда последний путь, в холщовом крестьянском рубище, легко, точно по воде ступает по земле, раскисшей от тающего снега. А за ним тянутся крестьяне, Богоматерь и Магдолина в таких же отсыревших лаптях и отяжелевших, подмоченных снизу бедных зипунах. И та же светлая девочка, замотанная платком, провожает его последним солнечным взглядом. Как милосерден Лик этого Христа, поскользнувшегося на склоне холма и утоляющего в это последнее мгновение предсмертную жажду снегом. Он подносит его к губам, посылая всем, кто остается на этой земле, свой последний долгий взгляд, любящий и сострадающий, но проницающий, увы, насквозь и вперед всю тщету человеческих усилий последовать за Ним, отрекшись от всех своих мирских притязаний.
“Голгофа” Тарковского начинается с крупного плана проруби, из темной, холодной глубокой воды которой всплывает пелена... Помню, как Тарковский сам, собственными руками “прилаживал” в соседней проруби какое-то полотенце, “тряпицу”, которая по его воле должна была как будто “невзначай”, по течению, всплыть именно там, где наклонится Иисус. Такую “мелочевку”, как одушевление жизни, Тарковский не любил доверять другим, радуясь, как ребенок, перевоссозданию на экране реальности.
Тарковскому очень нравилось почти иконописное лицо Тамары Георгиевны Огородниковой: прямой нос, очень выразительные, глубоко посаженные большие глаза. И он уговорил ее сняться в образе Богородицы. И лицо, преображенное гримером в лик, несколько раз возникало в кадре на крупном плане в ритмах, точно рассчитанных на съемках и монтаже дирижерскими взмахами Тарковского... Ее последний, скорбный и тихий, затаившийся в страдании материнский взгляд не разлучался с сыном, предаваемым мучениям...
Конечно, не совсем точно утверждать, что период работы над “Андреем Рублевым” был только безоблачным. Или совсем неточно. Проблемы витали рядом и не давали расслабиться. Замечания по просмотренному материалу в Госкино и на студии, вызовы Тарковского “на ковер”, а главное — недостаточная смета, выделенная на картину, требовала сокращения сценария, который никаким образом не вмещался даже в двухсерийный метраж. Тем более, что Тарковский снимал в тех раздражающих, с точки зрения начальства, “затянутых ритмах”, которые как раз для него были принципиально важны и адекватны его собственному художественному мировосприятию.
Этот неторопливый ритм и очень ослабленная пружина действия стали, как мне кажется, основным поводом разногласия Тарковского с его соавтором по сценарию Андроном Кончаловским. Не принимая возражений Кончаловского, уже не разделявшего его взглядов на саму природу кинематографа, Тарковский позднее усматривал в конечном его неприятии “Рублева” конъюнктурное приспособленчество или, попросту, зависть.
Теперь, когда творческие биографии обоих режиссеров уже сложились, можно с полной уверенностью утверждать, что Кончаловскому по существу была противопоказана кинопоэтика Тарковского. Кончаловский, в конце концов, ориентировался на широкий зрительский успех, предполагавший яркие зрелищные формы повествования с укрупненными событиями, пружинящим действием, ярко прописанными характерами. Он совершенно искренне и во благо своему пониманию профессии сопротивлялся надменному нежеланию Тарковского идти на “уступки” публике.
В интервью, которое мне пришлось брать у Кончаловского много лет спустя в Амстердаме после премьеры его фильма “Любовники Марии”, он дал исчерпывающий ответ на этот вопрос: “Ностальгия” Тарковского вступает в смертельную схватку со зрителем. Такое ощущение, что он положил голову на рельсы перед несущимся на него поездом и ожидает, что же за этим последует? Для меня этот вопрос снят, потому что ответ на него ясен, и я не стану класть свою голову на рельсы”...
Что говорить? После стольких лет моей жизни на Западе, после стольких последовавших в России перемен в так называемой культурной жизни и просвещении, я понимаю, наконец, во что и ради чего вкладываются деньги в искусство или то, что им называют, и предлагают для насыщения не зрителю или читателю, а потребителю. А тогда... Тогда мы были наивны, как дети, полные только святого негодования по поводу упорного нежелания Госкино оплатить “Андрея Рублева” гораздо более щедро. Плевали мы на глупые “идеологические” заказы. Наша задача была вне и выше всяких идеологий. Для нас она была очевидно культурно-значима, а какие-то идиоты этого не желали понимать ни в какую — а ведь какие огромные деньги, к нашему недоумению, вкладывались в какие-то “дурацкие” государственные заказы!
Для их выполнения выделялись целые армейские части. Но разве всегда окупались кассово “идеологически-важ-ные” супер-колосы? Тем более сомнительна была для нас их идеологическая необходимость и очевидно более низкое художественное качество. Нам все было ясно тогда, когда Тарковского продолжали упрекать в “элитарности” и невостре-бованности его картин широкой аудиторией. Этот упрек был равен опасной идеологической наклейке и воспринимался им всегда с дрожью душевной. Тем более, что он сам к тому же совершенно искренне верил, что работает как раз для того самого “народа”, который прямо-таки рвется посмотреть его картины. Кстати, это вполне соответствовало действительности именно потому, что их не пускали в широкий прокат. На самом деле у Тарковского, конечно, был свой собственный благодарный зритель, ожидавший его картин.
Более того, Тарковский настаивал — именно на этой идеологически выверенной формулировке — “НАРОД”! Развивая далее свою защиту не только перед обвинителями в начальственных кабинетах, но, как ни странно и перед самим собою. Например, работая потом над “Книгой сопоставлений”, он неоднократно говорил, недоуменно пожимая плечами: “Не понимаю их... А кто же я сам, как не частичка этого народа? И каким образом, будучи этой частичкой, я могу не быть его “гласом”, удивительно, а? А как же еще? Даже если ко мне прислушивается небольшое количество людей. Ну, и что? Значит именно я им все равно нужен”... Так что непонимание всякий раз он воспринимал очень болезненно и свято верил в достаточно обширную собственную аудиторию. Представьте, что идея “слоновой башни” — была, как ни странно, не из его этического арсенала. Может быть, он наследовал подлинно демократические идеи от своих благородных предков, жаждавших хождения в народ. Может быть, от тяготения к этому народу возникла и Лариса Павловна со всем ее семейством, очень далекая от интеллигенции?
То есть, как бы то ни было, но, сопротивляясь официальным обвинениям, Тарковский выработал в себе для борьбы с начальством доступную им, хрестоматийно известную, но, казалось бы, вполне логичную систему аргументов. Настаивая на своем человеческом, гражданском и художническом праве высказываться на своем собственном языке, он, в конце концов, настаивал на суверенном демократическом праве не только большинства, но и отдельно взятой личности. Он откровенно рассчитывал “законно” прописать и приспособить это право к эстетике соцреализма. Ну, чем все это не “социализм с человеческим лицом”? Хотя само дарование, конечно, вырывало Тарковского далеко за пределы всяких канонизированных социализмом эстетических и идеологических норм...
Тем не менее, как мне кажется, желанием оправдаться и настоять на своем собственном праве на свободу, незамутненную никакими идеологическими диверсиями, продиктованы многие мои интервью с ним, ставшие потом страницами “Книги сопоставлений”. А что такое вообще, так называемая, “свобода”, как ни свод правил, которым мы, в конце концов, следуем, “свободно” принимая на себя те или иные нормы поведения и форму мысли... Подводя сегодня некоторые итоги своего жизненного пути, я вынужденно возвращаюсь к школьной хрестоматии, обращавшейся к простой и безупречно точной мысли наших марксистских классиков: оказывается, и впрямь “нельзя жить в обществе и быть свободной от этого общества”...
Но, возвращаясь более конкретно к “Рублеву”, должна сказать, что самой большой и принципиальной потерей для картины Тарковский всегда считал отсутствие в ней “Куликовской битвы”. Деньги для этого пролога нужны были немалые, и Тарковский неоднократно бился за них “до кровян-ки”. Ему казалось, что с этим задуманным еще в сценарии прологом с картины снимались бы многие обвинения. Именно Куликовская битва, по его убеждению, должна была дать картине тот необходимый ей исторический и идеологический камертон, который точнее определял бы пафос дальнейшею повествования.
Сама я нежно люблю существующего “Андрея Рублева”, но полагаю, что с Куликовской битвой мы имели бы — не знаю хуже или лучше — но почти другую картину. Эта рана не зажила у Тарковского никогда. Он никогда не мог простить, что “зеленая улица” огромных льготных средств, открывавшаяся, например, Бондарчуку, была ему заказана... А все его усилия в этом направлении были тщетны...
В Тарковском оставалось много того азартного и детского, о котором он пишет в своих воспоминаниях. И ему самому часто хотелось, как в азартной игре, опробовать любые, не всегда безопасные возможности. По легенде, сохранившейся в съемочной группе, я слышала, в частности, о том, как Тарковского понесла лошадь, на которой он решил погарцевать сам во время съемок. Падение, слава Богу, не стоило ему жизни, но рассказывали, что он был очень плох...
Лариса Павловна тоже не была буквальным свидетелем этой истории, и суеверные русские полагали, что опосредованной виною случившегося было ее отсутствие. Градус взаимоотношений Андрея с Ларисой Павловной был так высок к этому моменту, что, как рассказывала вполне сдержанная и не склонная к бабским сплетням Огородникова, он буквально физически заболевал, если она отлучалась по каким-то делам в Москву. Съемки отменялись, и Тамара Георгиевна, директор картины, человек экономически ответственный за ее производство, телеграфировала Ларисе, чтобы она немедленно возвращалась.
А Лариса боролась за Андрея, закусив удила — никаких моральных пределов не существовало. Она не сомневалась сама и внушала другим (мне лично, по крайней мере, весьма успешно), что Ирма Рауш, его жена и мать его ребенка, для него не годится, эксплуатирует его талант, слишком суха и эгоистична, не любит его и не ценит... А когда она появлялась на съемках, то Лариса беззастенчиво рвала все и всяческие постромки. Я никогда не видела Ирму Рауш, и была прямо-таки поражена ее несхожестью с Ларисой, когда судьба свела нас в Москве все на тех же Первых интернациональных чтениях. Передо мной сидела умная, строгая, интеллигентная женщина, до стиля и уровня которой Ларисе нужно было бы шагать и шагать... Может быть, она ставила слишком высокую планку Андрею, которая могла отчасти изменить в деталях его картины? А Лариса только кудахтала о его гениальности, подгребая под себя все дивиденды. Боже мой, как она сумела использовать его имя в своих шкурных и таких земных интересах! Глядя на Ирму, я легко представляла себе, что ей даже в голову не приходило разглядеть в Ларисе соперницу хоть в какой-то мере — это как соизмерить несоизмеримое. Ларисины методы были не для нее. Но глядишь ты... Хотя почему-то считается, что “победителей” не судят или “о мертвых плохо не говорят”...
Я так не думаю. Как говорится, все там будем. А для верующего человека только Там начнется подлинный суд, независимый от званий. А здесь мертвые продолжают жить рядом с нами, оставив нам после себя разнообразный груз, который мы продолжаем перебирать столько времени, сколько нам отпущено, разбираясь в себе и тщетно пытаясь расставить точки над i.
Но тогда Лариса с торжествующим волнением описывала мне, еще не слишком искушенной девице, ситуации, из которых она всегда выходила победительницей, а я слушала ее с восторгом, как говорится, развесив уши... Теперь многое, конечно, забылось, но помнятся истории о том, как Лариса в окружении мужиков из съемочной группы практиковала свои вечерние выходы в ресторан, где Андрей высиживал свою вынужденную повинность с законной женой, сгорая от ревности. Вся обслуга в ресторане ее знала — она была “их” и из их среды — для нее начинал греметь оркестр и, оттанцовывая, она неизменно становилась царицей провинциального бала. Поразительно, что Андрей буквально сходил с ума — по словам Ларисы, не выдержав однажды этой экзекуции и сгорая от ревности, сильно напившись, он раздавил у себя в кулаке стакан, так что осколки врезались ему в ладонь. Случалось, опять же по ее словам, что обессиленный ее выкрутасами он начинал сдирать в ресторане занавески с окон.
Сама я тоже видела всякий раз, что ресторанный оркестр специально приветствовал каждое ее появление в зале, а я, девчонка, купалась в лучах ее славы. Лариса, как потом она всегда уверяла, “несостоявшаяся балерина”, танцевала всегда азартно и истою, полностью занимая площадку. Андрея это, конечно, очень смущало внешне, но, очевидно, внутренне влекло неудержимо. Простое и наглое радом с Бахом и Перголези. Он, точно на салазках, летел с горы, когда при появлении Ларисы оркестранты услужливо и радостно улыбаясь, немедленно заводили популярный тогда шлягер “буря смешала землю с небом”... А потом, уже много лет спустя, напевая этот мотив, мы всякий раз отдавались тем же саднящим душу ностальгическим воспоминаниям...
Одним словом, моя, так называемая “производственная практика” на “Андрее Рублеве” превзошла все мыслимые и немыслимые сроки за счет следовавшей за ней запланированной для студентов практикой на телевидении, которая свелась для меня чуть ли не к двум последним дням...
Какое там телевидение? Я возвращалась в Москву со слезами на глазах, теряясь в колдовском тумане, мечтая только о своем возвращении назад, во Владимир, где творят кинематографическое чудо. Практика должна была завершиться моей характеристикой, которую написал собственноручно сам Тарковский. Вот она:
Мастеру II курса киноведческого факультета ВГИКа Н.СЛебедеву
ХАРАКТЕРИСТИКА
ст-ки — практикантки II курса киноведческого факультета ВГИКа О. Е. Сурковой
О.Е. Суркова провела на натурных съемках нашего фильма (“Андрей Рублев ”) во Владимире с 10 по 18марта с.г. Кроме необходимого ознакомления с технологией съемок, О.Е.Суркова принимала участие в подготовке массовых сцен, в подборе типажей.
Ею были внимательно изучены литературный и режиссерский варианты сценария, чтобы на этой основе сделать и сравнительный анализ снимаемого, и уже отснятого материала, и проследить за творческим процессом непосредственно во время съемок.
О. Е. Суркова работоспособна, добросовестна к порученной ей работе.
По количеству и сути вопросов, с которыми она обращалась ко мне за все время ее производственной практики, можно с уверенностью считать ее чрезвычайно одаренной, не стандартно мыслящей и интересующейся во всех подробностях не только процессом съемки фильма, но и общими теоретическими проблемами киноискусства вообще.
Я очень благодарю Вас, уважаемый, Николай Алексеевич, за ту помощь, которую оказала нам Ольга Евгеньевна на наших съемках, работая с такой искренней заинтересованностью и бескорыстной отдачей.
С уважением
(А.Тарковский)
Как смешно и отчасти двусмысленно читается все это сегодня. Так что нетрудно догадаться, учитывая характер моих впечатлений в полной мере, что затем на съемки “Андрея Рублева” я неслась при каждой удобной и не слишком удобной возможности, страдая о всякой упущенной минуте — вне съемок, озвучания или перезаписи. Все остальное было не жизнью. И как удивительно сегодня узнать, читая характеристику, что первый раз я была на съемках всего неделю! Так коротко! Потому что в памяти моей эта неделя, так глубоко определившая во многом веемою дальнейшую жизнь, удлиняется многократно. Удельный вес каждого мгновения той недели тождественен впечатлениям огромных кусков моей последующей жизни.
А тогда, переполненная впечатлениями и не задумываясь еще о будущем, в силу молодой самонадеянности и возрастной недоразвитости, я сделала для отчета в институте о проделанной работе всего несколько заметок. Вот они.
9 марта. Болела.
10 марта. Выехала во Владимир.
11 марта. Ездила на натуру с оператором картины
Юсовым, художником Черняевым и вторым режиссером Петровым. т
12 марта. Была на съемках “Голгофы”в селе Боголюбове. Помогала оформлять массовку. Беседовала с Тарковским об “Ивановом детстве ”.
13 марта. Продолжаются съемки “Голгофы” Отсняли 4 кадра: 1) Христос в кадре на крупном плане взбирается на заснеженную гору, сзади прочитывается Крест и массовка на общем плане. 2) Христос пьет из проруби, а сопровождающая его процессия проходит мимо. 3) Распятый Христос на общем дальнем плане. 4) Крупный план Пилата на коне.
14 марта. Отсняли 4 кадра: 1) Проход на среднем плане Богоматери, Магдалины и Иосифа: на заднем плане, фоном, бедная процессия Христа, и Он, среди этой процессии, несет Крест на гору. 2) Прощание с Магдалиной, положение Его на Крест, рыдание Магдалины у Его ног, прямо-таки: “Брошусь на землю, у ног распятья, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятья ты раскинешь по краям креста ”, как писал Пастернак. 3) Крупный план Христа, оглянувшегося на процессию. Подносит к губам снег (освежает снегом запекшийся рот). Смотрит вниз, как приказал Тарковский, “добро и грустно ”. Процессия подтягивается к месту распятия, к вершине холма. Идет лицом на камеру. Впереди Богоматерь, Магдалина и Иосиф. Все смотрят на распятого Христа.
Тарковский, сидя на стуле в ожидании, когда закончится подготовка к съемкам, мечтает когда-нибудь снять “Электру ” на материале 37-го года: “А вообще хочется снимать длинные-длинные, скучные-скучные фильмы — это прекрасно! И как прекрасно, когда актер ничего не играет! Вообще хочется делать фильмы на религиозные темы... У нас сам Рублев ни в коем слу/ге не должен быть 1 в центре внимания — поэтому Солоницыну не нужно очень-то играть. Рублев как бы присутствует на фоне всех событий... Я вообще никогда не снимаю картины точно по режиссерскому сценарию: предпочитаю все решать экспромтом на натуре... ” (Недаром потом Тарковский признавался, что менее всего любит в “Рублеве” новеллу “Колокол”, которая многим казалась наиболее удавшейся. И полагал, что хуже всего, то есть “театрально”, играют у него Быков и Лапиков, то есть снова те исполнители, казавшиеся наиболее удачными тем, кто в сущности не принимал подлинную поэтику Тарковского и радовался, обнаруживая сходство с традиционными для кино художественными нормами).
15 марта. Сидела в гостинице и конспектировала последний вариант сценария — для последующей сверки!
16 марта. Набирала массовку для свиты Митрополита в сцене “примирения Великого и Малого князя ”. Была на освоении декорации в Дмитровском соборе. Вечером читали Пастернака.'
... Тарковский сегодня очень гневался, когда кто-то заговорил о смысле — “Что значит “смысл ”?! Все бессмысленно!” А еще говорил, что хотел бы поставить фильм о Сталине, а потом о Фрейде.
17 марта. Объект: Дмитровский собор, подготовка массовки: свита Митрополита 10 человек, свита Малого князя - 9 человек, свита Великого князя — 10 человек. У Дмитровского собора репетировали проскок князя, но снять этот план не удалось, какая-то техническая неполадка. Успели снять лишь крупный план Назарова, исполняющего две роли, Малого и Великого князя.
Вот и все куцые заметки, оставшиеся на бумаге, после первого знакомства с Тарковским, которое, на самом деле, было всего лишь стартом для моего профессионального становления, выработки вкуса и дальнейшей жизни. Может быть, однако, многого не случилось бы в ней тоже, если бы не стояла еще на моем блокноте главная венчающая поездку запись, прочерченная крупными буквами: “Лариса Кизилова. 318. Звездный бульвар, д.4, кв.50”. Да-а-а...
Ну, что же? Как говорится, до новых встреч!
* * *
И новые встречи последовали, регулярные, наполнявшие собой какую-то самую главную часть наступающей жизни.
Каждую такую встречу я ожидала, как праздника, и неслась на съемки или просто на свиданку к Ларисе по первому зову, не чувствуя под собой ног. Я ощущала себя в самом центре исторических для русской культуры событий. А, главное, я просто любила их обоих, преданно и светло. Смешно, но многие годы спустя, и за границей тоже, Лариса, не замечая, видимо, во мне никаких весьма существенных в моем отношении к ним перемен, по-прежнему закатывая свои большие глаза и обмахивая их тяжелыми от туши ресницами, произносила один и тот же риторический вопрос, в одной и той же мелодраматической интонации: “Олька, ну, ты-то напишешь о нас всю историческую правду?” Она имела в виду, конечно и прежде всего, свои “страдания” и недооцененность своей роли не только в жизни, но (sic!), главное, в творчестве Андрея, которую, с ее точки зрения, он оскорбительно не замечал. Она ошибалась. Роль эта была, действительно, очень велика, но, ох, как многопланова — и сами фильмы Андрея Тарковского свидетельствуют об этом в первую очередь.
* * *
После Владимира, ближе к лету, Лариса, еще безо всякого Андрея, впервые появилась у нас в квартире на Ломоносовском, где я жила вместе с моими родителями. Людей у нас бывало множество, и, как это принято в России, чаще, чем в гостиной, мы собирались за столом в кухне. Так что, примостившись впервые именно там, Лариса что-то журчала своим приятным для меня бархатным голоском, а я была в упоении от того, что наконец-то моим родителям тоже выпало счастье познакомиться с такой замечательной бескорыстной женщиной, готовой ради Тарковского на любые подвиги.
Но, как только за Ларисой закрылась дверь, я была совершенно обескуражена странным для меня, несколько удивленным вопросом отца, в совершенно несвойственной ему грубой формулировке, тем более, когда речь шла о женщине и моей подруге:
— Что это за отвратительная, фальшивая баба?
Я буквально задохнулась от ярости и негодования, готовая просто пристукнуть его за такую наглость. Как он смел так оскорбить, ничего не понимая, мою новую и самую любимую страсть? В этот момент мне показалось, что нам с ним больше не о чем разговаривать, хотя эта его характеристика, более чем странная для меня тогда запомнилась мне на всю мою жизнь — увы, не случайно...
А тут вскоре Лариса буквально осчастливила меня предложением поехать вместе с ней к ее родственникам в деревню Авдотьинка Рязанской области. Туда, в избу “тети Сани”, сестры отца, выехали на лето ее мать, отец, дочь Лялька и двое племянников. Боже мой, какое неслыханное счастье! Теперь я познакомлюсь со всеми, о ком так много от нее слышала. Увижу маму — замечательного художника-модельера, и папу — отважного адмирала. Но снова жалко до боли, что у самой Ларисы так драматически не сложилась собственная артистическая судьба: из-за плохого сердца ей пришлось прекратить занятия в балетной школе Большого театра, где ее прочили конкуренткой Майе Плисецкой. Мне, правда, показалось, что она широковата и высоковата для балерины, но... Боже мой, какая разница и что я вообще в этом понимаю?
Странно очень, но, забегая вперед, признаюсь, что Анна Семеновна, Ларисина мама, оказалась умной, тихой, простой русской женщиной, умевшей замечательно шить, обшивавшей семью и бравшей заказы на дом, но не “художни-ком-модельером”. А Ларисин отец, что тоже было некоторой неожиданностью, оказался тоже почему-то не адмиралом, а квалифицированным рабочим... Но мой робкий вопрос, коснувшийся отца, был тут же развеян заявлением Ларисы, что мать родила ее не от мужа, а от другого главного возлюбленного своей жизни... Ах, та-а-ак? Ну, а вообще-то, какая разница? Чего не бывает в семьях и куда я лезу?
Другое дело, что отец этот или не отец был тогда тяжело болен, и Анна Семеновна вывезла мужа на его родину, к родственникам, как она говорила, “на свежий воздух и парное молочко” в надежде продлить ему жизнь. Он страдал, как говорится в народе, “водянкой” и к тому моменту его уже с трудом усаживали, приподнимая в постели. Так что лежал он, как бывает в русских деревенских избах, в единственной, главной, парадной комнате, обложенный подушками, на которые опиралась его крупная, я бы даже сказала, величественная седая голова. Там он и умер вскорости и похоронен был на местном кладбище среди своих родственников и предков.
А поскольку к тете Сане и ее мужу дяде Коле приезжали погостить на лето родственники разных мастей, включая собственных детей и внуков, то поселяли их всех в большом летнем, называемом “горницей”, помещении, сплошь заставленном кроватями, как в пионерском лагере, где вскоре предстояло поселиться и мне...
Правда, еще добраться до Авдотьинки было непросто. Вначале мы с Ларисой тащились не самым комфортабельным поездом через Рязань в районный городок Шилово, где жил сын тети Сани, то есть двоюродный брат Ларисы, который должен был нас встречать на какой-то машине. Но, как это сплошь и рядом случалось у Ларисы, все почему-то перепуталось: то ли она неправильно что-то просчитала, то ли брат ее не понял, то ли поезд опоздал, но нас никто не встречал, и мы оказались одни глубокой ночью на каком-то заню-ханом полустанке.
Впрочем, если бы мы остались там одни, как “культурные дамы”, то есть с небольшими дорожными сумочками, то было бы еще пол беды... Но в те времена никто не ездил в отдаленные районы с пустыми руками, тем более такая хозяйственная женщина, как Лариса. Так что мы ехали прямо-таки “по уши” нагруженные всякими продуктами, с какими-то совершенно неподъемными сумками и чемоданами. Лариса была наделена слишком бурным темпераментом, чтобы кротко ожидать рассвета на какой-нибудь привокзальной лавочке, а потому груз был немедленно распределен между нами обеими и дана незамедлительная команда двигаться вперед.
До сих пор не могу понять, каким образом, следуя за ней, как солдат, получивший приказ, я не рухнула под этой ношей или не осталась инвалидом на всю жизнь? Надо сказать, что сама Лариса, как я уже говорила, крупная и сильная женщина, довольно легко справлялась с этой задачей. Могу с уверенностью сказать, что для меня физически это был самая тяжелая задача в жизни. Этот груз, навьюченный на меня ею, я волокла смиренно и бесконечно долго по какой-то замызганной, пыльной, разбитой дороге, короче называемой русским бездорожьем, которой, казалось, не будет конца, движимая, очевидно, только безумной любовью к искусству и его создателям. Но... все-таки... слава Богу — думала я с некоторой надеждой — все конечно в этом мире...
...И чревато началом, к которому мы так стремились. Замаячил-таки порог дома Ларисиного братца, и это было счастьем: перебудить всех, распотрошить какую-то сумку и рассесться за столом, наскоро накрытым в складчину, с водкой и разговорами до самого утра, которое даровало нам короткий сон. А затем тряским автобусом мы докатили, наконец, до Авдотьинки, куда нас гурьбою прибежали встречать давно ожидавшие маму и тетку, маленькая рыжеволосая веснушчатая девочка Лялька и ее “взрослые” двоюродные братья Алешка и Сережа. Сережа, как выяснилось вскоре, был на год старше меня и учился в архитектурном институте, а толстенький Алеша, будущий кинооператор, учился тогда еще в школе.
Я описываю нашу поездку в Авдотьинку так подробно потому, что именно сюда, к этим людям и в эту атмосферу, ожидался первый приезд нового возлюбленного Ларисы Павловны Андрея Тарковского. Их бурный роман разгорался все ярче. Но Тарковский оставался женатым на Ирме Рауш, хотя у них, наверное, уже возникали проблемы. Тем более, что в их семье был общий сын Арсений, немногим старше Ларисиной Ляльки. Совершенно не знаю, что у них там происходило, но могу сказать, что потом, даже после развода с первой женой, Тарковский вовсе не спешил соединить себя новыми семейными узами.
А пока Лариса со всей своей страстью подготавливала приезд своего любимого Андрюши, и дым стоял коромыслом... Прежде всего нужно было, конечно, подготовить отдельное жилье — ведь не в общую же горницу им было селиться, на самом деле? Возможности в деревне были, конечно, ограничены, но Ларисе все-таки удалось снять для себя с Андреем застекленную верандочку прямо по соседству, напротив дома тети Сани...
Шел август 1966 года, когда проблемы, связанные с “Андреем Рублевым”, только начинали сыпаться, точно из рога изобилия. Тарковский приехал в Авдотьинку сильно измотанным, но еще не потерявшим надежды, еще не зная, что вползает в самый мучительный и тяжелый период своей жизни.
Что же происходило с картиной после ее завершения и во время задержавшегося пребывания Андрея в Москве?
Поначалу казалось, что Романов, бывший тогда министром кинематографии, принял “Рублева” вполне благосклонно. Но тогда же, после первых демонстраций картины на студии — начальству, друзьям и кинематографистам — поползли первые не слишком приятные обвинения Тарковского в “славянофильстве”, высказанные в лицо и в калуа-рах некоторыми ведущими критиками. Пройдет не так много времени, и тот же фильм будет обвинен начальством в русофобстве... Вот такие парадоксы откалывало время и его обитатели...
Сегодня история этого многострадального вопроса, изложенная в документах, опубликована и достаточно подробно изучена. Так что, не углубляясь в факты, как будто бы широко известные, я постараюсь изложить то, что мне пришлось непосредственно наблюдать, существуя рядом с Тарковскими. На фоне тех мытарств, которые ему пришлось переживать с “Рублевым” в разного рода начальственных кабинетах, не следует забывать также очень серьезные сложности взаимоотношений Тарковского как с представителями кинематографической общественности, так и некоторой частью не совсем “простых” зрителей.
Над “Рублевым” почему-то почти сразу завис сгусток скандала, свидетельствующий, очевидно, только о том, что Тарковский делал для своего времени, действительно, выдающуюся картину. Кого-то душила зависть, увы, одно из самых существенных проявлений человеческих взаимоотношений, кто-то был искренне возмущен, а кто-то был попросту не готов к восприятию новой, неожиданной для советского кино эстетики...
Я никогда не забуду, наверное, самый первый, открытый для профессионалов просмотр “Андрея Рублева” в большом зале “Мосфильма”, переполненном коллегами, друзьями, знакомыми и работниками студии. Свет погас, и напряженная тишина поначалу зависла в зале. Но по мере того, как начали возникать сцены, уже охарактеризованные во время съемок в какой-то газетенке как “жестокие и натуралистические”, над залом поплыл гул как будто бы “добропорядочного” возмущения, взрывавшийся время от времени прямо-таки улюлюканьем.
Еще до просмотра, на фоне всем известной тогда заметки о том, что Тарковский на съемках чуть ли не умышлено едва не спалил Успенский собор, поджигал коров и ломал ноги лошадям, ползли все более упорные слухи еще о собаках, которым отрезали ноги, чтобы они ковыляли в таком виде по снегу ему на потеху! Так что общественное возмущение, на самом деле, непростого зрительного зала было короновано прозвучавшим на весь зал приговором одного из хозяйственников “Мосфильма” Милькиса: “Это не искусство — это садизм!” Приговор этот застрял в наших душах, точно нож — неслучайно я, никогда не знавшая почти ни одного имени разного рода руководящих деятелей, до сих пор помню его имя.
Помню также очень хорошо самого Тарковского после просмотра: бледного, напряженного, одиноко притулившегося где-то у выхода из зала. О его одиночестве в этот момент я говорю вовсе не в метафорическом, а в буквальном смысле. Трудно, наверное, поверить теперь его поклонникам в то, что Андрей стоял действительно совершенно один, а люди, выходившие из зала, прятали глаза, умудряясь его обойти и устремляясь струйками, точно по заранее проложенному руслу. Тогда это был первый и, может быть, самый неожиданный для него “сюрприз”! Мы с мамой, которую я приволокла на просмотр фильма, среди немногих подошли к Андрею, чтобы крепко пожать ему руку. Он поблагодарил, вежливо усмехнувшись.
Мне кажется, что именно после этого просмотра окончательно разладились отношения Тарковского с недавним другом и соавтором сценария Андроном Кончаловским. Он тоже ушел, что называется, не кивнув головой, не скрывая своего полного разочарования картиной. Где-то вскоре в разговоре с Андреем он признался, что считает сценарий загубленным чрезвычайно замедленным, затянутым до невозможности ритмом картины.
Тарковский, конечно, не мог согласиться с точкой зрения Кончаловского, не поверил в его искренность, полагая, что тот предал его только из “шкурных” интересов. Их отношения никогда не наладились. И, забегая вперед, чтобы не возвращаться более к этому вопросу, хочу рассказать только еще один эпизод, сохранившийся в памяти, когда “Ася Клячина” оказалась на полке радом с “Андреем Рублевым”. Тогда начальство требовало от обоих “друзей по несчастью” каких-то бесконечных поправок к их картинам.
Рад таких поправок Тарковский внес, полагая, что они в целом справедливы. Но утверждал, что никогда не согласился бы внести изменения в ущерб целостности картины. Ему были чужды осознанные компромиссы или разумная практичность в играх с начальством. Так что, вернувшись однажды со студии, Андрей рассказывал в полном и насмешливом недоумении о действиях Кончаловского: “Представляешь?.. Андрон сидит в монтажной и режет свою “Асю”. Я спросил его, что же ты делаешь? А он мне ответил, что ему “кушать хочется”! Это толстому Андрону Кончаловскому кушать хочется, ха-ха-ха”...
Ирония мешалась у Тарковского с презрением, потому что материальная ситуация Андрона, конечно, была несоизмерима с его собственным, нищенским положением. Но, на самом деле, их разногласия носили гораздо более принципиальный характер, который, мне кажется, я чувствую изнутри. Тем более после публикации воспоминаний Кончаловского о Тарковском, которые, кстати, мне очень нравятся, и еще раз обнаруживают их полярную противоположность. Как ни странно, но, как выясняется, роднит их навек только общая страсть к красивым и дорогим вещам... Увидим ниже, во что это вылилось у Тарковского...
В момент, когда Тарковский приехал в Авдотьинку, сражения вокруг фильма только начинали разворачиваться. Тучи уже собирались над его головой, но еще никто не предполагал грядущих передряг в полной мере, то есть четырехлетнего простоя.
Еще до своего приезда в Авдотьинку, Тарковский успел показать “Рублева” моему отцу, Евгению Даниловичу Суркову, критику, возглавлявшему тогда сценарно-редакционную коллегию Комитета по кинематографии. И прежде, чем Андрей появился на нашем захолустном горизонте, я успела получить письмо от моей мамы, снова побывавшей на новом просмотре и отчитавшейся мне о нем в полной мере. Вместе с ней картину посмотрели ее подруга Ольга Константиновна, вдова когда-то знаменитого и замечательного актера Николая Мордвинова, и моя подруга и сокурсница, в силу ряда причин проживавшая тогда в нашем доме, Фарида Тагирова, ставшая вскоре женой сценариста Эдика Володарского. В апреле 1966 года мама писала мне:
“Пузик, здравствуй!!!
Если говорить откровенно, то у меня тоже нет никакого времени писать тебе. Но тем не менее я имею кое-что тебе сообщить. Как ты приказала, папа смотрел “Рублева ". Смотрела его и я, Ольга Константиновна и Фарида.
Прежде всего, о своих впечатлениях. Я была просто ошеломлена фильмом. Слушай, это же грандиозный фильм!!! Видимо, прошлый раз (т.е. на студийном просмотре — О. С.) я была так напряжена и напугана зрителями, так прислушивалась к их реакциям, что по существу упустила фильм. Теперь я его смотрела второй раз и хочу смотреть еще и еще. Я просто склоняю голову перед Андреем.
Ольга Константиновна звонила мне три дня подряд, чтобы только поговорить о картине. Она так ее покорила, что ей все время хотелось о ней говорить. Так что она по сорок минут держала меня у телефона, и мы наперебой говорили, говорили, говорили...
Фарида припишет сама свои впечатления.
Отец! Он сказал, что фильм грандиозный и, если кого и наградил Бог гением, то это, конечно, Андрея! Отец уже показывал фильм представителям ЦК: Черноуцан, Ильичев, Ермаш, Куницын и другие присоединились к папе, но было, правда, меньшинство, настроенное резко против фильма. Папа очень старается провести все это дело как можно безболезненнее для Андрея. Даже пытается не делать общего обсуждения, хочет сам попы-татъся с ним поговорить. Посмотрим, как это все будет... Пробить фильм, видимо, будет не так уж просто, но отец сделает все от него зависящее, говорит, что отступать не намерен: слишком, мол, это талантливо и на компромиссы не пойду ”...
Надо заметить, что отец сдержал свое слою и сделал для картины все, что мог, хотя это, увы, не помогло. Забегая вперед, могу сказать, что позднее он сам ушел из Комитета, еще раз потрясенный тем, что не может защитить правду, какой она ему виделась. Я помню, что, апеллируя к опыту нашей недавней горестной истории, которую, как казалось тогда, пытались исправлять, он считал, как минимум, неразумным вообще что-либо запрещать. Пытался убеждать, что фильмы, вызывающие возражения, тем более стоит обсуждать публично в дискуссионном порядке, а не прятать на полку, памятуя, хотя бы постыдный опыт с Эйзенштейном или Довженко, за судьбу которых приходится теперь стыдиться. Но... как оказалось, чужой опыт, увы, не поучителен...
Припоминаю две наиболее важные акции, предпринятые отцом, в надежде защитить “Рублева”. В Комитете был собран весь цвет советской кинематографии, все ведущие режиссеры с “безупречной”, в глазах начальства, репутацией, чтобы сразу и вдруг, по горячим следам, обсудить показанную им картину Тарковского. В случае успешного обсуждения, на которое он рассчитывал, стенограмма должна была быть отправлена в ЦК. Надо сказать, что отец не ошибся. Не опомнившись и еще не зная, что к чему, многие режиссеры высказывались о картине восторженно и взахлеб. Кто-то говорил о выдающихся художественных достоинствах фильма, кто-то восклицал, как трудно было существовать до сих пор “без своего Эйзенштейна, который теперь появился на кино небосклоне, как путеводная звезда”...
К сожалению, учитель Тарковского, замечательный Михаил Ильич Ромм, фактически отказался принять участие в этом обсуждении, сославшись на свое нездоровье. Я помню, как отец специально, но безуспешно ездил на машине за ним на дачу, полагая его присутствие небезразличным для судьбы картины. Но Ромм был из тех, кому “Рублев” искренне не понравился, а гонения на Тарковского еще не приняли того глобального характера, чтобы слукавить только ради его защиты. Так я, во всяком случае, понимаю эту ситуацию.
Что касается самого Тарковского, то он обиделся на своего учителя “навек”, рассудив его поведение предательским, и, кажется, никогда не простил его...
Второй акцией отца стало его собственное письмо в ЦК, которое я читала и ценила. В нем он пытался снять предъявленные Тарковскому обвинения, объясняя “доходчиво” замечательные достоинства “Андрея Рублева”. Очень надеюсь, что однажды это письмо все-таки отыщется где-то в архивах ЦК точно также, как отыщутся в архивах Госкино более поздние дискуссии Суркова с Ермашом, где он выступал за право авторского кинематографа и против генеральной линии нового министра на “американизацию советского кино” в его жанровом разнообразии.
А теперь возвращаюсь снова к маминому письму в Ав-дотьинку, чтобы отметить приписку, сделанную в нем Фаридой:
“Олъгушка! Старушка! Целую тебя! Соскучилась.
Ты знаешь мою способность к искусствоведческому анализу — поэтому обойдемся без него. Скажу тебе мои “мозжечковые” соображения... Все те опасения, которые ты высказывала, на меня не подействовали, ничего я не заметила. Сижу, смотрю фильм, забирает он меня все больше и больше, вышла из зала вконец обалдевшая, а после два дня он снился мне во сне. Так-то! А Тарковского теперь мне даже не хочется видеть. Как-то неприлично видеть живого гения. О них больше принято читать мемуары и слушать рассказы очевидцев.
Ольга, ты как знаток сценария можешь сказать мне такую вещь — сразу же была задумана эта колоссальнейшая, изумительная вещь — не показывать икон рублевских в течение фильма и вдруг стукнуть ими в конце?... Впрочем, это неважно. Важно то, что это поразительный прием, работающий совершенно безотказно. Ну, хватит кудахтать... Мы сейчас едем на дачу втроем с твоими родителями. С Володарским покончено. На этот раз основательно — окончательно. Грустно. Но пройдет... Ларисе поклон. Она на перроне была очень красивой ".
Какое трогательное, смешное сегодня умозаключение Фариды по поводу своей собственной судьбы в финале письма! Она всю свою жизнь прожила с Володарским. Или, может быть, вся наша жизнь похожа на детский спектакль, который мы осмысливаем “по-взрослому” лишь post-factum?
А на “перроне” она впервые повстречалась с Ларисой, провожая меня в Авдотьинку, как видите, тоже сраженная ее красотой — так что кому нравится “арбуз, а кому свиной хрящик”...
Вспоминая и окунаясь сегодня снова в атмосферу “нашей” Авдотьинки, так и хочется воскликнуть подобно чеховскому Дорну: “Все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро!..” Все правда, усиленная сегодня слезами банального старческого умиления — о, как мы все были молоды, как мы все любили в то далекое деревенское лето, на берегах “колдовской” реки Пары...
Любовь прямо-таки витала в воздухе... Лариса любила Андрея... Я любила и корчилась вдалеке в безответной любви к замечательному человеку и актеру Коле Волкову... Скоро стало довольно ясно, что “любимый” племянник Ларисы Сережа — все, как в пьесах Чехова — безмолвно влюблен в меня, одолевавшей его рассказами о моем неразделенном чувстве... И все вместе, разом, скопом, мы любили какой-то чарующей, беззаветно преданной любовью наконец-то появившегося в нашей глуши Маэстро...
Мамино письмо из Москвы вызвало у меня ощущение бурного счастья. Свершилось! Я не ошиблась в своих восторгах. Андрей понят и поддержан! Смешно, но я так гордилась его успехом в восприятии моих близких, будто сама сделала этот фильм...
Навсегда запомнился приснившийся мне тогда в Авдо-тьинке мой первый отчетливый сон в цвете, ошеломляющей красоты — на огромном зарубежном фестивальном экране почему-то кадры рисованного (???) фильма Андрея Тарковского, подавляющего своим несуетливым величием. И, конечно — успех!
А еще до того, как Андрей успел появиться в Авдотьин-ке, наше сельское уединение было нарушено не зазвучавшими вдалеке колокольчиками, а шумом мотора машины еще одной замечательной маминой подруги Агарь Абрамовны Власовой, героически преодолевшей 300 километров не самых гладких российских дорог и щедро предоставившей мне недолгое свидание с собою, моими родителями и Фаридой. Никаких телефонов в Авдотьинке, конечно, не было, и такого рода сюрпризы воспринимались неожиданно подаренным счастьем. Багажник, конечно же, распирало съестными припасами. Как просто и хорошо весь этот визит был запечатлен на очень плохонькой фотографии, которую сейчас я рассматриваю, с особым трепетом...
А когда и Андрей, наконец, почтил-таки всех нас своим присутствием, постепенно завязался еще один узелок моей будущей жизни. Мы с Сережей были единственными постоянными завсегдатаями той уединенной терраски, где обосновались Лариса с Андреем. Там мы немерено пили водку, подливались вкуснющей, свежей деревенской едой и бесконечно говорили, казалось, о самом главном для нас: об искусстве, художнике и об их задачах в этом мире... Впрочем, если выразиться точнее, то мы слушали, не отрываясь, главным образом то, что говорил Андрей, завораживающий своими речами наше немноголюдное собрание...
Надо сказать, что красноречие Андрея росло прямо пропорционально выпитому, но никогда не становилось пьяной, невразумительной болтовней. Он открывался, как раковина, и становился беззащитным. Я думаю, что скрывавшаяся им и, видимо, тяготившая его неприспособленность к практической жизни сыграла потом очень важную роль в его судьбе и, как ни странно, в человеческом становлении.
Он любил произносить длинные тосты, в которые вмещалось все его мировоззрение и отношение к каждому, сидящему за столом. В промежутках между “гранеными стаканчиками” он брал гитару и начинал очень отчетливо выводить слова, как правило, двух песен Генночки Шпаликова: “Ах, утону ли в Северной Двине или погибну как-нибудь иначе” или “Прощай, Садовое кольцо”, которое он мучительно долго тянул каким-то особенным дребезжащим голосом, как будто пытавшимся обозначить что-то очень для него важное: “Я о-о-опускаюсь, о-о-опускаюсь... И на зна-а-ако-о-омое крыльцо-о-о чужо-о-го дома поднимаюсь”...
Прямо-таки опасливое предощущение уже свершающегося на наших глазах... Больше, пожалуй, я никогда не слышала, чтобы Андрей пел. Наверное, мне пришлось быть свидетелем его несколько запоздалого взросления, сдобренного отголосками бурной молодости, о которой потом мне пришлось только кое-что слышать... Узнавать, вопрошая вместе с Высоцким: “А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном”, то есть там, где встречались когда-то — у Левы Качеряна — и Тарковский, и Кончаловский, и Шпаликов, и Артур Макаров, и Володя Акимов, готовые, очевидно, тогда, сдвигая бокалы, восклицать: “Друзья, прекрасен наш союз!”
Жалко, что все это было до меня, а мне достались лишь обрывки тех последних связей, которые Лариса постепенно, шаг за шагом обрубала на моих глазах не дрогнувшей рукой. Она объясняла мне, как важно вырвать Андрея с корнем из “вредного ему”, а, на самом деле, конечно, прежде всего тяготившего ее, так называемого его прошлого, которое она прямо-таки ампутировала разного рода виртуозными операциями.
Я узнала Андрея, когда он, на самом деле думаю, мучительно и долго прощался с этой своей прошлой жизнью, вступая постепенно в совершенно новую для себя фазу, соединившую его до конца дней с урожденной Ларисой Павловной Егоркиной (Кизиловой — по первому браку).
Первой самой главной мишенью, предназначенной к ликвидации, была, конечно, недостойная Его Ирма Рауш.
Помню, как удивил меня гораздо более поздний и единственный теплый рассказ об Ирме, неожиданно прозвучавший для меня из уст Толи Солоницына. Ведь в моем представлении, обозначенном, конечно, Ларисой, все постепенно складывалось так, будто ее вовсе не было. А случился этот рассказ гораздо позднее, когда Андрей уже полностью врос в новую семью. Дело было на Мосфильмовской. Андрей уже бросил курить, и мы с Толей Солоницыным вышли с сигаретами на лестничную площадку во время очередного пышного Ларисиного застолья. И вдруг Толик так задумчиво, с какой-то отрешенной ностальгической грустью поведал мне: “А ты знаешь, я еще помню времена, когда Андрей жил с Ирмой у Курского, и сам себе жарил готовые котлеты.” Я была как-то озадачена, с трудом представляя, что Андрей мог сам жарить себе котлеты, да еще покупные, а не пухленькие, душистые, сбитые Ларисиными ручками. Он? Как это так? Перед глазами рисовался совершенно другой образ не нашего теперешнего Маэстро, а так себе, простого смертного — я с удивлением посмотрела на Толю. “Да-да, представь себе, — настаивал Солоницын, — он сам жарил себе котлеты... А сейчас все это”... Он совсем как будто сбился и завершил застенчиво: “Нет, хорошие... хорошие были времена... И так жаль, что ты их не застала”...
Вот, оказывается, как интересно все было... Но что теперь говорить?... Я оказалась у истоков становления уже новой семейственности, которой надлежало “спасать Андрея во что бы то ни стало, облегчая ему жизнь” — а что может быть благороднее этой задачи? Для ее окончательного и полного решения Ларисе нужно было изолировать Андрея не только от бывшей жены и подозрительных друзей, но еще и от близких и кровных родственников, “не любивших его тоже никогда, не готовых помогать, завидующих, холодных и отягощающих его только неприятностями”. Надо сказать, что Лариса добилась полного успеха на всех фронтах. Постепенно Андрей был полностью изъят ею из окружавшего мира и заключен в созданный для него вакуум так называемой надежности семейного удобства и уюта, обеспечивающего тот тыл, о котором он, якобы, мечтал всю свою жизнь. Ларисе самой как будто бы ничего было не нужно — пусть только Он дышит, работает, творит. А она сама... Да, какая разница? Она сама будет ради него жертвовать всем, из последних сил устраивая его жизнь...
И, надо сказать, что только постепенно я поняла, что, с одной стороны, он этой ситуацией тяготился, неоднократно пытаясь сбежать, но, с другой стороны, эта ситуация его все-таки устраивала... Но и об этом речь впереди.
А пока, в Авдотьинке, мы еще только стояли в преддверии всех грядущих событий, разморенные до конца благостной летней жарой... Все мы ходили купаться на речку Пара... Валялись, загорая на островке, опохмелившись с утра парным молоком, закусив его пшеничными блинами и совершенно беспечно погрузившись в сонную деревенскую идиллию...
Надо заметить, что деревенский пейзаж был Ларисе очень к лицу. Она прямо-таки цвела крепким здоровьем, питавшимся воздухом, речной водой и солнечными лучами. Ей очень шел загар, и она снова повторяла: “Солнце — мой Бог!”
Вокруг нее ощущалась аура кроветворных, витальных сил, хотя она любила всегда жаловаться на свое здоровье. Но было... было во всей ее стати, типично русской, крепко сбитой, чуть полноватой, что-то казавшееся подкупающе надежным и крепким. Казалось, что с ней не пропадешь...
И эти веснушки на плечах, которые Андрей, не скрывая, обожал, то вспоминая позднее очарование веснушчатых плечей Моники Витти в “Красной пустыне”, то Лив Ульман. Он считал, что Лариса, вообще, очень на нее похожа.
Она могла купаться даже тогда, когда другие поеживались на берегу в шерстяных свитерах, легко бороздя своим сильным телом холодную воду. “Ну, Ларка, ты даешь!” — таращила я на нее глаза... И снова вспоминала легкость, с которой она таскала неподъемные сумки или умела по-деревенски проворно выскрести добела дощатый пол в избе. В ее доме пахло чистотой и пирогами, а то и жареными гусями — “гусиками”, как их любовно называла Лариса, всегда любившая выпить и закусить.
Атмосфера такого дома, где “водились еще и денежки”, воссоздана в эпизоде “Зеркала”, когда Мать понесла продавать сережки. Вот откуда, наверное, из голодного детства, это подсознательное тяготение к такого рода уюту, вожделенному достатку, в котором было унижено достоинство босоногого, покрытого вечными цыпками, недоедающего мальчишки с его строгой, достойной, интеллигентной мамой. Казалось, что именно Лариса гарантировала ту самую защищенность, которой, видимо, так не хватало нервному, рефлексирующему Тарковскому. Как глубоко я понимаю его, потому что я сама на себе испытала ее притягательную силу, тоже замешанную на уверенности, что ею все будет сделано и организовано каким-то наилучшим доступным только ей одной способом.
Не знаю, что думал себе Андрей прежде, когда женился на своей сокурснице Ирме Рауш, как я уже заметила, женщине интеллектуальной, с амбициями совершенно другого рода. Я слышала, что она пользовалась большим успехом в институте, и Андрей добивался ее тогда с немалым трудом. Надо при этом заметить, что они поженились и начинали свой общий путь вместе, когда Андрею еще только предстояло стать знаменитым Тарковским, то есть в их браке не было расчета.
Очень смешно, но Лариса уверяла, что ее любовь к Андрею так бескорыстна; “Ах, Олька, какая мне разница, кто он... даже лучше, если бы он был дворником... было бы проще, и он, действительно, принадлежал бы только мне... без этой бесконечной борьбы”. Ах, бедная Лариса!
Когда я узнала Тарковского, он был уже рядом с ней, отбегая на поводке разной длины. При этом он исповедовал благоговейное отношение к женщине, способной отказаться от самой себя ради своего мужа и семьи. Лариса прекрасно умела вписаться в этот образ, сотканный ею для дураков вроде нас, любителей провинциальной сцены. Этакая кроткая, смиренная, всепрощающая хранительница семейного очага. Все остальное как будто бы побоку, объявленное самим Тарковским от лукавого. Эволюцию именно этой идеи, пережитой вместе с Ларисой и олицетворявшей, по его “придумке”, только безраздельную и бескорыстную любовь, хранят его фильмы.
Так или иначе, нравится это нам или нет, но недюжинным женским чутьем Лариса точно ухватила, поддержала и развила то, что Андрею было нужно, точно следуя во имя его завоевания, предначертанному ей образу. Ясно одно, что, будучи большим художником, Андрей был негодным психологом, не замечая всех тех “переборов” и “нажимов”, которые почему-то сразу были определены моим отцом, как нестерпимая “фальшь”...
Сурков недоумевал только по другому поводу: “почему Ларисе понадобился именно Тарковский, а не какой-нибудь генерал-полковник?” Хотя кое-какие дополнительные соображения у него возникали по этому поводу, но об этом тоже позже. А пока Лариса полностью вписывалась в созданный Андреем образ русской женщины. Она окружила его повышенным вниманием, и все мы радостно не подыгрывали, а искренне, на полной выкладке, плясали под ее дудку.
Они так возвышено продолжали всегда называть друг друга только на “вы”. А когда она называла его “Андрюшей” или “Андрюшенькой”, то Андрей вторил ей не только “Ларисой, Ларочкой”, но, глядишь, и “Ларисой Павловной”... Ну, чем вам не Гоголь? Только последние годы в Италии у него несколько раз проскользнуло “ты” в обращении к жене....
Хотя можно, конечно, объяснить “вы” без насмешки и иначе. “Вы”, наверное, вошло у них в обращение поначалу еще со съемочной площадки, когда отношения приходилось скрывать. Но потом сохранившееся “вы” создавало определенную дистанцию, дополнительный пиетет, некоторую старомодную церемонность. Так что хоть круть-верть, хоть верть-круть, но “всякая форма содержательна” — надобно только это содержание ухватить!
Правда состоит в том, что вся последующая жизнь Ларисы с Тарковским никогда не стала взаимоотношением двух равных партнеров, хотя положения их менялись. Уже тогда в деревне мы ожидали вместе с Ларисой приезда не просто самого горячего ее возлюбленного, но “господина”.
Сейчас я даже не могу вообразить Тарковского без Ларисы. Однако, мне кажется, что без нее он был бы во многом другим, другой была бы биография и совершенно другими были бы его фильмы. Можно проследить, как вписывалось в них все, что было связано с Ларисой. Но никому неизвестно: то ли вылепила она его именно таким по случайному стечению обстоятельств, то ли на самом деле он нашел в ней на самом деле предназначенную ему изначала свою собственную судьбу? Мне тем более трудно судить, так как будучи другом семьи, я наблюдала его в разных ситуациях, но всегда, как говорится, на их территории, то есть в кругу домашних и близких. Мне известны, конечно, некоторые перманентно повторявшиеся периоды его более или менее длительных “исходов” из семьи, но всегда только в Ларисиной интерпретации...
Всякое простое человеческое проявление Тарковского, не осененное печатью его гениальности, навсегда оставалось в памяти. Вот один смешной случай такого рода.
Как я уже заметила выше, Сережа Найденов, молодой племянник Ларисы Павловны, влюбился в меня в то лето пускай не на берегу “колдовского озера”, но на берегу ставшей для всех нас “колдовской” реки Пары. Дело близилось уже к моему отъезду из Авдотьинки, когда, подавшись, наконец, общей “колдовской” атмосфере, в которой было “столько любви”, мы с Сережей тоже, выйдя с верандочки Тарковских далеко за полночь и позабыв о моей несостоявшейся московской любви, присели на завалинку у спящего дома тети Сани, да и процеловались с ним, не мудрствуя более лукаво, от души и до рассвета...
Но, каков был мой ужас, когда, проснувшись утром и поглядев на себя в мутное зеркало, украшавшее горницу, я увидела, что вся моя шея, точно ожерельем, украшена... синяками! Тут уж нам, молодым да неопытным, было и впрямь не до шуток. И кого же было посвятить в это несчастье, да еще накануне моего отъезда, как не Ларису? Не Андрея же обременять такой “стыдобой”. Но неожиданно для меня совет старейшин, представленный все-таки Ларисой с Андреем, постановил, что все не так страшно, и паника отменяется: отъезд в Москву следует отложить на несколько дней и как можно быстрее отыскать для меня “свинцовую примочку”, которая поможет поскорее скрыть следы “преступления”.
Помню, что Сережа безрезультатно обегал все окрестные деревушки, но за чертовым зельем нам с Ларисой пришлось ехать в итоге чуть ли не в Шилово. И когда, наконец, оно было торжественно доставлено в нашу деревенскую глушь из районного центра, то Андрей с неожиданной и льстящей мне истовостью собственноручно принялся за мое излечение.
Из горницы были изгнаны все дети и посторонние. Меня водрузили на табурет перед тем же зеркалом, перед которым я опознала свой позор, и Андрей, оттягивая марлевую повязку, призванную свидетельствовать общественности, что меня настигла злополучная ангина, не дрогнувшей рукой начал заливать' за нее леденящее зелье. Я верещала от колющего холода, но Андрей был неумолим. А когда процедура была завершена, то, посмеиваясь, но с осознанием чрезвычайной важности предпринятых действий, он многозначительно заключил, очевидно, в воспитательных целях: “Ну, вот! Следующий раз будешь знать, как целоваться!” Напутствию этому я постаралась следовать всю свою последующую жизнь...
* * *
Так жаль, но мне никогда более не довелось побывать в Ав-дотьинке, в доме тети Сани, хотя много раз, направляясь потом в Мясное, где Тарковские позднее купили и отстроили себе деревенский дом, мы проезжали мимо знакомого поворота, не сворачивая. Родственные отношения были прерваны после того, как Лариса безуспешно попыталась отсудить у тети Сани дом, когда-то принадлежавший их общим предкам. Это было так странно: тетя Саня и дядя Коля, простые крестьяне, не выезжая, ухаживали за этим домом всю свою жизнь... Вот как запросто и неожиданно могли вызревать в практической жизни не слишком возвышенные идеи...
Настойчивая мысль заиметь свой собственный дом в деревне, который, конечно же, должен был утешать — понятно, Андрея — возникла у новобрачных сразу же после бракосочетания, правда, замешанная сразу на вышеизложенной неблаговидности. Как поэтично рассказано о появлении такого дома в “Жертвоприношении”, как точно реконструирован он в “Ностальгии” с разного рода вполне лирическими задачами Автора... Иное не задержалось в поэтической душе...
Надо сказать, что до семейной егоркинской распри в Авдотьинке еще раз успели побывать как сама Лариса, так и тот же Сережа Найденов, ставший вскоре моим первым мужем. Следующим летом он писал мне оттуда письмо в Гуль-рипши, поселок под Сухуми, куда я поехала отдыхать без него, со своими друзьями-студентами. Девушкой я была несоответствующей образу Тарковского, весьма “современной”, этакой “независимой” эмансипанткой, полагавшей, что супруги для крепости их отношений должны, по крайней мере, отдыхать отдельно. Сережа без особого энтузиазма согласился с моим очередным “прибабахом”. К тому же я, наглая девка, требовала еще от него “длинных” и выразительных писем, одно из которых я привожу здесь, чтобы воскресить еще раз питавшую всех нас удивительную атмосферу того незабываемого лета:
“Олюшк, милый!
А сейчас я уже в Авдотьинке. И уже искупался. Сегодня буду пить за двоих (конечно, молоко) и все время вспоминаю и буду вспоминать мою Сурковую массу, которую я люблю больше, чем она подозревает... Я сидел на нашем островке. Легкий ветерок дышал на меня деревенским запахом, солнце, висящее в зените, горячо подогревало мою голову... Жарко... И все это: и солнце, и ветерок, и вонючка (“вонючкой” мы называли какую-то фабрику, отвратительный запах которой долетал иногда с ветерком до деревни — О. С.) заставляли меня вспомнить ту, которую я неожиданно полюбил здесь, полюбил страстно и неистово, и любил целый месяц. Звали ее Ольгой. Солнце в августе встает рано, я же вставал еще раньше и, едва успев выпить несколько стаканов парного молока, бежал на остров, где в нетерпении ожидал ее прихода.
Надрывались из последних сил уже охрипшие петухи, солнце не успевало еще слизнуть с листьев сочную росу, как появлялась она, “моя ”, как я ее называл, Ольга. В красивых белых туфельках, в изящном желтом с полоской сарафане она шла, стройная и грациозная, молодая и чистая, шла и бережно прижимала к себе “Анну Каренину”. Иногда она пела нежным и покойным голосом. Во мне все трепетало, я уже не слушал осипших петухов, я слышал и видел только ее.
Такой я ее и запомнил: юной и прекрасной, как первый луч солнца. Такой она и была. Такой я ее любил ”.
Милый шуточный пафос снимал постскриптум:
“P.S. А дурацкое и длинное письмо я все-таки сумел написать. Ну, Олюшка!”
В другом письме, среди всего прочего, Сережа сообщал мне о Ларисе:
“Вообще эта поездка в Авдотьинку была очень удачной. Тетка там вся в ожиданиях и волнениях. Делает гимнастику, загар, массаж — в общем блюдет фигуру к приезду Андрюши. Собирается тебе писать, но не думаю, чтобы собралась ”.
Письмо Лара, конечно, не собралась мне написать, но еще одно письмо Сережи позволяет вспомнить, как тщательно готовилась она всякий раз к любому приезду или просто визиту Тарковского: эти бесконечные маски на лицо, замазанное то клубникой, то огурцами. Окаменевшее, как у сфинкса, в попытках сохранить свежесть и уберечь от морщин. Видится, как не выдерживая статичную маску, она сначала пытается скорее жестами урезонить мою болтовню, а потом не выдерживает и смеется в ущерб генеральному плану... И вечно худеет, потому что “диета” все время срывается “обжираловкой”...
Сестра Ларисы, моя бывшая свекровь Тосенька, вторит Сережиному письму:
“О том, какие дела в деревне, Сережа, наверное, написал. Андрей собирается поехать туда, Марка ждет его, можешь себе представить как ”.
В то же лето Сережа переслал мне “донесение” другого рода:
“Вчера на студии встретился с Андреем. Он мотается между Кишиневым и Москвой. Там у него сдается картина и выглядит он в самом деле очень замотанным. Он собирается после 17-ого в Авдотьинку. Просил передавать тебе привет в первом же письме "...
Очевидно, на “Молдова-фильм” сдавалась уже упоминавшаяся мною каргана АХордона “Сергей Лазо”, в работе над которой принимал, как я уже писала выше, некоторое участие сам Тарковский, а потому и мотался тогда между Кишиневым и Москвой. А недавно я прочитала в воспоминаниях Гордона, что уже тогда к нему приезжала туда не Лариса, а иная “молодая женщина, которая была с ним все время, пока он жил в Кишиневе”... Вот, как! Что же заставляло его все-таки вновь и вновь возвращаться к Ларисе?
* * *
А теперь попробуем восстановить события, присходившие между летом 66-го и летом 67-го года, пожалуй, самого восторженного и безоблачного периода моих отношений, прежде всего, с Ларисой Павловной, косвенно определявшей мои взаимоотношения с самим Тарковским.
Все мы, московские жители, вернулись из Авдотьинки в свои городские обители. И восторженное отношение всего нашего семейства, а, главное, моего отца к “Андрею Рублеву”, выразившееся в его целенаправленных действиях, определили “эру” бурного сближения Тарковского с нашим домом — постепенно они вместе с Ларисой стаж у нас прямо-таки завсегдатаями. А поскольку чаще они приходили вместе, то моему отцу пришлось смириться с Ларисой. Реже, когда отец бывал дома, Андрей приходил один. И сам он бывал всегда скрупулезно точен во времени. Чего никак нельзя было сказать о Ларисе. Это, как правило, создавало между ними при каждым совместном визите соответствующий градус по напряженности. Но даже, появляясь вместе и прежде чем воссоединиться за общим столом, Андрей обычно удалялся поговорить с Сурковым один на один, видимо, об общей ситуации вокруг картины и о возможной дальнейшей стратегии и тактике...
Иногда Андрей с Ларисой заваливались к нам просто так и в его отсутствие, посидеть да потрепаться на кухне в уюте и тепле, которые грели всех нас...
Надо сказать, что моя мама — “Липа”, как ее величал Тарковский просто по имени и с которой они очень скоро перешли на “ты” — обожала Андрея и с радостью всякий раз “метала на стол” все самое вкусненькое... Особой страстью Андрея был угорь, которым она изо всех сил старалась его полакомить, если заранее знала о предстоящей встрече. Она вообще всегда очень хорошо готовила и была прекрасной хозяйкой. Андрей это ценил, громко восхищаясь “домом”, который создала мама в нашей небольшой тогда двухкомнатной квартирке на Ломоносовском. “Вот, Лариса Павловна, учитесь!” — любил бросить Андрей то ли в шутку, то ли с внутренней “подначкой”, это был тот редкий выпад, который ему дозволялся и которого Лариса не замечала, кротко соглашаясь всегда: “Да-да, Андрюша, я всегда учусь у Липочки”...
Отношения Ларисы с Андреем переживали все то же долгое и мучительное становление, продлившееся практически всю жизнь. Брака Лариса добилась с большим трудом, заверив однажды Андрея, что аборты врач больше делать не берется, а потому этому ребенку суждено появиться на свет. Так что не очень торжественное заключение брака свершилось лишь после рождения сына, названного в честь собственного отца Андреем. А тогда еще они с трудом и “перебоями” притирались друг к другу, точнее Лариса приучала и приспосабливала Андрея к себе с переменным успехом.
Жила она тогда со своей Лялькой и мамой у сестры То-сеньки тоже в двухкомнатной квартире — точно такой же, как у нас — но на Звездном бульваре, прямо за кинотеатром “Космос”. Смешные знаки времени: во дворе нашего дома был кинотеатр “Прогресс” — так что путь определялся прямо-таки в Космос силами Прогресса! Кроме Ларисы, Ляли, Тоси и Анны Семеновны в той же квартире ютились еще два Тосиных сына, то есть Сережа и Алеша...
У Анны Семеновны с Ларисой была какая-то таинственная собственная жилплощадь: две смежные комнаты в коммуналке в Орлово-Давыдовском переулке, где еще одну комнату занимала одинокая тяжелобольная соседка. Комнаты эти то ли пустовали, то ли сдавались в ожидании, пока соседка не покинет этот лучший из миров, чтобы квартиру можно было постараться занять полностью... А пока все существовали в родственной тесноте да, как казалось до поры до времени, не в обиде...
Надо сказать, что Лариса царила в своем родовом гнезде и держала всех в состоянии затянувшегося и очень напряженного ожидания развязки своих взаимоотношений с Тарковским. Трудно было предположить, чего можно было ожидать от нашего Гения каждое следующее мгновение. Он жил довольно разгульной жизнью, хотя еще не развелся, и Лариса всякий раз яростно и методично пыталась выяснить места его пребывания. Агентурные связи были раскинуты ею повсеместно: через друзей Андрея, их жен и возлюбленных. Семья окружала ее сочувствием и пониманием. Молчаливая и наблюдательная Анна Семеновна, которую все очень любили и уважали, время от времени тяжело и глубоко вздыхала, склонившись над шитьем, в домашнем халате, в сильно увеличивающих круглых очках... Иногда она вопрошала, обращаясь ко мне: “Не понимаю, Оль, и что она нашла в этом кузнечике?”, усмехаясь, на мой вопрос: “ Да... Я его кузнечиком называю.” И снова утыкалась в шитье. Настанет время, когда Андрей за свое непослушание будет просить прощение, встав на колени — конечно, по собственному почину — не у Ларисы, а у Анны Семеновны, которую он боготворил.
Еще бы, он уходил в длительные и непредсказуемые загулы: то к друзьям, то, наверное, к своей законной жене, но неизменно возвращался “отмокать” к Ларисе, на Звездный бульвар, где его всякий раз снова нежно опекали... Иногда Лариса его отслеживала, иногда он, сильно “набравшись”, звонил ей сам с просьбой его забрать... Ситуация была шаткой и с самого начала не обещала сколько-нибудь стабильного, спокойного будущего. Но Лариса была неуемна, и ничто не могло ее смутить. Больше всего на свете она боялась потерять Андрея и, казалось, была готова ради него на все. Так что будущее счастье изначально выстраивалось на вулканической почве: скучать было некогда...
С течением времени я, увы, все более ясно осознавала, что Лариса не только не простила Андрею ни одного из унижений, которым он ее подвергал, но пыталась потом не без мстительного удовольствия вернуть ему все обратно сторицей. Но об этом дальше, дальше*.
Отвечаю теперь с некоторым опозданием на раздражавшую меня когда-то дежурную шутку моего отца: “Олька, а почему все-таки не генерал? Посмотри, ведь она типичная генеральша! Зачем ей непременно понадобился Андрей?” Рассеиваю его недоумение в образном смысле ссылкой на “Наполеона в юбке города Мардасова”, а в бытовом смысле настаиваю, что Ларисой владела та просто меркантильная, но глобальная идея — “войти в историю” даже не просто рядом с Андреем, но, как минимум, его определяющей путеводной Звездой.
Однажды отец, задумавшись в очередной раз после визита к ним Тарковских, резюмировал вдруг свои размышления о Ларисе: “Мне совершенно ясно, что она к нему приставлена”...
В Италии я иногда вспоминала и эти его слова...
Внешне, как говорят в России, Андрей с Ларисой “не подходили друг другу”: хрупкий Андрей терялся на фоне Ларисиной крупности. Она казалась выше Андрея, тем более на высоких каблуках и в шляпе, которые она очень любила. Тогда Андрей выглядел рядом с ней вовсе мальчиком. Я никогда не узнала ее возраст — он менялся — но она была старше меня и выглядела всегда старше Андрея. А туалеты, манера держаться рознили их тем более — будто они были с разных грядок. Породистый, всегда элегантный Тарковский смотрелся странновато рядом со своей спутницей, особенно, когда она была “при параде”: косметика, прическа, туалеты. Всего было слишком много, и все было другого свойства... Действительно, типичная жена военного...
Возникало ощущение, что он ее стесняется, то ли давая ей это понять намеками, то ли манкируя совместными визитами. Во всяком случае, Лариса это замечала тоже, угрюмо рассчитывая с ним расквитаться.
Первой жертвой Ларисиных козней пал Лева Качерян, которого я уже не успела увидеть. Второй важной и долго еще продержавшейся мишенью на моей памяти стал Артур Макаров, приемный сын С.Герасимова и Т.Макаровой. Андрей без преувеличения боготворил его, называя исключительно “Ар-чиком”, в то время как Лариса рисовала его мне подлинным исчадием ада. Она рассказывала, что его содержат какие-то проститутки, одна из которых стала его женой, о садомазохистском поведении. “Ты не представляешь, что он вытворяет со своей Милкой, как он ее лупит, как он ей изменяет. Трясет, как Сидорову козу — рассказывала мне Лариса. — А Андрей так хочет ему понравиться и демонстрирует ему свою силу. Ко мне он там обращается вообще, как к собаке, демонстративно командуя: “К ноге”! И я ползу к нему”...
Такие рассказы, конечно, приводили в смятение мою неокрепшую душу. Все это очень трудно укладывалось в голове молодой девушки, открытой новым веяниям свободы, но не слишком подготовленной к такого рода играм. Арчик всегда рисовался ею в образе уголовника, на которого, честно говоря, я поглядывала с опаской, когда он еще появлялся вместе с Андреем на Звездном бульваре. От такого бугая, конечно, бедной Ларисе нужно было спасать нашего хрупкого, совершенно заплутавшего Андрея.
Лицо Арчика было, действительно, очень мало симпатичным, а в отношениях с Андреем, как помнится, он вел себя очень уверено. Впрочем, о чем я сама могла судить непредвзято, если при Ларисе любые панибратские отношения с Андреем казались мне странно неуместными? Ее рассказы всякий раз снова вызывали мое недоумение: “Представь себе, что, когда Артур приезжал на съемки “Рублева”, то Андрей просто трепетал от восторга — “Арчик приехал! Арчик приехал!” — и бежал со всех ног, чтобы тащить ему чемодан, а?” Но почему все-таки “ наш” Андрей трепетал перед ним, таким противным, но таким мужественным? Что таилось за этой привязанностью?
Нет-нет, в то время я безоговорочно верила всем Ларисиным опасениям и характеристикам — представляла Андрея, кумира и надежду нашего кинематографа, окруженным кольцом видимых и невидимых нам злостных врагов. Как я сочувствовала ее праведной борьбе во спасение нашего Маэстро! Кто же, если не она? Ну, прямо-таки, если бы не было врага, то его надо было бы выдумать... Не оставлять же его в сомнительных руках этого мачо?..
Подумать только, что именно эта женщина, поначалу безропотно подползавшая к Андрею по команде “к ноге”, до такой степени определила его жизнь и судьбу! Как бы он все-таки выглядел с другой женщиной? А, может бьгпудругом? Во всяком случае симптоматично, что Андрей замысливап потом сценарий о патологически лживой женщине, которую герой убивает, не в силах более выносить. Именно Ларисиным “фантазиям” не было предела... Но он им несомненно подчинялся. Почему? Создавая при этом образы либо чистой женственности, сходной с материнской и на замаранной плотским, либо женской нечистоплотности, марающей мужчину, как в “Ностальгии” или “Жертвоприношении”. Какие демоны владели душой Тарковского, когда согласно Ларисиной идее, он подтверждал в своем дневнике: “Мне кажется, что Артура М. я раскусил. Очень слабый человек. То есть до такой степени, что продает себя. Это крайняя степень униженности”...
Возвращаясь теперь к сюжету собственной жизни, зимой 1966-1967-го года, обожая по-прежнему Ларису с Андреем, я совершенно неожиданно для себя вдруг согласилась стать женой Ларисиного племянника Сережи. Думаю теперь, тоже — по ее сценарному замыслу...
Вот как случилось это знаменательное событие. Папа был в командировке, кажется, на Кубе, а к нам на Ломоносовский нагрянули Андрей, Лариса и Сережа, несомненно любивший меня. (После Авдотьинки мы, конечно, много встречались и у них дома, и у нас на даче, куда, как помнится, Сережа приезжал порою без предупреждения, романтично ожидая моего пробуждения на садовой скамейке, что было очень мило.) А тогда все мы сидели на кухне с моей мамой, болтали наперебой и “клюкали” водочку от души. Мы будто парили все вместе в атмосфере теплой всепроницаю-щей любви. Во всяком случае, мне так казалось. И на этой волне мы с Сережей в какой-то момент удалились “на танец” из кухни в большую комнату. Судя по дальнейшим событиям я, очевидно, чувствовала себя слишком прекрасно, преисполненная каким-то общим неземным счастьем. И тут я услышала прямо-таки, как в чеховском рассказе, “я люблю вас, Юленька”, когда Сережа прошептал-прошелестел мне на ухо: “ну, когда же ты выйдешь за меня замуж?” А я, не задумываясь, ответила ему: “завтра!”
Сережа, отчасти ошарашенный этим несколько неожиданным ответом, переспросил меня неуверенно: “Так мы можем сейчас пойти к ним и объявить о нашем решении?” “Ну, конечно”, — заявила я. — Почему же нет?” Это все было так радостно и так естественно: вот так, прямо сейчас и вдруг, всем нам стать родственниками. Меня несло тогда по жизни на воздушной подушке: а к своему будущему мужу я относилась безответственно, легкомысленно и инфантильно, не желая его, конечно, обманывать. Сережа любил меня, и мне показалось, что, может быть, я тоже уже его люблю или полюблю, в конце концов — какая разница? Все это было так славно, слажено, ну здорово!
Свадьбу играли у нас дома. Жили мы, как говорится, всегда в достатке, но небогато, в той же самой двухкомнатной квартире. О собственной квартире нам с Сережей тогда не приходилось даже мечтать. Мы были студентами, и я полагала, что будем теперь жить у моих родителей. Какое там...
Лариса имела на это свою собственную, неожиданную, несколько экзальтированную, но очень тронувшую меня точку зрения: “Нет, мы все так любим Ольгу с Сережей. Мы их ни за что не отпустим. Они будут жить у нас, на Звездном, и мы все будем жить только для нихПо есть только так, и никак иначе!
Мои родители удивились, но в полемику не вступали. ВГИК, где я училась, находился в двух шагах от Сережиного дома, и мы решили, что при такой безоглядной любви моих новых родственников, мы можем осчастливить их своим присутствием в учебные дни, а на выходные и каникулы будем перебираться к моим папеньке с маменькой.
Прежде чем переходить к завершающим событиям этой главы, должна рассказать еще одну довольно примечательную историю, случившуюся на нашей свадьбе с тетушкой моего мужа. Андрея на этой свадьбе не было, но Лариса, конечно, освещала собой этот праздник, на котором было множество моих друзей. В том числе был тогдашний студент режиссерского факультета, учившийся на одном курсе с Рустамом Хамдамовым или Ираклием Кварикадзе, Сосо Чхеидзе. Прелестный, милый, красивый да еще глубоко интеллигентный молодой человек. И Лариса завязала с ним первый бешеный роман, случившийся на моих глазах.
Надо сказать, что Андрей, при всей моей любви к нему, так мучил Ларису, так очевидно изменял ей, болтаясь неизвестно где, что ее намерение “оторваться” с Сосо показалось мне вполне естественным. В конце концов человеческие силы не беспредельны, и Лариса тоже имеет право на отдых в своей неустанной борьбе за него.
Зная их жизнь, мне было особенно смешно читать описание Ларисой в 1995 году своего первого свидания с Андреем и краткую историю их любви: “Мы познакомились на картине “Андрей Рублев”. Мне было двадцать четыре (??? — О.С.).Ему тридцать. Я сидела в кабинете директора фильма Тамары Огородниковой. Вошел он. Я не знала, что это Тарковский. Увидела очень красивого, элегантно одетого, блистательного человека... Я и сейчас его люблю. Господь подарил мне это счастье — любовь. Я не могла без него жить. Он не мог жить без меня. Казалось, так будет вечно... Для меня он не умер. Есть жизнь и после смерти”.
Свят-свят-свят, — неожиданно перекрестилась я. — Неужели и Там не оставит она его в покое? Но потом засмеялась. Не судья же я им в конце концов, а лишь невольный свидетель и соучастник...
А тогда Лариса здорово влюбилась в Сосо, исчезая с ним в отсутствие Андрея на несколько дней. Однажды Андрей вернулся на Звездный из какой-то поездки. Мы вчетвером, то есть он, Лариса, Сережа и я были приглашены уже на следующую свадьбу к Фариде и Эдику Володарским. Ларисы на месте не оказалось. Андрей, ничего не понимая, метался по квартире, и, наконец, мы выехали с ним на свадьбу вдвоем (Сереже нужно было сдавать в свой институт какой-то срочный проект). Я знала, конечно, где или точнее с кем находится Лариса, но, понятно, молчала, не представляя себе грядущей развязки.
Но каково же было мое удивление, отличное по своему характеру от удивления Андрея, когда, войдя в крошечную квартирку, которую снимали тогда Володарские в занюханом районе, мы обнаружили там... и Ларису, устремившую нежный взор на Андрея. А он заорал, выпучив глаза от удивления: “Лариса! Где вы были?” Но за нее, оскорбленную Андреем невинность, наперебой стали отвечать Эдик с Фаридой, благодаря за ту беспримерную помощь, которую Лариса оказывала им в организации стола. Пристыженному Андрею пришлось постепенно успокоиться и извиниться: “Ну, Лариса, ведь я ничего не знал... Могли бы мне, между прочим, позвонить... Ну, вот видите, какая вы все-таки умница”... Последнее повторялось им многократно во множественности эпитетов — “добрая, щедрая, готовая прийти на помощь”...
Таким было начало пира, завершившегося моим бесславным поражением на поле алкогольной битвы. Я была сражена чрезмерным возлиянием, и Андрей снова, как и в Авдотьинке, но уже на правах родственника взял дело моего физического восстановления в свои творческие руки. Было смешно...
Народа на свадьбу набилось, конечно, немерено — так что свадебный стол был организован из дверей, снятых с петель. Таким образом, ванная комната, куда потащил меня Андрей приводить в чувство перед дорогой к законному супругу, оказалась незащищенной от внешнего мира, гудящего праздником. Дверь соорудил сокурсник Сосо и наш близкий друг Гена Иванов, который рыцарски держал чье-то пальто, растянув его в дверном проеме. А Андрей потребовал чтобы я, сняв какую-то кофточку, наклонилась над ванной, и он поливал меня под мой дикий вой контрастным душем, уговаривая потерпеть и обещая полное исцеление: вот так, вот так! У-у-уф!
Лариса, потом понятно, неоднократно рассказывала мне, как безумно любил ее Сосо, предлагая немедленно выйти замуж. Как он купил ей какой-то милейший халатик и домашние тапочки, как он ухаживал за ней в отличие от Андрея, за которым — добавлю — ухаживала всегда она... Но, к ее великой тоске, могла она по-настоящему принадлежать только Андрею и ему одному... Так жалко ее было, но ведь терпели-то все во имя высшей идеи... И, спасибо хотелось сказать за ее краткий отдых благородному Сосо...
* * *
А теперь уточним, как же размещались все многочисленные жители Звездного бульвара, пока их количество не убавилось?
Маленькая комната была единогласно отдана молодоженам, то есть нам. В большой комнате жили Анна Семеновна, Тося, Алеша, Лялька и Лариса в те дни, когда не было Андрея. Если он появлялся, то ему и Ларисе постель готовилась в кухне, на полу под столом. Я настойчиво предлагала делить нашу комнату, то есть, когда появляется и ночует Андрей, то мы можем либо уходить к моим родителям, либо спать в комнате и на кухне поочередно. Но Лариса была совершенно непреклонна в своей жертвенной любви к нам.
Прекрасное было время, хотя и недолго продлившееся... Народа в той квартире было так мною, что на газовой плите постоянно стояла огромная сковородка. До сих пор думаю, что никто не умеет так вкусно жарить картошку, как моя первая свекровь Антонина Павловна, всегда доброжелательная, скромная, точно солнышко расцветавшая приветливой улыбкой каждому из нас. Мы были молоды, голодны и не слишком ретивы в домашних делах. Так и вижу, как стоя над сковородкой, она с необыкновенной ловкостью и быстротой, на весу, нарезает картофелину тонюсенькими, идеально ровными дольками, и вот они уже шипят в масле, распространяя запах уюта и тепла. А мы, каждый по очереди, кинув в прихожей тяжеленные сумки с учебниками, уже пристраиваемся за столом с краюхой хлеба и большой вилкой. Это так отличалось от дома моих родителей, тоже очень гостеприимного, но совершенно другого рода!
Андрея в этом доме ожидали всеобщая любовь и забота, которые расслабляли его, делали мягким и податливым. Атмосфера квартиры, создаваемая для него, окутывала его покоем и ощущением, что все и всё на месте — хотя и в тесноте, да не в обиде. Все свои рядом и живут для взаимного счастья. Какая замечательная, неприхотливая сказка, как мечта о простой русской жизни, цельной, не деформированной интеллигентскими рефлексиями и заскоками! Можно расслабиться и отдохнуть от суеты сует. Наверное, что-то в этом духе ощущал тогда Тарковский.
Перед моими глазами возникает одна и та же, много раз повторявшаяся сцена, когда Сережа и я, Лариса и Андрей сталкивались на Звездном бульваре.
Поздний вечер, и все постепенно укладываются спать. Андрей принял ванну и уже облачился в полосатый махровый халат, из-под которого трогательно выглядывают худые, жилистые ноги. А на голове у него пристроен носовой платок, скрученный узелками в углах — чтобы не топорщились после мытья жесткие и прямые, непослушные волосы. Под этим платком специальной конструкции рисуется резко очерченное и детски беспомощное лицо с подстриженными усиками, но все равно уже топорщащимися без присмотра. Это было всегда так мило и так по-домашнему ладно, что все мы, дружно посмеиваясь, называли его “разорившимся аристократом”.
В таком виде Андрей усаживался по-турецки на постели, заботливо расстеленной Ларисой, как я уже говорила, в кухне на полу, и царственным жестом предлагал Сереже и мне тоже приземлиться пока с ними рядом. После этого он открывал томик Пушкина, Тютчева, Пастернака, а еще чаще своего отца Арсения Тарковского и снова начинались вечерние посиделки, переходящие порой в ночные бдения.
Ах, как было хорошо! Как ликовала душа и снова таяла в предощущении какого-то смутного и самого полного счастья. В такие мгновения рядом с Андреем как будто отлетало все суетное, мелкое, будничное, а душа открывалась навстречу главному и возвышенному, так щедро им расточаемому.
Так и жили мы мирно до поры, до времени, пока...
Пока однажды не пришлось мне попасть, возвратившись домой к мужу после занятий, в эпицентр какого-то скандала, как я наивно полагала поначалу, меня лично совершенно не касавшегося. Бушевала Лариса. Впрочем, “бушевала” это, наверное, неточное слово. Это были ураган и смерч, сметающие все на своем пути. Андрея не было. Сережа тихо сидел на кухне. Я пристроилась рядом с ним и поневоле наблюдала все, что вытворяла Лариса — мой ангел, мой кумир!
Я ровным счетом ничего не понимала и опасалась, что она буквально на наших глазах сходит с ума. Она металась по всей квартире с дикими воплями, а следом за ней с валокор-даном в руках бегали Анна Семеновна и Тося, робко пытавшаяся вразумить сестру. Из бессвязных для меня выкриков Ларисы, вроде: “мама, варенье забирать? а ложки? беру все?” — я постепенно поняла, что она, очевидно, собралась переезжать со Звездного в свою комнату на Орлово-Давыдовском, о которой к тому моменту я имела очень приблизительное представление. В ушах звучал угрожающий вопль моей любимой подруги: “ухожу из собственной квартиры!” Как так? Почему? Мне-то казалось, что все мы жили здесь “в тесноте да не в обиде”, а то, что квартира, которую Лариса называла “своей”, как растолковал мне потом Сережа, вооб-ще-то принадлежала его матери, меня не очень волновало...
Меня волновала Лариса и то, что с ней происходит что-то неприлично-несуразное, ошибочное: ор, крики, вопли и какие-то чудовищные обвинения своим милым родственникам. Когда Лариса достигла уже апогея, моему пионерскому уму показалось уместным помочь ей прийти в себя и извиниться: ведь мы были такими близкими подругами, и кому, как не мне, следовало теперь оказать ей помощь, помочь прийти в себя, ей, доброй, жертвенной, безропотной и бескорыстной в своем служении не только заплутавшемуся Маэстро, но и всем нам. Непереносимые жалость и стыд за нее захлестывали меня.
Улучив мгновение, когда Лариса влетела в ванную комнату одна, я проскользнула следом за ней, полагая ее укротить, набросить узду на буйно помешанный разум: “Лариса, что ты делаешь? Ты ведешь себя ужасно”. На меня уставились два яростных, белесых от злости глаза: “Да, пошла ты, наконец, отсюда на х..!”
Стоп! Кажется, на мгновение я выпала из этой реальности. Это то есть мне идти на...? Такой любимой, родной, ради счастливого бракосочетания которой живет вся семья? Но через мгновение, придя в себя, я уже попала навек, увы, в другую реальность.
Не потому, что я была такой уж чувствительной особой. Нет. Просто в этот момент рухнуло все то здание, которое я возводила в своем воображении и трепетно лелеяла два года. Я любила, я полагала себя нужной, я готова была жертвовать, а в ответ на меня дохнула ненависть, и ненависть эта была настолько откровенной, неукротимой, что дальнейшие взаимоотношения были бессмысленными.
Я предложила Сереже немедленно собирать вещи и перебираться к моим. Что удивительно — нас никто не задерживал. Более того, пока мы быстро собирались, мне предстояло удивиться еще более. Неожиданно явился Он, конечно, ничего не подозревающий, а потому все такой же любимый и ненаглядный. Лицо Ларисы, только что искаженное ненавистью, обернулось к Андрею безмятежной, послушной, лучезарной улыбкой, кротким взглядом больших голубых глаз, мягким, тихим причитанием: “Андрюшенька, вы приехали?”... Без перехода! Без мгновения передышки! Это была подлинная дьяволиада. Блестящее исполнение на браво! Бра-а-аво! Бра-а-аво!
Не помню, как мы с Сережей выкатились из дома, каким образом достойно объяснили все искренне удивленному нашим отъездом Андрею. Не помню, как добрались до моих родителей, у которых жили до нашего развода летом 1968 года.
Хотя первое время после всего случившегося я находилась в шоковом состоянии, мне казалось естественным, что Лариса, опомнившись, попробует позвонить нам с извинениями или, по крайней мере, уладить отношения. Это была еще одна греза, которой тоже не дано было осуществиться, не имевшая никакого отношения к реальности. Какая однако чрезмерная самонадеянность с моей стороны! Что в самом деле означаю я для них сама по себе, какой такой интерес для них могу представлять?
Лишь много лет спустя, уже после смерти Андрея, вспоминая с кем-то былое, я догадалась или мне помогли догадаться о причине: мой отец в тот период ушел из Госкино и еще не пришел главным редактором в “Искусство кино”! Какая пионерская близорукость моего мышления! Верно! Такая же “глупость”, как то, что одной из причин его ухода была оказавшаяся невозможность защитить “Рублева”, не имевшая, конечно, никакого значения. Ведь в тот момент он был совершенно не у дел! А Лариса-то бедная сделала в тот момент совершенно не ту ставку, потеряла драгоценное время — ай-ай-ай...
Впрочем, через супружество с Сережей, которого я честно старалась полюбить, мне тоже не удалось наладить “побочных” родственных контактов... Но он знает, что это не по расчету, а по молодой глупости — так что, надеюсь, простил мне необдуманное безумство, за которое мы оба расплатились в своей жизни. Я снова готова извиниться.
Итак, этот скандал обозначил конец моих первых невинных, безоблачно-лучезарных, до самого донышка искренних отношений с Ларисой Егоркиной (Кизиловой) и Андреем Тарковским. Но этот период проложил первую пограничную полосу в моей душе.
Полагая, что наши отношения прервались навсегда, я задумывалась только об одном: интересно все-таки, а как и какими словами объяснила Лариса Андрею наше внезапное исчезновение, какой “лапши навешала ему на уши”, с помощью какой лжи рисовала ему мой “имидж”, наконец?
Тайна сия осталась велика.
Череда компромиссов или заметки на полях
...И правда, что это жаль,
И жаль, что это правда; вышло глупо;
Но все равно я буду безыскусен.
В.Шекспир. Гамлет. Акт II. Сцена 1
Череду компромиссов, которые предприняла я, можно назвать длинной летописью одной жизни, а можно назвать лишь краткими заметками на полях, лишь выжимками из былого, потому что жизнь гораздо объемнее любых рассуждений о ней. Мы беспомощны вместить ее целиком в самый обстоятельный рассказ, объять необъятное... Так что, сдаваясь неизбежности бездарных потерь и глупой правды, сообщу, что далее...
Жизнь потекла по руслу других проблем и забот... Без!.. Без Ларисы и без Андрея... Долго ли, коротко ли, как говорится в русских сказках... Но...
Оканчивая ВГИК в 1968 году, мне пришлось убедиться, что взять для диплома творчество Тарковского по тем временам немыслимо. А изменять все тому же своему духовному Кумиру с кем-то из его буквальных, то есть советских, соседей по цеху посчитала для себя принципиально невозможным — слишком прямолинейной меня заквасили. Так что возник диплом об Орсоне Уэллсе, его “Гражданине Кейне” и “Процессе”, показавшимися мне по-особому злободневным в контексте возникших проблем.
А в июне того же года я защитилась и переступила порог редакции “Советский экран” в качестве сотрудника отдела писем. Но громадье грядущих планов сменилось банальной мелодрамой. Почти немедленно я по уши влюбилась в своего коллегу, яркого и замечательного критика. Сердце мое не умело раздваиваться, и с жестким юным максимализмом я заявила своему мужу, вернувшемуся с военных сборов, что желаю, мол, разводиться без обсуждений вариантов дальнейшей совместной жизни и причин нашего развода. Но это только то, что касалось личного фронта, а вот в своей, так называемой, творческой жизни мне предстояло сделать серьезный и сомнительный в этическом плане выбор, в сущности, и определивший во многом мою будущую жизнь...
Трудно сейчас, конечно, точно восстанавливать в памяти все в безукоризненно точной хронологической последовательности, но, оглядываясь назад, я подозреваю, что неожиданный возврат Ларисы Павловны ко мне был продиктован не столько ее искренней любовью или тем более ощущением вины, сколько вновь изменившейся ситуацией моего отца. А он к тому моменту занял кресло главного редактора журнала “Искусство Кино” и члена коллегии Госкино СССР. То есть, видимо, получалось так, что через меня она выходила на контакт с ним самым прямым и непосредственным образом — а ведь он снова что-то решал или имел более прямые контакты с теми, кто решал еще гораздо больше... Но тогда, по моей глупости, положение моего отца вовсе никак не связывалось в моей голове с моими дружескими взаимоотношениями... Чаще всего — думаю до сих пор — справедливо...
Но, послав меня слишком поспешно и вдруг “к одной маме”, Лариса тогда, видимо, не просчитала, что мой отец так ненадолго сошел с номенклатурного небосклона, бессильный воспрепятствовать той череде гонений и расправ, в которых он не хотел участвовать. Журнал, помнится, показался ему более свободной и независимой вотчиной. Так думаю я сегодня, убеленная сединами и уже долгим жизненным опытом, свидетельствующим о том, что я не слишком хорошо разбираюсь в движущих механизмах человеческого поведения, во всяком случае, Ларисы Егоркиной, поступки которой мне очень долго не приходило в голову сопоставлять как с должностным положением моего отца, так и другими ее далеко идущими планами.
Так что неожиданный для меня телефонный звонок Ларисы Павловны со смиренной просьбой о свидании в шашлычной на Ленинском проспекте, близ нашего дома, вызвал у меня душевное ликование, я вновь поверила, что совесть и правда все-таки существуют и торжествуют. А кто без ошибок и без греха? Вот еще одно наглядное подтверждение, что миром все-таки правит любовь! Какое счастье!
Хотя, если быть до конца откровенной, Лариса к этому моменту была для меня уже не совсем безупречной фигурой. Мне трудно было поверить до конца ее покаянным рассказам: о том, что она ничего не помнит о своих прямо-таки бессознательных действиях, совершаемых как бы в бреду, что все случившееся было каким-то затмением, предопределившим к их всеобщему семейному несчастью также мой развод с Сережей, в котором она тоже считает себя глубоко виноватой. Но сладкоголосые речи все-таки скорее утешали меня, заглушая собственную совесть, которая шептала мне, что нельзя верить подруге. Она определяла, однако — хошь, не хошь — кратчайший и единственно возможный путь к невинному Аг-нецу Божьему, творящему “мой” кинематограф — Андрею Тарковскому. Ситуация исподтишка подталкивала к контракту с Дьяволом.
Бедная Лариса! Она, действительно не простит себе нашего развода с Сережей, который, по ее словам, чуть не умер от разлуки со мной. “Я не позволила бы вам развестись”, — уверяла Лариса в глубокой тоске. А я думала, что, может быть, в сущности она права, потому что тогда бы она и впрямь владела мною без остатка, а моя поглощенность тем, что делал Тарковский, была столь велика, что, наверное, у меня не оставалось бы времени и душевных сил на свою собственную, какую-то другую, более взрослую жизнь...
Прежняя богиня рухнула со своего пьедестала — и все-таки, надо сознаться, я как-то странно любила ее.
Как бы то ни было, но я заключила тогда принципиально важную сделку с собой, решившись утаить от Ларисы свои подлинные чувства и заглушая в себе свои сомнения в ней, делая вид, что наша дружба восстанавливается на прошлых основаниях. На самом деле во главе угла стояла фигура Тарковского, любившего эту Ларису и не имевшего, по моим понятиям, никакого отношения к ее проделкам, точно также как и я когда-то, одурманенная ее чарами.
Извиняясь передо мной страстно и многозначительно, театрально раскаиваясь во всем случившемся, Лариса, однако, предупреждала меня, что восстановить мои отношения с Андреем мне все равно будет очень даже непросто: “Я не виновата, что он не может тебе простить предательство Сережи и всей нашей семьи, которую, ты сама знаешь, как он любит”.
Да, вина моя была велика, оказывается, не только перед Сережей, но и перед всем “святым семейством”! Вот такой пропагандировался патриархальный уклад в наше-то время! Мне! Хотя оставалось всегда неясным, каким все-таки образом представила Лариса Андрею когда-то наше внезапное исчезновение из их семейной обители... Ох-ох...
Надо сказать при этом, что к моменту нашего примирения, отношения Ларисы с Андреем все еще не определились до конца, то есть не получили еще своего законного оформления с печатью. Андрей, правда, уже развелся с Ирмой. Получил для себя какую-то однокомнатную квартиру на Соколе, в которой, по моим понятиям, никогда не жил, а жил тогда с Ларисой Павловной, Анной Семеновной и Лялькой наконец-то в отдельной трехкомнатной квартире в Орлово-Давыдовском переулке, которая теперь принадлежала им полностью. Та самая бывшая коммунальная квартира, куда Лариса грозилась переехать во время памятного скандала и которая затем полностью освободилась для них после смерти соседки...
С Орлово-Давыдовского
Эта неказистая квартира стоит отдельного описания, потому что с ней связано так много событий и надежд, такой большой период жизни, овеянный для меня только самой полной любовью к Андрею Арсеньевичу. Боже мой, сколько всего произошло в ней, сколько рождалось планов и сколько раз этим планам было не суждено свершиться, сколько людей там перебывало, сколько невзгод и радостей было там пережито...
Квартира была небольшая, в старом кажется пятиэтажном доме строительства 30-х годов. В большой комнате, когда-то принадлежавшей соседке и располагавшейся по коридору сразу слева от входа, фактически был кабинет Андрея. Только широкая квадратная тахта была привнесенным элементом супружеской спальни. Далее по прямой коридор упирался в кухню. Справа располагались туалет и ванная. Слева, следом за кабинетом, была дверь в две смежные комнаты, узкие, длинные, приблизительно одинакового размера. В первой проходной комнате, умещался только прямоугольный обеденный стол, окруженный стульями, и нечто похожее на низкий сервант. Сколько людей пересидело за этим столом, заваленном яствами. В дальней комнате каким-то образом размещались спальные места Анны Семеновны, Ляльки и родившегося потом Андрюшки. Туда же вкрапли-валось рабочее местечко со швейной машинкой для Анны Семеновны, еще принимавшей заказы и безотказно обшивавшей прежде всего Ларису и Андрея. Шикарные, фатоватые костюмы, в которых Андрей изредка мелькал в Доме кино, с широкими плечами, приталенными пиджаками и брюками в раструб создавались в этой комнатке Анной Семеновной. Порой она шила ему и рубашки в цветочек. Позднее, когда Лариса впервые выехала за рубеж, в Швейцарию, на кинофестиваль в Локарно, где Андрей был председателем жюри, то на вопросы журналистов по поводу ее туалетов она, по ее словам, отвечала: “фирма “Мама”.
В подъезде, предварявшем вход в квартиру, висел смрадный специфический запах старых московских домов, замешанный на столетней пыле, помойке и кошачьей моче — но каким несказанным наслаждением было переступать порог этого дома в Орлово-Давыдовском переулке, где тебя встречал Андрей для очередного интервью, позднее для работы над “Книгой сопоставлений”, где Лариса всегда готовила что-то вкусненькое под водочку, где бесшумно проскальзывала Анна Семеновна с нитками-иголками и очередным куском материи в руках, смущенно посмеиваясь и отмахиваясь от велеречивых тостов Андрея, которые он неизменно ей адресовал, и снова устремлялась к своей швейной машинке...
Как бы то ни было, но воспоминания об этом доме продолжают и сейчас будоражить меня. Как будто все равно не хватает того специфического, ни на что другое непохожего уюта, которым я когда-то там наслаждалась... Хотя не было с самого начала устойчивого мира в этом доме, — никогда не поселился настоящий покой в этой семье. Но внешняя стабильность очень впечатляла.
Анна Семеновна была той особенной тещей, которой досталась специфическая роль громоотвода во всех семейных конфликтах. Именно перед ней, набедокурив, Андрей часто каялся, просил у нее прощения — порой даже на коленях... За свою неверность, за свои загулы... за свое недовольство собою...
Как ни странно, но в доме, создававшимся Ларисой только ради него, Андрей всегда оставался каким-то захожим странником и никогда, по моим ощущениям, по-настоящему не сливался ни с этим домом, ни с этой семьей. Хотя, казалось бы, здесь все было сделано для него, и все жили ради него. Но было во всем этом что-то фальшивое, выдуманное то ли им, то ли ими...
И вовсе не потому только, что время от времени он погрязал в каких-то романах, то мимолетных, то весьма и весьма серьезных, действительно опасных для Ларисы...
Помнится, например, какой-то очень тревожный для нее новый роман с ленинградской Дашей. Лариса сходила с ума, узнавая, что Андрей снова отправился в город на Неве. Ненависти ее в таких случаях не было предела, и ушатами грязи омывалось всякое новое конкурентноспособное имя. Даша была “чудовищем” и была старше Андрея (как, впрочем, и сама Лариса, возраст которой, как я уже говорила, оставался мне неизвестен, поскольку она все время “молодела”). Даша эта была, кажется, “какой-то” учительницей и “грязной бабой”, имевшей на Андрея, конечно, “самое пагубное влияние”. Но Андрей, как всегда, “ничего не понимал”, готовый уже жениться на ней. Так что требовались бесконечные Ларисины разъяснения, в результате которых она снова добилась его возвращения. Финал этих отношений был ознаменован ее требованием вышвырнуть обручальное кольцо, уже предназначенное для предстоящего брака с Дашей. Как всякая фальшивая натура, более чем склонная к театральности, Лариса заставила Андрея сделать это у нее на глазах, закинув кольцо подальше в Москва-реку, чтобы поставить новую жирную точку. А теперь, как обычно, следовали его новые покаяния и извинения... Но периоды относительной стабильности были, как правило, не долгосрочны, пролегая всегда на вулканической почве, тем не менее способствовавшей крепости этого странного союза.
Тем более, что Ларисе не стоило особого труда внушить Андрею мысль о своих уникальных магических способностях: если в связи с “Солярисом” он начал до умопомрачения веровать в “пришельцев” и “тарелки”, задружившись тогда с известным полуподпольным лектором по этой тематике Наумовым^), то Лариса впечатывалась в его сознание, якобы, посланницей свыше.
Помню ее увлеченный рассказ, повторявшийся неоднократно, которому пораженный Андрей внимал всякий раз с ужасом, прямо-таки леденящим его душу.
— Да-да, Оля, я помню, как мама выставляла меня в коляске, еще совсем крошечную на этот балкон... А потом — нет, ты не представляешь себе, как отчетливо я это помню — прилетают какие-то люди в белоснежных одеждах и забирают меня из коляски с собой... И уносят куда-то выше-выше, далеко... Знаешь? Как бы покачивая меня на руках... Такое блаженство... Но всякий раз они возвращали меня обратно в колясочку вовремя, прежде чем мама выходила ко мне на балкон... Так что она ничего не замечала. Ах, как ясно я это помню!
В финале этого повествования Андрей всегда вздыхает с явным облегчением, победоносно взирая на меня в ожидании разделенного с ним пугающего восторга: “Нет, ты представляешь себе?” Рассказ кажется ему настолько правдоподобным, что и мне кажется, будто бы я тоже все это ясно себе представляю...
Но это история из серии ангельских превращений Ларисы Павловны легко трансформировалась у нее же в дьявольские проделки, демонстрировавшие Андрею уже иные события во всей неоспоримой для него наглядности. Андрей также не сомневался, что Лариса — ведьма. Прямо-таки двуликий Янус! Так что, наверное, неслучайно именно “Ведьма” назывался поначалу сценарий, превратившийся затем в “Жертвоприношение”. Но то была ведьма, врачующая и избавляющая героя от рака... В “Жертвоприношении” соитие с ней героя спасает мироздание или хотя бы исцеляет его душу от катастрофы...
Мурашки бегут, однако, по коже, когда вспоминается, как Лариса демонстрировала Андрею, какой страшной ценой расплачиваются люди за конфликт с ней, какие сокрушительные поражения им предуготованы. Скажем, когда на съемках сгорела во сне актриса Микаэла Дроздовская, оказавшаяся то ли двоюродной, то ли троюродной сестрой Ларисы, по ее словам, то утверждалось буд то бы их давняя ссора послужила поводом для такого трагического конца. А когда “проклятая” ею двоюродная племянница, работавшая на “Зеркале” и отлученная ею от себя, потеряла ноги, попав под поезд, то это было новое страшное следствие ее конфликта с Ларисой...
— Ну, что я могу сделать? — печально вопрошает Лариса. — Мне самой страшно, но так бывает всегда. Я этого не хочу, но от меня ничего не зависит.
— Да-да! — уверенно вторит ей Андрей. — Это чистая правда. С ней вообще-то — ха-ха-ха — лучше не связываться...
Помню рассказ моей мамы о своей прогулке с Андрем по деревне Мясное. Он также уверял ее в магических и могущественных возможностях Ларисы Павловны: “Нет-нет, Липа, ты не понимаешь, но Лариса может все. Я ее боюсь. Правда. Вот тут в деревне ей один мужик насолил, так вскоре умер совершенно неожиданно. И так всегда!” Но трезвый ум моей мамы не поддается власти этого рассказа, и она выражает свое вполне практическое недоумение: “Да, брось ты, Андрей! Не бойся! А если Лариса все может, то что же она никак не справится с Ермашом, а?”
“Да-да, действительно, ты, пожалуй права”, — не очень уверенно рассмеялся Андрей.
Но маме не удалось убедить Андрея по большому счету. Мне рассказывали, что когда он заболел раком, то говорил о том, что и это дело рук Ларисы Павловны. “Это она мне все устроила”...
* * *
Законный брак с Андреем, уже после рождения их сына, Андрея Малого, которого дома потом называли Тяпой, никак не помогал избежать опасности его новых любовных увлечений. Уже на “Солярисе” увлечение Тарковского Натальей Бондарчук было так серьезно, что только угроза Ларисы Павловны никогда не показывать ему сына в случае развода, заставила его притормозить уже намечавшийся тогда новый брак. То есть совесть, видимо, не позволяла ему снова оставить уже второго ребенка после того, как уже был брошен Арсений...
Его собственная, никогда не заживающая боль сына, оставленного когда-то своим отцом, замечательным поэтом Арсением Тарковским, не помешала ему совершить однажды точно такой же поступок. Но второй раз! Угроза удвоения своей вины перед детьми в случае развода с Ларисой, видимо, несказанно испугала его. А Лариса, как никто, умела нажимать в нужное время нужные кнопки, будучи без преувеличения великим стратегом и тактиком! Опыт их жизни демонстрирует наглядно, что “достойной” соперницы у нее не оказалось... Может быть, она появилась незадолго до его смерти, родив ему еще одного сына Александра? Как я уже сказала свою болезнь он воспринимал как расплату, посланную ему законной супругой...
Бывшие рядом выражали готовность помогать Ларисе в борьбе за Него. А те, кто такой готовности не выражали, рядом с Ним не задерживались. Это было неизменное правило: хочешь служить Гению — служи его служанке. Служи верно. Как обещали мы когда-то в пионерской клятве — “Служу Советскому Союзу”. Служи, а не дружи. И я вооб-ще-то не знаю, кто с ним дружил. В поле моего зрения таковых не было.
Но как же все-таки складывались мои собственные отношения с Андреем после длительного разрыва? Надо сознаться, что поначалу и в полном соответствии с Ларисиным предупреждением он принял мое новое появление холодновато и напряженно. Был у него такой прищур, чуть подозрительный и ироничный: “ну-ну...”, мол... поглядим... что да как...
Постепенно наши отношения налаживались и я очень скоро получила такую неслыханную для других привилегию, как свободный доступ на съемки “Соляриса”. Это при том, что Андрей с большим опасением относился к каждому лишнему человеку на площадке, так как очень боялся разных преждевременных нежелательных слухов и умозаключений по поводу своей работы. Поводом для моей окончательной “реабилитации” в его глазах послужило мое первое интервью с ним, опубликованное в “Искусстве кино”: “Между прошлым и будущим”. Это была первая публикация о нем после затянувшегося молчания. И тот исторический для меня момент, когда Андрей читает это мое интервью с ним среди декораций “Соляриса”, к моему большому удовольствию, был зафиксирован фотографом Валерием Плотниковым. А Тарковский сделал потом на этой фотографии очень дорогую для меня дарственную надпись: “Олечке! В знак дружбы! А.Тарковский”. Уф! Круговая оборона была прорвана. Вскоре Андрей стал снова обращаться ко мне на “ты”...
Еще раньше, в период затянувшегося простоя после “Рублева” меня связывали с ним не столько близкие, сколько очень доверительные отношения во всем, что касалось его творческих планов на будущее и действий, которые он старался предпринимать в защиту своего загнанного в подполье “Рублева”. Передо мной лежит, например, черновой набросок письма Брежневу, написанного мною по просьбе Андрея Арсеньевича от его имени.
Это письмо было решено написать после того, как кто-то передал Тарковскому переводы отрывков из рецензий на “Андрея Рублева” во французской прессе. Отрывки у меня сохранились до сих пор, но не надо в них заглядывать, чтобы и сейчас процитировать коммунистическую “Юманите”, где “Андрей Рублев” был назван “фильмом фильмов, как Библия — Книга книг”. Это потрясало. Тем более на фоне ужасающей несуразицы тех лет: дома, на родине Тарковского ругали за “антирусские настроения”, а во Франции отмечали чрезвычайный патриотизм “Рублева” и его генетическое родство с лучшими русскими традициями. Душа моя ликовала и плакала. А вот письмо, написанное по следам этого события моим корявым почерком:
“Уважаемый Леонид Ильич!
Надеясь на Вашу искреннюю заботу о судьбах советского кино, я (т.е. Тарковский — О.С.)решил обратиться к Вам с просьбой помочь нам разобраться в той трудной, даже мучительной ситуации, которая сложилась вокруг нашего фильма “Андрей Рублев".
Вот уже три с половиной года эта картина не получает разрешения на выход на наши экраны. Причем за это время съемочная группа три раза переделывала некоторые части фильма — трижды Комитет по делам кинематографии подписывал акты о том, что фильм принят — трижды эти акты аннулировал.
За это время вне какого бы то ни было моего влияния “Андрей Рублев ” был продан за границу. И, как свидетельствует пресса, прилагаемая к этому письму (примеры эти можно было бы множить), фильм наш вызвал целый поток самых доброжелательных, уважительных и восхищенных слов не только в свой собственный адрес, но, главным образом, в адрес советского искусства вообще. И, хотя “Андрей Рублев "не выпущен на экраны в нашей стране, что мне непереносимо тяжело сознавать, он не был и не мог быть использован в целях какой бы то ни было антисоветской пропаганды. И это еще раз убеждает меня, что в целом (хотя, вероятно, не во всем одинаково удачно) наш замысел реализован.
Я не могу понять, почему же картина наша не видит экрана. Немыслимо согласиться с тем, чтобы все наши устремления были тщетны. Быть может, в чем-то мы отошли от точности выражения нашего замысла, но ведь обо всем об этом можно было бы говорить, если бы картину увидела публика. Те немногие просмотры, которые все-таки состоялись, убеждают нас в том, что картина вызывает у зрителей живейший интерес. Кроме того, не^ кого не вызывает сомнений мое право на творческую работу. Однако, вот уже три с половиной года я не имею возможности никакой реализации своих замыслов. Мне объяснили, что этот вопрос находится в тесной связи с судьбой “Андрея Рублева "и с решением о выходе его на экраны... Но как же и когда это решится?
Между тем, не имея работы, я соответственно не имею средств к существованию, хотя у меня есть жена и ребенок. Мне особенно неловко говорить об этом, но положение мое так долго не меняется, что я больше не могу молчать.
Я очень прошу объяснить мне, когда же наш фильм увидит свет и когда же я смогу приступить к дальнейшей работе.
Еще раз очень надеюсь, что вы прочтете это письмо и поможете как-то прояснить мое сегодняшнее положение. С уважением ".
Подпись Тарковского на этом оригинале отсутствует. А это означает, что письмо это было затем перепечатано мною на машинке и отдано Тарковскому на подпись.
Как создавались такие письма и бумаги? Как правило, Андрей рассказывал мне, о чем следовало написать письмо. Я делала первый вариант — иногда он же оставался последним в зависимости от правки Тарковского. Иногда им высказывались устные пожелания, после чего я снова переписывала текст. Тогда он поступал в окончательное распоряжение к Тарковскому.
Что же еще в целом запомнилось из тех времен? Бесконечные, снова и снова разгоравшиеся споры у моих родителей на Ломоносовском и в Орлово-Давыдовском переулке, что делать, как спасать “Рублева” и как жить дальше...
Это, несомненно, был самый тяжелый период жизни Тарковского, совершенно безденежный и ранивший его на всю жизнь. Тогда он, действительно, вынужден был жить на иждивении вовсе не Ларисы Павловны, которая сама ничего не получала, сколько на заработки Анны Семеновны, получавшей крошечную пенсию и не разгибавшейся над шитьем. При этом Лариса, всегда акцентировавшая бедственное материальное положение Андрея и числившаяся в штате работников “Мосфильма”, только один раз и очень недолго работала ассистентом режиссера на съемках у Володи Акимова.
А Андрей, как и требовалось, постепенно перестал общаться со всеми своими бывшими друзьями. Помню тот единственный раз, когда Высоцкий вместе с Мариной Влади был в гостях у Тарковских в Орлово-Давыдовском. Андрей тогда задумывался о Марине Влади как возможной исполнит тельнице роли Матери в “Зеркале”. Высоцкий в тот момент был в полной “завязке”, а потому помнится мне в тот вечер тихим и послушным. Он сидел за столом рядом с Мариной, которая почти все время мягко держала его за руку, и вел себя, прямо сказать, кротко или по-актерски подобострастно. Андрей был мил и радушен по-хозяйски, не испытывая никакого интереса к песням Высоцкого, которые я сама обожала. Для него это был только отголосок загульной юности — “а я люблю, мне очень нравится”. Тем более, что Высоцкий хотел представить себя Тарковскому прежде всего поэтом, читал стихи — своего “Гамлета” — которые не произвели на него никакого впечатления, кроме вежливой доброжелательной реакции. Такое ощущение, что им обоим было ясно, кто за кем следует...
А вот, когда Лариса могла бы, по моим незрелым понятиям, спасая Андрея, пойти поработать в другие съемочные группы, то она ссылалась на Андрея, заявляла, что он “категорически против моей работы в других съемочных группах”. Но, честно говоря, мне казалось, что сама она в первую очередь не имела ни малейшего желания оставлять Андрея хоть на секунду без своего бдительного надзора, тем более, что оснований для ревности и беспокойств у Ларисы было всегда достаточно. Ее страсть к труду тоже со временем показалась мне не слишком навязчивой. Зато страсть к интригам все более захватывающей. А деньги в разных количествах она постепенно научилась добывать для семьи другим способом, умудряясь при этом поставить Андрея в рабское положение перед собой как вечной своей спасительницей и страдалицей, творящей ради Него что-то уникальное и недоступное другим. Каждая ситуация представлялась так, что Андрей все более увязал в долгах... Почему-то, прежде всего, перед ней... А не перед теми, кто ссуживал им деньги...
Первое и, увы, по дурному знаменательное событие произошло еще в период все того же послерублевского простоя. Лариса позвонила мне очень встревоженным голосом и попросила приехать к ним как можно скорее. Она открыла мне дверь, выражение ее лица оставляло желать лучшего. Она была убита. “Что делать? Что делать? — восклицала она, помахивая каким-то письмом. — Ведь это убьет его!”
Затащив меня в комнату, Лариса в безнадежном ужасе рассказала, что письмо это из издательства “Искусство”, которое требует от Андрея возвращения аванса, выплаченного ему за книгу “Сопоставления” в размере 1200(!) рублей. По тем временам это была огромная сумма.
К тому моменту я слышала что-то не очень внятное о намерении Тарковского писать какую-то книгу с известным киноведом Леонидом Козловым. И вдруг такой удар! Далее Лариса рассказала мне, что аванс взял только Андрей: “А Леня был умнее. Он ничего не взял и ничего не делал. Так что книга не состоялась. Но сама понимаешь, что в нашем положении Андрей не мог отказаться от аванса — а теперь, что нам делать? Ты понимаешь, что Андрей находится на грани самоубийства? И я не имею понятия, что делать? Где взять такие огромные деньги?” Тут у нее из глаз покатились слезы: “Господи, еще и это... Олька, что делать? Ведь Андрей этого не выдержит...”
Да, это было очень серьезно. Я сама стояла, как громом пораженная: “Лариса, надо срочно искать деньги!” “Нет, Андрей сказал, что ни за что, ни у кого денег не возьмет. Ты же знаешь, что с его гордостью это невозможно? Слишком для него унизительно!”
Да. Конечно. Тут она права. Тут я его понимала. Но, собственно, и денег пока не было.
“И, ради Бога, — продолжала Лариса, — не вздумай ему сказать, что ты что-то об этом знаешь... Для него это будет непереносимо!”
Не помню, каким образом я выкатилась из их дома. В висках только стучало от страха за него. Но куда бежать? Первыми, кому я поведала о новом нагрянувшем на Андрея несчастье, были мои родители. “Какие сволочи! Какие сволочи! — восклицал мой отец. — Правда, такие письма из издательства иногда пустая формальность, но как можно было послать такое письмо именно ему в таком положении?! Ну, Липа, что мы можем дать? 200 рублей, больше у нас ничего нет”...
Окрыленная первой неожиданной удачей я рванула в дальнейшие бега, притормозив у Ней Марковны Зоркой, в то время диссидентке, исключенной из партии, переведенной в должность младшего научного сотрудника. Большого достатка у нее не было, но она сказала, что постарается что-то придумать...
И придумала. Во-первых, рассказала все Г.Козинцеву, он выдал без разговоров 600 рублей, а остальные недостающие деньги покрылись за счет ломбарда, куда Зоркая заложила свою шубу. Я в полном восторге сообщила о добыче Ларисе Павловне. Она тоже очень воодушевилась и объявила, что поскольку Андрей никогда не возьмет деньги у “чужих людей”, то она скажет, что деньги эти будто бы получены от ее родственника Феди, очень высокопоставленного военного, мужа ее двоюродной сестры.
Какой разговор! Как удобнее Андрею, так и надо делать, только бы его не травмировать. Встреча для передачи денег была назначена на “Мосфильме” в сортире, чтобы никто не заметил у нас в руках таких деньжищ. А пока я ехала до студии троллейбусом с этой суммой в конверте, дрожала, как осиновый лист — вдруг обворуют. Но все сложилось удачно, и деньги были переданы по назначению. Конечно, Лариса благодарила, заверяя, как полагается, что долг будет возвращен с переменой ситуации Андрея к лучшему...
Это оказался лишь первый взнос в бюджет семейства, о котором, думаю, Андрей ничего не знал. Неизвестно мне, возвратились ли эти деньги издательству или им нашли более практическое применение, но долги Тарковских, как правило, никогда и никому не возвращались. Помнится только, как многократно перезакладывала Зоркая свою каракулевую шубу...
Ну, а то, что Лариса умела выворачивать каждую ситуацию себе на пользу, становилось все более привычным. Равным казалось не ранить никак Его самого... Но золотоносная жила была открыта — “проба пера” сподвижницы великого русского режиссера оказалась успешной. Многие еще попадутся на ту же удочку, включая Ф.Горенштейна, “подарившего” Тарковскому свой гонорар за сценарий “Соляриса”, по-рассказу Н.Зоркой.
* * *
22 ноября 73 года в моем дневнике сделана весьма знаменательная запись: “Какой потрясающий день! Была у Тарковских в связи с “официальным” предложением Андрея делать вместе с ним книгу вместо Козлова. Была счастлива! Только волнуюсь теперь, вступит ли это его предложение в свои “законные права”, то есть подпишет ли издательство с нами новый договор?”
С одной стороны, я, действительно, была ошеломлена таким доверием Маэстро, но, с другой стороны, я не слишком высоко ценила себя, а потому на душе скребли кошки: чем же я так угодила Ларисе, если, в чем я не сомневалась, именно она подбросила меня в соавторы своему великому супругу. Хотя к этому моменту я и так все свободное время проводила на “Солярисе”, а потом и на “Зеркале” — опубликовала два интервью с Андреем в “Искусстве кино” и очень заметное по тем временам интервью в “Московском комсомольце”. Б.Глотов и Л.Томофеев, отсидевший потом за дис-сиденство, между прочим, были уволены из своего журнала за ряд публикаций, включая и это злополучное интервью...
Что говорить... Андрей, конечно, относился ко мне тогда очень доверительно. Но все равно такое предложение было для меня слишком большим подарком, наверное возникшее в голове Андрея не без помощи Ларисы...
Ее замысел вскоре стал ясен: очень скоро мне было предложено, как только будет подписан авансовый договор теперь уже на нашу книжку, передать свою половину аванса в 600 рублей Андрею Арсеньевичу, которому деньги, крнеч-но, гораздо нужнее, чем мне, и которые он, конечно, вернет мне при более благоприятных материальных обстоятельствах. Ну, что же? Это естественно! Ведь не за деньги же я работала в те времена, а во имя идеи и будущей истории кино.
О перестройке мы тогда не мечтали, и мне лично было вполне ясно, что работать мы будем “в стол”. Так что с замирающим от счастья сердцем и, не уставая благодарить судьбу, я передала свою часть гонорара непосредственно в руки Андрея Арсеньевича прямо у кассы издательства “Искусство”, расписавшись рядышком с ним в их получении...
У меня сохранился один из вариантов заявки на эту книгу директору издательства, написанной мною вновь от имени Тарковского:
Директору издательства “Искусство ” К.Ж.Долгову от А.А. Тарковского
Уважаемый Константин Михайлович!
Прошу Вас заключить авансовый договор на книгу “Сопоставления”, которую мы могли бы сдать в конце текущего года.
Мы хотели бы построить эту книгу по принципу диалога режиссера и критика.
Подобная форма, как нам представляется, позволит осветить затронутые в процессе разговора проблемы более полно и объемно. Проблемы эти, в конечном счете, должны сводиться к выявлению того, что принято называть “спецификой кинематографа”.
Однако, диалогическую форму будущей книги мы трактуем достаточно широко. Мы не хотим стеснять себя рамками избранного жанра и оставляем за собой право в ряде случаев высказываться большими монологическими кусками (так в виде единых кусков должны войти ранее публиковавшиеся статьи Тарковского из сборника “Когда фильм окончен”или его статья “Запечатленное время ”). Нои в случае прямых диалогов, и сопоставленных друг с другом статей, мы будем стараться соблюсти принцип некой контрастности, стараться представить предмет, рассмотренным с разных точек зрения, косвенно выявляя еще и взаимодействие таких двух “статусов”, как художник и критик.
Конечно, возможны отдельные моменты рассуждений, кода точки зрения собеседников будут совпадать, когда рассуждения критика будут продолжать тему, заданную режиссером, или иллюстрировать ее — здесь, видимо, речь должна пойти, прежде всего, о тех конкретных наблюдениях на съемочной площадке, которые были сделаны критиком.
Мы предполагаем разделить книгу на семь глав, каждая из которых должна составить два печатных листа: 1) проблема творческая, как проблема этическая, и проблема ответственности художника; 2) изобразительное решение фильма; 3) звуковое решение фильма; 4) киноактер, рассмотренный в сопоставлении с театральным актером; 5) о полифонии фильма; 6) специфика киноискусства; 7) беседа режиссера, зрителя и критика — по письмам зрителей.
Разговор о названных проблемах должен вестись на фоне широких ассоциаций из опыта развития других искусств. С одной стороны. С другой — разговор должен подкрепляться анализом конкретного опыта работы режиссера Тарковского — от замысла фильма, эпизода, кадра до их конечной реализации. Здесь опять-таки возможна и оценка режиссером собственного движения к результату фильма, и заметки стороннего наблюдателя этого движения.
Нам хотелось бы широко иллюстрировать книгу не просто кадрами из фильмов Тарковского, но привлечь и некоторый другой изобразительный материал, который помогал бы понять ряд предпринятых нами ассоциативных отступлений, как бы не имеющих “прямого”отношения к делу, однако, помогающих понять и специфику киноискусства, и нравственную природу художника вообще”.
Договор был заключен, и с этого момента мы с Андреем получили друг на друга окончательные монопольные права. То есть право моего пребывания на съемках в любой момент еще более упрочилось. А затем, уже на Западе, то есть десятилетие спустя я продолжала сопутствовать Андрею везде и всюду вплоть до окончания книги, исполненного драматизма. Ну-ну...
Пока же свершилось самое главное — у меня впереди книга!!! КНИГА в соавторстве с ТАРКОВСКИМ!!! Счастье благословенное! Теперь я могу ему быть по-настоящему помощником — реальным — сейчас и навсегда!
Вот такая дурь была в голове — думается сегодня.
Тогда же Тарковский передал мне папку с разрозненными материалами, оставшимися у него от работы с Козловым. Для книжки материалов было, конечно, смехотворно мало, и я подготовилась к долгим беседам, их фиксации и тщательной последующей обработки...
Но складывалось все несколько иначе... Во-первых, очень скоро выяснилось, что никаких диалогов полноправных собеседников не будет, тем более исповедующих порою разные точки зрения... Я помню, что особенно отчетливо поняла это, когда защищала с пеной у рта “В огне брода нет” и Чурикову в главной роли, фильм неожиданно для меня разочаровал Тарковского после второго просмотра. Этот наш разговор зафиксирован на пленке, а результаты его потом вошли в книжку, в главу об актере, в общей форме, без упоминания изначального предмета разговора...
В защиту фильма, который мне очень нравился, я пыталась высказать некоторые свои соображения. Андрей негодовал, изничтожая даже слабую мою попытку высказать противоречащие ему мысли. Спорщиком он был плохим, но своей точке зрения не изменял никогда, следуя ей порою даже излишне последовательно. Попытка свободомыслия пресекалась обычной фразой: “Если ты, действительно, так думаешь... Если тебе это может нравиться, то я вообще не понимаю, как мы можем писать с тобой книгу?!” Можно, правда, попробовать тешиться надеждой, что подобная реакция таила в себе некоторый элемент его ревности ко мне, как к своему только лишь верному оруженосцу...
Вспоминается также время, когда Тарковский познакомился с Панфиловым, и на некоторое время они сдружились, когда “В огне брода нет” так или иначе и безо всякого преувеличения ворвался в искусство кинематографа ослепляющее неожиданным взрывом. Так что, едва приступив к работе в журнале “Советский экран”, я рванула на интервью к Панфилову, с трудом отыскав его в маленьком домике под Свердловском, где он только еще писал с Габриловичем сценарий “Начала”.
Это было началом отношений, продлившихся до сих пор. Но тогда...
Тогда Панфилов, оставив первую семью, жил у Чуриковой в однокомнатной квартире возле Ленинского проспекта. И было время, когда мы втроем, с Ларисой и Андреем, приходили туда с удовольствием. Пили, гуляли и разговаривали обо всем на свете от души. Панфилов не расставался с мечтой о картине про Жанну д’Арк, понятно, с Чуриковой, имея в связи с этим замыслом много проблем. Надо сказать, что в тот период отношения двух пар были самыми нежными, и Панфилов всерьез говорил о том, что будет снимать Ларису в роли Матери Жанны, видя в них с Инной сходство... И вообще именно он видел в Ларисе определенные актерские возможности*...
Помню еще, как Лариса, очень склонная всегда жаловаться на свое здоровье, затащив меня в совмещенный санузел той скромной чуриковской квартиры, поднимая кофточку, требует, чтобы я нащупала катышек опухоли в ее груди, уверяя, что это рак. А я ничего, понятно, не нащупав, уверяю ее, что в худшем случае это мастопатия. Но она заговорчески заклинает, пытаясь меня убедить: “Нет, я тебе точно говорю, что это рак”... “Да, брось ты, Лара”, — уверенно заявляю я, не подозревая, конечно, что столько лет спустя ей поставят слишком поздно именно этот диагноз...
* * *
Возвращаясь к отношениям Ларисы с Андреем: он всегда оставался тем волком, которого, сколько не корми, все в лес смотрит. А, может быть, он вообще не был создан для какой бы то ни было семьи, в чем каялся в "Зеркале”, но нуждался в берлоге, где можно было бы зализывать полученные раны?..
Во всяком случае Лариса без устали следила за каждым его шагом, изнемогая от постоянного напряжения, но никогда не сдаваясь. "Следственная агентура" в образе "подруг" работала на нее со страстью. Думаю, что мне единственной удавалось оставаться рядом с ними почти двадцать лет, не будучи вовлеченной в группу слежки. Все новости я узнавала из уст самой Ларисы, много раз заслужив упреки за свое нежелание "приглядеть" за Андреем на стороне...
Один знакомый рассказывал мне о том, как Лариса жаловалась ему после смерти Андрея: “Он никогда не понимал меня. Никогда! Вот Феллини хотел снимать мой танец на столе. А Андрей не видел во мне актерских возможностей и погубил меня!”
Вот вам и “Чайка”...
На эту тему я спорила с ней, уверяя с пионерским пылом, что порядочные люди такими делами не занимаются, не разжигают лишние семейные ссоры. Но тут Лариса была неумолима, предпочитая превентивные средства и подготовив мне за это “несотрудничество” специальную кару, настигшую меня много лет спустя уже за рубежами нашей любимой родины...
Только один раз ей удалось втянуть меня в следственное путешествие рядом с ней по “наводке” одной из “доброжелательниц”... Это было ужасно, но, попав случайно в Орлово-Давыдовский в неурочный “урочный” час, отступать было совершенно некуда. Лариса была вне себя, ее было тогда просто жалко. Ей сообщили о каком-то любовном свидании Андрея, которое должно было состояться в соответствии с нашей всеобщей жилищной неустроенностью, в тогдашней квартире Высоцкого, как мне помнится, в блочной башне. Чтобы взять Андрея с поличным Лариса затаилась надолго вместе со мной в кустах у подъезда. Стыдоба была немыслимая, но Бог миловал, и никакого Андрея с дамой мы не дождались. Лариса заподозрила, что Андрей уже в квартире, решила подняться и позвонить в дверь... Бог миловал еще раз и, посидев там немного, мы восвояси отправились домой под мои заунывные нравоучения, которые Лариса терпела, полыхая метафизическим гневом...
Все годы с разной степенью успеха вся неуемная энергия Ларисы, вся изворотливость ее недюжинного практического ума была направлена на овладение одним объектом — Андреем Тарковским... До работы ли ей было?! Подобно администрации Сталина она бесконечно плела вокруг Андрея какие-то заговоры, которые сама же последовательно разоблачала. Прямо-таки “верный пес” Мал юта Скуратов в юбке... Причем, как у всякой истерички, каковой она несомненно являлась, степень ее убежденности в своей правоте была столь велика, что дурману ее наветов не сразу и далеко не всегда можно было противостоять...
Она рассказывала, сколько настрадалась с Андреем его мать, Мария Ивановна, не знавшая, как его уберечь от разного рода пагубных страстей и подготовившая с этой целью его отъезд с геологической экспедицией в места весьма отдаленные... В этом контексте стоит сказать, что вообще родственников Андрея она, конечно, не очень-то жаловала, как и они ее. Только позднее и постепенно, в связи со съемками “Зеркала”, привилегированную позицию безусловно все-таки заняла изумительная Мария Ивановна, которая держалась чрезвычайно достойно, скромно, ни во что не вмешивалась и как будто бы задружилась с Анной Семеновной. О ее первом появлении в доме я расскажу ниже...
Что касается сестры Марины и ее мужа Саши Гордона (бывшего сокурсника Андрея и Ирмы Рауш), то отношения с ними носили, на моей памяти, достаточно протокольный характер. На Орлово-Давыдовском вначале по каким-то торжественным случаям стал появляться Гордон, как всякий мужчина, видимо, державший более нейтральную позицию в отношении Ларисы Павловны. Но потом он как-то довольно быстро исчез, и только позже, главным образом, на тех же торжествах возникала молчаливая, замкнутая Марина. По крайней мере так она гляделась в новой семье Андрея. Не знаю, что там было на самом деле, но внешне их отношения казались очень дистанцированными и формальными, никакого особенного тепла или внимания со стороны Андрея я не замечала. Полагаю, что Марина вместе с мамой, едва ли могли одобрять новый выбор Андрея, видимо, от всей души сочувствуя оставленным им Ирме и Арсению.
Излишне говорить, что Лариса с лихвой платила всем им той же монетой, уверяя, что это семейство всегда делало Андрея только несчастным, не думая о нем и не желая помогать... Надо сознаться, что особенно доставалось отцу, Арсению Александровичу, к которому ее долго не допускали. Значительность его как поэта Лариса, понятно, не подвергала сомнению, но он считался ею самовлюбленным “непомерным эгоистом”, от которого так “пострадали дети и Мария
Ивановна”... “А что он сейчас делает для Андрея? Да, ему наплевать на него”, — язвительно характеризовала она отношение отца к сыну...
Постепенно и в процессе борьбы пришлось ей перетряхнуть также практически весь круг прежних друзей Андрея, исключая из него одного за другим — так как все они, по убеждению Ларисы, способствовали его моральной деградации. “Ты что думаешь, он им нужен?” — задавалась она риторическим вопросом. Она одна решила принять на себя всю ответственность, тщательно отфильтровывая и формируя круг новых “друзей” по принципу “благонадежности” или прямой выгоды. Надо сознаться, что, не всегда соглашаясь с деталями, я долгие годы все-таки верила в некоторую целесообразность ее борьбы. В конце концов именно такой была их семья... Что же тут было мудрствовать посторонним?
Факт состоит в том, что, несмотря на все сложности отношений, Андрей охотно скрывался от внешнего мира за Ларисиной “широкой” спиной и передоверил ей постепенно все свои деловые контакты. Их связывало странное чувство любви-ненависти на разных этапах в разных взаимодействующих балансах. Мне кажется, что Андрей очень сильно зависел от Ларисы и в то же время ее стеснялся. Она это чувствовала, но не сдавалась, отсекая одного человека за другим, казавшихся ей так или иначе конкурентно-опасными. Она боялась любых влияний на него, к которым на бытовом уровне, как мне кажется, Андрей был очень восприимчив. Так что была глубокая правда в заявлениях Ларисы о том, что “я могу ему внушить все, что угодно”. При этом было ясно, что постель долго определяла все безумие Андрея в отношениях с ней, где ее опыт был обратно пропорционален ее собственным морально-этическим принципам. Создавалась цепь видимостей, в которые Андрей верил. Остается вопросом, почему все-таки Андрей вручил себя ей. Думаю, что на эту тему ему приходилось задумываться... Вспомните ее роль в “Зеркале” и образ жены Александра в “Жертвоприношении”.
Важно еще заметить, что Андрей с самого начала привязался к Ляльке, шутливо комментируя свой целенаправленный интерес к ней, который Ларису, как ни странно, совершенно не смущал, а даже скорее поддерживался в нем. Выпивая, он как правило, начинал, заговорчески подмигивая, рассуждать о всех прелестях рыжей Ляльки, становившейся все более статным подростком. Обещался, как бы шутя, что еще “разберется с ней”, когда она подрастет. “Ничего-ничего”, мол, увидите — пробрасывал он лукавой скороговоркой...
Он отснял ее в коротком проходе в “Солярисе”, а также сделал пару замечательных крупных планов в “Зеркале” в роли возлюбленной военрука... Это давало дополнительные надежды Ляле и особенно Ларисе, что ей уготовано актерское будущее. Потом ее пытались безуспешно пристроить на курс Бондарчука. Думаю, что особых способностей у нее не было, и Бондарчук не принял ее к себе, что было трактовано Ларисой как принципиальное нежелание Бондарчука “помочь и дать учиться дочери Тарковского”. Это был очередной бред Ларисы — в конце концов, никто не мешал ей поступать снова и снова, как это делали другие. Андрей в это тоже поверил. Она до такой степени внушила ему эту мысль, что позднее Андрей даже боялся кому-либо помогать, полагая, что его протекция равносильна волчьему билету. Конечно, трудно было надеяться на успех, если он хотел помочь Сокурову, которого, как и его самого когда-то, не принимали категорически. А вот когда племянник Ларисы и младший брат моего бывшего мужа Алеша поступил на операторский факультет того же ВГИКа, не будучи семи пядей во лбу, Андрею почему-то этого не записали на счет, хотя бы ради поддержки его духа... Точно также, как потом не ставили ему в заслугу, что его съемочная группа пополнялась новыми работниками, зачисленными прямо со студенческой скамьи, как тот же Алеша или другая племянница Ларисы, укреплявшей “своими” свои позиции,
Как я уже писала, Андрей бывал всегда скрупулезно точен во времени. Тем более в делах. Лариса опаздывала всегда.
Если Андрей уже полностью собран и готов к выходу, то Лариса все еще собирается: макияж не закончен, волосы еще ждут своего освобождения от бигуди, туалет еще не надет. Время от времени голос Андрея звучит короткими все более раздраженными повелительными окриками: “Лариса! Нам давно пора идти”. Мелодраматические интонации сопровождают Ларисины многословные причитания: “Андрей, ну что вы хотите?.. Чем вы опять недовольны?... Вы знаете, сколько всего мне нужно было сделать? Вы просто не хотите, чтобы я шла с вами! Ну, как вам не стыдно, Андрей? Ну, я уже готова”... Хотя все это вовсе еще не означает реальной возможности выйти...
Таким образом всякому совместному визиту предшествовала перепалка, разводившая их на разные полюса, чреватая взрывом. Но постепенно все сглаживалось и, как сейчас вижу их пару, возникающую, наконец, во дворе нашего дома на Ломоносовском. У нас уже другая квартира на третьем этаже, а поскольку они всегда опаздывают, то моя мама, притомленная ожиданием, нервно выглядывает в кухонное окно, через которое просматривается весь двор. И вот они выплывают из-за угла, точнее плывет Лариса, всегда на высоких каблуках, при параде, а рядом, рука в кармане, как бы откидывая волосы движением головы, несколько суетливо следует сам Андрей. Издалека он кажется почти ее сыном. Или итальянским мужем рядом со своей Матроной.
Бывало, что они приходили к нам не из дома, а, например, из ЦДЛ, и Андрей, уже несколько подвыпив, рассказывал нам с каким-то испуганным восторгом, едва переступая порог, поразительные деяния Ларисы. Обращался он больше всего к моей маме: “Липочка, ты знаешь, что случилось? Нет, это невероятно! Мы стояли с Ларочкой на стоянке такси — как всегда очередь — и какой-то наглец... Ну, негодяй такой, хам... Ты представляешь? Появился неожиданно и хотел схватить нашу машину. Я, конечно, рванул ему наперерез... Но туг подскочила Ларочка и как звизданет ему по морде наотмашь... понимаешь? А у нее вот браслет... Посмотри... Кованный... Так представляешь как летел этот хам”... (Браслет “кубами” мы знали, они тогда были модны в интеллигентских кругах — тяжелая металлическая вязь в форме подковы, заканчивающаяся с внешней стороны большими камнями). Из глаз Андрея прямо-таки сыпались искры, почти детского потрясения, следовал вывод: “Липа, ты пойми, Лара, если мне будет нужно... Понимаешь, если мне будет нужно — убьет! Нет-нет, ты не понимаешь — для меня — правда, убьет!”...
Парадокс состоял в том, что, несмотря на всю нелепицу ситуаций, было похоже, что в быту задиристый и петушившийся Тарковский, на самом деле, и впрямь нуждается в защите, как будто слишком плохо ориентируясь во внешнем мире. Он не понимал людей, не разбирался в характерах — так что все отношения не только в жизни, но, увы, и в съемочной группе воспринимались им через Ларису. Ею же и выстраивались.
Ни одному человеку, не угодившему Ларисе даже в мелочах, не удавалось рано или поздно избежать расплаты разной степени тяжести — разлучение с Маэстро — будь то Рер-берг, я, мой отец или кто-нибудь другой...
Мое долговременное присутствие рядом с Тарковским и те в сущности неограниченные полномочия, которые я надолго получила в общении с ним, были мне дарованы, думаю, Ларисой. Чем же она руководствовалась при этом? Своей хитростью и тем же практическим умом. Лариса легко поняла, что я для нее неопасна. Она понимала, что всякие козни с мужем моей подруги не из моего арсенала. А работала я с Андреем честно и со всей отдачей. Ведь Андрей любил своих преданных сотрудников придирчиво и ревниво, относясь к ним, как к своим верным рыцарям. А мне, например, он всегда пророчил одинокую, холостую, бездетную жизнь, полагая, что я даже неспособна создать семью. А вот, если нужно будет пойти за него хоть на костер, то пожалуйста — я это сделаю с радостью! Эту задачу, с его точки зрения, мне можно было доверить, и она меня, действительно, очень устраивала в символическом смысле... Но все-таки я была не Маша
Чугунова... Так что моя личная жизнь развивалась вовсю и разными зигзагами...
Помнится, только один раз, Андрей после большого загула и с перепоя попробовал намекнуть на возможность развития наших отношений. Он валялся, как часто бывало, в постели в своем кабинете, когда я заявилась к нему исключительно для “интеллектуальных” бесед, то ли для нового интервью, то ли для книжки. Но, поглядев на меня с новым прищуром, он вдруг задался удивленным вопросом: “Слушай, ты похорошела... А почему собственно у нас с тобой не было еще романа?” Лариса в это время была в деревне, Анна Семеновна копошилась на кухне. Карты были даны мне в руки, но, не разглядывая масть, я дала прямой и резкий пионерский ответ: “Андрей, извините, но вы просто совсем уже сошли с ума. Какой роман, когда я дружу с Ларисой?”, и перешла тут же к художественно-киноведческой части нашего свидания. К этому вопросу мы более на возвращались.
Хотя в каком-то самом общем смысле он ревновал меня, считая, видимо, своей полной собственностью. Относился всегда с недоверием не только к моим романом, но и к мужу и даже нашим сыновьям, возникшим для него будто бы по какому-то общему недоразумению.
Комплиментами он меня не баловал. А потому на всю жизнь запоминалось любое проявление его внимания, даже упрек, брошенный мне на “Сталкере”, когда я довольно долго не появлялась, занятая своей диссертацией о шведском кино: “А-а-а, привет, — сказал он мне, лукаво поглядывая. — Что-то давно тебя не было видно... Наверное, больше неинтересно, а?”
Какое счастье, что он оказывается замечал все-таки мое присутствие на площадке!
Будучи бабником — мне кажется, он в сущности не понимал женщин, не любил их или побаивался, может быть, от неуверенности в себе... Думаю, что в самом начале взаимоотношений главным козырем Ларисы явилось ее умение поселить в нем веру в то, что он все-таки мачо.
По-моему все это отчетливо прочитывается в его фильмах, где женщина ценится прежде всего как символическая хранительница очага, Мать. Его женщины относятся к мужчинам с вечной прощающей укоризной. Вспомните хотя бы крупный план матери Кельвина в “Солярисе”...
Перед характерами он пасует, не пытаясь даже в них разбираться. А всякая самостоятельность женщины объявляются им от лукавого и наказуемой. Помнится, как я однажды заползла к нему в кабинет на Орлово-Давыдовском поделиться своей идеей пойти на Высшие режиссерские курсы. Он был искренне удивлен и высказал свое недоумение в следующей форме: “Ты с ума сошла! Как женщина может быть режиссером? Где ты видела женщину режиссера?” А когда я робко начала список именем Ларисы Шепитько, то он тут же меня перебил: “Да разве она женщина? Она стоит десяти мужиков! Впрочем, она и не режиссер”...
Смешно, но тогда, не получив от него благословения, я согласилась, что в режиссуру мне соваться не следует, даже сама идея вдруг показалась какой-то глупой. Тем более, что Андрей очень даже подсластил мне эту пилюлю, заявив: “А кто же тогда вообще будет заниматься критикой?” Боже мой! Сработал тот же стереотип почитания: не хвалит меня особенно, но вот все-таки как ценит исподтишка — подарок из первых рук. Мне показалось, что даже его любовь к Наталии Бондарчук окончательно прошла в тот момент, когда она решила пойти в режиссуру. Он негодовал. Как смела? И откуда такая претензия? Сколько презрительного сарказма было высказано по этому поводу! А тут еще брак с Бурляевым... Тоже еще режиссер...
По достаточно умозрительной идее, однозначно формулируемой Тарковским и в жизни, и в творчестве, именно Ларису представлял Андрей той самой идеальной женщиной, не замечая, как мало подходит ей эта роль. Будучи режиссером, не замечал, однако, с каким нажимом и как неубедительно она ее исполняет. Так, что хотелось иногда заорать прямо-таки по Станиславскому: НЕ ВЕРЮ! А он так долго не понимал того, что чем более прочно обозначалось ее положение рядом с ним, тем отчетливее очерчивался круг ее подлинных неудержимо-бесноватых притязаний.
Поначалу казалось, что ее главная задача состоит в том, чтобы стать женой великого художника (то, что он велик, она не сомневалась), готовой душу прозакладывать как угодно и кому угодно только ради его главной цели. Поначалу в этом виделось столько благородного — как говорится “не за себя, а за Отечество”...
Но потом становилось все более очевидно, что в ее намерении было как будто потаенное, но со временем все отчетливее обозначающееся страстное желание, как она говорила, “войти в историю” даже не рядом, а впереди него самого. После очередного скандала и тех унижений, которым, надо сознаться, он ее подвергал очень жестоко, она, глядя на меня невинными, полными слез глазами, возлагала на меня эту самую “историческую задачу”, в конце концов поведать человечеству, каким извергом был Андрей и каким ангелом-хранителем была его жена. Гораздо позднее, в Риме, она точно сформулировала мое задание, ссылаясь на Гуэро, которого она процитировала мне следующим образом: “Представляешь, даже Тонино сказал после того, как здесь поближе столкнулся с Андреем: Ларочка, только теперь я понимаю, из какого чистого источника черпает Андрей свою духовную энергию”...
Более того, подобного признания ее заслуг перед святым искусством тоже было для нее недостаточно. Утвердившись в статусе официальной супруги после рождения Тяпы, она вознамерилась руками Андрея зажечь собственную звезду над своей головой. Не просто верная супруга, неутомимая помощница Гения, но... кинозвезда! И не менее. С какой страстью, начиная с “Зеркала”, боролась она за собственное место на звездном небосколоне...
Она не сомневалась в своих выдающихся дарованиях, которые Андрей просто не желает замечать. Мать в “Зеркале” должна была сыграть именно она. А кому же еще можно было доверить такую интимную задачу?
В памяти всплывает еще один смешной и типичный случай. Очень типичный для Ларисы. Обычные посиделки с моими родителями на Ломоносовском в обсуждении грядущего “Зеркала” и возможной исполнительницы главной роли. В частности, Андрей размышляет о Биби Андерссон и Марине Влади. А уже на следующий день я прихожу к Тарковским, и мы между прочим вспоминаем вчерашний вечер. И туг с уст Ларисы слетает легкая, как эльф, фраза: “Андрюша, а вы помните, как Евгений Данилович сказал вам вчера: “Андрей, а зачем собственно вам с такими сложностями искать актрису, когда рядом с вами сидит Лариса?’ Правда, Олька?”...
Ясно, что ничего подобного я не слышала и слышать не могла от моего отца — так что попыталась робко не подтвердить это весьма сомнительное для меня воспоминание... На что Лариса немедленно парировала: “Ну, конечно, ты не помнишь, потому что в тот момент ты как раз выходила гулять с Элем”... Дальше мне следовало бы напомнить ей, что с нашей собакой мы выходили гулять вместе. Но поскольку это все-таки не свидетельский допрос, и дважды ловить человека на лжи неловко, я немею, а Андрей раздумчиво и сосредоточенно тянет: “Да?... Действительно?... Ну, может быть, он и прав”.
Рядом с Ларисой каким-то естественным образом прорастала такая органичная фальшь, что трудно было не затеряться в ее ветвях. Сколько раз Андрей, правда, не слишком активно подтверждал, что он лично помешал Феллини снимать Ларису, которую “Фредерико случайно увидел в коридоре “Мосфильма” и тут же пригласил сниматься к себе в картину”. Ларису “мечтал” также снимать Параджанов, но... “Андрей мне не разрешил, правда? И вот так всегда. Вы не даете мне работать, а ведь я могла бы”. И вот вам снова доказанная и не раз подтвержденная самим Андреем вина перед Ларисой.
Во время подготовки съемок “Зеркала” и поисков актрисы Лариса чаше всего носила простой пучок, как на фотографиях Марии Ивановны, настаивая и наглядно демонстрируя свое сходство с ней. Но Андрей, по-моему, более удачно занял ее в другой роли сытой, хитрой и хищной, ненавистной ему обывательницы, облаченной в скользящий шелковый халат “фирмы мама”, которой его Мать понесет с голодухи продавать свои сережки. Такое ощущение, что это был подсознательный акт его мести... И Лариса вторила этой идее — “посмотри, какую роль он мне доверяет, и даже волосы убрал под косынку”...
А Терехову Лариса возненавидела, кажется, сразу как “соперницу на звездном небосклоне”. Еще до непосредственных столкновений с ней, когда она уже успела снова приревновать ее к Андрею или Андрея к ней, на этот раз, как будто бы без подлинного повода. Впрочем, что значит “без повода”, когда она потеснила ее на законно принадлежащем ей месте Матери Андрея? Тем более, что Андрей был в восторге от Тереховой, глядя на нее восторженно и не уставая восхищаться ее работой.
Ведь, заметьте, что единственный раз, условно говоря, героиней его фильма была женщина, потому что единственным героем по существу бывал только он сам. С такой “героиней” Лариса изначально не могла смириться, не могла пережить ее даже и чисто актерских достоинств. Такая “художественная” реальность была не для нее, сжигая ее раздражением и ревностью, усиленными, как обычно, неустанными и далекими от искусства конкретными подозрениями. То есть тяжелая реальность состояла в том, что не помощь своему любимому мужу несла с собою на съемочную площадку Лариса, начиная с “Зеркала”, а атмосферу многократно взвинченного напряжения порой до кромешного ада, в котором терялись все.
Некоторые сотрудники не выдерживали этого бреда, постепенно сдавались и отступали, а некоторые, как я сама, привыкали и воспринимали это как должное, как необходимую сопутствующую Андрею данность, продолжая поклоняться Ему, и готовые терпеть ради него и его дела все что угодно, спасая его не на словах, а на деле. Как, например, это делала, прежде всего, Маша Чугунова.
Помню, как на съемках в деревне Тучкою, совсем обезумевшая Лариса носилась в темень за тридевять земель в какую-то “баньку по черному”, где парились Рита, Гоша Рер-берг и Андрей, и умудрялась, по ее рассказам, заглянуть в запотевшее окошечко... Покоя она ему не давала, но он почему-то это терпел, правда, не очень смиренно... Все по-русски — и до мордобоев дело доходило...
А как пришлось носиться самому Андрею между Тереховой и Ларисой уже в павильоне “Мосфильма”, когда снималась их двойная сцена с петухом. Практически они вовсе не могли к тому моменту находиться рядом, и съемку не удавалось начать. Не знаю, что там делала Терехова, когда обе они бросались с декорации в разных направлениях, а Лариса истерически причитала: “Нет-нет, ты посмотри, Оля, что он делает? Ведь он совершенно со мной не работает. Он ничего не хочет мне объяснять, как будто меня здесь нет. А посмотри, сколько он с ней работает! Это все специально. Он хочет, чтобы я провалила роль. Он боится, что я стану актрисой и не пускает меня. Какой негодяй!”
Одна из магнитофонных записей, сделанная на Ломоносовском, хранит память о том, что Ларисины амбиции не ограничивались только кино. Она собиралась, например, и в театре играть Гертруду в “Гамлете” Тарковского. Но и здесь снова пришлось отступить перед Тереховой. Это ее намерение во всю обсуждалось в семействе Тарковских: Но поскольку в итоге Ларисе не нашлось и не могло найтись места в театре, то она более совершенно не сочувствовала новым далеко идущим мечтам Тарковского, связанным со сценой. “Тем более, — как говорила Лариса, гневаясь, — там почти ничего не платят”.
Должна сказать, что Андрей сам тоже неоднократно повторял мне: “Лариса? Лариса вообще настоящая Гертруда!” Так что понимайте это, как хотите.
Единственную женскую роль в “Сталкере” Лариса примеривала тоже исключительно на себя. Еще бы! Кому, как не ей, следовало очеловечить на экране подлинную, всегда бескорыстную, ни на что не претендующую и жертвенную женскую суть жены Сталкера, умевшую любить без надежды на вознаграждение. Она пробовалась на злу роль совершенно безуспешно. В своей неудаче она обвинила оператора Георгия Рерберга, убеждая меня, что он специально и злонамеренно загубил ее пробу невыгодным для нее освещением. Лариса неистовствовала, а потом пригрозила: “Ничего! Я ему это запомнила1 Он не будет работать с Андреем!” Достаточно к этому добавить, что второй вариант “Сталкера” снимал Княжинский, а с Рербергом Тарковский рассорился навек... А о том, как разошлась сама Лариса на “Сталкере”, речь еще впереди...
* * *
А вообще постепенно вся атмосфера жизни в Орлово-Давыдовском менялась и сгущалась все больше. Вокруг Андрея собиралось какое-то странное общество, в котором он то ли царил, то ли терялся в символическом смысле. Потому что по существу потеряться он не мог. Равных ему не было, как великану среди пигмеев. Но окружали его нужные Ларисе люди, соответствовавшие ее планам, умевшие с ней дружить и помогавшие устраивать практическую жизнь. Например, одним из завсегдатаев стал Женя, директор мебельного антикварного магазина, вместе с женой и двумя дочками. Это был очень милый человек, не без дополнительных ценных качеств — благодаря ему была по-дешевке и без наценок “приобретена” обстановка для деревенского дома Тарковских и следующей квартиры на Мосфильмовской в соответствии со вкусом хозяина. Заодно и мне с его помощью перепал “Шредер” — большое спасибо.
Но нужда в моей дополнительной помощи тоже еще не отпала вовсе, или, может быть, Женя еще не успел появиться к тому моменту. Во всяком случае, Лариса решила использовать меня вновь довольно своеобразно и неожиданно... для меня. Потому что ей самой было трудно отказать в прихотливой фантазии.
Впрочем, может быть, после того, как деньги для издательства мне удалось достать, она поняла, что толк от меня есть. А потому один из моих обычных завтраков был прерван ее необычным телефонным звонком. В телефонный трубке сразу прозвучал Ларисин приказ: “Оля, бери паспорт и немедленно приезжай ко мне в мебельный магазин оформлять кредит на арабский кабинет для Андрея. Скорее, а то уже заканчиваются! Ты же знаешь, что ему нужен кабинет? Он будет счастлив, а на мою зарплату кабинет этот не оформляют. Из тебя будут вычитать ежемесячно всего по десять рублей, а я, конечно, буду тебе их возвращать каждый месяц. Ведь это для Андрея!”..
Я несколько растерялась, но для рефлексии времени не было. Приказу нужно было повиноваться. Так что, не предупреждая родителей, я рванула из дома, чтобы еще успеть ухватить кабинет. Но кредит-то, к моему ужасу, был оформлен на год не по десятке, а по 44 рубля в месяц, а моя зарплата в “Советском экране” составляла 110 рублей. Так что год тот в финансовом отношении был для меня непростым. А родители все недоумевали, отчего я все время без копейки денег. Я молчала, как партизан, потому что не хотела дезавуировать в глазах других ни замечательного образа Маэстро, ни образа его жены, которых другие могут понять неправильно. Излишне говорить, что никаких денег мне никогда не возвратили, но я, особенно после выплаты кредита, с тайным удовлетворением поглядывала на Андрея в арабском интерьере его кабинета, который сохранился вплоть до его отъезда в Италию.
Надо сказать, что жалуясь на хроническую нехватку денег, Лариса всегда умудрялась организовывать немыслимые по богатству столы. В этом тоже было странное, но привычное несоответствие. В благодарной памяти сохраняются наши бесконечно долгие застолья, порою завершавшиеся только к утру и часто возобновлявшиеся по утру вновь по мере опохмелки. В лучших русских традициях!
Лариса была хозяйкой, обожавшей эти гулянья изначально, имея на них к тому же шанс нового публичного самоутверждения: она всякий раз получала от Андрея вырванное и уже ставшее традиционным громкое и велеречивое признание в любви: “А теперь, — непременно говорил уже поднабравшийся Андрюша, — я хочу выпить за Ларочку. Это удивительная женщина, которая меня спасла, которой я всегда благодарен и у которой нахожусь в вечном долгу”... — “Ну, что вы, Андрюша”, — перебивал мягкий голос Ларисы, потупившей очи. — “Да, да, Лариса. Все должны знать, что без этой женщины я бы просто пропал. Я хочу, чтобы все выпили за Ларису и за Анну Семеновну, эту святую женщину... Но, Ларочка, до нее, вам еще, может быть, надо тянуться... Ну, идите, идите ко мне — я вас поцелую”... Причем, Андрей не фальшивил, он вообще фальшивить не умел. Он в ЭТО верил, несмотря на сложности, которые всегда сопровождали их отношения...
Большие застолья регулярно сопровождала еще одна повторявшаяся особенность. Если гости приглашались к семи-восьми часам вечера, то за стол они садились не раньше десяти-половины одиннадцатого. Стол постепенно загружался все большим количеством яств. За кулисами, куда я была допущена, царила немыслимая суматоха: подходило какое-то тесто, Анна Семеновна суетилась около плиты, что-то очередное еще пеклось или зажаривалось на противне в духовке, что-то крутилось через мясорубку, что-то резалось, что-то раскладывалось на блюда. Лариса бегала в халате с по-лунанесенным макияжем, который ожидал окончательной доработки. Волосы, закрученные на бигуди, покрывал платок. Общая нервность возрастала. Развлекавший гостей Андрей время от времени подавал все более нетерпеливые сигналы, смущенно улыбаясь:
— Ларочка, ну, когда же, наконец? Все хотят есть... Лара, я больше не могу, умираю с голода...
— Ну, сейчас, Андрей, подождите! Все уже готово, — регулярно слышался ответ из-за закрытых в кухню дверей. — Ну, я же не могу разорваться. Ну, какой вы ей-богу...
И обращаясь ко мне: “Ну, посмотри, он всегда недоволен”...
А когда, наконец, все было готово, наступал еще один последний ответственный и затяжной момент, когда Лариса убегала в комнату расчесаться, докраситься и одеться. “Ну, наконец-то!” — торжественно возглашал Андрей при появлении Ларисы, сверкающей голливудской улыбкой, и все гости приветливо приглашались за стол...
Удивительно, но Лариса почти не скрывала своего раздражения, когда Андрей в период “Сталкера” бросил пить, испугавшись настигшего его тяжелого сердечного приступа. Гулянка была ее стихией, которую нарушал его трезвый взгляд. “Смотри, смотри, как он себя бережет, — сколько раз, недобро прищуриваясь шептала мне Лариса, — да он сто лет проживет! Это я сдохну! Вот увидишь!” Мы знаем теперь, увы, как все произошло и в какой последовательности...
Но все это было потом. А пока, еще до начала работы над “Солярисом”, Андрей был очень плох, без работы, без денег... Заявки отвергались одна за другой... Тогда, в период самых тяжелых невзгод, Андрей особенно поражал удивительной скромностью и строгим достоинством. Никогда не забуду, как я прибежала к нему, запыхавшаяся и восторженная, размахивая очередным номером “Кайю де синема”. Я спешила порадовать и поддержать его, потому что “Андрей Рублев” был назван там лучшей картиной года, в то время, когда Феллини занимал четвертое место, а Бергман — шестнадцатое. Но Андрей, высказав некоторую радость, в то же время неожиданно хмыкнул: “Какая все это чушь с Феллини и Бергманом. Просто глупо и неприлично!” Вот это да! В такие мгновения он вызывал у меня особое восхищение — какое отсутствие суетности, самодовольства! Какое несказанное благородство!
Как жаль, что постепенно он привык к льстивым, безудержно-апологетическим тостам своей жены, провозглашавшим его “гениальность”. И, пытаясь притормозить их неудержимый разбег все более для проформы, его голос звучал все менее уверенно: “Лариса!.. Лариса!..” Ее несло, как на катке...
Понятно, что день рождения Андрея, четвертого апреля, отмечался в семье особенно пышно. Сохранились тексты некоторых телеграмм, диктовавшихся мной по телефону, в каждое слою которых хотелось вложить всю любовь, заклиная судьбу быть к нему поблагосклоннее: “Дорогой Андрей, поздравляю вашим праздником. Пусть вам будет весело, радостно, легко. Пусть останутся в прошлом все несчастья. Иначе быть не может! Не должно! Будьте счастливы! Оля Суркова. Привет от мамы и папы”. Как все мы мечтали тогда, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы “Рублеву” позволили победоносно пройти по нашим экранам, чтобы страницы прессы запестрели достойными его критическими и философскими анализами! Ничего этого по большому счету он так и не дождался при жизни.
После того, как “Солярис” был уже завершен, я диктовала по телефону другую телеграмму: “Москва И-41, Орлово-Давыдовский пер., д. 2/5, кв. 108. Милый Андрей Арсеньевич поздравляем днем рождения. Ликуем по поводу включения открытой вами планеты Солярис в карту небосклона. Рукоплещем в вашем лице блистательному искусству землян, способному потрясти обитателей, казалось безнадежно неконтактных соседних миров. Будьте здоровы, счастливы. Обнимаем вас. Сурковы”.
С грустью, перепечатывая теперь, завалявшиеся в моих архивах черновики поздравлений, столько лет назад посланных Тарковскому, я почему-то вспоминаю день рождения Александра в “Жертвоприношении”, которое было отмечено его друзьями следующей телеграммой: “Поздравляем дорогого друга день его юбилея точка. Обнимаем великого Ричарда доброго князя Мышкина точка Дай вам Бог счастья, здоровья, покоя точка Твои ричардовцы, идиотовцы всегда верные, любящие точка”...
Об атмосфере того времени также напоминают кое-какие записи из дневника моего отца. Я ничего в них не корректирую, чтобы оставалось до конца ясным и без прикрас, какими все мы были в то время:
1967 год, без даты: “Я лежал после очередного приступа, когда ко мне позвонил и попросил разрешения прийти Тарковский. С картиной Рублевым” — О. С.) было скверно, и он, конечно, очень нервничал. Но он только вошел, начал горячо и очень серьезно уговаривать меня не волноваться! Поправлять картину он не хочет — пусть она лучше полежит до тех пор, пока ее не покажут такой, какой он ее сделал. А то, что картину поднимут через сколько-то лет, он, кажется, уверен. Хотя ему от этого и не легче. О Таланкине и Хуциеве говорил резко: он видит в них людей с искаженным, несправедливым взглядом на советское общество. Вот, оказывается, какая чепуха: все кричат Тарковскому — ату......он что-то там про себя прячет, а он, на самом деле, глубоко и стойко несет в себе наши принципы и идеалы ”.
Декабрь 1967г: “Был Тарковский. Перед ним снова возник вопрос о возможном (?!) выпуске картины, в случае, если он пойдет на переделки и сокращения. Около четырех часов он метался по моей комнате и объяснял (скорее себе, чем мне), почему он ровно ничего в ней не изменит. В картине он уверен. Пе как в художественном произведении, здесь возможны разночтения, а в ее идеологии, философии. Она именно такова, как я ее объяснил ("имеется в виду письмо моего отца в ЦК, которое Тарковскому очень нравилось — О. С.). (Это мой вывод из всего, что он говорил). Для него фильм — это прославление силы искусства, утверждение духовного величия и здоровья русской нации. "Мне говорят о жестокости! А как я иначе покажу, какая сила нужна, чтобы над нами восторже-ствоватъ?!” Его бесит, что в картине видят детали, изолированно, как будто они существуют сами по себе, а не видят движения мысли, темы, не понимают для чего частности, в какой процесс они выливаются, к какому выводу идут. “Я был воодушевлен самыми высокими и чистыми мыслями, а меня бьют по шее. Им надо не по мне бить, а по тем, у кого карманы полны кукишей. Таких бить надо, я их сам презираю ”. Идти же на поправки, не веря в их необходимость, он не может. Сдаться раз — значит сломаться. Потом не остановишься. Так, на этом пути ломались даже самые сильные. “Я не могу читать без слез, что писал Эйзенштейн после “Бежина луга ”. Что же они хотят, чтобы и я писал то же? Нет, лучше не работать в кино совсем. Я могу работать только, как я считаю честным, нужным. Мне в себе стыдиться нечего. Проституировать же себя я не буду ”. Мысль довериться мастерам (они де посоветуют, что и как исправить) ему отвратительна. “Они сами всю жизнь только и занимались тем, что поправляли и то, и это. У них ни у одного нет цельного хребта. Все циники. Им всем все равно. Они просто не смогут понять того, кто не захочет поступиться. Им это покажется мальчишеством, бравадой ”. Показался он мне страшно измученным, но абсолютно непоколебимым. В том, что он говорил, не было колебаний, вопросов, возможности для компромисса он перебирал, но так, чтобы сейчас же их отбросить. Метался по комнате, не видя ее, как слепой, брал какие-то книжки, письма, вертел их в пальцах, откладывал, так и не поняв, что именно держал. И, несмотря на это, был как всегда утонченно деликатен, вежлив, мил. Сказал, что за всем происшедшим видно Герасимова. Уверен, что лобызая его, Герасимов сыграл на всех клавишах в пределах доступной ему клавиатуры, чтобы заподозрить фильм. “Это самый доподлинный Сальери!" Значит вы Моцарт? Засмеялся: “Ну, не я, а искусство. Он же умен и в глубине души знает, что без-дарен. Поэтому полон ненависти. Если бы он не был так умен, то не понимал бы, как мелок в искусстве, и не корчился бы так от ненависти. Главное в Герасимове — жажда власти. Для нее он, улыбаясь и произнося самые высокие слова, вытопчет вокруг себя все”.
1968 год, 5 января: “Лариса говорила Ольге, что Тарковский ее тревожит. Ей кажется, что он даже по временам заговаривается. Безнадежность, неразрешимость ситуации гнетет его настолько, что он иногда кажется ей ненормальным. И при этом все время делает вид, что спокоен, острит, непрерывно движется, много пьет и не напивается ”.
Ноябрь 1973 года. Запись сделана после смерти Кочетова, описание которой в дневнике заканчивается словами; “В нем еще раз умерло то, что умерло в 1953 году”. И далее: “Почему-то вспомнил, как Тарковский навестил меня в Кунцево (больнице — О. С.). Он был очень поражен статьей Урбана (о “Солярисе” в “Искусстве кино” — О. С.), ее глубиной, ясностью; много говорил о ней и сказал: “Язнаю, что вы меня любите. Ия тоже понимаю вас до конца, когда мне что-нибудь говорят о вас другое, я машу рукой — никто вас так не знает, как я. А о новом фильме сказал, что знает до мелочей, как надо его снимать. Но 31 октября, на вечере по случаю моего дня рождения, говорил, что весь фильм рождается заново, на съемочной площадке, что, оказывается, ничего из надуманного ранее, не пригодилось. Очень восхищался Тереховой, глубине ее интуиции ”.
Речь шла, понятно, о “Зеркале”.
Вот так, следуя записям, можно представить себе, как обстояло дело в те времена, когда, как видите, особой нежности к своим коллегам Тарковский не испытывал, справедливо или несправедливо, полагая одних продажными, а других не слишком талантливыми. “Рублев” был одной из первых картин, положенных на полку. Но Андрей никогда не отождествлял себя и свою судьбу с судьбой своих коллег, не ощущал духовного родства только на основании общих гонений и запретов. Если Тарковскому не нравились картины, а ему не нравились ни “Июльский дождь”, ни “Дневные звезды”, ни позднее “Скверный анекдот” Алова и Наумова, то он нисколько не волновался по их поводу, никак не сопрягая с ними свою собственную творческую судьбу.
“Представляешь, встретил Поллоку, а он мне говорит, что его картина тоже лежит на полке... Нет, представляешь себе это “тоже”, а? Совсем все с ума сошли”... Так что, когда “Книга сопоставлений” оказалась в издательстве “Искусство”, то одной из претензий рецензентов было отсутствие в ней контекста с развитием советского кино. Справедливо, так как, кроме “Земли” Довженко, Андрей более ничего не упоминал, полагаясь на другие, заморские авторитеты киноискусства...
Постепенно и только уже на Западе обнаружилось его серьезное отношение к Иоселиани. Только после заключения Параджанова в тюрьму, воспринятое им с огромной горечью, прорезалась любовь Тарковского к его кинематофа-фу, который, по существу, был ему чужд, и прежде мы много говорили о раздражавшей его “помпезной символике”. Рад страниц “Книги сопоставлений” написаны в скрытой полемике с его образностью. Так что в число мастеров, интересующих Тарковского, Параджанов был вписан им только осенью 1984 года. Надо заметить, что еще в Москве Тарковский с умилением и печалью показывал мне коллаж, присланный ему Параджановым из тюрьмы по поводу кончины Шукшина. Помню кусочек березовой коры, приклеенной к картонке, символизирующий гроб.
На моей памяти Параджанов был также единственным человеком, которому Тарковский что-то подарил, в данном случае свой перстень с алмазом. По словам Тарковского — в Армении, в тюрьме. По свидетельству Катаняна — у него дома, перед отъездом в Италию.
Но, Боже мой, как меня удивило некоторое, мягко говоря, своеобразие заглазных отношений этих двух титанов, ваятелей новых художественных реальностей...
Я виделась с Параджановым на кинофестивале в Роттердаме, когда ему впервые удалось выехать за границу. Он сидел у себя в номере, в толстом байковом нижнем белье и среди всего прочего рассуждал о том, что алмаз в подарке Тарковского оказался фальшивым, заявив до этого журналистам, что он собирается снимать фильм о Рублеве. Некоторое недоумение журналистов по этому поводу он немедленно “рассеял” заявлением: “А что мог рассказать о Рублеве этот мальчик Тарковский? Что он вообще для этого пережил в жизни и не мало ли для этого перестрадал?”...
Повторяюсь, но сам Тарковский глубоко сочувствовал арестованному Параджанову. После знакомства с ним был безусловно и всегда под огромным обаянием его личности... но кроссворды его символики раздражали его, как шифровка, дезавуирующая бездонность подлинного художественного образа.
Тарковский также никогда не отождествлял себя с диссидентами, чурался всякой политики и художников, группировавшихся по общественно-политическому признаку. Недаром он так любил повторять, что “люди собираются вместе только, чтобы какую-нибудь гадость совершить”. Потому он так не любил “все эти фиги в кармане”. Тарковский был рыцарем “чистого искусства”, считая его равно далеким от повседневности и политических склок. Хотя...
Удивительно, но эскапизм ему тоже был несвойственен. Он всегда оставался русским патриотом (вне вульгарности этого термина), полагавшим себя вполне серьезно “советским художником”, то есть прямые “антисоветские” настроения были ему чужды. К тому же в своих общественных воззрениях он был слишком интеллигентен, чтобы только восхищаться западной цивилизацией.
Положа руку на сердце, за 20 лет работы с Тарковским я могу припомнить лишь отдельные фильмы его коллег из родного Отечества, которые бы ему понравились. Упоминавшийся уже Иоселиани занял особенно прочное место в его ценностной шкале только после фильма о французских пастухах, который он увидел на фестивале в Роттердаме. Он очень высоко оценил “Одинокий голос человека” Сокурова. Более ни одной из его художественных картин он уже не увидел. Кроме того, помнится, что ему понравился фильм Германа “Двадцать дней без войны”. Вот и все. О резкой перемене точки зрения Тарковского на фильм Панфилова “В огне брода нет” я уже писала, потому что поначалу фильм ему очень понравился.
На самом деле я думаю, что вкус его менялся по мере развития собственной эстетики, а потому с течением времени некоторые имена исключались из списка любимых, а иные вписывались. Не только из области кино. Интересно, например, что вначале Андрей называет образцом чистейшего искусства “Сикстинскую Мадонну” Рафаэля. Однако, после того, как “Андрей Рублев” решается им в форме фрески, без традиционного главного героя и вне обычного сюжета, то Рафаэлю решительно предпочитается Карпаччо, в чьих композициях нет места главному персонажу.
Так называемое современное ему советское искусство, даже в лучших своих образцах, было ему, как правило, чуждо. Такие кумиры тех лет, как Евтушенко, Вознесенский, а позднее Любимов оставляли его глубоко безразличным. Для него все это было слишком публицистично, слишком завязано на политику. Не было у него родственных чувств к большинству своих соплеменников.
Что же касается “мысли довериться мастерам”, которая, как пишет мой отец в дневнике, показалась Тарковскому “отвратительной”, то речь идет о том времени, когда в начальственных кругах вызрела мысль, что фильм не является собственностью режиссера, а принадлежит киностудии, которая в случае упорства автора имеет право передоверить переделку фильма другому компетентному и признанному мастеру. Таких случаев в действительности было мало. Но, собственно говоря, именно это произошло с фильмом Параджанова “Цвет граната”, переданного “на доработку” Сергею Юткевичу.
Но тогда эту идею собирались впервые испробовать на Тарковском, и, естественно, сама мысль, что его “Рублева” могут отдать кому-то на переделку, сводила его с ума. Но — и здесь нужно отдать должное стараниям Ларисы Павловны, готовой на интриги не только по злому, но и по очень доброму умыслу — к этому моменту ее совместными стараниями с Машей Чугуновой и Тамарой Огородниковой эталонный вариант “Рублева” был уже скрыт в таинственных недрах “Госфильмофонда”.
Специальное место в горестной судьбе “Рублева” Тарковский отводил Сергею Герасимову. Я не знаю, откуда Тарковский получил информацию, что именно Герасимов, человек очень влиятельный в то время и “вхожий” в самые высокие кабинеты, вроде бы “в нужный момент” успел шепнуть кому-то “там” на ухо свои серьезные сомнения по поводу картины. То есть ее неожиданно запросили “на дачи” в тот неурочный час, когда картина уже была продана Госкино французскому прокатчику. То есть вся чехарда вокруг Тарковского началась неожиданно и, как будто бы “по наводке” Герасимова.
А столь резкое отношение Герасимова к “Рублеву” сам Тарковский объяснял душившей его завистью, ощущением, что однажды он перебежал ему дорогу. Это когда картина Герасимова “Люди и звери” была отправлена на конкурс кинофестиваля в Венеции вместе с дебютом Тарковского “Иваново детство”, отправленным вне конкурса, но завоевавшим Золотого венецианского льва.
* * *
Что же еще достаточно своевольно выхватывает моя память из того такого далекого московского прошлого, которое даже еще не предшествовало нашему отъезду за пределы любимой родины?
Ну, конечно! Я еще даже не коснулась деревни, то есть дома Тарковских в Мясном и их новой обители на Мосфильмовской, которая тоже заслуживает отдельного разговора, связанная уже со “Сталкером” и размышлениями о возможной эмиграции...
Расскажу пока коротко о твердом намерении Тарковских заиметь земельное владение, которое закончилось поначалу, как я писала, поражением в борьбе с тетей Саней из Авдотьинки. Но мечта о собственном доме в русской глуши была так страстна, что другая небогатая избушка все-таки была куплена на той же реке Пара, в нескольких километрах от Авдотьинки в почти опустевшей деревеньке Мясное. И тут Лариса занялась первоначальным благоустройством. Путь туда был нелегок вообще, а без машины тем более. Так что на денек не поедешь. Возвращение Ларисы в Москву, как правило, оповещалось звонком: “Олька, приходи. Я вернулась, деревенского сала привезла и гусиков будем жарить”...
Надо сказать, что гусей жареных я ела в своей жизни не часто, а если и ела, то каких-то неудачных. Но Ларисины “гу-сики” из рязанских деревенских хозяйств, были выше всяких похвал! Что там высокое произведение искусства?! Так что в моей памяти жареный гусь навсегда является только памятным “гусиком”, абсолютным чудом кулинарного искусства Ларисы Павловны!
Сало тоже было очень любимо и принято в этом доме, как рыночное, так и деревенское, рязанское тем более. Его, замерзшее, Лара резала тонюсенькими прозрачными пластиночками, а мне не сразу доверили резать чеснок, потому что надо было меленько-меленько...
Так и слышу теперь в ушах снова жалобу обиженной Ларисы: “Ну, вот опять! Оля! Ты пишешь обо мне всегда только, как о его кухарке, но”...
Ладно к дому в Мясном мы еще вернемся. А пока, возвращаясь на Орлово-Давыдовский...
Как я уже писала, в квартире этой почти никого из родственников Андрея не бывало, если не считать редких визитов Саши Гордона...
Я слышала, конечно, что время от времени Андрей навещал своего отца, но еще меньше слышала о его визитах к матери, жившей вместе с семьей Марины...
Но потому тем более незабываемым впечатлением остался один единственный, никогда более не повторившийся, а потому особенно знаменательный вечер. Это было время, когда Андрей только готовился к съемкам “Зеркала” или “Белого, белого дня”, как назывался этот фильм поначалу. Разрешение на постановку было уже получено. И вот на очередной день рождения 4 апреля были впервые приглашены в новую семью Андрея отец и мать, Арсений Александрович и Мария Ивановна. Родители не были знакомы до этого с Ларисой и даже внуком, которому было к тому моменту уже полтора-два года. Арсений Александрович был со своей женой Татьяной Озерской.
Боже мой, как много творческого и больного связывалось у Андрея с его родителями, сколько своеобразного было пережито и никогда не пережито, сколько духовных займов и долгов... Цитаты из отцовской поэзии — самая простая связь, лежащая на поверхности... Вот он “Белый день” Арсения Тарковского:
Камень лежит у жасмина. Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке. Белый-белый день.
В цвету серебристый тополь, Центифолия, а за ней —
Вьющиеся розы,
Молочная трава.
Никогда я не был Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был Счастливей, чем тогда.
Вернуться туда невозможно И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством Этот райский сад.
“Как был переполнен блаженством” тот самый “белый-белый день”, когда “отец стоит на дорожке”... С каким упоением, читая стихи отца, Андрей повторял: “После тех, кто уже умер, мой отец — единственный живой классик”. Даже Ахматову он почему-то не упоминал...
И в “Ностальгии” другая больная сторона любви, выраженная снова отцом: “Мать стоит, рукою манит, а подойти нельзя”...
Как он все-таки был ранен в детстве и ушиблен необратимостью жизни, суммируя опять жизненные итоги устами Сталкера, но снова стихом отца:
Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло,
Только этого мало...
И вот в Орлово-Давыдовском, наконец, оказались сразу и все вместе главные персонажи его жизни. То есть прежде всего самые драматически отдельные Мама и Папа (а не мама с папой), мысли о которых не давали ему покоя всю его несуразную жизнь, в которой бессознательно или сознательно он пытался воссоединить их — связать распавшуюся семейную связь. При этом своим собственным неудачным семейным опытом он только усугубил отягощавшую его самого родовую вину. И вот, наконец, единственный раз нашлось место в его новом доме тому столу, который хотя бы на одно мгновение объединил “и прадеда и внука”...
Мне кажется, что Тарковский всегда тосковал о Матери и Отце, никогда не умея с ними соединиться. Мне кажется, что он никогда не был близок с отцом на бытовом уровне, мне кажется они не могли стать близкими друзьями, связанными мужской дружбой. Близость была мечтой, но реальность разводила все дальше.
Мне удалось познакомиться с воспоминаниями Галины Федоровны Аграновской. Она вместе с мужем, блестящим журналистом Анатолием Абрамовичем, близко дружили с Арсением Тарковским и его женой Татьяной Озерской. Она вспоминает одну, видимо, характерную сцену, которую ей удалось случайно наблюдать.
У Аграновских было тогда два еще маленьких сына, и Галина Федоровна случайно встретила Арсения Александровича где-то у магазина Детский мир. Тот выразил дикий восторг по поводу внезапной встречи и захотел немедленно купить подарки ее детям. Как ни странно, в магазине у прилавка они также случайно встретили совсем молодого Андрея Тарковского. И Галина Федоровна заметила, каким горьким взглядом следил этот “взрослый” сын за покупками своего отца подарков ее детям. Было ясно, как мало был сам Андрей избалован им... Как тяжело ревновал и страдал...
Андрей вырос с тех пор, но всякий раз после его визита к отцу, где он порой встречался также с сестрой Мариной, Лариса непременно говорила тоже с особой ревностью: “Ну, конечно, они с ним поговорили... Ну хотя бы когда-нибудь они предложили ему хоть какую-то реальную помощь, а? Такие они там все бесчувственные, ужас! Да, никому он там не нужен”. Не берусь судить, где правда. Скорее всего ее нет. Но у Ларисы были самые глубокие основания не любить их — слишком разными людьми они были — но какая-то доля правды, очевидно, была в ее словах, правды, которая возвращается к Андрею тем же самым вопросом: а что сделал он сам, чтобы помочь вырасти и встать на ноги своему первому сыну, с которым встречался изредка? Позднее старший сын Арсений начал появляться в их доме по праздникам.
Так что во всех отношениях тот вечер был совершенно особым, и Андрей был в том особом состоянии, которого я больше никогда не наблюдала у него ни до, ни после... Все было странно: бабушка и дедушка впервые рядом со своим внуком, которого они раньше не видели. Впервые в доме, где сын их живет уже несколько лет. Впервые вместе за столом с Ларисой, ее дочерью и ее матерью. Тем более, что, как мне показалось, вне этого конкретного события Мария Ивановна как будто бы вообще нечасто встречалась не только с супругой Арсения Александровича, но и с ним самим. То есть так или иначе, но крайнее напряжение прямо-таки вольти-ровало в воздухе в каждом движении, в каждом слове...
Сдержанная Мария Ивановна, тушившая одну папиросу за другой, почти не смотрела на Арсения Александровича и его супругу. Казалось, что любовь ее к отцу своих двоих детей жива и никак не угасла в сердце, невзирая на возраст и долгое время, оставшееся позади. Худенькая, небольшая, строгая, уже чуть согнутая старостью, просто, если не сказать, бедно одетая, с пучком собранных сзади седых волос.
Татьяна Алексеевна Озерская выглядела совершенно иначе — дамой гораздо более светской и холеной. Дамой типичной для ЦДЛ или писательских Домов творчества. Кстати, она и была известным литературным переводчиком. О ее, кажется, замечательной жизни с Арсением Александровичем я в сущности ничего не знаю, но в тот вечер у меня возникло отчетливое впечатление, что комбинация этих троих людей, спровоцированных Андреем собраться в тот вечер за одним столом, сложилась в этом составе лишь вынуждено и случайно, один раз, и больше уже никогда не повторится...
Андрей — всегда достаточно нервный и легко возбудимый человек — в тот вечер был по-особому взвинчен и точно наэлектризован сверх всякой меры.
Естественно, что в соответствии с Ларисиной традицией, мы сидели за столом особенно перегруженном по такому случаю всякими разными блюдами — не ударить же в грязь лицом перед новыми родственниками! Сам Андрей говорил в тот вечер тоже по-особому значительно и почти без остановок. Он будто бы сам внутренне содрогался, произнося каждое следующее слово. Будто бы сейчас можно было использовать шанс перекроить всю жизнь, которая словно решалась заново здесь и теперь.
К матери он обращался меньше, произнес за нее велеречивый тост, и восклицал несколько раз с какой-то детской экстатичностью: “Мама, нет, ты еще не представляешь — я привезу тебя на наш хутор. Там сохранился фундамент дома, в котором мы жили, и на этом фундаменте я выстрою точно — понимаешь меня? точно! — точно такой же дом, в каком мы жили... Наш дом... И тогда только я привезу тебя туда... И ты его сама увидишь, сама проверишь и посмотришь, правильно ли я все помню... И, если будет нужно, если я в чем-то ошибся, то мы, конечно, поправим... Вот ты увидишь — это будет наш дом! Понимаешь?”
Эта возможность демиурга, перевоссоздающего реальность в кино, неподвластную времени, захватила его целиком — возможность отстроить заново и воспроизвести как бы навек свое собственное прошлое, перевоссоздать его во всех материальных приметах, воспроизвести точно собственную память, вернуться туда, куда никому возврата нет... А он вернется... Это была игра, похожая на калейдоскоп: новыми средствами собрать старый, живущий по тем же законам рисунок. Андрей был в упоении от этой возможности...
Но более всего в этот вечер сын обращался к своему отцу, которого он, с одной стороны, откровенно боготворил, а, с другой стороны, всю жизнь мучился безответной, сиротливой любовью к нему, болезненно-ревностной, невысказанной, никогда не простившей его предательства. Но отец снова оставался для него тем идеалом, законность родства с которым постоянно требовала для него самого нового и нового подтверждения! Наблюдать это было волнующе больно...
Мало того, что Арсений Тарковский был замечательным поэтом, он был еще и на редкость красивым человеком, отчеканенным редким благородством породы, почти случайно затерявшейся в совдеповской толкучке. Эдакое редкое специальное поштучное производство Господне. Так что было еще по-особому ясно, почему Мария Ивановна, оставленная им так давно, обращаясь к нему, называла его только “Арсюшенька”, что без лишних слов, увы, многое обнажало... С ним было трудно сравниться и трудно расстаться...
А сам Андрей, как будто “пластался” перед отцом, надрываясь в уверениях, которые, наверное, готовились им всю жизнь, чтобы провозгласить их вот сейчас, воспользовавшись этим уникальным застольем. Андрей многократно и почти надсадно внушал отцу самое интимное признание в любви: “Папа, ты должен знать, что здесь, в этом доме все принадлежит тебе! Здесь все создано только для тебя... Папа, ты здесь хозяин! Моего старшего сына, твоего внука зовут Сеня, то есть Арсений! — это же в честь тебя, папа! Ты должен знать, что и это все здесь создано только в твою честь — ты должен знать, что и здесь тебя любят! Пойми! Вот твой младший внук Андрей — это тоже твое!”...
Трудно вообразить, каково это было слушать Марии Ивановне...
С одной стороны, весь этот вечер был какой-то странной и горестной попыткой поправить и пережить набело свершившуюся уже жизнь, обманувшую Андрея с самого детства. А с другой — было ощущение, что Андрей находился в предвкушении возможности громко заявить о себе в этой семье новым фильмом, таким образом заверив в своем полном соответствии своему отцу. У меня даже возникло ощущение в этот вечер, что не только “Зеркало”, но, может быть, всё творчество Адрея было спровоцировано болезненным желанием заявить своему отцу о самом себе, незаслуженно недополучившем от него внимания... Как неожиданная для отца награда и выстраданная сыном месть. Во всяком случае, он обещал снова: “Папа, рот ты увидишь, что это будет за фильм! Вы все увидете!”
Помнится еще застенчивая фраза Марии Ивановны в конце вечера, сказанная на каком-то легком выдохе, точно растворившаяся в дымке ее папиросы: “Ах, Андрей, все это так нескромно... Дал бы ты нам сначала хоть умереть спокойно”...
Как хорошо, как незатейливо, как правильно было сказано! Как мне понравилось! Мне кажется, что Арсений Александрович тоже чувствовал себя не совсем ловко, пытаясь мягкой шуткой сгладить пафос сына...
Забегая вперед, скажу, что Андрей своего добился: думаю, что на премьере “Зеркала” в Доме кино отец впервые полностью оценил своего сына. Он не мог скрыть своего волнения, своего восхищения, какими удивительными снами полнилось детство его сына, может быть, его жизнь... Сидя после премьеры за банкетным столом в Доме кино, он тихонечко повторял и глаза его время от времени увлажнялись: “Андрюша, неужели все это было так?... Я этого не знал... Господи, какой же ты...” И, наконец, произнося тост, сказал слова, наверное, самые дорогие для его сына: “Андрей, я пью за тебя! Ты сделал замечательную картину о том, как в ребенке рождается художник. Я не думал, что ты так глубоко все воспринимал”...
Что касается Марии Ивановны, то, как известно, она снималась в “Зеркале”, бывала на хуторе и после того памятного вечера стала довольно регулярно появляться в Орлово-Давыдовском, пристанище своего сына и нового внука. Вела она себя всегда сдержанно-деликатно, но межсемейные отношения по-настоящему далеко не заходили. Чаще я видела, как она разговаривала с Анной Семеновной.
Но, может быть, тот вечер на свой лад по-настоящему венчал все другие события на Орлово-Давыдовском.
Уже гораздо позднее помнятся разговоры в доме Тарковских, что Мария Ивановна тяжело заболела. При упоминании об этом Андрей замолкал, напрягаясь, чуть склонив голову набок. Желваки на лице его резко обозначались тогда типичным для него нервным прикусом. Пальцы двигались быстро, как будто разминая крошки по столу и, отрывисто вздохнув, он резко уходил к себе.
Мария Ивановна умерла от рака легких, незадолго до отъезда Тарковского в Италию. Лариса в это время была в деревне, и, по рассказам Андрея, мать скончалась тихо у него на руках — он видел, как последняя слезинка скатилась по ее щеке...
Но и по этому поводу Лариса имела свою версию, изложенную мне в Италии.
А с Арсением Александровичем, пережившим потом своего сына, я встретилась еще один раз при специальных и драматических обстоятельствах, о которых речь впереди...
* * *
Помнится еще кое-что домашнее со съемок "Зеркала” в Тучково. Там летом, неподалеку от съемочной площадки в деревенском домике с верандой разместилось все семейство Тарковских, с Тяпой, Лялей и Анной Семеновной. Так что, возвращаясь со съемочной площадки, Андрей попадал в родной круг своих чад и домочадцев, которые никогда не мешали знатным попойкам опять же, как в далекой Авдотьинке, на съемной верандочке...
Надо еще раз заверить читателя, что примерной трезвостью я отнюдь не отличалась, но тем не менее даже для меня разгул был чрезмерен. Именно там случилось, например, пробуждение, которое вызывало тошнотворное чувство. Тем утром я раскрыла глаза на тучковской верандочке, вынырнув из отвратительно вонючей темноты ночи, впервые задумавшись о том, что так и в таком виде мне это не слишком нравится. А как же тогда нашему Маэстро? Зачем ему тоже такое вот, если мы его спасаем? Я то здесь не навечно, а он? Если рядом со мной громоздится стол замызганный, мерзкий и неубранный с вечера, к тому же отвратительно провонявший по летней жаре недопитыми напитками, объедками разного рода блюд, от частиков в томате до колбасы, с затушенными в них окурками... Все плавилось под едва восходящим солнцем в едином обонятельном и зрительном образе и наводило на мрачные мысли...
Гулять-то мы гуляли и раньше, но раньше Лариса стремилась придать всему этому человеческий вид. А теперь? “По-пьянке”-то, вроде как все бывает. А все-таки этот рассвет запомнился мне по-особому, потому что в усталую голову влетела вялая, но определенная мысль — это еще что-то новое, не то... Лариса позволяет себе что-то другое... К тому же в голове снова звучали неоднократно вчера повторявшиеся Андреем выражения восторга рыжей красотой Ляльки, странные, игривые намеки на какое-то будущее и на строгости, в которых он будет ее воспитывать... Все вместе, коротко говоря, сливалось в какую-то рвань...
К тому же весь экстаз семейного счастья пламенел за кулисами, не слишком зашторенными от всей съемочной группы. Тогда рабочая площадка оказалась уже ареной борьбы Ларисы со своеволием непокорного супруга. О взаимоотношениях госпожи Тарковской с Тереховой я уже кое-что рассказала. Так что положение в целом показалось мне на этот раз только что приятным, а не приятным во всех отношениях. Впервые что-то настораживало в атмосфере самой работы, чего на “Солярисе” еще не было.
Но в сущности кого, как не мать, жену и любовницу олицетворяла Лариса в жизни Андрея к тому моменту? Ее бытовой образ постепенно начинал превалировать надо всеми женскими персонажами Тарковского. В этом смысле удивительна героиня “Ностальгии” — крупная (крупнее героя!), с длинными, по-деревенски сильными ногами, всегда на высоких каблуках, в костюмах фирмы “мама” — “рыжая”, как называет ее 1орчаков в минуту ее самой высокой оценки, хотя она яркая блондинка... Оттуда же все это... От Ларисы и ее дочки Ляли, которая с самого начала производила на него слишком сильное впечатление... Лариса — простоволосая блондинка. Лялька — действительно, ярко рыжая с вьющимися волосами, стройная, немного сонная девочка-подросток с припухшими губами — “рыжая такая... у нее все время губы трескались”...
Мать и дочь в его восприятии, увы, достаточно определенны. Каким ревнивым домостроем с самого начала и потом дышали запреты Андрея, ограничивавшие свободу подрастающего подростка: не сметь приходить поздно, всегда во время быть дома, ни с кем “не болтаться”... Сколько раз, когда Лялька была еще девочкой, Андрей под сурдинку, мечта-тельно-заговорчески повторял: “ничего-ничего... Вот Лялька подрастет... Посмотрим... Нет, ты видишь, какая девочка”... При этом удивительно, что Лариса не сопротивляясь очевидному, а как будто гордилась... Удивительно, но ревность отступала перед семейной клановостью — свои лучше, чем чужие... Прямо что-то такое древнее, деревенское — свой сор в своем доме, а не за порогом...
А пока в сценарии “Зеркала”, когда Андрей еще собирался сниматься в картине сам и снимать свою собственную мать, образ жены Автора не оставлял никаких ласкающих слух сомнений в прототипе: “Она спит на расшатанной кровати с подзорами до самого пола. Лицо ее покрыто веснушками, рыжие волосы сбиты в сторону... Лицо ее, осунувшееся от забот, бледно, под глазами морщинки, которые ее старят и делают беззащитной и до боли дорогой... Даже во сне она прислушивается к враждебной тишине чужого дома и несет свою тяжелую и неблагодарную службу — охраняет меня от опасностей, которые, как ей кажется, подстерегают меня на каждом углу”... Какое поразительное признание в любви! Какой точный портрет, внушенный Ларисой и им написанный! Нет, она была гением мистификаций, которые Андреем пестовались и в то же время все более последовательно преодолевались... Действительность и мечта — “ста низких истин нам-дороже нас возвышающий обман”... И все-таки реальная роль, доставшаяся Ларисе в том же “Зеркале” полностью антагонистична любимому идеалу...
А идеал снова провозглашался в сценарии: “И женщину мы себе выбираем, чтобы любили нас, как раньше — ни за что, ни про что, когда только сберегать да защищать можно, как умеет”...
Но это с одной стороны, а с другой, особенно, когда родился Тяпа, сколько раз Андрей, приходя на Ломоносовский, стоя на кухне рядом с моей мамой, неоднократно скороговоркой повторял ей: “Липочка, все-таки дети это ужасно... Семья... Они делают тебя беззащитным, уязвимым ужасно... Это так страшно, и ничего не сделаешь, а? Правда? Как будто тебя сковали по рукам и по ногам — вот, что это такое... Окружают! Окружают! Караул! Ужас! Ха-ха...”
Помню, как незадолго до окончательного отъезда в Италию, на каком-то дне рождении, когда присутствовала Марина, как всегда взволнованная, замкнутая и отстраненная (снова скажу, что редко бывая там, она никогда не становилась своим человеком в новой семье Тарковского, посвященным в какие-то его сердечные тайны), Андрей высказывал сестре какую-то глубинную, затаенную боль: “Вы с мамой всегда чего-то от меня хотели, считая, что я сильнее вас, а я между прочим был самым слабым в семье, но вы этого никогда не понимали”... Какими чужими друг другу казались они в тот момент... Зато глобальное извинение было принесено в “Зеркале” всем близким, многого от него не дополучившим — мол, простите, люди добрые...
С Мосфильмовской...
С вынужденными отступлениями из-за прихотей памяти...
Со съемок к съемкам. От адреса к адресу. Новое место жительства Тарковских связано в этом контексте со “Сталкером”, на съемках которого постепенно становилось ясно, что Лариса сводит до минимума даже производственные контакты Андрея и обезоруживает его, насколько у нее получается. Атмосфера съемок сгущалась все плотнее...
Надо сказать, что на “Сталкере” впервые возникло отчетливое ощущение, что характер Андрея все-таки тоже меняется не в лучшую сторону. Если раньше, работая, он с благодарной нежностью говорил о каждом своем сотруднике или соавторе, о М.Ромадине, Н.Двигубском, В.Юсове или Г.Рерберге, то теперь Лариса могла порадоваться плодам трудов своих. Он стал подозревать всех и каждого в отсутствии искренности и в желании “заработать себе на нем деньги”, то есть поживиться за его счет. А все почему-то должно было принадлежать только и исключительно ему самому.
Ссора следовала за ссорой. И точно также, как он поссорился с Рербергом, еще раньше он порвал отношения с художником-постановщиком А.Боймом, обвинив его в том, что он пришел пьяным на съемочную площадку...
Рерберг после неясной для меня истории с браком отснятого материала оказался теперь совершенно распоясавшимся “пьяным хамом, с какой-то очередной девкой”... И то, и другое, наверное, было правдой, но... Эка невидаль на Мосфильме! Хотя Андрей никогда не терпел никакого, пьяного или трезвого, матерного панибратства... Тем не менее с кем-то ведь нужно было работать, а речь все-таки шла не о простых технических работниках хорошей квалификации, которые, кстати, тоже в работе не помешают...
После закрытия первого “Сталкера” Андрей, как известно, болел, то есть, по словам Ларисы, перенес микроинфаркт... Честно говоря, я до сих пор сомневаюсь, что с ним было на самом деле — потому что лежать с инфарктами дома при советской действительности было не совсем принято. Может быть, были первые сигналы уже затаившейся страшной болезни? Но об этом, конечно не мне судить. Тогда Андрея оскорбили в Союзе кинематографистов, отказав в бесплатной путевке в Дом творчества, которую он попросил впервые... Это его очень ранило и этого он не забыл...
Действительно ужасно или, как минимум, непонятно! В их ситуации бесконечного безденежья, о котором не уставала рассказывать Лариса, особого внимания заслуживает дом в Мясном, отстроенный постепенно на славу... Был ли такой дом по карману режиссеру? Или настойчивое намерение иметь дом во что бы то ни стало, заставляло его еще дополнительно напрягаться сверх всякой меры?... Об этом я, равнодушная к частной собственности, задумывалась всегда...
Как я уже говорила, тогда испугавшись серьезного сердечного приступа, Андрей совершенно перестал пить, стал “занудным” трезвенником, занимался медитациями, старался не есть мяса — то есть всерьез задумался о своем здоровье. Зато Лариса продолжала в полную силу ваять их жизнь, не только бытовую, по своему собственному усмотрению...
Съемочная площадка на втором “Сталкере” окончательно стала ее вотчиной, очищенная от многих независимых и самостоятельно мыслящих профессионалов. В операторскую группу был включен ее племянник Алеша. А правой рукой оставалась Маша Чугунова также как вновь появившийся Володя Седов, работавший ассистентом Тарковского на “Гамлете”, и кое-кто еще, о ком речь впереди...
Понятно, что без оператора было не обойтись. Так что место Рерберга занял в результате тоже замечательный мастер Княжинский. В подтверждение того, что вся атмосфера съемок фильма была крайне нездоровой свидетельствует история с другим оператором Леонидом Калашниковым, приглашенным работать после разрыва с Рербергом, еще до Княжинского. Я отлично помню невероятное и трогательное умиление Тарковского, когда он восторгался талантом, тактом и умом своего нового предполагаемого сотрудника...
При этом я была совершенно потрясена, узнав очень скоро, что Калашников почти сразу отказался от этого сотрудничества, как говорили, почувствовав слишком ясно тот специфический климат, который его совершенно не устраивал. Андрей очень болезненно воспринимал такие вещи и никогда больше об этом не вспоминал. Тем более, что до этого его “предал” Юсов, а отношения с оператором он очень ценил.
Вот как об этом рассказывает он сам в своем разговоре с Панфиловым в Риме, и очень показательны реплики Ларисы:
А. Тарковский: Юсов меня просто предал. Правда, ядол-жен был работать не только с ним, но и с его женой звукооператором, которая мне не нравилась. А она ему сказала: “Зачем тебе работать на Тарковского? Чтобы он потом ездил получал премии на фестивалях?” Ну ладно, это бабы, но когда он... оператор-постановщик, с которым мы уже работали, приходит на худсовет на обсуждение сценария “Зеркала” и просит, заглядывая в дверь, выйти с ним поговорить...
Лариса: Нет, Андрей, это было позднее, на запуске...
А.Тарковский: Да, он приходит в день, когда я должен был подписать акт о запуске...
Лариса: Именно, Андрей, поэтому тогда фильм не запустили...
А.Тарковский: Погодите, Лара, погодите! Тогда Юсов мне сказал: “Андрей, я не буду снимать твою картину”, то есть это было сознательное предательство, то есть сказать мне такое в такой день, то есть заявить, что у меня нет оператора, означало практически закрытие картины. Расчет на мой провал. Для того, чтобы попытаться выйти из положения, мне нужно было хватать немедленно первого попавшегося оператора. Но Бог есть! Ты знаешь, у меня вообще всегда при самых страшных обстоятельствах возникают какие-то неожиданные внутренние силы, и я, не моргнув глазом, говорю ему: “Ну, что же делать? Хорошо!” А он мне начинает какую-то лапшу на уши вешать вроде какого-то болгарина, чепуху лепить, понимая, что он оставляет меня в одиночестве. А я ему говорю только: “Хорошо, хорошо!”
Лариса: Нет, Андрей, вы ему сказали, что уже пригласили Рерберга...
А.Тарковский: Нет! Нет! Нет!
Л а р и с а: Ну, как же нет? Когда в этот же день...
А.Тарковский: Как я мог ему это сказать, если с Рербер-гом я еще не разговаривал?
Лариса: Нет, вы разговаривали! И я ему уже в этот момент звонила, и он ехал к вам — этот вопрос решался одним часом... Ну? Помните?
А.Тарковский (осененный): А-а-а! Да, “одним часом”. Бог есть! Я встретил Рерберга на студии до худсовета и спросил, что он сейчас делает? Надо сказать, что он уже давно был мне интересен как оператор. Мы с ним поговорили, что да как? И знаешь, как бывает с девушкой — возникла такая атмосфера, когда она ожидает, что ты ее пригласишь танцевать, а на свидание идешь к другой, понимаешь? Неловкость какая-то. Понравились друг другу на секунду, и я себе пошел на худсовет...
Г. Панфилов: То есть уже возникла такая внутренняя зацепка...
А.Тарковский: Ну, да... Поэтому Юсов стоит белый, ожидавший, видимо, что я упаду к нему в ноги и буду умолять не покидать меня. А я ему говорю: “Давай, давай, работай с болгарином... До свидания, а то меня ждут на худсовете”... А я тогда попросил худсовет подождать пару дней, пока я найду оператора...
Лариса: Нет, Андрюша, ну, честное слово, вы забыли. Когда начался худсовет, мне позвонила Тамара Огородникова и спросила: “Лариса, где Вадим? Его нет. Ищи его где хочешь, потому что сегодня последний день, когда мы можем подписать акт о запуске картины в производство”. Это все было связано с Ермашом и всякими денежными делами... Так вот, Глеб, как интересно получилось: после звонка Тамары я позвонила Вадиму домой, а его жена Ира говорит, что он в ванной. Я оторопела и спрашиваю: “Как так, Вадим, почему ты дома?” А он мне говорит: “Ты знаешь я не буду работать на этой картине”... Я первая узнала об этом и позвонила Андрею, а он сказал мне “Звоните Рербергу!” Я позвонила, и Рерберг приехал на студию...
А.Тарковский (sic!): Нет, Ларочка, вы простите, но я на студии сговорился с Рербергом, когда-Юсов сказал, что работать не будет...
Лариса: Правильно, он пришел на студию после моего телефонного звонка, и я уже знала, что он к вам поехал... А.Тарковский: (неуверенно): А-а-а, ну, понятно... Лариса (торжествующе): Вот как это было! Тут все минуты решали. Юсову идти от дома до студии 20 минут, а пока он шел, Гоша Рерберг уже ехал...
Позволю себе небольшой комментарий к этому типичнейшему разговору Ларисы Павловны с Андреем, которая, даже сидя дома, будто бы в каждой мелочи определяла его судьбу. Она могла так заморочить голову, что Тарковский путался совсем и соглашался даже с полной ахинеей. Если Тарковский говорит, что узнал об отказе Юсова снимать перед самым худсоветом, то как он мог успеть позвонить Ларисе с тем, чтобы она искала Рерберга, который ехал после ее же звонка, а Юсов еще шел... и т.д. и т.п. — все это было, конечно, всякий раз поразительно и за гранью всякой логики. Поэтому, полностью теряя эту самую логическую нить, ничего не оставалось, как только согласиться и поблагодарить Ларису Павловну за ее усилия. Так что Панфилов прав:
Г.Панфилов: ...отношения с оператором похожи на брак... Брак распался и все...
А.Тарковский: Конечно! Даже, если бы он оставался таким, каким был раньше, и то... Обратно уже нельзя, возврат возможен очень редко...
Г.Панфилов: Эта метафора, сравнение — очень точное, обоснованное. В отношениях этих действительно есть что-то интимное, очень сложное, капризное, ранимое, нежное... Может быть, в этих отношениях наш характер проявляется так же, как в отношениях с женщиной?!... А.Тарковский: Абсолютно так же: за операторами тоже надо ухаживать.
Лариса: Но вы юза ними слишком ухаживали... (имитируя Андрея): “Гошенька! Гоша! А как ты, Гошенька, думаешь, так или эдак”...
А.Тарковский: Потому что я знаю этого человека. Я его хорошо знаю. Он — хам, и если с ним обращаться иначе, он вообще ничего не будет делать — понятно? И тем не менее на середине “Сталкера” мне ему пришлось сказать, чтобы он убирался вон...
Л а р и с а: Да. Как он вел себя на “Сталкере”! Это страшно. Г.Панфилов:Я спросил Андрона, почему он расстался с Рербергом, а он мне ответил “Два гения на одной площадке слишком много... Рерберг считал, что все, что он знает и думает, безоговорочно гениально — вот и все!”
А. Та р к о в с к и й: Нет, как раз ничего точно такого у меня с ним не было.
Лариса: Такого, действительно, не было — наоборот: он очень слушался Андрея.
А.Тарковский: Было другое, может быть похуже, похуже... То есть на “Зеркале” все было хорошо. А вот на “Стажере”, когда пришел брак пленки, и я спросил у Рерберга, как могло такое произойти... Я спросил: “Почему ты не сделал пробу пленки до выезда на съемки в Эстонию?”... Правда, есть заключение технической комиссии, что виноват главный инженер студии. Но все-таки, почему Рерберг не сделал пробы? На что последовало возмущение: “Это не мое дело. Пусть об этом студия беспокоится, это их проблемы!” Я попытался вразумить его: “Послушай, но ты все-таки оператор, работающий на советской студии — тебе что здесь все принесут на блюдечке с голубой каемочкой?” Но он заявил, что это его вовсе на касается, так как “брак — вина тех, кто обрабатывал пленку”. Ну, а дальше и похуже: пришел ко мне поддавши, с какой-то “потаскухой” и разошелся при ней еще поболее: “Все, Андрей, хватит! Больше я с вами не работаю! Только за границей”... Ах, за границей? Ну, тогда и вали отсюда! Мы снимали в то время номер в таллинской гостинице, так он позвонил на следующий день, делая вид, что ничего не помнит. Но я попросил его больше не звонить мне и вообще забыть мое имя. Мы разошлись... Но зато работа с Кня-жинским, снимавшим потом нового “Сталкера”, пожалуй, лучшее время в моей профессиональной жизни в общениях с оператором. Какое это солнышко! Какой это нежнейший, интеллигентнейший человек! Какой верный! Доверчивый! Для меня Княжинский просто идеальный оператор!
Г. Панфилов: А у меня вот то же самое чувство с Калашниковым, понимаешь?
Но даже в этом контексте Андрей ни слова не говорит Панфилову о своей собственной неудачной попытке работать с ним. Так что, видно, осечка эта была для него непростой и болезненной!
Порвав отношения с А.Боймом, на втором “Сталкере” Андрей стал уже сам художником-постановщиком своего фильма. Лишние постановочные за эго ему, конечно, капали, но, увы, где его собственные художественные разработки, кроме одного эскиза?... А работать при такой ситуации было бы некому вообще, если бы не несколько обычных русских сумасшедших с сохранившимся пионерским сознанием, готовых работать день и ночь за себя и за того парня, как пелось тогда... Так что все эго выглядело как-то настораживающе грустно...
На втором “Сталкере” Андрей не пил совершенно, так что с “народом” не смешивался вовсе А поселила его Лариса вместе с собой в очень миленьком особнячке, подальше от служивого люда, завладев полностью сама рабочим пространством — ну, прямо-таки царствующая императрица. То есть, по-существу, Андрей оказался в изоляции с очень урезанным числом подлинных коллег-профессионалов. По большому счету только Княжинский...
Ларисино воцарение началось, правда, еще на первом “Сталкере”. На съемочной площадке — в наглую и беззастенчиво — укоренялись только “ее” люди. Поначалу она подставила Андрею, в качестве второго режиссера недавнего практиканта с высших режиссерских курсов Араика, который был ею очень примечен. Но он, к сожалению, ничего не соображал в кино и в кинопроизводстве, обрекая Андрея на одиночное плавание. Те, кто знают, что такое снимать фильм в условиях того времени, понимают также, с каким количеством съемочных проблем и организационных мелочей оставался бедный Андрей. Вокруг торжествовала любительщина, и Андрей сражался с ветряными мельницами, тратя на это уйму сил.
Поначалу Андрей взьерошено-деликатно присматривался к Араику, своему новому второму режиссеру, не умевшему ничем быть ему полезным — ведь второй режиссер подлинная голова всей практической, организаторской стороны дела. В больших постановочных работах без него воз с места не стронется. А пока такой Автор, как Тарковский творит, второй режиссер обеспечивает реализацию “великих” задач... Достаточно сказать, что вторым режиссером у Эйзенштейна был Александров... Куда там... Араик не петрил ничего... Андрей, нервно играя желваками, бросал грозные и вопросительные взгляды на Ларису... Зато главная задумка осуществилась: Араик слетел, получить на его место кого-то вдруг и сразу было сложно (не говоря о том, что хорошие профессионалы были на расхват, а студия, конечно, полнилась слухами) — так что Лариса (Лариса! Не скрою, что я была в ужасе даже тогда) заняла его место, оказывая очередную спасительную “помощь” Маэстро... Да-а-а... От такого “спасения” можно было однажды протянуть ноги...
Наконец-то Лариса, завладела штурвалом полностью, и я до сих пор не устаю удивляться, что из всей этой бури в стакане воды, все-таки выплыл “Сталкер”... Господи, сколько можно было бы сохранить Андрею сил, если бы... Если бы его по-настоящему беречь...
Мне кажется, что в это время Андрей уже совсем мало понимал, что же все-таки происходило в его окружении. Тем более, что все пили напропалую там, где присутствовала Лариса, которая пила в тот период тайком от него... Пока сам Маэстро оставался в одиночестве на Олимпе, в “поганом особнячке”, как называет свое обиталище Писатель в “Стажере”...
Самостоятельно Лариса выплыть, конечно, не могла бы. Чудес не бывает. Но ее люди в меру своих сил и возможностей служили ей верой и правдой, взваливая на свои плечи ее обязанности по частям и обеспечивая в то же время ее неумеренные возлияния. Араик оставался в ближайшем окружении, точно сообразив, кто здесь хозяин. Он, Володя Седов и неизменная Маша Чугунова — были в первом и постоянном эшелоне Ларисиных доверенных лиц. Они в первую очередь устраивали и покрывали ее пьянки, не считаясь с рабочим графиком, выполняя все разные поручения, приходившие ей в голову. Большую часть своих собственных обязанностей по работе на картине Лариса царственно передоверила Маше, которая старалась изо всех сил что-то сделать и как-то обеспечить весь съемочный процесс... Только так можно было хоть как-то помочь Андрею. Все пути вели через Ларису, но пользовались ими из вйсших соображений, желая и стараясь на свой лад как-то выволакивать картину...
Что касается Араика, то последние годы он практически стал доверенным лицом, членом семьи, почти поселившись у Тарковских, и не знаю под каким предлогом забросив свою собственную армянскую семью. Фактически он стал управляющим строительством и обустройством дома в Мясном, обраставшего верандой, сараем, комнатой для гостей и собственной банькой прямо у реки...
Мясное, сцены из деревенской жизни
Надо сказать, что как бы то ни было, но этот дом, достаточно точно воссозданный в “Ностальгии”, играл очень серьезную роль в жизни Тарковского. Я не знаю, откуда была у Андрея эта тяга к деревне как цитадели здоровой традиции, противостоящей цивилизации, еще сильнее укоренившаяся в нем с воцарением в его жизни Ларисы, кровь от крови этих мест. Но он придумал себе этот образ и обживал его, обожая “свой” дом-бункер, как будто укрывавший его от всяких горестей и городской суеты. Тем более, что дом этот постепенно усилиями Ларисы, которая вложила в это создание много сил разного свойства, превращался из лачуги в зажиточное именьице. Но самым главным было то, какими героическими усилиями и “без денег” воздвигала Лариса для Андрея это уединенное от мира великолепие.
Поначалу-то она купила (не себе, а Ему!) какую-то развалюху, уже сильно его умилявшую. Но с этой первой избушкой связана еще одна мистическая история — она сгорела прямо-таки точно также, как потом декорация на съемках “Жертвоприношения”. Они пережили шок! Что и говорить? Ситуация рисовалась не самой приятной... Последовала какая-то длинная тяжба с директором колхоза, который пытался воспрепятствовать то ли расширению дома, то ли яблоневого сада, раскинувшегося вокруг. Сейчас я уже с трудом вспоминаю причину пожара: то ли плохая печка, которую неправильно топили, то ли поджог, который они подозревали. То ли не дали взятку нужным людям, то ли сыграло роль специфически русское раздражение от чрезмерно расцветавшего соседского имения, “заслуживающего” уже своего “красного петуха”... Не помню, как и почему это случилось, тем более, что деревня эта была почти пустая, изумительно красиво раскинувшаяся вдоль Пахры, а вокруг только за далью даль...
Здесь после пожара пришлось отстраивать заною родовое гнездо, а отношение Тарковского к простому люду сильно ухудшилось после этого происшествия. Если поначалу всякое мужицкое слово и вдумчивая косолапость деревенского духа только умиляли его, то чем далее, тем более она вызывала раздраженное разочарование, сформулированное им, например, в Италии в разговоре с Панфиловым:
“Я очень люблю Бунина. Это был единственный русский писатель, который сказал недвусмысленную правду о русском человеке, крестьянине, о простом русском человеке, о “богоносце”... Ну, еще Чехов об этом говорил... Но ни Толстой, конечно, со своим Каратаевым по существу ничего не сказал на эту тему, ни Достоевский, ни Тургенев... Они все описывали идеализированных мужиков... Никто из них ничего в них не понимал... А как страшно обернулось для России это незнание русского мужика! А вина в том тех “знатоков” русской истории и русского народа, которые были переполнены так называемой “любовью” к нему. А вот Бунин как бы ненавидел русского мужика...
В двух словах хочу тебе напомнить один гениальный его рассказ, выражающий его понимание русского характера.
Сюжет следующий: в лесу живет совершенно обедневший и одичавший русский мужик. Он сторожит лес, следит за ним и живет по течению, потому что ему просто деваться некуда... Зима... Ему страшно, что однажды к нему придет грабитель и убьет его... Боязнь... Однажды он приходит со своего хутора в село... Как это называется? С хутора, с “кордона”? Приходит, чтобы специально распространить слух, будто бы он у себя в доме прячет деньги... Делает вид, что проболтался об этом по пьянке специально в присутствии известного вора... А затем уходит обратно с себе в лес, где живет крайне бедно — всего-то у него одна скамейка да окно, заложенное подушкой, потому что стекло давно выбито и туда наметает с улицы снег да грязь... Вернувшись домой, он берет свою берданку, заряжает ее патроном на медведя, просовывает ее через дырку в окне, привязывает к курку веревку, протягивает эту веревку в угол, где он сам скрывается, и сидит, ждет свою жертву псевдопьяного рассказа...
Грабитель, конечно, приходит, и этот нищий мужик убивает его из берданки наповал! Представляешь, какую нужно проявить изобретательность во имя совершенно фантастической цели, возникшей из его неполноценности и мании преследования. Его мысль направлена НЕ к тому, ЧТОБЫ РАЗБОГАТЕТЬ, но, напротив, — на разрушение и убийство! Не защитить себя при помощи созидания, а при помощи разрушения... А?.. Каково?.. Убийство, спровоцированное изобретенной идеей... И какая изощренная, я бы сказал, азиатская идея!”
Вот вам плоды деревенской жизни...
А пока в Мясном среди жалких лачуг обстраивался уже каменный дом с деревянными наличниками на окнах, огромной застекленной верандой и выскобленными добела дощатыми полами...
Надо сказать, что сама я была “девушкой”, хотя и свободомыслящей, но далекой от буржуазного или крестьянского практицизма, воспитанной по-коммунистически в глубоком небрежении и равнодушии к частной собственности.
Поэтому меня поначалу удивлял, а потом немного раздражал неуемно разгоравшийся “частнособственнический” аппетит семейства Тарковских. Рядом с Андреем мне лично мечталось только о “высоком”, для которого, по моим наивным понятиям, было вполне достаточно избушки, затерянной в русских далях, чтобы в ней скрываться от неприятностей и медитировать на фоне девственной природы. Но надсад-ность, с которой избушку перекраивали, оказалась, увы, не случайной, интересно заявив о себе в “западной” части их жизни, когда требовалась уже вилла с бассейном и желательно подсвеченной в нем водой...
Конечно, как думалось мне все более настойчиво с течением времени, “красиво жить не запретишь” в соответствии с потребностями... Но зачем же лезть из кожи вон, если для этого, в конце концов, нет денег. Как соизмерить тогда страсть к красивой жизни с бесконечными разговорами о безденежье и множившимися долгами? Как объяснить себе мечту о накоплениях у человека, призывавшего к бескорыстному служению искусству, не устававшему рассуждать о том, что истинное искусство не оплачивается. Страдавшего вместе со Сталкером о том, что “все ОНИ хотят, чтобы все было оплачено, каждое движение души”...
Тем не менее и как бы то ни было, но много прекрасных дней обозначилось и для меня в этой глухой безлюдной деревеньке с весьма символическим и многообещающим названием — МЯСНОЕ! Помню как сейчас, что, проехав сто километров за Рязань, слева оставалась еще сравнительно цивилизованная и плотно населенная деревенским людом Ав-дотьинка, а через несколько километров нужно было свернуть направо на проселок и катить, как мне кажется, два-три километра сквозь поля и леса... Это было чудесно! Но всякий такой выезд требовал машины, которой у Тарковских никогда не было... Хотя особенно мечталось заиметь ее после приобретения дома, и я помню времена, когда Лариса пыталась получить через студию списанный ГАЗик по дешевке за неимением джипа...
Я начала приезжать в Мясное, когда замечательное и не по-деревенски обширное здание частично уже было возведено. Очень трогательно выглядела выгребная яма, то есть, культурно говоря, туалет. Если повернуться к входу в дом спиной, то он располагался справа в некотором отдалении — точно миленький такой, свеже-отструганный скворечник. Дверь его была повернута в чистое поле и, наверное трудно поверить, но она была застеклена — настолько никого окрест не было. Так что это заведение, действительно, было превращено в комнату уединенных мечтаний, с медитациями на фоне природы. Все помещение изнутри было всегда отдраено добела...
Лариса любила чистоту, и все вокруг нее было по-купечески взбито пушистым, каким-то славненьким, почти что таким, как в том домике, куда в “Зеркале” мама с сыном понесли продавать сережки. Мечта голодного детства почти сбылась и воплотилась в сноровисто выскобленных дощатых полах, светлых комнатах, вкусных трапезах в обширном уютном доме... А вот по деревне, особенно с гостями, Лариса разгуливала прямо-таки в образе своей неплохо обустроенной героини фильма: все более по хозяйски, точно снисходительная барыня среди крепостных... Помню ее горделивую осанку и соответствующий разворот головы: “Дядя Коля, как там у вас с яичками, дадите? Курочку резать не собираетесь?” Мне казалось, что на ее интонацию должны выскочить и с придыханием, в пол-поклона, оповестить: “Как же, как же... будем вам любезны... натеть”... Это было смешно...
Но все это были побочные впечатления, по-особому для меня высветившиеся только позднее, а тогда в центре, понятно, оставался Андрей, счастье общения с которым продолжало превалировать надо всем остальным. Сколько мы там могли гулять с ним и с Ларой окрест, и я снова одаривалась его мыслями об искусстве, природе и вечности. Нам сопутствовала их овчарка, та самая, возникающая в “Ностальгии”, серая, большая, чуть прихрамывавшая, которую они взяли еще в Москве. Чудесная, добрая, умная, она, постаравшись, на самом деле умела вылаевать из своего собачьего горла “мм-а-мм-а”. Они этим очень гордились...
Сколько раз из этого дома мы совершали с Ларисой долгие пешие вылазки в сельпо в Авдотьинку... Прямо-таки по пыльной тропинке через колосящуюся пшеницу... Купались летом в реке, а зимой вечеряли в кабинете-спальне Андрея у камина, разжигая который, казалось, он священнодействует...
Отлично помню, как в момент какого-то особо полного откровения, разогретого еще жаром камина, Андрей снова говорил о том, что после “Зеркала” собирается бросить кино, поселиться в этом доме и писать, писать, писать... Но лежавшие у него в папке письма зрителей возвращали его обратно к реальности, к своей профессии и связанной с ней художественной и этической задачей. И он тут же радостно признавался: “Понимаешь... а все-таки очень сложно... я понял, что у меня есть свой зритель и я не имею права его предать. Если хочешь, после этих писем я ощутил свою миссию, свое предназначение... Поэтому я тоже точно знаю, что мне нельзя уезжать... Мой подлинный зритель здесь”... Потому как мысли об отъезде на Запад уже бродили, как в голове Тарковского, так и в наших мыслях...
Слева по реке, подальше от них жила, кажется, какая-то одинокая сельская учительница, к которой как будто бы приезжали летом дети и внуки. Но я их никогда не видела. Справа, довольно близко, жили старик со старухой, нежно мной любимые — уж, больно они были настоящими, деревенскими, и запахи у них в доме были, какими им полагается быть в настоящей избе... А совсем близко жила еще одна тетенька, неизвестно во что закутанная, помогавшая Тарковским по хозяйству и в холода, когда их не было, переселявшаяся к ним из своей халупы — приглядеть за домом...
Больше всего и дольше всего жила в этом доме Анна Семеновна с Тяпкой, тем более пока он не учился в школе... Помню, что зимой в доме было довольно холодно, потому что размеры его, не соответствующие обычной деревенской избе, трудно поддавались печному обогреву. В кабинете у Андрея был камин, который я уже упоминала, где коротали вечера только в его присутствии, и в целом от холода он не спасал... Кабинет Андрея с помощью все того же директора мебельного магазина Жени был обставлен уютно, по-господски, в стиле ампир. Справа в углу, вдоль стены стояла большая кровать красного дерева, прямо, поперек к стене — письменный стол, а напротив, в углу у окна, если мне точно помнится, стоял то ли книжный шкаф, то ли книжные полки... И никакого телефона...
Входить в дом нужно было через веранду после того, как она была пристроена. Затем через следующий порог сквозь весь дом до окна в противоположной стене располагалось просторное прямоугольное пространство. Там в конце к этому окну был приставлен большой квадратный стол из дерева со стульями по бокам. Первая дверь справа от входа вела в хороший квадратный кабинет со спальней — то есть к Андрею. А следующая дверь справа вела в большую светлую комнату в три окна для Анны Семеновны и детей. Точно такие три окна, какими они обозначены в “Ностальгии”.
Слева напротив дверь вела в большую кухню с печкой и керосинками. Кажется, потом провели газ... Позже слева от входа была прорублена еще одна дверь в пристроенную комнату для подраставшего Тяпки, использовавшуюся также для гостей, которых за неудобством сообщения бывало совсем немного...
С какого-то момента все это начал отстраивать да отлаживать по Ларисиным “накладным” тот самый друг семейства Араик. Он получал от Ларисы какие-то деньги, ожидал в деревне машины со строительным материалом, следил за работой и расплачивался. Периодически он просто поселялся там на длительные сроки. Но я почему-то никогда на задавалась тогда вопросом как, почему и для чего он все это делает? Все вокруг давно уже и всегда что-то делали для Тарковского в меру своих сил и возможностей. Так что ничего удивительного и в этих действиях не просматривалось. Просто Араик стал более других неотъемлемой частью этого семейства, не только помогая в Мясном, но и в Москве, сопровождая, например, Ларису за отсутствием Андрея, к нам в гости, на дачу, например, с маленьким Тяпкой.
Я помню довольно ясно один из такого рода визитов к нам на дачу, которую мы снимали тогда в писательском поселке, чтобы наш первенец Степка дышал свежим воздухом. А все, что сопутствовало тогда посещениям Ларисы, я воспринимала лишь как привычную, приятную и не обременяющую норму.
И тогда я совершенно не заметила, что, загуляв как-то у нас на даче в этом же привычном для меня составе, то есть с Араиком и Тяпой, а также в привычном для меня стиле, мы, оказывается, несколько удивили “культурное окружение” писательского поселка танцами, пением, несметным развалом жратвы, оставленной в садике на столе по пьяни на всю ночь. Но все вокруг знали, конечно, что Лариса жена таинственного Тарковского и проявляли к ней повышенный интерес. Тем более, что Лариса репрезентировала своего мужа в полной мере, чрезмерно и ежесекундно, провозглашая тосты о нем и от его имени, плавно переходя затем к песням и пляскам до упаду. Тем более, что Андрей этого не выносил, а потому я привыкла к такого рода душевному отдыху без него, полной оттяжке лишь с именем его на устах. Но кто мог знать, что не всем соседям или хозяевам дачи привычное для меня также привычно... Некоторые пребывали в каком-то недоумении, задаваясь к тому же странным для меня вопросом, а кто же такой этот шустрый Араик, чей это быстроглазый черноокий паж, супруги Маэстро или его наследника?
Да помощник он во всех семейных сложностях и неурядицах, облегчающий трудную жизнь! О, как презирала я тогда эту скучную видимость добропорядочности, эти гнилые перешептывания непонятно о чем — да, пошли вы... А вот мы, тарковские — таковские, и дело с концом...
До сих пор поражаюсь, какая же я была все-таки редкая идиотка, правда, вынужденная так неожиданно прозреть потом в Мясном. Андрей уже вовсе уехал в Италию, а мы с моим мужем поехали на пару деньков в Мясное, чтобы заодно подвезти туда Лару. У нас была машина, так что мы были сверхценными попутчиками. Встретили нас там Анна Семеновна с Араиком — поквасили иг полопали мы, конечно, как водится, неплохо и пошли прогуляться вчетвером. Вдруг слух мой резанули какие-то странные, несколько развязные интонации и словечки в обращении Араика к Ларисе, прямо-таки командные... Да, прямо поглядел он нам в глаза своими влажными маслиновыми очами, как бы хитро подмигнув нам, мол смотрите, что да как и кто здесь хозяин.. То есть ЗДЕСЬ? В наших, то есть “ИХ” священных местах, где однажды вечером под лунным светом нам с Ларисой и Андреем даже являлась-таки тарелка. Ух, как это было странно и захватывающе жутко тогда... Хотя в принципе я ни в какие тарелки не верю, но как-то вечером, в темном небе, вдали, именно здесь, в Мясном, перед нашими глазами в существенном отдалении возникло какое-то устойчивое плоское труднообъяснимое свечение. Мы стояли тогда, как зачарованные, веря и не веря своим глазам, не зная, как реагировать...
А теперь...
Я отказывалась что-либо понимать... Наступал вечер. Нам с мужем стелили постель впервые в новой комнате для гостей, а Араику почему-то Анна Семеновна начала стелить на полу в комнате Андрея прямо вдоль супружеского ложа, на котором, естественно, спала Лариса... “Я Араику с Ларой стелю, — как само собою разумеющееся, наклоняясь, бормотала Анна Семеновна, — она, знаете, какая нервная — боится спать-то одна, Тут, глядишь, и мышь пробежит”. Я ошалела — вот, оказывается, где место пажа — у ног госпожи...
Не стану утверждать, что до этого я считала Ларису ангелом. Как я уже рассказывала, был короткий и впечатляющий заход с Сосо Чхеидзе. Был более долгий тайный роман с красивым армянином с длинным лицом, проходивший в квартире у подружки Светы Бариловой, куда я приглашалась в гости. Но это все было еще до брака, от безнадежности ситуаций, в которые ее ставил Андрей, это была месть за незаслуженные муки, выпавшие на ее долю. То есть все еще до рождения Тяпы и законного супружества. Это были не измены, но мстительные попытки самоутверждения на фоне безутешного горя непризнанности... Но теперь???.. Какой ужас! Лариса, конечно, не ангел, но не в такой же степени? Нет. Видимо, в такой! Странно...
Я вспоминаю Тяпку в той же кровати красного дерева, в этом воспетом поэтом семейном ложе.
Очень смешно, но едва начал Тяпка подрастать, как я оказалась его первой любовью. Едва только я появлялась на Орлово-Давыдовском, как он почти не отходил от меня, требовал даже, чтобы только я подавала ему горшок, чтобы пописать. Я тогда курила во всю и Тяпка повелительным жестом указывал мне рукой в горшок: “Брось сигарету! Брось! Терпеть не могу, когда женщины курят”. Все потешались от того, что он называл себя “европеем”. И особенно Андрей гордился тем, что он рассматривал Босха и назвал “Сад наслаждений” своей любимой картиной. Помню, как однажды хохотал мой отец. Он тоже был в Мясном, когда Тяпка спросил Андрея, что такое марионетка? Тот стал вспоминать всю историю вопроса и начал объяснять из очень далекого далека. “А Тяпка стоит и, конечно, ничего не понимает, — рассказывал отец. — Я потом отвел его в сторонку и объяснил, что марионетка — это такая кукла с веревочками... Он все понял и был чрезвычайно удовлетворен... Ха-ха-ха! Нет, надо было видеть, как Андрей витиевато пытался ему объяснять... А Тяпка понимал все меньше”...
А когда как-то в отсутствие Андрея все укладывались спать, то Тяпка, изгнав Ларису с супружеского ложа, потребовал уложить с ним вместо матери меня, говоря: “И вот эту байковую рубашку не одевай. Одень, пожалуйста, какую-нибудь красивую”... Так что тогда тяпкиным пажом была я.
Помню, как мы с Ларисой и с ним брели пару километров в сельпо за какими-то продуктами через бесконечное душное поле и я полагала себя обязанной развлекать Тяпку всю дорогу рассказами. Помню, как Лариса вошла в магазин, а мы остались дожидаться ее на завалинке, и Тяпа, строго посмотрев на меня, сказал: “Давай помолчим и лучше послушаем тишину”. Мне стало просто стыдно за свой идиотизм, и эти события тоже были прибавлены потом к семейным рассказам о тяпкимой гениальности.
Тогда все это было так важно, и деревня воспринималась в контексте неземной чистоты и стерильности — так что до боли не хотелось расставаться и с этой иллюзией...
Как странно вообще все менялось в атмосфере вокруг Тарковского. Хотя с течением времени кое-что в его практической жизни менялось и к лучшему. Например, возвращаясь на Мосфильмовскую, надо заметить, что он получил там не одну, а две квартиры (2-х и 3-хкомнатные) рядом, на одной площадке в хорошем "кирпичном" доме, чуть в глубине от проезжей части улицы, прямо напротив студии. Большая квартира условно принадлежала Ларисе с Андреем, а маленькая — Анне Семеновне с Тяпой и Лялей. До самого отъезда в Италию Тарковские вели борьбу за право поставить перегородку на лестничной площадке, отгородив обе квартиры, которые они собирались соединить между собой, все перепланировать и перестроить в лучшем порядке... Но не успели до отъезда...
Арабский кабинет-спальня Андрея, переехали туда с Орлово-Давыдовского можно сказать в полной неприкосновенности. Зато постепенно прихорашивалась и обставлялась новой (старой) мебелью из магазина все того же Жени большая столовая. Эту комнату Андрей хотел "расцветить" купеческим стилем начала века, который был представлен замечательным массивным, дубовым, резным буфетом. Андрей обожал его и провел долгие-долгие дни, счищая с него лак до живого дерева — это было его любимое мебельное детище... Еще они успели сломать часть стены в этой комнате, выводящей в коридор, и выбелить стены, что по тем временам считалось хорошим тоном...
В ту же комнату был поставлен тоже массивный большой обеденный стол со стульями начала века того же стиля, что и буфет.
Все шло своим чередом, да не всегда в свой черед... Вспоминаю, например, один вечер, похожий на другие, но по-особому расцвеченный новыми деталями. Хозяин дома сидит, как обычно, во главе большого стола, заставленного блюдами, тарелками и рюмками сверх всякой меры. Совершенно трезвый Андрей держит в руке бокал и произносит длинный тост. Рядом сидит, увы, уже мало вникающий в его слова Николай Шишлин, замечательный человек, очень помогавший Андрею с отъездом за границу, но, к сожалению, сильно пивший. На другом конце стола остались, кажется, только мы с мужем, так как я никогда не решалась да и не хотела пренебречь хотя бы одним словом Маэстро... А говорил он тогда, как обычно, тост длинный и всеобъемлющий... Такой длинный, что не заметил даже образовавшуюся вокруг себя пустоту... Тарковский искренне удивился:
— Лариса, ну где же вы все?
— Андрюша, мы здесь, — не сразу расслышав, вплывает в комнату Лариса, сама невинность с широко распахнутыми глазами.
—Лариса, вы пьяны? — риторически вопрошает виновник торжества.
— Я? — голос Ларисы вздрагивает праведным негодованием. — Я? Ну, Андрей... Вот здесь ведь, вот — смотрите! — на столе стоит моя рюмка, которую я даже не тронула. Вы всегда хотите меня как-то задеть...
Пристыженный Андрей, глядя на рюмку, в сомнении замолкает. Но он не знает, что на самом деле творится в другой комнате, а именно в его кабинете, который с момента, когда Андрей назначил себя художником-постановщиком
“Сталкера”, был удачно оснащен заново купленным мольбертом, его всегда украшал один и тот же эскиз декорации павильона, куда попадает Писатель после “мясорубки”. Так вот, именно там, за священным и, увы, как мне кажется, единственным эскизом, прятались сменявшие друг друга без счета бутылки водяры с закусончиком, то есть родным соленым огурчиком. А Лариса, едва явившись на зов Андрея и устыдив его в подозрительности, снова ускользала туда, где гуляли свои люди — Маша, Володя Седов, Араик. Вернувшись, Лариса снова возглашала победоносно, кокетливо и заводно: “Мафия гуляет! Ребята, наша мафия гуляет!” и, хватая кого-нибудь из мужиков, пускалась в пляс в хмельном раже под не слишком громко звучавшую музыку...
Ну, чистая бандерша... Разгулявшаяся, опасная какая-то русская вольница рядом с национальной совестью... и все лживо... все из-под полы... Вот в чем дело!
Было горько, и становилось все более привычно снова участвовать в двойной жизни, видеть двойной быт, двойную мораль. Неужели Он всего этого, действительно, не знал, не подозревал? Или, может быть, не хотел знать? А как же тогда все возвышенное и высшие принципы? Или такова была расплата за возможность жить и творить? Или искусство отдельно, а жизнь отдельно за ширмой? И такая ширма его почему-то устраивала? А как же тогда Его рассуждения об искусстве, равном жизненному поступку?
Нет. Верно просто так, до конца и без потерь не получается. Потому что все-таки начинал и он постепенно меняться, поддаваться всему этому... И поддавался... Исподволь... Хотя у таких как я, Маша Чугунова или Володя Седов, другого выбора не оставалось. Либо жить рядом, смирившись со всем, либо уйти, затворив за собой дверь, как это сделал Калашников, едва переступив пространство съемочной площадки “Сталкера”...
“Стажера” все-таки сняли, несмотря на недостаток специалистов на этой картине. Помню, как на первом еще “Стажере” я возвращалась со съемок в Москву вместе с одним из ассистентов. Как она жаловалась мне тогда: “Знаешь, он совсем сошел с ума. Ну, просто издевается. То говорит тащите дерево в кадр, то требует, чтобы его немедленно убрали. То требует, чтобы мы синили листву, то кричит, чтобы серебрили ее. А тут выясняется, что чересчур, и он кричит, чтобы тащили новое дерево. Нет. Это невозможно. Он сам не знает, чего он хочет”. На следующем “Сталкере” этой женщины уже не было.
Так что все было непросто...
В итоге обязанности в съемочной группе были распределены приблизительно. Не хватало даже тех, кто мог бы в полной мере отдаться картине, выкраивая время для работы и успевая при этом обслуживать Ларису Павловну, которая никаким образом не могла занимать место второго режиссера, но уже занимала его. Правда, за ней же числилась основная заслуга в спасении картины — она привезла из Казани Рашида, определенного на должность ассистента художника... Именно он, непосредственно своими ручками и подготавливал вещный мир для изобразительного решения фильма Тарковского...
А почему вдруг из Казани появился этот замечательный человек? Тоже довольно интересно. Как я уже говорила, Лариса всегда жаловалась на свое здоровье, все больше на сердце да на отеки, часто грозясь умереть, но не связывая никак свои проблемы с алкоголем.
Я не помню почему и как она попала в Казань — может быть, поначалу поехала с Андреем на выступления для заработка — но задержалась там после него надолго, вроде бы проходя какое-то уникальное лечение. Впрочем, наверняка и лечение проходила тоже. О чем Андрей был осведомлен в полной мере. Помню, как часто разговаривал он с ней по телефону вечерами, чрезвычайно удовлетворенный тем, что здоровье ее улучшается, как она уверяла, не по дням, а по часам. Но о том, что она вытворяла, собрав вокруг себя как супруга Тарковского всю казанскую интеллигенцию можно только догадываться...
Там же она познакомилась с Рашидом, художником, который боготворил Тарковского, и, будучи допущенным к нему Ларисой, готов был “пахать” на него день и ночь. Я никогда не видела его за бутылкой, он не включался в нашу “общественную” жизнь, но вся живописная фактурная насыщенность кадра в “Сталкере”, замысленная Тарковским, на практике исполнялась именно им. Не знаю, сколько и что именно успел сделать Бойм. Но Рашид оказался той безотказной рабочей лошадью, на которую была взвалена вся работа с фактурами в кадре. Этот тихий, как будто незаметный, невероятно работоспособный человек, по-моему, просто жил и спал (мало!) в декорациях. “Рашид, Рашидик”, как любовно окликал его Андрей, был тем замечательным фанатом, который ради святого искусства был готов пахать изо дня в день: царапать и бугрить стены, наводить на них трещины, выкладывать мхи, “разводить” плесень, сажать и вытаптывать цветы, снова синить или серебрить листву — осуществлять на практике руками все то, без чего немыслим кадр Тарковского. И все тихо, в стороне ото всех. Именно с такими людьми, очевидно, и делается авторское кино. Тем более такое прихотливое, как у Тарковского.
На втором “Сталкере” у меня порою начинало возникать ощущение какого-то фантасмагорического бреда, поселившегося на площадке всюду — в отношениях людей и вещей. Это был какой-то пир во время чумы, единственной закулисной хозяйкой которого была Лариса. “Обслуга”, желавшая оставаться при Тарковском, трепетала перед ней, стараясь наперегонки угодить. Актеры роптали.
Гринько, как обычно, держался в отдалении. По-прежнему в сопровождении своей жены: на съемочной площадке он появлялся только для работы. А у Толи Солоницына, уже разведенного со своей первой женой Ларисой, еще на первом “Сталкере” возник роман с гримером Светланой, замечательной молодой женщиной, обожавшей его и родившей ему ко второму “Стажеру” сына Алешку. Так что на втором “Стажере” их поселили молодым семейством в затхлой комнатенке какого-то общежития, где запах табака и перегара мешался с запахом пеленок... Житуха у них там была нелегкая, но зато исполненная любви...
Отношения Тарковского с Кайдановским внешне выглядели нормально. Но на самом деле, казалось, что Саша разочарован, во всяком случае, он часто бывал очень раздражен. Они дружили с Толиком Солоницыным, и я много раз слышала, как они чертыхались вместе, а Саша неоднократно проклинал тот день и час, когда он связался с этой картиной, и всю ту “гадючную” атмосферу, в которой они снимаются.
Еще на первом “Стажере” помню эпизод, сильно разозливший Кайдановского. Как я уже говорила, машины у Тарковского никогда не было, но как-то рулить он умел и рвался к рулю с детским азартом. Кайдановский был из тех актеров, у кого уже была машина, хорошие Жигули. Андрей, пошучивая, влез в нее, желая чуть-чуть прокатиться. Саша не решился возразить, и в одну секунду Маэстро здорово врезался в дерево. Бампер и что-то еще существенно помялись. Машина нуждалась в немалом ремонте. Андрей смутился, конечно, начал извиняться и заверять, что ремонт он оплатит. Кайдановский пытался удержать хорошую мину при плохой игре. Но как только Андрей удалился, то он, ясно, начал проклинать его на чем свет стоит, понимая, что теперь влип еще и с ремонтом...
“Когда бы знали из какого сора растут стихи, не ведая стыда”...
А теперь, снова возвращаясь к Ларисе, надо признать еще кое-какие ее заслуги перед творческой судьбой Тарковского. Особенно она преуспевала там, где ей удавалось строить разного рода козни во спасение его искусства. Не каждая сумела бы, но Лариса могла проявлять также чудеса находчивости и героизма. В этой связи память возвращает меня к “Зеркалу”...
Отступление в Зазеркалье
Когда “Зеркало”, находившееся под большим подозрением у начальства, было почти готово, в Москву пожаловал директор кинофестиваля в Канне господин Бесси для официального отбора конкурсных картин. Но интересовал его к тому моменту по настоящему только новый фильм Тарковского. Его он хотел получить в конкурсную программу во что бы то ни стало.
К этому моменту Андрей уже собрал картину в окончательном монтаже, и речь шла только о доработках, вроде перезаписи звука... Но Госкино и Ермаш лично задолго и априори уже были решительно против того, чтобы “Зеркало” Тарковского репрезентировало нашу любимую родину за ее границами, как в Канне, так и на любом другом кинофестивале. Даже Сизов, директор Мосфильма, в силу своих возможностей старавшийся всегда помогать Тарковскому, оказывался на этот раз совсем бессилен, получив приказ свыше “держать картину и никуда ее не пускать не при каких обстоятельствах”.
Что же это означало в реальности? Не было возможности просто отказать Бесси в просмотре в сущности почти законченной картины — начальство опасалось открыто продемонстрировать дискриминацию Тарковского. Было велено, в том числе и самому Тарковскому, что, показав “материал” “Зеркала”, следует разъяснить Бесси, что при всех, конечно же самых “благих” намерениях, фильм чисто технически не может быть закончен, то есть не успевает к фестивалю.
Перед таким ответственным показом картины Бесси Лариса позвонила мне и попросила немедленно приехать на студию. Я прискакала, и Лариса объяснила мне под строжайшим секретом мою скромную, но “исторически значимую” задачу.
В данном случае я понадобилась Маэстро в силу своего достаточно скромного знания английского языка — таковых лиц в ближайшем и доверенном круге более не обнаруживалось. Итак, меня попросили участвовать в осуществлении вынужденной нелегальной акции. Предваряя просмотр в одном из залов Мосфильма, Андрей должен был сообщить, что картина, увы,еще не готова. А потом, когда Бесси уже после просмотра направится к выходу по длинным полутемным коридорам производственного корпуса со множеством поворотов, я должна буду улучить мгновение, чтобы назначить от имени Андрея ему тайное свидание по интересующему его вопросу. Это было непросто и небезопасно, потому как всем было ясно, что гебешники не спускают с него глаз...
Надо сознаться, что атмосфера тех лет едва ли располагала к подобного рода “шалостям”, но пути к отступлению не было — не “тварь же я дрожащая”, в конце-то концов... Вот еще одна возможность подтвердить мою жертвенную любовь... Честно говоря, я сильно побаивалась — но чего же тогда стоит моя преданность Маэстро? Даже себе было неловко признаваться, что рабство зашевелилось в глубине души... Но...
Рабству бой!!!
После просмотра, когда небольшая цепочка людей растянулось по тому самому длинному коридору, на одном из поворотов, куда Бесси уже свернул, а другие еще не поспели, я быстро подскочила к нему и передала просьбу о незапланированной встрече, потому что картина, на самом деле, может быть готовой к фестивалю. Надо сказать, что наш западный друг совершенно не удивился, быстро предложив в ответ встречу поутру в гостинице “Россия”... Не смекнув, конечно, что гостиница не лучшее место для встреч, так как вся просвечивается КГБ, как рентгеном... Но что было с него, иностранного недотепы, ожидать? Выбора не было...
На следующее утро в условленный час я приехала к Тарковским, где выяснилось, что к Бесси мы едем, оказывается, не только с Ларисой, но и с Юрой Кушнеревым, вторым режиссером Андрея Арсеньевича. Юра был вроде как хорошим парнем, всегда ладившим с Ларисой и сильно напоминавшим по выправке офицера армии. Он часто бывал со своей милой женой на семейных праздниках у Маэстро, у нас были прекрасные отношения, но состав нашей команды в данном случае мне почему-то не понравился... Тем более, что у второго режиссера был “Опель Кадет”, по тем временам особая и странноватая роскошь... Но решала все эти вопросы не я, и мне оставалось только выполнять план, составленный без меня...
Надо сказать, что Лариса тоже была на нервном взводе... Успех Андрея и семьи был поставлен на карту, и надо сознаться, что в такой ситуации трусостью Лариса не грешила. В ответственные моменты она являла собою комок воли и отчаянной решимости. Так было и в тот день...
Однако, как, видимо, и следовало ожидать, едва отъехав от дома Тарковских в Орлово-Давыдовском, мы заметили, что у нас на хвосте сидит “Волга”. Юра метался на своем “Опеле”, заметая следы, мы прятались в занюханных дворах, пытаясь оторваться от этой машины, но “Волга” следовала за нами. Как в плохом детективе.
Во всяком случае, мне казалось, что всех нас трясет, как в лихорадке... Тем не менее становилось все более очевидным, что время истекает, то есть г-н Бесси может уже покинуть свой номер, не дождавшись нас. Тогда мы притормозили у какого-то автомата, и я, уверенная, конечно, что телефон Бесси прослушивается, нагло вышла из машины “по заданию” нашей команды, чтобы позвонить... Ой, Господи... Как теперь смешно: секрет Полишинеля...
А была я из честных пионерок, всей душою сочувствующих диссидентам, но предпочитавшая не переступать ту черту, которая ведет в тюрьмы и сумасшедшие дома. А тогда так получилось, что выхода не было, а выглядело все рискованно и довольно серьезно... Бесси сказал, что спускается и ожидает нас на углу какой-то улицы, где мы его и подхватили...
Переговоры было решено провести в каком-то кафе, как мне сегодня кажется, в районе Таганки. Там я представила директору кинофестиваля в Канне супругу Андрея Арсеньевича, г-жу Тарковскую, уполномоченную от его имени вести переговоры, и его ближайшего сотрудника Юру Куш-нерева, согласившегося нам сопутствовать. После этого я перевела речь Ларисы о том, что Бесси не должен доверять тому, в чем его будет уверять кинематографическое руководство. Это неправда. Просто картину сознательно скрывают от международной общественности, а Андрею нужна как раз пара недель для ее окончательного завершения. Лара также объясняла Бесси, что демонстрация картины на фестивале жизненно необходима для Андрея — потому что только международный успех может обеспечить ему реальную возможность дальнейшей творческой жизни в Союзе...
Так что затем на свидании у Сизова, уверявшего его в соответствии с приказом Ермаша, что “Зеркало” еще не готово, Бесси решительно возражал, сказал, что он как профессионал после просмотра совершенно убежден, что картина нуждается в незначительной доработке для ее технического завершения. “Но для такого скоростного завершения мне нужно будет приостановить производство всей остальной продукции Мосфильма”, — пытался возражать Сизов и предлагал в конкурс одну за другой, на выбор, разные картины, которые, с его точки зрения, смогут достойно представить советскую кинематографию в Канне. Но Бесси оставался непоколебим. Ермаш — увы, тоже. Дело кончилось тем, что Советский Союз впервые и достаточно скандально вовсе не участвовал в конкурсе крупнейшего кинофестиваля!
Каково же было Тарковскому, бившемуся точно рыба об лед идиотских претензий Филиппа Ермаша? И каким чудовищным кощунством звучит его “послеперестроечное” признание, что, оказывается, “Зеркало” его любимый фильм!? Как поздно он его полюбил, подготавливая своими действиями изо дня в день будущий отъезд Тарковского! Это он, гноивший эту картину своими собственными руками и самыми иезуитскими методами, решается сообщить “post factum”, что “В конце июля 1974 года состоялся первый просмотр фильма “Зеркало”... это была поразительная правда”... Ну, ни стыда, ни совести...
“Правда” эта, на самом деле, так поразила министра, что он не решался никакими силами оставить ее в покое, хоть на мгновение. Просто позволить своим высшим соизволением прожить этой “поразительной правде” свою естественную прокатную судьбу. Нет же. Специально для этой картины он изобрел какой-то “пробный прокат” в трех огромных кинотеатрах Москвы одновременно. Это как будто бы для того, чтобы честно проверить картину на зрителе и не ошибиться с тиражом. А на самом деле, невзирая ни на какие факты, совершенно не интересовавшие его, получить для запретов якобы объективное подтверждение, что “Зеркало” тот самый “элитарный фильм”, который “не понятен” так называемому “народу”.
Настали волнующие дни. Все мы еще на что-то надеялись, полагая возможным что-то кому-то доказать. Вместе с Машей Чугуновой и Алешей Найденовым, младшим племянником Ларисы, мы бегали от кинотеатра “Витязь” в Беляево к кинотеатру “Таганский”, фиксируя реакцию зрителей. Алеша, как “вещественное доказательство”, фотографировал объявления: “все билеты проданы” или “для желающих организуются дополнительные сеансы в 8 утра и в 12 часов ночи”.
Вот такие были на самом деле столпотворения! Успех был невероятным, три недели залы ломились от желающих посмотреть “Зеркало”. И что же? Чему это помогло? Какой истины доискались? Вопреки самым очевидным фактам Ермаш распорядился прекратить просмотры за “отсутствием” зрителя... Вот так вот запросто и не мудрствуя лукаво! Так что после этого “пробного проката” фильм получил вторую(!), очень низко оплачиваемую категорию и оставался напечатанным в трех-четырех копиях. Ну, не бред ли?! Какое-то умышленное злостное преследование неизвестно за что мудрой и чистой картины...
Но и этого Ермашу показалось мало. Он велел провести общественно-профессиональную акцию в назидание потомству. Зачем и ради чего? Чтобы окончательно объяснить художникам, как следует и как не следует снимать свои фильмы. Причем сделал это снова иезуитски хитро: он закопал фильм Тарковского руками его же коллег. Если обсуждение “Андрея Рублева”, которое проводил в Госкино когда-то мой отец, было организовано во спасение картины, то гибель “Зеркала” была запрограммирована протокольно точно, и некому было заступиться. На совместное обсуждение Госкино и Союза кинематографистов были поставлены четыре картины: “Зеркало” и “Осень” Андрея Смирнова с одной стороны, и “Сталевары” Карасика и “Романс о влюбленных” Кончаловского с другой... Две последние картины были противопоставлены двум первым как образцы, достойные подражания и демонстрирующие путь, по которому должно устремиться советскому кино. Словом, наш варварский метод известен — разделяй и властвуй!
Это было достаточно уникальное по тем временам обсуждение, в котором участвовали лучшие кинематографисты и которое, естественно, должно было быть опубликовано в “Искусстве кино”, печатном органе Госкино и Союза. С горькой усмешкой рассказывал отец, как участники этого обсуждения, узнав, что их выступления будут опубликованы, бегали в редакцию, чтобы как можно более смягчить, поправить свои обвинения, высказанные в адрес А.Смирнова и, конечно же, Тарковского. Слава Богу, не заставили еще дополнительно опубликовать разносные статьи, а желающие их написать, конечно же, были...
Но всякое позитивное упоминание о “Зеркале” изымалось на уровне цензуры. Помню, как критик Инна Левшина, обсуждавшая фильм с десятиклассниками, пыталась совершенно безуспешно опубликовать это обсуждение в своей книжке, издававшейся в “Искусстве” — чуть не со слезами на глазах она рассказывала мне о том, как весь этот материал вымарывается из текста ее книги без суда и следствия!
Уже много лет спустя, работая научным сотрудником Института теории и истории кино, я никакими силами не могла опубликовать в наших институтских сборниках свою статью, где я среди прочего полемизировала с абсолютно некомпетентной критикой “Зеркала” нашим сотрудником Му-рианом. Причем с публикацией его статьи, естественно, не было никаких проблем.
Я резко поменяла свое отношение к популярному и “порядочному” Виктору Демину, когда, выступая на каком-то заседании Союза кинематографистов, он, ерничая, с “большевистской прямотой” прямо-таки поносил “Зеркало”. Он очень удивился, когда я высказала ему в перерыве свое недоумение:
— А ты, что думаешь, Тарковский должен всем нравиться?
Нет, так я не думала никогда, но я всегда думала, что непозволительно бить лежачею, а всем тем, кто хотел бы сказать за него свое слово, перекрывать кислород.
Только полным отсутствием совести можно объяснить заявление, сделанное Ермашом в той же самой газете, конечно, когда началась перестройка, а он был уже вполне заслуженно уволен, и обвиняющее... критиков, которым он рта не позволял открыть поперек его диким и бессмысленным указаниям: “А вот критика не воспользовалась случаем, чтобы воздать должное режиссеру. Запомнились только две статьи — Туровской в “Литературной газете” и Ханютина в “Комсомольской правде”. И еще Зоркая, которая всегда глубоко откликалась”...
Оставим в стороне “замечательный” стиль высшего судии советского кинематографа. Но читать нужно было внимательнее и, вспоминая замечательных критиков, следовало бы вспомнить их же статьи об “Ивановом детстве” или “Солярисе”, опубликованные в “Новом мире” и “Искусстве кино”, которые публиковались тогда, когда разрешалось хоть что-то опубликовать. Но никто не мог опубликовать ни одной положительной строчки ни о “Рублеве”, ни о “Зеркале”...
На протяжении всей той последовательной травли, которой подвергал Тарковского Ермаш, только в “Искусстве кино” публиковались мои интервью с ним да статья Урбана все о том же “Солярисе”. Там же был опубликован сценарий Тарковского “Гофманиана”, его рассказ “Белый день”...
И все вопреки общему официальному настроению и часто громким запретам. Отрывок из книги А.Тарковского в моем изложении — “Образ в кино” — был также опубликован в “Искусстве кино”. В ситуации, когда никто не обращался к Тарковскому с просьбами о его собственных статьях, тот же журнал публикует некролог Тарковского на смерть Козинцева, любившего и помогавшего ему. А потом в 1980 году, когда все и вовсе примолкли перед отъездом Тарковского в Италию в страхе, что он не вернется, юбилейная статья к 60-летию Феллини заказывается для “Искусства кино” опять же Андрею Тарковскому!
Дорого стоила (увольнение!) Глотову и Тимофееву публикация интервью с Тарковским в журнале “Молодой коммунист”. А какой кровью обошлась публикация в Эстонии первой книжки о Тарковском Татьяне Эльманович? Кто, извините, за нее заступился?
Бедный удивленный Ермаш задается риторическим вопросом, почему, действительно, “критика не пользовалась случаем воздать должное режиссеру?” Прямо-таки заговор в условиях “свободной” советской прессы. Опомнитесь! Мои так называемые актерские портреты Николая Гринько и Михаила Кононова не были опубликованы только потому, что в них, естественно, центральное место занимали работы в фильмах Тарковского. Тем более, что “вина” Кононова, как и Солоницына, о котором я тоже написала большую статью (кстати, как раз тоже опубликованную в “Искусстве кино”!), усугублялась еще и тем, что они замечательно сыграли у Панфилова “В огне брода нет”, тоже не принятого тогда начальством.
В 1974 году, когда Солоницын жил в Ленинграде со своей первой женой и не очень здоровой дочуркой Ларой (Лялькой) и работал в театре у Владимирова, его жена Лариса писала мне:
“февраль 1974г Ленинград
Оля, дорогая!
Все думала соберусь в Москву, и удастся повидаться и поговорить, да не получается. А завтра, наконец, приезжает Лялька — надо будет серьезно с ней заняться. Она, оказывается, у нас серьезно больна, а лечение длительно и сложно. Ну, да не стану жаловаться, а то сейчас еще напишу, как плохи дела у Толи, как он мается да страдает. Самого бы не мешало полечить, он хоть и виду не подает, да сама подумай: в театре ни одной интересной роли ни теперь, ни впереди, в Союз безо всяких объяснений не принимают, дали ставку 40руб., утвердить не хотят. Ну, а квартира —я уж не говорю — ни слуху, ни духу.
Каково все это осознавать мужчине в 40лет, тем более, когда приезжает знакомая, побывавшая в Лондоне, и рассказывает, как заливалась слезами на центральной улице Лондона перед огромным Толиным портретом в “Рублеве”, рассказывает, каким бешеным успехом пользуется фильм, как трудно его посмотреть.
А здесь в театре устраивают экзекуцию — собирают худсовет и обсуждают(!), а затем решают тайным го-лосованием(!) быть ему в театре или не быть. Якобы такой порядок, якобы через это проходят все начинаю-щие(!) актеры, правда, когда умоляли работать в театре и словом не обмолвились, что такой есть порядок.
Ну, да Бог с ними. Жалко только время на все это тратить и нервы. И еще невыносимо осознание зависимости от ничтожных людей.
Впрочем, не сомневаюсь, что тчего нового тебе не открываю, ты и сама все прекрасно понимаешь ”.
Да. Понимала и понимаю. Помню, как все было на самом деле и как умудрялись помучить вдоволь, с высшего соизволения не только самого Тарковского, но даже актеров, с ним связанных. К тому моменту я уже отчаялась пробить портрет Солоницына в “Искусстве” и всяких прочих издательствах. Так что в письме было еще приписано:
“Наш нижайший поклон твоим родным, и большой совет тебе — не расстраивайся по поводу этого Толиного портрета. Тут все ясно. Это еще раз только подтверждает мою идею — Толя не тип сегодняшнего времени. Ведь смешно сказать — даже Калмыков не стал, так сказать, тем типом, который был бы воспринят в народе, даже Калмыков за счет удивительного Толиного благородства и некоей подлинной человеческой культуры (не культурности) при столь примитивном материале оказался чуждым сегодняшнему дню. Что уж говорить о Рублеве или Сарториусе, когда сегодня столь высоконравственного типа личности, которая может быть такой жестокой по отношению к себе, чтобы не позволять себе даже страдания (которые, якобы, оправдывают любое преступление) — такого типа сегодня просто нет и быть не может в самой нашей жизни. А значит он чужд и не понят и не нужен. И в этом драма — извечная — подлинного художника и общества. А сегодня эта драма достигает невероятных размеров*'...
Вот, как смешно и возвышенно думали мы тогда, находясь по другую сторону баррикад, некоторые только сочувствуя, а некоторые по-настоящему пытаясь выжить в обществе, казалось, на веки непоколебимом, к которому было много желающих приспособиться и очень часто успешно...
Такой возможностью “приспособиться” была попытка Солоницына сняться в главной роли у Герасимова. Бесконечно порядочный Солоницын и хотел принять предложение и боялся предать Тарковского. Помню, как приезжая в то время в Москву, он забегал ко мне и выкладывал все “pro” и “contra”. Нервничал, бегая с вечной сигаретой из угла в угол моей комнаты, размышляя прилично ли спросить благословение Андрея. Я полагала, что прилично и нужно, потому что как не крути, но для актера это был большой шанс. Не говоря о том, что Толя с семьей скитался по Ленинграду без собственного угла и без особых надежд. Тарковский относился к Солоницыну крайне ревниво и явно, скрипя сердце, сказал чуть насмешливо и не сразу: “Ну, что же Толя? Давай, давай”... Кстати, это была хорошая работа Солоницына...
И только благодаря этой работе, которую отец, переделав мою статью, вытащил на первый план, удалось все-таки не без трудностей для него опубликовать в своем журнале мою большую статью о Солоницыне, где речь шла и о “Рублеве”, и о “Солярисе”, и о “В огне брода нет”. А мое заглавие “Аскетизм духовности” было изменено на “Постижение главного” — и это были те сравнительно небольшие жертвы, которыми была оплачена практически первая публикация и о Тарковском в целом, и о “Рублеве” вообще... А кто отваживался или мот себе позволить большее в кинопрессе, курировавшейся Госкино?
Как я уже упомянула выше, только один раз за все годы, последовавшие за “Рублевым”, мне позвонили с предложением опубликовать интервью с Тарковским в “Молодом коммунисте”: его свободные размышления о взаимоотношениях художника с публикой. При этом, опять же по необходимости, в мой текст напихали столько извинительных, обязательных реверансов, которые я стерпела единственный раз в моей жизни... И, конечно, ради Главного, ради Тарковского, чей текст шел практически без изменений: художник по существу свободен от вкусов публики и одинок. Цитировался, конечно, любимый Тарковским с детства пушкинский “Пророк”...
Как я уже сказала, отдел возглавлял Владимир Глотов, а редактором статьи был Лев Тимофеев, они расплатились за свое “вольнодумство” по полной катушке. Почти вслед за этой пубилкацией Глотов исчез с журналистского поля деятельности на многие годы, возникнув в редакции “Огонька” уже во время перестройки. А Тимофеев и вовсе отбывал срок заключения в местах не столь отдаленных как диссидент — вот ведь, как складывались дела — вот ведь в каких условиях, по словам Ермаша, критика, оказывается, не пользовалась случаем воздать должное режиссеру, то есть не пользовалась случаем угодить в тюрьму...
Я понимаю теперь, что моя своенравность и нежелание следовать нормам тех лет прикрывалась, вольно или невольно, моим отцом. Но все-таки мой выбор многое определял в моем общественно-социальном положении, сделав меня практически “невыездной” с клеймом “неблагонадежности”, которое, надо сказать, то ли по молодости, то ли по врожденным свойстам моего характера, меня волновало мало...
Обратно на Мосфильмовскую и в Мясное
Так в целом складывалась ситуация вокруг Тарковского, когда в Москве и в его доме появился Танино Гуэро, положивший начало борьбе за выезд Тарковского в Италией для работы над фильмом совместного с Италией производства. Борьба за возможность постановки этой кЗртины заняла у Гуэро вместе с Тарковским по крайней мере два года. Приходилось все прилаживаться да примериваться к этой возможности, биться за нее. С итальянской стороны Гуэро задействовал еще ряд крупнейших кинематографических имен. А в Союзе особенно важную, наверно, решающую роль сыграл лично Николай Шишлин, занимавший крупный пост в ЦК и вхожий прямо к самому Брежневу.
Мысли об отъезде бродили последние годы в голове у Тарковского, хотя, мне кажется, он не решался додумывать их до конца. Несколько раз особенно рьяно мы обсуждали эту возможную невозможность или невозможную возможность, как я уже рассказала, сгрудившись у камина в Мясном, чувствуя себя в безопасности в трехстах километрах от Москвы, вдалеке от всеслышащего уха. Идея взвешивалась на разных весах. Мой муж всегда был активным сторонником любого отъезда, включая наш собственный, уговаривая Андрея не терять времени. В то время как самого Тарковского не оставляли сомнения. Он снова начинал говорить о своем зрителе, которому он особенно нужен именно здесь в “этой ужасной и нищей России”. Но признавался также, что он невероятно устал. Тем более, что Лариса, внутренне абсолютно не сомневаясь, что на Западе их ожидает роскошная жизнь, умела вовремя подкинуть Андрею мысль о безнадеге его судьбы на родине и напомнить о долгах перед семьей, которую она тянет.
Живя в Мясном, он разочаровался, как я уже заметила выше, в русских крестьянах. Так что вполне абстрактное и символическое понятие “народ” претерпело в его глазах коренное изменение. “Рублев” еще пронизан трогательной, чистой, почти юношеской верой в правоту этого народа-страдальца, ради которого и именем которого только и стоит творить... Позднее в эмиграции, в постановке “Бориса Годунова” в Ковент-Гардене он представит тот же самый народ слепой, жестокой массой, не ведающей, что она творит, действующей вопреки логике и разуму, даже себе во вред, опасной и разрушительной.
В конце 70-х годов Тарковский писал из Мясного моему отцу:
“Здесь — сплошные дела. Надо завезти материал на постройку сарая для дров и сами дроба, напилить и расколоть их, чтобы успели высохнуть до осени. В доме надо кое-что переделать и починить. Времени не хватает. Несколько омрачает наблюдения за деревенскими людьми и их жизнью. Постепенно приходишь к убеждению, что только Бунин да Чехов с Достоевским отчасти поняли русского мужика. Какая это темная, животная и инертная масса! Бог с ними совсем, Г
Так что же Тарковский оставлял в России? Хотя я не стану утверждать, что он уезжал уже с буквальным и точным намерением остаться. Это решение, не высказывая его вслух, вывозила за ним Лариса. Сам Тарковский, конечно же, сомневался, на что-то надеялся, верил мистически, что сама жизнь выбросит его в нужном, судьбоносном направлении — так он уцепился потом за ситуацию, сложившуюся с “Ностальгией” в Канне...
Тем не менее, я знаю точно, что не только общая идея отъезда бродила в его голове, но даже до Италии была попытка предпринять совершенно конкретное действие. Я не сомневаюсь в том, что главным мотором этой идеи всегда оставалась Лариса, как в моей ситуации мой муж. Поразительными совпадениями одаривает нас жизнь. Следом за мной Тарковский совершенно случайно тоже попытался остаться в Швеции, предполагая объявить себя невозвращенцем...
В этом контексте имеет смысл рассказать о своем сходном опыте. С 1974 года я работала в Институте теории и истории кино, делая диссертацию о шведском кино. Но даже уже после защиты этой диссертации я не могла добиться поездки в Шведский киноинститут, где у меня было полно связей и знакомых, побывавших в Москве. Меня категорически не пускали туда директор этого Института В.Баскаков и его заместитель Е. Громов.
Когда, наконец, ценою долгих усилий и многочисленных скандалов мне удалось выбить себе командировку на 10 дней в декабре 1980 года, то муж настоятельно порекомендовал мне не возвращаться, требуя затем “воссоединения семьи”. В это время я была беременна моим вторым ребенком, а муж оставался в Москве с нашим первым сыном двух лет. Мужу и мне казалось, что второй ребенок тем более поможет нашему дальнейшему воссоединению, так как семья окажется разделенной ровно пополам.
Надо сказать, что мое состояние во время этой командировки оставляло желать лучшего. В свете предстоящего решения меня все время лихорадило. В Швеции я решилась поведать о наших планах Анне-Лене Вибум, которая не раз бывала в Москве, знала моего мужа и младшего сына, которой, наконец, я полностью доверяла. В этом принимала участие также Диса Хостадт, бывшая до этого в Москве корреспондентом шведской газеты “Дагенс Нюхетер”. У моих друзей были широкие связи и ради меня в Министерстве иностранных дел были подняты документы подобных ситуаций. Анна-Лена сказала мне, что воссоединение семьи, исходя из предыдущего опыта, состоится через два-шесть лет. Мне стало дурно — я не могла даже на минуту вообразить себе, что не увижу своего сынишку по доброй воле несколько лет!!! Для меня это было просто физически невозможно, дико, немыслимо, и мое возвращение домой определилось в ту же минуту, сильно огорчив только моего мужа.
Через некоторое время в Швецию отправился в командировку Тарковский. Я н£о чем не подозревала, только позднее узнав о тайных и проработанных планах. А тогда, вернувшись домой, Андрей просто пришел в гости к моим родителям...
Он был как-то особенно возбужден и не в первый раз говорил привычный для нас текст, как “страшны близкие, семья и особенно дети”.
А затем рассказывал свои впечатления о Швеции, о принципиальной невозможности для него жить вне России. Говорил, что еще раз “ощутил всеми фибрами своей души свою абсолютную несовместимость с Западом, прагматичным, деловым, совершенно мне чуждым”... А когда вместе с ним я вышла за порог родительского дома, то Андрей вдруг поведал мне совершенно неожиданную для меня историю. Он знал о моем несостоявшемся намерении остаться в Швеции и потому, видимо, посчитал именно меня наиболее подходящим для него в данном случае собеседником... Действительно то, о чем он мне тут же рассказал, я понимала не разумом, а чувствовала кожей...
Оказывается, точно также как мы, они тоже договорились с Ларисой, что он попросит политического убежища в Швеции, а затем будет добиваться воссоединения семьи. Д ля Тарковского в связи с его намерением были задействованы уже не только шведские, но и американские силы, поскольку шведы собирались немедленно переправить его в Штаты. Еще бы, все было не просто так, а грозило бы мировым скандалом!
Как рассказывал мне Андрей, в соответствии с предложенным ему планом он покинул свою гостиницу тайком, скрывшись от бдительной опеки представителя нашего “Со-вэкспортфильма”. Все отлично знали, что под этой крышей сидели, как правило, люди, довольно далекие от киноведения. Своему советскому “другу” он оставил на столе в номере какую-то невразумительную записку с просьбой его “не ждать и не искать”, то есть не волноваться. Естественно эта записка была немедленно переправлена в советское посольство.
А Андрея в соответствии с дальнейшим планом шведы немедленно вывезли подальше от Стокгольма, в какой-то загородный дом, где он провел несколько дней, которые он характеризовал, передергиваясь от воспоминаний, “жуткими и чудовищными”. За это время он пережил абсолютно то же, что недавно пережила я сама: нервную трясучку, ouyiipme себя совершенно чужеродным в этой среде и невероятную любовь к дому, к семье, к Тяпе, к жизни “своей и родной”. И чувства эти отзывались такой неодолимой физической болью, что превозмогая все возрастающий параллельно страх перед “нашими родными” советскими властями, которым он уже отписал письмо, он, не оглядываясь, рванул обратно в Стокгольм. Там он объяснил свое исчезновение случайной незапланированной прогулкой — чего, мол, не случается с легкомысленными художественными натурами... “И все это как-то сошло с рук, — вздохнул он с облегчением, точно еще раз пережив ужас прошлого. — Во всяком случае сделали вид, что никто ничего не понял, представляешь?”
Да-а-а... Я представляла себе все очень хорошо... В конце концов, Тарковский был опять на месте и не сделал никаких компрометирующих заявлений о нашей “любимой” власти, возвращаясь домой, я бы сказала, на свою привычную “дыбу”... Наверное, еще и потому, что мы оба побывали в сходной ситуации, еще какое-то время чуть ли не со слезами на глазах излагали друг другу подробности таких сходных и очень тяжелых переживаний, радуясь вместе, как все-таки хорошо быть дома, несмотря ни на что! Какое это счастье!
* * *
Однако, веревка на шее Тарковского все более затягивалась, не без странного участия в этом "замечательной женщины Ларисы", которая умела подчеркнуть, что жизнь утекает, а планы Маэстро осуществляются очень медленно и неполно. Ею, "бескорыстной", подчеркивалось всегда, как трудно выживать Тарковскому материально и физически, хотя, оглядываясь назад, можно сказать, что "Стажер" как раз был принят нормально. Был хороший прокат, а постановочные деньги были получены Андреем не только как режиссером, но и как художником, а еще Ларисой как вторым режиссером. Но доходы всегда значат что-то в сопоставлении с расходами, которые в хозяйских руках Ларисы им не соответствовали...
И тем не менее считали мы все тогда не по достигнутому, а по тому, чего достигнуть никак не позволяют. Почему бы не сделать Тарковскому “Идиота”, фильма о Достоевском или “Гамлета”, наконец, о которых непозволительно мечталось. А я до сих пор убеждена, что если бы дали Андрею сразиться с ТАКИМ уровнем материала, то мы имели бы еще совершенно другого, никому неизвестного Тарковского. Но с какой-то иезуитской меткостью Ермаш категорически пресекал у Тарковского всякую надежду встретиться с шедеврами классики. Истреблял в нем саму надежду, заставляя всякий раз выкручиваться как-то иначе.
Поразительно, например, что когда Тарковский пытался в очередной раз безуспешно пробивать фильм о Достоевском, Ермаш, точно специально закрывая эту тему, запускал в производство “26 дней из жизни Достоевского” с тем же Солоницыным в главной роли, но в постановке Александра Зархи, чьи подлинные художественные достижения к тому моменту давно уже упокоились в 30-х годах... Начальством отработан самый неотразимый аргумент: Помилуйте! Как можем мы подряд запускать два фильма о Достоевском?
Дико, но только тогда, когда возникла вполне реальная угроза чрезмерной задержки Тарковского в Италии, Ермаш, неожиданно опомнившись, стал предлагать ему постановку “Идиота”. А что этому мешало раньше, кроме его самодурства? И как мог этому поверить Андрей, когда все переговоры с советскими авторитетами сводились к главной, несложной мысли: сначала возвращайтесь в Москву, а потом мы обо всем полюбовно договоримся. Кто же поспешит “на ковер” или “на разборку”, как говорят в уголовном мире? Никто и не спешил, хотя все было “там” далеко непросто...
Отступление к “словам, словам словам”...
Что же за все это время происходило с “Книгой сопоставлений”, над которой я взялась работать со страстью и трепетом...
К сожалению, все происходило не совсем так, как я предполагала... Я уже писала о папке записей и разрозненных заметок, доставшихся мне от времени работы с Л .Козловым. В строгом смысле слова, пожалуй, только общие соображения об искусстве были вмонтированы в первую главу “Книги сопоставлений”. Были очень милые автобиографические заметки, сделанные когда-то Андреем, которые он категорически не хотел использовать в книге, видевшейся ему строго теоретической. Из них собрана вторая глава данной книги...
В течение всего нашего общения я старалась записывать все, что говорил Тарковский по самым разным поводам, дома, за праздничным столом или на съемочной площадке. Большая часть этих записей оказалась в моих записных книжках и дневниках. Часть записей наших разговоров хранят магнитофонные пленки, которые в то время были еще большой и не всегда доступной роскошью. Время от времени мы встречались специально для разговоров на ту или иную тему, имея в виду будущую книжку: чаще у него дома, иногда в моей квартире...
Честно говоря, я долгое время полагала, что все это станет лишь набросками, собранными вместе, над которыми мы потом посидим, поразмышляем и разовьем мысли эти гораздо шире и глубже... Но дело обернулось чисто практической необходимостью...
Дважды мы пролонгировали срок сдачи рукописи, а никаких конструктивных идей по поводу организации всего материала от господина Тарковского не поступало. Тогда, пытаясь избежать ситуации с возвращением аванса издательству, которую уже однажды решали всем миром, я должна была сесть за стол и разложить перед собою весь собранный к тому моменту материал. Далее я попыталась систематизировать его, распределить тематически по разделам и более или менее последовательно и логично изложить в каждой главе...
Главы определились, как я полагала, для начала только вполне условно, исходя из “наличности”: “Об искусстве”, “О возникновении кино”, “О времени”, “Об образе”, разветвленном на его составляющие в кино, “В поисках художника — в поисках зрителя”, “Об актере” и, наконец, “Об ответственности художника”.
К этому моменту я уже ясно осознала, что никакого полноправного диалога режиссера с критиком, обозначенного в издательском договоре, быть не может. По крайней мере, в моем лице Тарковский был к нему не готов, хотя в утешение себе я полагаю, что он был не готов к равноправным беседам не только со мной, но и с таким подлинно серьезным собеседником как Л.Козлов.
Тарковский для развития своих мыслей нуждался не в оппоненте, а только во внимательном слушателе, глубоко сочувствующем и разделяющем его идеи, умеющем их развивать в обозначенном им направлении. Мне оставалось только постараться что-то дообъяснить, подчеркнуть, ввести свои собственные комментарии там, где нужно было как-то классифицировать некоторую излишнюю разбросанность материала, его порою чрезмерно импрессионистическую, лишенную научной строгости вольность. Объяснить некоторые повторы, а иногда слишком очевидные противоречия, которые я обожала и которые представляли собой суть Тар-ковского-художника. Я постаралась донести до читателей ход его мыслей и характер общения, его манеру изъясняться по вопросам, зачастую довольно проблематичным и спорным. Но это давало счастливую возможность читателям, помимо моей добросовестной, думаю, точной фиксации каждого поворота его мысли, пообщаться с ним как бы “в живую”. Не всегда абсолютно оригинальные мысли приобретали, как мне казалось, совершенно особое значение в интерпретации крупнейшего кинематографиста, создателя своего киноязыка. Как важно было постараться воссоздать ту интеллектуальную ауру, в свете которой создавался его кинематограф!
Тем не менее я полагала, что это будет временный, первый, черновой вариант книги, который можно было, а скорее нужно по необходимости представить в издательство, но который станет одновременно поводом для Андрея отшлифовывать и дорабатывать текст.
Кстати, еще задолго до сдачи рукописи в издательство я, целенаправленно пообщавшись с Тарковским, сама предложила ему новый вариант нашего соавторства, обозначенного в договоре. К этому моменту я уже получила такие книжки, как “Бергман о Бергмане”, написанную тремя журналистами, или “Хичкок, интервьюированный Трюфо”, которые показались мне образцами, достойными подражания в нашем случае. А потому я сама предложила Андрею вынести на обложку только его имя, несопоставимое с моим, в качестве главного автора, а меня подписать шрифтом помельче, то есть: “АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ “КНИГА СОПОСТАВЛЕНИЙ”, записанная и прокомментированная О.Сурко-вой”, на что Андрей согласился безо всяких проблем. Такой и в таком виде я и представила ее в издательство “Искусство” в самом конце декабря 1977 года...
Запомнила этот срок на всю жизнь, так как была и на сносях — мой первый сын родился 18 января 1978 года. Рукопись, по правилам того времени, нужно было представлять отпечатанной на машинке в трех экземплярах, которые вкупе кое-что весили, а потому тащил их за мною мой муж...
Встретили нас редактор книги Володя Забродин и заведующий отделом кино Сергей Асенин, который, раскланявшись, любезно сказал, что это число будет вписано красными буквами в историю издательства. А Володя при первом же удобном случае, усмехнувшись, подвел итог моему визиту: “Представляешь, как он теперь трясется и понятия не имеет, что делать дальше, хе-хе”... Я хохотнула вместе с Забродиным, что-то будет дальше?
А дальше рукопись разослали двум специфическим для данной книги рецензентам: Далю Орлову, не слишком крупному знатоку кино, функционеру этой отрасли производства, и Владимиру Муриану, известному своим более, чем прохладным отношением к кинематографу Тарковского. Замечания, которые они нам сделали в полном соответствии с пожеланиями руководства издательства, делали дальнейшую работу над этой книгой попросту невозможной. По существу они предлагали вложить в уста Тарковского другой текст, а мне поправлять и подталкивать его в нужном направлении, там где он будет “не справляться с задачей”. Естественно, замечания эти не были нами приняты, и никаких конструктивных соображений, которыми можно было бы воспользоваться, высказано не было. А шлифовать рукопись независимо це от чего для будущих поколений и истории кино Андрей, к моему разочарованию, не счел нужным. Он воспринял эту рукопись вполне законченной, был доволен ее, и его замечания, по которым я потом написала второй вариант книжки, носили чисто редакторский кое-что уточняющий характер. Ни предложенная мною структура книги, ни форма организации материала совершенно не изменились.
Но так или иначе еще до отъезда на Запад я сделала, учитывая замечания Андрея, второй, всего лишь подчищенный вариант рукописи. Этот вариант был отдан на окончательную перепечатку Маше Чугуновой, которую я оплатила за свою авторскую половину. Что касается оплаты второй половины Тарковским, то этого “широкого жеста” Маша, увы, как обычно, не дождалась, о чем мне жаловалась, как сейчас помню, после посиделок в подъезде Жениного дома на Кутузовском. Плакалась также по поводу продажи своей дачи во имя все того же святого искусства.
Этот вариант книги я особенно не торопилась нести в издательство, понимая, что там в нем не очень нуждаются, а для отчета в бухгалтерии первый вариант был уже представлен. Таким образом сохранялся, как теперь говорят, политкорректный “статус-кво”.
Самое удивительно, что сам Тарковский совершенно серьезно не терял надежды на публикацию. Поэтому он снова просил меня написать очередное письмо уже новому директору издательства “Искусство”, чтобы прояснить, наконец, наши взаимоотношения. Это письмо хранится у меня в двух вариантах. На первом письме запечатлелись три моих подписи, имитирующие подпись Тарковского. Я помню, как я тренировалась на стекле, обводя его подпись, чтобы, отпечатав улучшенный вариант письма, не ехать к нему снова за его подписью. Это вообще очень практиковалось в семействе Тарковских. По необходимости его подпись могла поставить не только сама Лариса, но и Маша... Во всяком случае, вот то письмо, которое мне было доверено переписать и поскорее отправить:
Директору издательства “Искусство ” Б.В.Вишнякову
от А. А. Тарковского
Уважаемый Борис Владимирович!
Прежде всего хочу выразить недоумение по поводу того, что издательство, вернув нам (мне и О.Е.Сурковой) рукопись на доработку, в течение двух(!) лет не побеспокоилось узнать, согласен ли я с высказанными замечаниями, что я по этому поводу думаю и собираюсь ли продолжить дальнейшую работу над рукописью. Это наводит на мысль о том, что редакция, видимо, не очень спешила получить второй вариант книги. О предвзятом отношении к нашей рукописи несомненно свидетельствует также выбор рецензентов — ни Д. Орлов, ни В.Муриан не могут считаться серьезными теоретиками кинематографа, которым, с моей точки зрения, следовало показать работу. Их отношение к моему творчеству было известно априори, а чрезвычайно низкий теоретический уровень их суждений не создает почвы для продуктивного профессионального разговора.
По сути же вопроса я могу сказать следующее: Во-первых, единственное замечание, которое я готов принять, связано с тем местом книги, где речь идет о разных категориях зрителей — их деление представляется мне сейчас не очень удачным. Поэтому я готов сократить этот кусок, расширив и углубив при этом тему взаимоотношения художника и народа.
Во-вторых, я ни в коем случае не могу согласиться с точкой зрения редакции, предлагающей мне исключить из книги общие размышления об эстетике, философии искусства и тому подобных “общих” вопросах за счет укрупнения профессиональной проблематики. Для меня это совершенно неприемлемо.
Кроме того, я не могу пообещать, что в моей книге будет “больше сказано о советском кинематографе ” и его деятелях: те имена, которые возникают по ходу изложения — и есть то необходимое, что подтверждает ход моих собственных размышлений. Я оставляю за собою право ссылаться на те работы, которые считаю нужным упомянуть в контексте изложения. Кстати сказать, обвинения в “субъективизме”, высказанные мне редакцией вслед за рецензентами, способны поселить только чувство глубокого недоумения. Какие же еще мысли я могу высказывать, как только не субъективные, говоря о своем опыте кинематографической работы?!Я не пишу учебник, обязательный для всех — я делюсь своими соображениями, своими размышлениями, приглашая читателя принять в них участие. При этом, как справедливо замечают рецензенты, читатель, действительно, волен сопоставить мою концепцию искусства кинематографа (более того, я предлагаю ему это сделать: недаром наша книга называется “Сопоставления ” — ее структура открыта и не предлагает точно выраженной формулы, ее конечный итог должен возникнуть у каждого из сопоставления частей) с десятками других, публиковавшихся нашей прессой, как подтверждавших, так и противоречивших моим идеям. В ряду и контексте других точек зрения кто-то согласится со мною, а кто-то, естественно, нет — во всяком случае, в мою задачу не входило “устраивать”всех.
Хочу также еще раз, хотя это подробно оговорено во вступлении к книге, прояснить “драматургическую” роль комментирующего, О.Е.Сурковой. Как это было задумано нами с самого начала, она призвана углубить, развить, оттенить еще какой-то нюанс развивающихся идей, а вовсе не “поправлять ” меня и наставлять на “путь истины".
В свете всего вышеизложенного прошу издательство в самый короткий срок изложить свою точку зрения на возможность нашей совместной работы. Если она окажется приемлемой для издательства, то мы (с О.Е. Сурковой) готовы представить рукопись в ближайший срок с некоторыми частными (чаще всего редакционными) доработками.
5.8.80.
Народный артист РСФСР (А. Тарковский)
Читая это письмо сегодня, после стольких лет жизни на Западе и таких колоссальных перемен в России, я могу только улыбнуться нашей избалованности... Господи! Получив аванс от издательства и не заявляя о себе, не появляясь два(!) года после предложенных нам изменений, мы можем возмутиться поведением издательства, которое не домогается нашей рукописи, наполовину ими уже оплаченной... Можно было выразить капризное неудовольствие рецензентами и почти что потребовать начальство “к барьеру”. Другое дело, что это не способствовало изданию книжки, но ставило тем не менее издательство как будто бы в неловкое положение...
До какой же степени иначе обстоит это дело на Западе и выглядит сегодня на нашей исторической родине! А тогда... Так называемая более “довыраженная”, то есть более тщательно отредактированная рукопись была вскоре готова — два года Тарковский не торопился ее дорабатывать! — но никогда более не представлена в издательство “Искусство”, хотя договор оставался в силе вплоть до моего отъезда в Голландию...
Когда весною 1982 года Тарковский уезжал в Италию на съемки “Ностальгии”, то я к этому моменту уже подала документы на выезд на постоянное место жительства в Голландию. Многие сю стороны усматривали в такого рода двойном отъезде какой-то скрытый сговор. Видит Бог, что это было абсолютно случайное, но какое-то внутренне многозначительное совпадение. Но теперь, умудренная уже некоторым дополнительным, не всегда слишком веселым опытом, я подозреваю, что мой выезд был кем-то срежессирован... Теперь я даже подозреваю кем и у кого за спиной стояло КГБ... Но не знаю, конечно, точно...
Мой муж мечтал уехать на Запад. Наш друг Боря Петкер, поменявший потом фамилию на Абаров, женатый на голландке и проживавший с ней несколько лет в России без намерения уезжать, был неожиданно выставлен из страны вслед за своей женой и ребенком, попавших на границе в неприятную и, как я теперь полагаю, тоже срежессированную ситуацию. Только теперь мне кажется несколько странным, что наш друг Боря, еврей, беспартийный, закончивший ГИТИС и женатый на иностранке, последние года три работал... в отделе культуры Краснопресненского Райкома Комсомола... А до этого...
До этого он чаще всего нигде не работал, но однажды, нуждаясь в первом выезде в Голландию в связи с рождением там его ребенка, попросил меня устроить его работать для характеристики... к Тарковскому, когда он собирал съемочную группу первого “Сталкера”. И он-таки был определен по моей просьбе стараниями Ларисы, не будучи в штате Мосфильма, в ассистенты по реквизиту... Опять возникает нерешенным вопрос роли самой Ларисы в этом “трудоустройстве”...
Но тогда мне казалось, что я совершила для друга благородное дело, а Лариса постаралась ради меня и очень справедливо ругала меня, когда Боря покинул группу через пару месяцев в связи с отъездом в Голландию, получив для этого характеристику. Чтобы напомнить атмосферу того времени, замечу, что я сама со скандалами и с огромным трудом выбивала себе много лет эту идиотскую характеристику для поездки с научными целями в Шведский киноинститут.
А тут... После того, как жена Бориса была схвачена в аэропорте с рукописями самиздата, о которых, как выяснилось, Боря прекрасно знал, его “в качестве наказания” что ли отправляют следом за нею в Амстердам, когда в других сходных случаях воссоединение семьи ожидалось годами и проходило в борьбе? А тут еще, через годик-полтора ко мне приезжает жених из Голландии, чудесный парень, посланный Борей, как я полагала, в его безумной дружеской страсти к моему законному супругу... Долгие годы я всерьез полагала, что замечательный любимый Боря, с одной стороны очень нас любил, а с другой стороны просто мечтал иметь своих друзей поближе к себе... Бред!
В результате на следующий день после моего брака с голландским женихом Иоганом мой отец был уволен Ермашом, с которым у него были сложные отношения и с которым они были в контрах по многим вопросам. Так, например, мне помнится, что отец был категорически против глобальной идеи Ермаша американизации советского кино, то есть коммерциализации его в духе создания собственного развлекательного жанрового фильма. Помнится также, что отец пытался выступать против запрета картин, ссылаясь на недавний опыт прошлого, за который теперь “приходится краснеть” и полагая наиболее разумным выпускать картины, давая возможность в прессе высказывать на них разные точки зрения.
Мой бедный отец, узнав о моем разводе и новом браке только после его заключения, был в ужасе, сказав между прочим: “Ну, Оля, Ермаш должен принести тебе к самолету большой букет белых роз за то, что ты ему так помогла от меня избавиться”. Что касается моего собственного выезда с детьми в нормальный срок и безо всяких особых проблем, то, как я теперь думаю, меня и впрямь выпускали вслед за Тарковским... А мы-то с ним видели в этом тогда, балакая в Риме о всяком и разном, как я уже писала, прямо-таки “перст Божий”... Как странно однако и интересно посмотреть на себя сегодня, после всего пережитого, как на игрушку в руках совершенно чужих сил, порою всего лишь инструмент, на кагором играли другие. Неужели я была идиоткой до такой степени?
Интересно, правильны ли мои догадки сегодня? И мы, конечно, еще вернемся к ним в заграничном периоде нашей жизни...
А пока, уезжая, Тарковский велел мне расторгнуть договор с издательством “Искусство” с тем, чтобы мы были свободны ото всякого рода обязательств, полагая, что на Западе, наконец, опубликуем “Книгу сопоставлений”. Не могу сказать, чтобы новый к тому моменту директор издательства Макаров, бывший до этого заведующим кафедрой информации в нашем институте, принял меня слишком любезно. Все было обставлено очень официально. Мне объяснили, как написать заявление о расторжении договора от своего имени в присутствии адвоката издательства и заместителя главного редактора Ефимова. Как спрашивается в одном анекдоте: “чем мотивировала?” я свой отказ от дальнейшего сотрудничества... Я писала, что сотрудничество это с моим соавтором представляется мне слишком сложным, точнее практически невозможным, так как в данный момент он работает в Италии, а я уезжаю жить в Голландию. Макаров мрачно спросил меня, можно ли публиковать текст Тарковского в дальнейшем, изымая мои комментарии. Мне было даже смешно — как будто бы они действительно собирались что-то публиковать?! Но есть, очевидно, правила официальных игр, которым, конечно, все мы следуем... Ох-хо-хо!
Возвращаясь теперь к реальным документам — я сделала тогда приписку к своему расторжению договора, что я возражаю против публикации текстов Тарковского, так как они сделаны методом литературной записи и не носят авторского оригинального характера.
Остается добавить, что к этому моменту, благодаря моему папочке, еще за три года до нашего отъезда из Союза была уже опубликована в “Искусстве кино”, как мне представляется, наиболее удачная часть рукописи, озаглавленная “Кинообраз” (№ 3,1979).
Итак, мы собирались уезжать почти одновременно в разные концы Европы. Он — снимать фильм, а там, как говорится, “будем посмотреть”. А я со своими детками, одного года и четырех лет — уже навсегда! Как говаривал Достоевский, самое невероятное это правда, и нет ничего фантастичнее реализма... Увы! А, может быть, и к лучшему, чтобы не очень скучали... Кто знает...
Перед круизом к кисельным берегам
Если мне правильно помнится, то последнее торжество, на котором мы побывали в доме Тарковских до его отъезда было 50-летие Андрея 4-го апреля 1982 года, от которого осталось тягостное впечатление. Андрея, как было принято и как полагалось, никто не поздравил официально. Накануне его отъезда не было опубликовано никаких соответствующих юбилею текстов, тем более никаких торжеств в Доме кино. Все затихли...
На дне рождения дома, кроме обычного состава, если я не ошибаюсь, была Марина, еще более скорбная, чем обычно, с глазами на мокром месте. Был также Арсений, первый сын, который последние годы начал все более регулярно появляться в новой семье отца... Мне кажется, что они ушли сравнительно быстро, а “мафия гуляла” по заведенному Ларисой порядку, отплясывая и заливая радость юбилея все той же водкой, которая продолжала стыдливо прятаться за тем же мольбертом Маэстро...
Кстати, вспоминается, как до этого мы прикатили с моим мужем к Тарковским не на Новый год, а первого числа, насмеялись тогда вдоволь... Хотя надо было, наверное, не смеяться, а плакать... Тот Новый год они встречали с Аркадием Стругацким и его женой. Она поддерживала совершенно узюзюканного Андрея, похожего на ребенка: “ой, Ольга, Дима... Давайте, ребята, проходите”, — командовал Андрей, гостеприимно помахивая вялой рукой. Ларису удалось отыскать во второй квартире в “спячке” на маминой или Лялькиной кровати. Мы само собою подключились к новогоднему утру, всегда странному и специфичному, но уж чрезмерно убойному в этом никак не приукрашенном “пейзаже после битвы”... А как же здоровье Маэстро, который больше не пьет?
Но на всех последних торжествах, включая юбилей, проводы,уже не было Араика, выполнившего к тому моменту все свои обязанности по строительству дома в Мясном. Он был изгнан Андреем за какую-то растрату. Тем не менее он снова появится, как только уедет Андрей, кажется, в начале мая... Надо сказать, что Лариса не слишком быстро последует за своим супругом, погуляв “соломенной вдовой” где-то до середины августа.
Отсутствовала также Ларисина Лялька, взаимоотношения с которой, увы, требуют особого комментария. Как я уже писала, художественное воображение Маэстро рыжеволосая кудрявая Лялька поражала с самого начала. Она выросла в статную, всегда как будто немножко сонную девушку с припухшими губами. Особенно помнится одно из дней рождения уже на Мосфильмовской, когда Ляльке было лет шестнадцать.
Я была тогда на празднике с мамой и скорее она, чем я, обратила внимание, что Ляля сидела неотлучно по правую руку Андрея, чья рука время от времени соскальзывала, не без ее попустительства, на ее коленку... Я не имею понятия, как и что происходило между ними, тем более не могу себе представить, как этого могла не замечать такая ревнивая Лариса... Я не знаю, но дальнейшие события тоже выходили за рамки нормы, если рамки норм и сами нормы существуют вообще в нашей жизни...
А еще о внешней стороне семейной жизни Тарковского на Мосфильмовской до отъезда... Пару раз он неплохо вмазывал Ларисе— я видела уже результаты на ее лице, а объяснения были, очевидно, несущественны — мало ли что она расскажет: наверное, по-русски — учит значит любит... Потом наступил момент, когда Андрей привез из Мясного другую Олю Лялиного возраста. Прямо, как в ^Рублеве"— грех свой с собою возил, но не для покаяния... Лариса назвала эту Олю какой-то своей дальней родственницей, но кто знает...
Андрей, как я уже рассказывала, не позволял Ляльке, к тому моменту девочке семнадцати-восемнадцати лет, возвращаться домой позднее то ли девяти, то ли десяти часов. И вдруг однажды я узнала, что Ляля ушла из дома... Вдруг? Что случилось?
Постепенно выяснилось следующее: как-то она вернулась домой часов в двенадцать, и Андрей... жестоко отстегал ее ремнем... Андрей?! Это было немыслимо, но это была правда. В этой квартире Ляля вовсе не появлялась последний год или более, Лариса как-то следила за ее жизнью и ездила к ней тайком. Рассказывала мне, что Ляля вышла замуж, с ее слов, за какого-то наркомана, была беременна, и Лариса убедила ее сделать искусственные роды на пятом месяце беременности. “Ничего. Я нашла хороших врачей. Представляешь, она собиралась рожать от наркомана?” Все это было более, чем странно.
Все в доме постепенно пропиталось какой-то липкой двусмысленностью. Даже Н.Шишлин и С. Кондрашов, напивавшиеся быстрее прежнего, казалось, все с меньшим энтузиазмом внимали за столом речам единственного оратора, произносившего свои по-прежнему замечательные тосты. Во всем и во всех ощущалась какая-то исчерпанность жанра, как в атмосфере съемочной группы второго “Сталкера”, какая-то равнодушная усталость...
Андрей покидал в сущности пустой для него город и собственный дом, где как будто бы уже никто никого не любил, а все держалось на каком-то взаимоантагонистическом честолюбивом намерении доказать кому-то или друг другу кто здесь главный и на ком по сути все держится — вы догадываетесь, конечно, что не на Андрее. Так выглядела по крайней мере супружеская жизнь Маэстро с Ларисой, которую он однажды избрал и которая определила в конце концов всю его жизнь и творчество до самого финала...
* * *
И еще. Я не могла себе вообразить, до какой степени оставался Андрей обижен на Госкино, Союз, Мосфильм, своих коллег и на прессу за то, что юбилей его остался проигнорированным, что не были соблюдены элементарные вполне формальные правила обычной юбилейной игры. Не было должных официальных поздравлений, которыми отмечали всех, вне чинов и званий, кому удалось добрести до почетного возраста. Андрей был не просто обижен, но уязвлен безмерно, как ребенок. Оставалось только поражаться, как глубоко, однако, может ранить человека такого масштаба невнимание властей... Но Андрей помнил об этом всегда и всегда глубоко страдал...Увы, но некоторым другим соратникам Андрея не удалось добрести до своего первого юбилея. Я имею в виду прежде всего Толика Солоницына, без рассказа о котором картина отъезда Андрея была бы неполной...
В то время, когда Андрей уже собирался выезжать на съемки “Ностальгии” в Италию, Солоницын — этот “талисман” Андрея, предназначавшийся изначально для исполнения главной роли — тяжело и мучительно умирал от рака легких. Умирал в своей собственной, наконец, московской кооперативной квартире, куда его ввезли уже не в лучшем состоянии...
Солоницын был тем любимым “ребенком” Тарковского, к которому была всегда обращена его родительская, ревниво-взыскующая любовь. Любовь Толи к своему “духовному” отцу, каковым он несомненно считал Андрея, была восторженной, трепетной и благодарной. Но, как и полагается детям, он дарил Андрею не только радости, но и глубокие обиды...
Андрей боролся с собой, но любовь к Солоницыну, как это часто случается в отношениях Мастера и ученика, была властной и эгоистичной. Он ревновал Толю к другим режиссерам и практически не признавал его успехов “на стороне”, хотя Солоницын постепенно стал абсолютно самостоятельным в очень заметных работах Панфилова, Шепитько, Михалкова, Абдрашитова или, наконец, Герасимова... Андрей никогда не мог порадоваться его успеху, даже ради простой товарищеской поддержки. Но было такое ощущение, что То-лик этого и не ожидал никогда, скорее испытывая только неловкость за свое очередное “предательство”. Обычно, посмотрев Солоницына в новой работе, Тарковский, поеживаясь, с какой-то растерянно-удивленной улыбкой на лице восклицал: “Ну, Толик дает!... А?...” Было всегда не очень ясно, что он имеет в виду и как на это реагировать... Точно также, мне кажется, чувствовал себя Толя, старавшийся скорее скрыться от него, как будто заранее пристыженный...
Потому что в очень сложной и многогранной натуре Тарковского, как мне видится сегодня, всегда была двойственность вполне дворового мальчишки, азартно и лихо игравшего в расшибалочку, всегда готового к кулачной потасовке, и интеллигентного непрактичного, беззащитного ребенка, на чем прекрасно умела играть Лариса, давая ему, если нужно попетушиться всласть. “Своих” людей, то есть соратников и помощников, избранных им для сотрудничества, он не слишком баловал сладкими признаниями, был требователен, но не мог примириться, может быть, даже страдал из-за измен, их “блядства” на стороне... Скрывая свою ранимость, он вовсе переставал испытывать интерес к чужому опыту, не замечая, порою, что это жестоко...
Тем более очень непросто было пережить не только сам фильм Зархи о Достоевском, но в первую очередь исполнение Солоницыным главной роли, в которой он сам собирался его снимать!
Андрей не мог примириться с тем, что у его избранников жизнь текла своим чередом, помимо его. Андрей судил обо всем, как говорится, со своей колокольни. Толик согласился на съемку у Герасимова с “благословения” своего Ма-сгера, но умудрился с Герасимовым поссориться. “Ну, Толик дает! А?” — снова вопрошал Андрей, на этот раз, в глубине души глубоко удовлетворенный очередной Толиной непрактичностью, неумением выудить из этой ситуации все жизненные блага. Тарковского — к худу или к добру — прикрывала Лариса: А Толя... так и остался на перекрестке нашей грубой и пьяной российской жизни, продуваемый всеми ветрами...
Пил много, питался плохо, спал в самолетах и поездах, спеша со съемки на съемку, безбожно курил. В конце концов, его оставила первая жена Лариса, знакомая мне еще со съемок “Рублева”, амбициозная, пьющая сама немало, но разочаровавшаяся в его возможности построить карьеру, списав в неудачники...
А пока пусть он расскажет сам о своих мытарствах, как он описывал их когда-то мне в письмах и открыточках.
март 1967г Минск
Оленька!
С праздником тебя женским и международным! Всего тебе! Мой поклон и поздравления Олимпиаде Трофимовне!
Если вдруг найдет на тебя вдохновение — черкни хоть два слова — как и что.
Готовлю “Ярового ” в “Любви Яровой ” — измучился и устал, а выходит пока все слабовато. Ну, хоп!
Толя.
апрель 1967 Ленинград. Ленфильм.
Съемочная группа “Отом, что прошло”f“B огне брода нет” - О.С.)
Оленька!
С весной тебя! С маем!
Всех тебе благ.
Я на “Ленфильме ” снимаюсь у очень хорошего режиссера Глеба Панфилова (сценарий — “Искусство кино ”, № 1 за 1967г).
Мой праздничный поклон Олимпиаде Трофимовне и Евгению Даниловичу.
Обнимаю тебя.
Твой Толя
май 1967г
Ленинград. Ленфильм.
Съемочная группа “О том, что прошло ”.
Оленька!
Вот и у меня наконец-то наступил праздник — получил от тебя письмо! Да еще и подробное!
Рад за твои успехи. Давай — дави на науку, — а летом, глядишь, и увидимся. Я не знаю еще точно, но, кажется, буду отдыхать в Феодосии, в Коктебеле — у меня там живет мой большой друг — зовет в гости. Все зависит от моих съемок. Мы ведь рабы своей работы—ради нее порою бросаем все, а приобретаем только сомнения и неудовлетворенность.
Вот и сейчас — я отснялся в павильоне — видел материал будущей картины, и многим не доволен — вижу досадные промахи, в которых виноват сам. Глебу Панфилову (режиссеру,) все кажется нормальным, а я доволен только двумя сценами своей роли. Но — посмотрим!
По поводу “Рублева ” я уже устал волноваться, — так его мордуют, запирают, куда-то кладут, что у меня не хватает сил и ума понять, а зачем они это делают? Чего боятся? Чего добиваются?
Ну, да будет об этом, — а то еще растравлю себя до недозволенных размеров!
Может случиться так, что в Муром я поеду через Моcкву — найду тебя обязательно хоть под землей. Поговорить хочется о всяком разном.
Ну, хоп!
Мой низкий поклон маме и папе.
Обнимаю тебя.
Твой Только Юмая 1967г Ленинград
P.S. Я с 1 по 9мая был в Свердловске и только сегодня получил твое письмо.
апрель 1968 Свердловск
Оленька!
Я стал папой. В такой роли мне еще быть не приходилось. Весь в распашонках! Удивительное и счастливое состояние! Зовут ее Лариска.
Вес 4 кг, 500г.
Мой радостный привет всем.
Обнимаю тебя.
Твой Только.
май 1968г Новосибирск
Оленька! С праздником!
Я в Новосибирске. В “Красном факеле”. Репетирую “Бориса Годунова ”. Режиссер отличный, интересный парень — А.Сагальчик — молод и талантлив до безобразия. Работать с ним трудно, но зато необычно. Посмотрел я на днях “Бабье царство ”. Прошу тебя передай Салтыкову, что даже этот кастрированный вариант у него получился. На меня фильм произвел потрясающее впечатление. Ив Свердловске, и в Новосибирске билетов на фильм недостать. Большинство уходит ошарашенное. Мещане уходят из зала больными — они отвыкли от таких ударов по своим нервам! Я рад за Салтыкова. А разговоры меня как-то мало волнуют.
Дочка с мамой еще в Свердловске. Здесь только в мае обещают квартиру. Пиши. Привет всем. Обнимаю тебя.
Толя
январь 1970 Новосибирск
Оленька! С Новым годом тебя!
Всяких радостей тебе в Новом году и нежностей всевозможных!
Я еще в Новосибирске, но, думаю, что удеру в этом сезоне — голодно, холодно, далеко.
Работаю много — играю все — и что нужно и что не нужно: от С. Экзюпери до Монахова.
Устал смертельно.
Тут еще несчастье свалилось — заболел отец Лары. Болезнь XX века. Они с Лялькой в Свердловске. Я этот Новый год один. Идти никуда не хочется — устал и от работы и от людей.
Вроде бы утвердили на “Беларусьфильме в начале года буду знать точно.
Ролька ничего. Сценарий тоже. Режиссера не знаю, по крайней мере без претензии.
Как дела у тебя? Где ты?
Часто читаю твои статьи. Ты — молодец. Вперед — и только вперед!
Черкни мне, что там с “Рублевым ” и Андреем. Столько сплетен и легенд, что я понять не могу, где же правда-то.
Мой поклон и новогодние поздравления Олимпиаде Трофимовне, Евгению Даниловичу и супругу твоему. Обнимаю тебя. Целую
Толя
Без даты
и неизвестно откуда
Оленька! С Новым годом!
Успехов тебе всяких и удач!
Надеюсь, что в Новом году ты сменишь гнев на милость и черкнешь мне пару слов о житье-бытье и о разном всяком.
Передай мои поздравления Олимпиаде Трофимовне и Евгению Даниловичу.
Искренне твой Толя.
Такое ощущение, что все эти письма о том, чего не было — так странно сегодня читать пояснения, что Панфилов — режиссер, что “Бабье царство” Салтыкова было в центре дискуссий, что “мещане” не готовы к жесткой правде, что за все свои страдания, актер, “раб своей профессии” готов, как к норме, “только к сомнениям и неудовлетворенности”. Без наград. Но как же это было в стиле нашего, уже ушедшего в историю времени!
Новосибирск был “далеко” и было там “холодно и голодно”. Я помню, как Толя, заскочив как-то ко мне, будучи проездом в Москве, рассказывал, какой ценностью кажется в Новосибирске апельсин и с каким трудом он достает его всякий раз для своей крошечной дочурки...
Так и челночил он из города в город, от роли к роли, от студии к студии, от театра к театру, не наживая ни капитала, ни солидности. Только что хорошую двухкомнатную квартиру удалось, наконец, получить в Ленинграде после комнаты в коммуналке, куда его поначалу поселил с семьей театр Ленсовета. Я побывала у него с Ларисой и в этой комнатенке, и в квартире в старом доме, которой они очень гордились.
Лариса Солоницына готовила тогда “мясо по-французски” или “от “Максима”, как важно называла она мясо из духовки, с луком и под майонезом. Это было очень вкусно, а из-за названия казалось очень изыскано, так что, помнится, я перехватила у нее этот рецепт. Толик таскал из театрального буфета домой “чернила” — так назывался очень дешевый портвейн, кажется,'“Солнцедар”... А еще квартира была уставлена полками с книгами, которые Толя собирал всю жизнь... Жена Солоницына тоже выпивала неплохо, но все чаще и чаще жаловалась мне, как много пьет Толик и как мало читает...
По всей видимости она потеряла надежду видеть семью хотя бы в частичном благополучии и благоустроенности. Устала от нищеты и выставила Толика из квартиры, которой он очень гордился и которая досталась ему так непросто. Условия развода были слишком суровыми и неожиданными для него. Даже библиотека — его единственное богатство, собранное по крохам — была оставлена в доме, в семье: “для Ляльки”, — как резюмировала свое решение Лариса.
Толя очень тяжело переживал этот разрыв. Стал пить еще больше. Перебрался теперь в новое “безквартирье”, в Москву — он был приглашен Тарковским на роль Гамлета в театре Ленинского комсомола Марка Захарова. Поселили его в новое театральное общежитие у метро Бауманская. Роль у него не получалась. Он то пил по черному, то постился. Условия работы были очень трудными, так как помимо всего прочего он был посторонним, приглашенным на ТАКУЮ роль гастролером в труппе театра. Мучился. И в конце концов даже поклонники спектакля Тарковского, который имел сложную и очень сильно укороченную судьбу, посчитали Солоницына ошибкой режиссера...
Надо сказать, что Тарковский всегда защищал Солоницына от недоброжелателей, но мне неоднократно признавался, что очень огорчен Толиным поведением, которое казалось ему, как минимум, несерьезным: “Я ему такую роль дал, а он меня так подводит!**...
Однажды, уже в Италии, когда Толика давно не было в живых, Тарковский резюмировал: “Солоницын строил свою жизнь в неуважении к своему таланту. В жизни играл какого-то придурка. Вел этакий безответственный образ жизни. Художникам так нельзя! Нужно осознавать свою миссию. А он так себе жил... запросто...”
То, что сказал Тарковский, наполовину правда. Но Солоницыну всегда нужны были силы для сопротивления, он никогда не был баловнем судьбы, оставаясь всегда в тени Тарковского.
Он был человеком, прежде всего осознающим свою миссию, но без кичливости. И, как это, увы, свойственно многим русским в небрежном, потребительски разрушительном отношении к себе, срамной безалаберности, скрывающей досаду. Много ли добрых слов пришлись на его долю?
В награду он получил на “Стажере” свою вторую жену Светлану, обожавшую его, родившую ему сына Алешку, доставшуюся ему, видимо, слишком поздно во спасение. Вот это была подлинная идеальная русская женщина, жертвенная и самоотверженная, на которую может опереться слабый русский мужик. Толик достался Светлане уже не в лучшем виде и очень хорошо оценил в ней то, что литературно-умо-зрительно конструировалось в голове Андрея.
Вначале Толя поселился вместе со Светланой у ее родителей в крошечной квартирке где-то в подмосковном захолустье, кажется, в Люберцах. Но его не смущали теснота и убогость. Он не был избалован и от всей души полюбил свою новую семью... Раньше он, бывало, подвыпив, легко оставался ночевать у нас, но теперь непременно спешил домой...
Помню, как в одной из рабочих комнат “Стажера” группа праздновала завершение работы над картиной. Длинная, плохо освещенная комната, на всю протяженность которой поставили столы. Андрей был очень недолго. Он в то время совершенно не пил, сказал несколько благодарственных тостов и удалился, призывая Ларису последовать за ним. Но Лариса только открывала прощальный вечер, раскручиваясь со всеми нами на полную катушку. В отсутствие Андрея Лариса как будто бы занимала его место, замещала его на свой лад. Маша Чугунова понимающе переглядывалась с патронессой, во время извлекая для нас нелегально припасенные бутылки водки и названивая Андрею с пояснениями, почему задерживается Лариса. Распивать спиртное в рабочих помещениях тогда запрещалось...
В освещении еще более тусклом от зависшего табачного дыма почему-то особенно ярко помнится Толик, примостившийся на каком-то диване, тоже придвинутом к столу: прикрыв глаза и почти не вынимая сигарету изо рта, он время от времени тянет одну и ту же фразу, и все хохочут: “Из полей доносится налей”... Наполняется очередной стаканчик... Весело до невозможности, но почему-то совсем не так, как было когда-то на “Рублеве”, когда молодой Солоницын напевал: “Мы не будем больше пить, будем денежки копить. А как накопим рублей пять, можно выпить нам опять. А потом...” И все сначала, как “у попа была собака”...
Тогда казалось, что все впереди, а этот пир ощущался почему-то опасным и разрушительным... В конце вечера Толик еле стоял на ногах, и когда мы с ним вместе добрались до метро Киевская я естественно думала, что он не потащится в таком виде в Люберцы, а переночует у нас на Аэропорте. Но Толик был непреклонен в своем решении ехать домой: “Ты что? Там меня моя нянька ждет”, так он называл Светлану с какой-то подлинно доверительной любовью. Она не оставит, она не бросит, она приголубит...
Немного было ему дано этой новой жизни с новой женой. Очередное воспаление легких настигло его, кажется, на съемках в Белоруссии, обернувшееся гораздо более серьезным онкологическим заболеванием. Одно легкое удалили. Андрей говорил потом не раз, что не надо было оперироваться, а лечиться всякими другими методами. Его самого потом оперировать было слишком поздно, но тот же конец был предрешен...
У Толика после операции наметилось некоторое улучшение. Он даже успел сняться в фильме В.Абдрашитова “Остановился поезд”, но вскоре снова занемог. Где-то к новому 1982-му году он со своей второй семьей вселился, наконец, в собственную трехкомнатную квартиру, как и у Тарковского, недалеко от Мосфильма, но не государственную, а кооперативную, выстроенную в том числе и на одолженные деньги. “Вселился” — точнее будет сказать, что его уже ввезли туда смертельно больным. Только жена его Светлана отказывалась в это верить до самого конца, до последнего его вздоха.
Мы с мужем часто навещали его тогда, но, хотя мой отъезд на Запад был уже запланирован, Толик об этом ничего не знал и едва ли одобрил. Толя был очень русским, православным интеллигентом, верившим в наш собственный особенный путь...
Встречал он нас в своей новой квартире поначалу на своих собственных ногах. Помнится он мне в это время в махровом халате, в кресле, в которое он усаживался в своей гостиной. Первое время казалось, что он пытается быть почти счастливым в собственном доме, которым очень гордился, недоумевая при этом, что ему “даже выпить не хочется, представляешь?”...
При этом Светлана с ощущением одержанной победы рассказывала о том, что она спускается вместе с Толей на лифте вниз и, двигая перед собой стул, он может “уже”, а не еще совершить прогулку вокруг дома — один круг. Это было специальное время с очень специальной атмосферой внутри этой семьи, полной ответственной любви...
Потом, приезжая к Толику, я уже сидела у дивана, на котором он лежал, все реже поднимаясь. Светлана и не мыслила отдавать его в больницу. Они были категорически против наркотиков, отыскивая самые фантастические, наверное, шарлатанские способы излечения, в которые они верили. И Толя терпел, глубоко убежденный, что “нянька” не даст ему умереть. Он никогда не говорил со мной о смерти, хотя лежал уже точно скелет, обтянутый кожей. Только однажды, может быть за неделю до своего конца, он сказал мне с горьким удивлением: “Оль! Ты подумай — теперь у меня есть, кажется, все: семья, которую я люблю и которая любит меня, есть квартира, есть интересные предложения в кино, а меня... меня, как будто бы кто-то выбивает из седла?!”... Да. Что я могла ответить?..
За несколько месяцев Андрей с Ларисой, жившие от Толи в пятнадцати минутах ходьбы, навестили его только один раз минут на сорок, как говорила Светлана, когда он еще кое-как передвигался по квартире. Надо полагать, что от растерянности, Андрей повторил несколько раз одну и ту же не слишком ловкую фразу, обидевшую Светлану: “Толь! Ну, ты дурак! Ну, ты чего это?..” Наверное, Толя чувствовал себя провинившимся перед Мастером в этот момент — ведь ему нужно было крепнуть для предстоящих съемок “Ностальгии” в Италии. Роль-то писалась для него, и он тогда еще не имел понятия о том, что Янковский утвержден вместо него...
Андрей с Ларисой в свою очередь тоже рассказывали мне об этом своем визите. Атмосфера в доме, как они ее восприняли, “со спертым воздухом, задраенными окнами, произвела на нас тяжелое, неприятное впечатление. Какая-то дикость! Бедный Толя!”
Может быть это стало причиной того, что Тарковский, уезжая на долгожданные съемки в солнечную Италию, не посчитал должным сказать Толе до свидания, не утешил его, как полагается в России, заверениями, что едет пока на выбор натуры, для уточнения сценария, например, или чего-нибудь в этом духе. А до съемок, мол, еще времени хватает — так что не волнуйся, дружище... То есть уехал, не попрощавшись со своим любимым актером, со своим “талисманом”, зная точно, что никогда больше его не увидит. Было больно и тяжело наблюдать это со стороны.
Домашние и близкие тщательно скрывали от Толи отъезд Тарковского, не зная, как ему все объяснить. Но, как говорится, “шило в мешке не утаишь”. Через какое-то время, кажется, Андрей Разумовский, сосед по дому, будучи сильно навеселе, навестив Толика, сообщил, что Тарковский уже снимает в Италии “Ностальгию” с Янковским...
Излишне говорить, что конец Толи был предрешен. Тем не менее в ночь после этого сообщения у Толи отнялись ноги, и он больше никогда не встал со своего дивана. Он попросил “няньку” убрать со стены фотографию Тарковского в кепочке, висевшую у него над диваном со словами, что “он выпил у меня всю кровь”...
В начале июня мой муж привез на нашей машине к Толику, глубоко религиозному человеку, священника для соборования. А 11-го июня Солоницын умер в одно мгновение, поперхнувшись кашей, которой кормила его “нянька”. 30-го августа ему исполнилось бы 47 лет.
Гроб его стоял не в Доме кино, как более “достойных”, а в театре Киноактера на Воровского (ныне Поварской). Друзьям актерам, пользовавшихся большей популярностью у “народа”, чем он сам, с трудом удалось выхлопотать ему место на Ваганьковском кладбище, всей братней собрав деньги на взятку, похороны и поминки. Людей было не слишком много, но люди были все хорошие и хоронили его по традиционному православному обряду, без официальной помпы, но с подлинной скорбью. Помнится, если не ошибаюсь, как Заманский, поправлял ему венчик на голове, а в руке разрешительную молитву и свечечку, раздавал всем по ложечке кутью.
На похороны приехала Лариса Тарковская, не успевшая еще уехать в Италию вслед за Андреем. На поминках она, конечно, произносила “значительные” велеречивые тосты, соответствующие в ее понимании духу великого супруга, крестного отца покойного “комедианта”...
Она уехала в августе, когда мои пожитки и мои детки были уже почти собраны к отъезду в Амстердам, куда мы отбыли 2-го октября 1982 года.
Там... за горизонтом
И как бы чувства ни служили бреду,
У них бы все ж явился нети выбор Перед таким несходством. Что за бес Запутал вас, играя с вами в жмурки ? Глаза без ощупи, слепая ощупь,
Слух без очей и рук, нюх без всего, Любого чувства хилая частица Так не сглупят.
Шекспир.
“Гамлет ”. Акт III. Сцена IV
Тот самый Боря, который организовал следом за своим отъездом мой отъезд на Запад и воображавший себя большим пессимистом только потому, что больше всего на свете боялся не Гнева Божия, а когда-нибудь неизбежно умереть, любил повторять, что “эмиграция — это репетиция смерти”... Но тут он, может быть был прав. Как концептуалист жизненной сцены, на которой кое-каких актеров ему удалось расставить. Есть в этом процессе особое специальное напряжение: либо тихое угасание, либо слишком бурное цветение — “как румянец у чахоточного” — и то и другое подгоняет и, кажется, ускоряет конец, даже если на самом деле суждено прожить долго. О конце задумываешься чаще, оглядываясь назад и получив, благодаря эмиграции, возможность оценить всю свою предшествовавшую жизнь как нечто завершенное целое, как нечто, так или иначе, законченное... Конечно, если ты эмигрировал в зрелом возрасте.
Мне кажется, отчасти именно поэтому еще более отчетливыми размышлениями о смерти и о путях спасения в потустороннем мире пронизаны оба фильма Тарковского, сделанные им в изгнании...
Хотя сейчас, оглядываясь назад, период съемок “Ностальгии” вплоть до кинофестиваля в Канне в 1983 году кажется мне отчего-то почти юношески-светлым. Цитируя себя в интервью, опубликованном в голландской газете “Фолк-скрангг”, я иначе ощущала тогда состояние Андрея:
“Тарковский выглядел очень усталым, я бы даже сказала, изнуренным. Он приблизился к завершающему этапу работы над фильмом: монтажно-тонировочному периоду. Это всегда было для него самое тяжелое и ответственное время. Например, “Зеркало”имело 14вариантов монтажа. Зная его метод работы, могу сказать, что в это время у него происходит действительное рождение фильма, как правило, мучительное для него и исполненное сомнений. Кажется, он действительно “ваяет” фильм из разрозненных кусков пленки, которые чаще объединяются не прямыми действенными связями, а таинственными ассоциативными и поэтическими путями, многие из которых возникают прямо здесь, за монтажным столом.
Для Тарковского всегда важен дом, куда он возвращается после работы. Когда я поднялась в его римскую квартиру, расположенную на последнем этаже старого дома XV века, то почти не смогла сдержать удовлетворенной улыбки. Все было, как прежде, как полагалось быть в его доме. Кажется, попади я в эту квартиру случайно, я непременно догадалась бы, кто ее хозяева — такими привычными и знакомыми были все интерьеры, предметы, запахи, которые удивительным образом немедленно поселялись там, где, хотя бы недолго, останавливался Тарковский, не говоря уже о его постоянной квартире в Москве. На высветленных белым цветом интерьерах стен особенно контрастны очертания любимых Тарковским силуэтов старой, темной деревянной мебели. Пространственные плоскости также заполняются предметами, образующими бесконечные натюрморты, не раз запечатленными режиссером на пленке и периодически перевоссоздавае-мыми им самим и его женой в их реальном доме. Здесь в гостиной цветы в больших прозрачных сосудах простого стекла, большие корзины фруктов, по стенам фотографии, репродукции любимых картин и литографии, на полках, среди книг и на подоконниках как будто случайные старинные вещицы — но, на самом деле, Тарковский ценит в предметах то, что несет на себе, как говорят японцы, знак “патины ”, то есть следы существования вещи во времени, зазубрены долгой судьбы...
А на стенах кухни красуются связки чеснока, перца, как их особенно принято продавать на щедрых южных базарах. Так что квартиру снова время от времени наполняют запахи вкусной пищи, которая готовится в доме у Тарковских всегда обстоятельно, изобретательно и с любовью — творчески — с тем особым значением, которое издавна придавали “трапезе”наши деды и прадеды. Это уже вотчина жены Тарковского Ларисы Павловны, которая умудряется с поражающей неутомимостью вновь и вновь окружать своего мужа всем тем, что ему привычно и дорого, чему он придает особое бытийствен-ное значение. Крепость домашних стен мгновенно возводится ею там, где даже на самое короткое время останавливается Тарковский в своих производственных передвижениях, будь то гостиница, случайная деревенская изба или арендуемый этаж в таллинском предместье. Теперь камин, который так любит разжигать Тарковский в своем деревенском доме, засветился в Риме. И, сидя у этого камина, я уже нисколько не удивлялась тому, что Тарковский теперь почему-то снимает свой фильм в далекой Италии. Просто это оказался еще один кусочек мира, охваченный магнитным полем Андрея Тарковского ”.
Очень смешно, но помнится, как прочитав это мое вступление к интервью в Риме, Лариса тут же высказала мне порицание: “то есть я опять только хозяйка и повариха? А кухня, значит, то единственное место, которое ты мне уделяешь рядом с Тарковским?”... В некотором замешательстве я пыталась как-то оправдываться, объясняя, что эта ее роль в моем понимании очень значительна и по-особому всегда привлекательна для самого Тарковского. Но, честно говоря, это ее не очень волновало в параметрах Истории, где она пыталась зарезервировать свое собственное, гораздо более значительное место...
Что касается самого Тарковского, то он действительно был и изнуренным и усталым, но в то же время был тогда также задорно-молодым, радостно-взвинченным, точно пружина, готовая вот-вот распрямиться в полный рост — точно человек, лукаво и исподволь подготововшийся к решительному и победному прыжку...
* * *
Но теперь вернемся к моему первому свиданию с Тарковскими в Риме. Ему предшествовали обстоятельства, сильно озадачившие меня поначалу, а позднее оказавшиеся вовсе не случайными. После того, как мы расставались сначала с Андреем в апреле, а потом с Ларисой в августе, то соответственно договаривались немедленно созвониться, как только я окажусь в Амстердаме. Но что могли мы все знать?.. И что могла знать я лично о своем грядущем житье-бытье в совершенно случайной и незнакомой мне стране?...
Приехав и едва очухавшись, я, естественно, рванула к телефону порадовать Тарковских своим прибытием на другой клочок обетованной земли. Трубку телефона, как водится, подняла Лариса. Фоном слышался шум голосов, к которым присоединился еще мой радостный приветственный вопль с другой стороны провода. Но Лариса отвечала сдержанно, поскольку, как она объяснила, у них сейчас люди из съемочной группы и разговаривать сейчас не получается. Но они (она, конечно!) мне перезвонят, как только освободятся...
Ура! — снова возопила моя душа. Ну, ясно! Работают ребята напропалую! Немного терпения, и мы сольемся в любовно-телефонном экстазе...
Однако ответного звонка я почему-то не дождалась, полагая, что Лариса, видимо, в спешке записав телефон, наверное, его потеряла. Так что через пару недель я решила вновь повторить свой звонок. Разговор с Ларисой был еще более краток—они снова были очень заняты, и она непременно перезвонит мне, освободившись. Но звонка снова не последовало к немалому моему недоумению. Как так и что это вообще может значить? О-ля-ля! Не в третий же раз мне звонить?
Ясно — со мной прерывается всякая связь по причинам совершенно мне неизвестным. От этого осознания я несколько прибалдела и была не в состоянии даже приблизительно вообразить себе, что же могло произойти, но факт оставался неоспоримо ясным. Чудеса! Какие-то страшноватые однако... Но первым шагам эмиграции сопутствуют столько неожиданностей разного рода, что, в конце концов, все как-то выравнивается в общем бреду...
Начиная новую жизнь в Голландии уже не в самом юном возрасте, обремененная моими любимыми чадами, я не очень ясно представляла себе наше ближайшее будущее. Но в любом случае я, конечно, планировала, наконец, опубликовать вместе с Тарковским “Книгу сопоставлений”. Для чего же по его заданию я разрывала договор в Москве? Тем более, что мы договорились с Андреем, что он вывезет экземпляр рукописи, поскольку он ехал в официальную командировку, и его шанс на обыск был минимальным. А я выезжала на постоянное место жительство, что означало тотальный досмотр каждой моей вещи. Уже в аэропорте, например, меня с крошечными детьми попросили пройти в специальную комнату, где нас троих полностью обшарили, обыскали все карманы и попросили снять обувь не только меня, но и детей...
Обживая теперь новую неожиданную для меня ситуацию с Тарковским, я предположила, что в отличие от меня, оставаясь советским гражданином, он, видимо, боится издавать книжку на Западе “без спроса” то есть “нелегально”. Тем более, что ряд уже вышеизложенных событий, вроде истории со шведским журналом, работали на эту версию, то есть, видно, ему “и хочется и колется”... Я была уже голландской гражданкой, и терять мне было абсолютно нечего... Когда-то, когда Тарковский верил в ее публикацию в Союзе, я лично писала эту книжку только “в стол” и для истории кино, понимая, какое значительное место Тарковский займет в этой истории... Но теперь-то ситуация кардинально изменилась...
Тогда, осознавая новое положение командированного Тарковского как двусмысленное, то есть не слишком “свободное”, я решила, что буду издавать эту книжку сама, если он будет продолжать сомневаться. Тогда я сообщила через своих голландских друзей своему мужу в Москву, чтобы он попытался переслать мне экземпляр “Книги сопоставлений”. Оказия скоро появилась. Голландец, славист по имени Стан ехал в Москву, прихватив для меня на обратном пути рукопись книжки с напутствием моего мужа в виде звукового письма на магнитофонной пленке. Он, как и Забродин в свое время, тоже настойчиво советовал мне издавать книжку самой, так как по международному авторскому праву книжка принадлежит тому, кто водил пером по бумаге. И не связываться больше с Тарковским...
Перевозить рукопись было так опасно, что мой муж с помощью Ней Марковны Зоркой зашил ее очень аккуратно в брюхо большого плюшевого мишку, а Стан, хотя и взялся участвовать в этой авантюре, приехал в Амстердам на грани нервного срыва. Моим единственным утешением ему, рискнувшему своим покоем и благополучием, было обещание подарить ему эту книгу, как только она будет издана, что я позднее и сделала. Но мужа своего я все-таки не послушалась...
Как я могла оставить без внимания, из чувства нормальной порядочности тот договор, который изначально был подписан в Москве двумя соавторами, хотя и был к тому моменту мною уже расторгнут? Так что вопреки советам своего мужа я решила еще один раз позвонить Тарковским, чтобы все-таки поставить их в известность о своем намерении издавать книгу на Западе под своим именем, как сборник интервью с ним, если он сам, судя по всему, опасается этой публикации. То есть взять на себя снова ту полную ответственность, которую однажды он уже предложил мне взять на себя в связи с публикацией в Швеции.
Тогда я набрала телефонный номер Тарковских в третий и, как я полагала, в последний раз, сухо сообщив им только о своих планах. Лариса снова сказала, что перезвонит мне, но на этот раз, к моему великому изумлению, звонок последовал буквально через несколько минут. И в телефонной трубке зажурчал сладкий, до боли знакомый, исполненный нежности голосок Ларисы Павловны: “Олюшка, а что собственно происходит? Где ты? Мы здесь с Андреем совершенно не понимаем, куда ты запропастилась? Почему до сих пор не приезжаешь в Рим? Как это случилось, что мы до сих пор еще не виделись? А Андрей, конечно же, хочет издавать книгу, но у нас нет экземпляра. Он с собой ничего не взял. Так что немедленно хватай свой экземпляр и приезжай к нам, чтобы вы вместе подумали о доработках’’...
Мама-мия! Здрасьте! Что это должно означать теперь? Но для такой дуры, как я, было ясно только одно, что все возвращается на круги своя, то есть надо с кем-то оставлять детей и ехать как можно скорее в Рим, возобновлять череду своих привычных любимых свиданий с Маэстро. Хотя все происшедшее на этот раз на самом деле было как-то по особенному неприятно, учитывая, что в новой ситуации почва под моими ногами была гораздо менее твердой, и моя позиция гораздо более уязвимой... Надо было бы насторожиться... Но где там?..
Я следовала своей судьбоносной жизненной тропой, не задумываясь в очередной раз, что там Лариса снова наплела про меня Андрею, чем объяснялось их молчание? В конце концов все, что связано с Ларисой, как всегда покрыто тайной неизвестности — так что ничего принципиально нового не произошло. Все складывается через препятствия, но счастливо — впереди снова работа с Ним — при чем туг все остальное? “Ужимки и прыжки”? Не впервой! Тем более, что очень скоро Лариса даст частично убедительное, частично неясное для меня объяснение...
А пока душа грелась новым приливом воодушевления. Детей на недельку распихала по добрым друзьям. К тому же в газете “Фолкскрант” согласились опубликовать мое интервью с Тарковским — так что поездка еще к тому же и окупалась. А денег-то здесь совсем не было...
Помню еще мое удивление, когда сотрудник отдела кино Питер ван Бюрен попросил меня “не писать в своем интервью никакой антисоветчины, как это принято у русских эмигрантов”. Я, правда, и не собиралась ее писать, но мое советское воспитание базировалось на том, что западная пресса просто жаждет нас “оболгать и унизить”. Здесь тоже что-то не сходилось, но в приятном для меня аспекте. Не все так просто, наверное...
И вот я впервые в Риме, куда я прикатила на поезде, в той самой квартире, чье лирическое описание, сделанное для газеты, цитировано мною выше. После странноватой предыстории встретились мы на редкость тепло и задушевно, как люди родные и близкие, близкие и родные даже более, чем это было почти недавно дома, в Москве. Может быть, потому, что теперь нас объединяла общая эмигрантская судьба, отчасти общие эмигрантские тяготы, особенно роднившие нас потому, что и мне, и Тарковским предстояло завершить эмигрантское переселение окончательным объединением семьи. Мне не хватало моего мужа, отца моих детей, а Тарковским — их Тяпы и Анны Семеновны.
Мы говорили, говорили и не могли наговориться всласть, поражаясь, что судьба снова свела нас вместе уже здесь, на далеком когда-то Западе. “Это перст Божий”, — с умилением и надеждой повторяли мы опять. Лариса кормила нас как всегда вкусно и сытно, и выливали мы с ней себе в удовольствие, так как Андрей в это время снова не пил. Я нежилась в их радушие, наслаждаясь давно знакомым уютом.
Но когда мы остались с Ларисой вдвоем, несмотря на всю размягченность моего состояния, я все-таки пойнтере-совалась, чем было продиктовано их безответное молчание на мои телефонные звонки. Последовали два ответа.
Первый был вполне привычен и убедителен. Вновь оскорбленная Лариса рассказывала мне, что Андрей снова и ужасно предал ее. Что у него роман с итальянкой Донателлой Боливия и что он обнаглел до такой степени, что встречал ее на аэродроме вместе с ней. “Нет, ты представляешь? Это после всего, что я пережила с ним? После того, что я оставила в Москве детей, маму? Не-е-ет, такого эгоиста я еще не видела! Тем более здесь, на чужбине — ты не представляешь, как мне здесь одиноко. Ведь я совершенно одна! Так что пока я опомнилась от этого нового сюрприза и приходила в себя хоть как-то... конечно, мне было не до звонков”... Ой, бедная Лариса! Ну, Андрей дает!
Но второе объяснение было прямо-таки совсем неожиданным и для меня абсолютно нелогичным. Лариса объяснила мне, что заведующий Отделом внешних сношений Госкино СССР, (кажется, это был Шкаликов), с которым она очень много общалась перед отъездом, настойчиво посоветовал ей держаться от меня подальше. А потому она сомневалась...
Вау! Что бы еще это могло значить? Если предположить, что меня завербовало КГБ, то зачем Шпаликову делать Ларисе такое предупреждение? А если КГБ советует им не общаться со мной, потому что в их глазах я предатель и изменница родины, то почему это должно волновать Тарковских? Так что, задумавшись ненадолго, я предоставила им самим “хоронить своих мертвецов”, разбираться с теми проблемами, которые меня лично никак не касались. Оставалось только недоуменно пожать плечами — бред как всегда!
Но развивая эту тематику дальше, Лариса продолжала взахлеб жаловаться мне, как сложно и трудно ей было вырываться из Москвы, пороги скольких кабинетов она обивала. И что же теперь в награду? Снова все то же, все также и на чужой земле тоже... Да. И переживания Ларисы оставались теми же. Хотя тем более странно, что она не позвонила мне. Как-то не очень похоже на нее, переживавшую измены Андрея всегда бурно, вовлекая в свои страдания сразу же первого попадавшегося ей под руку человека. И вдруг такая сдержанность в отношении меня???
Но обо всем этом тоже не хотелось больше думать — все равно все было привычно и по-особому хорошо: так тепло меня встречали, так по-родственному доверительно текли речи... И, в конце концов, какая разница, что позади осталась еще одна неприятная зазубрина наших отношений?!
Мы бродили по Риму, и Андрей демонстрировал мне свои любимые места, как завсегдатай этого города. Он упивался своей любовью к Риму и Италии. Наслаждался каждой улочкой и каждым фасадом. Пьяцо Навоне называл самой красивой площадью из всех, что ему пришлось видеть в мире, увлекая нас затем на площадь Испании и площадь Святого Петра. Затормозил постепенно у бесконечных букинистических базарных рядов на набережной Тибра и вдруг предложил мне выбрать себе от него в подарок какую-нибудь книжку. Я прямо-таки обомлела — он никогда в жизни ничего мне не дарил — и, смутившись, я постаралась найти что-нибудь подешевле. Немного порывшись, я вытащила из стопок книг старый буклет путеводителя по Риму для туристов с цветными фотографиями. Я переслала потом этот буклет в Москву своему мужу, чтобы он мог хотя бы немного приобщиться к тем красотам, которые были теперь нам так доступны.
С Ларисой мы регулярно ходили на рынок, расположенный на Пьяцо Фарнези, близ Виа де Монсерато, где жили Тарковские. Запомнилось на всю жизнь, как Лариса купила там подарок для моего старшего сына Степы. Он прекрасно рисовал в свои четыре года, обожая изображать всяких страшилищ и прочую нечисть. Поэтому она купила замечательного китайского дракона, которого он много потом рисовал и который хранится у него до сих пор...
Как выяснялось дальше, отношения Ларисы с Андреем складывались в Италии по-новому сложно, как в лирическом, так и в материальном плане. При всем том, что Лариса, по ее уверениям, все время спасала Андрея от нищеты, сама всегда была очень склонна транжирить деньги — страсть к обильным застольям, плотоядным наслаждениям, красивым туалетам всегда ей сопутствовала, и она жила в ощущении, что всего этого не дополучила от своего “гениального” спутника.
В Москве Лариса распоряжалась всеми финансовыми вопросами — денег всегда было недостаточно, и ей полагалось крутиться, добывая средства существования, очевидно, из воздуха. В Риме характер финансовых отношений в корне переменился, и Андрей стал полновластным хозяином кошелька. Считая теперь особенно правильным и разумным экономить деньги, он стал очень прижимистым. Он боялся и не понимал предстоящую западную жизнь как в духовном, так и в экономическом плане. Лариса, наиболее убежденная, что им нужно оставаться на Западе, подталкивавшая его к этому решению последовательно и целенаправленно, не желала даже на йоту пересмотреть свои взаимоотношения с деньгами, воздержаться от чрезмерных для их доходов трат.
Готовясь стартовать в новую жизнь, Лариса более всего рассчитывала на грядущие доходы, искупавшие ее “тяжелое прошлое”, оставаясь совершенно советским человеком, путающим туризм с эмиграцией, дорвавшимся до Запада, чтобы “оторваться” по полной программе.
Прежде всего Лариса жаждала приодеться сама, а также приодеть все свое семейство в Москве. А потому с каждой оказией посылались бесконечные посылки, а также наличные деньги, что вроде бы совершенно естественно, если бы не чрезмерно. Но явь у Ларисы всю жизнь до такой степени мешалась с ее вымыслом, что все обстоятельства взаимоза-менялись в разной пропорции, по необходимости и без оной. В этом смысле просто смешно было читать гораздо позднее поразительное интервью с Ларисой, напечатанное в газете “Голос” в 1995 году, где нет почти ни одного слова правды. Как будто бы была еще объективная необходимость к этому моменту утаивать правду, как будто бы ничего не изменилось ни в общественной ситуации, ни в положении Андрея в связи с новым временем. Лишь бы ее ситуация выглядела, как можно более мелодраматично, а поведение героично. В частности, она заявляет: “Нас даже лишили права посылать деньги сыну и маме”. Но кто мог лишать этого права или давать его в советское время? При необходимости все люди пересылали тогда своим близким и друзьям вещи, которые выгодно перепродавались, превращаясь в советские рубли. Точно также можно было переслать с кем-то валюту, которая менялась нелегально и надо было знать эти неофициальные пути. Я лично, моя свекровь и моя мама возили, отправляясь в Москву, какие-то неподъемные баулы для Анны Семеновны.
Сколько раз я бродила с ней по рынкам и магазинам, закупая кеды и джинсы, туфли и юбки, сапоги и пиджаки Ляле и Тяпе, подвывая иногда: “Лара, но зачем же опять? Ведь не каждый день у них все снашивается?” Часть покупок утаивалась от Андрея, тем более все, что касалось Ляли. При этом, надо сознаться, меня беспокоило только одно, сбросит ли она со своего барского плеча хоть одну шмотку для Алешки Солоницына, оставленного отцом, скажем мягко, в стесненных материальных обстоятельствах... Пыталась напомнить ей об этом... Но, какой там... Своих было много...
Точно также и в том же интервью, Лариса, не думая о реальности, патетически восклицает: “Шесть лет нам не отдавали сына”. Что можно об этом сказать, если Тарковский уехал в апреле 1982 года, а Тяпа приехал в самом начале 1986 года? Но, конечно, страдания не исчисляются арифметикой... Так что ко всей этой белиберде придется еще вернуться в другом контексте. А пока...
Лариса жаждала материальных “приобретений” и к этому моменту уже успела купить себе дорогую шубу, в которой она запечатлена на моих фотографиях. Шуба была куплена “без разрешения”, а потому, как полагалось, с ворохом сопутствующей лжи.
Ее истинная цена была скрыта от Андрея, как и многое другое, что от него скрывалось, а сама Лариса доступными ей сложными путями пыталась возместить разницу между ее реальной стоимостью и названной ему суммой. Андрей прятал от нее деньги, но Ларисе не составило большого труда отыскать его “тайники”. Привыкнув, кажется, ко всему, я все-таки была удручена, когда Лариса, проводив Андрея из дома торжествующе пододвинула табуретку под люстру, висевшую в их спальне, и откуда-то оттуда, из люстры, из-под потолка, извлекла заначенную там Андреем круглую сумму. Она неистовствовала, потрясая этим свертком: “Нет, ты видишь, что он вытворяет? Ты видела такого скрягу? Это он от меня прячет, а? Ну, ничего. Он все равно ничего не понимает, а я экономлю и подсовываю ему деньги за шубу сюда обратно”... Это было новое сильное впечатление, от которого я несколько прибалдела в очередной раз — какой-то новый сумасшедший дом...
Тогда же она вытащила дневник Андрея и зачитала с соответствующими комментариями несколько записей, одну из которых я помню отчетливо, потому что возвращалась она к ней много раз: “Я всю жизнь стремился создать семью. Но разве можно создать семью с такой женщиной, как Лариса?!”
“Нет, ты посмотри! — взвизгивала она. — Это, оказывается, со мной нельзя создать семью! А эти его бесконечные бабы? И сейчас эта жуткая Донателла? Это он специально хочет очернить меня для истории!”
Так вот, возвращаясь к этой правде в деталях, мне до сих пор становится не по себе. А тогда всякий раз, когда я встречалась с Тарковскими на Западе, мое радостное обожание Маэстро, счастливое предвкушение новой встречи с ним все быстрее сменялось ощущением почти физического удушья. Скрывать свое отчетливое и навязчивое чувство раздражения, подыгрывать их фальшивым играм со временем становилось все сложнее...
Андрей жил точно в коконе, старательно сплетенном для него из лжи. Самое интересное, до какой степени он это понимал? Скажем, он не имел понятия о реальной жизни, развивавшейся в покинутой им московской квартире. Теперь когда-то изгнанный им Араик вовсе там заселился — “а кто же будет помогать маме?”, как объясняла мне Лариса. Потом этот Араик, узнав, что Тарковские вовсе не собираются возвращаться, без лишних слов и предупреждений скрылся в неизвестном направлении, прихватив, по словам Ларисы, то ли кругленькую сумму денег, то ли вещи, предназначенные для продажи...
После отъезда Андрея Лялька вернулась домой, но, по заверениям Ларисы, одна, разведясь с мужем, который на самом деле жил там же и получал свои подарки из Рима. Не перепутать все со всем было так сложно, что я возвращалась в Амстердам всякий раз все более разбитой, точно меня переехали катком...
Впрочем, бывали еще изумительные подарки судьбы и всякие смешные истории. Например, когда я была у Тарковских, выяснилось, кажется, через Янковского, что в Риме находятся Панфилов и Абдрашитов.
По поводу такой встречи Андрей заказал столик в ресторане, облюбованном, как он говорил, Феллини с Мазиной. Мы пришли раньше, усевшись в ожидании гостей. Панфилов и Абдрашитов, естественно, знали, что они идут к Андрею, но мое присутствие стало для них подлинным шоком. Я недавно уехала из Москвы, так что следы моего отъезда были свежи, теряясь в Амстердаме... И вдруг (а я была в разной степени дружна с обоими), войдя в ресторан, они просто заголосили пораженные моим присутствием.
Даже степень и качество их реакции были для меня абсолютной нежданной радостью — такое не забывается никогда. Мы вылупились друг на друга, точно не способные наглядеться, не уставая произносить какие-то излишне восторженные вопросы-ответы. Точно СВОИ на осажденной территории. Постепенно все сгладилось, и все заняли подобающие ситуации места. Потом все поехали к Тарковским, откуда Абдрашитов скоро уехал вместе с Янковским. А Панфилов оставался почти до утра, и мне удалось записать их разговор с Тарковским, который теперь уже опубликован.
Вспоминается также, как Лариса принимала на Виа де Монсерато итальянских друзей. Стол ее снова был более чем впечатляющим, обогащенный итальянскими продуктами. Гости, понятно, высказали свое восхищение. И тогда Лара стала рассказывать про особенности русской кухни, принятой у ее дедушки... купца... или владельца колбасной фабрики в родной мне Авдотьинке... Она рассказывала о том, как они ели запросто блины, заливную рыбу, жареных гусей, поросят молочных с гречневой кашей, икру черную, паюсную и зернистую (красная — вообще не икра), пироги, ватрушки (пирог с творогом), пельмени (похожие на равиоли, но лучше), расстегаи (наши пироги с рыбой, каких не сыщешь), снова блины (далее для русского читателя см. Мельникова-Печерского!). У итальянцев глаза лезли на лоб — а как же все можно съесть или ты имеешь в виду русскую кухню вообще. “Нет-нет, что вы, — уверяла Лара чарующим голосом. — Так у дедушки обычно ели, пока их не раскулачили”. Глаза итальянцев ширились еще больше в осознании нашего русского немыслимого для европейца превосходства. Они-то бы, ясно, просто умерли от обжорства. Но не мы, — крепкая косточка! Андрей согласно и удовлетворенно кивал головой... И мне было смешно и приятно...
* * *
Позднее Тарковские, опасаясь оглашать свои подлинные намерения, создали официальную версию причины своего невозвращения, которую с их благословения я тоже распространяла и поддерживала в Москве, когда там оказалась. Но по-слеперестроечная свобода слова не открыла свободу подлинной правде. В вышеупомянутом интервью Лариса, как тетерев на току, снова плетет свой “исторический” рассказ: “Мой муж был истинным русским патриотом! Нельзя было любить Россию больше, чем Андрей... “Ностальгия”... была по-настоящему патриотическая лента... Но в жюри, в Канны Бондарчука направил Ермаш — и лучшей кандидатуры выбрать не мог. Сергей Федорович сделал все, чтобы потопить, растерзать фильм. И тогда Андрей понял: возвращаться на Родину бессмысленно. В лучшем случае мог бы остаться без работы”...
Все это отчасти верно, кроме одного... Вовсе не отсутствие Гран-при стало причиной невозвращения. Если бы он его получил, то тем более не стал бы возвращаться назад. Патриотизм патриотизмом, а деньги деньгами...
Бондарчук не изменил ситуацию по существу, но сильно усложнил ее. Как я уже говорила, Андрей время от времени уже примерялся к эмиграции. Конечно, он устал. Но все равно сомневался, может быть, кожей ощущая, что судьба его на Западе окажется тоже не слишком простой. Лариса же думала, что Запад сулит им почти райские кущи, а потому постепенно, но постоянно подталкивала его в этом направлении.
Во всяком случае, я отлично помню, как, сидя на Виа де Монсерато, мы обсуждали будущее обучение Тяпы в Италии. Андрей говорил все время о каких-то необычайных специальных условиях, которые он ему создаст, чтобы он получал, прежде всего русское образование. “Русское, — удивлялась я, — здесь? Но как и зачем?”
“Он русский, — убежденно говорил Андрей. — И должен знать, прежде всего свою родную культуру”.
“Но где же вы найдете здесь такую школу?” — вопрошала я удивленно.
“Найду учителей. Здесь полно русских. Значит будет сидеть дома и учиться частным образом”, — говорил Андрей.
“Но, простите, Андрей. Мне кажется, это неразумно. Зачем же его привозить жить в Италию, ограждая от итальянской среды, языка, местной ментальности и социальных проблем. Он вырастет в вакууме и что он будет потом делать? Вы предлагаете ему заново пройти мученический путь эмигранта? Это просто нерасчетливо. А если вам так важно, чтобы он оставался русским, практически не интегрировавшимся в это общество, то зачем его сюда тащить?”
Я уже была в Амстердаме со своими детьми, и мы много раз возвращались к обсуждению будущего воспитания Тяпы в Италии, но Андрей непреклонно и неизменно настаивал на особом русском воспитании для Тяпы. Я даже позволяла себе немного сердиться, но он смотрел на меня снисходительно, как бы давая мне понять—то что дозволено Юпитеру, не дозволено быку... Имелись в виду наши дети. И Тяпа, конечно, был Юпитером, а мои крошки низшего сословия... Но меня это нисколько не трогало, но трогала его полная непрактичность и непонимание грядущего.
По мере приближения кинофестиваля в Канне Андрей уже был готов к компромиссному решению; постараться как можно дольше задержаться на Западе возможно более законно, не отрезая себе обратного пути. А Лариса, как я уже сказала, была крепким подспорьем в этом намерении, гораздо более решительная, рисковая, бесстрашная и авантюрная по природе, чем он сам в такого рода делах. Она не задумалась о предпочтениях между сыном и мужем, не заикнувшись ни разу о возможном возвращении домой, несмотря на очень сложные к тому моменту взаимоотношения с Андреем и затягивавшуюся на неопределенное время разлуку с сыном и матерью. “Есть женщины в русских селеньях”, которым не знакомы интеллигентские слюни...
Надо сказать, что сама, не решившись когда-то в Швеции расстаться со своим старшим сыночком, Ларису я считала героиней в безоглядной борьбе за лучшее творческое будущее Маэстро. Тогда мне даже в голову не приходило попытаться уговаривать их вернуться. Гораздо позже многое высветлилось для меня иначе. Но тогда я только ненавидела советские власти, намучившие его более, чем достаточно. Так что от души радовалась, что настал, наконец, момент “плюнуть им всем там в рожу”. Я тоже полагала тогда, не зная еще, что такое Запад в достаточной мере, что здесь и теперь его ожидает блестящее будущее...
О продуманном намерении Тарковских сильно задержаться на Западе еще до всяких Канн свидетельствуют записи в моих блокнотах, сделанные во время тех самых довольно регулярных поездок в Рим, на Виа де Монсерато. Например, я обнаружила в своем блокноте тезисы письма к Ф.Ер-машу, которые мне наговорил Тарковский, как прежде, чтобы я подготовила полный текст письма.
Ведь Тарковский по производственному плану должен был приехать в Москву для натурных съемок ностальгических воспоминаний героя фильма. Но уже тогда Тарковский не хотел там появляться, опасаясь, что его не выпустят обратно. Чтобы объяснить отмену своего визита на родину, свое несколько неожиданное для начальства поведение, он продиктовал мне следующие тезисы для объяснительного письма:
1) Прежде всего в этом письме нужно сказать, что у меня сейчас в связи с завершением “Ностальгии ” слишком много и без того производственных и экономических сложностей. Что обстановка чрезвычайно нервная. Потому что я сам должен следить за каждым движением итальянской административной группы, цель которого, как можно скорее завершить фильм, даже ценою его качества. Для меня такая “цена ” неприемлема.
2) Я отдаю себе отчет в том, что есть некоторые вопросы и проблемы, которые могут беспокоить Ермаша. Это прежде всего вопрос взаимосвязи между выплатой Совинфильму оговоренной суммы денег и нашим отказом приехать в Москву для съемок известных сцен.
Должно быть ясно, что у группы просто нет ни денег, ни времени, чтобы выезжать на досьемки в Москву. Но насколько мне самому удалось выяснить, это обстоятельство не может повлиять и не повлияет на выплату всех денег Совинфильму, которые были оговорены в контракте.
3) Очевидно в Госкино могут возникнуть вопросы, касающиеся изменений в сценарии, коль скоро мы отказались от предполагавшихся съемок в Москве. Нужно успокоить Ермаша и пояснить ему, что изменения не касаются существа известного ему сценария, санкционированного им к постановке в Италии. Я вынуждено отказываюсь от московских пейзажей, но не от существа содержания этих сцен. Ведь не пейзажи сами по себе являются драматургической пружиной фильма.
4) Финальная сцена “Луна ”по прежней давней договоренности с Совинфилъмом должна была сниматься в Италии — через объект: деревенский дом Горчакова. Эта сцена уже снята вполне удовлетворительно и не вызывает у меня никаких сомнений или опасений, то есть снята именно так, как было задумано и написано в сценарии.
5) Вообще изменения в фильме сейчас связаны с тем, что выброшена большая цитата (теперь я уже не помню, какая, записанная у меня “преет” — О.С.) и как замена — надеюсь вас это не огорчит — я ввел линию Доменико, простого итальянца, о которой вам рассказывал в Риме.
Итак, надо еще сказать Ермашу, что атмосфера создания фильма и без того нервная, усугубляется еще и тем, что мой сын каждый раз плачет, когда я звоню ему по телефону в Москву. Поэтому у меня самого нет большей мечты, нежели завершить, наконец, эту картину.
Тем не менее сейчас я все-таки никак не могу приехать и поэтому прошу вас похлопотать о продлении моего пребывания с женой в Италии еще до конца мая, потому что картина едва ли будет готова к концу апреля.
Это несмотря на то, что итальянцы страшно меня торопят, но поступиться качеством картины из-за производственных сроков, я не намерен. Так что очень прошу вас помочь мне закончить картину спокойно и тем самым несколько разрядить напряженно-нервную атмосферу, создавшуюся ныне.
Еще об изменениях в сценарии: я усилил линию связи нашего героя с простым незащищенным обществом персонажем, чего раньше не было. Это изменение возникло потому, что взаимоотношения нашего героя с героиней не могли претендовать на исчерпывающее (достаточно полное) выражение нужной мне мысли. Наш новый персонаж Доменико в знак протеста духовным состоянием современного ему общества кончает жизнь самосожжением — это важный для меня идейный акцент.
Я понимаю, что у вас есть поводы для естественных беспокойств, но, главное, у вас нет оснований волноваться за идейно-художественный уровень моей картины. Кроме того, я не очень хорошо себя чувствую, и такие кратковременные перелеты в Москву были бы сейчас для меня тяжелы”.
В конце по просьбе Андрея я сделала еще одну приписку: “Напиши еще о том, что у меня есть масса предложений, от которых я отказываюсь”.
Перечитывая сегодня эту заготовку письма к Ермашу, остается только улыбнуться нашей наивности и противоречиям, сквозящим за каждой строкой. С одной стороны, Андрея так нервирует сын, плачущий во время каждого разговора со своим отцом, но, с другой стороны, он слишком плохо себя чувствует, чтобы совершить краткий визит в Москву.
Или: итальянцы торопят, но я не намерен торопиться с завершением картины, то есть практически к кинофестивалю в Канне, на который он, конечно, рассчитывал и на который торопился. (Парадокс, но прямо-таки вывернутая наизнанку история с “Зеркалом”.)
Но как все-таки изменилось самосознание, думается теперь. Когда-то Тарковский с Юсовым, с трудом вырвавшиеся в Японию для съемки длинного проезда Бертона по трассам города будущего, оплатили своими собственными деньгами закупку лишних метров кодака. А теперь Тарковский отказывается от визита в Москву из страха не вырваться обратно или отсчитать деньги Совинфильму, хотя, я уверена, он мог бы получить дополнительные пронзительные кадры того самого мира, о котором так ностальгирует Горчаков.
И последнее. Очень важное в связи с той припиской, которую он попросил меня сделать: у Тарковского к тому моменту, увы, не было никаких предложений работать, от которых бы он отказывался. Но он готовил себе более полное от-отупление вглубь Европы. И это была главная реальность еще до всякого Бондарчука...
При этом он очень боялся последствий своих намерений, а Лариса несомненно культивировала в нем этот страх в необходимых пропорциях для достижения главной цели. Потому что сама она на самом деле не боялась ничего, лишь изображая овечку, готовую к закланию рядом со своим любимым. Знала она Андрея прекрасно и умела играть на каждой клавише его слабостей. А он был убежден, что каждый шаг совершает сам. При этом ему, видимо, не без оснований казалось, что за ними вообще следят. А если советские заподозрят его в намерении остаться, то, как мы полагали, его запросто запихнут силком в свою машину среди римской улицы и доставят через посольство в Москву. Мы думали так, вдоволь начитавшись в свободном мире самиздата, но в реальности с трудом представляя себе, каким образом действуют эти силы. Значит самым страшным и рассказанным нам в книжках образом... Кстати, надо заметить, я не помню, чтобы Андрей интересовался самиздатской литературой в Москве.
А поскольку он при всех тяжелых сомнениях в сущности уже решил не возвращаться в Россию, то ему нужна была работа на Западе. Те самые “предложения”, которые бы давали ему официальный повод для запроса новой визы или продления старой для себя и Ларисы, а также для просьбы разрешить выезд к нему сына и тещи.
Уверенный в том, что телефон его тоже прослушивается, и, вообще предпочитая, как говорит моя мама, “переб-деть, чем не добдеть”, он попросил меня устраивать его дела по моему телефону в Амстердаме. Я, конечно, была снова счастлива быть чем-то полезной. А для того, чтобы все выполнить точно и ничего не перепутать я записывала в свой блокнот все его поручения и соображения о том, с кем связываться, что делать и как действовать.
Тарковский искал людей, имевших соответствующие связи и знавших, как действовать, чтобы ему, оставаясь на
Западе, отделаться меньшей кровью, то есть без громких скандалов. В этом смысле он думал и о своей биографии, и о своих родственниках в Москве, особенно об отце. Но, решившись на главный поступок, он был совершенно беспомощен в его осуществлении. Лариса, на которую он привык опираться в разного рода явных и подпольных административных делах в Москве, была только в намерении сильнее его, но в деловом отношении также беспомощна на Западе, как и он, без языка и без всякого знания законов. Смешно, но в этой ситуации мне оставалось гордиться, что роль главного знатока отводилась мне, не умевшей в Москве отличить Исполком от Райкома. Как говорил иногда, тяжело вздыхая мой папочка: “Олька, ну ты, точно старая барыня на вате... Как же ты будешь жить?”... Что ж? Пришлось начать общественное образование во враждебном нам мире...
Но поначалу, еще не предпринимая никаких внятных шагов к тому, чтобы остаться, Андрей обживался с этой мыслью как в душе, так и с нами, то есть с Ларисой и со мной во время моих визитов. По-моему, больше никого рядом с ним не было, не считая, конечно, г-жи Баливия. Но это из другой оперы. Так что я оказалась единственным человеком вне семьи, которому он доверялся и делился своими тайными планами, обсуждая, что делать дальше. Отчасти я приобрела даже статус советника, так как опередила их в своем опыте “отьезжантов-невозвращенцев”...
Еще раз замечу, что, вырвавшись на свободу, мы перечитывали взахлеб груду “запрещенной литературы”, которая заставляла нас многое осмыслять все-таки по-новому. Как много раз повторял Андрей “только бы избежать страшных провокационных действий со стороны КГБ”... “страшных” он сильно акцентировал, поглядывая на нас исподлобья более чем выразительно, чтобы мы, бабы глупые, до конца понимали, о чем идет речь...
Я тоже подумывала об этом, учитывая, что в Москве остались мои родители. А моему мужу и отцу моих детей тоже еще предстояло каким-то образом вырываться за “колючую проволоку”. Но у меня, в отличие от Тарковских, был уже голландский паспорт, и мне не без основания казалось, что в Амстердаме я и мои дети все-таки полностью защищены голландским законом.
В моих старых записях числится некий Пер Альмарк из Стокгольма, который, если мне не изменяет память, помогал Андрею прежде, еще во время его первой попытки остаться в Швеции. У меня был записан номер его телефона, чтобы я могла рассказать ему о новых намерениях и опасениях Андрея. А поскольку он был уверен, что если Ермаш узнает о его планах, то никогда не даст ему завершить работу над картиной, а непременно приложит все усилия, чтобы насильственно вывезти его из Италии, то я записала тезисы своего разговора с г-ном Альмарком по поводу его положения:
“Скажи ему: моя проблема заключается, прежде всего, в следующем: что мне делать, если я буду гореть со страшной силой здесь в Италии ? Я хочу закончить картину. Я должен ее закончить.
Если “они * будут вывозить нас насильственно, то как и чем можно заручиться в этом случае ? Как это все организовать технически в моем положении ? Я не знаю, как это сделать!Кто может поддержать меня и мою семью?
Я прошу его узнать: порвав отношения с СССР, могу ли я рассчитывать получить сюда бабушку и сына? Сумеет ли он организовать международную поддержку на всех уровнях? Сейчас другая ситуация: я нахожусь здесь не один, а с женой (имелось, очевидно в виду, что в Швеции он собирался остаться один — О.С.).
Надо сказать, что я жалею, что не переговорил с ним, когда мы были рядом, но тогда я только ожидал приезда жены (значит Алькмар приезжал в Рим, но до приезда Ларисы, а тогда Андрей еще не решил оставаться? — О.С.)
Как я должен себя вести в этой ситуации и тактически, и дипломатически? В этом мною нужно руководить.
Мое грядущее положение в Союзе видится мне безвыходным: изменения в сценарии уже повод для травли.
РАИ ("итальянское телевидение^ — учреждение, где я сейчас работаю, заключившее контракт на картину с советской стороной, как государственное учреждение будет соблюдать дипломатический интерес, то есть в ситуации моего конфликта с Союзом РАИ не будет на моей стороне (тоже Гуэро!). Это ведь не частный продюсер!
Я знаю, что меня собираются вызвать в Москву — письмо—я буду тянуть до последнего, но, на крайний случай, на что я могу рассчитывать?
Есть ли возможность надеяться, что чье-то правительство предложит мне работу и обратится к нашему правительству за разрешением на эту работу? (sic!) Для чего? Чтобы я мог приехать в эту страну на несколько лет с семьей для работы над фильмом или, возможно также, для преподавательской деятельности.
Мне нужно было бы такое предложение, чтобы постараться не рвать полностью контакты с Советским Союзом и оставаться советским гражданином.
Причем нужно как-то синхронизировать мои действия, направленные на возможность остаться здесь, на Западе, потому что я сам тоже предпринимаю некоторые шаги — чтобы наши действия не перебивали и не дублировали друг друга.
Скажи, что я получил письмо от нашего общего друга (кажется, если я точно помню, речь шла об эстонце, тоже навещавшем его в Риме — О. С.) — но сможет ли помочь мне шведское посольство здесь, в Риме, и что делать, если начнется полный разрыв отношений со стороны Союза?
Я рассчитываю на их помощь, потому что искать для этой цели новые контакты очень опасно. А если только обнаружится факт, что я ищу здесь работу, я в ту же минуту окажусь под микроскопом. Так что еще раз повтори, что мне не хотелось бы искать новые пути, то есть новые контакты.
Что меня беспокоит? То, что, как только они почувствуют или узнают мое намерение остаться, что я совершил в этом направлении какой-то шаг, то КГБ приведет в исполнение испытанные методы, то есть попробует похитить меня и переправить в Москву — можно ли в таком случае рассчитывать на чью-то мгновенную помощь?
И вообще, есть ли основания мне бояться такого рода действий? У меня буквально не хватает мозгов и опыта — ведь я не дипломат, не политик, не общественный человек.
Но ясно одно, что мое письмо (Ермашу, которое я приводила выше в набросках — О, С.) вызовет бурю.
Еще раз: идеальный вариант для меня — это получить приглашение на государственном уровне и просить, чтобы мне разрешили поработать здесь у нашего правительства”.
Господи! Читая сейчас эти строки так и хочется его, как ребенка, прямо-таки прижать к себе, погладить по голове и сказать уверенно: “Детка, милый, не волнуйся. Это все глупости. У тебя все будет хорошо”. Столько слышится теперь полной беспомощности в каждом слове этих напутствий мне, столько щемящей наивности! Бедный Андрюша!
Начинаю анализировать эти записи с конца. Причем тут “какое-то” западное правительство? Каким все-таки советским человеком он оставался! Как может это правительство давать или не давать ему работу на Западе, любую работу, а тем более деньги на кино, пускай, самому выдающемуся классику!? Как может оно помешать взаимоотношениям советского гражданина с советским государством, если этот человек остается советским и не просит политического убежища в соответствующей полицейской инстанции, действующей по закону этого государства? И так далее и тому подобное...
Не могу себе вообразить сейчас, как я сама умудрялась вести все эти переговоры—до того глупо и наивно они должны были звучать. Была такая общая иллюзия царящей на Западе Правды, годной отдельно для каждого. Мы даже не уразумели, что перед законами западной демократии все равны, и даже великий Тарковский не может воспользоваться специальными предпочтениями, не сделав необходимых шагов.
Да. Надо сознаться, что мы были выращены в сознании предпочтительной иерархии и вседозволенности для нас любимых. Ах, как прав Кшиштоф Занусси, когда в своих воспоминаниях о Тарковском он пишет: “Я помню, когда он решался остаться на Западе, мы много говорили о его будущей жизни, о том, что это совершенно иной мир, что у него свои законы, что больше не будет заботливого государства, что придется самому заниматься собственной судьбой, быть самому за нее ответственным... Мы говорили, и я видел, что для Андрея это вещи абсолютно невозможные, непонятные, непостижимые”.
Все это только еще раз свидетельствует о том, как мало мы понимали в западной жизни, полагая ее, только очищенной от недостатков и перегибов, томивших нас в советской России того времени. Лишь грустной улыбки достойны сегодня наши претензии. Как невежественны мы были! Как глухи к той реальности, в которой собирались жить! Думали, что все как в родной совпадении, где звонком из ЦК директору “Мосфильма” можно изменить судьбу картины, обеспечить человека работой или наказать за непослушание. А уж что касается лучших из лучших, то всеобщими усилиями демократов их сразу же замечают, отмечают и продвигают как можно выше. Ну, не идиоты ли?
А, если в том же контексте задуматься сегодня о причинах приезда Ларисы в Италию, который казался нам тогда совершенно естественным. Формальным основанием было сотрудничество Ларисы с Андреем, без которой он прямо-таки не обойдется на съемочной площадке. Так что Лариса приехала в Италию “для работы над картиной”... когда съемки-то, в сущности, были уже почти закончены. И как она могла работать без языка на сьемочной площадке в Италии, оставляя в стороне ее общие профессиональные (не)возмож-ности. Значит, выпуская Ларису в Италию, к Андрею либо отнеслись с особым почтением, либо испугались, узнав что-нибудь о его связи с Донателлой? По-моему, довольно логично мыслю... Тем более, что до этого ее затаскали в Первый отдел Госкино...
Далее Тарковский просил меня еще связаться, не более не менее, как с Растроповичем, чтобы задать ему следующие, отчасти точно такие же наивные вопросы:
“Можно ли получить какие-то гарантии работы? При этом нужно объяснить ему ту многолетнюю травлю, которой я подвергаюсь в Советском Союзе, рассказать ему о моей усталости, что я не вижу для себя никаких перспектив. Если раньше у меня еще были какие-то надежды, то сейчас нет больше ни возможностей, ни сил. Мне очень нужен совет и практическая помощь: возможность официальной зацепки здесь. А если это невозможно, то что мне тогда делать ? И как поступать ? И еще одна просьба, с которой я к нему обращаюсь. Мне очень важно закончить картину, и я очень волнуюсь, что они, советские, ознакомившись с письмом, не дадут мне ее закончить. Тогда, в этом случае, то есть в случае, если разразится скандал, то как мне получить сюда тещу и сына?
Жить в Америке для меня нежелательно, тем более в этот переходный период — я человек европейский.
При этом я готов платить советской стороне необходимый процент в валюте, если они разрешат мне здесь работать”.
Андрей, как, впрочем, и я в те времена, даже не догадывается о том, что устраивать ему работу, просто как советскому гражданину, без взбалтывания вокруг него шумихи невозвращенца, никому не нужно. Нет никакого резона для тех, кто имеет в своих руках приводные ремни этой процедуры, как вскоре мне станет ясным...
Далее у меня записан телефон Пера Альмарка в Стокгольме. И еще одна интересная запись, фиксировавшая следующую проблему: “Дима должен сказать Андрюше”, то есть, записано то, что должен сказать мой муж, с которым я поддерживала более или менее постоянную связь через голландцев, Тяпке в Москве о планах его отца:
“Папа не хочет до конца картины возвращаться в Москву из сложных творческих соображений. Если он приедет, то не сможет закончить картину, а картина была целью его поездки. Поэтому Тяпа должен понимать, что когда папа говорит по телефону, что он приедет, то не надо этому верить—это папа говорит для телефона, который прослушивают ”.
Все эти записи снова овеяны такой наивностью и полным непониманием законов того мира, в котором Тарковский решил жить. Он уже готов остаться на Западе, где, как нам всем кажется, он сможет гораздо легче реализовать свои замыслы. Хотя комфорт западной жизни тоже стал привычным и с ним расставаться тоже было трудно по бытовым, чисто человеческим соображениям. Тем более Ларисе...
Я помню, как до этого ей удалось однажды выехать с Андреем за границу, в Швейцарию. Андрей был приглашен на кинофестиваль в Локарно председателем жюри, а это статус, позволявший брать с собой жену, чье пребывание также оплачивается. Излишне говорить, что Лариса была в восторге от поездки, и я навсегда запомнила один образ из ее рассказа: “Нет, ты не представляешь, что это такое, но особенно меня поразила одна вещь! Вижу, лежат в магазине какие-то совершенно незнакомые мне странные, белые фрукты... И я спрашиваю, так это, знаешь, показывая пальчиком: а это что такое? А мне говорят, что это КАРТОШКА, но только очищенная... И вот это меня больше всего поразило, когда я не узнала свою, родную картошку... Во как!”
“Ностальгия”, в конце концов, очень автобиографическая картина, в которой рассмотрен только трагический, необъяснимый с бытовой точки зрения депрессивно рефлектирующий аспект душевного состояния героя. При этом сам Тарковский как частное лицо, с одной стороны, вобрал в себя все эти внутренние терзания своего героя, но, с другой стороны, оставил за кадром гамму своих собственных переживаний, заставлявших его наслаждаться многими аспектами своей итальянской жизни, но сильно беспокоившей его главным образом недостатком денег в грядущем будущем.
Как мне виделось уже тогда, чувство вины, в реальной жизни Андрея прежде всего связанное с его отцом, витиевато переплеталось у него с простым (назовите это бюргерским, буржуазным) желанием жить комфортабельно в красивой стране. Но особенно полно это желание охватило Ларису. Все-таки по всем моим записям красной нитью проходит важная мысль: неохота рвать с Россией полностью, запросив только легальное право на дальнейшую жизнь за ее пределами...
Когда Тарковскому не удавалось получить от советских властей положительный ответ на свою просьбу временно продолжить свою работу, а значит и жизнь на Западе, то он снова недоумевал и обижался, как ребенок, по-детски наивно: “Не понимаю, почему это Кончаловскому и Иоселиани они позволяют работать на Западе и иметь два паспорта, а мне нет?”...
Позднее, когда в Голландию уже приехал мой муж, понимавший в этих вопросах побольше меня, мы вдвоем пытались объяснить Андрею, что за каждым стоит своя собственная история, формирующая свое же юридическое право. Как ни крути, но Кончаловаский женат на француженке, и у него был формальный повод уехать. Как объяснял Тарковскому позднее сам Иоселиани, за ним стоял лично Шеварнадзе, с которым он как-то по особенному задружился и который лично, под собственную ответственность санкционировал его возможность работать во Франции. Никакие логические аргументы не помогали. Он искренне не понимал и потому очень глубоко обижался, что никто по-настоящему не хочет “там” идти ему навстречу...
Это противоречие сжирало его. Сам Тарковский, намереваясь остаться, поступал вопреки своему герою Горчакову. Потом, когда Тарковский объявит о своем намерении задержаться в Европе, журналисты на каждой встрече будут задавать ему недоуменный вопрос: “Но если вы утверждаете в своем фильме, что русский человек обречен на ностальгические муки, то почему же не возвращаетесь сами?” И всякий раз раздражаясь, Тарковский отвечал в двух вариантах: либо “Я все сказал в своем фильме, и мне нечего к этому добавить”, либо “А почему вы отождествляете меня с героем моего фильма?”
Тарковский всегда был свято убежден, что его искусство полностью свободно от самоцензуры. Не сочтите крамолой мои дальнейшие соображения, но постарайтесь понять меня правильно. В творчестве и судьбе Тарковского все-таки еще раз подтвердился известный трюизм, преподанный нам в школе, что, дескать “нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества”.
Мне кажется, что особенно ярко эта зависимость, может быть, вопреки субъективным намерениям режиссера, подтвердилась именно в фильмах, созданных на свободном Западе. Как бы помимо собственной воли Тарковского, в них ощутимо его нежелание излишне раздражать советских чиновников, оставшихся за кордоном, не давать явного повода для их гнева, объяснить им, что я свой и страдаю по вашей вине в далеком далеке смертельно, не поссориться, а опосредованно продемонстрировать свою подлинную лояльность. Вот сверхпотребность, направлявшая камеру режиссера в Италии. И его сверхтрагедия, потому что его не поняли и не поверили ему. Вот парадокс, который Тарковский не сумел преодолеть, будучи слишком наивным. Он жаждал признания у тех, кто совершенно незаслуженно подозревал его в грехах и намерениях совершенно ему не свойственных.
Тарковский-художник как психотип, был прямой противоположностью, скажем, Любимову, жаждавшему скандала и прущему поперек во что бы то ни стало. Любимов не мог бы осуществиться как заметная художественная и общественная личность вне яростного конфликта с властями. Здесь крылась его энергетика, вне которой позднее, в подтверждение моей точки зрения, он оказался банкротом. Творчество Глеба Панфилов на свой лад в тысячу раз активнее и опаснее в общественном смысле...
Но если проанализировать “Ностальгию” с этой точки зрения, то вы действительно не найдете в ней ничего предосудительного в политическом или общественном смысле, ничего бросающего вызов советской идеологии. Чиновники от кино, видимо, ожидали, что, выехав на Запад, Тарковский, наконец, впрямую продемонстрирует свою враждебную суть, совершенно не понимая с самого начала, в каких вполне метафизических категориях он мыслит, очень далеких от повседневной реальности. Только тупость и невежество, полное непонимание, с кем и с чем они имеют дело, помешали им, образно говоря, “приручить” Тарковского, чего невозможно было сделать с Любимовым. Заоблачные выси, в которых мыслил Тарковский, вызывали у них онтологическое раздражение. Как ни странно, но при всех немалых сложностях творческой судьбы Панфилова, он казался им более близким, своим, хотя по существу именно он был гораздо опаснее, затрагивая и подвергая сомнению самые основы, на которых было воздвигнуто советское общество. Также странно не были, опять же выражаясь образно, “отстрелены” верхами А.Миндадзе с В.Абдрашитовым...
Ведь не только сама “Ностальгия”, но и все, что было им сказано о картине, без особых натяжек укладывалось в рамки более или менее допустимых форм разрешенного к тому моменту советского мышления. Причем я не допускаю мысли, чтобы Тарковский сознательно ловчил или кривил душой. Этого он поистине не умел, а потому был особенно незащищен. Он не умел играть в “их” игры на “их” уровне, оставляя “их” в итоге “с носом”, как это умели делать другие талантливые люди... Он был из другой кошолки, хотя пережил драму вполне советского художника, всерьез “подошедшего” не только на общекультурном русском замесе, но, как это не покажется странным, и вполне советском тоже. Он искренне разделял множество базисных идей, воспитанных в нас советской школой, советскими средствами массовой информации, в конце концов, всей той жизнью, которую прожили уже в советской России наши родители и отчасти деды.
В идеологическом смысле Тарковскому, потомственному русскому интеллигенту, конечно, были откровенно противопоказаны буржуазность или филистерство. А Лариса, понятно, не утруждала себя размышлениями подобного рода — ей все это было “до фени”. Хотя Андрей несомненно ценил комфорт, которым гораздо органичнее он мог бы насладиться в России... если бы позволили... если бы ему дали такую возможность.
Он не лукавил, когда признавался, что его раздражает “разряженность духовной атмосферы на Западе”, как многих русских. Но подобно многим русским он также забывал, что не они приехали к нам, а мы к ним, а потому они все-таки достойны некоторого нашего внимания, попытки хоть немного разобраться в такой нас раздражающей “их” жизни. Тарковский полностью следовал привычной традиции объяснять им, чего им не хватает. Всякий раз он настаивал на нашей необычайной русской духовности, опираясь подсознательно на свою привычную, обжитую и понятную ему до мелочей среду недавнего обитания, свою собственную культурную традицию, западный вариант которой был ему чужд, непонятен и не доступен. Переживая это на свой лад в Италии, он не случайно вкладывает в уста Горчакова свой вывод, что, де, “культура непереводима на другой язык”...
Но самое интересное, что в Италии Тарковский чем далее тем более удивлял меня своей, я бы сказала, принципиальной непроницаемостью и к внешней жизни тоже. Это странно и отчасти парадоксально для художника, решившегося творить в другой среде, ему удавалось воспринимать эту новую жизнь только на уровне бытовых удобств. Но обустро-енно-удобная, комфортная и открыточная Италия не находит себе места в его “Ностальгии”, вытесненная на периферию его художественного сознания. В итальянский пейзаж или точнее в руинированные образы Италии репродуцировалась только тоскующая, непонимающая, отчужденная от него самого часть его души...
А “Жертвоприношение”, снятое в Швеции и отмеченное многими даже как лучшая его работа, видится мне, увы, холодным, мертворожденным созданием вследствие неуко-рененносги его в чужой почве. При этом я сразу готова согласиться, что моя точка зрения многим покажется несправедливой. Но для меня вся атмосфера “Жертвоприношения” иссушена отсутствием тех одухотворяемых Тарковским мелочей, которыми, как правило, изобиловал его экран, нет родных волнующих его деталей. Не было вокруг тех коллег, наделенных общей с ним памятью, взаимодействие с которыми рождало его собственное возгорание. Хотя он был окружен в работе не просто высокими профессионалами, но очень крупными мастерами. Однако, опыт Тарковского еще раз подтвердил, что авторского интернационального искусства не существует, как не бывает годной для любого организма кровеносной системы. Как не случилось пока войти в обиход эсперанто. В театрализированных мизансценах кинокадра не существуют, но двигаются не слишком изысканно разведенные режиссером персонажи: не русские, не шведы, не французы, не итальянцы, но только лишь какие-то вымороченные носители авторских идей. Это грустно, но для меня, к сожалению, закономерно...
И еще раз подтверждает горячо разделяемую Тарковским точку зрения, что кинематограф и литература питаются от разных корней. То есть слою гораздо более свободно с точки зрения географического положения писателя. Возьмите Довлатова и всех остальных, создававших русскую литературу за рубежом. Но кино, хоть и авторское, но и коллективное искусство, особенно нуждающееся в родной энергетической подпитке. Только Лариса могла беспечно оговориться, ничего с этой точки зрения не понимая в своем муже:
“И все же, когда читала, что Андрей, потеряв Родину, потерял... талант, — смеялась. Он был настолько интеллектуален и интеллигентен, что переезд из одной страны в другую был для него не более, чем географическим перемещением. Не это его убивало. Его убивала травля... ”
Потерять талант нельзя, но извести его попусту или измельчить — можно. Можно заболеть от сложностей его реализации. Можно отчаяться. Тем более, интеллигенту. Можно заблудиться. Особенно кинематографисту. Эмигрируя в другую страну, писателю можно отгородиться от мира высокими стенами и продолжать разрабатывать свои темы. Кинематограф связан с действительностью необходимостью в актерах и пейзажах. Тем более такой авторский кинематограф, какой создавал Тарковский.
Ни с одним актером на Западе, включая О.Янковского, Тарковский не достиг того взаимопонимания, которым обозначились его работы с Солоницыным, Гринько, Тереховой, Бондарчук или Кайдановским, подарившими экрану ускользающую живую тайну души человеческой. Йозефссон, поражавший нас неоднократно в лучших работах своего соплеменника И.Бергмана, дважды снимается у Тарковского и, с моей точки зрения, совершенно не понимает, что он играет. Объяснить актерскую задачу в традиционном смысле Тарковский не умел. Он рассчитывал на подсознательные контакты, нелогическую связь, которые в профессиональном отношении чужды рационалистическому сознанию протестанта Йозефссона или просто его личному профессиональному опыту.
Снимая “Ностальгию”, Тарковский прав, признаваясь, что остается русским художником. Более того он остается Тарковским как таковым и, не кривя душою, которою он кривить не умел, не может стать ни итальянцем, ни тем более американцем. Очень важно все то, что им сказано в “Ностальгии”, но не менее важно и то, о чем он умалчивает, будучи и русским, и советским человеком тоже, не чуждым тем же явным страхам и тайным пристрастиям, которые таятся в нем точно также, как и в его соотечественниках. А потом не решается точно обозначить конфликт. То есть сказать впрямую, что Горчакова преследует навязчивое желание остаться в Италии, которое его манит, но пугает еще больше в силу самых разных причин: прежде всего реальной невозможности осуществить тайное намерение, не совершив предательства, не отказавшись от своих близких. Или тяжелое чувство несовместимости с миром, притягательным, но все-таки предназначенным не для него, который чарует и раздражает чужой, не своей красотой. Так что легче отвернуться. Но нравится ему все это! Ах, как нравится! А потому и любо и тяжко, а чем более любо, тем более тяжко... Вот, где парадокс русского человека.
Если довериться до конца первой сентенции Тарковского, что, де, русский человек не может жить вне родины, то чего бы ему не поторопиться назад? А если бы Горчаков, поехав в командировку, ощутил себя в Италии только чужим, осознавая для себя до конца “непереводомосгь одной культуры на язык другой”, то тем более, казалась бы радостью сама возможность скорейшего возвращения в свою, родную, приятную и близкую во всех отношениях культуру. Кто тебя там в Италии держит, если не ты сам?
А потому именно Горчакову тяжелым грузом видится его прошлое, от которого нет освобождения и, которое мешает вписаться в новую жизнь. То прошлое, которое Горчаков формулирует в анекдоте: “я здесь живу!” (то есть как раз к ужасу своему, в той самой России!) — невесело усмехаясь такому итогу, неплохо “поддав” родной водочки в итальянских развалинах. Вот в чем подлинная, но не названная своими словами загвоздка, грозящая реальной, а не мифической гибелью со свечой в руках! Кому вслед за Доменико несет Горчаков свет, никого не греющий? Свет русского интеллигента засветить глухим, бесчувственным итальянцам. Когда на самом деле пора бы разобраться, прежде всего с самим собой...
Но мы принимаем ностальгирующего Горчакова вне бытовой правды, как объемный глубинный автобиографический образ самого Тарковского, спроецированный на экран, за которым прослушивается тщета попыток влиться в чуждый социум и чужую культуру. Когда свои собственные показались тебе недостаточными и тебя не вмещающим. И не решаешься вслед за Чеховым признаться, что пытаешься там выдавливать из себя русского раба, которого сам стыдишься, пытаясь сохранять чувство собственного достоинства. Так и стоишь гордо, но в раскоряку в соответствии со своим русским уделом...
* * *
Вот вам рассказ самого Тарковского о той реальной ситуации, в которой ему пришлось работать в Риме и как он ее оценивал тогда. О тех новых сложностях и проблемах, которые ему приходилось решать в новых производственных условиях:
“Здесь трудно работать — все считается на деньги, а “Ностальгия” снимается на очень маленькие деньги. Я никогда так не уставал, как работая над этой картиной. Я впервые оказался в непривычных для себя условиях, которым я внутренне сопротивлялся. Здесь существует система экономического давления на режиссерский замысел. Если затянулась подготовка к фильму, то я оказался лишенным возможности снимать некоторые сцены
в Москве. Вопрос всегда ставится одинаково: есть ли на это деньги?
Если я ожидаю необходимой мне для кадра погоды, то в следующей сцене приходится чем-то поступиться, чтобы уравновесить затраты. Пересъемки “Сталкера”, например, здесь были бы совершенно невозможны. Или, например, для того, чтобы фильм мог считаться итальянским, я был обязан занять в работе определенное число итальянцев. Потому мне пришлось отказаться от двух французских актеров.
Легко писать стихи у себя дома. Лирическое состояние требует уединения, которое, конечно, легче обрести в привычных условиях. Трудно сосредоточиться и удерживаться в нужном творческом состоянии в новых обстоятельствах. Многое мешает.
Я привык работать с теми же своими людьми. Здесь привычные для меня стереотипы общения не годятся. Весь принцип взаимоотношений в съемочной группе нужно было усваивать заново или заново изобретать. Нужно было гораздо более подробно и детально оговаривать замысел с художником или оператором, к чему я не привык и требовалось больше сил, перенастройка...
Хотя, в то же время, опыт работы на Западе кажется мне очень важным и плодотворным. Мы получаем возможность посмотреть на собственную страну со стороны и ощутить гораздо более рельефно обаяние многих деталей нашей жизни. Этот мой личный опыт кажется мне тень важным в общественном плане. Следует обращаться к такому содружеству даже для того, чтобы укреплять свое влияние в этом взаимодействии. Со стороны по-новому и по-другому понимаешь русский характер, ощущаешь действительный престиж русского искусства. А то последнее время мы стали слишком мало заботиться об утверждении своего престижа в мире. А здесь многое могло бы восприниматься от нас с жадной готовностью, номы так мало предлагаем!Мы сами себя недооцениваем, чего-то стесняемся, хотя, на самом деле, имеем все возможности эстетического влияния на искусство Запада. Здесь отнюдь не все так уж благополучно. Американцы душат европейское кино. И общий поток продукции чрезвычайно низок по качеству, также как весьма невысок престиж нашей профессии”.
Этот престиж Тарковский серьезно собирался поднять и утвердить получением Пальмовой Ветви на грядущем кинофестивале в Канне. С этим фестивалем он имел давние сложные отношения, с которыми он надеялся произвести, наконец, окончательный расчет. Внеконкурсная скандальная демонстрация в Канне “Андрея Рублева”, против которой возражала соответствующая советская администрация — могла завершиться в силу своей полулегальности лишь премией ФИПРЕССИ. “Солярис”, официально представленный конкурс получает не Пальмовую ветвь, а три премии: Специальный приз Жюри, экуменический приз и снова ФИПРЕССИ. На тот фестиваль Андрей ездил и был им разочарован, много рассказывал мне потом о “политизированных” мотивах премий и не очень приятной для него “буржуазной” атмосфере фестиваля в Канне, не слишком озабоченного судьбой подлинного искусства...
“Зеркало”, как я уже писала, никуда не пускали. А “Стажер” был в широком прокате, но с фестивалями как-то не успело все сладиться, может быть, потому, что Андрей уже собирался во всю в Италию. “Ностальгией” он собирался взять, наконец, реванш именно там, на Лазурном берегу...
Вожделенный Гран-при сразу поставил бы его в статус “генерала”, как ему, во всяком случае, казалось... В принципиально новые отношения с “родным” советским начальством. А также определил бы его новую экономическую ситуацию на Западе, хотя, как он говорил, ему глубоко чужда суетность фестивалей, их пошлый коммерческий дух.
* * *
Отбывая следующий раз из Амстердама в Рим, я сделала для себя пометки в записной книжке, чтобы уточнить с Андреем некоторые детали по данным мне поручениям:
1) Письмо Растроповичу.
2) Письмо Лльмарку.
3) Спросить, каким образом дать Андрею ответ о результатах моих переговоров с ними (т.к. Андрей считает, что его телефон в Риме прослушивается КГБ).
4) Спросить деньги на телефонные звонки.
5) Телефон Альмарка.
6) Кто “наш общий друг”или шведское посольство.
7) Адрес (почтовый) Тарковского в Италии (ниже он вписан мне в блокнот собственноручно рукой Тарковского, также, как и его телефон в монтажной).
8) Что с фестивалем в Роттердаме, должны ли они спрашивать разрешение на приезд туда Андрея у Госкино.
9) Нет ли для газеты какого-то кадра Андрея в работе на ((Носталъгиип.
10) Какие премии он наполучал — для интервью!
11) Каковы его намерения с нашей книгой? Согласен ли он, чтобы книга издавалась под мою ответственность, якобы без его согласия?
Помню, что когда мы встретились, Андрей опять заявил о своем решительном намерении издавать книгу, полагая, что теперь она нуждается в дополнениях: нам следует расширить все то, что сказано о “Сталкере”, дописать главу о “Ностальгии” и сделать заключение. Однако, на том отрезке времени мы еще не планировали конкретные сроки работы, решив, что прежде всего, нам нужно найти издателя, для которого мы будем работать.
А когда он прочитал текст моего интервью с ним для “Фолкскранта”, то сделал два симптоматичных замечания:
1) Убрать пока все, что касается темы Березовского, введенной контрабандно и подозрительной для советского начальства, у которого преждевременно могут возникнуть нежелательные аллюзии и подозрения крамолы;
2) Еще раз подчеркнуть, как он замучен и устал.
Что касается приглашения Тарковского на роттердамский кинофестиваль, то в 1983 году оно не состоялось. Одна из голландских газет писала по этому поводу: “К сожалению, все попытки получить Тарковского в Роттердам закончились ничем. Однако, интервью, которое мы помещаем сегодня, приближает его к нам. Оно записано Ольгой Сурковой, русским кинокритиком, знающей Тарковского лично и живущей теперь в Голландии. Суркова ездила к нему в Италию перед его возвращением домой в Москву (sic!) и записала целый ряд его мыслей о “Ностальгии”, русской душе и кино вообще”.
Как видите, достаточно очевидно, что Тарковскому нужно было тогда играть две игры. По официальной версии, он то ли вот-вот должен был отправляться в Москву, толи вовсе уже уехал. А по конкретным шагам, которые он в действительности предпринимал уже до кинофестиваля в Канне, можно утверждать, что он во всю искал пути для продления своего пребывания на Западе.
Так что, приехав в Амстердам, я начала выполнять порученное мне задание, то есть начала, названивая, связываться с разными людьми в поисках разного рода возможностей...
Что именно мне удалось сделать тогда? Тогда мне удалось установить два очень важных контакта, сыгравших ключевую роль в дальнейшей судьбе Тарковских.
В начале 1983 года в Амстердамском университете было объявлено выступление писателя Владимира Максимова, возглавлявшего самый крупный эмигрантский журнал “Континент”. Я, конечно, пошла его послушать, помня его сетования на то, как на чужбине теряется подлинная связь с широким читателем, так как, по его невеселой шутке — “на Запад едет не читатель, а едет писатель”. А горестная, по его словам, потеря связи с жизнью лишает писателя возможности черпать свое вдохновение в той жизни народной, которая осталась за далеким кордоном: “Выходя к пивному ларьку у себя дома на родине, я получал больше информации о жизни наших людей, чем за годы, проведенные в изгнании”.
После выступления он сидел в университетском студенческом кафе, и я, взвесив все “pro” и “contra”, решилась на свой страх и риск подойти к нему. В конце концов, именно этот человек является ключевой фигурой русской эмиграции, уже признанным генералом диссидентских кругов за рубежом. А потому я задалась целью получить его к себе в гости, чтобы спросить его советов и содействия в связи с намерением Тарковского задержаться на Западе.
Надо сказать, что Максимов поразил меня своим обликом типичного среднего советского писателя, каких так много толпилось на моей памяти в залах и ресторане Центрального Дома Литераторов. Годы эмиграции никак не изменили, как вскоре выяснилось, к сожалению, не только его внешнего облика — я имею в виду, например, манеру держаться или одеваться — но, увы, и всей системы и логики его мышления. По внешнему виду ну, прямо-таки один из безликого большинства членов Союза писателей СССР. А по типу мышления, системе аргументации в нем оставалось что-то такое до боли знакомое из нашего общего исторического прошлого, что-то такое же тенденциозное, прямого общения с которым в России мне удавалось брезгливо избегать... Так чтоантисоветское, нисколько не облагороженное влиянием “цивилизованного” демократического западного мира, только воскрешало в памяти простой советский лозунг: “кто не с нами, тот против нас”...
Но это были мои личные наблюдения, не имевшие отношения к той реальной помощи, которую, с моей точки зрения, мог оказать Максимов Тарковскому. В результате он приехал ко мне в мою амстердамскую квартиру в сопровождении своего знакомого по фамилии Пушкин, сказав, что в присутствии этого человека я могу бьггь с ним абсолютно откровенна, ничего не опасаясь. Но прежде чем я успела приступить к своему повествованию, он в соответствии со своим “слишком” русским обликом успел быстро наклюкаться до такой степени, что попытался приставать ко мне на кухне, где я в соответствии с той же русской традицией готовила какой-нибудь закусон. Правда, мне довольно легко удалось усмирить его двумя вескими, видимо, не только для меня, но и для него аргументами: мое приглашение продиктовано совершенно другой “идеологической” задачей, а “моральным” препятствием его неожиданным домогательствам служит мое давнее, еще детское знакомство с его женой Таней Полторацкой, бывшей соседкой по писательскому дому на Ломоносовском... Тут он рассказал мне, что в Париже у них растут две дочери...
Но далее, когда мы втроем воссоединились, наконец, в застольной беседе, и я изложила подлинную цель моего приглашения, лик господина Максимова искривился презрительно-снисходительным выражением: “Да, я что-то слышал уже по этому поводу, но ведь Тарковский, кажется, не хочет идти на разрыв с Союзом, то есть хочет и невинность соблюсти, и капитал приобрести”. Подумайте, как хорошо работали соответствующие службы (видимо, анти-КГБ!) и за рубежами нашей исторической родины, как делово и профессионально ставился вопрос в нужном направлении! Ни фига себе...
Заткнув первое впечатление на задворки сознания, я уперлась в главную тему — уникальной художественной личности Тарковского, далекой от политики, и особенности его частной человеческой ситуации. С горячностью, определявшейся моим страстным желанием помочь великому художнику, я стала убеждать Максимова в том, что он требует к себе специального нежного отношения. Нельзя, мол, сбрасывать со счетов, что у него в Союзе остались сын и отец, большой русский поэт, что он не может рисковать не только их судьбой, но и судьбой своего первого сына Арсения. А потому Тарковский не может пользоваться прямыми антисоветскими выпадами. Я расписывала вновь и вновь ситуацию Арсения Тарковского, который начал публиковать свои собственные стихи сравнительно недавно, и Андрей не может решиться помешать его более или менее спокойной старости всякого рода громкими идеологическими заявлениями. Приводила в пример свой собственный опыт, который также известен Тарковскому, когда я выехала из Союза официально, по причине брака с иностранцем, а не как диссидентка, то тем не менее мой отец был не только немедленно уволен с работы, но перед ним закрылись все издательства... А выезд моего подлинного мужа и отца моих детей пока полностью блокирован...
В итоге под напором этих аргументов Максимов сдался и прямо из моей квартиры стал связываться с Растроповичем и Аксеновым. Я жила тогда очень бедно и, отдавая должное господину Максимову, должна отметить, что, покидая мой дом рано утром, когда я еще спала, он оставил мне сумму денег, покрывавшую его звонки от меня в Америку.
Когда на следующее утро я сообщила Андрею о предпринятом мною шаге, неожиданном для него, то он очень заволновался. “Как? Зачем? — восклицал он поначалу — Теперь все это приобретет слишком широкую огласку!” Ведь он всегда предпочитал держаться подальше от диссидентов, не разделяя по существу их общественно-политического пафоса. Но я заверила его, что знакомство это подвернулось очень удачно, потому что Максимов позвонил при мне Растроповичу, а также Аксенову, то есть людям, которые Андрею нужны. А что же было делать? И Андрей, не без сомнений, согласился, что я права...
Далее мне предстояло найти Андрею работу, ссылаясь на которую он мог бы просить продления визы для своего пребывания с семьей на Западе. Но мои связи, довольно сильные, ограничивались Швецией, а точнее Шведским киноинститутом, который распределял и добывал деньги на развитие национального кино. Потому что, как я уже писала выше, моя кандидатская диссертация была посвящена шведскому кинематографу.
В частности, как я уже тоже упоминала в связи со своим намерением остаться в Швеции, я была в самых близких и доверительных отношениях с Анной-Леной Вибум, одним из ведущих продюсеров Шведского киноинститута, в то время, кажется, даже заместителем главного директора. И Андрей, будучи полностью в курсе моих шведских перипетий, довольно быстро согласился на этот канал поиска работы. Впрочем, никакого другого выбора у нас и не было... Тем более, что еще в Москве, во время своих приездов Анна-Лена несколько раз просила познакомить ее с Андреем, но он не имел там никакого желания с ней встречаться.
А тут, в новой ситуации я позвонила Анне-Лене в Стокгольм и объяснила ей, что Тарковский в данный момент заканчивает “Ностальгию”, но на самом деле хотел бы еще на какое-то время задержаться на Западе. Но для этого ему нужна работа. Тогда с новым проектом и новым предложением от продюсера он сможет обратиться к советским властям с просьбой о продлении его пребывания с семьей за рубежом. Я также сказала ей, что Тарковский мечтает снять фильм “Гамлет” в совершенно новой неординарной трактовке, что я видела в Москве уже сделанный им поразительный спектакль. Но его кинематографическое видение будущего фильма еще более оформилось и созрело, обещая нечто невиданное.
Боже мой, как мечтал Андрей о своей кинематографической версии “Гамлета” и бесконечно фантазировал по поводу решения тех или иных сцен! Какая огромная потеря для искусства, что его “Гамлет” не был сделан. Но тогда нам казалось, что еще вся жизнь впереди...
Анна-Лена ответила мне, что должна переговорить на эту тему со своими коллегами и начальством и перезвонит мне, как только прояснит ситуацию. Надо сказать, что перезвонила она очень быстро — чуть ли не на следующий день — и сказала, что Шведский киноинсгитут заинтересовался перспективой работы с Тарковским. Но “Гамлет” для их института слишком дорогостоящий проект, который они не готовы обсуждать. Если же Андрей может предложить какой-нибудь более скромный камерный сценарий, который не потребует крупных вложений, то они готовы к переговорам. Кроме того, она хотела бы посмотреть “Ностальгию” при первой возможности.
Андрей был согласен подумать на эту тему, а возможность посмотреть картину представилась довольно быстро, то есть еще до Канн. Продюсеры устроили в Риме в огромном зале, набитом битком, информационный просмотр для прессы. Туда же приехала Анна-Лена. Я тоже, конечно, не могла усидеть в амстердамском далеке, когда разворачивались ключевые события в творческой жизни Андрея Арсеньевича — так что прискакала тоже...
Помню, что в этой толпе я познакомилась с бывшим советским критиком Матусевичем, который еще до того, как я пришла работать в “Советский экран”, где до этого он тоже работал, не вернулся (опять же!) из Швеции. Он первым начинал изучать шведское кино и когда я решила взять для диссертации тот же кинематограф, то коллеги всегда задавали мне один и тот же двусмысленный вопрос: “Ну, что? Решила пойти по дорожке Матусевича?”
И вот, действительно, как в сказке или дурном сне, я, действительно, последовала за ним. А теперь он стоит здесь, прямо передо мной! А мне, еще недавней москвичке, такого рода встречи запоминались тогда надолго, потому что эмигранты или невозвращенцы виделись мне еще “оттуда” какими-то потусторонними, недостижимыми существами, более далекими, нежели инопланетяне... А теперь я запросто знакомилась с ними, вела беседы, и поначалу все это было захватывающе интересно...
Потом в зале погас свет, и мы с Анной-Леной затерялись где-то среди публики, но рядышком. Естественно, я очень нервничала, какое же все-таки впечатление произведет на нее фильм — ведь от этого зависит дальнейшая судьба Тарковского! И каков был мой ужас, когда минут через пятнадцать Анна-Лена заснула рядом со мной в своем глубоком кресле еще более глубоким сном! Меня всю скрутил ужас — довольно тучная женщина клонилась в забытьи то в одну, то в другую сторону, то всхрапывая, то пытаясь время от времени поднять отяжелевшие веки. Леденящее чувство пронизывало меня насквозь — все пропало! Какое счастье, что Андрей хотя бы далеко от нас и не видит ее реакции, ее “эстетического” восприятия его чудо-творчества...
Но вдруг, когда зажегся свет, Анна-Лена мгновенно проснулась и тут же присоединилась к аплодисментам, взорвавшим зал. Слегка потягиваясь и повернувшись ко мне, она обронила совершенно неожиданную для меня фразу: “Надеюсь, что когда Андрей напишет сценарий для нас, то в нем будет немножко больше чувства юмора”,— я поперхнулась в некотором недоумении, но хлопая уже с большей уверенностью и радостью... Хотя... Надо же?... Ожидать от Тарковского “чувства юмора”...
Ну, что же, мир полон чудес...
Когда мы вместе с толпой, наконец, пробрались между рядами к выходу в фойе, а там доползли уже до Андрея, Анна-Лена поздравила его с успехом, как будто от всей души, высказав ему то же самое пожелание, что и мне... При этом она сказала, что теперь им нужно будет встретиться для конкретных деловых переговоров, которые вполне могут состояться в Канне, если он сумеет к тому моменту представить проект будущего недорогого фильма... Андрей выразил согласие и...
Впереди замаячили новые планы, и долгожданный кинофестиваль в Канне был уже на пороге... Как простой смертный, Андрей жаждал самого полного и тому же щедро оплаченного признания.
Но я не могла даже приблизительно вообразить, чем все-таки обернется для Тарковского этот фестиваль.
Я лично никак не сомневалась, что Андрей получит Пальмовую ветвь, прежде всего потому, что фильм казался
мне выдающимся, а, кроме того, так или иначе, но он был достоин награды по совокупности всей своей творческой биографии и судьбы. Думаю, что Андрей тоже в этом не сомневался, а потому был особенно взволнован, тревожно приподнят, натянут, точно струна.
* * *
Из Амстердама я выехала на этот фестиваль с другом нашей семьи и переводчиком всех моих публикаций в Голландии Арьеном Аутерлинде. Он сумел взять на прокат “Форд” в гараже у своего дедушки, а потому подешевле, так как лишних денег у нас не было. Смекалка практичного западного человека подсказала ему еще одно решение, сокращавшее наши расходы — до Канн мы взялись подвести в Баланс, изумительное горное местечко во Франции, еще трех попутчиц-студенток, деливших с нами расходы на бензин...
Время на все это путешествие у Арьена было ограничено, так как была еще раньше запланирована другая поездка с его матерью в Чехословакию. Поэтому мы, еще не зная, в какой день будет показана “Ностальгия”, решились выехать к началу фестиваля на свой страх и риск. Только после того, как мы подвезли наших попутчиц к чудесной ферме, где они собирались отдыхать, мы подрулили к какому-то близлежащему крошечному городку, отыскали в нем автомат, чтобы позвонить Тарковским в Рим и уточнить время демонстрации в Канне “Ностальгии”. Но к нашему ужасу выяснилось, что просмотр назначен на последний день конкурсного показа... То есть это означало, что Арьен уже не сумеет быть на конкурсном показе, а я была связана с ним машиной, на которой, конечно, мы собирались вместе вернуться... То есть наши планы рушились...
И нам было совершенно не по карману ехать сразу в до-рогущий Канн, чтобы провести там еще неделю просто так, ожидая просмотра. Мы были страшно разочарованы, но тогда Лариса предложила нам сначала приехать к ним в Рим, погостить у них несколько дней, чтобы потом двинуться в Канн. Весь этот новый маршрут выглядел столь заманчиво, что Арьен решился проделать его даже без просмотра “Ностальгии”. И первую ночь на пути в Рим Арьен наметил провести у своего приятеля в Турине, которому мы дозвонились, и он услужливо согласился нас принять...
Ближайший переезд из Баланса в Турин лежал теперь для нас через франко-итальянскую границу в Альпах. Путешествие становилось, с одной стороны, утомительным, но, с другой стороны, еще более сказочно прекрасным. Хотя, как вскоре выяснилось, вовсе для нас небезопасным. Когда мы оказались на горных дорогах-серпантино, то на каждом повороте я, задыхаясь от восторга, неустанно восклицала: “Арьен! Посмотри направо, какая немыслимая красотища!”, как будто забыв за границей о своей фобии, боязни высоты. Очень странно, но первое время жизни в Голландии у меня было совершенно обманчивое ощущение, что здесь никогда никаких несчастных случаев не бывает вообще. После моего очередного восторженного восклицания на очередном повороте дороги, Арьен, не поворачиваясь ко мне, сдержанно усмирил мой пыл: “Я не могу туда смотреть, иначе мы свалимся”. Боже мой, оказывается он тоже боится высоты, но не забылся, как я, а ему-то нужно было вести машину...
Тогда я притихла, а мы потихоньку ползли все выше и дальше, становилось все холоднее и холоднее. А когда мы добрались, наконец, до границы, где в те времена пограничники еще внимательно рассматривали наши голландские паспорта, то оказались в настоящих горных снегах, где все заиндевело в морозе и колких порывах ветра. Эго был такой резкий контраст после солнечного Баланса... А мое воображение рисовало меня уже участницей “перехода Суворова через Альпы”... Когда мы, наконец, спустились вниз, то вздохнули с явным облегчением, увеличивая скорость на прямом шоссе в Турин и оставляя позади нездешнюю красоту горных перевалов...
К другу Арьена мы добрались только в полночь полуживыми от усталости и полностью оголодавшими. Переночевав у него, мы совершили короткую экскурсию по городу, а затем покатили в Рим. К вечеру мы были на родной Виа де Монсе-ратго, где гостили у Тарковских три-четыре дня. А потом снова уселись в нашу машину и поехали в Канн вдоль побережья через Геную, через сказочные итало-французские красоты. Тарковские вылетали на следующий день самолетом...
Когда уже гораздо позднее я отдыхала с мужем и детьми дважды в маленькой итальянской деревушке Арнаско, у приморского городочка Альбенго, солидно выезжая туда уже на своей машине, то, проезжая по пути туда Канн, Ниццу, Сан-Ремо или делая потом выезды в Геную, я всякий раз с грустью вспоминала то оставшееся позади, свободное, по студенчески без забот путешествие с Арьеном, которое мы когда-то совершали только на энтузиазме и без копейки в кармане...
Интересно, что уже тогда, то есть еще до кинофестиваля в Канне, когда Лариса предложила нам приехать в Рим, она уже хотела продемонстрировать дом, намеченный ими для покупки, и посоветоваться стоит ли его покупать. Тогда я впервые попала вместе с ней и Арьеном в деревню Сан-Гри-горио, расположенную в горах, километрах в двенадцати от Тиволи. То есть все это еще раз подтверждает, что Тарковские уже собирались задержаться на Западе еще до всяких результатов каннского фестиваля. То есть реальность никак не соответствовала укоренившейся ныне легенде, в создании которой я когда-то принимала участие, гласящей, что обида Тарковского на неожиданное поведение Бондарчука почти вынудила его не возвращаться домой...
То, что мы нам показала Лариса, трудно было назвать домом как таковым, то есть помещением, годным для жилья... Мы приехали в итальянскую деревушку невероятной красоты, гнездящуюся в горах, вокруг вознесшегося над нею замка. То есть отмеченную всеми приметами средневековья. Деревня делилась на старую нетронутую течением времени часть и новые, современные крестьянские дома. Замком — подлинным, настоящим замком — владела, по словам Тарковских, некая “Принципесса”, оставшаяся после смерти супруга единственной наследницей нескольких таких же замков такого же великолепия, трудно вписывающихся в наше время в новую частную собственность. Ну, например, как тот замок, в который попадает герой Мастрояни в “Сладкой жизни”...
Такие замки можно нынче сравнительно недорого купить, потому что их бесконечно дорого и нерентабельно содержать даже очень богатым людям. По крайней мере, так мне объяснили Тарковские, рассказывая, что “Принципесса” хочет за весь замок “только 1,5 млн. долларов, так что дальше мы еще посмотрим”... Об этих дальнейших планах я расскажу ниже... А пока...
Они покупали крошечную часть этих владений, развалившийся маленький бывший чайный домик, окруженный садом с деревьями, примыкающим к публичному общественному парку.
Я впервые наблюдала, с каким новым увлечением рассматривали Тарковские свои будущие владения, мечтая о грандиозной грядущей реконструкции старых стен в новое фундаментальное сооружение. Одна картина сменяла другую — и мне помнится как деталь, что будущую каминную комнату предполагалось украсить огромной, размером в стену, уже готовой живописной работой моего мужа, посвященной Тарковскому.
Потом Тарковские вожделенно поглядывали и на весь замок, по залам которого, увешанного запыленными портретами предков, с разрешения Принципессы, нас водил местный ключник. Но Андрей тогда болезненно морщился: “Лариса, но где мы возьмем деньги?” И нервно подергивая плечами добавлял: “Я вас не понимаю”. “Ничего, Андрюшенька, деньги будут”, — убаюкивающим голосом утешала его Лариса...
В Сан-Григорио мне предстояло теперь побывать много-много раз...
А пока мы ехали с Арьеном в Канн, где Лариса сумела договориться через каких-то знакомых в Риме со священником русской православной церкви, отцом Игорем о ночлеге. Мы добрались туда только поздним вечером. Пришлось разбудить его, и, когда передо мной возник стройный, голубоглазый старик, отмеченный удивительным покоем какой-то другой эпохи, я рассыпалась в извинениях. Я впервые видела перед собою подлинного представителя первой русской эмиграции. Вот, наверное, настоящий сын какого-нибудь белогвардейца, выброшенного из России революцией 17-го года — судорожно мелькало у меня в голове. Какое благородство осанки! Казалось, что время откатилось в это мгновение куда-то вспять и сделало меня вдруг соучастницей какого-то поразительного спектакля...
Мои суетливые извинения показались мне почти неуместными или слишком многословными, когда отец Игорь ответил мне коротко, на странном русском грассирующем языке, исполненном особого достоинства: “Это не страшно. Тот, у кого чистая совесть, легко просыпается и легко засыпает”. Странно, но я запомнила эту немудрящую фразу на всю свою жизнь — ах, как это было просто и правильно. На все времена.
Поселили нас с Арьеном довольно своеобразно. Внутри церковной ограды где-то в деревьях в углу сада ютился сарайчик, в котором лежало что-то похожее на старые кровати, раскладушки или топчаны, очевидно, для разного рода заезжих гостей, прихожан, из других мест. В мае, во время фестиваля, в Канне было уже жарко, но к летнему сезону этот домик еще не был готов. Так что нам пришлось обосноваться в походных условиях чужой “палатки”, пыльной и паутинной. Но главное состоялось — мы получили ночлег в очень дорогом городе, благословляя новый виток судьбы, проложенный для нас Ларисой Павловной.
На следующий день мы встречали Тарковских у входа в один из самых шикарных люксовых отелей “Карлтон”, где им был забронирован номер, по жестким правилам фестиваля, на трое суток. Подвезли их туда с аэродрома на шикарном автомобиле, но сразу вдруг что-то не заладилось, и я с удивлением обнаружила, что и на Западе, оказывается, не всегда все работает с точностью часового механизма. Кто-то что-то перепутал, не доработал, а потому Тарковских вроде никто не встречал в гостинице и номера, забронированного на их имя, тоже не обнаруживалось. Они были вовсе обескуражены. А пока Арьен, владевший и французским, помогал Андрею выяснять недоразумение, я пыталась поднимать упавшее настроение Ларисы всякими рассказами, но достаточно безуспешно, как это запечатлелось на моих фотографиях.
Гостиничные проблемы, конечно, решились, а номер вполне компенсировал эти “проблемы” своим шиком. Но тут последовала новая совершенно неожиданная информация, поразившая нас следом за Тарковским, как удар молнии. Маэстро ничего не знал о том, что в конкурсе впервые дал согласие принять участие старейший классик французского кино, обожаемый Тарковским, Робер Брессон!
Андрей ахнул: “КАК??? Почему мне об этом ничего не сказали? Почему не предупредили? Они что же хотели меня подставить?”. Смятение или точнее паническое состояние Тарковского с момента получения этой информации трудно преувеличить.
Он правильно расценивал сложившуюся ситуацию. Брессон, как реликт французской культуры, никогда ни с кем не соревновавшийся, в юбилейный год своего 75-летия, наверное, не просто так приехал в Канны, а за венценосной короной? Дальнейшие сведения точно подтвердили наши догадки. В прессе Брессон уже заявлял, что приехал сюда за Гран-при! Брессон!!!???
Как ужасно все складывалось для Тарковского. Именно обожаемый им Брессон, чьим кинематографом он не уставал восторгаться, прямо-таки воздвигая его на недосягаемый пьедестал. С особым значением вспоминался теперь рассказ Тарковского, поведанный мне еще в Москве после его поездки в Париж. Он так гордился тогда тем специальным вниманием, которым одарил его в Париже Брессон: “А ведь живет он так уединенно и, понимаешь, мало кого к себе вообще допускает”. С упоением пересказывал известные “чудачества” Брессона, как бесконечно долго и придирчиво выбирает он зал для просмотров своего фильма с соответствующими возможностями не только изображения, но и звука. Как изощренно мучит актеров. И вот теперь судьба свела их в единоборстве. Это было жестоко. И символично.
С этого момента, честно говоря, было ясно, что ситуация Тарковского резко изменилась. Гран-при, конечно, уже записан за Брессоном. Это было логично. Французский классик во Франции заслужил его в полной мере всеми своими фильмами, своим местом в истории кино.
А на следующий день был как раз назначен просмотр фильма Брессона. Теперь, перетасовывая горячечные мысли, Тарковский сообщил нам свое резюме: “Я посмотрю его картину объективным взглядом и, если это очередной шедевр, то так тому и быть. А если мне фильм не понравится, то я буду защищаться”, то есть, видимо, предпринимать не очень ясные для меня шаги без излишних сантиментов.
Нам всем фильм не очень понравился, и мы немножко успокоились.
На следующий день “Ностальгию”, как полагается, до конкурсного просмотра показали журналистам. В том же зале Андрей давал пресс-конференцию, по-моему просто блестящую. Все было здорово, но я не записывала ее, полагая, что она и без меня разлетится по всему свету в сотнях публикаций газетчиков и журналистов.
Тем не менее, я сделала для себя несколько заметок, характеризующих тот барьер непонимания, который по каким-то вопросам разделял Тарковского с его западной аудиторией. В частности на фоне все более активизирующегося феминизма возникло недоумение, как мог себе позволить Горчаков “дать пощечину своей переводчице?” Для “свободных” европейцев это было, как минимум не “политкорректно”. Тарковский просил не отождествлять автора с его героем, который не полностью и не до конца выражает его собственные идеи (я бы добавила — привычки, вполне его выражающие — О. С.). Тем более, как уточнил Маэстро, героиня получает не пощечину, а “шлепок по заднице”, что, с его точки зрения, не одно и то же. А затем он вышел к обобщению, что “привык все-таки в женщине уважать женщину. Но хотя женщина и мужчина, очевидно, равны, но их функции в этой жизни различны. А если мы об этом забываем, то грубо попираем один из основных законов природы”. Эта точка зрения абсолютно не вписывалась в общественные настроения “свободных” женщин Запада, так что Тарковский получил укор в старомодности и архаичности. Он ответил, что в этом случае возникает вопрос “не моей архаичности, а вечных, то есть неизменных сущностей бытия”.
Тарковского, с одной стороны, всегда раздражали обычные замечания зрителей о кочующей символике в его картинах, на которые он неизменно возражал: “Но я не вижу никакой связи между атмосферой гостиницы в “Ностальгии” и Зоной в “Сталкере”. И туг же добавил: “Может быть, здесь присутствует некая, впрочем, вполне естественная общность стиля, но, в конце концов, все режиссеры снимают всю жизнь один и тот же фильм”.
Тарковский счел очень поверхностным ставить его в один ряд с “Феллини и Бергманом, потому что в фильмах этих режиссеров есть мистическая глубина, но отсутствует Бог. Ваше ошибочное наблюдение скорее определяет особенности вашего восприятия моих картин, но не касаются, с моей точки зрения, их существа. В таком контексте я предостерегаю вас против стереотипов мышления. Но свои фильмы я не люблю объяснять, потому что я говорю образами, а журналист словами. Так что не вынуждайте меня быть критиком, а не создателем своих картин. Я художник”.
Тарковский говорил о важной для него теме в контексте фильма — дисгармонии духовного и материального в современной жизни. А далее, как и в книжке, о первородном грехе нашей цивилизации, отдавшей предпочтение материальному перед духовным. Говорил о смысле человеческой жизни, заключенном в развитии духовного начала. При подмене этого смысла общество в целом неминуемо деградирует.
Объясняя особенность своего киноязыка, фиксирующего движение времени в форме факта, сообщил, что в “Ностальгии” только 150 склеек, хотя обычно такой фильм содержит около 800. Его попросили сравнить опыт его работы в Союзе и на Западе, на что он ответил: “В Москве я никогда не думал о деньгах на съемку, о стоимости фильма, а здесь слышал об этом каждый день. Хотя, в конце концов, это оказалось не так страшно, но все-таки в этой ситуации сложнее быть верным себе. Хотя смысл хорошего воспитания в том, чтобы так или иначе оставаться самим собою. Нигде и ни к чему не следует приспосабливаться, в том числе и к Западу”.
Ах, как я была согласна с каждым его словом. Маэстро не сломался. Маэстро стоит над мелкими людскими страстишками. Маэстро — Художник!
Но как наивна и непроницательна, как по-школярски недальновидна была я на самом деле... А что есть вся наша жизнь с самого рождения, как не процесс приспособления к этому миру, в который каждый из нас хочет вписаться в соответствии со своими амбициями, как не сражение с этим миром за свое место под солнцем?... Иначе, твое место в монастыре...
Еще Тарковский дал деловую справку о том, что фильм стоил итальянцам 1,5 млрд, лир, а Советский Союз, по договору, имеет право только бесплатного приобретения фильма для проката во всех социалистических странах.
И тут, когда пресс-конференция вроде закончилась, и журналисты, устроив овацию Тарковскому, уже запихивали в сумки свои диктофоны, блокноты и ручки, он попросил всех задержаться для чрезвычайного заявления: “Господа журналисты, подождите! У меня к вам вопрос”. Зал напрягся в недоуменном ожидании. “Дело в том, что мне сообщили будто бы господин Брессон сделал заявление, что он приехал сюда только за Гран-при... Но... Если это так, то я должен сообщить вам, что согласен тоже только на Гран-при!”
Над залом поплыл восторженный гул. Еще бы! Такая пища для журналистов! А я на своем скромном месте съежилась так, словно хотела вовсе исчезнуть из этого зала, хотя кому было там до меня дело. Но, видно, как призывал Тарковский, оставалась собою в соответствии со своим воспитанием. А мое существо заставляло меня стыдиться последнего заявления, как невоспитанного и вызывающе нескромного. На мой вкус. Из уважения к Брессону, его великим картинам и его сединам. Не стоило таким образом набивать цену своему товару, превращать себя в этот товар, публично бежать наперегонки. А где же то самое достоинство? Но, может быть, Андрей все-таки прав, уверяла я себя в следующую минуту, может быть, я опять ничего не понимаю в этой жизни и следует за себя бороться, забыв стыд? И все-таки... не нужно этого порядочному человеку.
Суть состояла в том, что движения Тарковского в сторону овладения новой ситуацией были неловкими и неуклюжими, на мой взгляд. Увы, но хорошее воспитание не помогало ему встать выше вульгарных торгов за Пальмовую ветвь, потому что хотелось ему не только славы, но и денег, чтобы не просто жить, а жить по-царски, спрятав в карман свой восторг перед не менее великим, чем он французом... Но, разумеется, я не сказала Андрею ни слова...
И как я могла говорить с ним на тему денег, если он уже сильно удивил меня, когда я рассказывала ему о своем отъезде из Москвы и о том, как расторгался с издательством “Искусство” наш договор на книжку. Я смеялась тогда, как ловко мне удалось вывернуться из ситуации, когда меня попросили вернуть половину выплаченного нам аванса, сославшись на свою книжку о шведском кино, которую без суда и следствия рассыпали в наборе, не оплатив полностью. “Представляете?. — задавала я Тарковскому вполне риторический вопрос. — Если бы мне еще перед отъездом велели вернуть те деньги, которые я не получала, которые я тогда Вам передала? Было бы не очень приятно и где их было взять?” Но Андрей ответил тогда неожиданно для меня, коротко и жестко: “А вот этого я совершенно не помню”, — тут же переключившись на другую тему. Я онемела, не ожидая никакого ответа, но и никак не рассчитывая на это ясное заявление.
Зато Брессон через несколько часов после пресс-конференции, сглаживая неловкость создавшейся ситуации, немедленно пригласил Тарковского на ланч. Это был широкий светский жест, который поставил Тарковского в очень трудное положение. Нервничая и дергаясь, он отправился к застолью со своим соперником. Но, вернувшись, не выражал, как прежде, былых упоительных восторгов от свидания с “гением” экрана...
* * *
...А пока членам жюри предстояло еще разбираться в том, кому что выдавать, протекли еще трое суток, наполненных фестивальной суетой и другими событиями разной значимости.
Прежде всего, мы все оказались недостаточно экипированы для такого роскошного мероприятия, как кинофестиваль в Канне — тем более оказавшись в команде ваятеля конкурсной картины. Нужно было решать ряд неожиданных срочных вопросов...
Что касается Арьена Аутерлинде, то он должен был нас покинуть, к моему великому сожалению, буквально на следующий день. Так что уже на вторую ночь я оказалась одна в сарайчике, весьма удаленном от шума цивилизации. Это могло бы стать прелестно-романтичной страничкой моего опыта, если бы... Если бы не моя врожденная боязнь пустого незаселенного пространства, с которым я никогда не могла оставаться наедине. Но я искренне надеялась, что вся ситуация — я с Тарковскими в Канне, о которой я никогда не могла даже мечтать! — пробудит во мне дремлющую силу противостояния этому глупому детскому страху. Так что, наглотавшись соответствующих медицинских снадобий, вроде диазепама, я застегнулась в спальный мешок, завалившись на ржавую постель с решительным намерением спать назло всем невидимым врагам. Но не тут-то было!
Враг этот не дремал в моем воображении. Вся прочитанная за последнее время, прежде запрещенная для меня литература, о зверствах сотрудников КГБ возникала передо мной в ярких образах. Я не могла справиться с их решительным наступлением. И чем больше я уговаривала себя, что это стьщно для взрослого человека и похоже на дикий бред, тем более неотвратимо мною овладевал почти животный ужас. Мне казалось, что за мною следят — ведь я все-таки приехала сюда с Тарковским! — что сотрудникам КГБ, конечно, известно, где я нахожусь, что я совершенно беспомощна, и никто не мешает им теперь тихонечко пробраться через сад к моему сараю, в цитадель белоэмигрантов... Какой бред! — пыталась я усмирить свою неудержимо разыгравшуюся фантазию. Бред! Но чем больше я старалась себя в этом убедить, тем сильнее мною овладевал страх. До такой степени, что, наконец, я должна была признаться себе, что мне нужно тикать отсюда как можно быстрее и любым способом к “цивилизованным” людям...
Но я уже боялась к тому моменту даже открыть дверь, потому что воображала себя окруженной другими “нашими” людьми, которые сделают со мной все что угодно, и никто ничего не узнает. Но страх подстегивал к действию, и я решила, что лучше быстрый конец, чем ужас без конца, и, распахнув дверь, опрометью рванула на набережную, полную жизни часа в два ночи.
Каждому здравому человеку, конечно, понятно, что на этой набережной в такой час таятся настоящие опасности, но логика не имела уже никакого значения. Я дышала с облегчением, продолжая бег трусцой... Куда? Ну, куда же еще, как не к Тарковским в Карлтон? Хотя я понимала, что они уже спят и в отель меня, голодранку, в это время никто не пустит. Надо будет разговаривать с портье, добиваться своих демократических прав, а затем, к стыду своему, еще будить Тарковских. А завтра с утра остается только уезжать к себе домой, не дождавшись премьеры, потому что жить, оказывается, мне негде...
Но двери Карлтона, совершенно неожиданно для моего советского сознания, оказались почему-то открытыми настежь. И абсолютно никто не поинтересовался, куда это направляется в неурочный час какая-то “дама” в потертых джинсах, мало похожая на клиентов такого люксового отеля. С замиранием сердца, еще опасаясь, что кто-то из администрации гостиницы все-таки “схватит меня за хвост, я нажала кнопку в лифте. Еще мгновение и я стою перед дверью номера Тарковских, вынужденная их будить. Стучу. Дверь открывает Лариса, и выясняется, что Тарковский на интервью. В это время! Но я забыла о том, что это фестивальное время, то есть другое и для участников, и для журналистов — двадцати четырех часов никому не хватает.
Я вздохнула с некоторым облегчением. Мне никого не пришлось будить и Ларисе не нужно было долго объяснять причину моих страхов. Мы слишком хорошо знали друг друга, и она была хорошо осведомлена о моей фобии. Я только сокрушалась о том, что завтра придется уезжать, так как деваться некуда...
Нужно было только понять, где я сумею доспать эту ночь в роскошном номере Тарковских, стоившем фестивалю какие-то астрономические суммы. Было не очень ясно, куда меня запихнуть на оставшееся время в этом роскошестве. В номере стояла огромная двуспальная кровать, куда растерянная Лариса предложила мне устраиваться третьей. Ситуация оказывалась довольно странной... Тем более я подозревала, что его тоже это вынужденное решение едва ли приведет в восторг.
Тогда, вспомнив свое пионерское прошлое, включавшее модифицированные ныне игры во всяких “казаков-раз-бойников”, я внимательно осмотрела помещение. Бросалась в глаза ванная комната, которая была едва ли не больше по размерам всего основного помещения. Она разделялась на две части. В первой проходной части располагалась огромная, сверкающая белизной ванна и два умывальника, а за стеклянной дверью таились еще душ и туалет. Эта ванна сама по себе показалась моему смышленому незатейливому пионерскому уму просто и без преувеличения королевским ложем. Лариса в первую минуту опешила: “Ты что, с ума сошла? Как это ты здесь будешь спать?” “Прекрасно!” — возопила я, подразумевая “Эврика!”
“А что же в нее стелить?” — не унималась в своих сомнениях Лариса. Но они разрешились быстро. Мы стащили с их кровати два замечательных покрывала, которые, застелив теперь дно ванной, послужили мне на славу, и я погрузилась в глубокий сон. Но даже сквозь этот сон я отметила поздне-раннее появление Андрея в “моем” помещении, пробормотавшего или хихикнувшего что-то среднее между удивлением и одобрением, вроде как “сумасшедшие”... Но дело было сделано, а я могла остаться до премьеры. Тарковские этого хотели, потому что напряжение на самом деле было слишком велико, а свой человек, бесконечно им преданный, был все-таки совсем рядом и под рукой...
И тут я, самозванка, оказалась включенной в их завтраки, которые они теперь заказывали в номер на троих. Их еда трое суток тоже оплачивалась фестивалем, включая их любых возможных гостей. Так что поутру я вылезала из своего бункера и размещалась, будто так и надо, вместе со своими любимыми друзьями в комнате, залитой солнцем, вокруг столика с кофе, джемами и круасанами. Точно также я делила с ними все остальные трапезы уже в ресторане. Никого из администрации не интересовало мое незаконное присутствие — не то что во Владимре. Мы хохотали с Ларой, вспоминая нашу владимирскую гостиницу, как я бегала открывать ей запертую дверь этажа и как скрывались от служащих гостиницы ее “аморальные” ночевки у Андрея. А теперь мы пробирались далее по коридорам свободы, открывавшей нам свои, как нам казалось, просторные, как этот номер, объятия...
Но французская свобода тут же продемонстрировала нам свою унижающую неполноценность. Как я уже писала, оказалось, что гардероб наш не соответствовал ее претензиям. Выяснилось, например, что на вечерние просмотры допускаются зрители только в вечерних туалетах, то есть мужчины в смокингах, которого у Андрея не было.
Поначалу, демонстрируя свою демократичность, мы отнеслись к этому, как к шутке: уж, небось, не начнут демонстрацию “Ностальгии” без Тарковского? Ан нет, разочаровали нас. Находились и до нас такие бузотеры, да им указали их место вне зала и тем более сцены. Один америкашка пришел на представление своего фильма в “вольной” одежде, но просмотр начался без его представления почтенной публике.
Стало ясно, что смокинг приходится брать на прокат за кругленькую сумму. Каким-то образом раздобыли бабочку. Во всяком случае, у меня в блокноте сохранилась запись: “Проблема бабочки! Мы то нервно хохочем, то волнуемся всерьез — а что делать? Чувствуем себя нашкодившими школьниками. Андрей, недоумевая, хихикает: “нет, поймите, что не впустят меня на собственный просмотр, ха-ха-ха”. А позднее, когда доставили смокинг, то оказалось, что он не годится по цвету, не сочетается с чем-то. Андрей восклицает: “Лара, я думал, что вы взяли синий... А вы — серый! Нет, серый нам не годится! Что делать, мама мия?”
В итоге с серым цветом пришлось как-то смириться. У Ларисы на этот случай было платье от Параджанова, а я привезла с собой бархатный лиловый брючный костюм, но тут выяснилось, что в брюках не пускают. Лариса нашла выход из положения, решив изобразить из меня японку. Она честно старалась заворачивать меня в свой цветной атласный халат все той же фирмы “мама”, подкалывая и подшивая его на мне в разных местах, чтобы он походил на кимоно — все трое нервно хохотали. Но, несмотря на все ухищрения, это кимоно не желало на мне держаться, и я все время из него выскальзывала. Рискуя не попасть на просмотр, я надела костюм. К счастью, он не вызвал у билетеров никакого протеста, и я гордо вплыла в просмотровый зал.
Надо сказать, что во время фестиваля отношения Ларисы с Андреем были самыми нежными. Проснувшись утром и усаживаясь с нами завтракать, Андрей рассказывал нам свой очередной сон: “Я сегодня как будто бы проснулся во сне и думаю, почему я здесь? И что я вообще здесь делаю? И Ларисы нет. Вот ужас!” Лариса откликается на этот сон полным удовлетворением, спрашивая кокетливо: “А что, Андрюшенька, если я далеко уйду?” Нежный поцелуй следует в ответ, и кажется, что все опять на своих местах: Андрей по-прежнему нуждается в Ларисе так, как было всегда...
Еще до фестиваля Андрей сговорился с Ковент-Гарденом о постановке Бориса Годунова. Николай Двигубский жил в это время уже в Париже, женившись на француженке, и Андрей предложил ему стать художником спектакля (раньше они работали вместе на “Зеркале”). Двигубский прикатил на машине из Парижа в Канн, чтобы оговорить с Андреем с глазу на глаз условия этого проекта. Может быть, речь шла о деньгах. Не знаю, но Андрей был раздражен сверх меры настойчивостью, с которой Двигубский добивался свидания с ним, недоуменно восклицая: “Коле, наверное, кажется, что я приехал в Канн для того, чтобы с ним встретиться! Странно...” Помню Двигубского, смирно ожидавшего, когда Андрей выберет минуту поговорить с ним...
А поскольку, как я уже говорила, ни Андрей, ни Лариса не говорили ни по-французски, ни по-английски, то я исполняла при них роль секретаря-переводчика, отвечая на все телефонные звонки, резервируя время для встреч Тарковского с нужными людьми.
Сохранились записи в моем блокноте, которые напоминают сейчас о том, с кем намечались эти встречи: записаны телефоны сэра Джона Тули из Ковент-Гардена и Анны-Лены Вибум, с которой предстояло в присутствии директора Шведского Киноинститута оговорить конкретно замысел предстоящего фильма. И я отправилась вместе с Тарковским на ланч, куда нас пригласили шведы. Вот короткая запись того, как представлял им Тарковский свой фильм, который станет потом “Жертвоприношением”.
“Человек оказывается в ситуации начала атомной войны. Перед этим он проводит день наедине с природой, а потом, вечером, когда он с семьей садится у телевизора, то диктор объявляет начало войны. Всем страшно. А герой, уединившись, молится о том, чтобы не было этого ужаса, чтобы все было как прежде и вернулось вспять. В какой-то момент он забывается и засыпает, а когда просыпается, то видит, что все как бы на своих местах до такой степени, что у него вовсе возникает недоумение — а было ли все это на самом деле? Но тем не менее он чувствует себя обязанным реализовать или выполнить то обещание, которое он дал Богу. А он обещал Ему отказаться от всякой лжи, сжечь и покинуть свой дом. Когда герой совершает поджог, то его воспринимают, как сумасшедшего, вяжут, сажают в машину и везут в психиатрическую клинику. Но для него самого остается неясным, кто же все-таки был прав: его близкие или он сам, сохранивший мир ценой своей собственной жертвы или проявленной воли. То есть я хочу поднять в этом фильме вопрос значимости личного участия и личной Веры человека, который способен, благодаря этому, взять на себя персональную ответственность за судьбу мира в противовес общественной безответственности, царящей вокруг. В главной роли я рассчитываю снимать Йозефссона ”.
Шведы были полностью удовлетворены рассказом, хотя “юмора”, которого хотелось Анне-Лене, я в нем не усмотрела. Но зато этот фильм обещался быть недорогим и компактным. Так что проект был утвержден. А вот “Гамлет”, о котором мечталось, увы, по-прежнему оставался вне обсуждения...
На кинофестивале Тарковский встречался после долгого перерыва с Кончаловским, Иоселиани, Кшиштофом Занусси, который был членом экуменического жюри. Встреча с Иоселиани была сердечной и теплой. Встреча с Кончаловским напряженной и неестественной. Тарковский, нервничая, говорил потом: “Несчастье Андрона в том, что он не поверил себе... У него не было чувства собственного достоинства... Увы, но характерная черта его таланта в том, что он хочет непременно понравиться и готов для этого на все”. Такая характеристика в устах Андрея звучала приговором. Он считал, что приглашение Бондарчука на роль Астрова, например, было сделано Кончаловским из коньюнкгурных соображений, как подстраховка, гарантирующая для фильма дополнительную защиту в случае каких-либо осложнений с начальством. Но сам Тарковский снимал в “Солярисе” дочь Бондарчука — по этой логике тоже можно было бы размышлять о его осознанном или подсознательном умысле. И “умысел” ли это, наконец, или только здравый смысл?.. Потому что это были просто хорошие актеры. Тем не менее, еще раз подтвердилось то, что они были с Кончаловским очень разными людьми...
Когда Тарковский еще только снимал “Ностальгию”, Бондарчук приезжал в Италию с каким-то визитом. Было опубликовано интервью с ним, в котором он признавался, что не любит кинематограф Тарковского. Причем, надо теперь сознаться, он “имел право” его не любить. Ведь сам он создавал совершенно другое кино. Но мы, советские люди — и в этом смысле Тарковский не был опять же исключением — знали, что на Запад мы не выносим своих внутренних ссор и несогласий, а поддерживаем друг друга. А потому Тарковский воспринял, так называемое “честное” признание Бондарчука, как провокацию по отношению к себе. Тем более, что Бондарчук был любим советскими властями, был в самых лучших отношениях с Ермашом, и Андрей не мог даже на секунду согласиться с тем, что неприятие его творчества может носить только личный вкусовой характер. Он воспринял это заявление Сергея Федоровича, как звено организованной травли, предпринятое из “московского центра”. Вот так были перевернуты все мозги и отношения в тот период... Так строились баррикады между людьми, когда частное мнение порой оборачивалось общественным злом...
Так что Тарковского еще более озадачило, помимо присутствия в конкурсе картины Брессона, представительство в жюри с советской стороны чтимого и на Западе обладателя Оскара Сергея Бондарчука. Андрей с самого начала расценил это как звено в борьбе “родного” начальства с его фильмом. Не поддержка, а подножка.
Официальная премьера “Ностальгии” прошла с огромным успехом и полным залом. Мы выходили в окрыленном и приподнятом состоянии.
Помню, как Занусси говорил Тарковскому с одобрением: “В твоей картине нет ничего итальянского. Нет никаких побочных влияний. Это ты сам! Я знаю в Италии такие гостиницы, какую ты снимаешь в “Ностальгии”, но кто их видел так, как ты ее увидел? Тем более важно, что тебе все это удалось, потому что сейчас кино на Западе в таком плачевном состоянии, что мысли уже вообще не имеют никакого значения”...
На следующий день ожидалось решение жюри.
* * *
Это были часы особого, немыслимого напряжения. Предстоящее решение воспринималось Тарковским прямо-таки как судебный вердикт: казнить или миловать. Как приговор. Как судьбоносное решение, как компенсация всех прошлых трудностей, определяющее всю его дальнейшую жизнь. Он был вне себя. Фотографии, зафиксировавшие Андрея в эти мгновения, в ожидании, когда результаты заседания жюри будут объявлены по телевидению, говорят сами за себя больше, чем страницы описаний.
Гран-при в Канне был для него всем сразу — безоговорочным и полным признанием, деньгами, новой позицией в отношениях с продюсерами. Это широкий коммерческий прокат “Ностальгии”, снимающий с него ненавистный ярлык “элитарного режиссера”, страдавшего от него столько лет!
Надо сказать, что итальянские продюсеры были оснащены своими “лазутчиками”, приблизительно информировавшими их о дискуссиях в жюри, заседавшем до четырех часов утра. На чаше весо^по нашим понятиям, были Тарковский и Брессон, Брессон и Тарковский. Как их развести? Где таится соломоново решение непростой задачи?
Тарковскому доносили, и я была тому свидетелем, что только Бондарчук сражается “как лев” со всем остальным жюри против присуждения Тарковскому вожделенной Пальмовой ветви. Мы не сомневались в том, что Бондарчук главное препятствие на пути к цели. Кто победит?
С утра все сгрудились у телевидения в номере Тарковских в ожидании оглашения принятого решения. Все — это, кроме Андрея, Ларисы и меня, Янковский, Иоселиани, представители итальянского телевидения (RAI) и переводчик Тарковского, профессор из Гренобля, Саша Бурмистров. Мы слонялись от стенки к стенке, не находя себе места: то рассыпались по номеру, то снова сбивались в кучку, точно ртуть. Андрей почти не мог отвести уже покрасневших глаз от телевизора, желваки его непрестанно двигались, рот сжался, и весь он дергался в нервном напряжении, как будто в надежде проникнуть в телевизионное Зазеркалье и вырвать оттуда тайну решения каким-то сверхчеловеческим волевым усилием...
Оглашенный, наконец, результат в первые мгновения был подобен удару гильотины. Пальмовая ветвь оказалась в третьих руках у японского режиссера. А соломоново решение уравняло претензии Тарковского и Брессона в Специальном призе жюри. Очень почетной, но той же безденежной премии, которую Тарковский уже получал за “Солярис”. Андрей заметался по комнате, как подстреленная птица, рухнул в кресло, а потом заметался вновь в судорожных конвульсивных движениях. Нет. Этому не бывать! Он приехал за Гран-при и не желает получать эту “нищенскую подачку”. Все или ничего! В первую минуту мы все так растерялись так были расстроены, что не успевали сообразить, что предпринять. Но в следующее мгновение мы всей гурьбой накинулись на Тарковского с заверениями, что лучше Специального приза ничего не бывает. Им отмечены лучшие произведения искусства, а Пальмовой ветви достойна только коммерческая стряпня. Выстраивали в ряд все великие имена, удостоенные этой прекрасной награды...
В коридоре у двери номера уже толпились репортеры, но Андрей распорядился никого к себе не пускать. Какие-то свои итальянские гонцы просачивались в номер, докладывая, что у Брессона развивается аналогичный сюжет: “Брессон отказывается от приза”... “Брессон согласился его получать”...
Думаю, что последнее сообщение сыграло решающую роль. За это время еще выяснилось, что Специальный приз подкреплен, как и в случае с “Солярисом”, премиями “ФИ-ПРЕССИ” и Экуменического жюри. Тут возможности нашей аргументации утроились — по законам арифметики три приза такого рода перевешивают одну Пальмовую легкую веточку. Понимающим людям ясен подлинный победитель без “постыдного”, запачканного рынком Гран-при...
Постепенно Андрей начал смиряться, смягчаться и приходить в себя... Еще раз переспросил потеплевшим голосом: “Брессон точно соглашается на Специальный приз?” Мы все радостно закивали головами... Лицо Андрея окончательно разгладилось в готовности смириться с неизбежным... соглашаться... радоваться... и праздновать... Тут мы все бросились друг другу в объятия с поцелуями и поздравлениями... В номер влетела героиня фильма... Заскочили первые прорвавшиеся, наконец, корреспонденты... Ура-а-а! Андрей расслабился и как будто довольный откинулся в кресле, готовый отвечать на первые вопросы интервьюеров.
Расслабление, впрочем, оказалось временным и нестабильным. Вечером, уже на торжественном вручении премий Тарковский был взвинчен, нервозен и... обижен. Это так чувствуется в сохранившейся хронике по тому как он вынужденно подходит к микрофону следом за Брессоном и с какой интонацией, точно выдавливая из себя, бросает в зал единственное слово сомнительной, скорее презрительной благодарности, недоуменно поводя плечами — “Мерси”... А что вы еще, мол, хотели от меня услышать?
А я сидела в зале как зачарованная. Всего полгода назад я даже вообразить себе не могла, что окажусь в центре таких событий в зале такого прежде совершенно для меня заказанного фестиваля. Да-а-а, чудны дела Твои^Господи! Несказанное волшебство, творящихся перед моими глазами событий, усиливалось с каждым мгновением. Специальный приз Брессону и Тарковскому вручал Орсон Уэллс, герой моей дипломной работы! Именно Он именно Им! После потрясения, давно пережитого мною после просмотра “Гражданина Кейна”, сколько литературы о нем было перечитано, сколько дум передумано, написано и опубликовано. Драматургический узел точно специально еще раз закручивался для меня, как в дурном сюжете, где должны все концы связаться с концами...
* * *
В Канне оказался кинокритик Том Ладци, которого я знала еще с московских фестивалей, говорили, что он правая рука Френсиса Кополлы. Он приятельствовал, как с Кончаловским, так и с Иоселиани. Но прежде не мог добраться до самого Тарковского.
Андрей никогда не принимал никакого участия в Московских фестивалях, то есть его картины никогда там не демонстрировались, а общие “тусовки” на всякий случай были не для него. Кроме того, его старались еще оградить от “лишнего” общения с западными кинодеятелями, и Тарковский как будто бы сам принимал навязанные ему “правила игры”. Когда дотошные журналисты донимали официальную администрацию вопросами о нем и его местонахождении, то получали три варианта ответа: он нездоров, он принципиально некоммуникабелен, его нет в Москве. Как правило, его действительно не было в Москве. Он, “добровольно” самоустраняясь, удалялся в Мясное, ограждая от лишних травм свое гипертрофированное чувство собственного достоинства. Он не питал н£ к кому вообще специального пиетета, тем более “для дела”. Во всяком случае, так это выглядело всегда, и мне очень нравилось.
Сама я работала на Московских фестивалях поначалу как работник журнала, а потом со шведскими делегациями и старалась всем, кто меня о нем спрашивал, рассказать о том, что Тарковский на самом деле жив и здоров, а его отсутствие объясняется только “высшими” соображениями кинематографического руководства. Конечно, Тарковскому никто не запрещал болтаться в коридорах и фойе гостиницы “Россия”, где селились все участники фестиваля и осуществлялись все запланированные и незапланированные контакты. Но я не могу Его представить себе в этой роли... Чтобы он являлся только частицей общего броуновского движения... Это немыслимо себе вообразить, и в этом смысле он никогда не был, как все, даже если в это “множество” легко вписывались другие крупные кинематографические фигуры, но не он... Это был бы не Тарковский.
После таких фестивалей я рассказывала ему при встречах о своих впечатлениях и разных событиях. Слушая меня с некоторым интересом, он, как правило, завершал мой рассказ обычным резюме, недоуменно подергивая плечами: “Какое убожество!!!” То же самое пишет он в одном из писем моему отцу.
Таким образом, живой Тарковский, воплотившийся в материальном образе, как “персоналите”, оставался для западных кинематографистов и газетчиков фигурой мистической, а потому тем более любопытной.
И вот только теперь, в Канне, Тому Ладди удалось, наконец, впервые поймать Тарковского. В беседе, которая у них состоялась с моей помощью, Том пригласил Андрея в Америку, на маленький элитарный фестиваль некоммерческого кино, соучредителем которого он являлся, в маленьком местечке Телорайд, в горах, в штате Юта. А Андрей попросил Тома узнать в Америке о возможностях постановки “Гамлета”, а также состряпать Ермашу письмо об этом проекте, как будто уже налаженном с американцами. Кроме того, мы обещали Ладди послать рукопись “Книги сопоставлений” в поисках издателя.
Все из-за того же незнания Андреем английского все дальнейшие контакты с Ладди шли через меня...
А еще я сделала в Канне фотографию Андрея в тот исторический момент, кщгда он писал свое ныне знаменитое письмо Ермашу...
После Канн
Друг мой, настоящая правда всегда неправдоподобна, знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали.
Ф.МДостоевский.
“Бесы”
Вот письма от Тома Ладди, которые у меня хранятся до сих пор, и которые отчасти описывают, а отчасти предваряют те события, участниками которых мы скоро станем.
“27 мая 1983г.
Дорогая Ольга,
Я был очень рад снова встретиться с тобой в Канне и надеюсь на новые встречи где-нибудь еще, где будет больше времени, меньше суматохи и людей, и мы сумеем рассказать друг другу о том, что делали последние годы.
Во всяком случае, я хочу сообщить тебе, что был по-настоящему взволнован “Ностальгией”, которая, во всяком случае, достойна того, чтобы ее посмотрели подальше от лихорадочной обстановки Канн. Я жду не дождусь, кода же настанет момент, чтобы я остался с фильмом один на один в тихом зале.
Этим письмом я подтверждаю все, о чем мы разговаривали с Андреем в Канне, то есть, что кинофестиваль в Телорайде хочет пригласить его, как специального уважаемого гостя, как главное действующее лицо нашего 10-го юбилейного фестиваля со 2-го по 5-ое сентября.
В прошлом в Телорайде мы показывали “Зеркало”, “Соля-рис ” и “Андрея Рублева ” и, как мне кажется, наш фестиваль может стать идеальным местом и возможностью, чтобы новый великий фильм Андрея столкнулся с кинематографистами и любителями кино.
Я разговаривал с моим старым другом КолейДвигубским, сообщившим мне, что премьера “Бориса Годунова ” состоится в Лондоне 31-го октября. Таким образом, мне представляется, заглядывая вперед, что Андрей сумеет выкроить время для поездки в Телорайд дня на четыре в начале сентября.
Как я обещал в Канне, наш фестиваль обеспечит Андрея и его жену или другого его спутника всеми билетами из Лондона или другого европейского города. Также в Тело-райде мы обеспечим его каким-нибудь симпатичным переводчиком.
Кроме того, я напишу официальное обращение в Госкино с просьбой разрешить Андрею путешествие на наш фестиваль. А еще я сам собираюсь быть в Москве в июле на фестивале, так что там еще смогу позаботиться об этом непосредственно.
Звони мне в любое время по коллекту в мой офис на “Зу-трон студию ” в Сан-Франциско по телефону 415 788 7500. Ты можешь мне также писать. Я очень высоко ценю твою помощь в том, чтобы давно планировавшееся участие Тарковского в нашем фестивале в Телорайде, стало, наконец, реальностью.
С лучшими пожеланиями
Том Ладди ”
27 июня 1983
Дорогая Ольга,
Хорошие новости. В штатах нашелся прокатчик для “Ностальгии ”. Фильм был куплен Мироном Брежник из “Гранже коммуникейшен”. Я рекомендовал ему фильм прежде чем он поехал в Рим.
Я разговаривал сегодня в офисе Брежника, и они были бы счастливы предоставить “Ностальгию” Телорайду, а присутствие Тарковского на фестивале, как они уверены, станет идеальной помощью упрочения положения “Ностальгии ” в США.
Итак, я полон надежды, что вскоре ты сможешь подтвердить, что Андрей собирается приехать к нам из Лондона, чтобы символизировать своим присутствием этот фестивальный год.
Надеюсь в скором будущем что-то услышать от тебя.
С наилучшими пожеланиями Том Лади ”.
В этот же конверт было вложено для осведомления Андрея письмо, которое по его просьбе Том Ладой направил Ермашу:
“27 июня 1983
Г-ну Филиппу Ермашу Госкино
Малый Гнездниковский, 7 Москва, СССР
Дорогой г-н Ермаш,
Я был счастлив узнать сегодня, что фильм Френсиса Ко-поллы “The outsiders”будет показан на Московском кинофестивале вместе с представленным Френсисом Ко-полла “Койаннисасти ”.
К сожалению, Френсис только что начал снимать в Нью-Йорке “Cotton Club ” и потому не сможет приехать в Москву. Я до сих пор не могу понять, сумею ли я сам приехать, хотя стараюсь.
Кроме того, я обращаюсь к Вам не только как должностное лицо “Зутрон студии ”, но и как со-директор кинофестиваля в Телорайде.
Вам, конечно, известно, что мы приглашали Тарковского приехать на этот фестиваль каждый год, но он не мог выбраться к нам из-за своей занятости (Андрей понятия не имел ни об одном из этих приглашений — О. С.).
Как бы то ни было, но теперь я встретился с господином Тарковским в Канне, и он согласился приехать к нам на 10-ый юбилейный кинофестиваль, если ему позволят его дела в Ковент-Гардене и если Госкино даст свое разрешение на эту поездку для въездной визы в США. Мы сообщили ему, что будем счастливы оплатить его поездку к нам из Европы.
Поскольку премьера оперы должна состояться в Лондоне 31-го октября, то я надеюсь, что он не будет еще слишком занят подготовительными работами и репетициями в начале сентября, чтобы отлучиться к нам на пять-шесть дней.
Кроме того, я пришлю Вам официальное приглашение г-ну Тарковскому для участия в фестивале. Мы собираемся показать там все его фильмы, сделанные в России, а также “Ностальгию”, которая принадлежит теперь американскому прокатчику (Мирону Брежник, Гран де Комуникейшенс).
Надеясь на Ваш ответ. Остаюсь преданным Вам
Том Ладди ”.
Как вы заметили, в одном из писем Том Ладди писал, что готов оплатить приезд на фестиваль жены Тарковского или другого спутника. Тогда Ларисе пришла в голову мысль сказать Андрею, чтобы он попросил приплюсовать меня третьим компаньоном в это путешествие, поскольку, будучи биографом Андрея, мне не помешает расширить область моих наблюдений.
Передав ему просьбу Андрея, я получила от Ладди следующее письмо.
“Дорогая Ольга,
Подтверждая наш сегодняшний телефонный разговор, кинофестиваль в Телорайде готов оплатить все дорожные расходы тебе, Андрею Тарковскому и его жене.
Как только получишь эту информацию, пожалуйста,
посоветуй нам, из каких европейских столиц вам следует заказывать билеты? Также посоветуй нам, в какой стране мы должны обратиться в Посольство Соединенных Штатов, чтобы организовать визы для Андрея и его жены, приглашенных по культурной линии, чтобы их оформление прошло быстро и гладко.
Как я уже говорил тебе по телефону, мы могли бы организовать ваш прилет в один из ближайших аэропортов к Телорайду, с пересадкой в Нью-Йорке: иТран Джакшен ” или “Монтрос Колорадо”. Тогда ваш прилет планируется на 1 сентября, чтобы подготовиться к фестивалю, который начинается 2 сентября и продлится 4 дня. Вы можете покинуть Телорайд уже шестого сентября, чтобы лететь прямо в Европу или остановиться еще на несколько дней в Нью-Йорке, где, как я уверен, прокатчик иНостальгии ”в США Мирон Брежник будет счастлив принимать вас.
Кроме того, если вам покажется интересным, ехать в Телорайд одним из самых потрясающих и захватывающих маршрутов мира, то мы могли бы организовать ваш прилет из Европы в Лас-Вегас, Невада. Тогда вы могли бы вылетать из Европы 28 августа, прилетая в Л ос-Вегас той же ночью, а потом мы совершили бы трех дневное путешествие на одной или двух машинах, если к нам присоединятся другие кинематографисты, через пустыни, каньоны, места индейских резерваций, Джон Форф-кантри, которые располагаются между Лас-Вегасом и Телорайдом. Но это предложение на твое усмотрение и усмотрение Андрея. Кроме того, не могла бы ты выслать в Телорайд несколько фотографий Андрея?
Огромное тебе спасибо за то, что убедила Андрея приехать. Надеюсь скоро тебя увидеть.
С наилучшими пожеланиями
Том Ладди ”
Надо сказать, что уговорить Андрея поехать в Телорайд, стоило, на самом деле немалого труда и мне, и Ларисе, которая, как и я, очень хотела поехать. Свою собственную предстоящую поездку, возникшую совершенно неожиданно для меня, я воспринимала вообще, как подарок свыше — могла ли я прежде об этом даже мечтать? Но сам Андрей очень сомневался, ссылаясь на то, что Америка его не интересует. Это не его страна. Но главная проблема заключалась прежде всего в том, что он еще не хотел сердить советских чиновников, не раздражая их лишний раз и не предпринимая лишних “противозаконных” действий. Лариса, как всегда, была настроена несомненно более решительно и определенно. Но Андрея категорически не устраивало быть выставленным из страны. Но Ладди, конечно, не добился никакого официального разрешения из Москвы на поездку Андрея, а потому организовывал ее, в конце концов, “тайно”...
Том сообщает мне в очередном письме:
“Дорогая Ольга,
Надеюсь ты слышала от Андрея, что на сегодняшний день — понедельник, 8 августа — ситуация с визой выглядит неплохо, которую мы делаем в посольстве США в Риме. Конечно, нет никаких сомнений в том, что они дадут ему визу, но Андрей просил, чтобы эта виза не проставлялась в паспорте или что-то в этом роде. Если все будет хорошо, то я надеюсь встретить тебя и Андрея в аэропорте Лас-Вегаса вечером в воскресенье 28 августа. Ваши рейсы прибывают приблизительно в одно и то же время.
Мы проведем первую ночь в Лас-Вегасе, а утром в понедельник выруливаем приблизительно следующим маршрутом.
Понедельник — через Неваду и Цон-парк в Утах, и затем вниз в Аризону.
Вторник — через Хори Индиан резервейшен в Аризоне к каньону де Шелли, прекрасному каньону, с хорошо сохранившимися руинами древних индейских жилищ.
Среда — монумент Валей и Гран-Каньоны юго-восточного Утах. Останавливаемся в Голдин Лодж, где всегда останавливался Джон Форд, когда снимал свои вестерны.
Четверг — в Колорадо и через большой переезд — в Тело-райд.
Похоже, что Занусси встречается с нами в Лас-Вегасе и присоединяется к нашей поездке,
Надеюсь на скорую встречу, с наилучшими пожеланиями
Том Ладди.
P.S. Учтите, что наше путешествие будет пролегать через очень жаркие места, а в Телорайде днем приятная теплая погода. Однако, будьте готовы к тому, что ночи там могут быть холодными, так как место это расположено высоко в горах”.
Что можно было возразить против такого маршрута, но, надо сказать, что Андрей продолжал взбрыкивать и сопротивляться до последнего момента, снова морщился: не люблю я эту Америку, ничего там нет для меня интересного. Но, конечно, Лариса н(а имела сомнений, и это безусловно сыграло решающую роль. Она держала постоянную оборону, в нужный момент переходя в наступление, подобное шантажу: тогда мирные уговоры сменялись слезами, и она упрекала Андрея в том, что он никогда никуда не хочет ездить или ходить с ней, предпочитает всегда развлекаться и веселиться один, оставляя ей только черную домашнюю работу. А ее впечатления и развлечения? Где они?... Так что Андрею приходилось отступать, тем более, что из-за Донателлы Боливиа “рыльцо” его было в обильном “пушку”. Семейная жизнь требовала своих компромиссов.
Андрей, в конце концов, полностью сдался и согласился, а потом, во время этого путешествия я видела его, почти подавленным мощью открывшихся нам впечатлений, уникальной, лунной красотой развернувшихся перед нами ландшафтов...
Все следовало точно по плану, предначертанному Томом в письме. Наступил первый момент, когда все мы встретились в Лас-Вегасе, включая Кшиштофа Занусси, которому предстояло не только вместе с нами совершить это замечательное путешествие, но стать еще другом, собеседником, гидом и переводчиком Андрея — я бы сказала, блестящим переводчиком и отчасти даже его интерпретатором...
Не стоит говорить, что уже сам Лас-Вегас более чем специальное и специфическое место. Мы многое представляли себе по фильмам, но такой “кичухи”, не будучи там, нельзя вообразить. Или более уважительно — это коронованный кич! И какое-то немыслимое сумасшедшее веселье охватило нас... Абсолютно ошеломленные продвигались мы через очередной ангар, напичканный “развлечениями”. Бесконечные игральные автоматы вперемежку с будками, торгующими гамбургерами — куда там тебе общепит! Это было, подлинно конвейерное, не общественное, но частное, совершенно общее питание для ВСЕХ. Вот где ужас-то!
А где-то там, в недосягаемой высоте, куда почти никто не поднимает голову, надо всем этим базарным великолепием были натянуты батуты, над которыми еще выше, уже вовсе в заоблачном далеке, всю ночь летали воздушные гимнасты, как в шапито, но для чего-то расположенные там, куда вообще-то никто не смотрит. И все это зрелище блестяще венчал рассказ Тома Ладди, цитировавшего побывавшего здесь вместе с ним Дюшана Маковеева: “Вы думаете, что показываете мне язвы капитализма? Нет, дорогие мои, это мечта мирового пролетариата”. Что можно на это сказать, кроме как — гениально! Страшный гимн массовому вкусу!
Наутро, прежде чем отправиться в дальнейшее путешествие, обозначенное в плане, нас повезли в арендованный кинозал для просмотра широкоформатного документального фильма об истории и реальности бедственного положения индейцев, вытесненных с их земли “прелестями” цивилизации, накануне представленными нам по-особому “убедительно”. Речь шла о вымирающих людях, которых нам предстояло увидеть в резервациях, отторгнутых от своих национальных корней, религии, не желающих и не умеющих принять новые, навязанные им извне ценности. Эта более чем впечатляющая картина строилась на контрасте шумной, дымной, губительной, но, по-своему все-таки мощной красоты этой самой цивилизации, созданной “белыми” янки, и нетронутой тысячелетиями землей, принадлежавшей когда-то индейцам, принципиальным созерцателям, а не “творцам”. Богом данной трудно вообразимой тишины Вечности, безмолвия и покоя, куда нам еще предстояло въехать туристами...
Мы двинулись в путь на двух машинах, многоместном джипе и типичной комфортабельной американской машине, в которую посадили Тарковских со мной и которую поначалу пытался вести Том. Но вскоре, видимо, утомленный нашей русской речью, здраво рассудил, что для всех удобнее поменяться водительскими местами с Занусси, которого мы с радостью приняли в свои медвежьи объятия. А Том воссоединился в джипе с тремя американскими сценаристками, одна из которых называла себя “последней хиппи Америки”, также приглашенными на фестиваль, как и кинорежиссер с Филиппин, ехавший тоже с ними. А еще чуть позднее к нам присоединилась третья машина с китайским режиссером и его женой, а также, если не ошибаюсь, супружеской парой из Израиля.
Вначале мы ехали через один из национальных парков — заповедник, занимающий огромные пространства, покрытое всякой невероятной растительностью и заселенное мормонами, где на сотни(!) километров нельзя было найти магазина, где продавались бы сигареты или алкоголь.
Нас завезли также в деревеньку где-то в стороне и в горах, то есть в уединении, где небольшим поселением живут “настоящие” самые мормонистые мормоны, глубоко презирающие своих совершенно “разболтавшихся” соотечественников. Заезжать туда небезопасно, и удалились эти мормоны не для того, чтобы стать предметом любопытства туристов. Можно было только рискнуть быстро проехать по улицам с задраенными окнами, не останавливаясь, а то могут забросать камнями. Но из окна машины мы успели рассмотреть взрослых и детей, одинаково бледненьких в такую жару и укутанных в длинные одежды с длинными рукавами, в шапках и платках. Их правила гласят, что греховное тело должно быть максимально закрыто от чужого глаза. Аскетов таких немного. Жениться им позволено только между собой, так что кровосмешение в таком маленьком поселении, конечно, неизбежно... Это был первый неожиданный контраст после Лас-Вегаса...
А ехали мы и наслаждались в нашей замечательной машине вместе с Занусси, в его еще более замечательном обществе, болтая без умолку. Об этом очень точно вспоминает сам Кшиштоф: “На первом же привале... американцы пришли к нам, сгорая от любопытства и желая узнать, о чем мы там разговариваем, ибо у нас в машине всю дорогу царило страшное оживление. Мы ответили, что разговаривали о жизни, и это была правда, но объяснить, о чем именно, не смогли... как и многое другое впрочем”.
Были мы, все четверо, действительно, в прекраснейшем настроении, бесконечно шутили, балагурили, хохотали бездумно, рассуждая, например... О чем может рассуждать русский человек, на знающий иностранных языков? Об особенностях нашей русской речи, конечно, и русского общения. Помню, как задыхаясь от смеха, мы демонстрировали с Андреем наперегонки, сколько разного можно выразить по-русски одним коротким словом, “воще” или “ну, это воще” — утверждение, негодование, иронию, недоумение.
Надо сказать, что сам Кшиштоф был удивительно удачным и уютным, идеальным спутником и собеседником для Андрея. Американцы сложили нашу компанию правильно — просто послушать их диалоги в течение двух-трех дней было для меня подлинным наслаждением. Кроме того, что Кшиштоф был тонким, но и аналитически строгим кинематографистом, он оказался еще блестящим светским собеседником, энциклопедически образованным и иронически точным в своих оценках. Тем более, что к тому моменту он уже имел богатый опыт жизни и работы в Америке, где дела его тогда вовсе не заладились. В противоположность русской импульсивности вообще и Тарковского, в частности, он умно и насмешливо рисовал в назидание нам, начинающим эмигрантам, особенности деловой жизни Америки. Занусси знал все: от истории и обычаев каждого индейского племени до качества мяса, из которого изготавливаются гамбургеры и которое здесь рекламируется массам “настоящей чистой говядиной”... Андрей слушал, похихикивая и удивляясь, с детским вниманием...
Когда годы спустя я приезжала в Америку, то всегда с радостной улыбкой вспоминала рассказы Занусси, наше сказочное путешествие, их вместе... Кшиштофа и Андрея...
А каньоны... Этого нельзя вообразить... Там можно только побывать... Как на другой планете... И долина странных гигантов, где снимал свои фильмы Джон Форд... Масса маслянистого от жары воздуха... на мили и мили... Как море... Океан... Конца нет...
И пробираясь далее на машинах, снабженных, конечно, кондиционерами, дальше сквозь этот воздух, знойный, кажется, навсегда пропитанный, вобравший в себя и душное солнце, и ровный слепящий свет, воздух пустыни, в котором теперь как призраки вечности возникали какие-то странные, из бесконечности веков исходящие... скалы? Я не знаю названия этих сооружений, вместо стволов деревьев расположившихся в этой пустыне широко и привольно. Они напоминали живые существа, вечных обитателей этих мест, меняющих бесконечно свою окраску, свой облик, свое настроение в своих взаимоотношениях с освещением.
Как точно сказал восхищенный этими видениями Тарковский: “Здесь есть ощущение реального, зримого присутствия Бога”! А своим ироническим замечанием Занусси спустил нас на Землю: “Подумать только, что все это великолепие, называется таким прозаическим словом, как выветривание” Да? Действительно! Какая правдивая правда!
В своих воспоминаниях Кшиштоф точно вспоминает о том, как они с Андреем заключили в эти мгновения пари, кто первый теперь будет снимать эту долину. Андрей проиграл, и снимал этот божественный пейзаж, этот Космос Занусси. А Тарковский, увы, более никогда сюда не вернулся...
А тогда, удивленно подхихикивая, он повторял: “Нет, ребята, американцы все-таки удивительные люди... Иметь у себя под боком такую натуру, и никогда не суметь ее по-настоящему снять?! Ну, что? Форд? “Дилижанс”? Нет. В конце концов, это просто вестерн, который он снял в таких местах!? Какая глухота! Какая вульгарность! Нет, это поразительное отсутствие глаза и слуха, а?” — “А еще эти бесконечные рекламы, которые они здесь снимают?” — подтрунивает Занусси. “Да-да! И рекламы!” — негодует Андрей. И затем продолжает то убежденно, то мечтательно: “Здесь надо снимать явление призрака Гамлету. Вот здесь я бы такую сцену залудил... Ну, ничего... когда-нибудь сниму”... И хохочет: “Я им покажу, как это делается”...
А мы двигаемся все дальше и дальше... через индейские резервации... все ближе к цели нашего путешествия...
Но вечное, увы, переплетается с обыденным, которое особенно фальшиво звучит здесь. Наш кортеж притормаживает в очередной раз у базарчика, куда индейцы привозят продавать туристам изумительные ювелирные изделия ручной работы из полудрагоценных камней, вправленных в серебро... Андрей задержался у машины, любуясь, точно специально для нас, засветившейся теперь радугой... А мы с Ларисой топчемся у наскоро сколоченных прилавков и пялимся на эти изделия, как недоступную роскошь для нашего теперешнего положения. А мимо нас, точно метеор, проносится Ладди. Вот он, настоящий американец, который всегда в деле и не отдыхает никогда. Даже если мы все обедаем, то он с вечным гамбургером в руке проносится к телефону, куда-то исчезает и у телефона же возникает вновь. На этот раз, пробегая мимо нас, он бросает нам на ходу: “Выбирайте что-нибудь, я вам дарю”...
Мне ясно, что я выбирать ничего не буду, потому что в лучшем случае этот джентльменский жест касается Ларисы, жены Тарковского, которая сильно воодушевляется. Она настаивает, что подарок предложен нам обеим, но я отказываюсь наотрез, потому что жест вежливости адресован именно ей, а не мне, случайно оказавшейся рядом. Тогда Лариса некоторое время осматривает прилавки уже с прицелом на покупку, а затем направляется к Андрею. “Андрюша, я прошу вас выбрать мне украшение, которое вам больше нравится — Том хочет мне его подарить”, — томно щебечет Лариса. “Я никуда не пойду. Лариса! Это неудобно”, — решительно и, с моей точки зрения, логично заявляет Андрей. “Ну, Андрюша... Какой вы всегда... Это же Том хочет, а не я... Мне ничего никогда нельзя... Вечно одно и то же”, — не унимается Лариса...
В этот момент мы оглядываемся, и с замиранием сердца снова замечаем, что отчетливая радуга закольцевала последней красотой эти блаженные места — мы считаем, что это какое-то специальное, многообещающее предзнаменование... Но Андрей все-таки как-то незаметно увлекается Ларисой к прилавкам. При этом все более решительно и твердо на пути к ним Андрей утверждает, что это “совершенно неудобно”, но разворачиваясь к ним, вдруг небрежно тычет пальцем в пару наиболее приглянувшихся ему украшений с бирюзой. С некоторым недоумением и растерянностью я замечаю, что два самых красивых украшения имеют самую высокую цену. Андрей исчезает, а Лариса вместе со мной остается в ожиданиях Ладди...
Но мечты грозят не осуществиться. Тома нет. Он, видимо, наобещал да забыл! Я вздыхаю с некоторым облегчением, но Лариса хватает меня мертвой хваткой, требуя вместе с ней, так как она не знает английского, найти Тома и напомнить ему о его обещании. Я категорически не согласна. Лариса смотрит на меня почти с ненавистью, процеживая сквозь губы последний “святой” аргумент: “Но ведь этого хочет Андрей!” Я остаюсь неприступной и непреклонной, пока мы в перебранке бредем к машинам, где наши спутники уже занимают места. Туда же несется Том, который, действительно, совершенно забыл о своих словах. Но Лариса бросается ему буквально наперерез с решительным окриком: “Том!”, вынуждая его притормозить свой бег. “Оля, — зовет она меня теперь ласковым милым голосом. — Подойди, пожалуйста, ко мне и переведи Тому: дело все в том, что мы не успели с Андреем поменять лиры на доллары. А Андрей очень хочет, чтобы я купила себе здесь украшения. Так что я прошу у Тома деньги взаймы, и я ему верну долг, как только мы поменяем валюту”.
Краснея со стыда, я вынуждена переводить свою “подругу”, зная, что она никогда не вернет ему этих денег. Вижу, как Том без особого энтузиазма, но со светской готовностью направляется с нами к прилавкам, внутренне “крякая”, когда Лариса небрежно и мягко, указывая на два самых дорогих украшения: “Том, Андрею понравилось вот это... и это”...
С американской внешней легкостью и живостью Томом выплачиваются более сотни долларов.
“Спасибо, Том. Я тебе отдам деньги, как только мы поменяем”, — благодарит Лариса. А через некоторое время шепчет мне то же самое уже в машине, налаживая наши дипломатические отношения: “Я ему отдам”. Мое дерзкое неповиновение нейтрализовано. Я прощена, а, главное, дело сделано. Лариса спокойна и готова к дальнейшему путешествию. Андрей мельком оглядывает “подарок”. Машина трогается. Сзади, тускнея, радуга сливается с небом. Мне грустно и очень противно. Я стараюсь об этом забыть, не желая, чтобы ложка дегтя испортила бочку меда.
Постепенно пустыни сменяются горами, поросшими все более сочной и яркой растительностью. Теперь мы ползем все выше и выше в горы к этому неизвестному географическому объекту — Телорайду!
* * *
В конце концов, мы попали в уютное, небольшое туристическое местечко, затерянное в этих горах, очень живописное, трогательное и легко обозримое. Главный просмотровый зал фестиваля располагался в крошечном старомодном здании, как будто бы выстроенном в начале XX века для демонстрации еще немых лент. Сцена там декорирована старым рисованным задником, на котором теснятся горы, вилла, река, лодка в орнаменте из цветов, а’1а русские базарные картинки с лебедями. На открытии фестиваля в соответствии со всем декоративным и архитектурным замыслом на сцене, как полагалось когда-то, сидел тапер. И все освещалось тусклым, притушенным, желтоватым светом.
Далее нам сообщили, что пресс-конференции здесь традиционно проходят на открытом воздухе, на большой поляне, раскинувшейся неподалеку от этого просмотрового зала. Там всегда водружают стол со стульями для президиума, а публика свободно располагается на простых длинных скамейках или просто на травке.
Комнаты, как для Тарковских, так и для меня были забронированы в маленькой деревянной гостинице у подножия горы. А из комнаты Тарковских окна и дверь распахивались прямо на девственную природу.
На закрытие фестиваля планировался роскошный пикник чуть выше в горах, куда надо было подниматься на фуникулере. А в промежутках нам обещали поездку еще выше, в снежные вершины, ланч на роскошном ранчо и настоящее родео не для туристов, а для местных фермеров. В высокогорное путешествие нас заботливо и своевременно экипировали теплыми куртками с капюшонами: неожиданно оказавшись вдруг в снежном и ветреном королевстве, мы даже дышали с трудом в разреженном воздухе. Вот такие климатические переброски за несколько дней автомобильного путешествия...
А весь смысл этого милого интимного собрания кинолюбителей в Телорайде заключался в полемически заостренной противопоставленности его коммерческому духу больших известных и самых “крутых” фестивалей. Кинематографисты и зрители имели здесь возможность самого прямого и непосредственного общения, не предопределенного званиями, наградами или известностью.
Открытие фестиваля было волнующим и сердечным. Даже речь мэра города звучала на открытии неформально. А еще до открытия Тарковский был щедро вознагражден взволнованным признанием какой-то молодой американки, сообщившей ему, что его “фильмы изменили всю ее жизнь”. Чего же больше? Что я могу еще сказать?
На первой пресс-конференции были представлены сразу несколько кинематографистов: шведский режиссер Ханс Альфредссон, замечательный польский мультипликатор Збигнев Рабчинский, итальянец Марко Белоккио, венгр Андреас Ковач, режиссер с Филиппин и Кшиштоф Занусси.
А пресс-конференция Тарковского была объявлена на следующий день отдельно, как коронный “номер”.
Публика казалась наивной и доверчивой, доброжелательной, исполненной энтузиазма и готовой аплодировать каждому слову. Они радовались точно дети, заходясь от восторга, когда З.Рабчинский заверял их, что его “замыслы настолько полоумные, что их можно рассчитывать реализовать только в Америке”.
И присмиревшие слушали противоположный по смыслу рассказ Занусси о том, какой жесткой цензуре подвергался его фильм в Америке, его рассуждения об особенностях американского менталитета, отраженного их кинематографом, и непреодолимых преградах, стоящих на пути проникновения “чуждого” им миропонимания. “Хотя, — как заверил Занусси с некоторой надеждой, — есть в Америке люди, предпочитающие европейское кино”... Надо думать, что и таких он где-то видел...
Белоккио, подхватив горькие наблюдения Занусси, перечислял проблемы итальянского кино, оказавшегося в зависимости от американского доллара. Фильмы, которые субсидируются этим долларом должны соответствовать требованиям американской культуры. Это грустно. Потому что художнику предлагается сделать выбор между деньгами и собственными моральными принципами, которые долларом не оплачиваются...
Приехавший из Венгрии Ковач рассказывал о “преимуществах” положения кино в другой социальной системе: “У нас не стоит проблема денег, но нам трудно снять на эти деньги, в конце концов, тот фильм, который ты хочешь снять. На Западе художник вынужден думать о максимальном успехе у зрителей, о том, что он может заработать своим фильмом и что может заработать на нем продюсер. Но в этом контексте мы оказываемся в более выгодной ситуации: можно сказать, что мы бедны, но мы честны!”
Последнюю фразу публика встретила особенно восторженными аплодисментами. Но Альфредссон возразил, что режиссер все-таки обязан соответствовать интересам простой публики. А Занусси рассматривал ситуацию в контексте защиты авторского кино, которое не выживет без субсидий, а потому его положение драматично.
Далее Ковач, размышляя о положении художника в любом обществе, раскрывал проблему как внешней, так и внутренней цензуры: “Увы, но в процессе съемок, если не с самого начала, художник все-таки идет на компромиссы. Так что законченный фильм — это всегда результат борьбы с собой, того, что ты имел в голове, и того, что ты снимал. Завершенный фильм — это результат борьбы с материалом”. А Бе-локкио, подытоживая конференцию, говорил о том, что проблема любого большого художника состоит в том, чтобы суметь выразить себя через конфронтацию с другими.
Затем на дневном показе был продемонстрирован мало интересный для нас фильм “Тейстемент”, а вечером перед демонстрацией “Ностальгии” зрителям был представлен коллаж, собранный из кусков всех фильмов Тарковского. Думаю, что мы вместе с Андреем и Ларисой пережили какое-то особое волнение в этом далеком от Москвы американском зале, когда поплыли перед нами в темноте зала один за другим до деталей знакомые кадры “Рублева”, “Соляриса”, “Зеркала”, “Стажера”... Точно вся жизнь проносилась перед глазами...
Во всяком случае, после этого, предваряя просмотр “Носальгии”, Андрей взволнованно говорил следующее:
“Спасибо, что Телорайд напомнил мне мое многострадальное прошлое...
Все, кто делают кино, знают о том, что оно родилось, как ярмарочное зрелище на потребу и развлечение самой простой публики. Первородным грехом своего рождения оно было связано с деньгами. Отличие фильма от книги состоит в том, что фильм нельзя снять наедине с собой — для его съемок нужны деньги. Кино с самого начала было развлечением, но парадокс кинематографа состоит в том, что оно одновременно может быть высоким поэтическим искусством. О таком кинематографе можно сказать то же самое, что Гете сказал о литературе: “прочитать книжку также трудно, как ее написать ”. Кино — великое искусство, но очень страшно зависеть в такой степени от денег. Долгие годы зритель ожидал от нас, кинематографистов, развлечения, и мы виноваты в том, что услужливо ему эти развлечения поставляли. Мы сами воспитали зрителя, который знает, что в кино идут развлекаться. Это наша вина. А Гете я вспомнил здесь потому, что на самом деле искусство — это тайна. Оно говорит об истине и о бесконечном, которые все равно остаются тайной. Я не могу сделать картину, которая бы нравилась всем. В конце концов, я и не сто долларовая купюра, чтобы всем нравиться... Но... Такой фестиваль внушает мне надежду. Потому что мне кажется, что в этом зале зритель ожидает увидеть что-то действительно важное для себя в интимном смысле этого слова. (Аплодисменты,). И мне все-таки ясно, что продюсеры вернутся к тем временам, когда они бывали соавторами великих проектов. Может быть, я идеалист, но я в это верю. Итакой фестиваль, как этот — здесь, в Телорайде — становится символом такой надежды!”(Аплодисменты,).
Да-да, надеяться-то мы надеялись, но, как далеки были при этом от какой бы то ни было реальности. На что мог надеяться Андрей, видя, что большой рынок занимает всю территорию, а в таком фестивале, как Телорайд — нуждается лишь маленькая кучка людей, нуждающихся в кино, как искусстве, готового чувствовать и размышлять. Но мы все равно верили, что останутся странные бессеребренники, готовые пожертвовать всем, чтобы создавать подлинное кино. Рыцари искусства...
А теперь, прежде чем перейти к пресс-конференции Тарковского на лужайке, замечу, что были люди на фестивале, пытавшиеся завязать с ним отношения достаточно безуспешно. Я помню, что там был Борис Фрумин, наш режиссер, давно эмигрировавший в Америку, который организовал просмотр своего фильма в маленьком зале. Я ходила его смотреть. А Андрей, насколько я понимаю, полностью пренебрег тогда этой возможностью, может быть, в страхе всякого прямого контакта с эмигрантом из Союза.
Довольно курьезной оказалась встреча Тарковского с известным представителем американского “underground”a Станом Брекеджем. Ему удалось заманить Андрея со всем нашим автомобильным экипажем к себе в номер, где он рассадил нас всех, чтобы продемонстрировать свои работы с маленького проектора. Поначалу Тарковский терпел так называемые авангардные картины, поэтика которых была очень далека от него. Кроме того, будучи профессионалом, он не терпел никакой любительщины. Но вот начался просмотр фильма, подробно зафиксировавшего роды первого ребенка Стана его женой, теперь уже немолодой крупной женщиной, водрузившейся рядом с нами на кровати. Это так естественно для многих западных стран. В Голландии я уже успела налюбоваться в разных семьях фотоальбомами на ту же тему. Но через пару минут такого просмотра Андрей решительно встал и, извинившись, вышел. Мне в целях перевода пришлось последовать следом за ним и уже догонявшим его Станом Брекеджем. На его недоумение Андрей ответил, что роды, продемонстрированные в данном фильме, сугубо личное дело супружеской пары, а не предмет искусства: “Так что, скажи ему, Оля, смотреть такого рода картины я считаю для себя неприличным и непристойным”.
Американская политкорректность уважает любую точку зрения. Так что Брекедж все равно подарил Тарковскому свою недавно изданную книжку с надписью: “Андрею Тарковскому с благословениями, Стан Брекедж. 4 сентября 1983”. Бедный Брекедж даже не подозревал всю тщету своих усилий пополнить своим сочинением библиотеку Тарковского. Как только он отошел, Андрей обратился ко мне: “Хочешь ее взять? Возьми! Потому что я никогда в жизни ее не открою”. С тех пор эта книжка стоит у меня на полке, как еще одно доказательство неготовности Андрея аксептиро-вать чужую этику, непригодную для него лично...
А на следующий день все собрались на той же замечательной лужайке, чтобы теперь послушать и пообщаться только с Тарковским. У меня есть неполная запись того, что там происходило, свидетельствующая еще раз о том, как трудно вести диалог представителям разных культур. К тому же аудитория не знала тех имен, которыми апеллировал Тарковский.
Мандельштам — один из самых крупных поэтов нашего времени, как Пастернак, Ахматова или Блок, но я отдаю свое предпочтение именно Мандельштаму. К сожалению, его стихи совершенно невозможно перевести. Мне вообще кажется, что язык — это тот организм, который в существе своем не поддается переводу. Язык — это как пер-воклетка какого-то органа. Даже если мы, слыша чужой язык, понимаем его, как нам кажется, ухватывая смысл, но не касаемся его существа. Это, как разговор с компьютером.
Вопрос: Считали ли вы себя поэтом, прежде чем стать кинорежиссером ?
В кино есть два типа режиссеров: режиссеры-реалисты, реконструирующие мир, в котором они живут, и режиссеры, создающие свой мир. Мы называем их поэтами. Видимо, я принадлежу ко второй категории, так как далеко не все принимают мой мир. Но отсутствие единогласия и единомыслия естественно — иначе мы жили бы в раю.
Вопрос: Как вы относитесь к цвету в кино?
Я бы ответил так на этот вопрос: я так люблю черно-бе-лое кино, что не решаюсь его забывать... не хону. Это совсем другое кино, и оно мне дорого. Дело все в том, что цвет в кино не реалистичен, то есть неадекватен самой жизни: мы не воспринимаем в жизни цвет чисто механически, то есть если специально не концентрируем на нем своего внимания. Именно поэтому черно-белое кино кажется мне ближе к правде, реализму... оно натуралистичнее...
Вопрос: Ваше мнение о фильме “Тейстемент”?
Что я могу сказать?Я только могу порадоваться за автора фильма, что он не может себе представить, что будет означать в действительности будущая атомная война. Я завидую такому наивному и инфантильному неведению. Ия поражаюсь, как из материала такого трагедийного смысла можно получить рождественскую сказку... (Редкие аплодисменты. Фильм был гордостью фестиваля и предметом любви большинства публики).
Вопрос: Почему в ваших фильмах всегда фигурируют животные, лошади, собаки, а также огонь, вода, свечи?
Не знаю... Мне кажется, что все эти компоненты есть и в других фильмах других режиссеров... Я не думаю, что они занимают у меня больше места, чему других... Или вода?.. (улыбаясь): Боюсь, чтобы я не снимал свой будущий фильм просто под водой или в воде — может быть, речь пойдет о Потопе?.. Но, если говорить серьезно, то вода — это именно та субстанция, которая помогает мне наглядно чувственно выразить очень важное для меня понятие времени. Меня привлекает сама фактура воды, всегда подвижная. Тем более, что вода состоит из одной и той же материи, имеет ту же самую формулу... Она как бы кровь материального мира...
Далее Тарковский снова вернулся к теме, видимо, по особенному волновавшей его за границей: о “принципиальной непереводимости культур” с одного языка на другой. Задавался риторическим для себя вопросом: как можно перевести Шекспира? Американцы, мыслящие, как правило, гораздо более конкретно, с большим трудом пытались понять, о чем, собственно, вдет речь? Шекспир переведен на все языки, точно также как были переведены на английский известные им Чехов, Толстой или Достоевский. Но Тарковский настаивал на своем, утверждая, что “перевод — это гораздо более серьезная проблема, чем об этом принято думать. Поэтому, не умея проникнуть друг в друга с помощью языка, мы должны тем не менее учиться любить и понимать друг друга как-то иначе”...
На этом конференция вроде бы заканчивалась, но тут кто-то попросил Андрея дать совет, как бьггь счастливым. Об этом прекрасно пишет Занусси в своих воспоминаниях о Тарковском, которые я уже цитировала: “Кто-то из молодых людей слышал то, что Тарковский говорил об искусстве, о призвании художника, о назначении человека, сразу же увидел в нем гуру (а потребность в гуру очень сильна в Америке) и простодушно вопросил: “Мистер Тарковский, а что я должен делать, чтобы быть счастливым?” Вопрос этот, по американским понятиям, вполне обычен, но для Андрея он был просто ошеломляющим. Он прервал меня и спросил: “Чего этот человек хочет? Почему он задает такие глупые вопросы?”...
А затем Занусси замечательно точно объясняет до какой степени противоположными и мало доступными друг другу оказались ментальность даже тяготеющих к искусству американцев и русского художника Тарковского. Мне тоже запомнилось, что непонимание становилось тотальным.
Андрей не мог, не умел отвечать своему собеседнику просто и безыскусно. Вместо этого последовал обычный излюбленный монолог Андрея о том, что человек рожден “вовсе не для счастья, как птица для полета”. Американцы, естественно, понятия не имели не только о Мандельштаме или Ахматовой, но и о Короленко тоже, тем более о социальнокультурологической нагруженности этой цитаты, лишенной для них всякого контекста. Более того Андрей настаивал на своей правде в стране, где главным героем провозглашен “self made man”, и убеждал в том, ссылаясь на Книгу Иова, что человек рожден для страдания, чтобы сгореть, как свеча!
Меня просто смешит заданный вами вопрос. Я считаю, что мы живем для тяжелой работы. Жизнь дана нам для духовного роста, совершенствования духовного. Для меня нет сомнения в том, что душа человеческая бессмертна. И, если бы я в это не верил, я не мог бы прожить и десяти минут, настолько это было бы бессмысленно. Если только эту бессмысленность приравнять к счастью? Но я никогда не смогу согласиться с такой постановкой вопроса — в этом пункте кроется разница между человеком и животным. И вообще я не понимаю, кто сказал, что мы должны быть счастливы?
Проблема духовности человека стоит у истоков всего мира и единственно гарантирует его будущее. Во всяком случае для России такого рода миропонимание традиционно. Мы таким образом естественно чувствуем. А ваша ситуация здесь, в Америке, выглядит гораздо сложнее, потому что ваши предки обрубили свои корни в Европе. Но это еще не означает, что эти корни нельзя отрастить заново — иначе человек погибнет! Человек не может жить только прагматическими целями даже в очень хорошо организованном стаде. Он просто выродится. Духовность вырабатывается человеком как защита, иммунитет против вырождения. А чтобы почувствовать желание восполнить духовную пустоту, нужно почувствовать себя духовно нищим. В моей последней картине мне хотелось передать ощущение беззащитности человека, обнищавшего в духовном смысле.
Вопрос: А можно ли реализовать свою духовность в СССР?
Да, именно в СССР я сделал пять картин именно такими, какими я хотел их сделать. Других я бы просто сделать не мог, и я благодарен тем, кто помогли мне эти картины осуществить.
Как странно предлагать самовлюбленным американцам ощутить себя “духовно нищими”... Все это становилось для их прагматического ума все менее понятным и менее логичным.
Только что, перед премьерой “Ностальгии”, Тарковский благодарил этот фестиваль за “память о его многострадальном прошлом”. А теперь уверял в том, что благодарен Союзу за те пять картин, которые он там снял. Такое противоречие потребовало бы объяснения не только в Америке, но даже в Европе. Публика не поспевала за смещением всех уровней: конкретного, умозрительного и абстрактного. Тогда какая-то пожилая женщина решила коснуться непосредственных историко-социальных проблем, предложив обсудить “борьбу за мир” на данном этапе. Тарковский прямо-таки взорвался в непонимании:
Что значит вообще *бороться за мир ”? Все борются за мир, а мы стоим на грани катастрофы!Немыслимый парадокс состоит в том, что человечество неумолимо движется к войне, хотя никто этой войны не хочет. Потому что корень зла таится в нас самих. Мы все время чего-то друг от друга хотим, требуем — от друзей, от близких — и все ради общего спасения. Но суть состоит в том, что, желая и ожидая чего-то для себя, мы сами не готовы ничего отдать. Это основной принцип нашей цивилизации: чего-то хотеть от других, не заглядывая в собственную душу. Мы живем, как "божьи птички ”, то есть безответственно...
А христианская любовь начинается с любви к самому себе. Не любя себя, нельзя любить других. Ведь сказано: "Возлюби ближнего своего, как самого себя ”. Но такая любовь к себе означает не эгоизм, а способность и готовность к жертве. Здесь коренятся начала всех моральных, нравственных и прочих проблем. Как можно спасать другого, если гибнешь сам?(Аплодисменты,)
Вопрос: А для чего нужны страдания?
Конечно, нелепо предполагать, что к страданию можно или нужно стремиться. Не об этом идет речь. И жертва, о которой я говорил, вовсе не должна ощущаться самим человеком, как ЖЕРТВА, на которую он решается. Речь идет о готовности к жертве, как естественном состоянии души, а не о страдании, которым ты должен эту жертву оплатить.
Вопрос: Какие фильмы вам нравятся?
К сожалению, я смотрю мало фильмов. Мне их трудно смотреть.
Вопрос: Как вы думаете, для кого создается искусство?
Я уверен, что утверждать, будто бы искусство создается для других — демагогия. Для меня нет никакого сомнения в том, что искусство — это ДОЛГ: то есть, если ты что-то создаешь, то значит ты чувствуешь, что должен это сделать. А если я чувствую, что должен что-то сказать и могу это выразить образами... тогда ты подобен птице, которая поет на рассвете... Но, Боже упаси, я не хочу никого учить своими образами, но я хочу поделиться с их помощью своим самым сокровенным, а потому должен быть искренним. А затем только время покажет, смог ли я стать МЕДИУМОМ между УНИВЕРСУМОМ и ЛЮДЬМИ. А мой долг только работать, не требуя вознаграждения. Ия должен сделать все, чтобы эту работу иметь. А если говорить конкретно о моих теперешних намерениях, то я хочу сделать две вещи: поставить одну оперу и снять фильм “Гамлет для осуществления этих проектов я ожидаю разрешение с моей родины, которое позволит мне продолжить работу здесь.
Вопрос: Были ли в вашей семье религиозные традиции?
К творчеству меня более всего вдохновляет природа и моя любимая книга “Жизнь в лесу ” Торо Уолтена ”.
Вопрос: Что теперь делает Параджанов?
Уже полтора года я не был в Москве, но, насколько мне известно, сейчас он собирается делать новую картину. Конечно, все мы переживаем трудности, но каждый в разной степени. Я только могу сказать, что Параджанов — гениальный режиссер и изумительной красоты человек. Его несчастья — это мои несчастья.
Вопрос: Зона в “Сталкере это метафора современной технологии?
Нет, это просто место, где мы живем. Я просто хочу сказать, что мы не знаем мира, в котором мы живем, наивно думая, что мы его изучили. И в этом контексте для меня чрезвычайно интересна книга Карлоса Кастаньеды “Уроки Дон-Хуана ”. Речь в ней идет о том, что человек, защищаясь от цивилизации, предпочитает природу. Потому что развитие нашей цивилизации кажется мне ошибочным и однобоким. В корне этого развития все возрастающая, пагубная для человека дисгармония технического и нравственного. Цивилизация пошла ошибочным путем, видя свою задачу в том, чтобы защитить человека от природы, которая была воспринята угрожающей и враждебной ему. А суть состоит в том, чтобы постигать природу прежде всего ради единения с ней, а не борьбы и противостояния...
Вопрос: Испытываете ли вы влияние Кафки?
Нет, я не испытываю его влияния, но Кафка выразил тот страх перед неустроенным обществом, который соответствует нашему общему ощущению... Я слышу, что вы хотите спросить меня о Беккете?Ялюблю роман Бекке-та “Молой ”, но, если вы хотите узнать о тех, кто имеет на меня влияние, то я ощущаю свою зависимость от Достоевского, Толстого и Гоголя. Да... А что касается “Молой ”, то поначалу он показался мне очень натуралистичным...
Вопрос: Ощущаете ли вы свою связь с Куросавой?Ведь он тоже говорит о взаимоотношениях человека и природы...
Нет. Куросава рассматривает этот конфликт в другом аспекте. В его фильмах человек вооружается против природы, которая оказывается ему враждебной.
Вопрос: Видите ли вы связь между кино и литературой?
Нет. Скорее их следует разделить. Литература пользуется рассказом — это рассказ. А кинематограф — это искусство, призванное выразить метафору общего при помощи времени...
И в заключение я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли и сказать вам, что нельзя тешить себя иллюзией, что проблемы ДУХОВНЫЕ и ПРАГМА ТИЧЕСКИЕ можно ОБЪЕДИНИТЬ. Главное, что я хочу вам сказать: не ходите в церковь, чтобы провести время и быть похожими друг на друга!Я не могу разделить на две части известное: "Богу — Богово, а Кесарю — кесарево ”. К несчастью, я максималист, и я скорее заставлю вас смотреть мои картины, чем сделаю хотя бы шаг вам навстречу, чтобы в угоду вам облегчить их восприятие!
Так несколько неожиданно закончил Андрей свое выступление в Телорайде, увы, в тоне все более наступательно-агрессивном. Непонимание, конечно, витало в воздухе, но проповедническая интонация становилась чрезмерной, на мой вкус — прямо-таки Нагорная проповедь в форме по-протестантски жесткой. Говорил, что не хотел своим фильмом никого учить, но одно нравоучение в его выступлении сменяло другое. За долгие годы нашего общения я привыкла к его манере разговаривать, но здесь вдруг это показалось мне крайне неуместным в такой форме— как это?: “я заставлю вас смотреть мои картины”? Почему вообще такие заносчивые, колючие, высокомерные нотации, как жить и работать?
Андрей и прежде бывал колючим, когда ему приходилось отстаивать свою правду, защищаясь дома от бюрократов и коллег. Но теперь перед ним были всего лишь зрители другой страны. За что нужно было их обливать презрением, даже если они чего-то не понимают. Господь-то был снисходительнее, милостивее к нам, сирым да убогим...
А тут прямо-таки не напутствие даже, а приказ, от которого слушатели растерялись: “Не ходите в церковь, чтобы провести время!” Не их ли это собственное дело? Или успокаивающие заверения, сделанные Андреем: “вам еще не поздно вернуться к культурным европейским традициям, к тем корням, которые обрубили ваши предки и которые еще можно отрастить”... Так и хотелось крикнуть ему в ответ: “Не ходи в чужой монастырь со своим уставом!” А уж, если о церкви, то “блаженны” все-таки “нищие духом, ибо они узрят Бога”... Но тебе-то самому хочется быть “медиумом между людьми и Универсумом”. Какая вслух высказанная претензия! Как некорректно выраженная!...
Так метались мои мысли и сомнения, вскармливая боль и внутреннее раздражение — так и хотелось бы вдруг самой задать ему вопрос: “сам-то фальши не слышишь”, когда приносишь присягу на службу “искусству, не требующему вознаграждения”? Но сам-то, ох, как требуешь! А вся эта бесконечная уже почти неприличная торговля по телефону с директором Ковент-Гардена об оплате постановки “Бориса Годунова”, которая и так уже по тем временам достигла высшей планки. Но Тарковский продолжал требовать к этой сумме еще наши, родные “суточные и командировочные”, не желая понимать, что они выплачивают только гонорар, а его дело распорядиться им по своему усмотрению.
Раньше он говорил о недостаточности денег, отпущенных ему Госкино, в сравнении с Бондарчуком или Озеровым. И это было еще понятно, так как государственные деньги были немеренными, а борьба шла за святое искусство. Но теперь я оказывалась в Италии свидетелем того, как ревностно сравнивал Андрей свое материальное положение с доходами от фильмов Феллини или Антониони...
Не о скромной квартирке мечталось ему теперь в Риме или Париже, в какой десятилетиями живет Иоселиани, делая некоммерческое кино, в каких живут европейские интеллектуалы, а о вилле и непременно с бассейном... Не вязалось у меня все это с творцом “не требующим за свое искусство вознаграждения”. Господи, сколько же все-таки в нас, русских, юродствующего! И как понятна для меня изнутри горечь записи Софьи Андреевны о своем великом супруге: “Если б кто знал, как мало в нем нежной, истинной доброты и как много деланной по принципу, а не по сердцу”...
К тому же еще Лариса, так или иначе, не была Софьей Андреевной, увы. Хотя в тот момент, чем-то обозленная им, она ответила мне на мои сомнения, высказанные только ей по поводу выступления Андрея, коротко и обезоруживающе: “Последнее время я замечаю, что он вообще заболел звездной болезнью. Ты что сама не видишь?” Меня поразили эти слова, ведь она сама приложила столько усилий, чтобы заразить его этим вирусом вряд ли излечимой болезни...
Тогда я решилась впервые хоть чуть-чуть поделиться и с Андреем своими сомнениями по поводу тона его выступления, которое, может быть, следовало немножко более приспособить к возможностям здешней публики, живущей в контексте другого общества и других ценностей. Но Тарковский туг же взвился: “Что ты говоришь? Я еще буду думать о том, чтобы им понравиться?! Нет. Уж, лучше пусть принимают меня таким, каков я есть!”
Какая трагическая гордыня, помните вопрос, заданный Раскольниковым Порфирию Петровичу: “А сами-то с какого такого сознания величавого судите?”... Да...
* * *
Теперь нам предстояло только уехать, сохранив в памяти это путешествие — изумительные пикники, родео, пустыни и горные снеговые вершины, радовавшие нас каждое на свой лад. И... конечно, не вернув долг Тому Ладди, гипотетическое возвращение которого Лариса снова обыграла с излишним блеском провинциальной актрисы.
Поскольку Андрей тогда не пил, то Ларисе приходилось урывать вместе со мной тайные мгновения для “живительной” влаги или по-простому клюкнул». Так мы явились на репрезентацию фильмов Тарковского, уже приняв на душу. “Вы что уже поддали”, — лукаво поинтересовался Андрей. “Не-е-ет, ну что вы?” — как послушная ученица отвечала я ему под леденящим взглядом Ларисы. Андрей все-таки попытался высказать нам свое неудовольствие. Но... Нападение, как известно, лучший вид обороны...
Лариса истерически взвизгнула, не соглашаясь подчиняться законам патриархата, принятым в этой семье, и рванула, заливаясь слезами, в гостиницу. Следом за ней естественно рванула я, а за нами еще и Том Ладци, оказавшийся свидетелем семейной ссоры, но не понимая деталей, так как с русским у него было плоховато. Но все обстояло очень хорошо со светскими американо-западными правилами, заставившими его следовать за обиженной женщиной.
Так что мы с ним, едва поспевая за Ларисой, ворвались в их номер, где рухнув на постель, уважаемая гостья забилась в истерике, выкрикивая проклятия, которые я, конечно, оставляла без перевода на американский. Том, читавший, наверное, кое-что о русских страстях и загадочной русской душе, может быть, думал, что впервые присутствует на ее экстраполяции. Но успокаивать пытался с американской сдержанностью, лишенной “культурных европейских корней”. И тут Лариса, взмахнув на него ресницами над заплаканными голубыми глазами с растекшейся тушью, воскликнула: “Том, прости! И, кстати, Оля, переведи ему, что я еще не успела поменять деньги, но, как только поменяю, так сразу верну ему долг. Завтра.”
Я обалдела. Какая драматургия! Какая трезвость сознания в истерическом припадке! Какой точный момент с предрешенной реакцией американского мачо: “Сейчас это неважно, Лариса. Забудь. Считай, что я их тебе подарил”...
Лариса, понемногу успокаиваясь, продолжала всхлипывать...
Далее Тарковские вылетали в Нью-Йорк к своему прокатчику, куда, к сожалению, я не смогла последовать за ними, так как мои детки уже ожидали свою мамку в Амстердаме, успев притомить добровольных голландских нянек, Арь-ена и его будущую жену Ес, слишком легко согласившихся с ними остаться.
В звездных высях
Я за ваше падение... за ложь. Я не для того подходил, чтобы вас наказать; когда я подходил, я не знал, что ударю... Я за то, что вы так много значили в моей жизни...
Достоевский.
“Бесы”
После нашего возвращения из Штатов я получила еще одно письмо от Ладди, пытавшегося со своей стороны помочь Тарковскому избежать скандала с Советами, получив к себе сына и тещу.
26 сентября, 1983
Дорогая Ольга:
Я вложил в этот конверт письмо Ермашу и Замятину, которые вы можете выслать из Голландии в ваших конвертах, если найдете, что написанный мною текст приемлем.
Я также вкладываю копию моего письма Растроповичу, который появится здесь 9-го октября. (Копии этого письма у меня почему-то не сохранилось, наверное, просто передала Тарковским — О.С.)
Дайте мне знать, могу ли я здесь у себя еще чем-нибудь помочь.
Возможно после 9-го октября я буду в Лондоне и увижу Андрея.
Надеюсь, что Телорайд и все наше путешествие остается еще в вашей памяти и душе.
С любовью и лучшими пожеланиями.
Том Ладди.
В тот же конверт были вложены еще два основных письма, любезно написанные Ладди по просьбе Тарковских снова Ф.Ермашу и секретарю по культуре ЦК КПСС Замятину. Во всяком случае, основной блеф состоял в известило предложении Тарковскому денег на постановку “Гамлетй”, каковых не было. Итак:
22 сентября 1983
Филиппу Ермашу Председателю Госкино Малый Гнездниковский пер., д. 7 Москва-СССР
Дорогой м-р Ермаш,
Я имел удовольствие встретить недавно на кинофестивале в Телорайде Андрея Тарковского. Он произвел на меня, также как на всю публику и своих коллег, огромное впечатление. К тому же я надеясь, что “Ностальгия ” будет иметь такой же большой успех в США, как и в Италии, где, как я слышал, она вошла в десятку лучших картин года.
Г-н Тарковский рассказывал мне о своей идее создания своеобразной версии “Гамлета ”. Мы также обсуждали с ним возможность вовлечения в этот проект Зутрон Студии Френсиса Копполы в качестве продюсера.
Я знаю, что Андрей имеет с вами контакт, чтобы заручиться соответственной поддержкой от советских властей для его проекта и дальнейших планов.
Учитывая это обстоятельство, я имел с ним только самый общий разговор о его проекте “Гамлета ”, который, как мне кажется, обеспечит себе поддержку разнообразных европейских спонсоров и телекомпаний, включая, может быть, Совинфильм.
Как вы знаете, Зутрон-студия поддержала создание Куросавой “Кагемуша ”, а также приняла участие в таких культурных проектах, как “Наполеон”, “Парсифаль” Сюберберга, “Коянисквости”и “Страсть”Годара.
Поскольку кинематограф является интернациональной формой искусства, то мне кажется замечательным, что таким великим кинематографистам, как Тарковский, Кончаловский или Иоселиани, советскими властями была предоставлена возможность работать как в СССР, так и за его пределами. Я знаю, что польский кинематограф тоже только обогатился от того, что Вайде и Занусси можно работать вне Польши, оставаясь активными кинематографистами также у себя дома. То же самое произошло в Венгрии с Янчо, Макком, Сабо и другими.
Данным письмом я просто информирую вас о нашем разговоре с Тарковским с заверениями в нашей готовности ассистировать Тарковскому в осуществлении его плана создания англоязычного фильма по “Гамлету ”.
Искренне ваш,
Том Ладди.
Директор, Специальные проекты. И второе вложенное в тот же конверт письмо:
22 сентября 1983
г-ну Земятину Секретариат ЦК КПСС Москва-СССР
Дорогой г-н Замятин:
Я пишу вам, следуя совету Андрея Тарковского, чтобы подтвердить интерес моей компании к тому, чтобы стать'со продюсером проекта Тарковского “Гамлет ”.
Я знаю, что Тарковскому необходимо получить специальное разрешение от Вас, чтобы самостоятельно осуществлять свой проект в качестве режиссера на Западе. Так что этим письмом я заверяю Вас в своей готовности помочь ему сделать еще две-три картины загра-ницещ прежде чем он вернется в СССР.
Я также писал г-ну Ермашу, что мне кажется похвальной готовность СССР аксептировать ту же самую политику, которая позволяет выдающимся кинематографистам Венгрии и Польши работать как у себя дома, так и заграницей.
У меня запланирована на следующий месяц встреча с г-ном Тарковским в Европе, чтобы более конкретно обсудить его проект “Гамлета ” и формы нашего участия в этом проекте.
Френсис Коппола чрезвычайно увлечен перспективой сотрудничества с великим русским кинематографистом. Заранее благодарю, Вас за Вашу поддержку возможности г-на Тарковского работать в международном кинематографе.
Искренне Ваш,
ТомЛадди
Директор, Спец.проекты Зутрона.
копии: Ф. Ермашу А. Тарковскому Ф. Коппола
Читая все эти письма сегодня, снова удивляешься нашей наивности, вере в какой-то “здравый смысл”. Казалось бы, было бы так логично согласиться с тем, что уже произошло, и позволить Тарковскому попробовать работать на Западе. Но где там! Кому было думать обо всем этом и кому решать?..
А 26 сентября я уже посылала Ладой свое письмо, согласовав его, конечно, с Тарковским, для устройства нашего общего дела, то есть издания книжки:
Дорогой Том,
Я посылаю тебе нашу книгу, которая была написана мною совместно с Тарковским.
Сейчас контракт на нее в Москве расторгнут. Прошли несколько лет с того момента, как мы закончили эту работу. Сейчас мы вместе с Андреем думаем, что пара новых глав о “Сталкере ” и “Ностальгии ” сильно ее украсят.
Кроме того, Андрей предлагает мне дописать еще одну новую главу, суммирующую его прошлый опыт и новые планы на будущее, включая идеи о новых фильмах и, главным образом, о “Гамлете ”.
В том случае, если, как ты предполагал, книга вызовет интерес у кого-нибудь из издателей, то мы готовы представить расширенный вариант книги уже к Новому году.
Для нас также необычайно важно найти хорошего фотографа, специалиста, который мог бы, может быть, встретиться с Андреем и выслушать его советы, каким должно быть изобразительное оформление, какими фотографиями следует оформить начало и конец каждой главы. Кроме того, он хотел бы еще определить точно ряд репродукций и кадров из фильмов, которые ему хотелось бы использовать.
Не могла бы я также попросить тебя об одной любезности? Если тебе, действительно, удастся найти издателя, готового заключить с нами контракт, то нельзя ли в дополнение к условиям этого контракта поставить оплату моих поездок из Амстердама в Италию, где мы планируем завершать работу над рукописью. Заранее благодарю.
Должна тебе сказать, что предварительные соображения, высказанные мне Андреем в связи с дальнейшей работой, кажутся мне чрезвычайно интересными.
Я с нежностью храню в памяти воспоминания о кинофестивале в Телорайде и нашем путешествии, как одном из счастливейших в моей жизни. Надеюсь на встречу с тобой в будущем году
Наилучшие пожелания и успехов тебе,
С приветом
Ольга
Но, по правде говоря, никаких реальных развернутых предложений, кроме самых общих идей, Андрей к тому моменту мне еще не предлагал. Издателей пока не было, и книгой мы не занимались, хотя виделись часто в связи с моими поездками то в Италию, то в Лондон...
Борис Годунов
Итак, теперь я впервые ехала в Лондон на генеральную репетицию и премьеру “Бориса Годунова”. Мне было позволено взять с собой моего голландского фиктивного “мужа” Иога-на Спаанса и переводчика моих публикаций в “Фолкскранте” Арьена Аутерлинде. Андрей обещал провести их на генеральную репетицию. Мне, конечно, была обещана не только “генералка”, но и премьера! Не так-то это просто: ведь билеты в Ковент-Гарден немыслимо дорогие и совершенно не рассчитаны на посещение театра демократическим большинством. Такое искусство и впрямь не для народа делается, а для элитных слоев общества.
Ехали мы в Лондон втроем по-студенчески, автобусом, но помнится мне, как я была счастлива, с недоверием пощипывая себя за руку, пытаясь усвоить новую и небывалую мысль — “я еду в Лондон”. Или снова — “Я еду в Лондон". Неужели все это опять реальность и происходит, действительно, со мной?..
Иоган и Арьен ехали только на один день, а я на недельку, направившись в Лондоне сразу к Тарковским, которые меня ждали. Впрочем, что значит к Тарковским? Поскольку специальных привычных для нас “командировочных” Тарковский себе не выторговал, то деньги из собственного кошелька экономились для более возвышенных планов. А Лариса с Андреем поселились у Ирины Браун, ленинградской девушки, определенной Андрею ассистентом и переводчицей в работе над постановкой. Ира была замужем за Томом, милым гостеприимным англичанином, валторнистом, из известной потомственной музыкальной семьи. Жили они в небогатом трехэтажном домике, как здесь говорится, “в ряду”, верхнюю мансарду которого любезно предоставили нашему Маэстро. Это была крошечная комнатка под крышей, в которую влезала только большая кровать и маленький столик. Все удобства были этажом ниже, а хозяйственно-общественная жизнь сосредотачивалась в огромной кухне-столовой на первом этаже. Мне на несколько дней отыскалось спальное местечко в одной из комнат второго этажа.
Насколько я помню, Ира была деловой женщиной, занятой прежде всего своей работой. Так что дом был безалаберный, а атмосфера оказалась самой дружеской и гостеприимной. И беспроблемной... в контексте новых подозрений Ларисы, нервно сообщавшей мне по телефону из Лондона, что интерес Иры к Андрею носит дополнительный, слишком специальный характер, а он-то петушится во всю, “извертелся, искокетничался весь”. Но к моему появлению там царили тишь, гладь и Божья благодать.
Что касается спектакля, то он прямо-таки ошеломил всех нас своим блестящим неожиданным решением, продуманным и точным. Я писала затем о новой сценической работе Тарковского в той же голландской газете, а позднее все это уже было опубликовано в Москве, так что не буду здесь вновь касаться деталей и особенностей этой новой трактовки оперы.
Андрей к тому моменту, понятно, был утомлен репетициями, естественно, взволнован грядущей премьерой, так что семейство Браунов предложило нам поехать отдохнуть на пару дней в их загородный дом в окрестностях Солсбери. Покойный отец Тома когда-то работал там органистом в центральном соборе. А мать, если не ошибаюсь, была прежде арфисткой. Теперь она почти не могла двигаться из-за тяжелого артрита, так что почти все время сидела в кресле. Спину она держала прямо, а ноги ее были укрыты пледом, как и полагалось, по моим понятиям англичанке. Милая, светская, остроумная, очень английская леди.
Здесь же рядом располагался шикарный дом ее дочери и сестры Тома, наиболее преуспевшей в семье, известной пианистки. Туда нас сводили “на экскурсию”, и, надо сказать, что дом произвел на Ларису с Андреем огромное впечатление, как их мечта, уже воплотившаяся у кого-то. Я заметила их воодушевление и предложила им сделать фотографию в этом интерьере. И они с удовольствием и как бы небрежно, по-хозяйски развалились на диванах, а я щелкнула их с прибауткой, что-то вроде “красиво жить не запретишь”...
Вечером нас угощали прекрасным английским ужином — то есть сочным ростбифом, который искусно зажарил Том. Он много острил, и все было так, как я читала в книжках про англичан, вплоть до рассказа, хоть и поданого нам с юмором, как важно наливать молоко в чай, а не наоборот, как это делают некоторые варвары. Утром мы поехали в Солсбери, были в соборе, заглянули на тихое английское кладбище, зарулили к знаменитым камням “Хейдж Тоуне”, а затем побродили по деревеньке, отметившись даже у дома Уильямса Голдинга, посидели в местном пабе со школьной подругой Тома.
Как сейчас помню, все это было 30 октября, так как премьера должна была состояться 31-го, в день рождения моего отца и матери Тома. И когда мы вернулись после прогулки домой, то застали в гостях у матери Тома милую супружескую пару. Они приехали накануне поздравить ее с днем рождения и подарили ей... папури, цветы, засушенные в ансамбле запахов. Я понятия еще не имела что это такое, а мама Тома, наслаждаясь, вынюхивала тонкий запах, точно слушала увертюру. Том представил меня гостям, как русскую леди, может быть, первого и последнего варяга в этих краях. Гости вежливо чинно представились, тут же спросив с искренним интересом: “А какие цветочки вы предпочитаете в вашем садике?”
Там же Андрей сделал моим фотоаппаратом уже второй раз наш “двойной портрет” с Ларисой. Первый он сделал еще у каньона...
* * *
Мы возвращались в Лондон, взболомученные грядущей завтра премьерой. Кстати, премьере этой, увы, предшествовал публичный скандал, разразившийся между Тарковским и Двигубским на одном из недавних худсоветов. Дело все в том, что в процессе работы над спектаклем Тарковскому, как обычно, приходили разного рода новые идеи, касавшиеся мизансцены или сценического дизайна. Так что на том самом худсовете он заявил, что хочет поставить статистов в саду у Мнишек, которые бы изображали скульптуры, неожиданно меняющие свои позы. Это в очередной раз, то ли что-то меняло в сценическом дизайне Двигубского, то ли усложняло его работу, так что он попытался возразить. Но в ответ, на глазах у изумленных членов благородного английского заседания, Тарковский громко, на чисто русском языке и “по-нашему” послал Двигубского к одной маме. Он был в бешенстве, требуя чтобы тот сообразил, кто есть кто, и немедленно убирался отсюда восвояси.
“Зачем он так?” — вопила моя душа, когда мне рассказывали всю эту историю. Это было так некрасиво. Но... было ТАК! Слова были неясны англичанам, но, увы, крик не оставлял сомнений в ссоре русских.
Тем более, что потом Андрей потребовал, чтобы Дви-губский не смел даже выходить на поклон после спектакля. В ином случае он не выйдет сам... Надо же? Прямо так? Своему собственному художнику-постановщику? А ведь сам говорил и писал, что в человеке следует воспитывать прежде всего “достоинство и чувство чести”. Так где же они? Или звезды движутся по орбитам, вовсе неизвестным простым смертным? Но было именно ТАК.
И на этом Андрей не успокоился. Он поставил условие и Клаудио Аббаде, “неосмотрительно” задружившемуея с Двигубским, прямо-таки в ультимативной форме, когда тот приглашал его к себе на прием после премьеры: либо он, либо я. Прямо-таки — к барьеру! Аббаде оказался в неловком положении, но пришлось извиниться перед Колей... Итальянцу приходилось считаться с великими тайнами русской души...
А сейчас мы собирались на премьеру, и все это было уже позади и неважно. Андрей со свойственной ему пунктуальностью загодя облачился фрак. Как всегда был элегантен и изыскан, полон опять чувства собственного достоинства.
Я нацепила на себя блестящие кофточку и брюки в обтяжку, заготовленные к этому торжественному вечеру. Не готова была, как обычно, Лариса. Ее туалет “от мамы” был доставлен кем-то из приезжих в последнюю минуту: синее шелковое платье в пол сложного покроя с черной гипюровой вставкой на груди. Но поскольку наряд этот создавался без примерок, то в последний момент обнаружились какие-то несоответствия. К сожалению, сама я ничего не понимаю в шитье, но других камеристок в далеком зарубежье при Ларисе не оказалось. Так что я старалась изо всех сил, выполняя все более нервозные указания Ларисы что-то ушивать и подшивать прямо на ней. Особенно не заладилось дело на спине. Удивительно, но с Ларисой всегда что-то происходило перед торжественными выходами. В результате они, как правило, опаздывали, но рассчитывать на задержку премьеры не приходилось. Андрей сжимался в нервный комок, пытаясь сражаться в шахматы с компьютером, и все более напряженно и недоуменно выкрикивая что-то вроде: “Лариса, что там у вас происходит? Нет, это невозможно, мы опоздаем, наденьте что-нибудь другое”.
“Другое? — взвизгивала Лариса. — Идите один. Я никуда не пойду”... Глаза ее наполнялись слезами негодования и обиды: “Ты видишь, какой он! Ему опять плевать. Но что же делать?”...
Увы, но делать уже на самом деле было совершенно нечего. Так что нужно было на что-то решаться: то есть пришлось что-то закрепить на спине ниткой на живую, чтобы все не свалилось с плеч, а сзади это замечательное сооружение пришлось прикрыть ажурным оренбургским платком. Как говорится, “голь на выдумки хитра”. Так что наш торжественный кортеж все-таки двинулся, наконец, в Ковент-Гарден...
Все проходы Ларисы по театру мне, правда, приходилось все время страховать сзади, но все обошлось в лучшем виде. А главное, что премьера прошла блестяще и с огромным успехом. Но об этом уже все известно, и описано, в том числе и в моих более “научных” работах. А в контексте данной истории важно, что в антракте мы успели еще переговорить с приглашенным на премьеру английским издателем “Книги сопоставлений”, который назначил нам свидание через день, чтобы уточнить все условия...
Под шквал аплодисментов в финале, когда Андрей выходил на поклоны уже не первый раз, на ту же сцену выпихнули под сурдинку из боковой кулисы и Двигубского, так неожиданно впавшего в немилость... А после спектакля, прежде, чем мы поехали на прием к Аббаде — разумеется уже без Коли (здесь “накладка” не могла бы пройти незамеченной!), я успела отснять Ларису в ее знатном туалете в шикарных интерьерах театра. И она была так значительна, как будто Ермолова...
Прием у Аббаде был, как и должно, роскошный, и домой мы вернулись с таким количеством цветов, что, заставив все вазы, еще огромную груду свалили в ванну, наполненную водой...
Не знала я, что следующее утро окажется таким значительным для всей моей будущей жизни и взаимоотношений с Тарковским...
Лиса Алиса и Кот Базилио.
Явление первое
Едва мы продрали глаза и очухались, как раздался звонок в дверь. Хозяев уже не было дома, а я отправилась открывать дверь. Я увидела перед собой крупную женщину Ларисиных размеров и рядом с ней мелковатого, курчавого, сравнительно молодого человека в потертом синем костюмчике. Опять же сходный масштаб этой пары с парой Тарковских...
Следом за мной у порога появилась и Лариса, а на заднем плане возник Андрей. Незнакомка обратилась к нам заискивающе и подобострастно на хорошем русском языке с акцентом: “Вот это мой русский друг, который обещал немецкому журналу интервью с господином Тарковским”, — начала она, указывая на своего молчаливого спутника...
— Что за наглость? Почему они сюда пришли? Закройте дверь! — резко сказал Андрей, туг же развернувшись к лестнице, ведущей наверх.
— Ольга, закрой дверь, — сказала Лариса, удаляясь следом за Андреем.
Извинившись, я собралась выполнить полученное указание, но, увы, не так поспешно, как велели Тарковские... Указывая мелодраматическим жестом на своего спутника, дама обратилась ко мне с текстом, взывающим о помощи к рядом стоящему страдальцу, не позволившим мне хлопнуть дверью перед их носом. Дама взывала к моему состраданию: “Кто вы? Вы, наверное, русская? Ах, может быть, вы тоже эмигрантка, как он? Мы из Берлина. И, представьте себе, что у этого человека есть первый шанс напечататься в немецкой прессе, и он уже обещал интервью с Тарковским. Ему так трудно! Публикация может стать началом его будущего, а если он обманет редакцию и ничего не привезет? Это конец! Умоляю, сделайте что-нибудь, уговорите его...
Я понимала, что судьба этого несчастного оказалась теперь почему-то в моих руках. Но я знала уже давно, что уговорить нашего все более ершистого Тарковского невозможно, тем более, когда к нему осмелились прийти без звонка, запанибратски, да еще какой-то эмигрант, которых Тарковский пока чурался, как чумы. Приходилось “из сострадания” принимать удар на себя. Действительно, было жалко какого-то замурзаного человека с вековечной грустью в глазах. Тоже мне еще журналист! Но кушать-то всем надо! А потому я сказала: “Я понимаю. Это действительно серьезно. Но, к сожалению, я ничего не могу сделать с Тарковским. Уговорить его невозможно”.
Дама смотрела на меня умоляющие. Глаза ее наполнялись слезами: “Но что же делать?” Действительно, задумалась я на мгновение в тоске, что делать и кто будет во всем виноват, если этот несчастный умрет под забором? Я не хочу быть виновной в его гибели, а потому вдруг заверила: “ну, ничего, если это так важно, то я могу ответить на все ваши вопросы, так как долго работаю с Тарковским и знаю, что он обычно отвечает. Назначайте свидание и, если мне удастся смыться под видом осмотра Лондона, то я подойду”. Место встречи было назначено, теперь оставалось только улизнуть, так как в таких поездках я не расставалась с Тарковскими или они не расставались со мной. Так что мне пришлось изобрести какую-то историю осмотра Лондона, неинтересную Ларисе, чтобы выйти на помощь еще одному, вновь объявившемуся страдальцу из России.
Когда мы встретились, то мои собеседники представились мне Кристианой Бертончини и Натаном Федоровским. Было ощущение, что они в близких отношениях. А далее, помимо подробного разговора о “Борисе Годунове” и эволюции постоянных тем Тарковского, в которых я ему полностью отчиталась, мы болтали обо всем, всяком и разном, включая тяготы эмигрантской жизни. Я рассказывала о долгом сотрудничестве с Тарковским, особенностях наших взаимоотношений, связанных к тому же нашей книжкой.
“Какая книжка?” — заинтересовались они. И тут я дала полную информацию, поведав, что сейчас, к счастью, уже найден первый издатель в Лондоне, с которым мы завтра встречаемся. “А в Германии вы не хотите издать книгу? — спросила Бертончини. — Ведь я как раз связана с издательствами”. Нет. Андрей рассказывал мне, что в Германии у нас тоже уже есть издатель, как раз тоже в Берлине, куда он собирается ехать. “Как жалко”, — сказала Бертончини, прощаясь. И с Натаном мы расстались лучшими друзьями. Право, какие милые люди...
Но как странно мне сегодня читать в замечательных мемуарах В.Катаняна, цитируемую им запись рассказа Н.Федо-ровского: “Вообще Андрей рассказывал о Параджанове часто, и я впервые узнал о нем с его слов. Когда в 1982 году Тарковский приехал в Италию, я сказал ему...”
Какой удивительный “друг”, так сильно меня удивляющий, перефразируя Гамлета. Встреча с Тарковским, которую я наблюдала 1 ноября 1983 года, едва ли позволяла сомневаться в степени знакомства Андрея с Федоровским.
И еще удивительнее: “Второй раз мы с ним разговаривали о Параджанове в Лондоне, где Тарковский ставил в Ковент-Гардене “Бориса Годунова”...
Боже мой, уж не спутал ли г-н Федоровский меня с Тарковским? Как мне показалось тогда, он был очень мил, но я не заметила, может быть, что с головой у него было плоховато... Или слишком хорошо — вот что стало для меня потом гамлетовским вопросом...
Оказывается все тогда же Тарковский рассказывал своему другу Федоровскому о том, что “Сережа никогда не читал “Бориса Годунова”, но, разговаривая с ним на эту тему, вы этого не ощутите... И это ничуть не мешало его творчеству”.
Остается только удивиться, как легко унаследовал Параджанове кий талант мистификатора господин Федоровский. Прямо-таки поет, забыв о том небывалом на самом деле времени, когда он вежливо благодарил меня за спасение в записке, приложенной к копии его статьи о “Борисе Годунове”, опубликованной в Германии 28 ноября 1983 года:
“Дорогая Оля! Высылаю нашу статью о Борисе. Жду Ваших... Что с Крюгером?27-го января будет немецкая премьера “Ностальгии ” во Франкфурте. Может, увидимся там? Это, кажется, вовсе недалеко от Амстердама. На всякий пожарный — с наступающим Рождеством! Успехов. Натан”.
Спасибо, Натан! Амстердам оказался не так уж близок к Франкфурту. А о моих успехах вы позаботились в полной мере также, как об успехах Крюгера, немецкого издателя, с которым, как я Вам рассказала, Андрей собирался встретиться в Германии. Но все свои благодарности в полной мере я еще выскажу позже...
А пока зелье еще не заварилось, я, удовлетворенная своей тайной дружеской помощью, отправилась со строптивым и любимым Маэстро в редакцию “The Bodley Head”. Там мы встретились с милейшим сотрудником этой редакции Эуном, договорившись о условиях нашего будущего контракта — 50% на 50% каждому соавтору — и он обещал нам вскоре прислать подготовленный контракт на подпись. А я себе, полностью удовлетворенная, отправилась снова домой в Амстердам...
Сцены из новой деревенской жизни
Далее, нарушая хронологическую последовательность, я постараюсь описать все то, что мне помнится о новом месте жительства Тарковских в Сан-Григорио, куда мы впервые приехали с Арьеном перед каннским кинофестивалем и куда я ездила потом много раз. Рядом со Своей первой недвижимой собственностью, руинами бывшего чайного домика, Тарковские сняли себе крошечную квартирку в ожиданиях, когда будет получено разрешение на реставрацию, как говорили в России, “архитектурного памятника, охраняемого государством”. Забегая вперед могу сказать, что разрешение на перестройку такого дома в Италии получить вообще очень сложно, а тем более иностранцу. Процедура эта длительная, но я была свидетелем еще первого отказа.
А пока мы разгуливали по их участку, разглядывали стены дома и раскинувшийся вокруг сад, воображая, что здесь будет потом. Что касается реставрации или точнее перестройки дома, то здесь споров не было. Баталии сопровождали только идею будущего бассейна, который казался Андрею слишком дорогостоящей роскошью, а Ларе прелестью доступной... В жару мы загорали на их участке, и естественно возникало желание окунуться в воду, которой пока приходилось ополаскиваться из крана, выведенного на участок.
Андрей любовно и по-хозяйски оглядывал свои угодья, оглаживал каждое растеньице и каждое дерево. А я поражалась всякий раз, как много в нем то ли крестьянского, то ли помещичьего. Вообще обоим супругам нравилось быть хозяевами своего дома или владельцами именьица, и надо сказать, что туг они прекрасно понимали друг друга. А я, воспитанная и вобравшая в себя полное небрежение к частной собственности, поражалась такому всегда неожиданному для меня энтузиазму. А иногда испытывала просто раздражение, когда, глядя на раскидистую магнолию, Андрей сетовал снова и снова: “Ларочка, а все-таки так жалко, что эта магнолия растет не на нашем участке”. Я даже попробовала высказать свое недоумение: “Андрей, а какая вам разница, даже если она растет не на вашем участке, а совсем рядом, вы же ее все равно видите?” Но Андрей посмотрел на меня непонимающим взглядом. А я, видно, мыслила слишком прямолинейно, доверяя тому, что он говорил мне или писал в своем дневнике о личном бескорыстии: “Так же вызывают жалость так называемые художники, поэты, писатели, которые находят, что впали в состояние, при котором им невозможно работать. Зарабатывать — внес бы я уточнение. Для того, чтобы прожить — немного надо. Зато ты свободен в своем творчестве”...
А почему же тогда надо, чтобы магнолия оказалась непременно в твоей ограде, когда она и так красуется перед тобой? Как странно все-таки для меня переплетались в нем все эти маленькие противоречия...
Квартирка, в которую они перебрались после Канн, находилась в старом итальянском доме с толстенными камеиными стенами прямо напротив входа в их частные владения. Сначала ты попадал в просторный всегда прохладный подъезд с широкой каменной лестницей, но сама квартирка на третьем этаже была просто крохотной. Переступив порог, ты сразу оказывался в узкой, поперек расположенной комнате, вытянутой направо в виде прямоугольника. Противоположную более длинную стену разрезали две двери, одна из которых, прямо напротив входа, вела в туалетную комнату, а чуть правее — в крошечную темную кухоньку с газовой плиткой. Зато из окна туалета открывался чудесный вид на соседские крыши, как в Мясном на русское поле. Справа в дальней стене была дверь, которая вела в квадратную, светлую спальню. А рядом с дверью умещался только буфет. То есть вся ширина длинной комнаты определялась по размеру буфетом и одной дверью. От буфета вдоль комнаты тянулся длинный стол со стульями, почти как в Орлово-Давыдовском. А посреди спальни стояла типичная для итальянской деревни солидная широкая кровать, над которой, как полагается, висела Мадонна. А поскольку в Италии большую часть года жарко, а зимы не такие лютые, как в России, то квартира эта никак не отапливалась. Так что первая зима 83—84 года далась Тарковским с трудом. Оба они часто простывали, кашляли и напяливали на себя тысячу одежек. Одно утешение, что все это были временные трудности, и в теплое время все это, конечно, выглядело гораздо привлекательнее.
Селение располагалось в горах и состояло из двух частей, одна из которых принадлежала подлинному средневековью и венчалось замком. А вторая часть была застроена новыми, обычными для Италии довольно стандартными современными крестьянскими домами. Склоны гор были покрыты оливковыми деревьями и виноградом, которые принадлежали обитателям этих домов, простым сельским труженикам.
Надо сказать, что вслед за Андреем Лариса начала быстро и бойко изъясняться с местными по-итальянски. Другого выхода там не было. А вокруг естественно все знали, что у них поселились русские, к которым относились с большим почтением. Когда мы отправлялись за продуктами в лавочки, то местные женщины непременно старались заговорить и пообщаться с “сеньорой руссо”. Андрей тоже завел себе пару друзей, к которым время от времени уходил пообщаться да выпить чарку домашнего вина. У тех же друзей закупались бутыли для их собственных домашних трапез. Надо сказать, что именно там Андрей снова начал пить, но пил уже только их деревенское вино, которое хранилось у местных жителей в бочках, казалось здесь только животворным и так естественно вписывалось в жизнь.
Я вспомнила, как еще в Москве, когда Андрей возвращался домой из Италии, мы спешили к ним на Мосфильмовскую за его рассказами. Всегда было много интересного и постепенно, разомлев, Андрей говорил: “Ларочка, дайте мне ту бутылку вина, которую подарил Танино”. А потом, открывая ее, как сокровище, объяснял нам: “Это Кианти, очень хорошее дорогое вино! Очень! Вот мы сейчас попробуем”. И мы, замирая, дегустировали его специфический терпкий вкус. А теперь всякий раз, когда я вижу Кианти на полках любого супермаркета, сердце сжимается от этих воспоминаний. А если мы его покупаем, то непременно в память об Андрее и о том, самом ценном, еще московском Кианти, запомнившимся на всю жизнь.
Как вы догадываетесь, более никаких светских развлечений в Сан-Григорио не было — так что, уединяясь в спальне, Андрей заваливался на кровать и глазел телевизор, бесконечно переключая программы. А меня страшно удивляло, что вся эта муть не утомляла его. Может быть, просто отвлекала, и он думал о своем?
Однажды, когда Андрей вышел прогуляться, мы с Ларисой уселись на то же место за то же занятие. В тот момент, когда Андрей вошел, на телеэкране бесконечно длился поцелуй крупным планом. “Лариса! Что вы смотрите? — прямо-таки возмутился Андрей нашему дурному поведению. — Что это? И как вам не стыдно на это смотреть? Это неприлично, и я вам не разрешаю”. С этими словами он выключил телевизор, а мы с Ларой, взглянув друг на друга, прямо-таки зашлись внутренним хохотом — он оберегал Ларину невинность... Невероятно... Но вот такой смешной, трогательный, детский деспотизм...
Поскольку полного счастья не бывает вообще, а в Сан-Григорио тем более, то время от времени Андрей принаряжался в цивильный городской костюм и отправлялся на автобусе в Рим с пересадкой в Тиволи. Все путешествие занимало часа три. Но это были не простые поездки, и Лариса неистовствовала всякий раз, потому что Андрей ехал, по его словам, работать над фильмом о себе, но... с Донателлой Баливия, то есть той самой итальянкой, с которой он не слишком удачно решил встретить Ларису в аэропорту Рима. “Сволочь, негодяй, — думаю, на этот раз снова не без оснований, бесновалась Лариса, — ведь он ей еще всю картину монтирует... А я тут сижу одна, без Тяпки, без мамы, без Ляльки, без друзей”. И это тоже была правда... Я пыталась ее успокаивать, уверяя, что все это несерьезно. Но Лариса время от времени раскрывала мне все новые еще московские тайны, в которые прежде я не была посвящена. “Нет, ты не представляешь, какой он и что я пережила с ним. Эта Ольга, которую он приволок к нам из Шилово и которая чувствовала себя хозяйкой. А он: “Оленька, Оленька, а как ты думаешь”, словно меня вовсе нет. А как наша близкая подружка от него забеременела”...
Тут я, действительно ахнула: “Врешь! И она? Как? Когда?”
“Когда-когда... — отвечала Лариса. — Были у них в гостях, выпили... Так он где-то в коридоре на сундуке успел. А потом она приходит ко мне и плачет, нюни распустила: “Лариса Павловна, я беременная... Простите меня, пожалуйста, но я не знаю, что мне делать”. Так что пришлось оплачивать аборт. Ой, да что ты вообще знаешь о нем? Вот представь себе, что я переживала!”
Надо сказать, что эта история сильно поразила меня во всех отношениях. Но стойкость Ларисы какова? Даже мне в Москве ничего не рассказывала. Что-то невероятное... А подружка наша какова? А он? Ну, ничего не поймешь, где правда, где кривда.
* * *
И еще о Сан-Григорио, куда нам предстоит вернуться снова. Не только мелко-поместные интересы роднили Андрея с этим местечком, но и наполеоновские планы... Он снова и снова поглядывал на основной замок в надежде когда-нибудь его купить и организовал» там киноакадемию, но... не для студентов. А для лучших режиссеров мира, включая Феллини или Антониони, которые “будут приезжать сюда набираться духовности”. Эта идея неоднократно поражала меня. Не слишком ли глобальное намерение зарождалось и закреплялось в его душе... Ах, какая гордыня! И это было для меня страшновато...
А позднее в кусочках его дневника, опубликованных в “Континенте”, я прочитала с некоторым содроганием подтверждение раздражавшим меня тогда собственным предположениям: “Сейчас человечество может спасти только гений — не пророк, нет! — а гений, который сформулирует новый нравственный идеал. Но где он, этот Мессия? ” Значит он совсем серьезно и все более величаво примеривался к этому образу... Где же здесь христианство и любовь к малым сим? Меня это мучило...
Тем не менее еще долго, почти до конца всякая моя поездка к Тарковским с одной стороны оставалась все равно праздником, и я неслась к ним, как на свадьбу. С другой стороны чем далее, тем более больной чувствовала я себя, уезжая от них. Мелочи и детали множились, создавая невыносимую гнетущую атмосферу, за которой не было любви, а была жесткая ставка на победу друг над другом во что бы то ни стало. Но через некоторое время я начинала привычно скучать, и все болезненное забывалось, как после родов. Снова летела к ним по первому зову и снова возвращалась все более угнетенной. Может бьггь, даже не так существенны были детали, но какая-то глобальная ложь, зависшая в воздухе, прятавшаяся за каждым словом.
Андрей понятия не имел о том, что происходило у него дома в Москве. Кто и как живет в их квартире и что вообще там происходит... А мне самой так или иначе приходилось во всем этом участвовать и знать многое, от чего все больше скребло на душе... А сам Андрей крутился тогда нервным волчком между Ларой и Донателлой... Лариса даже уверяла меня, возмущаясь, что в ностальгических воспоминаниях Горчакова актриса, изображавшая оставшуюся на родине жену, похожа на Донателлу — “такая же точно сухая, черная, сморщенная”... И эта вечно повторявшаяся Ларисой фраза: “Посмотри, посмотри на него, он все губы свои от злости сожрал”... И это все более становилось нормой за спиной у Андрея, который в глаза был “Андрюшенькой”... Хотя прямых перепалок, прямо скажем, тоже хватало... В семьях, конечно, бывает всякое, но переступались такие пороги, за которыми, по моему недоразвитому разумению, должен следовать развод... Но... Все было иначе...
Нидерланды, как низкая страна
Между тем, к Новому году удалось, наконец, перебраться в Голландию и моему подлинному мужу и отцу моих детей, что во многом меняло мой образ жизни. Мне стало проще челно-чить к Тарковским, и я запланировала на май свою первую поездку с детьми в Москву.
Непосредственно к работе над книжкой мы с Тарковским пока не приступали, но уже через меня шла переписка с английским издательством “Bodley Head” о деталях контракта, который они готовили. Так что вот-вот я собиралась приступить к работе...
А пока... Кинофестиваль в Роттердаме во второй раз пытался получить к себе Тарковского, Тарковского как такового и вообще первого русского... Прежде Союз никогда не участвовал в этом фестивале, заклейменном как “буржуазный”... Надо сказать, что Андрей снова не проявлял большого рвения ехать в Голландию, хотя как раз тогда они с Ларисой впервые тяжело зимовали в Сан-Григорио, в “знойной” Италии...
Я сочиняла телефонные поэмы о красотах нашей северной страны и о прелестях жизни, снова оказавшись проводником межцу голландцами и Маэстро. Он упирался. Лариса, конечно, хотела совершить еще одно путешествие. Голландцы умоляли меня, Андрей вяло сопротивлялся, ссылаясь на сценарий, который он пишет, и мы вместе с Ларисой уговаривали Андрея прошвырнуться, поглядеть новую страну, моих детей, встретиться с моим мужем, послушать его свежие рассказы о Москве и его встречах у них дома на Мосфильмовской... Лариса рассказывала мне, что они все время простужены, температурят, кашляют и даже спать приходится, тепло одевшись...
Наконец, сопротивление Андрея было сломлено, и он дал свое согласие приехать в Роттердам. Я написала к тому моменту новую статью для той же газеты “Фолкскрант” о состоянии советского кино, его сложностях и “полочных” картинах, которая была опубликована под названием “Хорошие советские фильмы в России увидеть трудно”, и меня тоже пригласили на фестиваль, объявив отдельную пресс-конференцию.
Я с огромной радостью встречала Тарковских в Схипхо-ле (голландский аэропорт) с машиной и переводчиком (все тем же Арьеном), которые ему были выделены персонально. Кроме того, их поселили в люксовый номер Хилтона и дали открытый счет на рестораны и все поездки по Голландии, которые мы захотим совершить.
Андрей приехал каким-то настороженно взъерошенным и раздраженным до такой степени, что почти не старался этого скрывать... Здесь его очень ждали, к его приезду специально готовились, но первое, что он попросил меня объявить: “Скажи им всем, что я не даю интервью бесплатно. И спроси: они организовали мне какие-нибудь платные лекции?”
Нет, платных лекций Тарковскому никто не организовал. Фестиваль не рассчитывает, что его участники уедут с прибылью в кармане. А журналисты опешили и не взяли ни одного интервью с долгожданным гостем.
Как только Андрей узнал, что никакие деньги “кешем” ему не были подготовлены, то стал вовсе мало приятен. Было неловко за него даже перед Арьеном. Его голландский менталитет не мирился с капризами раздраженного Тарковского, и он только недоумевал, когда Андрей заказывал к ужину бутылку вина за 300 гульденов, усмехаясь: “Ну, что? Если пригласили, то пускай платят”...
А после своей пресс-конференции Тарковский так “крыл” голландцев, которые, естественно, имеют свою специфику, как каждый народ, что мне снова было неловко перед Арьеном да и перед всеми остальными... А Андрей негодовал: “Что это они так сидели на пресс-конференции? Курили... Ноги на кресло... Что это все такое?... Хамы... Нет, мне здесь совершенно не нравится”...
Ну, что делать? Я чувствовала себя почти ответственной за несуразность голландцев, за отсутствие у них пиететов, неумение и нежелание поклоняться “великим”, понимать и принимать сословную дистанцию, забывая о чувстве собственного достоинства... Здесь нет никаких кумиров.
После пресс-конференции Арьен отказался работать дальше, и на смену ему пришел другой переводчик, тоже молодой славист, Мартин Левендых. Вместе с ним мы съездили на машине в Амстердам и совершили прелестное однодневное путешествие по Голландии, изо всех сил пытаясь реабилитировать ее в глазах Андрея. Но ни Амстердам, так называемая “северная Венеция”, ни ужин при свечах в маленьком тихом ресторанчике у воды, конечно, не могли ничего исправить. Андрей дулся, торопясь вернуться домой... Мы с Ларисой снова пытались удержать его, чтобы погостить еще у нас в Амстердаме, но тщетно...
Поскандалив с Ларисой и не желая более оставаться, он поспешно уехал, позволив ей задержаться у нас на несколько дней... Лариса тоже была, конечно, недовольна “плохой организацией” их поездки из-за отсутствия заработка, но почему бы не расслабиться, воспользовавшись такой возможностью, что мы и сделали от всей души, проводив Маэстро творить в его Замок. С детьми, моим мужем Димой и нашим общим “милым” другом Борей Абаровым мы съездили на его машине к холодному морю в Зандфорде через изумительный Харлем с музеем Франса Хальса, и все вместе расслабились без строгого надзора нашего Гения, который становился все более утомительным. Так что в данном контексте я снова сочувствовала желанию Ларисы хоть как-то “оторваться”... Мы, конечно, прогулялись по красному кварталу, поглядев даже порнуху по требованию Ларисы Павловны, которое мы с радостью исполнили... Тем более, что дома у нее даже поцелуй в диафрагму запрещалось смотреть.
Я думаю, что Андрей охотно “отрывался” и сам при случае, но не с Ларисой, взаимоотношения с которой строились всегда на каком-то дополнительном взаимном напряжении слежки друг за другом... Ни минуты в простоте... И это все больше надоедало... А так мы оказались в прежней знакомой ситуации в новой географической точке, когда Лариса привычно для нас снова репрезентировала собою Андрея...
Без него она могла не только свободно выпить, но и покурить, спеть и станцевать, светски покадриться за неимением никого другого с моим мужем, которому она всегда по-женски симпатизировала. Но он так любил меня, что у меня никогда не было поводов для ревности, и ее заигрывания с ним я привыкла воспринимать только как шутку. А тут еще Дима собрался писать ее портрет, и она позировала для фотографии в черном платье с царственной осанкой...
Правда, в процессе кутежа Лариса попыталась как бы незаметно впервые ввести новую и неприятную для меня тему: “Олька, послушай, а вот Андрей мне говорил, что, может быть, с коммерческой точки зрения лучше выпустить книжку под его именем?”
“Что-о-о?! — вытаращила я глаза. — Вы что с ума сошли?”
“Да, нет, что ты нервничаешь? — заверила меня Лариса в своей непричастности к этой идее. — Это Андрей говорит или ему издатели посоветовали. Но это ваше дело и меня совершенно не касается”.
Да-а-а. Ложка дегтя снова портит бочку меда. Мне стало горько и неприятно: “Лара, придите в себя! Я столько лет работаю над этой книгой! Кто ее вообще привез сюда и о чем вы можете говорить?” Уже не полагаясь на чрезмерное благородство этой пары, когда речь идет об их интересах, я побежала в нашу спальню, которую мы, конечно, уступили Ларисе, раскрыла деревянный сундучок с нашими документами и вернулась обратно, потрясая договором, подписанным мною и Тарковским в издательстве “Искусство”. У меня хранились даже два экземпляра.
“Зачем ты мне все это показываешь? Меня это вообще на касается. Это ваши дела с Андреем”, — еще раз заверила меня Лариса... Вскоре она уехала домой тянуть свое великое семейное бремя.
А я, забегая вперед, должна сказать, что когда в следующий раз и, увы, при более печальных обстоятельствах, я полезла в тот же ящик за нашим договором, то не нашла там ни одного экземпляра. Так что потом понадобилось немало усилий, чтобы добиться получения копии в издательстве “Искусство”, за что я до сих пор благодарна моему мужу. Мои собственные усилия в этом направлении оказывались безуспешными.
И еще, через некоторое время после их отъезда, мне позвонили из администрации фестиваля, чтобы я оплатила телефонный счет на 1.200 гульденов. Я ахнула. Лариса, действительно звонила несколько раз из моего номера в Москву, чтобы без Андрея свободнее поговорить о делах, но я не подумала как-то, что придется платить, так как и мне все было оплачено фестивалем. Правда, после того, как я объяснила, что звонки делала жена Тарковского, они оставили меня в покое... Но с тех пор возникло новое правило, по которому гостям фестиваля больше не оплачиваются телефонные звонки.
Радостное известие
Вскоре, к концу так называемой европейской, зимы, у меня в кармане уже лежали два договора на “Книгу сопоставлений” от английского издателя и от голландского, найденного Арьеном, который и стал переводчиком этой книги. Договоры были присланы мне на подпись, чтобы я передала их также Тарковскому, когда мы встретимся. Я лениво подумывала о поездке, когда из Германии раздался телефонный звонок не Ларисы, а самого(!) Тарковского: “Ольга. У меня прекрасная новость. Я заключил в Германии договор, но не с тем издателем, о котором я тебе говорил, а с другим. Помнишь? Впрочем, ты, конечно, не помнишь, этих людей... Они заходили ко мне за интервью после “Бориса Годунова”, ну? А я им не дал... Ну, впрочем, это неважно. Так та женщина, Кристиана Бертончини, предложила мне более выгодные условия договора. При этом они хотят издать книжку первыми, к Берлинскому фестивалю — так что нужно торопиться доработать ее. Срочно приезжай!”
Ура — было моей первой реакцией, но в следующую минуту, когда я положила телефонную трубку, мой скудный ум озадачился и я обратилась с вопросом к моему мужу: “Дим, а что значит Андрей заключил договор? А где же я? Где моя подпись?” Мой умный муж отвечал мне что-то вроде — ну, ты, как всегда, дура. А я, внутренне соглашаясь с ним, решила перепоручить тогда это дело ему: “Ну, хорошо, Дима, — сказала я строго. — Перезвони ему сам. Ведь ты знаешь, что он действует на меня, как удав на кролика? А ты спроси его по-мужски”.
Дима набрал телефон в Германию (кстати, для характеристики степени нашей дружеской близости в то время надо заметить, что, выезжая из Италии, Лариса тут же перезванивала мне и оставляла их телефон): “Андрей, привет, — сказал ему Дима тоже строго. — Вот Ольга тут как-то не понимает. Что это значит: ты заключил договор? А как же без Ольгиной подписи?” Я держала параллельную трубку и услышала раздраженный ответ: “Дима, я тебя не понимаю. О чем ты вообще говоришь? Ведь мы интеллигентные люди... Или ты хочешь сказать, что вы мне не доверяете, а?”...
“Да, нет, Андрей, ты что?” — заверил мой умный муж, кладя трубку. Ситуация показалась нам не слишком приятной, но аргументация Андрея серьезной и логичной. Наши размышления завершил мой вывод: “Послушай, но ведь в конце концов я везу Андрею еще два договора и, если он их подпишет, то мои подозрения, действительно, безосновательны. Ведь не может же он, в конце концов, подписать два разных договора на одну и ту же книжку, правда?”
И я отправилась в путь...
* * *
Это была поездка странная во всех отношениях. Первое, странное и очень приятное изумление коснулось меня нежданно, когда на вокзале в Риме меня встречала не Лариса, как всегда, а сам Андрей! Как теперь говорят — это было круто! И мы отправились автобусом с известной мне пересадкой в Тиволи в ставшее уже родным для меня Сан-Григорио...
Поездка была долгой, так что у нас было довольно времени поговорить о всяком и разном, что раньше случалось редко. Вдвоем мы говорили всегда о возвышенном и духовном или о серьезном и проблемном, но не о мелочном и бытовом. Об этом мы трепались с Ларой. Андрей никогда не пускался со мной в лирические откровения о своей жизни. А тут вдруг совершенно неожиданно для меня заговорил о своих внутренних сложностях, неважном самочувствии, намекая, прежде всего, на проблемы, связанные с Ларисой. Свою обреченность в личном плане или что-то в этом роде. Но без конкретных подробностей. Я совершенно обалдела от нового поворота событий, слушала тихо и почти не поддерживала разговор, будучи, как ни не крути, подругой Ларисы, которую я сейчас увижу. Но Андрею, видимо, нужно было выговориться хотя бы со мной, и фраза, венчавшая его речь, запомнилась мне навсегда: “Оля, есть известное правило — не надо жениться на горничных! Вот в чем дело”.
Я была как-то даже польщена его “мужским”, дружеским доверием ко мне... Тем не менее разговора просто не поддержала. Теперь я думаю, что, может быть, совершила тогда большую ошибку. Может быть, будучи все-таки одиноким в Италии, он протягивал мне ниточку живой связи, которой я пренебрегла. Но как я могла не пренебречь? Стать слугою двух господ, что ли?.. Выхода не было, но даже сейчас я сожалею, что не стала ему тогда полноценной собеседницей — пионерская совесть не позволяла!
Так, несколько растерянная, я была доставлена им в Сан-Григорио, где нас, конечно, уже ожидал роскошный стол, даже слишком роскошный... Ну что же? Так бывает всегда, а тем более теперь, когда я приехала завершать, наконец, наш труд. С Ларисой мы, конечно, расцеловались от души и с обычным трепом принялись за трапезу с лучшим домашним вином этого местечка. Мы, конечно, всегда разговаривали о ситуации вокруг Тяпки и Анны Семеновны, о тех или иных новых шагах в этом направлении. Раньше к этим размышлениям подключалась проблема получения в Амстердам моего мужа. Но теперь он уже оказался со мной и детьми, что внушало Тарковским какую-то дополнительную надежду...
Надо сказать, что Лариска под мой визит наклюкалась очень быстро и до такой степени, что удалилась в спальню, забывшись там мертвым сном...
А мы снова остались с Андреем один на один, и беседа наша постепенно повернулась к цели моего приезда, к обсуждению работы над книжкой. Я показала Андрею привезенные мной два договора, которые не вызвали у него никаких возражений, и он тут же их подписал... А я тут же внутренне вдвойне устыдилась, что могла заподозрить его в какой-то нечистоплотности... Я привезла чистые пленки, и мы уже договаривались о том, что завтра я начну записывать его соображения о заключении к книжке и дополнениях к “Ностальгии”... А до этого он еще вслух прочитает мне готовый сценарий “Жертвоприношения” — счастье, в предвкушении которого я трепетала.
Все шло, как по маслу — Андрей был в лучшей своей форме, уже почти мною забытой: необычайно милый, мягкий, доверительный... Я млела от счастья снова получить от него свою толику душевного блаженства... На этом фоне мысли мои поплыли в каком-то параллельном направлении простой благодарности ему, даровавшему мне, сирой, столько лет привилегию общения с ним, доверявшему мне свои размышления и сомнения. В каком-то новом контексте вспомнились слова Ларисы, так больно ранившие меня в Амстердаме... Уста мои отворились, и я сказала: “Андрей, вы хотите иметь свою книгу?”
В первое мгновение Андрей, как будто бы онемел от неожиданности и, собираясь с мыслями, пробормотал: “Ну-у-у, я не знаю... Но, может быть, это было бы лучше с коммерческой точки зрения?” Тогда мне даже в голову не пришло, что, может быть, он уже имел в виду не наш, а свой коммерческий успех. А в моей голове сформулировалось в тот момент: “Да, пускай делает, что хочет, а я столь ко от него почерпнула, что, может быть, напишу позднее что-нибудь другое и совсем свое...” А на вопрос Андрея я отвечала:
“Ну, пожалуйста! Я согласна. Но у меня, конечно, есть три условия”.
“Какие?” — живо поинтересовался Андрей.
“Прежде всего, нужно внести мое имя в контракт с немцами, чтобы я получала спокойно и по закону свои 50%. Второе: я хотела бы, если вы не будете возражать, написать вступление к этой книге. И третье, с вашего разрешения, переделывая вступление, я выражу себе благодарность от вашего имени”.
“Ольга, ну конечно. Естественно. Что касается контракта, то просто позвони Бертончини от моего имени, и она все сделает. А вступление? Кому же его еще писать, как не тебе? Ну, и благодарность, конечно, сформулируй как-то. Так что запиши твои условия и оставь мне”.
Я записала и оставила рядом с ним на столе, как просил Маэстро.
Далее, обсуждая в самых общих чертах предстоящую работу, я сказала Андрею, что мне нужно будет пройтись по ней заново, убирая свой текст и подыскивая новые связки. На что Андрей сделал несколько обескураживающее заявление: “Нет, совсем твой текст убирать не нужно. Там есть хорошие вещи, и книжка от этого многое потеряет. Ты сделай лучше такой общий фарш”.
Тут я прибалдела: “Но, Андрей, я и так многое внесла в ваш текст, включая цитаты. А свой текст я хотела бы использовать в других своих работах, в том же вступлении, наконец”... Андрей ничего не ответил, но напрягся, и беседа, начинавшаяся “за здравие”, похоже заканчивалась “за упокой”... Мы распрощались, и я отправилась ночевать в свою большую, холодную, необжитую, пустую комнату, которую Тарковские сняли для меня в том же доме на пару недель. Весна еще не прогрела толстые, старые, сырые еще стены дома...
* * *
Далее, даже для меня, привычной, последовало несколько неожиданное развитие событий. Андрей прочитал мне “Жертвоприношение”, которое мы радостно обсудили, а потом.... Не начинал со мной никакой работы ни по утру, ни в последующие дни. Был неразговорчив, мрачен и замкнут. Я знала, что с ним такое случается, и первые дни была терпелива, наблюдая, как он с маниакальным упорством пересортировывает корзины с подгнившим шиповником, который они с Ларисой в поте лица своего собирали осенью, запасаясь витаминами. Прямо-таки отделял зерна от плевел...
Изо дня в день все это хозяйство раскладывалось на том же самом столе, за которым мы так славно пировали недавно, и желчный, мало симпатичный Андрей, чертыхаясь, перебирал подгнивавший шиповник. Поначалу на мои недоуменные вопросы, когда мы начнем работать, он отвечал, что еще к этому не готов, не утруждая себя более подробными объяснениями. Я проводила время с Ларисой в походах по магазинам, готовке обеда, новых осмотрах их угодий и обсуждении тех же самых проблем, связанных с воссоединением семьи и злобном состоянием Андрея.
“Ты не знаешь его, — доверительно сообщала мне Лариса. — Это он перед другими выкручивается, а дома он всегда такой. И я все это терплю. Да еще здесь, одна, без Тяпки, без мамы. Господи, когда это кончится? Я так устала”.
Очевидно, устали все. И у всех были на то свои причины. Я тоже устала. К тому же дома оставались маленькие детки с мужем. Младшему было только два с половиной года. Муж мой тоже был художником, пускай и не таким великим, и мне все-таки хотелось освободить и ему время для работы. А тут... Ну, полное самодурство и никакого желания хоть как-то считаться с моим временем. Атмосфера была такой тягостной, что начинало выползать почти болезненное раздражение. Лариса была обычной, но Андрей был совершенно невыносимым. Холодным и неприступным до такой степени, что хотелось ему сказать попросту: “А пошел ты...”
Вначале я взывала к Ларисиному участию, надеясь, что она объяснит Андрею, что я не навек приехала сюда, а работать. Что в Амстердаме у меня осталась семья, которая тоже во мне нуждается... Но все было бесполезно... Тогда я впервые высказала свое недовольство ему лично, заявив, что я не свободный человек и звонить мне следовало тогда, когда он будет готов к работе, а сидеть здесь просто так я не имею возможности... Андрей был очень недоволен, но на следующий день соблаговолил сесть со мной за тот же стол и, опираясь на тезисы своего выступления в Римине (которые он мне тоже дал для работы), заговорил о том, что он хочет сказать в заключении к книге.
Через пару дней я, наконец, уехала домой с двумя подписанными нами договорами в кармане и напутствиями поторопиться переработать и завершить книгу, позвонив Бер-тончини по поводу немецкого договора.
К этому моменту было ясно, что в мае я впервые собираюсь в Москву вместе с детьми. Было также ясно, что все близкие и знакомые будут спрашивать меня о Тарковском. Мы не исключали, что КГБ тоже может мною заинтересоваться. Поэтому мы оговорили точно, какую версию я должна поддерживать со всеми и везде — Андрей страшно обижен тем, что произошло в Канне. Не по заслугам! Поведение там Бондарчука поменяло все его планы, лишив его всякой надежды на нормальную работу дома, в Москве. К сожалению, нынешнее поведение Ермаша, увы, совпадает с его предположениями. Он не собирается становиться невозвращенцем, а просит лишь продления визы для работы на Западе и разрешения в связи с этим на выезд семье. Но совершенно тщетно. Андрей также просил меня встретиться с его отцом Арсением Александровичем и рассказать ему о решении Андрея не возвращаться и всех сложностях этому решению сопутствующих...
Надо сказать, что Андрей попытался выразить недовольство моей поездкой в Москву, так как надо было торопиться с книжкой. Но я уже довольно раздраженно отвечала, что никто со мной лично никаких сроков не оговаривал, я буду стараться изо всех сил, но я не могу отказать своим родителям и особенно папе, который не видел своих внуков и меня более полутора лет, в свидании с нами. Так что пришлось смириться.
В листках дневника Тарковского, неожиданно “подаренных” мне Ларисой, записано:
“4 апреля ("кстати, день рождения Андрея — О. С.) S-Gregorio
Вчера прилетел из Франкфурта. Запишу потом — видели Владимовых, заключил контракт с Берлинским издательством на книгу ”.
“9 апреля 84 понедельник S-Gregorio
В Берлине виделся с президентом Академии искусств, который поздравил меня со стипендией.
Весной 1985я буду получать...
Сейчас у нас Ольга Суркова — работали над книгой ”
* * *
Далее по возвращению в Амстердам началась запланированная работа и переговоры с г-жой Бертончини, которая все время уверяла меня в том, что не видит повода для моего беспокойства. Все знают, что я работаю над книгой, и все я получу по заслугам...
По заслугам и получила, в конце концов!
А пока Бертончини снова объяснила мне, как нужно торопиться с книжкой к Берлинале 1985 года, и мы договорились, каким образом будет идти работа. Последний вариант, годный для перевода, должен был выйти из-под руки Тарковского, то есть с его окончательной правкой. Я стала отсылать первые части текста, а Бертончини жаловалась мне, что не может дождаться правки Тарковского. Тогда я предложила рабочий вариант тройственных отношений: меня, Тарковского и переводчиков. К этому моменту немецкое издательство законтачило с английским, договорившись в целях общей экономии, одинаково оформлять книгу. В Германии перевод предложили известному мне по московским фестивалям Гансу Шлегелю, а английской переводчицей стала изумительная русская славистка, потомок первых эмигрантов Китти Хантер Блейер.
Чтобы ускорить весь процесс я предложила Бертончини, получив от меня следующий кусок текста, сразу же размножать его на три экземпляра для Андрею, и переводчиков. А они пусть себе переводят спокойно мой текст, потому что, по моему предыдущему опыту, правка Тарковского будет носить более или менее косметический характер, который не потребует от них серьезных переделок. Так оно и сложилось.
Торопливость немцев доходила до такой степени, что Шлегель, отправляясь отдыхать в Грецию, звонил мне, давая свой адрес, чтобы я, не мешкая, скорее пересылала ему свой текст, как горячие блины со сковороды, то есть с машинки. Честно говоря, меня все это сильно раздражало, потому что все сроки со мной не оговаривались, и я была вынуждена гнать текст, как одурелая. При том, что у меня были свои обязанности в семье и помимо поездки в Москву, еще целый ряд поездок с Тарковскими, в Лондон, Милан и снова с Сан-Григорио... Но надо было соответствовать уже решенной без меня ситуации.
Кстати, еще не приступив к переводу, мне позвонил Шлегель, ознакомившись с рукописью “Книги сопоставлений”. Звонок его был странным и симптоматичным — он выражал свои сомнения и серьезные претензии к книге, прежде всего, идеологические. Ведь он был завсегдатаем Московского кинофестиваля и, как я понимаю, опасался недовольств советских официальных лиц.
Но для меня он иначе сформулировал свое мнение. Он долго и раздраженно рассуждал о том, что роль, которую Тарковский отводит искусству с точки зрения его воспитательной функции с непременным положительным идеалом сродни... извините меня, но он говорил буквально: “фашистской идеологии”... Я прямо-таки ахнула, а Шлегель все продолжал резко-нравоучительную речь, завершив ее следующим заявлением: “Я, конечно, не могу такое переводить. Это против моих принципов. Так что, видимо, придется отказаться или, в крайнем случае, воспользуюсь псевдонимом, чтобы не порочить свое имя”... Да-а-а — подумала я тогда, — знатная идея... Но, разведав, видимо, ситуацию в Москве, он “рискнул” все-таки переводить нашу книгу да еще под собственным именем.
Вот, какие кренделя выкидывали люди, нынче так высоко почитающие Андрея. Ах, как все относительно и взаимозависимо. Особенно смешно это было слышать от Шлеге-ля, который переводил избранные произведения Эйзештей-на, чей “Броненосец” Гитлер поставил образцом для нацистской пропаганды. Чудеса! Но... глупая Оля, при чем здесь, действительно, логика или собственные убеждения, когда речь идет о карьере и удобствах, о своей деловой жизни? А Тарковский был уже невозвращенцем, и Шлегель, бывший коммунист или сочувствующий коммунистам, конечно, боялся, что ему откажут от Московского фестиваля.
Кстати, иллюстрируя выбранную конструкцию взаимоотношений между мной, издателями и переводчиками, привожу здесь сохранившееся у меня письмо прелестной Китти Хантер-Блейер, человека, как говорится, выросшего совершенно на другой грядке:
Кэмбридж, 27.7.84
Дорогая Ольга,
не знаю, вернулись ли вы уже домой, но уже пишу вам с просьбой прислать мне следующую главу, как только она будет у Вас готова. Из тех 89 страниц, которые мне передал Юан (получивший их от немецкого издательства), я уже раньше перевела две главы. Хотя конечно я далеко не кончила остальную часть тех же 89 страниц, я работаю сейчас довольно скоро, потому что я свободна заниматься только переводом (блаженное состояние!) и надеюсь окончить эту часть дней через десять. Хочется перевести как можно больше сейчас, чтобы не оставить слишком много работы на осень, когда начнется опять преподавание.
Мне было очень приятно познакомиться с Вами, несмотря на то, что не было возможности по-настоящему поговорить; буду надеяться на новую встречу! А Лариса и Андрей — какие удивительные люди. Даст Бог, чтобы им поскорей выпустили мальчика, хотя, увы, эти вещи никогда не делаются легко.
Привет Вашему семейству и, конечно, Вам.
Ваша, Китти ”.
Отталкиваясь от этого письма, сразу определю некоторые дополнительные координаты и параметры событий.
Вернуться, судя по дате письма, я должна была из Милана, где 10 июля у Тарковских была та самая знаменитая пресс-конференция, на которой они сообщили о своем намерении не возвращаться. Об этом, конечно, подробнее ниже.
Напоминаю, что Юан — это редактор “Bodley Head”, с которым мы знакомились на “Борисе Годунове”, а потом подготавливали и подписывали совместный договор.
С Китти мы познакомились в Лондоне как с будущим переводчиком книги. Я снова ездила туда с Тарковскими еще дважды: последний раз весной, когда Андрей произносил в Лондонском соборе свое чрезвычайно интересное и значительное “Слово об Апокалипсисе”. Жили мы снова у Браунов и всякий раз Тарковские предпринимали все более усиленные попытки организовать через разные организации новые просьбы о воссоединении семьи.
Между премьерой “Годунова” и выступлением Андрея в соборе Сан-Джеймс я была с ними в Лондоне еще раз, когда Андрей выступал в Ривер-Сайт студии, таком некоммерческом местечке, где собирались любители подлинного искусства и игрались плохо оплачиваемые некоммерческие спектакли.
Я мало что помню теперь из этой второй поездки, кроме того, что англичане очень удивлялись, чем, собственно, так привлекает Тарковского Шекспир? Так что еще раз пришлось убедиться, что все-таки нет пророков в своем отечестве, за ними направляются в дальние страны. А Шекспир... Это для англичан, наверное, такая надоевшая школьно-хрестоматийная жвачка...
Но вообще именно в Лондоне Андрей был окружен замечательными и значительными, по-настоящему духовными людьми, приближенными к митрополиту Антонию Сурож-скому. Одной из таких дам была прекрасная переводчица, работавшая с Андреем в Англии...
Что касается моей последней поездки с Тарковскими в Лондон, к сожалению, она снова ознаменовалась несколькими болезненными обстоятельствами, увы, врезавшимися в память...
Так случилось, что вместе с Тарковскими я была приглашена в гости к Ирине фон Шлипе. До этого еще в Италии я слышала о ней много хорошего и в частности я знала, что она пересылала Тарковскому объемные бандероли с западными изданиями русских книг религиозного, философского характера и то, что называлось “диссидентской” литературой. Лариса радостно сообщила мне, что Ирина и ее муж очень гостеприимны, а, кроме того, у них свободно можно взять бесплатно сколько угодно литературы, которая в магазинах всегда была очень дорогой.
Мы прифрантились, уселись в такси и покатили к дому фон Шлипе. Нас встретили действительно милейшие люди и прежде, чем мы были приглашены к столу, нас направили в большую библиотеку, заставленную книжными полками, выдав целлофановые сумки. “Ищите, что вам надо, — сказала Ирина, — и набивайте свои сумки. От нас обычно много уносят. Так что вы не стесняйтесь”. Я жалобно пропищала: “Ира, ну мне-то обратно лететь на самолете — так что слишком много, увы, я от вас не утащу, хоть и жалко”...
И мы с Андреем углубились в изучение всего роскошества, имевшегося на полках, где многие книги стояли в нескольких экземплярах. Я отбирала что-то особенно меня интересовавшее и, взяв какую-то книгу, положила ее в сумку. Андрей потянулся туда же, но второго экземпляра не было. Он сразу же очень раздраженно посмотрел на меня, а я естественно полезла в сумку, успокаивая Андрея: “Ради Бога, ну что вы, Андрей? Если у Ирины нет другого экземпляра, то, конечно, ваша рука первая. Конечно, возьмите ее”.
Ирина засуетилась, сказав, что она посмотрит в другом месте, но это был последний экземпляр, который Андрей тут же, не задумываясь, не извинившись и не поблагодарив меня, как само собою разумеющееся переложил в свою сумку. Я почувствовала себя неуютно. Не из-за книжки, конечно...
Потом, когда нас пригласили за стол, неловкость ситуации несколько рассеялась, благодаря вкусной еде, добросердечию хозяев и их рассказам о своем прошлом. Но, когда мы возвращались домой в такси, Андрей вдруг начал меня отчитывать холодным, резким и недовольным тоном за полученные им от Бертончини переработанные мною куски текста: “Все это очень плохо и я недоволен твоей работой. Что это такое? Ты халтуришь и просто издеваешься, убирая свой текст. Меня это совершенно не устраивает”.
Он не разговаривал со мной, не спрашивал, не давал советов, не высказывал конкретных замечаний, а просто отвергал текст книги в мерзком тоне.
Когда мы, наконец, подъехали к дому Браунов, то я не выдержала и впервые ответила ему также холодно и резко: “Андрей, это книга, которую вы читали прежде несколько раз.
Вы ее сами уже правили и готовы были издавать ее в Москве. Раньше вы ничего такого не говорили и не пытались ничего менять по существу, что меня огорчало. Но, в конце концов, если вам вдруг все так не понравилось, то меняйте. А если она вам не нравится совсем, то ищите себе другого соавтора. А у меня в результате нашей работы другой книжки нет. С тем, что вы мне предлагали, я постаралась сделать, что могла. В конце концов, это ваша книга, и вы можете сами приложить хоть немного больше усилий. Кстати, я до сих пор не могу даже добиться, чтобы Бертончини включила меня в контракт”. Да. Меня всю колотило, и я была не на шутку обижена...
Когда мы вошли в дом, то Андрей резко взлетел по лестнице наверх. А Лариса бросилась ко мне с уговорами, понося Андрея последними словами, когда я повторяла ей “скажи, пусть ищет себе другого соавтора”. Потом она поднялась к нему в комнату и скоро вернулась со словами: “Ой, ну что за человек! И какой злобный! Ты знаешь, что он мне сказал? — “Это что же, Лариса, мы такси оплатили, чтобы Ольга могла себе книжек набрать бесплатно?”
“Что-о-о?” — завопила я.
“Ну, я же говорю тебе, что у него звездная болезнь. Видишь опять, что он вытворяет и каково мне живется?.. Да, ладно тебе-то, хватит... Хоть меня пожалей. Поверь, что он тебя очень ценит... Успокойся да и работай”...
Но на этот раз мне было слишком обидно. Андрей никогда не был со мной нежен или особенно предупредителен. Об этом я и не мечтала. А потому тем более запомнила, как в Москве, сидя за столом у моих родителей, он единственный раз сказал не мне, а моему отцу, хитро прищурившись: “Ев-гень Данилыч, а Ольга-то молодец. Она удивительно меня понимает”. А теперь, когда я была уже матерью двоих детей, со мной не советовались и не разговаривали, а отчитывали, как школьницу... Тем более, что я всегда считала книгу сырой, а Андрей был ею доволен в Москве и на эту книгу заключал договоры в издательствах. Но, в конце концов, это не моя книга. И почему бы ему всерьез не поработать над текстом самому тоже, когда мы уже близки к финишу. Я все-таки годы собирала, записывала и систематизировала все, что он говорил мне или при мне. И за эту работу, в конце концов, я получаю свои 50%...
С этими мыслями я укладывалась спать, мечтая оказаться дома. Но утром неожиданно для меня Андрей проснулся милым, доброжелательным и приятным во всех отношениях, точно вчера не произошло ничего экстраординарного... Чудеса... Мы ворковали втроем, обсуждая все те же проблемы их будущего на Западе и воссоединения их семьи... А на второй день вечером Андрею стало плохо...
Мы опять куда-то ходили, а когда вернулись, Лариса спустилась вниз из их комнатки и раздраженно сказала, что Андрей жалуется на боли в сердце. В моем присутствии это было впервые.
“Лара, а что с ним? — испуганно поинтересовалась я. — Может быть, надо вызывать неотложку?”
“Какую неотложку? — еще более раздраженно отвечала она. — Да нет у него ничего. Только притворяется, чтобы внимание привлечь”.
“Слушай, а ты уверена?” — снова занудила я.
“Да он здоров, как бык. Не волнуйся. Это он меня похоронит. Ты знаешь, какое у меня сердце?”...
Я неуверенно потопталась на месте, а потом все-таки поднялась по лестнице наверх посмотреть, что там... Когда я увидела Андрея, сердце мое подскочило к горлу — он был белого цвета, сжимал зубы от боли... “Андрей, вам надо вызывать неотложку”, — завопила я, бросаясь вниз.
“Лара, ты совсем спятила. Ему, действительно плохо. Ты что? Я тебе говорю точно — вызывай немедленно неотложку”.
“Да что ты придумываешь? Вот увидишь, что я права, и ничего у него нет. Только денег полно заплатим за эту неотложку”... Я знала, что никакой медицинской страховки у Тарковских не было, так как деньги платились ими только за удовольствия. А мои практические соображения по этому поводу, конечно, не принимались во внимание. Но, как бы-то ни было, сейчас нужно было раскрыть кошелек: “Я тебе говорю: ВЫЗЫВАЕМ!” И я бросилась к телефону...
Врачи приехали, и Лариса, спускаясь потом вниз вместе с ними, поглядывала на меня торжествующе... Закрыв за ними дверь, она усмехнулась: “Ну, что я тебе говорила? У него нормальное давление и все в порядке. Ну, сделали ему какой-то укол... Он болен... Ха-ха-ха”... Я снова поползла наверх... Андрей лежал на кровати, в крошечной комнатенке под крышей, усталый и грустный... Лицо как будто порозовело, и он сказал, что боль в области сердца поменьше... Вот тебе и семейное счастье! Я-то, по простоте душевной, мыслила его иначе...
Потом, когда через полтора года он заболел так серьезно и безнадежно, я вспоминала тот вечер и думала также, как думаю теперь, что, может быть, уже тогда был первый сигнал. Может быть, незаметно притаившаяся опухоль коснулась какого-то нерва... Может быть, если бы у них была страховка, им следовало уже тогда исследовать его, выяснив причину того тревожного состояния, в котором он был тогда. Я это видела собственными глазами. Но... Деньги копились на иные цели...
А уехала я тогда домой продолжать работу с радостью, точно освободившись от тяжелых видений...
Московские перезвоны
Я перескочила к своей последней поездке в Лондон, минуя рассказ об одной встрече с моими “милыми” соотечественниками еще на закрытии роттердамского фестиваля.
Итак, поскольку, как я писала выше, мое пребывание на фестивале было обозначено не только работой с Тарковскими, но и моей собственной пресс-конференцией в связи со статьей, озаглавленной в “Фолкскранте”: “Хороший советский фильм нельзя увидеть в России”, то я была приглашена на торжественное закрытие, куда мы отправились вместе с Арьеном. А недавно приехавший “незаконный” русский муж оставался с детьми.
Мы с Арьеном подходили к Хилггону, где был организован банкет и услышали рядом русскую речь, что по тем временам было большой редкостью. Я вопросительно посмотрела на Арьена, а он сказал, что скорее всею это моряки. Войдя в Хилтон, я тут же пошла к телефонам, чтобы позвонить домой и узнать, как там дела... Потом мы поднялись в банкетный зал, взяли по бокалу вина, и все было очень славненько...
Как вдруг ко мне подошли “двое в штатском”, также “вооруженные” бокалами, и неожиданно обратились ко мне на том самом чисто русском языке, который мы недавно услышали, приближаясь к цели нашего путешествия: “Ну, что же, Ольга Евгеньевна, значит наш хороший фильм нельзя увидеть в России?”... Я внутренне ахнула, тем более, что мне предстояла поездка в Москву, и все это не было тогда шуткой... Я их не знала, но они знали меня и обращались ко мне по имени отчеству, тут же спросив: “А вы сейчас разговаривали внизу по телефону со своим мужем?” “Да”, — отвечала я, сделав моим математическим умом ход вперед и сообразив к чему они клонят (не забудьте, что я официально уехала в Голландию с голландским мужем!). “И что же он так хорошо говорит по-русски? Мы были рядом и случайно услышали родную речь совсем без акцента”, на что я естественно парировала: “Нет, почему же? Он, конечно, говорит с акцентом, но я говорю без акцента и полагаю, что вы слышали меня, а не его?”
“Ольга Евгеньевна, ну давайте же познакомимся”, — мило представились мне, наконец, эти люди. Один из них оказался представителем Совэкспортфильма, а другой отрекомендовал себя культурным атташе советского посольства. Я не помню сейчас их имен. Но Совэкспортфильм представлял, кажется, Бойков. Слово за слово, и меня снова спросили о моей статье, перечисляя какие-то замечательные советские фильмы широкого проката, на что я, как мне показалось, нашлась, что ответить: “Ну, что я могу вам на это сказать? Нас здесь трое, и мы представляем разные точки зрения. Вот товарищ из Совэкспортфильма представляет, как я понимаю, коммерческую точку зрения на фильм. Господин ататше представляет культурно-идеологическую точку зрения. А я искусствовед и представлю только эстетическую точку зрения, с которой и написана моя статья. Целый ряд неразрешенных к прокату фильмов мне, как искусствоведу, кажутся значительными, идейной крамолы я в них тоже не вижу, а потому тем более не понимаю, зачем их нацо скрывать от зрителей и создавать ненужные прецеденты”...
В какой-то момент нашей содержательной беседы мы вдруг остались с культурным атташе с глазу на глаз, то есть без свидетелей, и он быстро сказал мне: “Ольга Евгеньевна, знаете ли? Мы ведь тоже здесь в посольстве не совсем идиоты и понимаем, что вы правы. Мы тоже считаем, что не следует запрещать картины там и из-за ничего осложнять внешние проблемы здесь. Мы пытаемся говорить с ними об этом, но кто это хочет понимать? Так что пока эти старперы не умрут, ничего не поделаешь”... Что? Это я слышала собственными ушами. Что бы это могло означать — провокацию или, как мне показалось, скорее крик души... но в это время вернулся Совэкспортфильм... Арьен тоже оказался снова рядом — с ним мне почему-то стало спокойнее — и, “поболтав” еще, мы благополучно вернулись домой... А впереди была наша поездка в Москву, которой не благоприятствовала ни моя статья, ни эта встреча, ни вся моя фальшивая ситуация с моим мужем, ни не собиравшийся возвращаться Тарковский... Но там были мои родители, и особенно меня волновал мой отец, не видевший никого из нас более полутора лет...
* * *
Напомню, что за время моего пребывания в Москве мне было поручено Андреем повидаться с Арсением Александровичем, Ларисой — передать очередную сумку Анне Семеновне, и обоими — утвердить среди московской общественности версию, что намерение продлить свое пребывание в Италии и получить туда семью связано напрямую с событиями в Канне. Андрей надеялся, что хотя бы теперь советские не захотят раздувать скандал и все-таки официально продлят им визы для работы, разрешив выезд Тяпе с бабушкой. Распространяя еще раз эту версию, которая предназначалась, прежде всего, для ушей “тайной полиции” Тарковский рассчитывал на здравый смысл, наивно полагая, что дурной мир покажется им все же лучше доброй ссоры...
И я, честно побывав везде и всюду, среди друзей и коллег, в любимом для меня и незабвенном Доме кино, рассказывала всем, кто меня спрашивал о Тарковском, о том же самом драматическом событии в Канне, вынудившем его впервые решиться просить у советских продления визы для работы, которой в Союзе ему явно все равно не дадут.
Но еще мне предстояла волнующая встреча с Арсением Александровичем Тарковским, чтобы сообщить ему о намерениях сына более подробно. Он был в это время уже слаб здоровьем и жил, в сущности, постоянно вместе со своей женой в доме творчества в Переделкине. Моя близкая и любимая старшая подруга Нея Марковна Зоркая тесно общалась с ними и договорилась о нашем визите. К нам присоединилась Алла Демидова (обе крестные моих детей), с которой мы тогда тоже очень дружили, и на ее машине мы втроем отправились в грустный путь. Не слишком приятно и легко было сообщать отцу, что он уже едва ли увидит своего сына...
Конечно, я видела Арсения Александровича раньше, но еще раз поразилась величественности его облика. Он слушал мой рассказ светски сдержанно, только чуть-чуть подрагивали губы, и где-то в глазах затаилось страдание, которое он не хотел демонстрировать. Лицо его, прорезанное очень глубокими выразительными морщинами, оставалось почти неподвижным.
Я снова рассказала ему историю в Канне во всех подробностях, рассказала о сомнениях Андрея, о попытках с его стороны решить вопрос продления визы и воссоединения семьи с советскими властями полюбовно. Но... Все складывалось так, что если на его просьбы никакого положительного ответа не последует, то он будет вынужден остаться. То есть, как Андрею кажется, его вынуждают остаться, не желая вступать с ним в переговоры...
Во время моего рассказа Арсений Александрович кое-что переспрашивал, вздыхал потаенно и как будто иногда ахал. А когда я, наконец, собралась уходить, и он встал со мною прощаться, вдруг разрыдался и буквально упал мне на плечо. Это было так неожиданно и непереносимо горько. Никакие слова ничего не могли к этому добавить.
Мой отъезд из Москвы оказался тоже знаменательным.
Денег в Голландии у меня по-прежнему не было, а потому визу для нас по совету друзей я взяла самую дешевую с тем, чтобы продлить ее в Москве еще на недельку уже за родительские рубли. Это послужило для меня необходимым поводом заявиться в ОВИР, как сейчас помню, в Калашный переулок.
Я отдала паспорт и приготовилась ждать. Но ожидание мое слишком затягивалось, я видела других дам, которые приходили сюда позднее и, получив визу, благополучно удалялись. Я уже начала злиться, когда, наконец, меня позвали в комнату и вместо того, чтобы отдать мне паспорт, попросили подняться на второй этаж к заместителю начальника ОВИРа. Сердце мое захолонуло, и я попыталась заявить, что мне нужен только мой паспорт. Но меня лишь холодно и строго информировали о том, что паспорта здесь нет...
Без большой радости я последовала заданным маршрутом. Я постучала в дверь, меня встретил кругломордый, краснощекий, лысоватый человек. Он очень вежливо поздоровался, предложил мне сесть за стол напротив него и, открыв мое досье, начал задавать вопросы: имя, фамилия, образование или место работы до отъезда. Ответив на пару таких вопросов, я поинтересовалась — зачем меня обо всем этом спрашивать, если все эти данные лежат в его папке. Тогда, мило заулыбавшись, этот человек начал спрашивать меня, хорошо ли мне работается в Голландии, как идут дела у моего мужа, как дела с его живописью... На что я отвечала, что мой теперешний “муж” не живописец, а славист и пытается заниматься театром, но дела наши идут не слишком успешно, хотя я пришла сюда не для того, чтобы жаловаться на свою жизнь...
“Ну, а как устроился тогда ваш бывший муж?” — участливо спросил меня мой Порфирий Петрович. И тут я, не желая, как Раскольников, оказаться той самой бабочкой, которая сама прилетит на огонек, быстро сообразила, что наступление лучший вид обороны, нервно отбарабанив без паузы: “Послушайте, ведь я пришла сюда вовсе не для того, чтобы рассказывать вам о моей личной жизни, которая и без того достаточно сложная, мне не хотелось бы обсуждать ее с вами. Но, если это только вступление, и вы хотите со мной продолжать разговаривать, то сразу предупреждаю вас, что я не намерена ничего с вами обсуждать”...
“То есть вы не собираетесь больше приезжать сюда к вашим родителям?” — спросили меня уже раздраженно с провокационными нотками в голосе.
“Если цена моей визы определяется такого рода сотрудничеством, то можете не сомневаться в том, что не собираюсь”, — ответила я наступательно и решительно. И тут, точно преобразившись, с презрительной миной на лице этот начальничек чванливо процедил, как будто брезгливо отодвигая от себя мой паспорт: “Да забирайте свой паспорт, забирайте”...
Надо сказать, что сама я к тому моменту была в такой ярости, что не задумавшись выпалила ему нечто вроде: “Ну, что же? Вы можете гордиться тем, что не позволили лишнюю неделю понаслаждаться старикам своими внуками... Спасибо большое! Это вам зачтется!” И, выскакивая уже из кабинета, я в сердцах сильно шарахнула дверью. В ту же минуту я увидела перед собой нескольких людей, очевидно, ожидавших приема, которые вздрогнули, недоуменно уставившись на меня... А я рванула по лестнице вниз и опрометью понеслась по улице, по каким-то бульварам. В голове стучало: “Зачем я хлопнула дверью? Да, еще при свидетелях... То есть, мне пришьют — оскорбление должностного лица... Какая идиотка... К тому же я здесь с двумя детьми... Что с ними будет...”
С такими мыслями я долетела до Колонного зала, куда меня пригласили на концерт Журбины и где меня ожидал голландец Стефан. Я нервно рассказала ему обо всем случившемся, заручившись его обещаниями, что ежели что произойдет, то он меня не бросит, а побежит в голландское посольство меня спасать. В крайнем случае, детей. У меня, слава Богу, было уже голландское гражданство...
А когда поздно вечером я вернулась домой и рассказала обо всем случившемся моим родителям, то папа сразу сказал, пожертвовав еще парой дней нашего общения: “Оля, рано утром едем за билетом и вечером вы выезжаете, если все будет в порядке”...
Так мы возвращались в Голландию первый раз со своей исторической родины, и я поклялась, что ежели меня еще пустят туда в будущем, то я никогда не поеду сразу с двумя детьми. Ни за что! Если один будет оставаться в Амстердаме, то голландцам будет проще ходатайствовать все о том же юс-соединении семьи... Вот ведь какая навязчивая была тема... Как будто все вертелось по одному и тому же кругу...
Точка, поставленная в Милане
Как-то поутру, наверное, в начале июля мне позвонила Лариса из Сан-Григорио, сообщив, что их пресс-конференция по поводу отказа от гражданства уже запланирована на 19 июля в Милане. “Мы исчерпали все возможности получить Тяпу с мамой. Устали ужасно, и вот нашлись нужные люди, которые организовали нам пресс-конференцию. Приезжай! Очень тяжело. Андрей нервничает. Кстати мы, наверное, все-таки уедем в Штаты”.
— Ясно. Попробую организовать себе командировку. А до 19-го как? Никому пока ничего не говорить?
— Да, нет, почему же? Никакой тайны здесь нет. Наоборот, рассказывай обо всем, как можно более распространенно — может быть, до “них” тоже дойдет и они сообразят, что лучше пойти нам навстречу и не допускать этого скандала...
— Понятно. Правда, мне здесь говорить особенно некому... Но задача ясна... А дальше значит в Америку?
— Да. Даже для получения семьи это лучше. У них все-таки есть сила, и, может быть, советские скорее пойдут им навстречу...
Когда я рассказала своему мужу о намерении Тарковских переезжать в Штаты, он задал мне вопрос, который мне самой даже не приходил в голову: “А как же его работа в Швеции? Ведь если он просит политического убежища у американцев, то он должен ехать туда лет на пять без выезда”...
Я перезвонила Ларисе высказать эти соображения, на она возразила мне следующим аргументом: “Оля, ну, к нам это не имеет никакого отношения. Это же Тарковский!” Мне это тоже показалось убедительным, но мой муж перезвонил и постарался объяснить Андрею, что есть некоторые общие эмиграционные правила, распространяющиеся равно на всех, и они не могут просить убежища в Штатах, если сидят в Италии. Как бы то ни было, но, по крайней мере, они должны туда съездить, а оттуда уже просить разрешение на работу в Европе...
Андрей был почти возмущен. Почему ОН должен подчиняться обычным правилам? И за чей счет туда ехать? “В Америке мне делать нечего. И не буду же я тратить бешеные деньги на билеты, если мне все равно возвращаться в Швецию, где есть работа”...
“Эта логика здесь не годится. Так же точно, как когда ты приводил в пример Кончаловского и Иоселиани. Я тебе говорил, что у них официально была другая ситуация, чем у тебя. И в данном случае перед американским законом ты т а -кой же как все ”...
Но “как все” и общий для всех закон — была идея вообще чуждая так называемым советским демократам, а тем более Тарковским.
Тем временем я снова взяла командировку в той же газете, и на всех парусах полетела к Тарковским... не в Милан, а в Сан-Григорио, чтобы сопутствовать и поддерживать их в дороге. Они очень волновались.
В фильме Эббо Деманта о Тарковском есть ошибка. Там сказано: “10 июля 1984 года. Палаццо Себелиони в Милане. Он приехал из Швеции, чтобы на международной пресс-конференции заявить, что хочет остаться на Западе”... После пресс-конференции Тарковский поехал в Лондон, но на пресс-конференцию они направились из Сан-Григорио, а не из Швеции вовсе.
Настроение у них было взвинченное. Они рассказывали о своих путешествиях в американское консульство в Риме, где у них брали анализы, делали рентген, фотографировали и “самое ужасное — можешь себе представить? — брали у нас отпечатки пальцев?” Да-а-а, к сожалению мой муж был прав, и Тарковские на несколько часов вынуждены были почувствовать себя только эмигрантами, которым предстоит переселение. Андрей был поражен всей процедурой, тем более не понимая, зачем и почему он должен даже слетать в Америку, чтобы потом вернуться... “Бред, какой-то. Да еще за свои деньги! А?”
“Так вы не едете в Америку?” — спросила я. “Не знаю, не знаю. Ничего я пока не знаю. Посмотрим, что будет в Милане”, — отвечал Андрей. А Лариса, примостившись у его ног еще в домашнем халатике, попросила: “Олька, сними нас сейчас. Перед Миланом. Это, уж, действительно для истории”. И я с волнением запечатлела для истории семейный портрет в бедном пока интерьере их временного обиталища...
Они рассказывали мне, что пресс-конференцию помог устроить Максимов, с которым они к тому моменту общались уже тесно. Он обратился за помощью к какой-то не слишком популярной “народной” партии, сильно враждебной Союзу. Ее точного названия сейчас я не помню. Но все было организовано точно и профессионально, начиная с такси, которое было подано с утра к подъезду в Сан-Григо-рио, чтобы отвезти нас в аэропорт.
Надо сказать при этом, что все мы трусили, начитавшись на свободе вдоволь разной запрещенной в Союзе литературы. Даже мне отводилась на этот раз прямо-таки специфическая роль body gardera, которая меня пугала, но которой я еще более гордилась. Лара была главнокомандующим этой исторической операции и давала мне важное задание: “Олька, запомни, если что-нибудь случается, то есть кто-нибудь нас хватает и пихает в машину... Или еще лучше, если мы замечаем, что кто-то даже приближается к нам... А вдруг сделают укол?.. Сразу кричи как можно громче “Аюто!”, что значит “Помогите!” Поняла?”
“Лар, а еще что? Как далыпе-то объясняться, ежели чего?” — спрашивала я, как старательный исполнитель, отчасти опасаясь и за себя тоже, но что поделать? Очевидно, это и есть настоящая дружба... “Да, больше ничего, — заверяла меня Лариса. — Главное привлекай к нам внимание, а там как-нибудь и по-английски разберешься”... Я была польщена важностью своей новой задачи... Но, увы, не было особого повода продемонстрировать вновь свою готовность на все... Как я любила с детства Зою Космодемьянскую... И, усаживаясь в кресло у зубного врача, думала тогда только о ее бессмертном подвиге...
Мне показалось, что Лариса тоже была отчасти огорчена, что все идет так просто и без чрезвычайных обстоятельств, которые мы уже вообразили себе. Когда мы уселись, наконец, в аэропорте в ожидании посадки на самолет, Лариса вдруг прошептала нам, показывая взглядом на человека напротив, читающего газету: “Ребята, он за нами следит”. Наши сердца забились чаще, а Андрей строго прошептал: “Прекратите болтать по-русски”. Нам показалось тогда, что человек, отодвинув газету, посмотрел на нас. “Ну? Что я вам говорю? Он точно следит за нами!” — почти победоносно прошипела Лариса. И прямо в упор, посмотрев на него, закинула ногу на ногу: “ А я его не боюсь!” Лариса тоже была готова пострадать за Андрея, а я подготовилась к порученной мне спасательной операции. Андрей, побледнев, нервно процедил сквозь зубы: “Лариса, прекратите! Не провоцируйте его!” Человек заерзал на своем месте под нашими взглядами, но тут объявили посадку...
Сейчас все это выглядит просто смешно, но тогда Лариса перепугала нас в усмерть. Я уже готова была геройски погибнуть во имя Маэстро, ценного для всего человечества, потому что мысль отказывалась аксептировать идею его возможной гибели — вот так просто? От руки этих кегебешных подонков? Нет! Никогда!
Но Андрей был взволнован сверх всякой меры. И вся ситуация была такой сложной, что мне, конечно, тоже не приходило в голову сомневаться в Ларисиной проницательности. Не меньше Андрея я верила в то, что ее взгляду доступно сокрытое от других. Она давно убедила его в этом. Хотя очень твердо стояла на этой земле без помощи особых мистических сил и, как мне кажется, она не побоялась бы вступить в рукопашную при необходимости.
Но в данном случае это бессмысленное нагнетание страха нужно было Ларисе, чтобы держать Андрея теперь уже полностью у своей “ ноги”, внушая ему дополнительный страх, чтобы и в голову не закралась мысль о возможном отступлении, которая была противна, прежде всего ей самой. Ведь если ее опасения были бы серьезными, то она могла бы сообщить их тихонько только мне, чтобы не волновать его. Но она почти сводила его с ума и хотела владеть им полностью, беспомощным и растерянным — ют где заканчивалась комедия и начиналась драма.
Вечером в гостиницу, в которой нас поселили, подтягивались постепенно Максимов с Иловайской, главным редактором “Русской мысли” и переводчиком пресс-конференции, Растропович и Юрий Любимов, уже ставший к тому моменту невозвращенцем и успевавший нашуметь много. Андрей был в ярости, увидев его: “А этот еще зачем? При чем здесь он? Везде успевает засунуться со своими диссидентскими штучками. Зачем меня с ними мешать? Я не диссидент и всего этого терпеть не могу... И театр его никогда не любил. Ах, зачем, зачем все это?”...
“Все это” он воспринимал крайне болезненно. А вокруг уже закрутилась камарилья, существующая по своим законам и в расчете на свои дивиденды предлагала Андрею свои правила. Он страдал.
Вечером Максимов пригласил нас в ресторан, и мне запомнилось, что мы ели там пасту, приправленную всякими морскими м^пюсками и ракушками. Раньше я никогда не пробовала бйагетги в таком сочетании, и это было вкусно.
Но утро перед пресс-конференцией обозначилось совсем другим, мало приятным событием. Максимов, важный и надутый, как пузырь, заявился в номер к Тарковским с грудой утренних итальянских газет, в которых уже поласкалось известие о грядущей пресс-конференции и Андрею высказывалась обида, что он, оказывается, собирается эмигрировать в Штаты в то время, когда Италия для него столько сделала. Андрей совсем растерялся: “А откуда они знают, что я собираюсь эмигрировать в Америку? Да я уже и не собираюсь... А что все это вообще-то значит? Почему публикуются все статьи еще до пресс-конференции, Володя? А? Объясни мне, почему это так”...
“Это так потому, что рядом с тобой есть какие-то “близкие друзья”, которые информируют раньше времени”, — сверху вниз пояснял Максимов. Мне почему-то сразу стало резко не по себе, и я вышла вместе с Ларисой в туалетную комнату, где она приводила себя в порядок. “Видишь, что говорит Володя? — между делом произнесла Лариса. — Кто-то из близких на нас доносит”. Мне кровь бросилась в лицо: “Прости, а кто “близкий” рядом с вами, кроме меня? Это что за намек такой? Ты что спятила? Приди в себя! К тому же ты сама говорила мне, когда звонила в Амстердам, что все это не тайна и говорить обо всем этом нужно, как можно шире, не так ли? Мне, правда, говорить-то было некому, но ты сама, наверное, ничего не скрывала”...
“Да, успокойся ты, ради Бога, все это ерунда”, — сказала Лариса, но мне было не слишком приятно... Вообще они гнали вокруг него волну, которая его уже захлестывала... И Лариса была их сообщницей...
Что касается самой пресс-конференции, то о ней написано много, и я ограничусь лишь самым общим рассказом.
Прежде всего надо иметь в виду: на публичное выступление Тарковские должны были решиться действительно от отчаяния. Потому что в конце концов главной причиной их действий стало нежелание властей вообще общаться с ними или вести переговоры о воссоединении семьи. До последнего момента Андрей не собирался возвращаться, но надеялся на значительность своего имени, которая не позволит “нашим” выкинуть его за порог. А позволила... А выкинули... Это, конечно, ранило его очень сильно. Вся его обида, не без основания, сконцентрировалась на Ермаше, полном, неуправляемом самодурстве его действий. На таком наглом, жирном хаме!
Тарковским приходилось бороться. И поскольку сердце болело прежде всего о Тяпе, то еще до пресс-конференции я записала Ларису. Слова матери казались нам убедительными, как никакие другие:
“Напиши так дм вашей газеты: я считаю, что нет ничего более негуманного и страшного, чем заставмть страдать ребенка, вмешиваться во внутреннюю жизнь семьи. Как бы не было трудно то, что мы сейчас делаем, как бы это не ито вразрез с нашими убеждениями, но мы делаем этот шаг сознательно. Но при чем здесь ребенок?...
20 лет передо мной стояла проблема физической выживаемости —17лет без работы. Андрей не понимал — почему и за что ? Мой муж русский художник, большой мастер, который никогда не занимался политикой. Я убеждена, что все, что с нами происходило — результат целенаправленных действий, в результате которых у нас нет выбора: либо смерть, либо работа здесь!
В наше время, в XX веке Андрей прославлял русское искусство. И ему в XX веке отказывают в воссоединении с сыном и старухой, нуждающимися в опеке. Наверное, жизнь здесь окажется для нас еще тяжелее — мы приехали не в “западный рай ” — до последней минуты мы надеялись, что страшный шаг, на который нас вынудили, не станет испытанием для нашего сына, но, увы!
И я прошу сейчас каждую мать откликнуться на зов своего сердца — пусть посмотрят на своих детей, которые с ними!
Но мы должны предупредить, что, если и дальше этот конфликт будет продолжаться, то мы тоже будем предпринимать соответствующие действия. Хотя мой муж гораздо больший патриот России, чем все вместе взятое окружение Ермаша...
Я не знаю, как мы переживем эту трагедию... Мы знали, что будет тяжело, но не так... Мы знали, на что идем, но мы не думали, что вся эмоциональная сторона драмы окажется для нас такой трудной!
Пресс-конференцию вел Максимов, поблагодарил вначале всех ее организаторов. Затем дали слою Растроповичу:
“Я не говорю, к сожалению, на итальянском языке, но бывал, в частности, в Милане много раз и привык изъясняться здесь на международном языке музыки — как сказал Толстой, музыка началась тогда, когда были исчерпаны слова...
Меня изгнали за пределы моей родины 10 лет назад, но тем не менее мне важно сказать, что я остаюсь русским. Я продолжаю болеть душою за мой народ и любить его. И когда сегодня мой народ в лице Андрея Тарковского теряет своего гениального режиссера, то я скорблю вместе со своим народом.
Прежде мы не были лично знакомы с Андреем Тарковским, но, очевидно, знали имена друг друга. Во всяком случае, еще в Париже мы посмотрели “Андрея Рублева ” и были потрясены силой этого режиссера. Но мы должны были бы посмотреть этот фильм нашего соотечественника у себя дома, на родине, хотя оказалось, что именно в Париже его посмотреть легче, чем в Москве! Когда-то я написал письмо в защиту Солженицына, что послужило поводом к моему изгнанию. В этом смысле по-своему показательны судьбы Шостаковича, Прокофьева, Ахматовой, Зощенко... Теперь настал черед Тарковского! Почему в нашей стране уничтожают таких людей ?! И ведь сегодня, на этой сцене, собралась не антисоветская группа, а великие деятели культуры моей страны. Если бы вы могли себе вообразить здесь, сколько советских людей останутся поклонниками режиссера Андрея Тарковского, сколько подпольных читателей остается в России у Максимова, сколько миллионов людей мечтали попасть на спектакли театра на Таганке присутствующего здесь сегодня Любимова...
Перед вами любимцы своего народа, и они хотели служить своему народу своим искусством на уровне, данном им Богом. Сегодня еще одна такая попытка окончилась катастрофой.
Уровень культуры нашего правительства так низок, что они были просто не в состоянии оценить подлинное искусство.
30 лет назад я был в московской Консерватории, когда в день ее юбилея, Сталин посетил ее в первый и последний раз.
Наше правительство полагает, что то, что ему непонятно, то плохо, невозможно и достойно только изгнания и запрета. Но вопреки каким бы то ни было запретам талант, данный Богом, не позволяет художнику остановиться.
Сегодня и сейчас мы с вами являемся свидетелями очередной огромной драмы. Дело в том, что несмотря на самое лучшее отношение к нам с вашей стороны, на которое только можно рассчитывать, положение русского за рубежом все равно в корне отличается от положения или ситуации, скажем, итальянца, работающего в Германии.
В Союзе художников вынуждают работать по указу и по приказу. Здесь, на Западе, мы вынуждены сами искать себе новое место, пробивать новое русло. Что же из этого получается. Любимов ищет свой театр — и находит его! Я нахожу концертные залы. Максимов находит своего читателя. Теперь наступает очередь Тарковского, и я уверен в том, что его талант, не имеющий себе равных в мире, тоже найдет своих зрителей здесь, на Западе. И, конечно, не случайно свой новый путь Тарковский начинает в Италии, стране величайших культурных традиций.
Я желаю своему великому другу успехов! И я уверен, что своими страданиями этот человек еще не один раз обессмертит свой народ!
Далее слою передали самому Тарковскому:
Я хочу сказать следующее. Может быть, в своей жизни я пережил не так много, но это были очень сильные потрясения. Сегодня я переживаю очередное потрясение и, может быть, самое сильное из всех: я вынужден остаться за пределами своей страны по причинам, которые хочу вам объяснить.
Более 20-ти лет я работаю в кино. Госкино СССР создало для меня такие условия, что в течение 24-х лет я сделал всего только шесть картин.
Говоря о том, что я сделал всего б картин, я объяснял всегда это свое “малокартинье” тем, что снимал зато всегда те картины, которые я хотел снимать, но я умалчивал о том, чего мне стоило добиться разрешения их снимать, каких стоило усилий всякий раз добиться утверждения своего замысла. На это уходило все время и все силы. Что это означает ?
В конце концов, я подсчитал, что в течение 18-ти лет я был вообще без работы и должен признаться сегодня честно, что у меня бывали ситуации, когда в кармане не было буквально пяти копеек на дорогу.
Это не означает, что все эти годы я бездействовал, но мой путь к фильму начинался с того, что заявки на него отклонялись. Если при этом учесть, что у меня большая семья, то такие простои стали буквально проблемой нашего выживания.
Официально мои фильмы расценивались, как высококачественные, но тираж их, от которого зависел мой доход, был ничтожен. То есть нарушался элементарный закон общения со зрителем, потому что интерес со стороны публики был огромен. И тем не менее прокат фильмов внутри страны был строго лимитирован при том, что на Запад фильмы продавались свободно и за крупные суммы...
Смею думать, что всеми своими картинами я принес некоторую пользу советскому кинематографу, как-то, в меру своих сил, поддержав интерес к нему. Но при этом ни один из моих фильмов не получил ни одной премии внутри Союза, хотя там их существует великое множество. Советским кинематографистам ежегодно пачками вручаются какие-то премии, которыми я не был отмечен ни разу, также точно как мои фильмы никогда не были представлены ни на одном внутрисоюзном кинофестивале.
Точно та^же с того момента, как Ермаш стал председателем Госкино, мои фильмы перестали посылать на международные фестивали, видимо, полагая, что они не достойны представлять советское киноискусство за рубежом.
Я полагаю, что по существу мне отказывали все это время в праве на работу. Можно, конечно, сказать, что за годы правления Ермашая сделал “Зеркало”и “Сталкера ”, но учтите, что всякий раз я получал работу после того, как обращался с письмами соответственно к XXIV и XXVсъездам КПСС. Судьбу этих картин решало только их вмешательство — так что, как говорят у нас, “от съезда к съезду ”. Но то, что касается лично председателя Госкино Ермаша, то он просто вычеркнул меня из списка трудоспособных кинематографистов.
Я мечтал иметь своих учеников в Советском Союзе. Мне предложили организовать свою мастерскую из шести человек, которые были мною отобраны уже после того, как их документы были утверждены к праву поступления отделом кадров Госкино СССР — не один из них не был принят затем государственной комиссией. То есть таким сложным образом мне снова было отказано в работе.
Мой 50-летний юбилей не был отмечен в прессе ни единой строкой точно также, как я не получил ни одной официальной поздравительной телеграммы от руководства, как это принято у нас по протоколу. То есть такого, как со мной, в Советском Союзе просто не бывает. Когда я был тяжело болен и попросил у Союза кинематографистов деньги на путевку в санаторий, то мне отказали, хотя я был членом Правления Союза кинематографистов СССР.
Мое положение стало просто физически-угрожающим. Однако Ермаш рассмеялся моему предложению уехать работать за границу.
Мне не дали слово на Съезде кинематографистов, проходившем в Кремле. А теперь еще эта история на фестивале в Канне.
Когда “Ностальгию ” итальянская сторона предложила в конкурс, то советское руководство официально выразило удовлетворение по этому поводу и высказало пожелание, чтобы я поскорее закончил картину. Директор “Мосфильма ” Сизов даже просил меня поторопиться к фестивалю. Я был воодушевлен и обрадован: наконец-то, как я понадеялся, мне все-таки удалось сделать что-то нужное для моей страны: естественно, я рассказывал в “Ностальгии ” о специфической для русского человека невозможности существовать вне России.
Но вдруг я узнаю, что настояниями советской стороны в жюри кинофестиваля в Канне введен Сергей Бондарчук, неприязнь которого к моим фильмам широко известна. Тогда в недоумении я позвонил в Москву: “Зачем вы меня губите? Ведь Бондарчук ничего не понимает”. На что Костиков заверил меня, что Бондарчук, напротив, “едет помочь вам ”.
Но теперь уже не для кого не секрет, как повел себя Бондарчук, будучи членом жюри — он, точно лев, дрался за то, чтобы “Ностальгия ” ничего не получила. А те премии, которые я все-таки получил, были выданы не благодаря ему, а вопреки его “стараниям ”. Случившееся я воспринял, как удар в спину, тем более болезненный, что он был нанесен своими.
Вся эта акция была воспринята мною, как наглядная демонстрация их позиции по отношению ко мне и к моему творчеству; такого режиссера, как Тарковский, для них просто не существует. Он вне поля зрения Госкино СССР.
Поняв это, я написал в Москву несколько писем с просьбой позволить мне здесь сделать “Годунова ” и “Гамлета ”, ежели там никто не нуждается в моих фильмах. Но для того, чтобы спокойно работать здесь, мне нужна моя семья в полном составе, я должен вывезти хотя бы младшего сына и тещу, которые нуждаются в нашем уходе...
Все это время я продолжал надеяться, что все-таки что-нибудь произойдет, то есть Ермаш переменит свою политику в отношении меня, то есть моя судьба будет решаться иначе. Но напротив, за это время я только еще яснее понял, что, вернувшись в Москву, я не получу там вообще никакой работы.
15-го июня и 23-го июля 1983 года я написал письмо зав. отделом культуры ЦК КПСС Шауро, но не получил никакого ответа.
24 сентября — письмо Андропову — когда он еще не был Председателем Президиума и Генеральным Секретарем. 6 февраля — второе письмо Председателю Президиума. Причем по закону они обязаны мне ответить, но никто не ответил ни разу!
26 сентября 1983 года — официальное письмо в Консульский отдел в Риме с просьбой продлить мне и моей жене срок пребывания за границей на три года и выдать паспорта на выезд сыну и теще. Даже на этот, вполне официальный запрос нет никакого ответа.
28 февраля этого года — я написал письмо Черненко.
22 мая передано письмо нашему послу в Париже Министерством Культуры Франции, так как “Гомон пучаствует в со-продукции.
Такое же письмо отослали нашему послу в Швеции мои шведские продюсеры, так как обеспокоены моим моральным состоянием.
Наш посол во Франции выразил удивление, что я кого-то ожидаю, хотя по советским законам, если ты выезжаешь в командировку за границу сроком более года, то имеешь право брать свою семью с собой. Я здесь уже полтора года, но моему сыну было запрещено выехать со мной. Моя жена является моей сотрудницей — так что ее выезд был необходим, но в Москве остались двое беспомощных людей. Это по крайней мере антигуманно.
Я много раз просил наше руководство пойти нам навстречу, опирался на хельсинские документы, но оказывалось всякий раз, что мы для нашего правительства как бы не существуем. Нас поставили в ситуацию, которая вынуждает нас как-то материализоваться, чтобы напомнить о себе и вынудить с нами посчитаться.
Для меня было ужасным ударом отношение ко мне Госкино — за что?За что они меня так преследуют, возникает вопрос?
Но второй удар — это отсутствие какого-либо ответа от нашего правительства. Они даже не сочли нужным ответить мне на мои законные просьбы, связанные с моим семейным положением. Если бы мне хоть что-то ответили, то я никогда не решился бы сделать то, что происходит сегодня.
Потерять родину для меня равносильно какому-нибудь нечеловеческому удару. Это какая-то месть мне, но я не понимаю, в чем я провинился перед советской культурой, чтобы вынуждать меня оставаться здесь на Западе?! Если у вас есть вопросы, то я готов на них ответить.
— Какие у вас планы? Собираетесь ли вы оставаться в Америке?
— Планов очень много, а что касается страны, то мы пока не решили. Главное для нас сейчас, это то, что мы поняли, что обратно не вернемся... Мне кажется, что на Западе всем все равно, соблюдаются ли хельсинские соглашения...
— Не лучше ли оставаться в России, чтобы продолжать борьбу?
— Я согласен с вами, если бы я был писателем, которому было бы достаточно иметь бумагу и карандаш. Но моя профессия требует огромных денежных вкладов, и я убежден, что здесь я успею сделать гораздо больше. Однако драма моя состоит в том, что советский зритель не сможет теперь вовсе увидеть моих картин. Только гениальный виолончелист, поехав на гастроли в Париж, сможет их посмотреть...
Даст Бог, мы еще успеем кое-что сделать. Я чувствую себя настолько оскорбленным, что возвращение для меня совершенно невозможно в моральном смысле. Когда я делал свой доклад в Римине, то был поражен массой собравшихся людей, кругом их интересов и духовной подготовленностью к проблемам, которые мы обсуждали. Я не политик, а художник, так что очень чувствую эти тонкости.
Следующий фильм я намерен снимать в Швеции.
Я, конечно, вернусь к выступлению Аццрея, которое звучит сегодня таким по-детски беспомощным и обиженным. Это то, что давало повод написать западным журналистам, что Тарковский остается лишь потому, что ему в России мало платили. Все остальное им было абсолютно непонятно...
А пока несколько слов Любимова и Максимова:
Любимов: Самое странное и горькое, прозвучавшее для меня в этом выступлении — это глубокая незаживающая рана режиссера, этот список обид, которым он подвергался. Мне, как его коллеге, обидно, что он с горечью говорит о ранах сердца, нанесенных бесчисленными мелкими чиновниками, не дававшими ему работать.
Я убежден, что культурная политика моей страны должна быть изменена. Ия взываю, найдутся ли разумные люди в нашем отечестве, чтобы вернуть ему сына?!
Тарковский: Я буду требовать ребенка любыми способами. Это чудовищная позорная ситуация, и я готов на самые крайние меры... (какие еще? — так и хочется спросить сегодня — О. С.)
Растропович: Я могу с уверенностью сказать следующее: если мы имеем дело с художником или произведением мало-мальски талантливым — можно быть уве-репным в том, что они вступят в конфликт с начальством. И чем ближе окажется это творение к совершенству, тем невыносимее покажется оно нашему руководству. Я не берусь определить, что это означает, но за этим кроется нечто в высшей степени многозначительное. У нас в Советском Союзе разрешена только одна форма искусства — это соцреализм, то есть прославление советского правительства в доступной ему форме.
Любимов: Можно ли что-нибудь изменить без полного исчезновения советской власти?ПослеXXи XXIIсъездов можно было создать мой театр, издавать “Новый мир ” и тому подобное... Но потом... Потом они решили даже сами составлять программы для Растроповича, каково ? И он, конечно, не мог на это пойти и с этим согласиться...
Тарковского снова спросили о том, в какой стране он собирается оставаться жить, на что он ответил: “Я сейчас подобен человеку, который только что потерял кого-то самого близкого, а меня все время спрашивают, на каком кладбище ты собираешься его похоронить. Позвольте мне немного подумать, отойдя от этого кошмара ".
Максимов начал свое выступление с рассказа об актере Льве Круглом, эмигрировавшем из Союза: “Он ничем там не был обижен. Ему было 50 лет, и он понимал, что здесь его ничего не ждет. Но когда его спросили, зачем все-таки он на это решился, то он ответил: “Еще немножко и я бы задохнулся — там нечем дышать ".
Тарковскому снова задают вопрос о гражданстве в связи с США:
Америка возникла как один из обрывков наших мыслей. Что касается пресс-конференции в Милане, то не я избрал этот город, а город избрал меня.
Что же касается следующей картины, то пережитое несомненно ляжет в ее основу краеугольным камнем, но не в буквальном смысле, как это было в “Ностальгии ”. Это будет картина о личной персональной ответственности за все, что происходит вокруг нас и на наших глазах. Все прячутся за политику, но каков смысл того, что делает каждый человек, каков смысл нашей жизни...
Вы спрашиваете меня о Сахарове — ну, что можно сказать об этой уникальной фигуре!
Итак, выступление состоялось 19 июля. И, Боже мой, как молоды, наивны и беспомощны мы были тогда, нисколько не понимая реальных взаимоотношений искусства, государства и политики на Западе или в Америке...
Тогда нам показалось странным, что многие журналисты, подводя итог конференции в Милане, писали, что Тарковскому мало платили в России. Но в этом смысле была также очень показательна моя пресс-конференция в Роттердаме, когда разговор зашел о Тарковском без него, и я стала рассказывать о его страданиях в России и сложностях отношений с Госкино...
— Так кто же давал деньги на постановку его картин? — спрашивали меня голландские журналисты
— Госкино, — отвечала я.
— А кто же запрещал его картины? — следовал недоуменный вопрос.
— Госкино, — отвечала я вновь к полному и окончательному недоумению аудитории.
Конечно, я пыталась потом объяснять всю эту ситуацию, распутывая клубок сложных взаимоотношений всех со всеми в Советской России на разных идеологических и бюрократических уровнях. Но практичным голландцам все равно оставалось неясным, как можно давать деньги на фильм, чтобы потом его запретить...
Перечитывая сегодня выступление Тарковского, и, конечно же, зная все, что он пережил в России, не покидает в то же время ощущение некоторой неловкости от нашего общего непонимания того, насколько мало мы были образовая ы и насколько оболванены доступной нам антипропагандой.
Если перейти на понятные сегодня термины, то надо сказать, что Тарковский создавал не коммерческое, а авторское кино, на которое всегда было сложно получить деньги, а с течением времени становилось все сложнее. Тем более такие немалые, какие получал Тарковский на сложные постановочные проекты. Но ему и нам казалось, что мало! Давайте больше! Не вникая в подробности всего вышеизложенного, возникает ощущение, высказанное Сталкером в отчаянии безверия: “Они хотят, чтобы каждое движение их души, было оплачено”. “Они” — к ним, увы, в итоге присоединяется совершенно сбитый с толку сам Тарковский. О чем он говорит? Мало платили, долго пробивал, нечем кормить большую семью, хотя все же не бедствовал...
“За 24 года я сделал всего 6 картин”. Нас, русских, советских, это потрясает, потому что мы знали его другие замыслы и намерения. Но... Рано умерший Виго сделал 2-3 картины, а “Ноль за поведение” был запрещен цензурой на 12 лет... Сколько неприятностей, помимо славы, хлебнул Орсон Уэллс со своим “Гражданином Кейном”... Как постепенно все больше крупных европейских режиссеров были вынуждено искать работу в Америке, если хотели зарабатывать деньги..ГА если не хотели, то при чем тут бассейны?.. И уникальная судьба Феллини в его родной стране? Или Бергмана, который, работая всю жизнь как юл, частенько тоже жил впроголодь. Читай его “Латерна Магика”... Но мы этого не знали и не были приучены отвечать за себя и за свой выбор сами в полной мере, как это происходит в “цивилизованном” мире...
Конечно, Тарковскому было очень трудно именно потому, что мы жили, не оглядываясь, в своих условиях и имели свою ценностную шкалу... Но до какой же степени все мы, следуя Ларисе Павловне, заморочили ему голову жаждой признания и успеха, выраженного в денежных знаках... Мне кажется, что он от этого заболел, чувствуя все время свою неизгладимую вину перед семьей за материальную несостоятельность, которую ему, конечно, внушала Лариса. Она точно “поставила” на него в расчете на Славу и Деньги. Но за такое кино, которое делал Тарковский, все и везде борются, и ничего на получают на блюдечке с голубой каемочкой. Или бросают себя на жертвенник чистого искусства, или служат за деньги государству и широкой публике. А нам, глупым, казалось, что можно и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Но не бывает так — вот в чем дело. Либо-либо.
А вся история с Тяпой, который в конце концов ради высокого искусства был все-таки брошен не столько отцом... сколько матерью. Тарковский говорит о том, что “выезд его жены был необходим только потому, что она была его сотрудницей”, но я уже писала до какой степени это не соответствовало действительности. Чем она могла ему помочь в Италии без языка и без профессии, кроме моральной поддержки, если таковая была еще нужна, учитывая его роман с До-нателлой...
Выезд Ларисы, если говорить о строгих советских законах, был абсолютной роскошью, которую Андрею либо подарили, либо... соорудили с соответствующими намерениями во время ее бесконечных визитов в Первый отдел Госкино... Тем более, что она совершенно не торопилась выехать, прекрасно проводя время с Араиком... Скорее даже оттягивала поездку...
Тарковский умер, не меняя советского гражданства, или, во всяком случае, не попросив нигде политического убежища, только недоумевая, за что его, такого далекого от политики, травят? Но Ларисе уже после его смерти досталось звание почетной гражданки Франции вместе с соответствующей этому званию пенсией. А он, бедный, судя по его дневнику, с горечью начинал только догадываться, что авторское кино с трудом пробивает себе дорогу и на Западе тоже. А уж тут можно с уверенностью сказать, что он был мучеником своей идеи и другого кино делать не умел и не хотел. Но хотел денег. Вот в чем проблема!
Возвращаюсь в Италию 84-го года — мы расставались встревоженными, взбудораженными... и удовлетворенными, полагая, что дело сделано, и Тарковские уже перевалили через очень крутой перевал, за которым все будет яснее и ровнее...
Наша следующая встреча состоялась в Лондоне, когда в церкви StJames’s на Piccadilly Тарковский рассказывал об Апокалипсисе в рамках фестиваля. Снова и снова вел переговоры о действиях, которые следует предпринять, чтобы заполучить Тяпу с Анной Семеновной. А еще мы договорились о том, что я вместе с мужем и детьми приеду на шесть недель в Сан-Григорио, чтобы рядом с Андреем дорабатывать книгу, с которой нас продолжали торопить...
“Жаль, конечно, — сказала я, — что из-за детей не удастся Диме даже Рим показать. Все-таки для одного дня вместе с ними дорога не ближняя...”
“Да, ты с ума сошла! — сказала Лариса. — Я так соскучилась по твоим детям. Да, я счастлива буду с ними посидеть. Конечно, съездите в Рим и не раз. А поселю я вас в монастыре. Это недорого. К тому же будут кормить, а дороги от монастыря до нас — красивой, в горах, между оливами — ну, километра два”...
Как здорово! Я снова была счастлива! Только Бертончи-ни вела себя несколько странно. Все время обещала меня внести в договор по просьбе Андрея, но не вносила. Я даже попросила Мартина, работавшего с Андреем в Роттердаме и прекрасно владевшего немецким, поговорить с ней на ее родном языке. Она очень удивилась, ответив ему: “Я не понимаю, о чем Оля все время волнуется? Мы что же не соображаем, кто реально пишет книгу и от кого мы получаем материал? Пусть успокоится да поторопится”.
Я была вынуждена успокоиться снова, тем более, что Натан Федоровский, как мне теперь уже точно сообщила Лариса, пламенный возлюбленный Бертончини, тоже несколько раз звонил мне с заверениями, как ждут меня вместе с Тарковским на кинофестивале в Берлине репрезентировать книгу: “Оля, учтите, что вы уже внесены в компьютер как желанный гость”. Как было мило с его стороны, и грядущее торжественное путешествие с Тарковским на Берлинале приятно освещало будущее...
Из монастырской кельи
Интересно, что мы, вылетая из Амстердама, и Тарковские, вылетая из Лондона, прибыли в Рим почти одновременно, чтобы общей ватагой направиться из аэропорта в Сан-Григо-рио. Но, не успев встретиться, я почувствовала, что Андрей не очень приветлив и как будто бы чем-то недоволен. Интересно, что даже на моих крошек, одного из которых он вовсе не видел раньше, он почти не реагировал
Я спросила, как водится, Ларису — а что это, собственно с ним? Получив от нее довольно обескураживающий ответ: “Андрей действительно недоволен, так как он полагал, что Дима догадается привезти сюда его портрет, который, как вы знаете, ему очень нравится”. Я прямо-таки взвыла. Они что? Совсем сошли с ума? И когда это портреты художников принадлежали изображенному на них оригиналу? Правда, помнится, что, обсуждая конструкцию будущей каминной комнаты их будущего особняка в Сан-Григорио, мы прикидывали, на какой стене будет висеть Димина работа. Но... Это были как бы мечты... Да, и особняка пока не было также, как не было стен, годных для того, чтобы вешать на них картины... И, как бы о само собою разумеющемся “подарке” речь тоже не шла...
“Лар, да вы что? — лишь пробормотала я с удивлением. — Да, как вообще-то мы могли привезти эту работу размером 3 на 2 метра? Да еще с двумя детьми летели? Нам даже в голову не пришло”...
“Ну, что я могу тебе сказать? Ты спрашиваешь, чем недоволен Андрей? Я тебе объяснила”.
Вот тебе и первая “ласточка”!
Высадив Андрея около их квартиры, мы с Ларисой поехали дальше в монастырь, о котором пока не имели никакого понятия. Когда же мы туда приехали, то трудно преувеличить охвативший нас восторг, вовсе сгладивший неприятное впечатление от первой встречи с напряженным и неприязненным Андреем.
В Ларисе тут же и, как обычно, взыграло ретивое. Надо сознаться, что последнее время все чаще случалось, что Андрей, как будто давил своим присутствием, а потому мы все вздохнули с некоторым облегчением. Так что, пока мы добирались в наше монастырское убежище, Лариса рассказывала нам, какое потрясающее вино делается там монахами.
Был уже достаточно поздний вечер, встретил нас в этом монастыре внешне вполне светский человек, милый, прелестный и доброжелательный, который оказался настоятелем и которого Лариса называла “падре Эларио”. Нам показали две огромные смежные комнаты с чисто выбеленными стенами, которые предназначались нашему семейству. Детей уложили спать, а мы тут же загуляли с “падре”, который явно поддался чарующему шарму “сеньоры руссо”... Ощущение, что мы попали в рай, становилось все более захватывающим...
На следующее утро, оглядевшись при солнечном свете окрест, мы и вовсе возрадовались предстоящей жизни. Монастырь стоял в горах, окруженный цветами, виноградниками и прочими огородами и садами. И вообще там как-то легко дышалось. Справа от входа в дом, чуть в стороне была площадка, с которой открывался чарующий вид на горы. Там же стоял стол, сидя за которым вечерами, можно было видеть в дальнем далеке мерцающие огоньки то ли Рима, то ли Тиволи...
Кроме падре в монастыре обитали только еще двое монахов, постоянно трудившихся, то возделывая сад, то готовя в огромной кухне замечательные итальянские блюда. Три раза в день монастырское пространство оглашалось многообещающим призывом: “Ольга! Димитрий! Мацджаре! Манджа-ре!”, то есть, приглашение к столу.
Кроме нас, случайных заезжих мирян, в монастыре гостил еще один монах, не расстававшийся с четками и молитвенником. Падре и он любили занимать нас и детей длинными и очень выразительными рассказами на итальянском языке, полными изумительных интонирований и жестикуляции, только усилившихся нашим беспомощным “но пья-чо!”, то есть “не понимаем”. Но это им совершенно не мешало, и постепенно каким-то образом мы не только научились понимать их бесконечные истории, но даже каким-то образом рассказывать и свои собственные...
Одного из монахов — с простым выразительным крестьянским лицом и сильно искалеченной рукой, которой он умудрялся мешать толстой палкой варево на кухне — мой муж очень хотел изобразить в живописном портрете. Но он категорически отказался позировать не только для портрета, но даже для фотографии, полагая себя слишком малым и никчемным для такого внимания...
Все это было дивно. Хотя...
Как известно, рай на земле обманчив, и не следует доверяться его видимости. Никогда не забуду, как я решила взглянуть на детей, мирно спящих в дальней комнате, и увидела на белой стене рядом с кроватью старшего сына странное крупное насекомое, показавшееся мне угрожающим. Я замерла, крикнув мужу, чтобы он бежал к монахам...
“Это скорпион”, — достаточно меланхолично констатировал наш скромный монах, снял ремень, подпоясывающий его темную рясу, и мгновенным точным ударом жахнул по этому чудовищу... А затем объяснил, что эти “райские” создания любят сидеть около электрических выключателей, и посоветовал нам на будущее быть внимательнее, включая свет. Я была в ужасе! Но меня заверили, что в это время укус не опасен для жизни... Потом я иногда видела, как тот же монах, придирчиво оглядывая стены, производил ту же операцию по изничтожению этих опасных созданий Божьих... Но и это как-то стало привычным... Живут же они здесь...
Впрочем моему семейству предстоял отдых, а мне еще и работа рядом с Тарковским. Так я думала. Но... Встречи с ним носили к моему немалому удивлению вполне спорадический характер. Зато Ларису мы видели достаточно регулярно. Ее радостные и приятные для нас посещения я назвала: “итальянский полдень”. Потому что всегда вместе с ней, с Димой и падре мы усаживались в беседке, нависшей над горами, скрываясь от горячего летнего солнца, закусывая виноградом и персиками дурманящее домашнее вино... Иногда добавлялись виски... И, щурясь на все пронизывающее солнце, Лариса снова мечтательно повторяла: “Солнце — мой Бог!” Загорала она ровно, красиво, и загар ей очень шел.
Часто мы провожали ее обратно или, по договоренности, заваливались к ним с утра с детками и, загорая в их саду, все еще нетронутом реконструкцией “чайного домика”, поливались водой из-под крана... Конечно, мы видели при этом Андрея, но встречи эти не носили какого-то специального запоминающегося характера... Разговоры крутились вокруг одних и тех же тем нашего будущего на Западе, оставленной позади Москве и драматических осложнениях в получении Тяпы и Анны Семеновны.
Интересно, что столько лет спустя, совсем недавно, я спросила своего старшего сына Степу, которому тогда было шесть лет, помнит ли он свои встречи с Андреем в Италии. Его ответ мне понравился, давая точный образ Тарковского того периода: “Нет, мам, я его не помню. Вернее я помню всегда закрытую дверь в его комнату и то, как нам не разрешали его беспокоить. А если мы пробирались туда, то я помню скорее какое-то огромное одеяло на его постели, за которым его было совсем не видно”...
Впрочем, иногда он тоже приходил к нам в монастырь вместе с Ларисой, ужинал и выпивал с нами за общей трапезой...
Пятого августа мы вместе праздновали у нас день рождения моего младшего сына Павлика. Ему исполнялось три года. Но ничего специального тоже не запомнилось, хотя вечер был радостный! Наши гости Тарковские доползли до нас по горной дороге к вечеру, очень чинные и соответствующие торжественности момента, который отмечался все в той же беседке.
Лариса как будто бы позабыла о своем намерении посидеть хоть денек с нашими детками, чтобы я могла показать мужу Рим, ее слова и обещания так часто расходились с делом, что я, хотя и раздражалась, но снова принимала ее такой, какой она была. Зато она не отказывала себе в удовольствии прокатиться на автобусе вместе с нами и детьми в Тиволи, что было тоже приятно...
Нам пришлось справить еще один день рождения. Но не такой радостный. И всего через пару дней... Если точно помню — 7 августа...
Этот менее веселый праздник был днем рождения Типы, которого с нами не было. Но мы сидели все вместе в маленькой комнатушке Тарковских за праздничным столом, на который Лариса поставила лишний прибор, символически предназначавшийся их сыну, которого хотелось увидеть скорее, скорее и еще нестерпимее скорее...
Что же касается работы над книжкой, то за все время я только показала Андрею перепечатку с ленты его текста “Заключения” как первоначальный материал для его дополнений и замечаний. Ему снова резко не понравилось. “Ты не работала над текстом. Что это за фраза?” — говорил он, подчеркивая несколько предложений.
“Но, Андрей, — попыталась я объяснить, — я дала вам не готовый текст, а только сырье для ваших поправок”. Но, как и прежде, вослед негодованию никакой конкретной работы не последовало. Я была в некотором недоумении. Для такой, так называемой “совместной” деятельности, мне можно было спокойно оставаться в Амстердаме...
И тут появилась...
Лиса Алиса без кота Базилио
Лариса сообщила, что в Сан-Григорио едет из Берлина Бер-тончини, чтобы уточнить для своего немецкого издательства иллюстративный ряд будущей книги. “Издательство ей полностью оплачивает всю дорогу. Хотя сюда она едет собственно только на один день, так как потом направляется через Рим в Тоскану. Ведь ее бывший муж и отец ее дочери итальянец. Поэтому у нее итальянская фамилия. В Риме она останавливается в квартире своей бывшей свекрови, которая сейчас в отъезде. А в Тоскане ей достался дом ее бывшего супруга. Но сейчас она так влюблена в Натана Федоровского! Ну, бешеный роман!”
Это меня не слишком волновало, но я обрадовалась, что смогу еще раз и уже в присутствии Андрея, наконец, завершить наши договорные дела. Лишь бы не пропустить ее, хотя Андрей сразу сказал, что мы встретимся втроем...
Но, почти не задержавшись в Сан-Григорио, мадам Кристиана Бертончини появилась в нашем монастыре собственной персоной. Тарковский не был расположен работать с ней немедленно и попросил ее задержаться до завтра. Так что вечерком, на закате, мы присели с ней в той же беседочке и начали длинный разговор, затянувшийся затем дня на три-четыре. Главным образом мы выслушивали романы Бертончини со всей знаментой мужской половиной русской эмиграции. Заговаривая много раз о Федоровском, Кристиана после каждой рюмки все более мечтательно вздыхала, доверительно сообщая нам, что она “переживает с Натаном общую горча-ковскую грусть — ах, Боже мой! — так ему свойственную”...
Но когда на фоне романтических воспоминаний я попыталась вклиниться с проблемой договора, то Бертончини снова пристыдила меня теми же словами: “Оля, ты так онемечилась! Ты все время говоришь о деньгах”. И мне не оставалось ничего другого, как устыдиться, замарав прозой жизни, романтику высокой любви и сладостно-горьких чувств.
Но Тарковский не торопился общаться с госпожой Бер-тончини, так что наши совместные посиделки как с Ларисой, так и без нее, затягивались снова и снова. Кристиана была уже сильно раздражена: “Странно все-таки. Ведь я ехала на один день. Даже смены белья не взяла или лишней кофточки при такой-то жаре...” На что я ей отвечала: “Ну, вот, теперь можешь себе представить, что такое работать с Тарковским. Если не съемки, то все зависит от его настроения. Я вот, как видишь, сижу за машинкой все время и тоже рассчитывала здесь с ним по поводу книжки побольше пообщаться, но, увы, он не настроен”...
“Да. Это ваши русские капризы”, — резюмировала Бер-тончини.
В разговоре я мельком заметила, что к сожалению не могу показать своему мужу Рим, так как за один день автобусом с детьми не обернуться. На что Кристиана гостеприимно предложила нам поехать вместе с ней в Рим на такси, так как оно все равно оплачивается издательством, а там, дескать, мы переночуем в квартире ее свекрови. А утром она поедет в свою Тоскану, а мы, посмотрев хоть немного Рим, вернемся в Сан-Григорио. Я была счастлива и безмерно ей благодарна.
Так как в монастыре Бертончини делать было абсолютно нечего, особенно по вечерам, то приходилось засиживаться с ней допоздна все за теми же, то есть все новыми бутылками. Но у меня была работа и дети, которые вставали рано. Так что я попросила Диму составить ей компанию. Во-первых не бросать же даму одну, попавшую, как кур в ощип, а во-вторых из чувства простой благодарности за ее щедрое предложение посодействовать нам в нашей поездке в Рим...
Ночью сквозь сон я отметила, что Дима вернулся часов в пять утра в большом подпитии. Так что с утра не мог рано встать и чувствовал себя скверно... Мы с Кристианой и детьми побрели нашей горной дорогой к Тарковским, но не работа с Маэстро ожидала нас, а новое времяпрепровождение с Ларисой в солнечных лучах и благодатной тени все того же садика...
Вечером я снова попросила Диму составить компанию Бертончини, хотя он и пытался сопротивляться. Я была неумолима: “Как тебе не совестно?! Ведь она предлагает ТЕБЕ увидеть Рим, а не мне! Я его видела тысячу раз. А тебе трудно посидеть с ней в этой глуши? Ну, что же делать, если Андрей не удостаивает ее внимания?..”
Ситуация повторилась, но в новой вариации. Часа в два ночи безмятежный сон вдруг покинул меня, и я обнаружила, что Димы все еще нет дома. Вдруг мне все это резко не понравилось, и какое-то неясное подозрение отчетливо шевельнулось в моей голове, еще не оторвавшейся от подушки.
Накинув халат, я быстро спустилась вниз по лестнице, но, выбежав на улицу и туг же взглянув на беседку, я не заметила к счастью ничего предосудительного. Две фигуры сидели все за тем же столом, заставленным стаканами... Тем не менее у меня были все основания для раздражения: “Извини Кристиана, но Диме нужно спать. Он не может сидеть каждый день до пяти утра. Потом — ты же видела — он не в состоянии встать рано, а я должна работать и заниматься детьми”... Кристиана попыталась мне вяло возражать, но это уже не имело смысла, и Дима, понятно, без разговоров пошел домой, ворча по дороге: “Я же тебе говорил, что мне будет трудно уйти... И вообще неохота... Но ты же требовала, как всегда...” Да. Именно мне принадлежала эта замечательная идея и возразить было нечего...
На следующий день Андрей выразил наконец желание встретиться с Бертончини. И со мной соответственно тоже, так как я все же занималась этой книгой. Разговор наш начался с того, что Андрей сказал Бертончини: “еще раз прошу — разберитесь там с этим договором с Ольгой”. “Конечно, Андрей, — смиренно отвечала Бертончини. — Все будет в порядке. Нет никаких проблем”. А я еще раз убедилась в своей излишней назойливости. А далее Андрей высказал Бертончини свои соображения по поводу оформления книги, которые она пыталась записывать за ним. Через несколько минут он сказал: “Кристиана, почему это ты делаешь? Пусть записывает Ольга. Она все знает и привыкла работать со мной. Мне легче ей объяснять. Кроме того, она, очевидно* поедет в Берлин отбирать кадры и фотографии... У меня для этого не будет времени”...
“Оля, мы тогда договоримся с тобой, когда нужно будет приехать”, — сказала мне Кристиана, передавая свой блокнот, где я продолжила записи...
После этого свидания мы могли бы наконец-то уехать с Кристианой в Рим. Но отъезд сильно осложнился, так как выяснилось, что Лариса Павловна, оказывается, тоже отпросилась у Андрея на несколько дней отдохнуть с Бертончини в ее доме в Тоскане, то есть выезжает вместе с нами...
Это было для меня не слишком радостное событие во-первых потому, что машина оказывалась набитой битком, а во-вторых нам было дорого время, тогда как Лариса тут же отложила выезд на вечер, который тянулся до бесконечности. Было ясно, что мы с Димой, связанные детьми, уже не погуляем по вечернему Риму. Не говоря о том, что мы ехали в нежилую квартиру, то есть нужно было еще где-то поужинать.
Забросив вещи в эту квартиру уже поздней ночью, мы все потащились в ближайшую забегаловку, но тут зазвучал Ларисин голосок: “Кристианушка, ну, мы, конечно, с тобой здесь есть не будем. Пойдем в какой-нибудь ресторан”...
Я внутренне чертыхнулась — это после всех обещаний “с радостью” посидеть с нашими детьми, чтобы отпустить нас в Рим, который она знает наизусть. Получив ключи от квартиры, мы попрощались с нашими дамами у подъезда и поплелись наверх укладываться спать...
Но не успели мы переступить порог дома, как услышали звонок в дверь. Это была снова госпожа Бертончини. “Дима, — обратилась она к моему мужу, — Лариса просила передать, что она просит тебя сопровождать нас ночью по Риму”.
“Что-о-о?” — завопила я тогда.
“Нет-нет. Я ничего не знаю, — залепетала Кристиана, — это Лариса просила”. Она делала точно такое же ударение на имени Лариса, какое Лариса делала, ссылаясь на имя Андрея. Но в тот момент мне почему-то не было смешно и я решила поставить точку: “Мало того, что из-за нее мы потеряли день, она желает теперь заполучить еще моего мужа на ночную гулянку, после которой он будет не в силах оторвать голову от подушки... То есть завтра нам будет уже не до Рима. Она что, совсем с ума сошла?”
“Но Лариса просит, потому что по ночному Риму женщинам без мужчины ходить не принято”, — неуверенно продолжала Бертончини, вопросительно поглядывая на Диму. “Ну, что я могу сделать? — замямлил он. — Ольга не разрешает”... Я была вне себя и набросилась на него: “Ольга не разрешает?” Это что за ответ? Ольга тебе не разрешает”...
Не успели мы опомниться, как в квартиру влетела разъяренная Лариса Павловна, за которой едва поспевала Бертончини, влетела такой, какой она мне запомнилась на Звездном бульваре с воплями “варенье забирать?” Только на этот раз ее “колбасило” по поводу такси, которое она требовала немедленно к подъезду. Вызов этого такси сопровождался базарными воплями мадам Тарковской, рассчитанными на наш слух.
Затем они урулили в ночной Рим без мужчины, а мы ненадолго погрузились в сон, который был прерван поздним возвращением наших дам домой. Дверь в нашу комнату была закрыта, но Лариса сделала все, чтобы мы проснулись, безудержно хохоча и громко что-то рассказывая.
Тут я поняла одно — для меня это разрыв навек. Я просто не могла ее видеть.
Утром мы быстро собрались. Вышли на улицу вместе с Бертончини, которая сделала для меня копии страниц своей записной книжки с замечаниями Тарковского, записанные мной, и мы своим семейством отправились смотреть Рим весьма бегло.
* * *
Вернувшись в Сан-Григорио, я затаилась с семьей и работой в нашем милом монастыре. Но ненадолго. Через день прибежал сильно взволнованный Андрей. “Дима, Ольга, — обратился он к нам. — Я ничего не понимаю. Куда девалась Лариса?
— Как куда? — удивились мы. — Ведь она поехала в Тоскану к Бертончини...
— Но она должна была уже вернуться или, по крайней мере, позвонить... Она не приехала и не позвонила... С ней что-то случилось... Что делать?
— Андрей, не волнуйтесь, пожалуйста, — постаралась я его успокоить. — Ну, может быть, почувствовала себя неважно. Может быть, там нет телефона...
Я знала уже наперед весь нехитрый набор тех “чрезвычайных обстоятельств”, которые ему будут изложены... Но тем не менее мои объяснения не успокоили его до тех пор, пока, наконец, Лариса ни позвонила ему сама, сообщив, что задерживается... так как “плохо себя чувствует”. Только тогда Андрей отчасти успокоился и стал появляться в монастыре почти каждый день. А меня прямо-таки оглоушили слова, которые, подвыпив, он неожиданно доверительно произнес Диме:
— Ты знаешь, я никогда не видел таких красивых ног, какие были у Ларочки, когда мы с ней познакомились, — сказал он, подмигнув Диме по-мужски заговорчески. — Поверь мне... Ведь я кое-что в этом понимаю... Но таких ног, как у Лары, я не видел никогда в своей жизни...
Так что из песни слова не выкинешь, и я снова поняла, что он ее любил... или любит еще... Боже мой, как это все странно — ахнуло у меня снова где-то внутри...
Но потом... Как он характеризует ее в образе Аделаиды, жены героя в “Жертвоприношении”, которая туалетом, прической, истерикой точно копирует Ларису Павловну. Вот где его месть:
“На протяжении почти всего фильма Аделаида являет собой весьма драматическую фигуру; эта женщина бессознательно душит все, что хотя бы в минимальном размере представляет собой индивидуальность или личность, противопоставлено ее авторитету.
Лара заявилась домой, а потом к нам в монастырь, как ни в чем не бывало... Понятно с рассказами: “Ольк, ты не представляешь, как плохо мне было с сердцем. Я там пролежала все дни, не вставая. Кристиане пришлось вызывать врача. Пришел молодой мужик и стал меня слушать... А потом говорит: “трусики опустите пониже”... Представляешь? Я ему говорю: “У меня сердце болит и при чем здесь трусики? Вы мне сердце слушать должны, а не ощупывать меня”... Ха-ха-ха... Но вообще симпатичный”...
Я не стала уточнять, на каком языке они разговаривали. В конце концов, Андрей тоже не ангел.
Домой... Домой с высоких гор... Немедленно приземлиться в голландских низинах!
Неожиданный эпилог
И вот я снова дома в Амстердаме и отсылаю по-прежнему Бертончини последние куски текста.
Андрей уже уехал в Швецию налаживать грядущую работу над “Жертвоприношением”, а Лариса почему-то оказалась снова в Тоскане в том же доме Бертончини, кажется в поисках нового дома для покупки.
Тем более, что уже к этому моменту был получен отрицательный ответ по поводу реконструкции купленного ими чайного домика, и те же документы закрутились в тех же инстанциях снова.
Было, наверное, уже в начале ноября, то есть курортный сезон кончился, и в таком местечке было пустынно и безлюдно... Звонила она мне в полной тоске: “Олька, приезжай, ради Бога! Ты не представляешь, как мне здесь тоскливо — один на один с теми же мыслями о Тяпе и маме... Все это будет длиться бесконечно... У меня больше нет сил, не могу больше... Ну, что я здесь сижу одна... Андрей-то уже там, в Швеции, весь в делах... Он-то занят, а я... Ну, приезжай, пожалуйста... Умоляю... Дорогу я тебе оплачу”.
Лишних денег на поездку у меня по-прежнему не было, а предложение Ларисы означало, что ей там очень плохо.
И я собралась. Как же бросить подругу в беде? Впервые мой муж попытался воспрепятствовать этой поездке: “Зачем тебе это нужно? Ты возвращаешься от них совсем сумасшедшей. Что ты с ней будешь там делать? Выпивать? Хватит уже. Достаточно”. Но...
Меня не удержишь. Какая-то странная сила снова влекла меня к ним, даже к ней —я снова представляла себе, как ужасно ей там сидеть одной со своими мыслями о ребенке, оставшимся так далеко...
Лариса сказала, что договорится о машине и будет встречать меня на вокзале. Я не имела понятия, о какой машине идет речь, но знала, что Лариса всегда найдет выход. А еще она мне сказала вдруг: “только учти, я не скажу Андрею, что ты ко мне приезжаешь”... Это было несколько неожиданно, но какая мне разница... Чего мне лишний раз разбираться в их делах... В конце концов, я снова ехала ей на помощь...
Вид Ларисы на вокзале показался мне удивительным. Передо мной возникла яркая дама с претензией на роскошь, в широкополой шляпе и с распушенными волосами, разбросанными по плечам... В приподнятом, несколько экзальтированном настроении... Она набросилась на меня с преувеличенными восторгами и театральными объятиями, и представила меня тут же двум итальянским синьорам. Один из них выглядел милым стариканом. Имени его я не помню. А другой — этакий молодой живчик, черноволосый кудрявый бесенок, невысокий, шустрый, представленный мне как Гаи-тано, был владелецем машины, которая меня встречала.
Лара была более чем оживлена и, когда мы подошли к хорошему дорогому Рено, она по-хозяйски заняла место рядом с Гаитано, предложив мне вместе с другим их спутником сесть сзади... Дорогой Лариса хохотала, что-то тараторила по-итальянски, что-то сообщала мне по-русски, из чего я поняла, что дома нас ожидает ужин, который замечательно приготовил... Гаитано. Ну, что же? Неплохо. После его отъезда наговоримся всласть.
Лариса успела сообщить мне по-русски, что с Гаитано она познакомилась через Кристианушку, которая позаботилась о том, чтобы ей было не слишком скучно одной. А Гаи-тано оказался потрясающим малым, обещавшим прокатить нас на своем замечательном Рено по всей Тоскане. Мне это тоже показалось очень милым, неожиданным и удачным жестом с его стороны — так что я еще раз отметила про себя, как быстро умеет Лариса находить нужных ей людей...
Потом она рассказала, что Гаитано архитектор или подрядчик (у Ларисы такие детали часто бывали неясными), который строит дома немцам, приобретающим в Италии землю. Поэтому его знает “прекрасная женщина Кристиануш-ка, которая мне сейчас очень помогает... Представляешь, что бы я здесь делала одна?”... Да-а-а, в такой ситуации Гаитано был, как минимум, полезной находкой, и я взглянула на него с еще большим уважением... “Кстати, хорошо, что ты отметила его машину... Новая... А итальянцы любят, чтобы их шик отмечали... А второй — это просто местный крестьянин и друг Гаитано... Кстати, если Гаитано тебя спросит, то скажи, что тебе 32 года”.
“Лар, но мне сорок, — удивилась я. — Зачем брехать?” Голос Ларисы раздраженно завибрировал: “Но я сказала ему, что мне сорок, а ты все-таки выглядишь помоложе”. Господи, какая все это глупость, подумала я, но, конечно, согласилась приврать, зная особенность некоторых женщин скрывать свой возраст.
Мы уселись за стол, приготовленный Гаитано, который украшали роскошные куски мяса, умело зажаренные им на гриле и благоухавшие итальянскими специями. Вино и виски, понятно, раздухарили всех нас, и Гаитано, взяв гитару, начал петь какие-то серенады на своем языке...
Ну, какой, право, милый, обаятельный, по-южному темпераментный человек. Тем более, что в какой-то момент я заметила, что его восторги вроде бы адресованы мне — и почему-то он заливался соловьиными серенадами как бы уже под моим окном. Я смеялась, шутила, но очень воспитанно выраженное ухаживание отвергла столь же воспитанно.
Тогда наше застолье огласилось импровизацией, частями доступной мне и означающей в переводе, что де “Ольга — гранде Бамбино, а Гаитано — гранде Критино”, не сумевший ее очаровать... Тут другой, не такой голосистый и не такой молодой Ларисин гость начал собираться восвояси, чего я уже ожидала и от Гаитано тоже. Но совершенно неожиданно для меня выяснилось, что он тоже оказывается ночует в доме у Бертончини, так как завтра мы уже начинаем наше путешествие по Тоскане... Выяснилось также, что дверь его спальни соседствует с Лариной дверью, но, верьте-не верьте, я тоже не придала этому какого-либо значения. Как я уже говорила, Лара всегда умела вовремя обзаводиться нужными людьми. А когда я была далеко, то Гаитано был, конечно, гораздо ближе, чтобы ее утешить... Вот и все...
* * *
Далее жизнь наша пошла каким-то райским образом. Без преувеличения. С утра мы завтракали, марофетились, загружались в машину и отбывали в новые местечки, которые Гаитано как местный житель, знал наизусть. В отличие от героя “Ностальгии” Горчакова мы безмерно наслаждались окружающими нас красотами, останавливаясь на ланч или на ужин в деревенских кабаках, где, как правило, все знали Гаитано, а Гаитано знал всех. За все платил он, и заметно было, что для него это наезженные маршруты. Это была снова неожиданная Лариса, которую, казалось бы, я знала наизусть...
Переступая порог очередного кабака, Лариса бежала к бару, как правило с тем же вполне риторическим вопросом, обращенным ко мне: “Олька, грапонем?!” (от “грапы”, итальянской водки). А затем, усаживаясь за столик, Лариса непременно снова сообщала Гаитано и его новым для нас итальянским знакомым, что ее муж Тарковский — “Гранде Ар-тисто!!!” На это заявление простые милые итальянцы восторженно и согласно кивали головами. Тем более, что в этой белокурой “сеньоре руссо”, в ее подчеркнуто-сценических движениях и театрально-приподнятом тембре голоса было, и как я уже говорила, что-то от голливудской дивы из “Сладкой жизни”...
Она снова была без Андрея, на свободе, и ее театр для “бедных” соответственно развивался по собственным законам, более им не стесняемый и не регламентируемый. Так что следом за “Гранде Артисто” мой муж неизменно оказывался “Гранде Питоре”. А когда, не выдерживая, я уточнила, что мой муж “питоре”, но не “гранде”, то Лариса воспользовалась своим обычным аргументом: “Может быть, для тебя, а вот мой муж — ГРАНДЕ артисто считает ее мужа именно ГРАНДЕ питоре”.
Ну, что можно было на это сказать, как “да не хай себе будет гранде питоре”? Жалко что ли?
Далее я почему-то превратилась в дочь московского министра, но и тут мои слабые возражения снова не принимались в расчет: “Олька, какая ты странная! Ты не представляешь себе, что для них означает “дочь министра”, а другого они не поймут!” Логика была неотразимой, а мне в этой ситуации оставалась роль безмолвствующего народа. Но все-таки один прокол я совершила.
После многочисленных поездок к Тарковским и жизни в монастыре я тоже стала многое понимать в бытовом итальянском и даже что-то произносить в ответ. В частности, болтая в очередном кабаке, я сказала Гаитано в каком-то контексте, что у меня есть голландский паспорт. Он никогда его не видел, и я тут же вытащила этот ценный документ из сумки, протянув ему посмотреть. В то же мгновение Лариса сильно двинула меня под столом ногой. Ничего не понимая, я подняла на нее вопросительный взор, на который последовал раздраженный ответ на чисто русском языке: “Ты что, нарочно? Не понимаешь, что он хочет посмотреть твой возраст? Я же тебя просила...”
Мама мия, я действительно не подумала об этом.
Продолжая наши “италианские” пиры по скользящему графику и ко всеобщему удовольствию, мы добрались до какой-то следующей деревушки. Там у Гаитано тоже был знакомый друг, естественно присоединившийся к нашему веселью и предложивший перебраться в его домик на собственное вино и какие-то грибы (по-ихнему, помнится “фунги”)...Мо-жет быть, уже закрывался кабак, так как время было позднее... А жена его была где-то в отъезде.
Нельзя было даже попытаться остановить Ларису на этом пути.
Помню, как мы шли за хозяином дома слегка заплетающимися ногами в сумерках по деревенской улице куда-то чуть в сторону, в гору, а Гаитано должен был подогнать туда машину. Помню, что Лариса громко вещала о своем “Грандо Артисте”, величии его проблем и грандиозности решаемых задач...
Все было, как обычно. Но теперь мы попали в скромное итальянское жилище, которое нам было тут же представлено на обозрение. Довольно тесная столовая — мне кажется с камином — и через дверь маленькая спальня с широкой супружеской кроватью. Мы уселись за стол. Хозяин поставил на него огромную пузатую бутылку. Мы выпили по очередному стаканчику, и речь снова пошла об обещанных “фунги”, которые Лариса жаждала немедленно приготовить по-нашему, то есть по-русски. Возбужденная этой идеей, которую она громко излагала мужикам по-итальянски, она поднялась, как-то витая, точно фея, вокруг стола, и очень выразительно произнеся в следующий раз слово “ФУНГИ!”, совершенно неожиданно исчезла за дверным проемом в спальне.
В молчании, подождав ее несколько минут, мы рванули к той же двери и... кто с удивлением, а кто (то есть я) и с ужасом обнаружили ее спящей мертвым сном на супружеской кровати хозяина дома. Честно говоря, чего-чего, но такого развития событий даже я никак не предвидела. Все происшедшее сразу нарисовалось в каких-то новых контурах. “Бе-е-ела синьора Руссо” в полной отключке находится глубокой ночью в кровати какого-то итальянского мужика, мне совершенно неизвестного в какой-то тьму-таракане... А я... бело-снежка... оставлена ею один на один с двумя какими-то как бы не гномиками... И вообще как-то в целом, что-то не то и... мало приятно...
Но... должна сказать... что “гномики” эти проявили по отношению ко мне верх порядочности... Мы попытались сначала продолжать разговор, но ночь уже близилась к утру, и последние силы отказывали... Тогда Гаитано предложил мне прилечь рядом с Ларисой, что я сделала очень осторожно, пристроившись одетой на самом краешке.
Едва я закрыла глаза в надежде поспать, как Ларису вновь подняла какая-то неведомая сила. Едва взглянув на меня, она вскочила как ни в чем ни бывало, мгновенно вылетев снова в столовую буквально с тем же словом “ФУНГИ”, с которым она так неожиданно нас покинула...
А я немедленно вскочила следом за ней в надежде попасть, наконец, домой... Но, не разобравшись толком в их итальянском разговоре, я вдруг оказалась свидетелем, как Гаитано влепил яростную пощечину жене “гранде Артисто”, отчетливо выговорив только два слова: “путана” и “стронце”... Я замерла.
Мне, правда, приходилось видеть Ларису пару раз со следами мордобоя после бурных застолий с законным супругом, но такое...
Лариса пришла в ярость, закричав Гаитано, что какой-то жалкий “кантодино” посмел поднять руку на “Гранде Синьору”. Но было, честно говоря, не до шуток. Я совершенно не поняла, какими собственно правами руководствовался милый Гаитано, произведя столь неожиданное действие. Мне показалось, что хозяин дома был удивлен не меньше меня. А еще более, чем мне, пришлось ему удивиться, когда Лариса потребовала от него немедленно вызвать ей такси, поскольку с таким ничтожеством, как Гаитано, она не может ехать в одной машине... ТАКСИ —требовала она! Но: “Карету мне! Карету!” — можно было легче представить себе в этой глуши, чем такси.
А я, оглядевшись окрест в пылу битвы за новые пути сообщения, сообразила, что Гаитано уже нет с нами, сообщив Ларисе с ужасом, что он куда-то исчез. На что она совершенно неожиданно спокойным и холодным голосом мне отвечала: “Да, прям исчез... Сидит на улице в машине”...
Выскочив тогда на эту самую улицу, я немедленно получила подтверждение ее словам. Сдержанный молчаливый Га-итано сидел за рулем. Я хотела быстро юркнуть на отведенное мне заднее место, но приказ появившейся тут же Ларисы не оставлял сомнений в том, что я должна занять ее царственное место рядом с Гаитано, а она сядет сзади...
Гаитано вообще водил машину с южным темпераментом, но теперь он был, хотя и молчалив, но грозен, и я обратилась к нему с мольбой не гнать его замечательное Рено по горным дорогам, напоминая, что у меня дома остались “бам-бины”... Надо сказать, что он внял моей мольбе, сбросив скорость и заверив по-джентельменски, что такую милую синьору, как я, он постарается сохранить для потомства... Мой диалог с Гаитано, поднявшим на нее руку, был расценен “предательством” — Лариса пылала гневом.
Лариса выглядела уже разбитой и угнетенной, а я, раздеваясь, подумала, что бросить ее так сразу одну не слишком гуманно с моей стороны — так что, накинув халат, я, как полная дура, поползла к ней. Но заглянув в ее комнату, я с ужасом обнаружила, что влезла к ней совершенно некстати: она, оказывается, “простила” Гаитано, ежели он оглаживает ее в постели прямо-таки полуобнаженную...
Томный голос Ларисы пояснил мне: “Олька, Гаитано мне помогает... У меня, видимо, очень высокое давление...”
* * *
Утром, еще до моего пробуждения, Гаитано отвалил по своим делам, а милая и снова такая домашняя Лариса примостилась в халатике у меня в ногах на постели, что-то воркуя, вспоминая и похохатывая... В этот момент раздался телефонный звонок... Телефон стоял рядом, и Лариса сняла трубку. Звонил, понятно, Андрей, потому что Лариса туг же начала кашлять. Каждое слово этого текста отпечалалось в моей памяти, как любимые строки классической литературы:
— Андрюшенька... (кхе-кхе) Что? Да, я себя плохо чувствую. Здесь так сыро (кхе-кхе). Кашель не проходит. Нет. (кхе-кхе) Ну, просто измучил, почти говорить не могу (кхе-кхе). Вы звонили? Ночью? Всю ночь? Не может быть... Значит опять телефон не работал...(кхе-кхе) Что это такое? Снова.... (кхе-кхе-кхе)... Что значит, где я была? (Замечаю, что голос сильно крепнет, приобретая наступательную интонацию.) А где я могу быть? Я сижу здесь целыми днями одна, как в пустыне. Никого нет. Одна в этом холоде (кхе-кхе-кхе), а вы (ха-ха-ха) звоните мне всю ночь? Конечно! Я сама вам звонила и лучше расскажите, где вы гуляли всю ночь? (и совсем безнадежно-укоризненно, бросая трубку с последней фразой): 1де вы были, Андрей?
Тут же раздается новый телефонный звонок, который встречает резкое ларисино: “Але! Да! Что вы еще от меня хотите? Нет. Нет. (кхе-кхе, кхе-кхе). Нет. Не знаю. Да. Да... (голос начинает смягчаться) Да? Хорошо... Ну, что вы, Андрюшенька... Конечно... Конечно, помню... Когда эта пресс-конференция-то? Ну, да, поняла... (и уже совсем кошечкой): Андрюшенька, но у меня ничего нет... Одно мамино старье... Что я там надену?...(кхе-кхе-кхе) А можно платьице от Мес-сони? А? Можно? Ну, хорошо! Спасибо! Куплю! (кхе-кхе) Ну, конечно, берегу себя... Я тоже так соскучилась...(кхе-кхе) Целую вас, Андрюшенька”.
И она положила трубку: “У нас ведь пресс-конференция в Париже по телевидению. Видишь как здорово: разрешил платье от Мессони купить. Помнишь один раз они мне сами подарили, когда мы там были. Я очень люблю эту фирму. Ой, как я соскучилась по маме, по Тяпке. Мне кажется, что без них я уже схожу с ума”...
Не знаю, как Лариса, но я уже точно сходила с ума. У меня было ощущение, как будто я заболеваю по-настоящему, до тошнотворного чувства... Какое счастье, что завтра я уезжаю. Нет, это невыносимо.
Впрочем, я еще рано радовалась своему отъезду. Влере-ди-то был целый день, который мы только начинали поздним завтраком на веранде-гостиной.
Вчерашнее происшествие как-то не обсуждалось. Разговор сначала зашел о книжке, которую я почти закончила и о грядущем Берлинале, где она будет представлена Бертон-чини, именуемой теперь только “Кристианушкой”. Хотя разговор к ней вернулся вновь совершенно неожиданным для меня образом и уже вне всякого контекста с книгой:
— Это такая удивительная женщина! Ты себе просто не представляешь. Это сама доброта. И этот дом, который она мне предоставила. И ее друг Гаитано, который меня здесь просто спасает. Вообще очень интересная женщина... А какая красивая, правда?
— ????????
— Что? Тебе не нравится?
— Лара, но как человека, я ее очень мало знаю...
— Но я говорю, что она красивая, правда? Ты согласна?
— Ну, с моей точки зрения совсем нет.
— Как нет? Ты не представляешь себе, каким успехом она пользуется у мужиков! И какие мужики! Она их здесь всех имела. И Гаитано тоже ее бывший друг. Неужели она тебе не нравится?
— Лара, но я ведь не мужик. В конце концов, дело вкуса, и что я могу тебе сказать по этому поводу...
— Нет, я все-таки не понимаю, почему она тебе не нравится?
— Лара, ну, старая расползшаяся дама, без подбородка, нос крючком... Ну что ты еще от меня хочешь?...
— Надо же?! А вот Кристианушка сказала, что у тебя не лицо, а какой-то блин невыразительный...
И тут вместо предполагавшейся ею обиды меня вдруг осенило:
— Лариса, а для чего ты сейчас устраиваешь очередную интригу?
— Знаешь, я вдруг все поняла. Ты сказала это, думая, что я огорчусь или разозлюсь на нее. Но это так по-бабьи! А потом — я теперь не сомневаюсь в том, что, добившись от меня ее характеристики, ты непременно сообщишь все это ей. Зачем? Чтобы нас поссорить? Для чего? И вообще у меня последнее время такое чувство, как будто ты меня к чему-то ревнуешь, к моей семье, родителям, образованию? Я не понимаю к чему? Тем более здесь, где все это вообще уже не имеет никакого значения. Лариса, чего ты хочешь?
Пока я все это говорила, на меня смотрели холодные и все более неприязненные глаза моей подруги Ларисы Павловны, которая меня уже попросту ненавидела, но, в конце моего драматического монолога она вдруг рассыпалась бисером своего чарующего смеха и, обнимая меня, еще раз произнесла свою коронную, неотразимую фразу: “Олька, милая моя, но ведь родственников не выбирают”... И...
Снова, как ни странно, я вздохнула опять с некоторым облегчением, полагая почему-то, что моя откровенность сблизила нас, и мне удалось немного очухаться, но ненадолго...
В этом своем состоянии я только успела перебраться от стола к дивану, принимая позу, соответствующую своему состоянию расслабления, когда Ларисин голос снова настиг меня заинтересованным вопросом:
— Олька, а почему ты не реагировала на ухаживание Гаитано? Ведь ты ему понравилась уже в первый вечер...
Я была ошарашена вопросом:
— Лара, я тебя снова не понимаю. Я знаю твои проблемы с Андреем. Но у меня с Димой этих проблем нет. Мы любим друг друга. У нас все в порядке. И, если у тебя свой способ отдыха от Андрея, который тебе компенсирует, как ты говорила мне, его недостаточность, то у меня этой проблемы нет. И никакой Гаитано мне лично не нужен...
Раздался звонкий и одновременно сочувственный смех:
— Ты думаешь, наверное, что он тебе не изменяет? А ты знаешь, как была удивлена Кристианушка? Как ей было неприятно, когда он так приставал к ней в монастыре... Ведь я так много рассказывала ей о тебе, о том, как ты уехала на Запад с двумя детьми, как ждала его... Она была просто поражена.
Туг, надо сознаться в глазах у меня потемнело. А перед потемневшим взором возник монастырь, те два вечера, которые я просила Диму посидеть с ней. Его нежелание это делать. А затем приглашение Диме сопровождать дам по ночному Риму. А потом память мгновенно отбросила меня еще дальше, к началу наших отношений, как они выглядели тогда. И тут, отчасти придя в себя, я четко проговорила:
— А вот это вранье. Это рассказ не про Диму и не про Бертончини. Потому что я помню, как Дима ухаживает за женщинами, и не могу себе вообразить, чтобы он на кого-то “лез”, как ты говоришь... Мне не раз приходилось видеть, как некоторые бабы проявляли к нему повышенный интерес, включая тебя. Это правда, но у меня никогда не было поводов волноваться. Поэтому я легко могу себе представить, как раз обратную картину, как Бертончини, по твоим словам, “лезла” на него, а я требовала, чтобы он развлекал ее в саду поздней ночью... Но после того, что она рассказывала о себе, дорогая Лара, ее блядский образ мне достаточно ясен, не верю, чтобы она так страшно сопротивлялась... Оберегая что ли мою семейную жизнь? Что же она не заботилась о жене Федоровского? Максимум, что могло произойти под ее напором в том саду, где они встретились, это поцелуи, но не более того. Диме, наверное, неудобно было отказать престарелой даме. Ясно?
— Да, пожалуй, ты права, — неожиданно быстро согласилась со мной Лариса.
На следующий день они вместе с Гаитано отвезли меня на вокзал, где мы расцеловались до следующей встречи, которая случилась еще только однажды, уже после смерти Андрея и спустя многие годы.
Вернувшись домой, я, конечно, устроила Диме страшный шухер, который, оправдываясь, восклицал: “Я же просил тебе не оставлять меня с ней. Этой пьяной дурой”.
— Но почему же ты мне ничего не сказал тогда? — требовала я его к ответу.
— А что я мог тебе сказать, когда мы все были в этом монастыре? Пожаловаться что ли, чтобы ты ей морду била?
Мне это казалось логичным, хотя успокоилась я не сразу, вспоминая, как он мямлил в Риме: “Олька меня не пускает”... Это как? Что за ответ?
— Но Лариса, сука, своего добилась. Я же говорил, чтобы ты не ездила туда. Она хотела тебя доконать и добилась. Ты же ничего не соображаешь. Ты еще только подумаешь, а Лариса уже просчитала, как это можно выкрутить для себя через пять лет. Нет, если так будет продолжаться, то все-таки придется ее убивать...
Но так больше не продолжалось...
Уехав с Андреем в Париж на пресс-конференцию, Лариса впервые не позвонила мне оттуда и не сообщила их телефон. Я хотела порадовать их, что последние страницы книги теперь уже отправлены Бертончини, и поторопилась узнать их телефон у Ирины Браун в Лондоне, которая его уже знала. Лариса сказала, что передаст Андрею эту замечательную новость, и они мне перезвонят.
Но все вернулось на круги своя, то есть к началу нашей западной жизни. Они больше никогда не перезвонили мне, и я больше никогда не видела Андрея. Единственное, чего я не поняла никогда, зачем она так настойчиво звала меня в Тоскану, даже оплатив мне билет. Зачем я ей там понадобилась? Для какой игры?
Так странно распорядилась судьба, начав и завершив мои встречи с Тарковским, этаким рондо, еще одним возвращением к началу. Во Владимире я познакомилась с Андреем через Ларису и мое отлучение от него произошло после последнего “тайного свидания” с Ларисой.
Так, очевидно, кому-то и зачем-то было надо.
Только телеграфная лента
А теперь настало время вернуться к началу этого не слишком веселого повествования. К первой главе этой книги, в которой изложены причины моего конфликта с Тарковским. Снова открыть чемодан с судопроизводственными бумагами по делу О.Сурковой против немецкого издательства “Ullstein” и госпожи Бертончини. Вернуться к последовавшим далее го-дам(!) жизни, проведенным в борьбе с “дружеским” наследием, оставленным мне моим обожаемым кумиром... Чемодан этот нагоняет на меня тоску и сожеление о том утерянном времени, которое никак не хотелось бы вернуть... Так что, собравшись еще раз с силами...
Многоуважаемые господа Тарковские просто взяли и скрылись с глаз моих в каких-то неведомых непроницаемых далях в тот самый момент, когда вся книга была, наконец, полностью и добровольно, под аккомпанемент обещаний передана не очень уважаемой мною г-же Бертончини...
Далее над сданной рукописью или надо мной, освободившейся от нее, зависла фигура умолчания. А я с годами тоже становилась девушкой все более гордой, чтобы гоняться непонятно за кем и за чем?.. Впрочем, все было ясно, но противно... и думалось о какой-то совести, которая, как я читала в книжках, в некоторых людях иногда просыпается...
В это время наш голландский издатель по имени Патрик узнал, что ему надо было доставать правку Тарковского, которой уже владела Бертончини, уверяя его по телефону, что книжка полностью переписана. А перевод текста, полученного ими от меня, был уже сделан Арьеном Аутерлинде.
Ну, что ж? — думала я, несколько обескураженная поступавшими известиями, — Андрей высказывал недовольство моей работой и решил, очевидно, наконец, все круто перелопатить. Я даже поверила в то, что это другая книжка, но, в конце концов, — утешала я себя: — я сделала для него всю черную работу, с удовольствием так или иначе собирала его мысли, даже согласилась без особых уговоров убрать свое имя с обложки, чем немало удивила английского издателя — так почему бы мне, в любом случае, не получить свою честно заработанную половину гонорара? Почему бы все-таки не отметить мой скромный вклад в его творение?
Но новый текст так и не поступал в Голландию. Бертончини продолжала морочить голову Патрику так долго, что, наконец, он был вынужден сам выехать в Берлин. Представ пред очами г-жи Бертончини “de facto”, он получил текст с сопровождающим его предостережением, слетевшим с милых мне уст: “Я прошу вас не показывать эту правку Сурковой, потому что она только испортила эту книгу”.
Честный Патрик, не сумевший разобраться в интригах и заключавший контракт с Тарковским и со мной, в большом недоумении рассказал все это Арьену, передав текст (правку?) для уточнения в переводе... Получив этот текст от Арье-на, я раскрыла его дрожащими руками, ожидая увидеть новые откровения Маэстро, но увидала копию все того же текста, отпечатанного на моей машинке с редакционной правкой разной плотности на разных страницах. В частности, я увидела, что новая глава, посвященная “Ностальгии” и “Заключение”, которые особенно не нравились Андрею, не поправлены им швее (!). Впрочем, в “Ностальгии” были четко вычеркнуты несколько абзацев о большой роли Танино Гуэрро в создании фильма, отъезде и акклиматизации его в Италии. Это было, как теперь говорят, круто...
А еще я имела сомнительное удовольствие читать свой собственный текст, выведенный моей рукой и нетронутый рукой Мастера, вроде: “Могли я предполагать, снимая “Ностальгию”, что состояние удушающе-безысходной тоски, заполняющее экранное пространство этого фильма, станет уделом всей моей жизни? Могли я подумать, что отныне и до конца дней моих я буду нести в себе эту тяжелую болезнь?”
Как много я думала о нем, сопоставляя его фильм с его судьбой, но не подумала о себе, оказывается, уже зараженной им не менее тяжелым заболеванием...
Так что, увидев, наконец, Его таинственную правку, я ахнула, понимая, что места к отступлению мне больше не оставлено. Меня не только полностью отстранили от книги, которую я перевезла на Запад, отрывки из которой были опубликованы в “Искусстве кино”, части которой я не побоялась опубликовать в Швеции, над которой я тряслась столько лет — мне даже не сказали спасибо. Что-то вроде: “Спасибо, Оля, за помощь в течение стольких лет. Я благодарен тебе, но ты понимаешь, что в деньгах я нуждаюсь больше. Так что прости и надеюсь, что в лучшие времена мы сочтемся”... В этом было бы что-то привычное, хотя мое собственное материальное положение на Западе было сложным. Но, поверьте, я слишком ценила Тарковских, чтобы не согласиться и с этой новой просьбой, если бы ее выразили по-человечески... Однако меня просто и без лишних разговоров выставили за порог.
При издании текста Тарковского, вышедшего из-под моего пера, было заявлено, что я “его только испортила”. Но издают-то все-таки ЭТОТ текст, а не какой-нибудь другой — хорош он или плох. Только поправив конец вступления, в конце которого я с разрешения Тарковского следующим образом сформулировала себе благодарность, по крайней мере, как мне кажется, не преувеличивая свою роль в создании этой книжки:
“Остается только добавить, что книга эта складывалась из записей дневникового характера, выступлений и многочисленных бесед с Ольгой Сурковой, которая еще студенткой Института кинематографии в Москве пришла к нам на съемки “Андрея Рублева ”, а затем провела в тесном общении с нами все последующие годы, будучи уже профессиональным критиком. Я благодарю ее за помощь в отборе, систематизации и оформлении материалов, вошедших в эту книжку ”.
Тарковский добавил, что книга складывалась еще из “полу-написанных глав” и убрал слово “многочисленные”. А, кроме того, вычеркнул последнюю фразу, написав: “Я благодарю ее за помощь, которую она оказала мне в то время, когда я работал над этой книгой”.
То есть возникали по крайней мере два вопроса. Во-первых, как может складываться книга из глав, написанных наполовину? А во-вторых, какую же помощь оказывала я Тарковскому, когда он работал над той книгой?
И тут я поняла, что должна подавать в суд, убежденная, что это ужасно, но несложно: так как договор на ту же книгу был подписан трижды нами обоими. Идея эта моя развивалась однако вяло в какой-то неясной надежде, что меня все-таки вспомнят к Берлинале, как обещал Федоровский. Но вместо приглашения я получила фестивальную газету, в которой было опубликовано интервью Федоровского с Тарковским, рекламирующее книгу “Запечатленное время”. Там сообщалось, что “ В Москве Ольга Суркова осуществляла редактуру книги”. А “уехав на Запад, Тарковский снова возвращался мыслями к книге, которая была им закончена”.
Да-а-а, это при том, что редактором книги в “Искусстве” был Володя Забродин...
И все это после множества событий, которые, как мне думалось, в простоте душевной, были нами уже пережиты вместе. После того, как еще в Союзе мои заграничные командировки пресекались только за преданность Тарковскому, а мне всегда было глубоко наплевать на мое официальное “реноме”... И это после того, что я сама отступилась ото всех своих прав, сама сняла свое имя с обложки, сама согласилась еще раз все переписать, обремененная уже тяготами западной жизни с двумя маленькими детьми...
С тоской перелистала я сохранившиеся у меня еще другие письма из издательства “Искусство”:
12.01.1976
Тов.Сурковой О.Е.
Тов. Тарковскому А.А.
Уважаемые Ольга Евгеньевна и Андрей Арсеньевич!
По Вашей просьбе пролонгируем срок сдачи рукописи
книги “Сопоставления”до 1 июля 1976года.
Желаем творческих успехов.
С уважением
Директор издательства Б.Вишняков
2 ноября 1977
т.Сурковой О.Е. т. Тарковскому А.А.
Уважаемые Ольга Евгеньевна и Андрей Арсеньевич! Убедительно просим Вас сообщить о том, как продвигается работа над книгой “Сопоставления ”, так как срок представления рукописи истек 1 июня с.г. В случае, если рукопись не будет представлена до 1 января 1978 года, издательство вынуждено будет расторгнуть с Вами договор.
С уважением
Зам.главного редактора В.Юдин
Да-да, именно тогда мне, пришлось собрать все по крохам, представив издательству, так называемую “Книгу сопоставлений” незадолго до рождения моего первого сына в январе 1978 года. А потом последовали все те события, которые уже были описаны выше, и рукопись с замечаниями была возвращена нам на доработку.
1.011980
Тов. Тарковскому А. А. Тов.Сурковой-Шушкаловой О.Е.
Уважаемые Андрей Арсеньевич и Ольга Евгеньевна!
30 марта 1978 года Вам была возвращена на доработку рукопись “Сопоставления ” и послано редакционное заключение по рукописи. До сих пор мы не получили от Вас ответа. Нас интересует, как Вы представляете себе дальнейшую работу над рукописью и когда намереваетесь представить ее после доработки.
Просим Вас не замедлить с ответом, так как в настоящее время утверждаются планы издания 1981—1982 гг. С уважением
За.гл.редактора Э.М. Ефимов
Вот письмо, которое я еще успела получить от издательства до отъезда в Голландию и которое пыталась пересказать Тарковскому в Риме, не пожелавшему вникнуть в некоторые детали нашего общего прошлого.
16.08.82
Уважаемая Ольга Евгеньевна!
9 августа с.г. Вы обратились в издательство с заявлением, в котором отказываетесь от продолжения работы над рукописью “Сопоставления (Диалог режиссера и критика) ”по договору № 8457от 9 июня 1975г. и просите расторгнуть этот договор с Вами. Мы известили об этом Вашего соавтора. Однако по указанному договору Вами был получен аванс в сумме 525 руб. по договору Вы действуете с Вашим соавтором Тарковским А.А. солидарно. Согласно статьи 20 п. Б типового договора, в случае отказа автора внести в рукопись исправления, предложенные издательством, договор может быть расторгнут, но при этом авторы обязаны возвратить полученный гонорар, включая аванс.
В соответствии с этим просим Вас возвратить в кассу издательства полученный Вами аванс в сумме 525 руб. в течение двух недель ("выделено мною — О. С.).
С уважением
Директор издательства Макаров О.А.
Это те самые деньги, отданные мною Тарковскому,^/которых сам Тарковский вовсе забыл, а мне удалось не возвращать их, так как издательство рассыпало в наборе мою книжку о шведском кино, не расплатившись со мной.
И тогда я побрела к адвокату. Он посоветовал непременно написать письмо Тарковскому. Именно это письмо я цитировала в начале повествования. А я представила адвокату договоры, подписанные нами в Англии и Голландии, но... не сумела отыскать в своей коробке договора на книжку с издательством “Искусство”, откуда оба экземпляра, видно, исчезли после визига к нам Ларисы Павловны...
Дело мое тем не менее начинало помаленьку развиваться, когда в газетах появилось сообщение о болезни Тарковского и, как я писала выше, моя жажда правды и справедливости отступила перед этим трагическим для меня сообщением...
Позже до меня доходили, конечно, разного рода слухи о его состоянии, но известие о смерти настигло в Москве.
Первое настораживающее известие об угрожающем состоянии Тарковского я получила в театре Ленинского Комсомола, где на этот раз я смотрела “Гамлета” Панфилова с Чуриковой, которая играла уже не Офелию, а Гертруду, Гамлета — Янковский, а не Солоницын, как было у Андрея. После спектакля в кабинете у Захарова Элем Климов, бывший тогда первым секретарем Союза кинематографистов, грустно сказал, что ему звонили из Парижа и сказали, что Тарковский совсем плох. А еще через день в другом театре ко мне подошел в антракте известный тогда журналист Гриша Цит-риняк и сказал, что Тарковский умер.
Не стану описывать свои эмоции, как бы то ни было живые до сих пор... Наверное, будут живы, пока я жива...
Расскажу лучше о слухах, не менее поразивших меня. Я слышала в Москве, что умер Тарковский один, никого из близких рядом не было, что на похороны выехали родственники. В частности, сестра Андрея Марина со своим мужем, сын Андрея от первого брака Арсений, и Ляля со своим мужем, которых Андрей не хотел видеть при жизни. Рассказали, что муж Ляли был отправлен Ларисой в Москву то ли сразу после похорон, то ли еще до. Ляля осталась в Париже.
А захоронили Андрея на Сен-Женевьев-де-Буа по дешевке, в могилу к какому-то полковнику Григорьеву. Это Андрея! Денег даже на его могилу в семье не нашлось! Зато Лариса зачитала на поминках завещание Андрея, где только она одна определялась покойным единственной полной наследницей всего им созданного и нажитого. Более всего поражало при этом, что первый сын Арсений был вовсе не упомянут в завещании. Трудно представить... И я в это завещание предпочитаю не верить вовсе... Хотела бы я посмотреть на него однажды, зная, с какой легкостью, подделывала Лариса подпись Тарковского... И вообще, зная ее нравы...
Позднее поразили в фильме о Тарковском Эббо Деманта “В поисках утраченного времени” интервью с Ларисой и Андреем Малым, которые они давали почти сразу после его смерти. Не было в этих интервью ни одного живого, горестного слова. Вдова после недавней смерти мужа предстала “для истории” хорошо напомаженной и в декольте. А любимый сын, развалившись, спокойно рассказывал о том, что, когда отца отвозили в больницу, он не поехал с ним, так как полагал, что это всего лишь следующее лечение... Не до папы было, больного смертельно... Простого горя не было в этих людях, такого естественного, скажем в сестре Марине, не видевшей своего брата столько лет...
А тогда, в Москве несколько дней спустя после кончины Тарковского произошло еще одно странное событие. В это время мой муж был в Америке и готовил свою первую выставку, на которую мы возлагали много надежд. И я попросила мою близкую тогда знакомую, известную актрису, увлекавшуюся парапсихологией, связать меня с ясновидящим. Я хотела узнать, что ожидает моего мужа. Пришел молодой человек и попросил меня сосредоточиться на интересующем меня вопросе, спросив через несколько минут: “Я не понимаю, вы думаете о живом или о мертвом?” “О живом”, — в некотором изумлении и страхе отвечала я. “Не знаю. Я вижу рядом с вами мертвого. Оставьте его. Он так исстрадался. Его душа плачет. Пойдите в церковь и поставьте ему свечку”, которую я, конечно, поставила...
Начиная с похорон, завязалась новая цепь посмертных событий вокруг Тарковского.
Иоселиани писал:
“Это может показаться странным, но у нас в стране существует критерий, очень важный для художников, — порядочность. Именно поэтому получили в прошлом или настоящем известность такие порядочные люди, как Ахматова, Мандельштам, Булгаков, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий. Андрей Тарковский принадлежал к этой категории. Уловки, компромиссы были не для него.
Он был потомком старинной дагестанской семьи, происходившей из аула Тарки. Этот аул был одним из последних форпостов сопротивления Дагестана русскому царизму. Фамилия Тарковского происходит от названия аула.
В Андрее Тарковском не было ничего русского или польского, но по своему мироощущению, по духу, по привычкам он был русским старого закала ”.
Но вдова Тарковского, видимо, сумевшая совладать с охватившим ее горем, тут же, не сносив башмаков, уточняла детали и ошибки в заметке Отара. Ну как не вспомнить Андрея, повторявшего неоднократно: “Лариса? Лариса — настоящая Гертруда!”
“...первая неточность Иоселиани касается “аула Тарки” (правда, может быть, тут ошибки двойного перевода). “Тарковским владением ”, как в этом легко убедиться, посмотрев в словарь Брокгауза и Ефрона ("куда сама Лариса Павловна, как вы догадываетесь, так часто заглядывала — О. С.), называлась область, распространявшаяся практически на всю территорию Дагестана, существовавшая с древних времен (по крайней мере с VIII века) и только с 1867г. переименованная в Темир-Хан-Шу-ринский округ. Последний князь Тарковского владения Шамсудин и был родоначальником рода Тарковских. Второе возражение более существенно. Говоря о порядочности как важном критерии художника в России, Иоселиани одним духом перечисляет Ахматову, Мандельштама, Булгакова и — Булата Окуджаву, Беллу Ахмадулину, Владимира Высоцкого. Думаю, что Андрей, будь он жив, был бы неприятно удивлен таким резко неравноценным сопоставлением и тем, что он, с его собственной абсолютно бескомпромиссной порядочностью, поставлен в один ряд с тремя своими современниками, порядочность которых не превышает обычных, не максимальных требований к себе советского интеллигента.
С глубоким уважением
Лариса Тарковская ”
Хотелось бы узнать, к кому обращено “глубокое уважение” Ларисы... Но это снова лишь риторический вопрос... А горькая реальность снова демонстрировала, что от великого до смешного, увы, только один шаг. Похороны преждевременно почившего великого русского художника, которому почему-то Отаром вдруг было отказано в капле русской крови, превратились в какую-то суетную чехарду... И такая чушь вокруг него витала, что хотелось задаться от его имени еще одним риторическим вопросом, невесело улыбнувшись: “Ну-ка встану, погляжу, хорошо ли я лежу?”... И в том ли ряду, который мне предназначен, и в той ли усыпальнице... Ан, не в той...
А чего стоит речь Максимова над гробом, озабоченного не Тарковским и его смертью, а снова своим политическим капиталом. Он цитирует усопшего:
“Они делают вид, что ничего не случилось, что они не душили меня почти двадцать лет, что я не просил здесь политического убежища (7V — О.С.) и что я продолжаю находиться в творческой командиривке за рубежом, надеются, что я растрогаюсь от умиления и брошусь им в объятия? Ну, нет, этого они от меня не дождутся, я, как Шаляпин, и надеюсь, дети у меня окажутся потверже шаляпинских,>
И далее Максимов продолжает уже собственную речь, причесывая Тарковского той же привычной и нужной ему гребенкой:
Но в чем не откажешь советской пропаганде, так это в последовательности. 31 декабря ТАСС с лапидарной торжественностью сообщил о смерти в Париже советского кинорежиссера Андрея Тарковского. Не удалось выманить живым, попробуем присвоить мертвым. Те, как известно, сраму не имут. Или: не мытьем, так катаньем ”...
Боже мой, какие же мы мало приличные и собой только озабоченные люди даже в скорбный и торжественный час. Максимова недовольного когда-то тем, что Тарковский “сидел между двумя стульями”, не назвался диссидентом и назвался в письме к отцу “советским художником”. Интересует только его правда: уложить его нужно хоть в смертный час в нужную “делу” ячейку — ну, чем вам не “Бесы”?
Мог, конечно, Тарковский сказать нечто подобное Максимову, мог промолчать в ответ на рассказ Лещинского о переменах в России... Мог сомневаться и прислушиваться с горечью к рассказу Эббо Деманта: “Время политических перемен в Советском Союзе. Мы говорим об этом. Он не верит в подлинные изменения. Может ли он представить себе, что скоро возвратится на родину? Он не отвечает”. Все могло быть, но как мог Тарковский не тосковать о своей земле и о своем зрителе, в котором более всего нуждался и который более всего нуждался в нем? И куда поехал сам Максимов, едва возникла возможность побывать там, где он родился и жил и куда, увы, не успел попасть сам Тарковский...
А пока что родственники, которые, как якобы надеялся Тарковский, окажутся “потверже шаляпинских”, положили его в чужую могилу и начали пубиковать во всех зарубежных изданиях на русском языке объявления о сборе средств на памятник ему по проекту Неизвестного.
Как больно было читать, снова глядя на опубликованный рядом веселенький портрет Тарковского, обращение Максимова к “русскому Зарубежью”:
“В свое время газета “Русская мысль *обратилась ко всем людям, чтящим память великого русского кинорежиссера Андрея Тарковского, с призывом начать сбор средств на установление памятника на месте его захоронения. Проект такого памятника уже осуществлен скульптором Эрнстом Неизвестным совершенно безвозмездно. Средства необходимы только на его отливку. Примерная стоимость такой отливки 15 тысяч долларов.
К сожалению, до сих пор в адрес редакции посупило менее одной десятой этой суммы.
В то же время советские власти уже предприняли официальные шаги к тому, чтобы с помощью оставшихся в Москве родственников покойного перевезти его прах в Советский Союз.
Неужели и на этот раз, как это уже случилось с прахом Шаляпина, они вновь добьются своего?
Я считаю, что наш долг — долг всех, кому дорога память затравленного советской камарильей от искусства художника, помешать этому кощунству.
Собрать средства на памятник великому русскому кинорежиссеру — долг нашей чести. Еще раз напоминаю счет..."
Читая снова все эти наши родные и “правдивые слова”, сердце сжимается от ужаса: кто же это “сраму не имут” и многим ли “советская камарилья” отличается от “антисоветской”.
Бедный Андрей. Как же так случилось, что не нашлось у Вашей семьи денег на простой деревянный крест, который Вы рисовали. И какое отношение имеет современное “мускулистое” искусство Неизвестного к Тарковскому, не любившему “модерн” в живописи и музыке?.. И куда спряталось срамное чувство, когда с удовольствием приняли деньги на памятник от “новых русских”, любовно собранные преданной художнику Тарковскому Паолой Волковой, не нуждаясь уже более в Неизвестном и объявив автором памятника... Ларису Тарковскую...
А ее поездки в Москву за многими миллионами (долларов, конечно!) к Лужкову и другим влиятельным лицам, за миллионами(!) на реставрацию квартиры на Мосфильмовской или дома в Рязани... Ах, Лариса, Лариса...
Так что устроилась Лариса после смерти Андрея неплохо, наконец, репрезетируя его полностью и безо всяких коррекций с его стороны.
Как с горьким юмором писала мне моя коллега уже в 1992 году:
“Молоденький япончик, проживающий в Париже, ехал в Москву собирать материал о Тарковском (пишет что-то). Перед отъездом позвонил Ларисе Павловне во Флоренцию, а она как заорет: если вы по дороге ко мне не заедете, я Вам ничего не дам (а что она сможет дать? — X). Он, обливаясь слезами, сменил билет и полетел к ней. В Москве с вытаращенными глазами рассказывал мне (брал интервью), что не понял, зачем она его вызвала. Говорит: дом у нее самый шикарный во всей Флоренции, терраса на реку, было полно гостей. Лариса П. пела(1), танцевала (!), вела себя весьма странно. Бедный япончик все время спрашивал у своего сопровождающего: “Может быть, это вообще такой русский женский мента-литет?”
Еще интересный номер рассказала переводчица, работавшая в июне с Крисом Маркером. Климов с Чугуновой напросились к ним на обед и стали заводить какие-то просьбы по поводу “Инситута Тарковского ” в Париже. На что Маркер сказал, что если они хотят чего-то добиться в Париже, то пусть и не упоминают имя м-м Тарковской, что это абсолютно неприличная женщина и т.д. Переводчица с быстротой пулемета переводила все его крепкие выражения, Климов и его подруга сидели, повесив носы, красные. *
Ну, вот, а мне с этой женщиной все-таки предстояло еще сражаться за свои права...
* * *
В апреле 1987 года я была приглашена в Москву для участия в Первых международных интернациональных чтениях, посвященных творчеству Андрея Тарковского в Центральном Доме кинематографистов. И в процессе общения с профессионалами, занимающимися его творчеством, я узнала, что кое-кто из них замечал, что в одних изданиях “Запечатленного времени” мой copyright указан рядом с именем Тарковского, а в других нет. Произошел даже такой курьезный случай: киновед из Италии уверял меня, что мои права в итальянском издании значатся, а я сопротивлялась швею, так как никогда не подписывала вместе с Андреем договор в Италии. Но к моему немалому удивлению мой коллега оказался прав, прислав мне “Scolpire il tempo”, изданное издательством “Ybulibri” с моими соавторскими правами... Как выяснится позднее договор в этом издательстве подписывала уже после смерти Андрея сама госпожа Тарковская, а почему я была упомянута ею по собственной воле для меня остается загадкой...
Впрочем, есть одно предположение. Первые издания книги не включают еще в себя главу о “Жертвоприношении”, которую я, естественно, уже не писала. В “Русской мысли” от 16 января 1987 года эта глава была опубликована, как “Последняя глава из книги, законченной за неделю до смерти”. Но никакой другой книги, кроме все того же “Запечатленного времени”, никто нигде не увидел — только в последующие издания была подверстана еще и эта глава, которую Андрей едва ли мог заканчивать сам “за неделю до смерти”. Страшно думать о том, в каком он был состоянии... Последние записи в его дневнике:
“5 декабря 1987года, Париж
Вчера мне сделали химиотерапию, в третий раз. Чувствую себя отвратительно. Не может быть и речи о том, чтобы встать с кровати или даже приподняться. Швар-ценберг не знает, что делать, потому что не знает, откуда берутся эти ужасные боли. Фильм с успехом идет в Англии, в США тоже. Невероятно хорошие отзывы. Японцы организуют какой-то фонд помощи, но им нужно объяснить, почему такой знаменитый режиссер так беден ”...
И последняя:
“15 декабря 1987года.
Гамлет. Весь день в постели, не поднимаясь. Боли в нижней части живота, в спине. Нервы тоже. Не могу пошевелить ногами. Какие-то узлы. Я очень слаб. Неужели умру? А Гамлет? Но сейчас уже больше нет сил на что-либо. Вот в чем вопрос ”...
Сегодня я пишу этот текст в день его 70-летия и, перепечатывая последние слова, написанные его рукой, содрогаюсь от ужаса и жалости. И думаю: может быть, Лариса была попросту сумасшедшей?
Как можно было, едва похоронив мужа и опять же, “не износивши башмаков”, уже плести новые интриги о “последней главе книги (???), законченной за неделю (???) до смерти”...
Я не сомневаюсь, что главу эту тоже писал за него, какой-нибудь журналист, может быть, тот же Натан Федоровский, протеже Бертончини, еще не успевший стать великим галеристом... Может быть, они, зная Ларисин нрав, попросили обозначить мое соавторство, чтобы получить под мое имя причитающиеся им деньги за эту главу... Не знаю точно...
Но знаю, что вся двусмысленность моей ситуации с книжкой всплывала вновь и требовала своего разрешения в соответствии с законом. Андрея уже не было, а позволить Ларисе продолжать глумиться надо мной не было больше сил. Да и смысла тоже. “Too much”, как говорят англичане...
* * *
И я подала тогда в Мюнхене в суд на издательство “Улыптайн” и его сотрудницу г-жу Бертончини, знавшую о моем соавторстве и сознательно это соавторство утаившую. Все эти судебные передряги продолжались пять лет и стоили мне уйму денег. Должна заметить при этом, что такие суды на Западе, на самом деле, прерогатива состоятельных людей. Так что бедным правды не доискаться, на что Лариса, очевидно, и рассчитывала.
Так выглядели мои аргументы в общих чертах.
1. Договор в Англии, Голландии и Германии подписывался на “Книгу сопоставлений”, где на обложке было два автора, а внутри тексты их обоих.
2. Текст “Запечатленного времени” это незначительно редактированный вариант текста “Книги сопоставлений”.
3. Последний вариант книги Бертночини получала от меня, о чем свидетельствуют квитанции и переводчики книги.
4. В моих руках буквально все варианты работы над книгой, все черновики, все материалы, блокнотные записи и магнитофонные ленты, из которых складывалась книга.
5. Публикации отрывков из этой книги в “Искусстве кино” в марте 1979, где сказано: А.Тарковский. О КИНООБРАЗЕ. Из книги “Сопоставления”, которая в литературной записи и с комментариями О.Сурковой готовится для издательства “Искусство”.
6. Договор с издательством “Искусство”, которого у меня неожиданно не оказалось, но копию которого я рассчитывала получить заново.
7. Публикация в шведском журнале “ARTES” (№ 5, 1981), идентичная тексту книги “Запечатленное время” только под моим именем: Ольга Суркова. “БЕСЕДА С ТАРКОВСКИМ. Ощущение демиурга”.
8. Публикации в “Искусстве кино” и в “Artes” были осуществлены еще при жизни Тарковского, и он никогда не возражал против их появления в таком виде.
9. Мое интервью о “Ностальгии”, опубликованное в голландской газете “Volkskrant”, дословно положено в основу главы о “Ностальгии” в книге “Запечатленное время”.
10. Последняя правка Тарковского носит чисто редакционный характер и совершенно не меняет существа текста.
Обвиняемая сторона уверяла, что Бертончини не знает меня вовсе и никогда меня не видела. Было сказано даже, что она не знает русский язык!
Что говорить? Ложь была очевидна за каждым словом, но жалко, что я не имела еще средств обвинить никого дополнительно за бесконечную дачу фальшивых показаний. Как, например, подписанный в Германии одним Тарковским договор на “Книгу сопоставлений”, имевшую тогда вообще двух авторов с двойным текстом внутри рукописи. О нашем свидании с Бертончини также свидетельствовали копии страниц ее блокнота, где ее записи по просьбе Тарковского продолжались мною.
Невероятно, но на запрос моего адвоката в Москву выслать копию нашего пропавшего договора с Тарковским директор издательства “Искусство” господин Макаров, с которым я расторгала договор на “Книгу сопоставлений”, не устыдившись, отвечал официальным письмом:
“Январь 16, 1989 Договор N9 8457, 09.06.1975
Дорогой мр. Мейер.
К сожалению, мы не можем выполнить вашу просьбу по поводу получения Договора, потому что все документы были закрыты много лет назад, и Издательство не располагает интересующими вас материалами”.
Бывая в Москве, мне тоже не удавалось добыть копию договора. Зато мой муж, поехавший позднее, догадался прийти в то же издательство с бутылкой виски и немедленно получил фотокопию этого безнадежно “закрытого” документа. Вот как просто делаются “дела”...
Далее мною были представлены показания четырех свидетелей.
Переводчика книги на голландский язык Арьена Аутерлинде.
1. Во время моей студенческой поездки в Москву в 1982 году я познакомился с Ольгой Сурковой. В последующие годы у нас были близкие дружеские отношения, и мы также со-трудчничали. Написали вместе несколько статей. Но чаще всего я переводил ее тексты с русского на голландский.
2. Ольга Суркова считается специалистом и большим знатоком кинематографа Тарковского. Годами она близко следила за его жизнью и деятельностью. Много разговаривала с ним на профессиональные темы, а также неоднократно брала интервью, о чем могут свидетельствовать ее публикации.
3. У Ольги Сурковой и Тарковского был большой совместный проект “Книги сопоставлений ”, посвященной искусству и миривоззрению Тарковского. Книга была составлена и редактирована Ольгой Сурковой, базируясь на ее собственных записях высказываний и разговоров с Тарковским. Эта книжка не была принята и ее, в конце концов, не удалось опубликовать в Советском Союзе.
4. Когда Ольга Суркова эмигрировала в Голландию, то она взяла книжку с собой и искала для нее издателя. Издатель из “Historische Uutgeverij Groningen ” проявил интерес к книжке. И Ольга Суркова попросила меня перевести ее на голландский язык.
5. Примерно в это же время (мы говорим об апреле 1984 года) Тарковский, находясь в Италии в связи с прокатом “Ностальгии ”, искал контакта с Ольгой Сурковой и пригласил ее приехать в Италию. Там они решили вместе доработать и дополнить книжку. Теперь она должна была называться “Запечатленное время ”
6. Ольга Суркова закончила книжку в сентябре 1984 года. В это время Тарковский уже нашел английских и немецких издателей. Для улучшения возможностей продажи книжки Суркова оказалась готовой изменить заглавие и снять свое имя с обложки. Но само собою разумеется, она должна была быть упомянута на внутреннем титульном листе.
7. Когда книжка была почти готова, пришло сообщение от немецкого издателя (через Бертончини), что Тарковский не был доволен книжкой и вынужден был ее полностью переработать. Голландскому издателю с трудом удалось получить эту правку и фотографии от Бертончини, которая теперь представляла интересы Тарковского. Никакого личного контакта между Тарковским и Сурковой больше не было.
8. Изменения и правка, которые Тарковский сделал в тексте, были разного вида: 1) ослабление некоторых ан-ти-советских квалификаций; 2) много незначительных замен одних слов другими. Бросалась в глаза правка вступления, в которой вначале говорилось о ценном сотрудничестве с Сурковой, а потом было сказано вскользь только о ее хорошей помощи.
9. На мой взгляд в текст не было внесено тех существенных изменений, которые позволяли бы рассматривать Тарковского единственным автором книги.
Так что я всегда готов засвидетельствовать это, подтвердив свои показания под присягой. Поэтому остаюсь в вашем распоряжении ”.
В это время Арьен работал уже в голландском посольстве в Бразилии, откуда была получена эта бумага со всеми соответствующими печатями.
Вторым голландским свидетелем выступал Мартин Леве ндых, оказавшийся к тому времени в Москве корреспондентом голландского телевидения.
“Как друг г-жи Сурковой, с которым она много советовалась, я часто бывал у них дома и потому был до деталей знаком со всеми ее делами. В ее отношениях с Тарковским я был доверенным лицом. Поэтому я знаю, что отношения эти, длившиеся годами, были очень близки ее сердцу. В Москве она работала с Тарковским над манускриптом, посвященным его творческой деятельности,
многие годы. Позднее на основе этого манускрипта появилась книжка “Запечатленное время ”. Я могу это утверждать, потому что видел в Москве оригинал этого манускрипта собственными глазами.
В феврале 1984 года Тарковский был гостем Международного кинофестиваля в Роттердаме. А я был часть времени его пребывания там его переводчиком, шофером и гидом. В течение пяти дней Андрей Тарковский, его жена Лариса, Ольга Суркова и я были с утра до ночи вместе. Мы много разговаривали в том числе и о книжке, которую Тарковский и Суркова писали вместе. В этих разговорах Тарковский постоянно обращался к Сурковой, как к полномочному соавтору. И более того отмечал ее большой вклад в работе над книжкой (это были его собственные слова). Строились планы дальнейшей и окончательной работы над манускриптом в намерении как можно скорее его опубликвать. В моем присутствии в 1984 году они договаривались, что г-жа Суркова поедет в Италию, где тогда проживал г-н Тарковский.
Еще находясь в Голладии, Суркова должна была сделать некоторые изменения в отдельных кусках, которые не нравились Тарковскому. Позднее в Италии они должны были вместе заканчивать окончательную версию для печати.
Летом 1984 года я был в Италии. Там я встречался в Тиволи (около Рима) с Ольгой Сурковой и г-жой Тарковской. В присутствии г-жи Тарковской Ольга Суркова рассказывала мне кое-что о своей совместной работе с Тарковским: говорила, что впереди еще много работы, что ведутся переговоры с издателями. Но они вместе (Тарковский с Сурковой) уже сделали приемлемый текст.
В сентябре того же года я лично вел разговор по телефону с Кристианой Бертончини, которая от имени издательства “Ульштайн” занималась авторскими правами издания текста Сурковой/Тарковского в виде книги. Суркова подозревала, что Бертончини пробовала не учесть ее имени в контракте. В разговоре с Бертончини, который я вел по телефону из дома Сурковой по-немецки, я спросил: “Собираетесь ли вы подписывать контракт только с Тарковским или же имя Сурковой будет тоже названо в качестве соавтора?”Г-жа Бертончини заверила меня в ответ, что г-же Сурковой не следует беспокоиться. Ее соавторство с Тарковским само собою разумеется и будет полностью учтено (передаю дословно).
Сказанное я готов подтвердить под присягой ”
Подлинный редактор “Книги сопоставлений” Владимир Забродин, которому сдавалась рукопись в Москве, сообщал издательству “Ullstein” следующее в связи “с иском О.Сурковой”:
1. Издательством “Искусство ” (а я работал в редакции кинолитературы этого издательства с апреля 1975года по июль 1987 года) в июне 1975 года был заключен с А.Тарковским и О.Сурковой авансовый договор на написание книги “Сопоставления ”. По условиям договора они выступали “солидарно действующими авторами ”.
2. Рукопись была представлена в издательство “Искусство ” в декабре 1977года под названием “А. Тарковский. Книга сопоставлений. Записана и прокомментирована
О.Сурковой-Шушкаловой”. Я был редактором книги и принимал рукопись совместно с заведующим редакцией С.В.Асениным от одного из соавторов этой книги — О. Сурковой-Шушкаловой.
3. Во время нахождения рукописи в издательстве “Искусство” (рецензирование, подготовка редакционного заключения) все переговоры по рукописи вел со мною один из соавторов — О.Суркова-Шушкалова. (Должен заметить, что за весь период моей работы в издательстве это был единственный случай, когда автор — в данном случае один из соавторов — не встретился с редактором книги.) По замечаниям рецензентов издательства было решено возвратить рукопись на доработку авторам, и я возвратил ее О.Сурковой-Шушкаловой.
4. Я не могу судить о том, совпадает ли текст рукописи “Книги сопоставлений ”, представленной в издательство “Искусство ” с текстом книги “Запечатленное время ”, изданной “Ульштайн Ферлаг”, поскольку не владею немецким языком.
9/II-89, Москва Забродин
В настоящее время работаю во Всесоюзном творческо-производственном объединении “Киноцентр” заведующим Редакционно-издательским отделом ”
Сразу проясню ситуацию в связи с последней оговоркой Володи Забродина по вопросу идентичности текстов, опубликованных под разными названиями. Этот вопрос, естественно, вставал потом во время судопроизводственных процедур, и текст “Книги сопоставлений”, написанной в форме диалога, был отправлен на сверку с текстом книги “Запечатленное время”, написанной в форме монолога. Это задание было поручено неизвестному мне лично специалисту и переводчику русской литературы Розмари Титце, проживающей в Мюнхене. Для обоснованности моего иска было достаточно 50% совпадения текстов в двух рукописях.
В соответствии с немецким законом г-жа Титце провела самое тщательное и подробное новое сопоставление, заключив, что тексты совпадают на 95%, лишь выражая недоумение, почему я не претендую в соответствии с законом на 100% оплаты...
Далее в подтверждение справедливости моего иска приняла активное участие известный киновед Нея Марковна Зоркая, с которой мы всегда очень тесно общались и которая была посвящена с самого начала и до конца во все происходившее в связи с этой работой. Она писала:
“В Амстердаме (январь 1989) я ознакомилась с делом, которое Ольга Суркова возбудила против “Ullstein Verlag” Прошу присовокупить к делу следующее мое заявление: История создания книги Андрея Тарковского и Ольги Сурковой прошла на моих глазах от начала до отъезда их на Запад и далее была известна мне по письмам и телефонным переговорам с Ольгой Сурковой.
Как кинокритик, следивший за творчеством Тарковского, начиная с его дебюта в кино, и близко знакомый с ним с 1962 года, я неоднократно слыхала от него о работе над книгой, заказанной московским издательством “Искусство ” ему совместно с киноведом Ольгой Сурковой. Дело в том, что Андрей Тарковский, глубокий кинотеоретик и оригинальный мыслитель, не любил писать теоретические статьи, предпочитал форму диалога или интервью, о чем сам часто говорил (в своем предисловии к книге “Сопоставления”, которую Тарковский начинал делать с Л.Козловым, это написано его собственной рукой: “Я отношу себя к тому разряду людей, которые способны формировать свои мысли или в полемике (совершенно соглашаясь с той точкой зрения, что истина достигается в спорах), или на бумаге. В остальных случаях я склонен впадать в состояние метафизической созерцательности, которая скорее благоприятствует эмпирической склонности характера и противодействует энергическому, творческому мыслительному процессу” — О.С.). Поэтому естественным было его желание иметь для большой книги соавтора. К этому он привлек молодого, но уже известного в СССР кинокритика и активно действующую журналистку Ольгу Суркову, которая еще студенткой проходила практику на съемках “Андрея Рублева ”, а далее вела записи съемок всех последующих его картин, брала у него интервью и публиковала их, читала о режуссуре Тарковского лекции — словом, являлась фактически его ассистентом или постоянной помощницей по литературной работе. Естественно, что договор издательства “Искусство” и далее контракты на книгу “Запечатленное время ” на Западе заключались на два имени: Андрей Тарковский и Ольга Суркова.
Я знаю Ольгу Суркову с 1968 года. Со мной, как со старшим коллегой, она постоянно делилась новостями о книге, советовалась, давала читать готовые главы, из-за границы сообщала о доработке текста — например, о том, что она едет из Амстердама к Тарковскому в Сан-Григорио (в Италию) для написания “Заключения” и окончательной редактуры текста перед сдачей рукописи в издательство.
С большим удивлением увидела я, что на книге, выпущенной “Ullstein Verlag”, стоит лишь одна фамилия.
Проведя в АлЬпердаме в январе 1989года сопоставительный анализтекстов, интервью, магнитофонных пленок с записями бесед и других материалов, констатирую:
1. Полную идентичность русской версии книги, первоначально называвшуюся “Книгой сопоставлений ”, и изданной “Ullstein Verlag”книги “Запечатленное время вплоть до главы “После “Ностальгии”и Заключения.
2. Рукописная правка Андрея Тарковского, имеющаяся на тексте, подготовленном Ольгой Сурковой, носит только стилистический и чисто редакторский характер. Новые куски, вписанные рукой Тарковского, в русскую машинопись перед сдачей в издательство, занимают в общей сложности 10 страниц текста в книге, насчитывающей 245 стр.
3. Глава “После “Ностальгии”и “Заключение”соответствуют: 1. Интервью, опубликованному в голландской газете “Volkskrant” (я ознакомилась с текстом русского оригинала), диалогам, сохранившимся на пленках, а также тезисам, присланным Тарковским Сурковой для Заключения и развернутым ею в окончательный текст.
4. Ценральная и наиболее важная глава книги “Кинообраз” соответстсвует интервью, взятому Ольгой Сурковой и опубликованному ею в русском журнале “Искусство кино ”(“О кинообразе ”, Искусство кино, 1979, N2 3) и ее же интервью, опубликованному в шведском альманахе “Artes ”(1981, №5)—я ознакомилась с русским текстом этого интервью.
5. Две главы книги, написанные Тарковским, как указано в примечаниях, ранее (то есть до контакта с Сурковой) — “Начало”и “Запечатленное время”, в настоящей книге поставлены в новый контекст, доработаны и модернизированы. Свидетельствую об этом, будучи научным редактором статьи “Запечатленное время ” по сборнику “Вопросы киноискусства”, 10.
Все вышеуказанное дает полное основание считать Ольгу Суркову полностью равноправным автором книги (как минимум!) и ее претензии на 50% авторского гонорара от полной суммы абсолютно обоснованными.
Нея Зоркая,
старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института искусствознания, член Союза писателей СССР, член бюро секции критики Союза кинематографистов СССР, член комиссии по творческому наследию Андрея Тарковского, член ученого совета Всесоюзного научного общества Тарковского ”.
А еще совершенно неожиданным для меня подарком оказалось послесловие тоже замечательного критика Майи Туровской к восточно-немецкому изданию той же книги в 1989 году. Туровская писала о моем сотрудничестве с Тарковским, выражала удивление по поводу отсутствия моего имени в издании и даже называла номер договора в издательстве “Искусство”, подписанного нами, копии которого к тому моменту у меня еще не было.
Мне было также очень приятно, что в сборнике воспоминании “О Тарковском”, изданной Мариной, сестрой Андрея тоже в 1989 году в сноске при упоминании книги “Запечатленное время” было сделано уточнение — книга написана в соавторстве с кинокритиком Ольгой Сурковой.
Все это придавало надежду, что так называемая правда все-таки существует на этой земле. Хотя бы для некоторых. Потому что с другой стороны, то есть со стороны Бертончи-ни и Ларисы сыпалась такая ложь, что трудно было вообразить, на что они рассчитывали. Впрочем, скорее всего, все на ту же нехватку у меня денег да и терпения тоже... Но, взявшись за гуж, не говори, что не дюж...
* * *
Чего только не говорилось? И то, что Андрей подписал со мной контракты из жалости к моему бедственному положению на Западе. И то, что я была лишь секретарем и машинисткой, которая перепечатывала его тексты. А свидетелями к заседанию суда были вызваны... лишь Маша Чугунова и некая Светлана Барилова, знавшие все прекрасно о моей работе с Тарковским и не постыдившиеся нести всю эту чушь. Дело в том, что после того, как идентичность текстов “Книги сопоставлений” и “Запечатленного времени” были подтверждены, обвиняемая сторона сделала следующее заявление: в “Книге сопоставлений”, написанной самим Тарковским в форме диалога, он диктовал мне сам не только ответы, и вопросы с комментариями, которые я только записывала.
Маша Чугунова работала ассистентом Тарковского, начиная с “Соляриса”, из картины в картину, верно и преданно, будучи параллельно именно безотказным бесплатным секретарем и машинисткой. Она была так задействована Ларисой, что даже времени на собственный диплом у нее не было. По просьбе той же Ларисы, которая ссылалась на незаменимость Маши на съемочной площадке, мы с Неей Марковной
Зоркой переписывали ее диплом во ВГИКе о Тосиро Мифуне (одну главу я, а все остальное Нея Марковна). Но Маша вместо благодарности — или простой честности — бралась свидетельствовать, что она слышала весь этот процесс диктовки мне текста Тарковским... на съемочной площадке...
А Светлана Барилова, подруга Ларисы, с которой последние годы жизни в Москве они вовсе не общались, бралась свидетельствовать, что ту же диктовку она слышала... дома. У себя? У Тарковских? Какая-то Светлана Барилова, названная... аж, “семейным адвокатом” Тарковских в Москве? Так что “бедные” Тарковские, якобы, имели “семейного адвоката” в Советской России, очевидно, простите за каламбур, помогавшего им собирать дружескую подать.
Так вот Светлану Барилову я помню со Звездного бульвара, куда она приходила еще со своим мужем, который вскоре ее оставил. Она оказалась той одинокой женщиной, очень подходящей Ларисе в ее слежке за Андреем и обсуждениях всех его действий — словом, из окружающего Ларису бабья. Она была простым советским чиновником, работала в Моссовете и имела доступ к более дешевому буфету, позволявшему ей поставлять к застольям у Тарковских севрюжку, лососинку или икорку — русское “лакшери”.
Кроме того в период какого-то квартирного ремонта в доме Тарковского Светлана поселила у себя Андрея с Ларисой. Я тоже бывала там, и один из наших наиболее интересных разговоров с Андреем под бутылочку состоялся именно в это время в квартире Бариловой на Бауманской. Я положила его потом в основу главы об актере. Но как раз во время этого моего визита Светланы не было дома, что зафиксировалось на магнитофонной записи этого вечера — раздается телефонный звонок Светланы, которой Лариса объясняет, чтобы она не волновалась, что сын ее Олежек поел, попил, и все в порядке...
Помнится, что Андрею в этой квартире снова была отдана хорошая комната, а Лариса вместе со Светланой ютились на кухне.
Вот такие двое свидетелей репрезентировали интересы Тарковского на судебном заседании в Мюнхене. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
Я уже собиралась в Мюнхен, но почему-то на бланке “Союза Театральных деятелей СССР” через факс г-жи Бер-тончини, суд получил следующее уведомление:
“Подтверждаю поступление августе 1991 года сообщения о необходимости приезда 5 декабря 1991 года по делу издательства улыитайн тарковская-суркова. выехать не можем по семейным обстоятельствам плохому здоровью подтверждаем свои показания, просим перенести суд после 15 февраля 1992 года.
Барилова Светлана Чугунова Мария ”.
“Подтверждаю” — это они вдвоем, как один дракон о двух головах. Или, может быть, лесбийская какая супружеская пара, объединенная общими “семейными обстоятельствами” и занемогшая тоже враз. Как можно было и до такого цирка допрыгаться? Но врали и врали до бесконечности, не гнушаясь ничем...
Почему все это должно было итожить счастье моего изумительного и доверительного общения с прекрасным художником? Почему вся эта помойка? Увы, но когда-то все же и им санкционированная...
И еще Лариса пыталась присовокупить к делу показания французского журналиста Шарля де Брандеса, не без оснований очарованного личностью Тарковского, опубликовавшего в “Русской мысли” свое интервью с ним после “Жертвоприношения”, очевидно, получив за него свои деньги и не переадресовав их Тарковскому? Тем более, что он мог знать о наших взаимоотношениях? Кроме того, он уже тогда назывался директором музея Тарковского в Париже. По моей просьбе моя знакомая в Париже поинтересовалась в тот момент существованием такого музея по указанному адресу. Вот ее письмо:
“Дорогая Оля!
В течение нескольких недель я пыталась наладить контакт с Институтом Андрея Тарковского в Париже: Позвонив по телефону 43 5430 02, я поговорила с г-ном де Брандес, который подтвердил, что он является директором вышеназванного института, и все материалы об А. Тарковском можно получить у него, предварительно договорившись о встрече.
Договориться о встрече оказалось не так просто: в течение нескольких дней я безуспешно пыталась дозвониться, чтобы получить разрешение прийти в “Институт ”, но то никто не снимал трубку (что несколько странно, неужели в “Институте ” работает только один человек, нет секретарей и никого другого, кто бы отвечал на звонки ?) Правда, один раз трубку сняла женщина, ответившая на мою просьбу поговорить с кем-то из “Института ”, что она ничего не знает. Возможно, я ошиблась номером или по этому номеру телефона и по этому адресу проживает еще кто-то(?).
Пытаясь отыскать сведения об “Институте Тарковского” по “Минителю” (компьютерная система во Франции, в которую заложена информация обо всех существующих в стране предприятиях, фирмах, гражданах и т.д.), я не нашла этого института где-либо зарегистрированного.
Никто из моих знакомых, проживающих в Париже, имеющих то или иное отношение к кино или театру, о таком институте на знают.
И, наконец, явившись лично в “Институт * по адресу: “7 rue de ponfoise ” в Париже я наткнулась на закрытые на код двери жилого дома, где я не увидела ни вывески, ни хотя бы маленькой таблички с названием “Институт Андрея Тарковского ”.
Не буду делать личных выводов, так как любой человек может зарегистрироваться как представитель того или иного культурного центра, назвать его “Институтом”, “Домом”, “Дачей”ит.п.
В любом случае обещаю Вам попытаться еще раз встретиться с г-ном Де Брандес и если буду иметь какие-то новости обязательно сообщу...
Мме. Francois Liouba 27, rue Maurice Berteaux ”.
Понятно, что встреча г-жи Любй с Де Брандес так и не произошла.
К тому моменту издательство стало валить всю эту историю на Ларису, так как она получала деньги, то есть она должна была бы мне их возвращать. Но Ларису не удавалось отыскать. Был указан ее адрес в Париже, по которому мой адвокат сделала запрос. 23 rue Jean COLLY 75013 Paris — оказался адресом ее дочери Ольги Кизиловой, что удалось выяснить только через официальный запрос моего адвоката во французскую префектуру, извещавшую, что м-м Тарковская там не числится. Что за семейка! Бог ты мой! Вранье на вранье, в которое втягиваются все...
В знак доказательства необоснованности моих претензий на книжку Лариса прислала еще копии пяти страниц из дневника Андрея Арсеньевича, за которые я ее уже благодарила выше и уже кое-что цитировала. Вот остальные записи.
10-го ноября 1984 года, находясь в Стокгольме, то есть после того, как мы уже повидались с Ларисой последний раз в Тоскане, а книга была мною полностью завершена, Андрей писал:
“Не успеваю переписывать книгу для Кристины. Ольга наваляла кое-как кое-что: просто переписала на бумагу кое-что, что я ей наговорил на магнитофон просто, как материал. Это халтура прямо-таки чистой воды.
Мне совершенно ясно, что в Москве папа писал все ее работы. Иначе это необъяснимо ”.
Поразительно, но я снова получила доказательство, что Лариса могла внушить ему все что угодно настолько, что он сам практически уже ничего не понимал. Так я думаю. Потому что, откуда могла возникнуть идея, что в Москве далеко не совершенный текст большой книги писал мой отец? И какая наглость предполагать, что ему больше нечего было делать, как работать на Тарковского как бы в семейном подряде.
Впрочем все это не случайно: отец мой снова возникнет на суде в показаниях Ларисиных свидетелей в том же курьезном контексте.
Но, возвращаясь к записи Тарковского: правка, которую он делает и о которой мы уже говорили, кажется ему чем-то чрезмерным. И что он имеет в виду, полагая текст (последней главы и заключения) только обработанной записью пленки. А что же он еще хотел? И что он внес нового, получив этот текст? Буквально ничего. Это просто поразительно, откуда такие претензии и почему такая аберрация зрения?
Запись без даты, может быть 16 марта 1986 года: “Работал с Кристиной над последней главой книги для немецкого второго издания. Надо выпустить книгу к.... ” Запись оборвана. Но ясно, что речь идет о главе, посвященной “Жертвоприношению”, которая обозначена в “Русской мысли”, как “последняя глава, законченная за неделю до смерти”, которую он делал уже после нашего разрыва, значит все-таки с Бер-тончини и за много месяцев до смерти. Значит я правильно догадалась о причине моего соавторства, указанного в итальянском издании. Бертончини, как и Шарль де Брандес, сами-то не отказывались получать деньги за свою работу?
А, наверное, 17 апреля того же года, если верить числу в записной книжке, Андрей пишет: “Срочно связаться с Ионом в Лондоне и переделать контракт для переиздания и американского издания. Без Сурковой”. Запись обрывается. Ну, не мило ли? Правда, есть утешение, потому что слово “без” выглядит так будто оно подделано Ларой. В оригинале этой страницы я бы определила это точно. Излишне говорить, что из этого ничего не вышло. В американском издании, купленном у англичан, тоже сохраняются мои авторские права.
А до этого есть еще одна, очень примечательная запись 28-го числа неясного месяца 1984 года, сделанная Тарковским в Сан-Григорио: “ Ольга повела себя тень странно. Какие-то разговоры насчет денег, насчет того, что не она^а я должен был бы ехать к ней работать. Во всяком случае, так сказала Лариса, и здесь следует быть осторожным ”. Ну, каково? Какая снова характеристика Ларисы, которую, отсылая мне копии, она даже не замечает. Какое самодовольное самодурство, новые нити того заговора, который она плела против меня и втянув его в этот заговор полностью. Высылая эту страницу и отчеркнув этот абзац, она даже на замечает, что сверху той же рукой написано: “Сейчасу нас Ольга Суркова — работали над книгой ”.
Незадолго до первого суда Забродин уже выпустил в Москве “Книгу сопоставлений” за моим авторством, полагая, как это было зафиксировано в газете “Сегодня” (4.12.93) Виктором Матизеном, “что дело не столько в непомерных требованиях Л.Тарковской, сколько в том, что по международному законодательству авторские права на книгу интервью целиком принадлежат интервьюеру (т.е. Сурковой), а с законом распавшегося к тому времени СССР он не счел нужным считаться”.
Заметьте, что точка зрения Забродина полностью совпадала с точкой зрения г-жи Титце. Так что вынужденное издание “Книги сопоставлений” только под моим именем было законным, и оспорить его не удалось, хотя пытались...
А пока, в ожидании суда, перенесенного “по семейным обстоятельствам” Бариловой и Чугуновой с 5 декабря 1991 года на июнь 1992 я попыталась кое-что выяснить, прежде всего попросив моего коллегу встретиться с Чугуновой в надежде, что, зная все, она устыдится. Но мой многоуважаемый коллега, встретившись с ней в коридорах Союза кинематографистов получил следующий ответ: “Знаете, я всю жизнь служила Андрею и Ларисе Павловне. В Бога я не верю, так что, если им это надо, могу соврать для них еще раз”... Вот такой незамысловатый ответ...
Как-то весной еще до суда я сама побывала в Москве и, оказавшись в Союзе, тоже решила попробовать навестить Машу на ее рабочем месте. Надо сказать, она смутилась, увидев меня. Но подтвердила свое намерение свидетельствовать против меня. На это я ей сказала: “Маша, ты все знаешь, и мне к этому добавить нечего. Но я хочу тебя предупредить, что если ты будешь что-нибудь врать, то мне придется подавать на тебя в суд за “лжесвидетельствование”. На что Маша, засмеявшись ответила, что ей будет очень приятно посидеть в комфортабельной мюнхенской тюрьме. И я обещала на прощание устроить ей это удовольствие, если ей очень захочется... (еще до фильма А.Суриковой “Хочу в тюрьму!”).
Суд состоялся в то время, когда по немецкой программе “Свобода” отзвучали пять моих передач о Тарковском по 30 минут каждая, основанные на его живых магнитофонных записях. Переводчиком со мной поехала тогда Мария Зоркая, специалист по немецкой литературе, работавшая в то время в университете в Кельне.
Мы не знали точно, кто еще явится на заседание суда. И вот мы увидели, кроме г-жи Бертончини, Бариловой и Чугуновой саму Ларису Павловну. Я ее не видела семье половиной лет. Что я могу сказать? Образ ее не изменился, и они вместе с Бертончини представляли собой некое гармоническое единство. Две крупные женщины очень средних лет, сильно раздавшиеся, с оплывшими от выпивонов лицами, сильно наштукатуренными косметикой. На улице было жарко, но на них были какие-то фирменные накидки, а голова Ларисы была увенчана шляпой. Две свидетельницы рулили следом за ними, они все-таки согласились ради “правды” и “справедливости” прикатить из Москвы в Мюнхен на чужие деньги. Какая, однако, похвальная жажда справедливости! Видел бы эту процессию своих защитников бедный Андрей. Был еще, конечно, адвокат “Ульштайна”, которого, честно говоря, я совершенно не помню.
В зале суда столы стояли буквой “П”. Судейская братия помешалась во главе стопа, а обвиняемым и обвинителям было предложено рассесться вдоль параллельных столов, друг против друга. Так что в течение нескольких часов я имела еще раз счастье насладиться образами двух подружек, близких по духу и стилю жизни. Между нашими столами па-раллелно судьям стоял стол для свидетелей и их переводчика, часть работы которого пришлось бескорыстно взять на себя М.Зоркой, т.к. немка не справлялась с цветистой русской речью.
Первой это торжественное место заняла Светлана Бари-лова. Она рассказывала о том, как Андрей любил читать ей куски своей книжки вслух и какими они была замечательными. Рассказывала о том, как на самом деле он уже раньше и до меня, оказывается, написал сам и один (даже без Козлова — О.С) книгу, которую он представлял издательству “Искусство”. (Оствалось неясным, где эта книга — О.С.) А я была взята Тарковским, по словам Бариловой, для “отмазки”, чтобы использовать возможности моего папы (вот, как здорово ценила свидетель моральный облик моего высокочтимого Маэстро!)
Самое смешное, что в итоге этого рассказа мой адвокат заинтересовалась, кем был мой отец и почему я “скрывала” от нее его “высокое положение”. Я высказала свое удивление, не очень понимая, какое это имело отношение к процессу. Но мой адвокат объяснила мне, что если мой папа имел такое значение, то зачем же мне было работать стенографисткой или секретарем у Тарковского, как заверяет обвиняемая сторона... Тут я была удивлена вдвойне — неисповедимы пути твои, Господи...
Затем выступила Чугунова, пытавшаяся рассказывать о том, что то, что я сделала, мог сделать и другой человек рядом с Тарковским. Очевидно она имела в виду прежде всего себя. А мне вспоминались детали из прошлого, когда я ощущала, как она ревнует меня к Тарковскому. Мне было ее жаль, но я не видела своей вины перед ней и всегда очень хорошо к ней относилась. Судьи спросили, известна ли свидетельнице рукопись, о которой идет речь? “Конечно, — отвечала Маша. — Я же ее перепечатывала”...
Тут я попросила слово, спросив: “Маша, а я тебе заплатила половину денег за перепечатку?”
“Да”, — ответила Маша. А я уж не стала уточнять, как она плакалась мне в подъезде дома на Кутузовском, где мы были вместе с Тарковскими в гостях у Жени, директора мебельного магазина, сколько денег ей должны Тарковские, и как даже за перепечатку Андрей своей половины ей не заплатил.
“А вы слышали, как Тарковский диктовал Сурковой вопросы”, — спросил судья. Тут Маша усмехнулась и отвечала: “Ну, вы не знали Тарковского. Он никогда ничего не спрашивал, а говорил только в утвердительной форме”.
Выступления, на самом деле, были длинными. Но все, что говорилось, было до нелепости смехотворно. Только для меня это был грустный смех. После двух выступлений был объявлен перерыв, и мы с Машей Зоркой слышали, выходя из комнаты заседаний, как Лариса чехвостила Машу Чугунова, а та что-то бубнила в ответ, оправдываясь.
Ко второй половине заседания “обвиняемые” дамы пришли, несколько поддав,—так что лица их расплылись поболее.
Бертончини сначала рассказывала о том, что “Запечатленное время от “А” до “Я” написано собственноручно Тарковским, а “Книгу сопоставлений”, как и меня, она вообще никогда в глаза не видела, подписав контракт именно на эту книгу с Тарковским. А еще, как большой стилист, она заверяла судей, что “тяжеловесный, советский стиль Сурковой приходил в противоречие с блестящей стилистикой господина Тарковского”. Правда, оставалось неясным, откуда ей знаком мой стиль, если она обо мне и о “Книге сопоставлений” знать ничего не знала и ведать не ведала. Чудеса в решете.
Здесь судьи объявили, что показаний свидетелей им достаточно, но адвокат стал более, чем настойчиво просить предоставить слово Ларисе Тарковской. Судья попытался сопротивляться, полагая, что у нее не может быть заявлений по существу. Но настояли, и Лариса Павловна заняла место за свидетельским столом, оказавшись в профиль, в двух метрах от меня...
К моему великому сожалению, последнее из последних свиданий с Ларисой Павловной было уже без боли и грусти — оно было подобно абсурду, о котором оставалось только сожалеть. Правая рука Ларисы, усевшейся за стол показаний, нервно шарила по его поверхности в поисках Библии, чтобы, очевидно, поклясться говорить, как в кино, “правду, одну правду и только правду”. Она еще не поняла, что гражданское дело не требует Библии. Затем она начала говорить оставшееся за ней последнее слово “правды”.
“Мой муж, гениальный режиссер Андрей Тарковский.
Это великий художник. Это величайший художник. Это самый великий и гениальный художник...
Тут Ларису попытались прервать несколько раз, но она снова продолжала множить эпитеты. Ее остановили уже совсем строго, сказав: “Вы можете продолжать только, если у вас есть что-то сказать по существу дела.”
Тогда Лариса, повторив еще раз о “величайшем из великих Тарковском”, обернулась ко мне, злобно прошипев: “вот поэтому эта сволочь и не хочет от него отцепиться”. К сожалению, немка-переводчица, сидевшая от нее по другую сторону опять не расслышала это важное соображение, а Лариса продолжала: “Прежде всего мой муж был таким гениальным, таким интеллектуалом, что он никогда не нуждался ни в каких соавторах. Достаточно сказать, что сценарии всех своих фильмов он написал сам”...
О чем говорить дальше? Ларису стали лишать слова, но дама “слабая и беззащитная” пыталась все-таки прокричать свою последнюю и окончательную “правду” вослед уже удалявшемуся судебному заседанию: “Да, я молчала. Мои адвокаты даже удивлялись моему терпению. Но теперь это уже выше моих сил, и теперь мои адвокаты запретят Сурковой вообще произносить его имя ”...
Вот уж поистине еще более сочное свидетельство, что от великого до смешного только один шаг.
Суд я, конечно, выиграла, но это все равно были годы, вырванные из моей жизни. Тем не менее была еще апелляция. Все снова стоило денег и новый суд откладывался еще на год. Не вдаюсь более в подробности, которые хранятся все в том же чемодане, глядя на который сегодня вспомнается песня далекого пионерского детства, когда в лагере мы упо-енно голосили:
“А это был не мой чемоданчик.
А это был чужой чемоданчик.
А это был не мой.
А это был чужой.
А это был не мой чемоданчик ”
Но почему-то этот чемоданчик оказался моим и, открывая его, я с удивлением снова обнаруживаю еще письмо, адресованное моему адвокату, написанное на бланке “Конфедерация Союза Кинематографистов” и подписанное свободным, настроенным демократически, новым Председателем комиссии по творческому наследию ААТарковского господином Элемом Климовым:
“Уважаемый господин Ригиль! (Она, правда, была госпожой — О. С.)
Комиссия по творческому наследию А.А. Тарковского Конфедерации Союза Кинематографистов доводит до Вашего сведения, что в народный суд Краснопресненского р-на г.Москвы подано исковое заявление против акционерного общества “Киноцентр ” о нарушении авторских прав А.А. Тарковского.
В издании, осуществленном АО “Киноцентр” (О.Суркова “Книга сопоставлений”), факт нарушения авторских прав А.А.Тарковского настолько очевиден, что мы абсолютноуверены в положительном решении вопроса ”.
Так и хотелось тогда спросить Э. Климова, ваятеля новой демократической жизни в бывшем Союзе, а как же у вас обстоит дело с “презумпцией невиновности”, ежели только подавая в суд, вы уже уверены в моей виновности?
“Нет, ребята-демократы, только чай”...
Вот такими заявлениями заканчивалось мое сотрудничество с Тарковским, признанное в Мюнхене 6 мая 1993 года действительным, начало которого было отмечено в моем дневнике красным числом: “2 ноября 1973 г. Какой потрясающий день! Была у Тарковских в связи с “официальным *предложением Андрея делать вместе с ним книгу вместо Козлова. Была счастлива! Только волнуюсь теперь, вступит ли это его предложение в свои “законные права", то есть подпишет ли издательство с нами договор ?
Издательство с нами договор подписало, но “законные права” мне пришлось ожидать, с его “легкой руки”, 20 лет. Так-то! Добрые дела не остаются безнаказанными.
Я выиграла суд в Германии, поставив точку на всей этой истории. Но книга издана в десятках других стран без моих авторских прав: Франции, Бразилии, Японии, Венгрии, скандинавских странах. Тяпа, сын Андрея, увы, продолжает дело своей выдающейся на свой лад матери — стричь все те же самые купоны со своего покойного отца.
Я была в России и попала в Дом кино на 60-летие Тарковского, то есть еще до первого решения суда по моему иску. Когда я выходила из зала, Маша неожиданно предложила мне спуститься вниз в кафе, где было организовано мини-чествование. Из великих за тем застольем вспоминаются тот же Климов, Соловьев, Куницын, Княжинский, Кайдановский... По составу гостей да и по всей атмосфере все это производило отчасти странное впечатление — тем более, что Андрей так мало бывал в Доме кино. Но все неплохо выпили за казенный счет, и я уже направлялись к выходу, когда Кайдановский вдруг заявил мне: “Ну, чего ты привязалась к великому человеку? Размазал бы тебя сейчас по стенке... Денег захотела? Так я их тебе заплачу”... Может быть, я слишком долго не жила в России, но буквально онемела в первый момент от “легкости” русской светской речи...
Но Кайдановский уже подхватил меня под руку, отводя в сторону и предлагая поговорить с ним... И я почему-то попыталась ему что-то объяснять дрожащими от обиды губами... А он, мало вслушиваясь, снова переспрашивал, сколько я хочу денег, чтобы остановить процесс... И вдруг я поняла, как нужно с ним разговаривать, твердо сформулировав вдруг: “Ну, тысяч двадцать!”
— Чего? — спросил он, сразу вдруг растерявшись.
— Долларов, конечно, — ответила я. — Дело в том, что я давно живу на Западе и на рубли не считаю. Но если ты мне гарантируешь выплату этой суммы, то ты защитишь честь великого Тарковского, а я гарантирую тебе прекратить процесс. Давай бумагу.
— Но бумаги, знаешь, здесь нет, — вдруг как-то неуверенно обмяк Кайдановский.
— Почему нет? — настаивала я. — Вот сейчас попросим твою подругу Машу Чугунову принести бумагу и составим текст.
— Нет, знаешь, — хихикнул уже Кайдановский. — Ручки у меня здесь тоже нет.
— Тогда запиши мой адрес и телефон. Я буду тебя ждать с готовой ручкой и бумагой до двух часов дня, если ты готов расплатиться сам или собрать деньги для спасения чистого имени твоего учителя. Так что договорились?!
Продолжения этой истории не последовало, и мне пришлось поставить на ней жирную точку.
Post scriptum, возникший post factum
О, Иеффай, судия израильский, какое у тебя было сокровище!
Шекспир. Гамлет. Акт II, сцена 2
Вначале этой истории я сетовала, что мой диалог с Тарковским не был закончен. И вот сколько лет понадобились мне, чтобы высказать, наконец, все то, что хотелось сказать ему.
Тарковский говорил, что человечество существует для того, чтобы создавать шедевры или “иероглифы истины”.
Какое, право, возвышенное занятие. Какая ошибочная идея. Не создан ли человек для того, чтобы заботиться о своей душе, окучивать ее в своих земных скитаниях? Расчистить для нее место, чтобы не запорошило придорожной пылью...
Шедевр для рождения души? Или душа для рождения шедевра?
Если задуматься над этими вопросами в контексте тех глобальных идей, которыми задавался сам Тарковский: как реализовать заповедь “не употреби во зло”... Выход, очевидно, в авторской убежденности в своей правоте. Надо почувствовать в себе пророческое признание, чтобы иметь смелость применять такую методологию.
То есть в контексте религиозных идей и пророческого призвания... Но есть ж у всякого человека право пророчествовать?
“Для человека, чтобы он жил, не мучая других, должен существовать идеал.
Идеал, как духовная, нравственная концепция закона.
Нравственность — внутри человека. Мораль — вне и выдумана, как замена нравственности,
Там, где нет нравственности, — царит мораль — нищая и ничтожная. Там, где она есть, — морали нечего делать.
Идеал недостижим, и в этом понимании его структуры величие человеческого разума ”.
Неужели шедевр создается для пестования чужих душ, когда собственная расплачивается утратой даже морали, “нищей и ничтожной”? Что уж говорить о нравственности как внутренней привилегии человека? Не дана она нам, как дар, а вырабатывается всей жизнью. Потому сказано “станьте, как дети”, пока не успели еще наследить как следует...
Жизнь — дело отдельное и ответственное, не всегда красящее человека, даже жаждущего Идеала. Как у Достоевского: “Убеждения и человек—это, кажется, две вещи во многом различные... Все виноваты, все виноваты... если бы в этом все убедились!..”
Однако огромная важная часть моей жизни, за которой я честно плелась на этих страницах, пережитая заново, все более неумолимо казалась мне только сдувшимся шаром. И неужели тот обмылок в руке, который я получила в финале этой длинной истории, можно назвать мудростью жизни? Умудренностью опытом? Неужели он так скучен? Не верю. Но знаю. Знаю тем навязчивым знанием, которого больше не хочу.
Лучше уж следом за горячечным бредом милого Степана Трофимовича Верховенского тоже мечтать в забытьи, что “больной исцелится и “сядет у ног Иисусовых”... и будут все глядеть с изумлением...”
“В эту минуту у подъезда избы прогремел чей-то экипаж и в доме поднялась чрезвычайная суматоха”.
Как хорошо! Но только бы опять все не перепуталось...
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




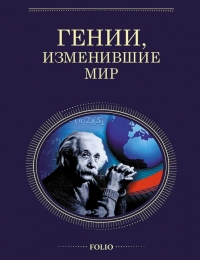
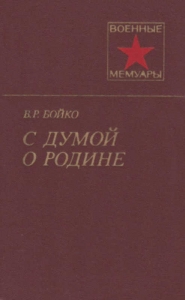

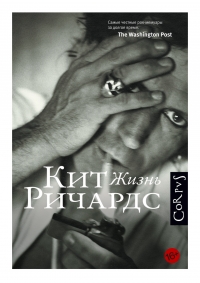
Комментарии к книге «Тарковский и я (Дневник пионерки)», Ольга Евгеньевна Суркова
Всего 0 комментариев