Арман Мари Леруа Лагуна. Как Аристотель придумал науку
© Armand Marie Leroi, 2014
© С. Ястребова, перевод на русский язык, 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО “Издательство Аст”, 2019
* * *
Посвящается моим родителям – Антуану Мари Леруа (1925–2013) и Жанне Кристине Жубер-Леруа
Среди греческих островов есть остров благородный и приятный (insula nobilis et amoena), который был хорошо известен Аристотелю. Он лежит на азиатской стороне, между Троадой и побережьем Мизии, и далеко вглубь этого острова, вплоть до городка Пирры, простирается широкая, закрытая со всех сторон лагуна.
Дарси У. ТомпсонОб Аристотеле как биологе (1913)Глава 1 “У Эрато”
1
В старинной части Афин есть книжный магазин – прекраснейший из известных мне. Он расположен в переулке недалеко от Агоры, рядом с магазином, где в клетках, вывешенных на фасаде, сидят канарейки и перепела. Широкие жалюзи пропускают свет, и он полосами падает на японские ксилографии на мольберте. Позади, в полумраке, – ящики с литографиями и стопы карт. Терракотовая плитка и гипсовые бюсты античных философов и драматургов служат подпорками для книг. Пахнет нагретой старой бумагой и турецким табаком. Тишину нарушают только приглушенные трели птиц из соседнего магазина.
Я возвращался туда много раз, и картина так мало менялась, что уже трудно вспомнить, когда я впервые зашел в магазин Георгиоса Пападатоса. Но помню, что тогда была последняя весна драхмы[1], и Греция была бедной страной. Жить там было дешево, и хотя в аэропорту Эллиникон на табло значились рейсы в Стамбул, Дамаск, Бейрут и Белград[2], меня не покидало ощущение, что я уже на Востоке. Георгиос (редкие седые волосы, брюшко книголюба) читал за столом старинный французский политический манифест. Он рассказал, что когда-то преподавал в Торонто. Но, “поскольку в Греции еще есть поэты”, Георгиос вернулся на родину и открыл книжный магазин, назвав его в честь музы любовной лирики: Эрато.
На стеллаже я нашел “Одиссею” в переводе Эндрю Лэнга и трехтомного Платона в переводе Бенджамина Джоуитта. Эти книги вполне могли принадлежать англичанину, вероятно, преподавателю, который в старости переехал в Афины, жил на пенсию и умер с эпиграммой Каллимаха на устах. Этот человек оставил здесь “Работы Аристотеля” в синих обложках, набранные шрифтом кларендон, под редакцией Смита и Росса (1910–1952). Античная философия никогда не представляла для меня интереса, к тому же я специализируюсь в естественных науках, однако я никуда не спешил и не желал покидать эти стены. Мое внимание привлекло название четвертого тома: “История животных” (Περὶ τὰ ζὼα ἱστορίαι). Я открыл наугад и стал читать о раковинах моллюсков.
При сравнении покрытых раковиной животных друг с другом можно обнаружить различия между их раковинами: у одних поверхность гладкая, как у морского черенка, мидии и так называемой “молочной раковины”; у других же – шероховатая, как у озерной устрицы, пинны, трубачей и некоторых других съедобных двустворок; одни из них полосатые, как гребешок и другие ракушки, а другие – без полос, как пинна и еще одна съедобная двустворка.
Слыша слово “раковина”, я всегда представляю себе нечто вполне определенное: раковину на подоконнике ванной комнаты, освещенную солнцем и покрытую толстым слоем отцовского талька для бритья. Скорее всего, родители подобрали раковину в Италии, но где именно (в Венеции, Неаполе, Сорренто, на Капри), они не помнили. Для них раковина была сувениром, памятью о далеком лете, когда они были молоды и только что поженились. Мне раковина нравилась сама по себе: шоколадное пламя завитков, ярко-оранжевое устье и недостижимое молочное нутро.
Хотя я восхищался этой раковиной много лет назад, я могу описать ее так точно, потому что сейчас она у меня перед глазами. Это прекрасный экземпляр харонии изменчивой (Charonia variegata). Представителей этого вида можно увидеть на минойских фресках и у Боттичелли (“Венера и Марс”). Рожки эгейских рыбаков – потертые раковины с отверстием – и сейчас можно найти на афинском рынке Монастираки. Аристотелю они были известны как kēryx, “глашатай”.
Та раковина стала первой из множества: раковины, пусть они и казались бесконечно разнообразными, все же можно выстроить по порядку в зависимости от цвета и формы и постоянно перекладывать их в коробках из-под обуви. Отец, видя, что мое увлечение раковинами не проходит, построил витрину. Шкафчик с выдвижными ящиками для ярких каури, еще один – для ужасающе ядовитых конусов, третий – для филигранно выточенных мурицид, а еще – для олив, маргинелл, букцинумов, конхов, тоннид, литторин, неритов, турбинид и морских блюдечек, несколько – для двустворчатых и два – моя гордость! – для африканских сухопутных улиток, созданий, которые напоминают обычных садовых улиток не более чем слоны – кроликов. Чистый восторг! Мать внесла в дело титанический вклад, напечатав каталог раковин и став, таким образом, моим Конселем, экспертом в латинской иерархии таксономии моллюсков, пусть ее знания и были настолько оторваны от практики, что она едва могла отличить раковину одного вида от другого.
Kēryx Аристотеля – харония изменчивая (Charonia variegata)
В возрасте 18 лет (убежденный, что моим вкладом в науку явятся пространные монографии по малакологии, которые по меньшей мере на столетие станут последним словом в науке об ахатинидах из африканских лесов или – я тогда еще не определился – о букцинидах северных областей Тихого океана) я отправился изучать морскую биологию на исследовательскую станцию в маленьком заливе в Канаде. Там специалист по экологии моря, похожий на Эдварда Тича (настолько же нетерпеливый, насколько невероятно добрый), показал мне, как послойно (слои тоньше рисовой бумаги) снимать ткани брюхоногих моллюсков заточенным до остроты иглы пинцетом, и открыл мне строгую логику расположения частей тела моллюска, полностью подчиняющуюся функциональной необходимости. Другой, профессиональный ковбой-эстет (сочетание кажется абсурдным, хотя в его случае дисгармонии не ощущалось), научил меня размышлять об эволюции, то есть фактически обо всем на свете. Я слушал живую легенду – ученого с впалыми щеками Лао-цзы и жидкой бородой, который, будучи слепым от рождения, обнаружил одну из частей эмпирического мира, которую можно не видеть – и все же познавать. (Речь идет, конечно, о форме раковин.) Ученый рассказывал о них с помощью одних прикосновений. Жила на станции и девушка. Ее кожа покраснела от ветра, а волосы были черными. И она могла провести, не дрогнув, по двухметровым волнам лодку с двумя джонсоновскими моторами по 60 лошадиных сил каждый.
Все это было давно. Никаких монографий по таксономии я, конечно, не написал. Наука ведет непредсказуемыми путями, и к моменту моего визита к Попадатосу я давно забросил раковины. Тем не менее я вспомнил все, когда открыл книгу:
Сразу за ртом следует желудок, и, между прочим, у морских улиток этот орган напоминает зоб птиц. Внизу он имеет два жестких выроста, по форме похожих на соски или пальцы. Такие же образования, только более твердые, имеет желудок каракатиц. От желудка идет простой длинный пищевод, тянущийся до органа, похожего на печень, расположенного глубоко внутри раковины. Правильность этих утверждений можно проверить, рассматривая внутреннее строение части тела, расположенной в завитке раковины мурексов и трубачей.
Можно недоумевать, как грубые слова способны передать красоту, но мне показалось, что они действительно ее передают. И дело не только в ностальгии. Нет, я вдруг понял, что именно Аристотель имел в виду. Очевидно, он спустился к морю, подобрал моллюска, задумался, что у того внутри, вскрыл и нашел то же самое, что и я 23 столетия спустя, сам того не зная, повторив его шаги. Мы, ученые, питаем к малоизученным областям истории интереса не больше, чем к метафизике. Мы смотрим в будущее. И все же история Аристотеля слишком хороша, чтобы ее игнорировать.
2
Район Ликей лежал прямо за стенами древних Афин. Святилище, посвященное Аполлону Ликейскому – Волчьему, – включало, кроме прочего, площадки для упражнений, несколько алтарей и сад. Точный план Ликея неизвестен. Страбон описывает его туманно, Павсаний – того туманнее. К тому же первый писал о Ликее через 20 лет, а второй – через два столетия после того, как римский полководец Луций Корнелий Сулла сровнял это место с землей. Сулла приказал срубить высаженные вдоль дорожек древние платаны и построить из них осадные машины. Цицерон, посетивший Афины в 97 г. до н. э., нашел на месте Ликея пустырь. Его визит стал данью уважения Аристотелю, который более чем за 200 лет до этого арендовал здесь несколько зданий и открыл школу. Говорили, что Аристотель прогуливался по тенистым тропинкам Ликея, беседуя с кем-нибудь.
Речь шла о правильном устройстве полиса: об опасностях, которые таят тирания и демократия. И о том, как трагедия очищает человека через сострадание и страх. Аристотель анализировал идею Блага (to agathon) и рассуждал о том, как люди должны проводить время, отпущенное им на Земле. Он предлагал ученикам логические задачи и требовал, чтобы они по-новому увидели основу бытия. Аристотель говорил лаконично – и пояснял умозаключения с помощью бесконечных перечней. Свои беседы он начинал с абстрактных принципов и часами рассматривал выводы из них, пока какая-либо сфера не получала исчерпывающего объяснения. Он разбирал идеи предшественников (имена Эмпедокла, Демокрита, Сократа и Платона не сходили у него с уст) – порой неохотно признавая их правоту, но чаще с пренебрежением. Аристотель – любитель систематизации – сводил мировой хаос к порядку.
Скорее всего, ученики смотрели на Аристотеля с восхищением и, вероятно, с долей страха. Некоторые его изречения наводят на мысль, что в выражениях он не стеснялся: “Корень учения горек, да плод его сладок”, “Между образованным и необразованным такая же разница, как между живым и мертвым”. Об одном философе-оппоненте он отозвался так: “Позор молчать, коль Ксенократ болтает”. Там же Аристотель приводит описание Ксенократа, и лестным его не назовешь. Ксенократ предстает изнеженным денди, пальцы которого унизаны перстнями, роскошно одетым и пекущимся о прическе. Когда Аристотеля спросили, почему приятно водиться с красивыми людьми, он ответил: “Кто спрашивает такое, тот слеп”. По описанию, сам Аристотель был “шепеляв в разговоре” и имел “худые” ноги и “маленькие” глаза.
Впрочем, это может быть просто злословием, если учесть, как относились друг к другу оппоненты-философы и насколько ненадежны слова биографов. Зато мы знаем, о чем Аристотель рассказывал: сохранились записи его бесед. Книги Аристотеля (“Категории”, “Об истолковании”, “Первая аналитика”, “Вторая аналитика”, “Топика”, “Софистические опровержения”, “Метафизика”, “Евдемова этика” и “Никомахова этика”, “Поэтика”, “Политика” и т. д.) высятся над историей западной мысли, как горный хребет над долинами. Эти книги (иногда ясные, но чаще туманные и загадочные, с лакунами, изобилующие повторами) обессмертили имя Аристотеля. За то, что они нам доступны, стоит, как это ни парадоксально, сказать спасибо Сулле, увезшему в Рим библиотеку пирейского книголюба Апелликона. Однако философские тексты – лишь часть написанного Аристотелем, притом не самая важная. Среди его книг, увезенных Суллой, по меньшей мере девять посвящены животным.
Аристотель был жаден до фактов и идей. Однако любимой его отраслью знаний была биология. В его трудах разговоры о природе неизменно сводятся к живым организмам: он принимается описывать всевозможные растения и животных, что населяют мир[3]. Конечно, философы и врачи и до Аристотеля по-дилетантски занимались биологией, но он отдал ей большую часть жизни. И поступил так первым. Аристотель изобрел биологию. Можно даже сказать, что он создал науку как таковую.
В Ликее Аристотель преподавал естественные науки. Во введении к одной из его книг приведено краткое содержания курса, и становится понятно, о чем он рассказывал и в каком порядке: общие представления о природе, движении звезд, краткие сведения из химии, метеорологии и геологии, а все остальное время посвящено описанию известных Аристотелю существ, в том числе человека. Его работы по зоологии служат конспектами к данной части курса. Одна книга посвящена предмету, который мы сейчас называем сравнительной зоологией, вторая – функциональной анатомии. В двух речь идет о том, как передвигаются животные, в одной – как они дышат, в других двух – как умирают. Наконец, одна книга рассказывала о системах органов, которые поддерживают их жизнь. Есть у Аристотеля труд и о том, как организмы растут в матке, превращаются в половозрелых особей и сами дают потомство. Кроме того, он оставил несколько трактатов о растениях, однако они (как и две трети других его работ) утеряны, их точное содержание неизвестно.
Зато сохранившиеся тексты – настоящий клад для натуралиста. Многие описанные в них существа живут в море или на побережье. Аристотель описывает внутреннее строение морских ежей, асцидий и моллюсков. Он наблюдает за птицами на болотах и оценивает форму и размеры их клювов и ног. Дельфины восхищают его тем, что выглядят как рыбы, но дышат воздухом и выкармливают детенышей молоком. Он упоминает более 100 названий рыб – и рассказывает, как они выглядят, что едят, как размножаются, какие звуки издают и куда мигрируют. Любимым животным Аристотеля была каракатица: странное и смышленое беспозвоночное. Должно быть, он был завсегдатаем на рыбном рынке и провел немало времени с рыбаками, расспрашивая о каракатицах.
Как бы то ни было, аристотелевская наука по большей части не описательная: это ответы на сотни вопросов. Почему у рыб жабры, а не легкие, и плавники, а не ноги? Отчего у голубя есть зоб, а у слона есть хобот? Почему хищные птицы откладывают мало яиц, а рыбы – много икринок? Почему воробьи распутны? Зачем нужны пчелы? А верблюды? Почему лишь люди ходят на задних конечностях? Как именно мы видим, слышим, ощущаем прикосновения, запахи? Как среда влияет на развитие организмов? Почему иногда дети похожи на родителей, а иногда нет? Зачем нужны семенники, менструация, оргазм, выделения из влагалища? Какова причина появления на свет уродов? В чем настоящее отличие мужчины от женщины? Что поддерживает в организмах жизнь? Почему они размножаются? А умирают? Эти вопросы – не просто робкие вылазки в новую область знания. Это целая наука.
Может быть, даже слишком целая: иногда кажется, что Аристотель находит объяснение буквально всему. Любивший приукрасить Диоген Лаэртский, описавший внешность Аристотеля (через 500 лет после его смерти), рассказывает: “В области естественных наук он превзошел всех остальных философов в том, что касается расследования причин, настолько, что любой, даже самый незначительный на первый взгляд феномен, получил благодаря ему объяснение”. Есть ощущение, что философия Аристотеля – это и есть биология, и он построил свою онтологию и эпистемологию лишь затем, чтобы объяснить устройство животных. Если бы у Аристотеля спросили, что, собственно, существует, он не стал бы, подобно нынешним биологам, отсылать собеседника к физикам-теоретикам, а указал бы на каракатицу: “Она”.
Наука, родоначальником которой стал Аристотель, многократно выросла, но его продолжатели парадоксальным образом позабыли родоначальника биологии. Бросьте камень в толпу в Лондоне, Париже, Нью-Йорке или Сан-Франциско – и попадете в молекулярного биолога. А теперь спросите его: “Что Аристотель сделал для биологии?” В лучшем случае спрошенный посмотрит с недоумением. А вот Геснер, Альдрованди, Везалий, Фабриций, Реди, Левенгук, Гарвей, Рей, Линней, Этьен и Изидор Жоффруа Сент-Илер, Кювье (и это далеко не полный список) Аристотеля читали. И усвоили сам строй его мыслей. Таким образом, его мысль стала нашей, хотя мы и не задумываемся об этом. Идеи Аристотеля подобны подземной реке, и они то тут, то там пробиваются ручейками на поверхность истории науки. Пусть они кажутся новыми: на самом деле они очень стары[4].
Эта книга представляет собой исследование питающего биологию источника: работ, которые Аристотель написал в Ликее и которые пересказывал своим ученикам. Работ прекрасных, но и загадочных, ведь термины, которыми он пользовался, очень далеки от используемых теперь нами. Работы Аристотеля требуют перевода не только на наш язык, но и на язык современной науки. Это, конечно, опасно: всегда есть риск неправильно интерпретировать его мысли или приписать ему чуждые идеи.
Опасность особенно велика тогда, когда переводчик – ученый. Как правило, ученые – плохие историки. Нам, прямо скажем, не хватает критичности Ранке, чтобы воспринять прошлое само по себе. Занятые своими теориями, мы склонны видеть намеки во всем, что читаем. Жорж Кангийем, французский историк науки, высказался так: “Готовность искать и находить предшественников, отдавать им должное – вернейший признак отсутствия таланта к эпистемологической критике”. Апелляция Кангийема к чувствам, а не к разуму, заставляет сомневаться в истинности его заявления. Кроме того, Кангийем игнорирует факт, очевидный всякому ученому и едва ли не всем историкам: наука накапливает знания, у ученых есть предшественники, нам необходимо знать, кем они были и что им было известно. Но в утверждении Кангийема есть малая, притом болезненная, доля правды.
Читая эту книгу, стоит держать в уме вышесказанное. Однако позвольте выступить в защиту ученых. Главной темой сочинений Аристотеля был живой мир во всей его красе. Поэтому, вероятно, кое-что у него можно почерпнуть, если воспринимать его как биолога. В конце концов, современные биологические теории связаны с аристотелевскими не только в силу того, что последние предшествовали нынешним, но и того, что все они пытаются объяснить одни и те же явления. Так что, возможно, мысли древнего грека не так уж отличны от наших.
В XX в. выдающиеся умы стали рассматривать работы Аристотеля не как естественную историю, а как натурфилософию. Дэвид Балм (Лондон), Аллан Готтхельф (Нью-Джерси), Вольфганг Кульман (Фрайбург), Джеймс Леннокс (Питтсбург), Джеффри Ллойд (Кембридж) и Пьер Пеллегрен (Париж) подарили нам нового, захватывающего Аристотеля. Их открытия появляются буквально на каждой странице этой книги, хотя они, скорее всего, не согласились бы с написанным мной – не в последнюю очередь потому, что они сами нечасто соглашались с коллегами. Я не претендую на оригинальность. Тем не менее мне лестно думать, что ученый, занимающийся естественными науками, мог, пусть случайно, найти у Аристотеля то, что пропустили историки и философы.
Мне кажется так, поскольку иногда слова Аристотеля как будто адресованы биологам, как, например, когда он объясняет, зачем изучать живые организмы. Так легко представить философа среди колонн Ликея. Аристотель указывает недоверчивым ученикам на кучку испачканных собственными чернилами каракатиц, разлагающихся под солнцем Аттики:
– Выберите одну, препарируйте ее и рассмотрите.
– ?
В раздражении он объясняет:
Не следует ребячески пренебрегать изучением незначительных животных, ибо в каждом произведении природы найдется нечто, достойное удивления; и, по слову Гераклита, обращенному, как говорят, к чужестранцам, искавшим с ним встречи, но в нерешительности остановившимся у порога при виде его, греющегося у очага (он призвал их быть смелыми и входить: “Ибо и здесь существуют боги”), надо и к исследованию животных подходить без всякого отвращения, так как во всех них содержится нечто природное и прекрасное. Ибо не случайность, но целесообразность присутствует во всех произведениях природы и притом в наивысшей степени, а ради какой цели они существуют или возникли – относится к области прекрасного.
И это – приглашение к биологии.
Глава 2 Остров
3
Как Аристотель задумался о биологии? Загадка. Как, в конце концов, можно придумать целую науку? Первым попытался ответить на этот вопрос Дарси Уэнтворт Томпсон. Позднее он прославился собственной очень оригинальной книгой “О росте и форме” (1917), в которой объяснял, почему у животных именно такая форма тела. Ну, а в 1910 г. Томпсон был дилетантом и неудачником. Ему было всего 24 года, когда после Кембриджа он возглавил кафедру зоологии в Университетском колледже г. Данди. Человек неистощимой энергии, Томпсон преподавал, читал лекции рабочим, писал письма в “Данди курьер”, пополнял коллекцию зоологического музея (добыча им утконоса стала настоящим триумфом), изучал на Беринговом море тюлений промысел, слал филологические статьи в “Классикал ревью” – и при этом печатал очень мало научных работ. Когда Томпсону исполнилось 28 лет, его прежний наставник из Кембриджа напомнил ему, что следует заняться и наукой, пока не стало слишком поздно. Тридцативосьмилетнему Томпсону кембриджский приятель писал: “Позволь дать совет. Ты должен публиковать больше научных работ”. Томпсон с неохотой последовал этому совету и в 1895 г. издал “Глоссарий греческих птиц”, в котором сопоставил с современными все виды птиц, упомянутых в древнегреческих и древнеегипетских текстах. Коллег это не впечатлило. И вот в 1910 г. он опубликовал свой перевод “Истории животных”.
Под пером Томпсона беспокойная проза Аристотеля приобретает величественность: “Все живородящие четвероногие, таким образом, снабжены пищеводом и дыхательными путями, расположенными так же, как у человека; это утверждение применимо и к яйцекладущим четвероногим и птицам, однако последние демонстрируют различия в строении этих органов”. Или: “В случае икромечущих рыб процесс совокупления менее доступен для наблюдения”. Или: “Климат во многих местах будет влиять на характерные особенности; например, в Иллирии, Фракии и Эпире ослы невелики”.
Томпсон применил свое знание зоологии, чтобы установить, каких именно существ описал Аристотель. В Аравии, по его словам, обитает мышь гораздо крупнее нашей полевой мыши и “с задними ногами длиною в пядь и передними – длиной с первый сустав большого пальца”. Это, указывает Томпсон в сноске, описание тушканчика (Dipus aegyptiacus[5]) или родственного ему вида – что мгновенно проясняет дело. Иногда примечания грозятся заслонить текст: “Заметим, что ῥιvόβατος, скорее всего, является современным родом Rhinobatos (Уиллоуби и другие ранние авторы называют его Squatinoraia), включающим R. columnae, а также прочие виды, представителей которых часто можно встретить на греческих рынках. Аристотелевский ῥίνη – это, должно быть, рыба-ангел Rhina squatina (Squatina laevis, Cuv.[6]), которая, по сути, представляет собой нечто среднее между скатом и акулой”. (Через несколько лет Томпсон опубликует и “Глоссарий греческих рыб”.) Он жалуется (и в его словах слышится отчаяние): “Описание, иллюстрирование и критическая оценка представлений Аристотеля о естественной истории – это задача без конца и края…”.
Важнейшие строки “Истории животных” Томпсона во введении. Они подаются без помпы, поэтому их легко пропустить:
Думаю, можно доказать, что Аристотель занимался естественной историей либо исключительно в среднем возрасте, либо почти целиком в то время, в промежутке между двумя эпизодами жизни в Афинах; скорее всего, спокойная, окруженная сушей лагуна у Пирры была его излюбленным местом охоты…
Городок Пирра находился на острове Лесбос.
Лесбос (Митилини)
4
Западная часть Лесбоса пустынна. В пейзаже преобладают красный, охряный и черный: цвета вулканических туфов, разрушенных эрозией пирокластов и базальтов, оставшиеся от извержений 20-миллионолетней давности. Скудный растительный покров представлен шипастой ксерофитной флорой, типичной для эгейской фриганы. Тощие овцы пытаются щипать траву между каменных стен, которые образуют на склонах гор геометрически правильную решетку. Восток острова, однако, покрыт пышной зеленью. Склоны горы Олимбос, сложенные из сланцев, кварцитов и мраморов, поросли дубами (Quercus ithaburensis macrolepis и Q. pubescens), а на большой высоте – каштаном посевным и смолистой калабрийской сосной. В здешних реках водятся черепахи и угри, а аисты гнездятся в трубах заброшенных заводиков по производству узо. Весной редкий азиатский Rhododendron luteum окрашивает горные долины в желтый цвет, а в оливковых рощах в низменностях разворачивается ковер из маков. Остров лежит между Азией и Европой, в его флоре присутствуют представители обоих континентов. В 1899 г. греческий ботаник Палеолог Кантарцис описал 60 новых эндемиков в книге “Растения острова Лесбос”, изданной Парижским университетом. Почти все виды выделены ошибочно, но даже его более консервативные коллеги насчитали на острове 1,4 тыс. видов растений, среди них – 75 видов орхидей.
Залив Каллони (Колпос-Каллони) разделяет непохожие запад и восток острова. Связанный с морем узким проходом, он имеет 22 км в длину, 10 км в ширину и делит Лесбос почти пополам. Это внутреннее море – один из самых крупных водоемов в восточной части Эгейского моря. Питательные вещества с водой из горных рек попадают в Каллони. Их использует фитопланктон, отчего ранней весной вода в заливе зеленеет. На заросших зостерой отмелях плодятся лещи, окуни и крабы-плавунцы. Мягкие перекаты илистого грунта прерываются только старыми устричными рифами – но стоит упомянуть Каллони в присутствии грека, и он сразу заговорит о сардинах, особенно соленых, особенно с узо из Пломариона.
В северной части Лагуны добывают соль. Целая сеть каналов переносит все более концентрированный рассол из пруда в пруд. Насыщенные растворы осаждаются на ветках и камнях, что блестят под покровом из солероса европейского и кермека. В дальних прудах соль превращается в грубую корку, которую ломают и складывают в огромные пирамиды. Здесь и там видны ржавеющие механизмы, но их редко можно наблюдать в работе: соляное производство – очень спокойное занятие. Экология соляных прудов весьма проста. Галофильные водоросли служат пищей для рачков артемий и личинок мух-береговушек, а их, в свою очередь, выцеживают розовые фламинго, ходулочники, кулики и ржанки. В горячем рассоле озер способна жить лишь одна рыба: афаниус (Aphanius fasciatus), служащий пищей вышагивающим по берегу черным аистам и каравайкам, а также нескольким видам крачек, со свистом ныряющим с неба за добычей.
Весной и осенью соляные озера и окружающие их болота служат местом отдыха для тысяч птиц, совершающих перелет с севера в Африку и обратно.
5
Аристотель не был географом и не вел путевых заметок, но он удивительно часто упоминает Пирру, ныне Каллони, – городок на восточном побережье Лесбоса. Упоминания о Пирре навели Томпсона на мысль, что именно здесь Аристотель в основном и работал. Многие наблюдения Аристотеля о Пирре вошли в “Историю животных” – монументальный трактат по сравнительной биологии. Если составить из его заметок подобие биологического бедекера, текст получился бы примерно таким:
Рыбы Лесбоса размножаются в Лагуне. Некоторые рыбы – большей частью икромечущие – вкуснее всего летом; кефаль и хрящевых рыб лучше есть осенью. Зимой вода в Лагуне холоднее воды в открытом море, и большая доля рыб (но не большой морской бычок!) уплывает из залива, чтобы вернуться сюда летом. Белый бычок не морская рыба, однако и его можно здесь найти. Из-за отсутствия зимой рыбы съедобные морские ежи в проливе кормятся лучше, поэтому в это время они особенно вкусны и богаты икрой, хотя и невелики. В Лагуне живут и устрицы. (Некие хиосцы пытались заселить этими моллюсками воды, окружающие их, хиосцев, родной остров.) Когда-то здесь было много гребешков, но дноуглубительные работы и засуха уничтожили их. По словам рыбаков, морских звезд особенно много у входа в Лагуну. Несмотря на то, что Лагуна полна жизни, некоторые виды в ней не встречаются: рыбы-попугаи, шэды [сельдевые рыбы], катраны. Здесь невозможно найти и каких-либо других ярко окрашенных рыб. Нет ни лангустов, ни обыкновенного осьминога, ни мускусного осьминога. У Лекта, материкового мыса напротив Лесбоса, обитают особенно крупные иглянки[7].
Судя по тому, что Аристотель рассказывает о Лагуне и ее обитателях 23-вековой давности, это, вероятно, одно из старейших почти неизменных природных сообществ[8]. Мало что осталось от Пирры. Страбон пишет, что городок уничтожило землетрясение [в III в. до н. э.], но, судя по описаниям, нынешний ландшафт очень напоминает древний. В Лагуне все так же много устриц, хотя их тоннами вывозят в Северную Европу. До недавнего времени можно было найти и гребешка. Рыбак пожаловался нам, что прежде у входа в Лагуну было множество гребешков, но 20 лет назад дноуглубительные работы привели к почти полному их вымиранию. Похоже, популяция гребешков в Каллони то уменьшалась, то увеличивалась, и местные жаловались всегда. Рыбаки подтверждают и слова о ежегодной миграции рыбы в Лагуну и из нее для размножения, а также что здесь нет ни лангустов, ни катранов, ни рыб-попугаев, ни шэдов. Однако со времен Аристотеля фауна Лагуны изменилась. Здесь не было осьминогов, а теперь есть (и я съел несколько). Аристотель не упоминает и фламинго: они поселились в Лагуне лишь несколько десятилетий назад.
Kobios Аристотеля – большой морской бычок (Gobius cobitis)
6
Едва ли не каждый грек интересовался рыбой. Когда Аристотель рассказывал в Ликее о рыбах и подобных им существах, Архестрат на Сицилии сочинял поэму о гастрономии. Если путешествуете по Амбракии (Западная Греция), подстрекает Архестрат, купите “рыбу-кабана” (сома), даже если его будут продавать на вес золота! Берите гребешка с Лесбоса, мурену – из италийских проливов, а тунца – из Византия (нарезать, посыпать солью, обмакнуть в масло, запечь и съесть, пока горячо). Один из вариантов названия поэмы Архестрата – “Искусство жить роскошно”: для греков рыба была достаточно престижной пищей. Но что может заставить человека вскрыть рыбу и посмотреть, что у нее внутри, а не просто съесть?
7
Не то чтобы прежде Аристотеля не было науки или хотя бы натурфилософии: ее имелось в достатке. К моменту рождения Аристотеля в городах на малоазийском и италийском побережьях появлялись и исчезали философские школы, приверженцы которых желали познать мир. Греки называли этих людей “натурфилософами”, physiologoi – буквально “теми, кто рассказывает о природе”. Одни натурфилософы были чистыми теоретиками и в общих чертах описывали происхождение мира, его математическую упорядоченность, состав и причины его пестроты и неоднородности. Другие были эмпириками, которые искали в небесах и вообще во всем музыкальную гармонию. В их трудах можно усмотреть некоторые черты современной науки – однако в целом не видно, чтобы они критически оценивали свои теории в соответствии с наблюдаемыми фактами. Они стремились объяснить мир влиянием природы, а не божественным вмешательством.
Сравнение точек зрения двух мыслителей, почти современников, наглядно показывает сдвиг в образе мышления. Гесиод (650 г. до н. э.) усматривал причину землетрясений в гневе Зевса. А один из первых натурфилософов Фалес Милетский (574 г. до н. э.) считал, что “вся Земля невесома лежащей под ней влагой и плавает в ней”, что и обусловливает нестабильность суши. Разница во мнениях не могла быть заметнее: Гесиод ссылается на сверхъестественные силы, а Фалес говорит о силах природы (пусть и неверно).
Но сравнение не так просто провести, как кажется. Так, мы не до конца уверены, в чем именно заключалась мысль Фалеса[9]. Его тексты неизвестны; насколько известно, он их и не писал. Сенека Младший упоминал теорию землетрясений в своей книге “О природе”, однако она написана более чем через 500 лет после смерти Фалеса и об источниках там сказано мало. Поэтому есть повод задуматься, можем ли мы (и мог ли Сенека) иметь представление о взглядах Фалеса на землетрясения или что-либо еще. (Хотя Фалесу и приписывают предсказание солнечного затмения в 585 г. до н. э.) То же справедливо для большинства досократиков: их труды дошли в виде фрагментов и цитат у поздних авторов, которых можно подозревать в вольном обращении с материалом или даже в том, что они сами это придумали. Доксографические книги – источник и наслаждения, и отчаяния филологов.
Фрагментов, которые можно восстановить, хватит на несколько толстых томов. По ним видно, что в V в. до н. э. в Греции зародилось философское знание. Но очевидная для нас граница между наукой и не-наукой, философией и мифом, две с небольшим тысячи лет назад была не столь очевидна. Аристотель в “Метафизике” (кстати, содержащей богатый доксографический материал) рассматривает взгляды предшественников на начала бытия. Он приписывает Фалесу соображение, будто вода – материальное начало всего. Это логичная, хотя и нечетко сформулированная мысль заслуживает отдельного разговора. Аристотель рассматривает ее – и решает, что она нехороша. И замечает: “Некоторые полагают, что уже первые богословы, жившие в глубочайшей древности задолго до нынешнего поколения, держались того же воззрения на природу [что и Фалес]”.
Да, мифы могут быть осколками древних сказаний, но, очевидно, не настолько древних, чтобы не заслуживать упоминания в узкоспециальной дискуссии о первопричинах. Парой абзацев ниже, оставив Фалеса мариноваться вместе с богословами, Аристотель решает заняться Гесиодом и проверить, можно ли извлечь из его слов (“Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный”[10]) научные данные. Хотя Гесиод и был мифографом, его работы, по мнению Аристотеля, заслуживали рассмотрения.
Это и есть проблема признания натурализма как черты философии досократиков. Натурфилософы далеко не всегда оставляют богов за порогом. Глубоко в их космологиях скрыто божественное. Когда их спрашивали о первопричине мироздания, некоторые давали ответ, по сути, такой же, который дал бы христианин-креационист, другие ссылались на более отвлеченные силы, такие как Любовь, а третьи, убежденные материалисты, считали, что мир собрал себя сам. От Гесиода к Демокриту Творец наступает, отступает, иногда просто сворачивается калачиком и погружается в самосозерцание.
Тогда, возможно, натурфилософов делает первыми учеными предпочтение рационалистических объяснений мира натуралистическим? Они считали, что идеи нужно не принимать на веру, а обсуждать их и, если это требуется, отбрасывать. Они спорили друг с другом и предшественниками. Они были смелы. Вот, например, как Гераклит (ок. 500 г. до н. э.) оценивает пращуров: “Многознание уму не научает, а не то научило бы Гесиода и Пифагора, равно как и Ксенофана с Гекатеем”[11]. Язвительно – и звучит как мнение интеллектуала.
Большинство натурфилософов мало интересовалось биологией – и Эмпедокл (493–432 гг. до н. э.) также. Сицилиец знатного происхождения, он был оратором, поэтом, политиком, врачевателем и вдохновенным провидцем. В поэме “Очищения” он изображает себя бессмертным божеством и описывает, как тысячи людей стекаются к нему, моля о прорицании или излечении. Он не отказывает и даже – по крайней мере однажды – воскрешает покойника. Похоже на Иисуса с раздутым эго или на Заратустру с “пунктиком”. Эмпедокл при всем этом был еще и чрезвычайно влиятельным натурфилософом. Он написал трактат “О природе” и в нескольких тысячах стихотворных строк, кроме прочего, передал идеи космогонии, зоогонии, изложил отчасти механистическую, если не неправдоподобную, теорию дыхания, а также учение о четырех началах, которым впоследствии вооружился Аристотель.
Биология Эмпедокла, как и его тяга к мистицизму, отражала медицинские знания и умения его современников. А пока он с важным видом бродил по Сицилии, совершая перед восторженной толпой чудесные исцеления, Гиппократ (ок. 450 лет до н. э.?) на другой стороне Средиземноморья еще ходил в школу. На платейе городка Кос стоит скрюченный платан. Если верить табличке, под этим самым деревом повзрослевший Гиппократ однажды делился знаниями. На самом деле, вряд ли это то самое дерево, но и записки Гиппократа почти наверняка не принадлежат его перу. Некоторая доля корпуса Гиппократа, примерно 60 текстов, достаточно стара, чтобы быть написанной им или его учениками, но остальное датируется примерно I в.
Большая доля фрагментов корпуса Гиппократа – трезво, профессионально написанные тексты, в которых приводится натуралистическое объяснение болезней. Некоторые – примеры из практики, другие же написаны с претензией на интеллектуализм. Например, автор трактата “О мясе” утверждал, что пытается объяснить, как формируется человек и другие животные, откуда они происходят, что такое душа, здоровье и болезнь, что для человека хорошо и что плохо, что вызывает смерть… Банальны эти суждения или глубоки, они отличаются от того, что писал Эмпедокл. Вот что Гиппократ пишет об острых заболеваниях:
Питье уксуса медового, называемого оксимель, имеет, как ты убедишься, многоразличную пользу в этих болезнях, ибо он выводит мокроту и делает легким дыхание. Выгоды употребления его таковы: очень кислый, сделает немало для отхаркивания мокроты, отходящей нелегко, ибо если он выведет все то, что производит хрипение, сделает скользким и как бы прочистит горло, конечно, он успокоит легкое, так как он его мягчит. И если все это удастся, то принесет большую пользу[12].
А вот Эмпедокл:
Зелья узнаешь, какими недуги и дряхлость врачуют; Только тебе одному и открыть это все собираюсь. Ветров, не знающих отдыха, ярость удерживать будешь, Что, устремляясь на землю, порывами пажити губят; Если ж захочешь – обратное вновь их воздвигнешь дыханье. Мрачного после ненастья доставишь желанное ведро, В летнюю ж засуху зелень питающий вызовешь ливень – Хлынет потоками влага с эфирного неба на землю. Даже усопшего мужа вернешь из чертогов Аида![13]Аристотель назвал бы это лепетом.
Может показаться: все, что требовалось Аристотелю, чтобы стать ученым, – это как-то сблизить подходы ищущих и придирчивых натурфилософов и строго эмпирические – медиков. Что он, собственно, и сделал.
8
Достоверно о жизни Аристотеля известно немногое. Источники (их около десятка) появились спустя столетия после его смерти и нередко противоречат один другому. Веками ученые исследуют эти труды (запутанные при передаче, приправленные сплетнями и искаженные из-за конкуренции философских школ), пытаясь доискаться, каким в действительности был Аристотель. Результат удручающий: надежно установленные факты уместятся на одной странице.
Аристотель родился в 384 г. до н. э. в Стагире (отчего был прозван Стагиритом), прибрежном городе недалеко от современных Салоник. Его отец, Никомах, был асклепиадом: отчасти жрецом, отчасти врачом. Однако не простым, а придворным: врачом царя Македонии Аминты III. Но на самом деле это было не так внушительно. Македония была захолустьем, полуварварским государством. В возрасте 17 лет Аристотеля отправили в Афины, в Академию Платона. Там он провел почти 20 лет, сначала в роли ученика, после – учителя.
К тому времени, как Аристотель добрался до Афин, чтобы сесть у ног Платона, традиции натурфилософии, не прожив и двух веков, погибли. Причем буквально: Демокрит из Абдер, последний (и величайший) натурфилософ, умер за несколько лет до начала обучения Аристотеля. Через несколько лет Аристотель увидит в Демокрите грозного противника, c которым можно скрестить меч во имя живучести собственной системы. По словам Аристотеля, Демокрит продвинулся в понимании мира, “однако [даже] в такое время люди отказались от исследования природы, и философы направили свое внимание на политическую науку и практические нужды”. Он имел в виду Сократа.
Сократ (469–399 гг. до н. э.) в молодости увлекался натурфилософией, по крайней мере, так это описывал Платон в “Федоне”. Сократ задавался вопросами о происхождении жизни, о физическом субстрате сознания и о движении небесных тел, однако результат оказался ничтожен. Он вооружался (или, по крайней мере, пытался) то одним, то другим доводом натурфилософов, но неизменно приходил в замешательство. Равно ли двум один плюс один? К тому времени, как Сократ оставил свои попытки, он уже не мог точно ответить на этот вопрос. И решил, что этот способ исследования ему “решительно не нравится”. Кроме того, Сократу казалось, что натурфилософы никогда не дают правильных ответов – или даже не задают верные вопросы. Пытаясь поведать, почему Земля круглая, плоская или какая-либо иная, они должны еще вдобавок объяснить, почему они правы. Но они этого не делают. Вместо этого натурфилософы ссылаются на некие “причины”, а это не назовешь логичным. (“Это значит не различать между истинной причиной и тем, без чего причина не могла бы быть причиною”.)
Разочарованный отсутствием у натурфилософов интереса к поиску причин (ведь они “нисколько не предполагают, что в действительности все связуется и удерживается благим и должным”), Сократ “отказался от исследования бытия”. Ксенофонт рассказывает:
Да он и не рассуждал на темы о “природе всего”, как рассуждают по большей части другие; не касался вопроса о том, как устроен так называемый философами “космос” и по каким непреложным законам происходит каждое небесное явление. Напротив, он даже указывал на глупость тех, кто занимается подобными проблемами.
Первый вопрос относительно их, который он рассматривал, был такой: считают ли они себя уже достаточно знающими то, что нужно человеку, и потому приступают к изучению таких предметов, или же, оставляя в стороне все человеческое, а занимаясь тем, что касается божества, они думают, что поступают как должно?[14]
Натурфилософы с их противоречащими одна другой теориями выглядели глупцами. И нахлебниками:
По поводу их он высказывал еще такое соображение: кто изучает дела человеческие, надеется осуществлять то, чему научится, как для себя, так и для других, для кого захочет. Но думают ли исследователи божеских дел, что они, познав, по каким законам происходят небесные явления, сделают, когда захотят, ветер, дождь, времена года и т. п., что им понадобится, или же они ни на что подобное и не надеются, а им кажется достаточным только познать, как совершается каждое явление такого рода?[15]
Ученые не могут договориться друг с другом – значит, все они глупцы; кто они такие, чтобы играть в Бога? Что хорошего их работа принесла мне? – это звучащий сквозь века голос антинауки, ее первый крик. Этика гораздо полезнее. “Сократ первый свел философию с неба, поселил в городах, ввел в дома и заставил рассуждать о жизни и нравах, о добре и зле”, – таким было мнение Цицерона, и мнение хвалебное[16].
9
В окруженной стенами Академии имелись: гимнасий, священная оливковая роща и сады. Камни фундаментов еще можно увидеть на северо-западе Афин, однако электрические провода, поникшие деревья и мусор мешают вообразить картину. Платон приобрел здесь участок земли и открыл Академию около 387 г. до н. э. Диоген Лаэртский перечисляет некоторых учеников: Спевсипп Афинский, Ксенократ Халкидонский, Дион Сиракузский и еще несколько десятков со всего эллинского мира, в том числе две женщины. Академия Платона была скорее философским кружком, чем учебным заведением современного типа. Ученики не платили за обучение. Уже это отличало Академию от школ софистов и риториков, которые занимались подготовкой молодежи и учили красиво говорить, преуспевать и выигрывать в суде.
Когда Аристотель прибыл в Академию, Платон собирался на Сицилию. Возможно, за главного он оставил своего племянника Спевсиппа. Про него, сорокалетнего и злого, говорили, что он однажды в припадке раздражения скинул любимого пса в колодец. Тем не менее он, видимо, взял юношу под крыло: в сочинениях Аристотеля можно найти заимствованные у Платона мысли. Если диалоги Платона, доксографию учеников и преподавателей Академии и воспоминания самого Аристотеля можно считать правдоподобным пересказом разговоров в садах Академии, то натурфилософия не входила в основную программу занятий. А если и входила, то в отчасти нетрадиционной форме.
Интерес Сократа к теологии морали передался Платону. Конечно, взгляды этих двоих сложно разделить, так как сам Сократ принципиально ничего не записывал. Платон же писал, и много, и значительную часть написанного вкладывал в уста персонажа по имени Сократ. Хотя Сократ у Платона не так вопиюще антинаучен, как Сократ у Ксенофонта, зрелая философия Платона не менее враждебна науке, чем насмешки Сократа. Возможно, она даже в большей степени антинаучна, поскольку Платон писал отлично и его труды дошли до нас целиком.
В “Государстве”, наиболее известном диалоге Платона, он излагает свои взгляды на цели и методы натурфилософии. Главкон и Сократ обсуждают философов-правителей. Должна ли молодежь изучать астрономию? Да, говорит Главкон, ведь она полезна для многих занятий, например для земледелия, навигации и военного дела. Сократ мягко поправляет его за грубый утилитаризм. Хорошо, отвечает Главкон, тогда, возможно, им следует изучать астрономию потому, что это “побуждает душу взирать ввысь”. Главкон думает, что именно это хочет услышать Сократ, но тот снова поправляет. Главкон мыслит слишком буквально: единственное учение, что побуждает душу взирать ввысь, говорит Сократ, это имеющее дело с “бытием и невидимым” – с истинной реальностью за пределами кажущейся наружности вещей. Изучение звезд, продолжает Сократ, помогает, но не слишком. Фактическое движение светил – лишь несовершенное отражение невидимой реальности. (С тем же успехом можно заниматься поиском геометрических фигур на картинах.) И эта реальность постигается “разумом и рассудком, но не зрением”.
Главкон думал так же. Он капитулирует перед сократическим (платоновским) антиэмпиризмом. И когда разговор доходит до исследования гармонии, оба собеседника глумятся над натурфилософами, которые насилуют струны, прижав уши к своим инструментам, в тщетных попытках понять законы гармонии и пределы человеческого восприятия, будто пытаются подслушать голоса за соседней дверью. Эти “герои” (натурфилософы от музыки) “не подымаются до рассмотрения общих вопросов и не выясняют, какие числа созвучны, а какие нет и почему”[17]. Они упорно тренькают на арфах вместо того, чтобы разработать формальную теорию гармонии в музыкальном порядке, который они слабо себе представляют, – теорию, которая объяснит все красивое в музыке, теорию, которая объединит гармонию в музыке с гармонией движения звезд. “Сверхчеловеческая задача”, – замечает Главкон, и его слова могут даже показаться преуменьшением.
И здесь Платон должен был оставить тему. Если бы он сделал это, мы хотя бы могли приписать ему скромность. Но нет. Позднее он написал работу, в которой претендовал на описание и объяснение мира – всего целиком. Несмотря на амбиции, этот труд вчетверо короче “Государства”. Видимо, краткость – сестра таланта.
10
Платон в “Тимее” подробно описывает создание космоса и всего, что он содержит: времени, начал, планет и звезд, зверей и людей. Несмотря на скромный размер, книга претендует на энциклопедичность и охватывает онтологию, астрономию, химию, физиологию сенсорных систем, психиатрию, удовольствие, боль, человеческую анатомию и физиологию – с отступлениями на тему, почему именно печень является источником пророчеств, а также причиной болезней и сексуального влечения. Все это делает книгу похожей на труд по натурфилософии.
Если и так, то труд очень странный. Лишенный типичного для научных публикаций цитирования, эмпирических свидетельств, а иногда и веских аргументов в пользу той или иной точки зрения, “Тимей” – это салонный монолог, в котором автор делает одно неправдоподобное утверждение за другим. Будучи глубоко религиозным, текст направлен на раскрытие побуждений божественному “ремесленнику”, “мастеру”, “строителю” (Dēmiourgos) сотворить мир. А еще он полон политической пропаганды и повествует о том, как выглядел бы идеальный город из платоновского же “Государства”. Не совсем ясно, считал ли “Тимей” вкладом в натурфилософию сам автор. Он претендовал на желание рассказать о видимом мире, однако в самом начале книги предупреждал, что собирался изложить лишь eikōs mythos – правдоподобный миф. Отчасти это потому, что на самом деле он хотел описать мир по ту сторону чувств и считал, что любое описание ущербного видимого мира будет иметь лишь отдаленное отношение к миру скрытому, идеальному. Но может быть и так, что Платону просто не хотелось искать рациональное объяснение даже нашего мира.
Он выдает себя уже при попытках объяснить происхождение животных. Когда-то, говорил Платон, существовали в разной степени порочные или просто глупые люди. В соответствии со своими грехами они обратились в ползучих гадов, моллюсков и т. д. “Растить на себе перья вместо волос и дать начало племени птиц пришлось мужам незлобивым, однако легкомысленным, а именно таким, которые любили умствовать о том, что находится над землей, но в простоте душевной полагали, будто наивысшая достоверность в таких вопросах принадлежит зрению”[18]. (Речь здесь об астрономах.)
Неужели Платон всерьез считал, что птицы суть перевоплотившиеся натурфилософы? Или это шутка? Милосердно предположим последнее, поскольку первое экстравагантно даже для зоологии IV в. до н. э. Однако это выдает “Тимея”: это не работа по натурфилософии, а поэма, миф, тяжелая острота.
Оценка может показаться грубой. Платон разделял пифагорейскую очарованность геометрией и предпринял в “Тимее” одну из первых попыток описать мироздание с помощью математики. Говорят, над входом в Академию было высечено: “Не знающий геометрии да не войдет”. И даже если этого не видно, то же самое написано над закрытыми на электронный замок дверями любой университетской кафедры физики, даже если вы этой надписи не видите. Таким образом, если наука Платона едва отличима от теологии, то, судя по высказываниям некоторых физиков, и современная наука также: “Если мы действительно откроем полную теорию… то это будет окончательным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога”. Платон? Нет, Хокинг.
Даже сравнения не спасают Платона. Вот пример его математического моделирования: “Второй вид [тела] строится из таких же исходных треугольников, соединившихся в восемь равносторонних треугольников и образующих каждый раз из четырех плоских углов по одному объемному; когда таких объемных углов шесть, второе тело получает завершенность. Третий вид тела образуется из сложения ста двадцати исходных треугольников и двенадцати объемных углов…”. Этот пассаж об элементарных единицах целого свидетельствует о том, что его автор явно поглощен загадками Числа.
Мы не можем оправдывать Платона как продукт его эпохи. Не подлежит сомнению, что натурфилософы любили теоретизирование, не стесненное рамками эмпирии. Но они хотя бы имели в виду именно то, что произносили. Они не позволяли себе потешаться над другими и не пытались укрыться за мифами. Более того, лишь через несколько лет после того, как Платон написал “Тимей”, один из его учеников приступил к безжалостной и разумной осаде цитадели реальности, этой реальности. Текст Аристотеля занимает более тысячи страниц: исчерпывающий, если не сказать опустошающий, анализ того, что его предшественники думали о причинах и структуре природы, почему эти предшественники ошибаются (гораздо чаще, чем оказываются правы), в чем, по мнению самого автора, заключаются эти основы и какие есть эмпирические основания считать именно так. Аристотель отбросил идеализм своего учителя и увидел наш мир таким, какой он есть: прекрасным и именно поэтому достойным изучения. Он подходил к проблеме с подобающими смирением и серьезностью. Он изучал ее внимательно и не боялся испачкать руки. Аристотель обучался у одного из самых блестящих умов всех времен и народов и при этом не стал его копией. Он стал первым настоящим ученым. Вот основная загадка личности Аристотеля, заметившего: “Это [наш] долг – ради спасения истины отказаться даже от дорогого и близкого, особенно если мы философы. Ведь хотя и то и другое дорого, долг благочестия – истину чтить выше”[19].
11
В 348 или 347 г. до н. э. Аристотель неожиданно уехал из Афин. Этому есть по меньшей мере два объяснения. Первое таково: он уехал из-за обиды. Двадцать лет Аристотель работал в Академии Платона. Коллеги называли его “читчик”[20], но он был незаурядным человеком. Возможно, слишком незаурядным. Платон называл его “жеребенком”, намекая, что Аристотель нападает на учителя, “как сосунок-жеребенок лягает свою мать”. Много позднее Элиан изобразил Аристотеля не в лучшем свете, намекнув на борьбу за власть в Академии. Глубокий старец Платон, нетвердо стоящий на ногах и уже не такой проницательный, бродит по садам Академии и натыкается на Аристотеля и его банду. Они задают ему философскую трепку. Платон прячется, а Аристотелева ватага оккупирует сад на несколько месяцев. Даже Спевсипп бессилен, но Ксенократу, другому приверженцу Платона, удается их примирить. Неизвестно, правда ли это, однако после смерти Платона ключевой пост занял Спевсипп, а Аристотель уехал из Афин.
По второй версии, причина бегства была политической. Аристотель поддерживал тесные контакты с македонской знатью. Филипп II, сын Аминты III, поигрывал в то время мускулами. Он только что дотла сжег союзный Афинам городок Олинф и продал в рабство его жителей (вместе с солдатами афинского гарнизона). Афины с подачи Демосфена достигают новых высот в ксенофобии, и Аристотель уезжает, пока может.
Древние источники сходятся в том, что Аристотель отправился через Эгейское море в Малую Азию, где мелкие государства лавировали между персами, македонянами и афинянами. В числе их был Ассос (Асс) на южном побережье Троады. В Ассосе и Атарнее правил Гермий. Об этом человеке мало что известно сверх того, что родился он в безвестности, недолго правил и погиб страшной смертью. Говорят, что Гермий был рабом банкира Эвбула, правившего в Ассосе. Эвбул заметил его, освободил и даже сделал своим преемником. Говорили также, что Гермий обучался в Академии Платона. Кое-кто утверждал, что Гермий был евнухом. Многое из того, что о нем говорили, наверняка было направлено на то, чтобы обелить или, наоборот, очернить его: древние источники редко беспристрастны. Вне зависимости от своего происхождения Гермий, похоже, был человеком неглупым, потому что, став тираном (351 г. до н. э.), пригласил к двору некоторых членов Академии, в том числе Аристотеля.
Платон в “Государстве” рассуждает, как мудрость укрепила бы политическую власть. В свое время в погоне за идеалом Платон ездил на Сицилию, чтобы сыграть роль мудреца при дворе распутного Дионисия II Сиракузского – и эта попытка едва не стоила ему жизни. Может быть, Гермий был еще одной попыткой академиков воспитать философа-правителя? Позднейшие биографические фрагменты наводят на мысль, что 3 года, проведенные Аристотелем в Ассосе, смягчили нрав тирана. Даже если так, проект провалился. Гермий симпатизировал македонянам. В 341 г. до н. э. Афины почувствовали в македонском экспансионизме угрозу и вынудили Филиппа II вывести войска из Троады. Гермий остался без поддержки, и персы, временные союзники Афин, схватили его, пытали и убили. Аристотель тяжело перенес утрату. Много позднее он воздвиг в Дельфах памятник Гермию, на котором было высечено:
Сей человек вопреки священным уставам бессмертных Был беззаконно убит лучников-персов царем. Не от копья он погиб, побежденный в открытом сраженье, А от того, кто попрал верность коварством своим.Говорили также, что он ежедневно пел пеан во славу убитого друга: возможно, тот самый, записанный Диогеном Лаэртским. Это сильное проявление чувств может показаться экстравагантным, но известно, что Аристотель женился на Пифиаде – племяннице или даже дочери[21] Гермия. Аристотелю тогда было 37–38 лет. Невеста, скорее всего, была очень юна (В “Политике” Аристотель называет 37 лет идеальным возрастом для женитьбы мужчины; для девушек этот возраст, по его мнению, составляет 18 лет.) “Своей прекрасной розе с веткой миртовой // Она так радовалась. Тенью волосы // На плечи ниспадали ей и на спину”[22], – писал Архилох о другой девушке из другого времени, но я представляю Пифиаду именно такой.
Девушка-гречанка
12
Руины древнего Ассоса на склоне потухшего вулкана, вздымающегося над берегом. Храм Афины с пятью до сих пор стоящими дорическими колоннами венчает акрополь. Фундаменты стои, булевтерия, гимнасия, агоры и театра лежат чуть ниже, на склоне, ведущем к морю.
Огюст де Шуазель-Гуфье писал: “Мало какие города отличает настолько удачное и живописное расположение, как Ассос” и приводил очаровательное, хотя наверняка очень неточное, описание города времен его расцвета. Уильям Мартин Лик говорил, что Ассос – безупречный образ греческого города.
Прогуляйтесь по склонам, на которых расположена крепость, в сумерки, пройдите через турецкую деревню, переберитесь через забор, окружающий руины – и вы поймете, каким прекрасным был Ассос. Вы, однако, не сможете увидеть его таким, каким он предстал перед Шуазелем-Гуфье и Ликом. В 1864 г. турецкое правительство распорядилось снести большую часть руин и использовать обломки для постройки стамбульского Арсенала. К тому времени французы вывезли барельефы из храмов (подарок Блистательной Порты) и выставили в Лувре. Что ж, тем лучше. В 1881 г., когда американские археологи попытались раскопать то, что осталось, им пришлось справляться с местными жителями, которые растаскивали найденные стены и однажды даже побили камнями мраморного кентавра, не замеченного французами.
Во времена Аристотеля храму Ассоса было уже около 180 лет, но театр был построен позднее, в эллинистическое время. Вид из крепости, должно быть, не слишком изменился. Восточная стена все еще стоит. Окружающие холмы покрыты зарослями, а долины – дубами. Туристические отели расположены далеко внизу, у берега, и оливковых рощ здесь почти нет. Ничто вас тут не обеспокоит, кроме разве что изредка пролетающего турецкого Ф-16, охраняющего воздушные границы страны, да блеяния коз. Но вот остров приковывает внимание. Лесбос лежит прямо перед вами, он поразительно близок, будто нарисованный слоями серого и синего цвета. Чувствуешь, что можно добраться туда вплавь, и этому желанию трудно противиться, хотя пролив в самом узком месте имеет ширину девять километров. Невозможно увидеть Лесбос и не захотеть туда. Он сулит открытия.
Ассос (реконструкция)
Вид на Лесбос из крепости Ассоса, август 2012 г.
13
В 345 г. до н. э. (тогда Гермий еще правил) Аристотель с невестой уехали на Лесбос. Томпсон назвал два года, проведенные философом на Лесбосе, “медовым месяцем его жизни”. Может, так и было. Аристотель не оставил заметок, а древние биографы об этом периоде умалчивают. Однако если Томпсон прав, то именно на Лесбосе Аристотель начал великую работу по протоколированию сведений о живой природе и ее изучению.
Она могла бы начаться с беседы, случайного замечания, побудившего к эмоциональному ответу. Потом были новые разговоры, пока, наконец, не появилось видение ошеломительного, будоражащего целого во всем его великолепии. Это соблазнительная мысль – что биология появилась именно так. И даже вполне правдоподобная. Ведь на Лесбосе жил человек, который станет одним из ближайших друзей Аристотеля и унаследует его интеллектуальное богатство.
Тиртам родился в Эресосе, городке на юго-западном побережье Лесбоса. Окрестные долины зеленели виноградниками, город славился своим вином. Теперь долины сухи, виноградники заброшены, но кое-где еще можно разглядеть остатки древних террас. Мы не знаем, когда и как Тиртам и Аристотель впервые встретились. Возможно, что Тиртам – тринадцатью годами моложе Аристотеля – был одним из учеников, которые последовали за ним из Академии в Ассос. Если так, то Тиртам, скорее всего, теперь знакомил учителя со своими родными местами. Или, может быть, Тиртам никогда не бывал в Афинах, а познакомился с Аристотелем уже на Лесбосе – разговорчивый малый, который старался поразить высокопоставленного гостя. Мы даже не можем быть уверены в его имени: у Страбона он Тиртам, у Диогена Лаэртского – Тиртаний. Но это не имеет значения: настоящее имя давно забыто. Аристотель дал юноше прозвище Теофраст (Феофраст), то есть “Богоречивый”. Он станет соавтором Аристотеля. Сократ – Платон – Аристотель – Теофраст: новое звено в золотой цепи.
“Богоречивый” – достаточно странное имя для человека, чьи труды, несмотря на их важность, сухи как летняя почва. Одна из книг, дошедших до нашего времени, “Характеры”, – энциклопедия тех, кого следует избегать: грубиян, скупец, болтун и т. д. Да, это скучно именно настолько, насколько кажется. Теофраст также писал о логике, метафизике, политике, этике и риторике (в общем, полный набор тем Аристотеля), но книги не сохранились. А трактаты по ботанике дошли до наших дней, и они великолепны.
Теофрасту принадлежат две крупные работы. Первая, “Исследование о растениях”, – чисто описательная. Теофраст выделяет части растений и подразделяет их на деревья, кустарники, полукустарники, травы (эти названия групп существовали до эпохи Возрождения). Во второй книге, “Причины растений”, Теофраст рассуждает о том, как именно растения растут (влияние среды на рост, культивирование, болезни растений и причины их гибели). Вместе эти две книги являются тем, чем являются труды Аристотеля по отношению к зоологии: учредительными актами соответствующих наук.
Kisthos Аристотеля – ладанник (Cistus sp.)
Только вообразите: два философа гуляют в оливковой роще у Лагуны и делят мир между собой: “Возьми себе животных, я займусь растениями, и вместе заложим основы биологии”. Этот образ привлекателен, но упрощен. Теофраст писал и о животных, а Аристотель стал автором по меньшей мере одной книги о растениях (труды утеряны). То, что ботаники считают Теофраста основоположником своей отрасли, а зоологи Аристотеля – своей, – похоже, заслуга исключительно истории: монахи решили сохранить эти, а не иные, тексты. Однако вряд ли случайно Аристотель избрал родину другого великого биолога для того, чтобы заняться изучением животных. Научные интересы и жизнь этих двоих тесно переплетены. Теофраст сменил Аристотеля на посту главы Ликея и унаследовал самое ценное имущество: библиотеку.
Однако же образ мыслей этих двоих различен. Аристотель редко избегал категоричности, а Теофраст часто бывал сдержанным. Там, где Аристотель давал обзор, Теофраст предпочитал беспокоиться о сложных моментах. Поэтому часто думают, что в этой паре доминировал Аристотель. И все же, если перенести обоих на Лесбос, непонятно, кого первым посетила мысль изучать живые организмы.
14
Чтобы попасть на Лесбос, достаточно сесть на вечерний паром в Пирее. Если вы молоды, бедны или просто отважны, можете взять билет на палубу (30 евро). Вам придется найти себе место либо среди расположившихся у лестниц цыганских семей, либо среди солдат из островных гарнизонов, захвативших корабельный бар. Можно попробовать присоединиться к занявшим палубу крестьянам, возвращающимся к своим оливковым рощам. Или купить место в каюте – как-никак, путешествие длится 12 часов.
Порт остается позади – и вы оказываетесь посреди синевы. В три часа ночи паром уже на Хиосе. Судно настолько же велико, насколько мала гавань, – и вот, ворча, паром поворачивается вокруг своей 135-метровой оси. Под светом прожекторов сотрудники портовой полиции в белых мундирах дуют в свистки и машут руками, направляя грузовики и неуправляемых пассажиров. И все же это неправдоподобно эффективный процесс. Всего полчаса спустя паром оглушает гудком спящий город и выходит в Эгейское море.
Рассвет рисует силуэт турецкого берега: черный на фоне красного. В свете восходящего солнца появляется Лесбос: сначала покрытые соснами склоны горы Олимбос, затем скалистый южный берег – и вскоре взору открываются Митилини и мраморный купол собора, ослепительно белый в утреннем свете.
У меня есть особый ритуал для приезда в Митилини. Когда паром входит в гавань, я звоню Гиоргосу К., чтобы он встретил меня в припортовом кафе. Он специалист по математической экологии в местном университете. Гиоргос – мой самый близкий и давний друг на острове. Мы почти всегда разговариваем об одном и том же: сначала о науке, а после о женщинах – о достижениях и затруднениях в обеих областях. Он обладает непредсказуемой чувственностью, бьющим через край очарованием и не заслуживает своей прекрасной жены (и его друзья с этим согласны). Много лет мы ведем подобные разговоры.
Именно он показал мне Каллони. Мы отправились из Митилини на север, объехали залив Геры (невзрачную сестричку Каллони), двинулись на юго-восток через заросшие сосновым лесом подножья Олимбоса и выехали около Ахладери, где Лагуна расступается особенно широко. Там есть отличный рыбный ресторан, оливковые рощи и, говорят, остатки древней Пирры, которая простиралась до деревушек на берегу. Руины я так и не нашел.
Археология, однако, не убеждает меня так, как книга и сам Лесбос. Это самое прекрасное место на востоке Эгейского моря. Природа этого высушенного берега обильна, богата и соблазнительна, а самое прекрасное место на Лесбосе – побережье Каллони. Стоит спуститься весенним утром к прибрежной деревушке, и перед глазами начнет оживать “История животных”. Вы увидите, как perke (каменный морской окунь), skorpaina (золотистая скорпена) и kephalos (кефаль) Аристотеля глотают воздух в кузове пикапа. Аристотелевских названий (по крайней мере, для указанных рыб) пока достаточно, чтобы купить себе парочку для ужина. Еще можно купить ведро каракатиц, чтобы препарировать их, сверяясь с текстом Аристотеля. Можно перегнуться через ограждение причала и вытащить асцидий, морских анемонов и морских огурцов, морские блюдечки и крабов. Лодки замусорены раковинами и яйцевыми капсулами мурицид, которыми кишит дно Лагуны и чье половое поведение так интересовало Аристотеля. Можно прогуляться по болотам на краю соляных озер и увидеть поганок, уток, ибисов, цапель и ходулочников, анатомия которых его восхищала. Можно увидеть золотистых щурок, весенних переселенцев в бирюзовом, золотом, охряном и зеленом оперении, которые гнездятся на песчаных берегах (именно так, как описывал Аристотель). Томпсон говорил: “И счастлив будет натуралист, который однажды проведет тихий летний день у этого спокойного залива, найдет естественное богатство, ὅσσον Λέσβος… ἐντὸς ἐέργει[23] и увидит у ног всех существ, которых Аристотель знал и любил”. Томпсон оказался прав.
Глава 3 Ойкумена
15
Утверждать, что Аристотель был ученым, – значит считать, будто мы знаем, что это такое: быть ученым. Социологи и философы долго искали себе определение, которое исключало бы, однако, астрологов: столь различны их занятия и интересы. Специалисты же по естественным наукам уделяют определениям гораздо меньше внимания. Они просто опознают собратьев, но, если надавить на них, могут высказаться в том духе, что ученый – тот, кто стремится путем систематического изучения понять реальность, постигаемую опытным путем. Такое широкое определение подходит и для физиков-теоретиков, и для колеоптерологов, а также некоторых социологов и, хотя оно не вполне ясно и можно спорить о его рамках, исключает садовников и врачей (нет систематического изучения), литературоведов и философов (нет постигаемой опытным путем реальности), а также гомеопатов и вообще креационистов (не соответствуют обоим критериям). Зато это определение включает Аристотеля, занятия которого были бы никчемными, если бы не были систематическими, и который был глубоко предан идее постижения реальности опытным путем. Конечно, Аристотель не называл себя ученым, однако у него был термин для естественных наук: physikē episthēmē, буквально “изучение природы”. И называл он себя не physiologos – “тот, кто характеризует природу”, а physikos – “тот, кто понимает природу”.
Chamaileōn Аристотеля – хамелеон обыкновенный
(Chamaeleo chamaeleon chamaeleon)
16
В сборнике, ныне называемом “Метафизикой”, Аристотель рассматривает фундаментальную реальность. Его идеи непросты: толкование 14 книг “Метафизики” заняло столетия и наверняка займет еще годы. К счастью, мы и так можем оценить блеск вступления:
Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать. И причина этого в том, что зрение больше всех других чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много различий [в вещах].
Итак, Аристотель употребляет слово знание не только в значении “понимание”, но и “восприятие”. Люди получают удовольствие от упражнения органов чувств: это позволяет воспринимать все многообразие вещей в мире. Первый шаг сделан. Далее Аристотель указывает, что знание в смысле восприятия – это фундамент знания в смысле понимания, – и действительно, для этого нужна мудрость. Ясно, к чему подобное утверждение в начале “Метафизики”: Аристотель объявляет войну идеализму Академии. Его программа – не программа Платона. Аристотель ведет речь об этом, материальном, мире и хочет, чтобы читатель это знал.
Чтобы перейти от восприятия к мудрости, Аристотель строит иерархию понимания. По его словам, воспринимая что-либо, мы приобретаем память об этом. Ряд воспоминаний об одном и том же предмете имеет в итоге значение одного опыта. Так, воспоминания Сократа и Платона позволяют нам делать обобщения о людях. Аристотель объявляет войну Платону, который настаивал, что когда мы рождаемся, знания уже с нами – более того, все знания, которыми мы могли бы обладать – это все существующие на свете знания. Но, увы, мы все позабыли, и задача состоит в том, чтобы их восстановить. Это, конечно, призыв к эмпирическому квиетизму. Если мы знаем вообще все, то нет нужды изучать мир. Возможно, утраченные знания вернулись бы, если бы мы достаточно много говорили о них. Не случайно Платон сочинял диалоги.
С точки зрения Аристотеля, разговоры бесполезны. Даже опыта, пускай необходимого для искусств и наук, недостаточно. Аристотель объясняет, почему. Представим не очень талантливого, но умелого врача (из тех, кто считает, что если лекарство помогло вылечить одного человека, то оно, скорее всего, вылечит и другого), который, между тем, не понимает и не задумывается о том, почему это лекарство вообще действует. Грубый эмпиризм такого сорта полезен, однако не вызывает у Аристотеля восхищения. Он даже сравнивает “людей опыта” – ремесленников, заучивших наизусть свои задачи, – с “неодушевленными существами”: те действуют не столько с пониманием идеи того, что они создают, сколько на основании привычки работать так, а не иначе[24]. “Люди искусства” при этом “оказываются более мудрыми не благодаря умению действовать, а потому, что они владеют понятием и знают причины”. В “Политике” (1253b31) читаем: “Раб – это одушевленное орудие…”.
Человек, способный обучать, выше человека, который к тому не способен, поскольку он понимает. Это естественный взгляд для любого, кто всю свою жизнь этим и занимался. Человек, способный учить, способен и изобретать. Аристотель восхищается новаторами, но некоторые из них достойны большего восхищения, нежели другие. Изобретатели наук, предназначенных для “препровождения времени”, “мудрее” изобретателей наук, нацеленных на удовлетворение необходимых потребностей (“умозрительные дисциплины выше созидающих”). Аристотель ранжирует людей, исходя из присущих им форм понимания, и впадает, таким образом, в снобизм (многие его еще застали: это снобизм ученого, занимающегося фундаментальной наукой, по отношению к инженеру, и инженера – по отношению к садовнику). Такое отношение спорит с нашим эгалитаристским инстинктом, но я прошу читателя помнить, что Аристотель основал новую философию – такую, которая не занимается поиском абсолютного знания и не основывается на идеальном мире за пределами чувств. Его философия рассматривает грязь, кровь, плоть, рост, спаривание, размножение, смерть и гниение: то, с чем ежедневно сталкиваются крестьяне и торговцы рыбой. Аристотелю приходится объяснять своим слушателям (элите общества с чрезвычайно сильным расслоением), что знание, которое возникает из рассмотрения таких вещей – это знание высокого порядка, а те, кто получает знания таким путем – философы в самом высоком смысле.
17
Научный метод Аристотеля образует единое целое с его эпистемологией. По Аристотелю, человеку приходится начать с phainomena – “явлений”: не только того, что он видел собственными глазами, но и того, что видели другие, а также их мнения об этом увиденном. Аристотель отдает предпочтение сведениям, доставляемым людьми “мудрыми” и “авторитетными”. Он понимает, что никто не в состоянии увидеть всего и что иногда приходится верить рассказанному другими (так, греки заимствовали у вавилонян и египтян знания об астрономии).
Каким бы ни был источник знаний, они, как правило, состоят из множества наблюдений за разнообразными классами предметов – например животными (zōia). Однажды определенный, этот класс делился на более мелкие: птицы, рыбы, животные с рогами, животные без крови и т. д. Страсть Аристотеля к знаниям и его рвение к упорядочиванию не знают границ. Он собрал сведения о животных, растениях, камнях, ветрах, географии, городах, политическом устройстве, замечательных людях, драме, поэмах (это лишь часть обширного списка), обработал и упорядочил данные сначала по одному принципу, затем по другому: книгу за книгой. В “Истории животных” обобщены знания о животных. Вот выбранный наугад фрагмент:
Некоторые животные рождают живых детенышей, иные откладывают яйца, а третьи рождают личинок. К живородящим животным относятся: человек, лошадь, тюлень и все другие животные, имеющие шерсть; а из водных животных – китообразные, например дельфин, а также так называемые селахии [хрящевые рыбы – акулы, скаты, химеры]. Некоторые водные животные с кровью, например киты и дельфины, не имеют жабр, но имеют дыхательные отверстия. У дельфинов дыхательное отверстие расположено на спине, а у китов на лбу. К животным с хорошо видимыми жабрами относятся селахии (например, катраны и скаты).
Известный Аристотелю мир ограничен с запада Гибралтарским проливом, с востока – рекой Окс (совр. Амударья), с юга – Ливийской пустыней, с севера – степями. Это пространство населяло более 500 видов животных (именно столько он упоминает). Аристотеля интересовало все, что касается животных. Он сообщает о размножении вшей, брачном поведении цапель, половой невоздержанности девочек, желудке улиток, чувствительности губок, ластах тюленей, звуках цикад, метеоризме у слонов и строении человеческого сердца. В его книге 130 тысяч слов и около 9 тысяч эмпирических утверждений.
Мир животных – обширная область знаний, и Аристотель лишь коснулся ее. Нет подтверждений, что кто-либо до него писал зоологические труды, за исключением авторов нескольких медицинских трактатов. Так где Аристотель черпал знания?
Некоторые сведения взяты им из книг. Аристотель не называет свои источники, но о некоторых вполне можно догадаться. Поэтому собственно научная ценность нескольких его работ довольно спорна. У Аристотеля время от времени попадаются отсылки к Гомеру… а вот и стих Эсхила об оперении удодов… все это Читчик за работой. Интереснее то, чего не хватает. Не слишком-то много анатомических сведений взято у Гиппократа – и это несмотря на то, что отец Аристотеля был врачом. Можно подумать, что Аристотель не умеет доверять предшественникам. Он не использует книги Платона как источник фактов (и это не то чтобы большая потеря), хотя платоновские суждения пронизывают теорию Аристотеля. Натурфилософы дали мало данных: ведь они также оппоненты Аристотеля в отношении теории. Мы учимся, как выразился Аристотель, “наступая на тех, кто впереди, и не дожидаясь тех, кто позади”.
Есть подозрение, что Аристотель заимствовал данные об анатомии млекопитающих из книг о гадании по внутренностям животных. Так, он удивительно много внимания уделяет желчному пузырю: не самому значительному органу, который прорицатели, однако, считали важным. Аристотель – специалист по таранной кости стопы, которую игроки и прорицатели использовали в качестве игрального кубика. Если бы Аристотель черпал знания из подобных источников, он как раз донес бы до нас анатомию, но пренебрег прорицательством. Платон поступал наоборот.
В пособиях по гаданию также, вероятно, было немало сведений по этологии. “Откуда прорицатели взяли свою терминологию «совместимости» и «несовместимости»: враждующие животные «совместимые», а не враждующие друг с другом считаются «совместимыми»”. Далее Аристотель рассказывает, как орлы дерутся с сипами (а также змеями, поползнями и цаплями), осы-охотники и гекконы – с пауками, змеи – с хорьками, крапивники – с совами и т. д., и его описаниям жестокой борьбы в природе позавидовали бы даже дарвинисты. Там много сомнительной информации. Крапивники, жаворонки, дятлы и поползни, которые питаются яйцами других птиц, стали бы сюрпризом для орнитологов. И если во времена Аристотеля ослы враждовали с ящерицами, “потому что ящерица спит в их загоне и закрывает ослиные ноздри, так что ослы не могут поедать сено”, то в наши дни ослы могут спокойно отдыхать в компании ящериц, видимо, оставивших дурную привычку.
Стоило ли Аристотелю включать подобный материал в свои трактаты? Наверное, нет. Его чувство эмпирической реальности твердо, как у современного ученого, и маловероятно, что он использовал гадальные книги как источник сведений. Но перед тем как осудить Аристотеля, следует задуматься о трудностях, с которыми он сталкивался. Народную культуру пронизывала мифология, врачи имели слабое представление о человеческой анатомии, а крестьяне в изобилии поставляли неверные сведения о животных. Аристотель закладывал эмпирический фундамент собственной науки, и ему приходилось отсеивать домыслы.
У Аристотеля мы встречаем лишь намеки на преодоленные мифологические дебри. Он отрицает (по крайней мере – сомневается) правдивость рассказов (mythoi) о журавлях, которые как балласт проглатывают камни, и о том, что эти камни, будучи вытошненными, могут превращать вещество в золото, и о львицах, выбрасывающих матку во время родов, и о живших к западу от Греции лигийцах (лугиях), у которых 7 (вместо 12) пар ребер, и о головах, которые продолжают говорить, будучи отсеченными от тела. В III в. чепухой подобного сорта заполнял свои книги Элиан.
То, как Аристотель расправляется с вопросом об отрубленных головах, очень показательно. Он указывает: многие верят, будто отсеченные головы могут говорить, и цитируют при этом Гомера. И существует, по-видимому, заслуживающее доверие описание именно такого случая. В Карии (Анатолия) жрец культа Зевса Гоплосмия был обезглавлен. Голова назвала имя своего убийцы – некоего Керкида. Тот был схвачен и предан суду. Аристотель не комментирует ни судьбу этого человека, ни возможную судебную ошибку. Он ставит этот рассказ под сомнение, поскольку: 1) когда варвары рубят головы, то головы не говорят, 2) когда рубят головы животным, головы не издают никаких звуков, и поэтому и человеческие головы не должны издавать их, 3) речь требует дыхания легкими через трахею. Все это удивительно здраво. И мы не должны принимать такое здравомыслие как само собой разумеющееся.
18
Отсеченные головы могут не издавать звуков, но рыбы их, безусловно, издают. Аристотель говорит, что kokkis и lyra (оба морские петухи отряда скорпенообразные) издают похожие на хрюканье звуки, а khalkeus (солнечник) пищит. Затем он рассуждает, что раз у рыб нет легких, то эти звуки – не “голос”, какой бывает у птиц или млекопитающих. Скорее, этот звук вызван колебанием внутренностей, внутри которых оказался воздух[25].
В “Истории животных” приведено множество сведений о рыбах, и некоторые понятны с трудом. Афиней Навкратийский, который около 300 г. написал “Пир мудрецов” – руководство по застольным беседам (солидная часть которого посвящена рыбе), саркастически замечает:
Что касается Аристотеля, который на устах у всех этих мудрецов (ты и сам преклоняешься перед его словами, как, впрочем, и перед остальными философами и ораторами), то больше всего поражает меня его мелочная дотошность. Откуда он знает, от какого выплывшего к нему Протея или Нерея, чем заняты рыбы, как они спят и как проводят дневное время? Он понаписал как раз то, что у комиков называется “чудесами для простаков”[26].
Khalkeus Аристотеля – солнечник (Zeus faber)
Удивляться нечему: Нерей у Аристотеля был простым рыбаком. Аристотель не презирал народную мудрость. Он говорил: начиная что-нибудь исследовать, стоит изучить точку зрения большинства, поскольку большинство нередко право. Проблема в том, что люди любят сказки. Некоторые рыбаки утверждают, что рыба оплодотворяет свои яйца, съедая семя. Аристотель возражает: это не может быть правдой, поскольку не согласуется с анатомией (съеденное семя будет переварено); речь идет о ритуале ухаживания. Он не говорит, что рыбы это делают, но мой друг Давид Куцогианнопулос, который знает о греческих рыбах все, сказал, что это, должно быть, губан – точнее, глазчатая зеленушка (Symphodus ocellatus), – и прислал картинку.
Рыбацкие рассказы! Я услышал три от человека, который хотел меня развлечь. Первый – что тюлень-монах, который живет у входа в Лагуну, следит за рыбаками и ворует рыбу из сетей. Вторая – что чайки на островке Врахонисида-Каллони кормят птенцов оливками вместо рыбы. Третья – что вороны в Апотикесе подкладывают грецкие орехи под колеса. Если машина промахивается, ворона подбирает орех и пробует заново.
Я закономерно удивился такому голословному утверждению. Аристотель говорит: проблема в том, что рыбаки на самом деле не наблюдают природу внимательно, так как они не жаждут знаний ради самих знаний. Предания могут быть хорошей отправной точкой, но изучение природы требует познаний, и не только общих, вроде тех, что позволяют нам оценить разумность суждений, но и специальных познаний в конкретной области. Аристотель говорит, что эксперты увидят вещи, которые легко упускают другие люди – например, усохшие семенные протоки акул вне сезона. Так что сообщения о том, как новокаледонские вороны используют инструменты, я бы предпочел услышать от специалиста по поведенческой экологии, который провел минимум сезон полевых исследований, прежде чем поверить рассказу о сообразительности ворон из Апотикеса. Скепсис Аристотеля – первое проявление научного подхода. Аристотель определенно восхитился бы, узнав, что в наше время нет темы, даже малопонятной, которой не занимались бы эксперты с докторскими степенями и университетскими должностями, вооруженные статистикой и готовые взять верх над поверьями. Он пришел бы в восторг.
19
Скромность, с которой Аристотель относится к своим источникам, касается и его собственных исследований. Он никогда не говорит: “Я сам видел это, и поэтому это правда”, так что трудно узнать, какой из несметного числа фактов, скажем, о половом поведении, почерпнут из собственных наблюдений. Тем не менее, если читать между строк, становится ясно, что он провел множество эмпирических исследований:
Тело хамелеона внешне напоминает тело ящерицы, хотя его ребра сходятся к середине брюха, как ребра рыб; его позвоночник сильно выступает и хорошо виден на спине, тоже как у рыб. Его морда выглядит так, как будто это помесь обезьяны и свиньи, а его очень длинный хвост к концу становится все тоньше и тоньше, сходясь в точку, и обычно свернут в несколько витков, как кожаный ремень. Тело хамелеона располагается выше от земли, чем тело ящерицы, но его ноги согнуты точно так же, как и у нее. Каждая ступня хамелеона разделена на две части, относительное положение которых (thesis) напоминает противопоставление (antithesis) большого пальца и остальной части ладони у человека. Каждая из этих частей ступни разделяется прямо у основания на пальцы: внутренняя часть передней ноги – на три; наружняя – на два; внутренняя часть задней ноги – на два; наружная – на три. На ногах хамелеона когти, как у хищной птицы. Шкура хамелеона шероховатая, как у крокодила. Его глаза, очень большие и круглые, расположены в глазничных впадинах, покрытых кожей, как и все остальное тело. Только над центром глаза в коже имеется небольшое отверстие, через которое хамелеон и видит. Поэтому он вынужден вращать глазами, меняя линию зрения, чтобы увидеть то, что он хочет. Когда хамелеон раздувает тело, цвет кожи меняется: он может быть черным, почти как крокодил, или зеленым, как ящерица, или в черных пятнах, как леопард. Цвет меняет вся кожа, включая кожу в области глаз и хвост. Двигается хамелеон ужасно медленно, как черепаха. А когда он умирает, он становится зеленым, сохраняя этот цвет и после смерти. Пищевод и дыхательные пути хамелеона расположены в теле так же, как у ящерицы, а мышц очень мало – они есть только возле головы, в челюстях и вокруг основания хвоста. Кровь можно найти только вокруг сердца, глаз, в небольшой области прямо над сердцем, и в отходящих из этих областей венах (хотя в венах объем крови ничтожен). Мозг связан с глазами, но находится чуть-чуть выше них. Если убрать в сторону кожу, закрывающую глазничные впадины, то в каждом глазу можно увидеть нечто вроде тонкого блестящего медного колечка. Через все тело хамелеона тянется множество прочных мембран, и их больше, чем у других животных. Даже если хамелеона вскрыть, он все равно продолжает дышать, и небольшие движения еще долго заметны в области сердца. Хотя сокращения лучше всего наблюдать в области ребер, они видны и во всех остальных частях тела. У хамелеона нет никаких признаков селезенки. Он может впадать в спячку, как ящерица.
Похоже, что Аристотель вскрывал – заживо! – хамелеона, это красивое и дружелюбное создание, которое все еще живет в оливковых рощах Самоса.
20
В зоологических работах Аристотель упоминает следующих млекопитающих: ailouros (кошка), alopex (лисица), arktos (европейский бурый медведь), aspalax (слепой крот), arouraios mys (полевая или лесная мышь), bous/tauros (дикий тур), dasypous/lagos (заяц-русак), ekhinos (южный еж), elaphos/prox (благородный олень, европейская косуля), eleios (соня), enhydris (выдра), gale (хорек), ginnos (лошак), hinnos (еще лошак), hippos (домашняя лошадь), hys (домашняя свинья), hystrix (хохлатый дикобраз), iktis (куница), kapros (кабан), kastor (обыкновенный бобр), kyon (собака), leon (азиатский лев), lykos (обыкновенный волк), lynx (обыкновенная рысь), mys (домовая мышь), mygale (землеройка), nykteris (летучая мышь), oïs/krios/probaton (домашняя овца), onos (домашний осел), oreus (мул), phoke (тюлень-монах), thos (обыкновенный шакал), tragos/aïx/khimera (бородатый козел).
Все эти виды обитают (или обитали) в Греции и Малой Азии. Удивительно, что ненамного меньше упомянуто животных, которые живут в дельте Нила, Ливийской пустыне и Центральной Азии: alopex (здесь – египетская летучая собака), boubalis (коровья антилопа), bonassos (европейский зубр), dorkas (газель-доркас), elephas (индийский слон), hyaina/trokhos/glanos (полосатая гиена), hippelaphos (антилопа-нильгау), hippos-potamios (гиппопотам), ichneumon (египетский мангуст), kebos (макак-резус), kynokephalos (гамадрил), onos agrios/hemionos (кулан), onos Indikos (индийский носорог), oryx (сернобык), panther/pardalis (леопард), pardion/hippardion (жираф), pithekos (магот), kamelos Arabia (одногорбый верблюд), kamelos Baktriane (двугорбый верблюд). К которым мы можем добавить таких животных, как ibis (священный ибис, или каравайка), strouthos Libykos (страус), krokodeilos potamios (нильский крокодил) и различные африканские змеи. “Ливия всегда приносит что-нибудь новое”, – говорит Аристотель; судя по списку, Восток тоже.
Откуда же экзотическая зоология Аристотеля? Он не выезжал далеко за пределы бассейна Эгейского моря. Римский энциклопедист Плиний Старший дал ответ. И, как часто бывает с утверждениями Плиния, они выглядели невероятно. По его мнению, сведения добыл Александр Македонский.
Царь Александр Великий, воспылав желанием узнать природные свойства животных и поручив изучение их Аристотелю, человеку необычайно сведущему во всех областях науки, приказал нескольким тысячам людей по всей Азии и Греции: всем тем, кого кормит охота, птицеловство и рыболовство; кто заботится о разведении зверей, скота, рыб; кто занимается пчеловодством и птицеводством, – выполнять распоряжения Аристотеля и сообщать ему о любом животном, где бы оно ни появилось на свет. Расспрашивая всех этих людей, он написал свое знаменитое исследование о животных, насчитывающее пятьдесят томов[27].
В 343 г. до н. э. Аристотеля, жившего тогда на Лесбосе, пригласили к македонскому двору. У него было достаточно причин согласиться. В конце концов, Македония была его домом, причем уже не захолустьем, которое он оставил около четверти века назад. Аминта III умер, на троне утвердился Филипп II. Новый царь наращивал военную мощь. В Афинах Демосфен предупреждал сограждан об опасности. Афиняне проигнорировали предупреждения – и это им дорого обошлось.
Александру, сыну Филиппа II, нужен был наставник: тот, кто обтесал бы угловатого мальчика и дал приличествующее царевичу философское образование. Сделал ли Аристотель из этого мальчика человека, которым тот стал? Или он постарался смягчить его нрав? Хотелось бы знать. Для Аристотеля этот подросток был не просто испорченным царевичем, а будущим хозяином Ойкумены – всего известного грекам мира.
Это едва ли не самый замечательный альянс в истории: один из величайших мыслителей несколько лет воспитывает одного из величайших полководцев (Лаплас лишь экзаменовал Бонапарта). Плутарх напишет четыре века спустя:
Для занятий и бесед он отвел Аристотелю и Александру рощу около Миезы, посвященную нимфам, где и поныне показывают каменные скамьи, на которых сидел Аристотель, и тенистые места, где он гулял со своим учеником. Александр, по-видимому, не только усвоил учения о нравственности и государстве, но приобщился и к тайным, более глубоким учениям, которые философы называли “устными” и “скрытыми” и не предавали широкой огласке[28].
Тенистые места и каменные скамьи показывают и поныне.
В 336 г. до н. э. Филиппа II убили, и на трон взошел Александр. Он начал с того, что разрушил до основания Фивы – второй по величине греческий город. В Фивах Аристотель советует Александру стать правителем греков и относиться к ним так, будто они его друзья или родственники, но Александр продал фиванцев в рабство. Позднее он истребил все население Газы. Это вполне в духе Аристотеля: в том же письме он советует Александру к варварам “относиться так, будто они животные или растения”. Буйствуя по всему известному грекам миру, юный военачальник возил с собой “Илиаду” в редакции Аристотеля. В 335 г. до н. э. Аристотель вернулся в подпавшие под власть македонян Афины и основал там Ликей. Именно там, если верить Плинию, Аристотель препарировал зоологические дары Александра.
21
Истории Плиния очаровательны. Александр не просто сладострастец с подведенными глазами и завоеватель с вселенскими амбициями. Он также любит растения и животных и, вспоминая своего наставника, отсылает ему биологические трофеи из всех уголков своей империи. Позднее Афиней упоминает, что Александр дал Аристотелю 800 талантов на исследования и таким образом стал, фигурально выражаясь, основателем национального научного фонда. Эти истории окутаны романтическим флером. Сумма в 800 талантов в несколько раз превышала ежегодный ВВП Македонии. В биологических работах Аристотель не упоминает ни о финансировании, ни о зоопарке, ни об Александре.
Ясно, что Аристотель заимствовал кое-что у путешественников. Ктесий Книдский, греческий врач, в V в. до н. э. служивший при персидском дворе, написал несколько книг о Персии и Индии, которые Аристотель не мог проигнорировать, но которым не мог и довериться.
Ни один из этих родов животных [живородящих четвероногих, т. е. млекопитающих] не имеет двойного ряда зубов. Но, по Ктесию, одно такое животное существует. Он утверждает, что тварь, которую инды называют мартихорой, имеет тройной ряд зубов; она по размеру тела напоминает льва, такая же мохнатая, и с такими же, как у льва ногами. Ее лицо и уши похожи на человеческие, глаза голубые; она ярко-красного цвета; ее хвост похож на хвост скорпиона. В хвосте имеется жало, выстреливающее шипы, как стрелы; и голос представляет собой смесь звуков свирели и трубы. Она бегает так же быстро, как олени; очень свирепа и ест людей.
За чащей басен про мартихору скрывается тигр (перс. martijaqara – буквально “людоед”). В другом месте: “Ложное написал о сперме слонов [что она столь же тверда, как янтарь] также и Ктесий”. “В Индии же, как говорит Ктесий, – человек, не заслуживающий доверия, – нет ни дикой, ни домашней свиньи, а все бескровные и прячущиеся в норы животные велики”. Это об “индийском черве” Ктесия, который живет в деревьях и пожирает домашних животных. Очевидно, имеется в виду крупный питон.
Также Ктесий – источник одной из классических проблем аристотелевской зоологии. Аристотель упоминает два типа животных, у которых есть единственный рог. Первый, onos Indikos (букв. “индийский осел”), обладает непарным копытом (то есть это непарнокопытное, к которым относится, в частности, лошадь). Второй, oryx, обладает парным копытом (то есть это парнокопытное – вероятно, антилопа). Он осторожно относится к onos Indikos – и правильно. По меньшей мере с XIX в. ученые предполагали, что это искаженное описание индийского носорога, а oryx – это белый орикс, которого наблюдатель видел сбоку и с большого расстояния. Но, конечно, было уже поздно: как ни скептически был настроен Аристотель, он не мог остановить забредание единорогов в собственные книги.
Если Ктесия Аристотель постоянно подозревает в приукрашивании, то Геродоту (450 г. до н. э) он верит гораздо больше и часто заимствует у него факты. Сам Геродот утверждал, что предпочитает верить вещам, которые видел собственными глазами. “История животных” полна не относящихся к Геродоту вещей: что у жриц в Карии (Анатолии), достигших климакса, растут бороды, что верблюды враждуют с лошадьми, что во всей Европе львы были найдены только между реками Ахелоос и Нестос (тогдашняя Македония), что осенью журавли мигрируют из Скифии на заболоченный юг Египта, к истокам Нила, что египетские животные крупнее греческих сородичей, и т. д. Иногда, когда Аристотель сомневается, он пишет: “Говорят, что…” (например, что “в Эфиопии живут некие летающие змеи”). Геродот утверждает, что видел их скелеты в Аравии, повествует об их ужасных брачных ритуалах и добавляет, что они ежегодно вторгаются в Египет лишь для того, чтобы на них нападали стаи священных ибисов. Учитывая все это, Аристотель восхитительно сдержан. Он просто игнорирует слова Геродота о выкапывающих золото муравьях и грифонах и опровергает (не называя Геродота) утверждение последнего, будто на задней ноге у верблюда четыре колена. Действительно, единственный раз, когда Аристотель (с заметным раздражением) упоминает историка – это когда ловит его на нелепости: “У всех оно [семя] белого цвета, и Геродот ложно написал, будто эфиопы извергают черное семя”.
Поскольку Ктесий и Геродот рассматривали лишь небольшую часть того, что Аристотель знал о фауне Азии и Африки, он должен был отвергнуть и многие сообщения других путешественников. Но наиболее загадочный аспект его экзотической зоологии – это сплетение достоверных наблюдений с измышлениями. Например, Аристотель часто говорит о слонах. Он мог бы получить общие сведения о внешнем виде и привычках слонов – что слон большой, что у него есть хобот, бивни, – от кого-то вроде Ктесия. Но откуда Аристотель узнал, что у слона нет желчного пузыря, печень примерно в четыре раза крупнее бычьей, а селезенка – скорее мельче, и что его семенники расположены рядом с почками?
Вряд ли подобные анатомические сведения взяты из записок путешественников IV века до н. э. Это небывалые факты, и они указывают на щедрость Александра. Вероятно, когда Александр в 331 г. до н. э. разгромил персов при Гавгамелах, он захватил одного из боевых слонов Дария III и отправил животное в Афины – за 2 тыс. км, – где Аристотель и провел его вскрытие в тени портика. Фантаст Лайон Спрэг де Камп написал роман “Слон для Аристотеля” (1958), основываясь лишь на данном предположении, и некоторые ученые не сочли это абсурдом. Но если Аристотель видел слона, то почему он утверждает, что задние конечности животного гораздо короче передних[29]?
Уильям Огл, один из самых благожелательных переводчиков Аристотеля и сам зоолог, суммируя сказанное Аристотелем про азиатского льва, едко замечает: “Ясно, что сам Аристотель не был знаком со львом, поскольку его сообщения почти обо всех частях тела льва ошибочны”. Огл приводит, в частности, утверждение Аристотеля, будто в шее льва одна кость (но у льва семь шейных позвонков, как и у всех млекопитающих). Эта ошибка еще страннее, ведь Аристотелю не надо было далеко ходить: азиатские львы еще водились в отдаленных македонских долинах[30]. Аристотель верно описывает европейского зубра, но сообщает, что тот мечет в своих преследователей едкий навоз[31]. И его описание страуса убедительно – за исключением того, что Аристотель ошибается насчет (действительно впечатляющих) когтей на копытах. Лучше Аристотель справился с верблюдами: он знает, что эти животные имеют многокамерный желудок, присущий жвачным, что у них раздвоенная стопа и (это удивительно) что ее расщепление на задних ногах глубже, чем на передних. И еще Аристотель очень хорошо описывает гениталии гиены.
22
В книге “О возникновении животных” Аристотель пишет, что Геродор утверждал, будто у гиены есть и мужские, и женские половые органы, и что они с годами претерпевают превращения из мужских в женские и наоборот (то есть это гермафродит). Геродор происходит из Гераклеи на Черном море, о котором написал “Историю”, и был отцом софиста Брисона Гераклейского, пытавшегося вычислить площадь круга, вписывая в него и описывая вокруг него многоугольники. Его hyaina – должно быть, полосатая гиена Hyaena hyaena – ибо это единственный член семейства, обитающий в Гераклее и вообще в известном эллинам мире. Аристотель считает, что Геродор говорит чепуху. Гиена не гермафродит, но ее “причиндалы” выглядят действительно странно.
В “Истории животных” Аристотель сообщает больше. Стоит учесть, что у гиен обоих полов есть крупные железы, формирующие мешочек вокруг ануса (воспользуемся здесь современными терминами):
Гиена окраской напоминает волка, но более мохнатая, и имеет гриву вдоль всего хребта. Утверждение, будто гиена имеет сразу и мужские и женские гениталии – ложь. Половой орган самца [пенис] выглядит точно так же, как у собаки или волка. А та структура, которая на первый взгляд кажется женскими гениталиями, расположенными под хвостом самца [анальная железа], похожа на них только по форме, но не имеет прохода. То, что является проходом для выделения отходов [т. е. анус], расположено ниже [анальной железы]. Самка гиены действительно имеет ту структуру, которую считают женским половым органом [анальную железу], она расположена под хвостом и не имеет прохода, так же, как и у самца. После нее идет проход для выведения отходов [анус], а еще ниже настоящий женский половой орган [вагина]. Самка гиены имеет матку, точно также, как и самки других подобные животных. Очень редко кто-то может приобрести самку гиены. Один охотник говорил мне, что из одиннадцати пойманных гиен только одна была самкой.
При рассмотрении рисунка становится ясна причина путаницы: впячивание, образованное анальными железами, легко перепутать с влагалищем. Аристотель правильно интерпретирует все структуры, но не утверждает, что сам это видел. Кто-то другой заглядывал гиене под хвост.
Hyaina Аристотеля – гиена полосатая (Hyaena hyaena)
Слева: гениталии самца. Справа: гениталии самки.
АС – анальная сумка, ЗП – задний проход, М – мошонка, П – пенис, В – влагалище
Не похоже, чтобы Аристотель собственными глазами видел какое-либо из экзотических животных, которых он описывает. Его взглядам на их анатомию и поведение не хватает полноты и аккуратности, ожидаемых в случае, если бы он видел их сам, как, например, когда он рассказывает о каракатице. Повествование о щедрости Александра – почти наверняка позднейшая вставка, чтобы смягчить образ завоевателя или усилить впечатление от образа философа. Вместо этого Аристотель начинает с рассказов путешественников, которые он разбирает настолько хорошо, насколько может: исключая неправдоподобное, добавляя предостережения и сохраняя вероятное. Затем он перемежает этот материал с отрывочными, но более сложными в научном отношении сообщениями, переданными ему кем-то. Это работа неизвестного сотрудника: того, кто знал анатомию, путешествовал и давал Аристотелю сведения.
Есть несколько кандидатов на эту роль. Наиболее вероятный – Каллисфен Олинфский, внучатый племянник Аристотеля. Эти двое были не только родственниками. Каллисфен обучался в Академии, когда Аристотель преподавал там. Кроме того, похоже, что когда Аристотель покинул Академию в 346–347 гг. до н. э., чтобы отправиться ко двору Гермия, Каллисфен последовал за ним. Когда Гермий был казнен персами, Каллисфен, как и Аристотель, написал песнь в память тирана. Согласно другой точке зрения, Каллисфен последовал за Аристотелем на Лесбос, а несколько лет спустя и в Македонию. Хотя он был на несколько лет старше Александра, они могли вместе учиться в Миезе. Ясно, что когда Александр стал царем, Каллисфен уже был историком с репутацией (он написал Hellenica – историю Греции в десяти книгах), и что когда Александр пересек Дарданеллы в 334 г. до н. э., Каллисфен отправился с ним на Восток, чтобы документировать ход кампании.
Еще неопытный Александр, пока лишь один царь из многих, желал, чтобы афиняне узнали о его победах. Но Каллисфен был не просто пропагандистом. Он был естествоиспытателем, способным объяснить ежегодный разлив Нила столкновением насыщенных влагой облаков с эфиопскими горами. После стремительного захвата Александром Египта в 332–331 гг. до н. э. царь даже мог послать Каллисфена на юг, чтобы тот нашел истоки Нила. Кроме того, Каллисфен собрал астрономические сведения у вавилонян и выдвинул гипотезу о причинах землетрясений. Существует фрагмент, в котором говорится, что Каллисфен посылал Аристотелю данные – однако неизвестно, какие.
Каллисфен следовал за армией Александра семь лет. Он присутствовал при разграблении Тира и Газы, при входе в оазис Сива, в битвах при Гранике, Иссе и Гавгамелах, при эпической погоне за Дарием через пустыни Центральной Азии. Каллисфен пересек Анатолию, Сирию, Египет, Месопотамию, Вавилонию, Персию, Мидию, Гирканию и Парфию. Он обогнул Каспийское море, Систан, присутствовал при взятии Аорноса и пересек Гиндукуш. Эти места представляют большой интерес для зоолога, и остается удивляться, почему Аристотель, опираясь на сообщения Каллисфена, не рассказал о Востоке больше. Но на этот вопрос легко ответить: Аристотелю уже не довелось увидеть племянника. Где-то в Бактрии (современный Афганистан) Александр казнил его. Древние авторы спорят, почему погиб Каллисфен, но сходятся в том, что его конец был ужасен.
Александр умер в 323 г. до н. э. Многие говорят, что его отравил Антипатр – наместник в Пелле, друг Аристотеля. В трудах, лишенных политических и личных страстей, Аристотель ничего не говорит о судьбе племянника. Теофраст оплакивал Каллисфена и написал диалог в его память.
Глава 4 Анатомия
23
Аристотель рассматривает внутреннее строение почти 110 видов животных, причем данные о 35 видах настолько точны и обширны, что почти не остается сомнений: он препарировал сам. Качество его работы проще всего оценить по рассказу об анатомии каракатицы – особенно если, читая, держать под рукой это животное.
Положим нашу каракатицу – обмякшую, бледную, липкую – на стол. Начнем, как и Аристотель, с наружного строения: ротовое отверстие, две острые створки “клюва”, восемь ног, два щупальца, мантийная полость, плавники. Теперь заглянем внутрь. Аристотель не объясняет, как препарировать моллюска. Вероятно, он просто взял щупальца в одну руку, мантию в другую, и разорвал. Так, скорее всего, поступила бы в то время любая греческая домохозяйка. Не стоит приписывать Аристотелю лучшую технику и инструменты либо большую терпеливость, нежели у современных анатомов, но он однозначно действовал аккуратнее своих современниц. Где-то он объясняет, как снять кожу с морды крота так, чтобы увидеть под ней недоразвитые глаза животного.
Разрезаем мантию вдоль, от щупалец до хвоста. Вентральный разрез обнажает половые органы каракатицы, дорсальный – остаток ее раковины, а под ним мы видим крупную красную структуру, которую Аристотель называет митис (mytis), и пищеварительную систему животного. Здесь мы не станем рассматривать строение каракатицы детально, как Аристотель, а отметим лишь две занимательные детали. Во-первых, грек указал, что у каракатицы между глаз с серебристой радужкой и черными зрачками-щелями находится хрящ. Удалите его, и покажутся два мягких желтых бугорка: это мозг. Его легко не заметить или повредить при препаровке, но Аристотель его обнаружил.
Во-вторых, пройдемся по пищеварительному тракту. Начнем с ротового отверстия и спустимся по пищеводу через мозг[32] и mytis к желудку, который Аристотель сравнивает с птичьим зобом. За желудком располагается еще одно мешкоподобное образование – спиралевидная слепая кишка, – и про нее Аристотель говорит, что она похожа на раковину трубача. Кишечник выходит из слепой кишки, и хотя у большинства животных он располагается в задней части тела, у каракатицы он изгибается так, что анальное отверстие оказывается около сифона. Это едва ли не наибольшая странность анатомии головоногих моллюсков: они испражняются буквально себе на голову.
Кое-что Аристотель понял неверно. Так, он считал, что mytis – крупный орган по центру тела – играет у каракатицы роль сердца. (На самом деле это эквивалент печени.) В XVII в. Сваммердам нашел у каракатицы все три ее сердца. Аристотель замечает “перьевидные выросты” в мантийной полости, но не считает их жабрами, хотя формой они очень напоминают одноименные органы рыб. Кроме того, Аристотель не обращает внимания на мышцы и нервы.
Ошибки вполне ожидаемые. Однако не хватает чего-то важного (не в каракатице, а в книге). В “Истории животных” отсутствует то, что есть в любом современном труде по зоологии: иллюстрации. Анатомию невозможно изучать без иллюстраций, да и научить ей не получится. Логику устройства тела можно понять лишь путем обобщения и наглядного изображения его структур. Всякий анатом знает: пока не нарисуешь, не поймешь. Но стоит задуматься, читая “Историю животных”, – а как же без иллюстраций обходился Аристотель? – как видишь пояснение:
Детали смотри на схемах в “Анатомии”.
Стало быть, Аристотель составил целую книгу анатомических схем. Даже восемь книг, если верить Диогену Лаэртскому. Историки философии оплакивают утрату сочинения “Протрептик” – раннего систематического изложения философских взглядов Аристотеля. Но содержание этого труда хотя бы можно восстановить по цитатам. А я скорблю об “Анатомии”: она утрачена целиком.
Как выглядели анатомические схемы IV века до н. э.? Может, они были похожи на изображения рыб на апулийской керамике? Нет, скорее они больше походили на наброски – в конце концов, Аристотель не был художником, да и задача перед ним стояла в основном педагогическая. Это нечто вроде контурных рисунков с буквенными обозначениями (Α, Β, Γ, Δ). Аристотель иногда ссылается на них. Можно попытаться восстановить эти схемы, но зачем? Это все равно будут лишь наши догадки. Иногда не известные прежде древние тексты на папирусе находят в оболочках египетских мумий или внутри них. Так что теоретически аристотелевская схема человеческого сердца может скрываться в разложившейся груди эллина – хотя знакомый специалист по папирусам и сказал мне, что подобный шанс не превышает вероятности наткнуться в Конго на живого динозавра. Пусть так. Если бы я считал, что экземпляр “Анатомии” зарыт где-то в песках, я копал бы и копал, пока не нашел бы его, пока не увидел бы то, что видел Аристотель, и не понял бы, как именно он видел.
Sēpia Аристотеля – каракатица (Sepia officinalis)
24
Аристотеля интересуют все животные, но главный его модельный организм – это люди. Подобный термин в данном случае не анахронизм, так как детальное описание анатомии животных в “Истории животных” начинается с человека:
Но сначала надо [ознакомиться] с частями тела человека: ведь, как монеты мы оцениваем по сравнению с наиболее нам известными, то же относится и к другим вещам, а человек, по необходимости, является для нас самым известным из животных.
Аристотель отдает себе отчет в том, что люди не самый типичный объект. Он отмечает наши странности: лишь у нас есть лицо, ресницы на обоих веках, глаза бывают разного цвета, при рождении нет зубов, есть руки, мы прямоходящие, и грудь у нас расположена спереди. Тем не менее изложение анатомии он начинает с такого необычного организма.
Вскрывал ли Аристотель человека? Этот вопрос многократно обсуждался. Давая на него отрицательный ответ, один эксцентричный мыслитель, Джордж Генри Льюис, приводил в пример рассказанную Софоклом историю Антигоны: эта привлекательная в своей непокорности женщина, прекрасная девственной красотой, решительностью и бесстрашием, боролась за право похоронить брата. Это, говорит Льюис, показывает, что греки относились к умершим с уважением, так что Аристотель никогда не притронулся бы к трупу своими шаловливыми руками, руками анатома.
Не слишком весомое обоснование. В Греции IV века до н. э. имелось множество рабов, и в Афинах не было недостатка в трупах негреков. Кроме того, в следующем столетии Эрасистрат и Герофил, похоже, вскрывали трупы, пусть и в Александрии – местности довольно свободных нравов. В древних источниках упоминается даже вивисекция осужденных на смерть преступников. Впрочем, не обязательно привлекать социологические аргументы. Аристотель дает понять, что вскрытием человеческих трупов он не занимался. Обращаясь к внутреннему устройству человека, он пишет: “Итак, части человека, явно заметные снаружи, расположены указанным образом и, как было сказано, именуются и вполне знакомы нам по привычке; а что [касается] внутренних частей, то [дело обстоит] наоборот. Ибо эти части человека нам наименее известны, так что их следует рассматривать, сводя к частям других животных, которые имеют сходную природу”.
Заметно, что Аристотель действительно так считал: экстраполяция анатомических данных служит причиной неточностей, которыми кишит его описание внутренних органов человека. Он указывает, что у женщин двурогая матка. Неплохо, если учесть, что у большинства млекопитающих этот орган в той или иной мере раздваивается. Однако у человека этого раздвоения нет[33]. Он пишет, что у людей почки дольчатые. У нас нет, а у волов – да. Кое-что просто не поддается пониманию. Например, Аристотель сообщает, что у нас по восемь пар ребер – а видел ли он скелет? Он отмечает, что исследовал человеческий плод, результат выкидышей. Он не говорит, что вскрывал плод, но некоторые из его явных ошибок могут быть просто вызваны тем, что он описывал плод, а не взрослого человека.
Ни одна другая система органов не занимает Аристотеля в той же степени, как сердце и отходящие от него сосуды. Обсуждать их строение он начинает с изложения современной ему точки зрения на проблему. Описание взглядов Сиеннесиса с Кипра, Полиба с Коса и Диогена Аполлонийского (двух врачей-гиппократиков и натурфилософа) занимают от абзаца до нескольких страниц. Платон вообще не упоминается (может быть, потому, что предложенная им модель сердечно-сосудистой системы занимает в “Тимее” всего пять строк).
Два гиппократика написали чушь. У них кровеносные сосуды начинаются в голове, а сердце они вообще не упоминают. Диоген, по мнению Аристотеля, справился лучше, и Аристотель цитирует его целиком, в результате чего мы имеем наиболее длинный фрагмент из сочинений любого досократика. У Диогена хватило сообразительности соединить сосуды с сердцем и описать их расположение настолько подробно, что и сейчас можно определить, о каком именно сосуде в каждом случае он пишет. Все трое считали, что сосудистая система построена по принципу деления на правую и левую части. Первый набор сосудов питает левые почку, семенник, руку и ухо. Второй набор, вполне самостоятельный, питает такие же органы, расположенные справа. Концепция изящная – но неверная.
Изложение анатомии сердца и сосудов Аристотелем, напротив, превосходный образец оформления анатомического исследования. Те сосуды, которые гиппократики, по-видимому, просто рассматривали через кожу, Аристотель изучал с помощью вскрытий:
Проблема изучения с помощью внешнего осмотра состоит в том, что такое исследование можно эффективно провести только на животных, убитых удушением, которые перед этим сильно потеряли вес…
Острый конец сердца направлен вперед, однако из-за смещения органа во время вскрытия этого легко не заметить…
Детальное и точное описание взаимного расположения кровеносных сосудов должно сделать полезными “Анатомию” и “Историю животных”.
Есть ощущение, что он предостерегает: “Даже не думайте оспаривать мои результаты, пока не освоите методы, которыми они были получены”.
Эти методы дали ему логичное, детализированное описание устройства сердца, главных кровеносных сосудов и их связей и ответвлений. При чтении этого описания даже закрадывается мысль, что, может быть, Аристотель все-таки вскрывал человеческие трупы. Однако после становится ясно, что он не описал ничего такого, что нельзя было бы выяснить при вскрытии козы. Он помещает сердце в центр кровеносной системы и разворачивает геометрию главных кровеносных сосудов так, что аорта находится “сзади от” (дорсальнее) “большого кровеносного сосуда” (полой вены). И действительно, вблизи сердца они так и расположены. Далее читаем о “большом кровеносном сосуде” и сосудах, отходящих от него:
Кровеносная система человека (по “Истории животных”, кн. III)
Полая вена проходит через самые большие из трех камер сердца (правое предсердие и желудочек). Верхняя полая вена идет к верхней части туловища и там разделяется на безымянные вены, которые впоследствии сливаются в подключичные вены. идущие к рукам, и в две пары яремных вен, идущих к голове. Яремные вены дают начало лицевым венам и множеству мелких сосудов головы. Нижняя полая вена проходит через диафрагму, где она разветвляется на печеночную вену, а затем – почечные вены, снабжающие кровью, соответственно, печень и почки. Она продолжается до точки разделения на подвздошные вены, которые идут к ногам и достигают их пальцев. Вены, отходящие от желудка, поджелудочной железы и брыжейки (в которой их очень много), объединяются в один большой сосуд. Ответвляющаяся от “большого кровеносного сосуда” легочная артерия многократно ветвится, формируя мелкие сосуды, обеспечивающие легкие.
Сам Аристотель не давал названия каким-либо сосудам, кроме “большого кровеносного сосуда” и аорты, чьи ветви он прослеживает сходным образом. Тем не менее его описание сосудов удачно настолько, что мы понимаем, что автор имел в виду, хотя его проза, всегда вязкая, порой образует сгустки. Удачно настолько, что по нему можно разбираться в современных анатомических схемах. Хорошо настолько, что ошибки Аристотеля бросаются в глаза[34].
Но препаровка – дело непростое. Вскрыв труп, вы увидите не аккуратно разложенные, логически соединенные органы, размеченные контрастными цветами, а трясину едва различимых трубок, мешков и мембран, плавающих в жидкостях. То, что вы увидите в этой трясине, в огромной степени зависит от того, что вы ожидаете увидеть. Ведь при препаровке, как и в любом другом исследовании, ожидания и практические сложности способствуют сокрытию истины. Как бы то ни было, влияние ожиданий и сложностей иногда можно перебороть. Аристотель хочет знать, куда направляется кровь. Он рассматривает и описывает (вероятно, первым из людей), как кровеносные сосуды разветвляются и ветвятся снова, пока не становятся крошечными сосудами – капиллярами – и не исчезают в плоти.
25
Возникает мысль: насколько хороша аристотелевская биология в целом? Забудем о теории: какая доля его описательных утверждений верна? На этот вопрос нет ответа, хотя он придет в голову любому биологу, открывающему том Аристотеля.
И дело не в недостаточной старательности. Веками комментаторы Аристотеля пытались оценить, какая доля предположений Аристотеля верна. Все они были повержены масштабом задачи. Вот фрагмент из “Истории животных”:
Все живородящие четвероногие имеют почки и мочевой пузырь. А некоторые из животных, откладывающих яйца (такие как птицы и рыбы), их не имеют: из них только четвероногая черепаха имеет эти органы, и они у нее пропорциональны другим частям тела. Почка черепахи напоминает почку быка, которая выглядит как один орган, состоящий из множества маленьких.
Итак, в трех предложениях перечислено шесть наблюдений: 1) у всех млекопитающих есть почки (да, это верно), 2) у всех млекопитающих есть мочевой пузырь (да, верно), 3) ни у рыб, ни у птиц нет почек (нет, неверно), 4) ни у рыб, ни у птиц нет мочевого пузыря (да, верно), 5) среди амфибий и рептилий почки есть лишь у морских черепах (нет, неверно), 6) почка черепахи, как и быка, имеет модульное строение (да, верно). Есть ощущение, что Аристотель упустил из виду почки у рыб и птиц. Здесь определенно сыграли свою роль ожидания, поскольку почки рыб и птиц по форме не “почковидные”, а длинные и тонкие. В другой книге Аристотель говорит, что у рыб и птиц есть “почкоподобные” части.
Однако оценивать знания Аристотеля о выделительной системе легко, для этого требуется лишь поверхностное знакомство с анатомией позвоночных. А вот что делать с заявлением Аристотеля (одним из множества), что существует род дятла средних размеров, гнездящийся в оливковых рощах? Выдающийся греческий орнитолог Филиос Акреотис рассказал мне, что такой действительно есть: это средний пестрый дятел (Dendrocopus medius) – но гнездится он подобным образом лишь на Лесбосе.
Кроме того, затруднительна интерпретация текстов Аристотеля. В euripos Pyrrhaiōn, пишет он, можно увидеть esthiomenon ekhinos, “съедобного морского ежа”. Аристотель также говорит, что этого морского ежа (Paracentrotus lividus) можно отличить от несъедобных родичей по водорослям, которыми он украшает свои шипы. Поэтому как-то летним днем мы направились ко входу в Лагуну, нырнули, нашли гирлянды морских ежей, на прибрежных камнях раскололи их и съели сырыми гонады, ricci di mare, столь любимые сицилийцами. Среди внутренностей нашего обеда были ротовые аппараты: маленькие причудливые конструкции цвета слоновой кости из кальцита. В 1734 г. прусский энциклопедист Якоб Теодор Клейн описал их строение в книге Naturalis dispositio echinodermatum, указал, что Аристотель тоже видел эти органы, и, используя сравнение предшественника, дал название этой структуре.
Зоолог может ничего не знать об Аристотеле, но ротовой аппарат морского ежа известен ему под именем, данным этой структуре Клейном: аристотелев фонарь. На самом деле Клейн, как и все ученые после него, неправильно понял Аристотеля: когда последний сравнивал морского ежа с фонарем, он имел в виду не только ротовой аппарат животного. Это стало очевидно после недавнего обнаружения фонаря античных времен. Этот предмет выглядит в точности как щиток морского ежа. Проблема в копировании аристотелевских текстов: где-то говорится sōma (тело), где-то – stoma (рот), и переводчикам приходилось выбирать.
Это поучительная история. Чтобы подтвердить справедливость наблюдений Аристотеля, понадобится целый полк зоологов, понимающих ход его мысли и способных читать по-древнегречески, но и в этом случае работа займет долгие годы. В наши дни такие люди редки, а вот несколько веков назад было иначе. Многие читали Аристотеля в оригинале, и им нравилось то, что они читали. Тон задал Кювье: “В Аристотеле все поражает, все оказывается выдающимся, все является колоссальным. Он прожил всего 62 года и сумел провести тысячи наблюдений с невероятной щепетильностью, с аккуратностью, которую не смогла поставить под сомнение даже самая придирчивая критика”. Напомним, что Кювье – автор, среди прочих внушительных работ, “Лекций по сравнительной анатомии” (5 тт., 1800–1805), “Царства животных” (4 тт., 1817) и “Естественной истории рыб” (в соавторстве с Валансьеном, 22 тт., 1828–1849). Он был, по общему мнению (а не только по собственному), величайшим анатомом своего времени. И он считал, что Аристотель не мог ошибаться – и это было весьма недальновидно.
Да, Кювье следовало быть осмотрительнее. Аристотелю запели славословия. “Мастер… который расширяет пределы знания в любых науках и доходит в них до самой сути”, – это красной нитью проходит через труды Жоффруа Сент-Илера. “Его план был грандиозным и выдающимся… он заложил основы науки, которые никогда не будут забыты”, – а это Анри-Мари Дюкроте-де-Блэнвиль. Уже этих примеров достаточно. Но Оуэн, Агассис, Мюллер, фон Зибольд и Келликер, мастера скальпеля, работавшие в эпоху, когда едва ли не все представители царства животных попали под нож анатома, также воздавали Аристотелю дань. Они делали это, поскольку грек основал их науку, а еще потому, что он знал то, чего не знали они. Они любили его, в частности, за то, что он заметил три вещи, которые им пришлось переоткрывать: родительское поведение сома, копулятивное щупальце осьминога и плаценту у европейской куньей акулы.
Esthiomenon ekhinos Аристотеля – съедобный морской еж
(Paracentrotus lividus)
26
В прохладных реках и озерах Македонии обитает заботливый сом:
Самец речной рыбы glanis (сом) очень заботится о своих детенышах. Самка бросает его сразу, как только отложит икру, но самец остается там, где скопилась большая часть кладки, и охраняет яйца. Единственное, что он может сделать – не дать мелким рыбам растащить потомство в те 40–50 дней, которые нужны икринкам и малькам, чтобы развиться до стадии, когда они уже смогут избегать хищников. Рыбаки определяют то место, где сом охраняет икру, по щелкающим звукам, которые он издает, отпугивая мелких рыб. Самец настолько поглощен охраной своей собственности, что не оставляет кладку, прикрепленную на глубине к корням растений, даже тогда, когда рыбаки перетаскивают ее на мелкое место. Здесь его легко поймать на приманку – маленькую рыбку, в тот момент, когда он пытается ее схватить. Те сомы, которые уже имели опыт заглатывания крючка, и в этой ситуации не оставляют потомство, а разрушают крючок, раскусывая его своим прочным зубом.
Прекрасная картина! Самец, покинутый беспутной партнершей, защищает территорию, враждебно щелкая во все стороны, пока незадачливые мальки плавают позади его плавников, сбившись в кучу. Это могло бы быть сценкой из басни, причем выдержанной во вполне аристотелевском духе. Ведь Аристотель описывает животных как добродушных, ленивых, умных, покорных, вероломных, а в одном случае говорит даже о звере благородном, храбром, высокого происхождения (это лев, конечно), и все такие описания несут отпечаток языка Эзопа.
В 1839 г. Жорж Кювье и Ахилл Валансьен определили glanis Аристотеля как обыкновенного сома (Silurus glanis). Слишком аккуратные, чтобы с ходу отвергнуть подробное описание инстинктов этой рыбы, они, тем не менее, отмечают, что слова древнего грека “граничат с чудом”. Так и есть. В 1856 г. Луи Агассис, профессор зоологии Гарвардского университета, снова поднял вопрос о поведении glanis. Агассис был гораздо более склонен поверить Аристотелю в этом вопросе. Тогда у рыб как раз впервые задокументировали проявления заботы о потомстве. Агассис собственными глазами видел, как американский сом сооружает гнезда и заботится о мальках. Так почему македонская рыба не была на это способна? С другой стороны, выросший в Швейцарии Агассис отлично знал повадки S. glanis и никогда не видел, чтобы эти рыбы защищали молодняк.
Загадка разрешилась, когда Агассис получил несколько греческих рыб от доктора Резера, личного врача греческого короля. В его коллекции “было полдюжины особей с пометкой Glanidia, пойманных в Ахелоосе, главной реке Акарнании, из которой Аристотель самолично черпал информацию о Glanis. Совпадение названия и места не оставляют сомнений в том, что в мои руки попал тот самый Glanis, которого описывал греческий философ: что этот Glanis – подлинное сомообразное, но не Silurus glanis, описанный толкователями Аристотеля”. В 1890 г. ассистент Агассиса Самуэль Гарман описал македонского сома как новый вид, Silurus aristotelis, отличающийся от S. glanis в основном наличием четырех усиков на бороде вместо шести.
Аристотелевское описание полового поведения S. aristotelis точное – по крайней мере, если судить по тому, что известно о них на данный момент. В другом фрагменте Аристотель описывает ритуал ухаживания этой рыбы, наружное оплодотворение, “ножны” (оболочку оплодотворения икринки), развивающиеся после оплодотворения, глаза эмбриона, формирующиеся несколькими днями позднее, и необычайно медленный рост личинок. Описания настолько детальные, что Аристотель, видимо, изучал рыбу самостоятельно. Он жил в Македонии, когда был мальчиком, да и взрослым тоже бывал там. Его описание заботы S. aristotelis о потомстве верное. Самки, выметав икру, действительно уплывают, оставляя самца ее охранять. И самцы действительно издают щелкающий звук, чтобы отпугнуть других рыб (это достигается ударами брюшных плавников по груди). Но есть в описании Аристотеля и загадочный момент. Он утверждает, что самец охраняет икру 50 дней. Это кажется излишне долгим, так как мальки появляются из икры примерно через неделю после ее откладки. Я спрашивал экспертов, присматривают ли самцы за растущими мальками (ведь Аристотель говорит, что да), но они отвечали, что не знают.
Glanis – аристотелев сом (Siluris aristotelis)
Кто-то должен изучить этот вопрос – вдруг Аристотель еще много чего может рассказать об этой рыбе. И лучше бы сделать это побыстрее: Международный союз охраны природы определяет статус S. aristotelis как находящийся под угрозой уничтожения.
27
Аргонавт (Argonauta argo) – существо, похожее на осьминога. Само по себе оно не примечательно, а вот его раковина очень красива. Тонкая, как яичная скорлупа, она имеет совершенную спирально-плоскостную геометрию. И хотя аргонавт живет в толще воды на почтительном расстоянии от берега, после шторма тысячи этих животных можно найти умирающими на пляже.
В 1828 г. Стефано делле Кьяйе, во всех других отношениях незаметный итальянский анатом, изучая аргонавтов в Неаполитанском заливе, обнаружил, что эти животные заражены паразитическим червем. Он назвал этого червя Trichocephalus acetabularis, “власоглавым сосальщиком”. Годом позднее Кювье нашел похожего червя внутри выловленного в Ницце осьминога и назвал червя Hectocotylus octopodis (“сто щупалец”) или “колпачок, который прикрепляется к осьминогу”.
В открытии нового паразитического червя не было ничего необычного. Морские животные кишат ими. Тем не менее, Hectocotylus был паразитом странного толка, очень уж напоминавшим хозяина. Его присоски выглядели так, будто они принадлежали головоногому. Возникло подозрение, что это вообще не червь. В 1851 г. Герман Мюллер и Жан Батист Верани независимо друг от друга показали, что Hectocotylus вовсе не паразит, а половой партнер аргонавта – точнее, пенис этого партнера[35]. Выходило, что все виденные до этого аргонавты были самками, а самцы этого вида оказались незаметными созданиями, у которых раковина вообще не образуется. Одно из щупалец такого самца – существенно модифицированный орган для проникновения, который во время спаривания отделяется и попадает в мантийную полость самки, оставляя самца без пениса (или без одного щупальца).
Отделяемый пенис-щупальце аргонавта в XIX в. стал анатомическим чудом. Но Аристотель-то об этом “чуде” знал все! Или почти все, если верить сказанному в 1853 г. фон Зибольдом: “Верани и Мюллер, написавшие новую страницу в истории изучения Hectocotylus, узнают с изумлением, что Аристотель мог бы на равных соперничать с ними за приоритет открытия связи самца осьминога и «руки» гектокотиля”.
Мог ли? Аристотель знал о существовании Argonauta argo. Он называет его nautilos polypous, “моряк”, описывает его и считает (хотя “нет точных наблюдений”), что раковина аргонавта не так крепко присоединяется к телу, как у других животных с раковинами, например у улиток или двустворчатых моллюсков. Это верно, но помимо данного факта Аристотель повторяет и неверный – что аргонавт использует подобие паутины, образующееся у моллюска между щупалец, в роли паруса. О любовных делах аргонавта Аристотель рассказывает столько же, сколько и само животное: ничего.
И все-таки Аристотель кое-что видел. Описывая половое поведение осьминога, он говорит, что одно из щупалец самца внешне отличается от других: оно имеет беловатую окраску, более заостренное, присоски в его основании крупнее, а на конце оно разделено. Во время ухаживания, продолжает Аристотель, самец вставляет это щупальце в половые пути самки. В 1857 г. Стенструп подтвердил, что у Octopus vulgaris также есть щупальце-пенис. Это менее выдающаяся версия аналогичного органа Argonauta, поскольку по завершении копуляции самец осьминога извлекает щупальце из тела партнерши, а не оставляет его внутри – но оно именно такое, каким его описал Аристотель.
Polypodon megiston genos Аристотеля – обыкновенный осьминог (Octopus vulgaris)
Вверху: копулятивное щупальце (гектокотиль) осьминога Внизу: взрослая особь
Фон Зибольд преувеличил анатомические знания Аристотеля. Последний, конечно, отметил специализированность одного из щупалец осьминога, но не был уверен в том, для чего оно нужно. В некоторых абзацах он предполагает, что вставка щупальца в отверстие на теле самки – это и есть спаривание. В других говорит, что это лишь рыбацкие сказки и что для совокупления осьминоги просто обвиваются друг вокруг друга. Аристотель не может понять, как семя может передаться через щупальце, и поэтому вообще сомневается в копулятивном назначении гектокотиля. Этот подход, разумный при оценке правдивости истории об оральном сексе у рыб, в случае спаривающихся осьминогов уводит его в сторону от верной интерпретации их действий. Зато оба абзаца дают информацию об образе мыслей Аристотеля. И, вероятно, о том, что он просто не хотел замочить ноги и понаблюдать за этими животными самостоятельно.
28
В нашем списке есть открытие, целиком принадлежащее Аристотелю. Он описал удивительные эмбрионы европейской куньей акулы. Увидев, что у собачьих и прочих акул, скатов (Batoidea) и электрических скатов в тех местах, где у большинства рыб кости, находятся хрящи, он дает им общее имя selakhē (селахии)[36]. Аристотель знает, что у этих рыб половые органы видны снаружи и что оплодотворение у них внутреннее, но он вновь осторожен в своих суждениях (“рыбаки говорят”). Он отмечает, что некоторые селахии, такие как батиды (представители современного надотряда Batomorphi) и skylion (кошачья акула), откладывают яйца с твердой оболочкой и “усиками” – это яйцевые капсулы, которые порой вымывает на пляжи, – но большинство живородяще. Кроме того, Аристотель знает, что если вскрыть самку akanthias galeos (катрана), то эмбрионы окажутся покрыты яйцевыми оболочками. Таким образом, катраны яйцеживородящи[37]. Вероятно, в то время это было общеизвестно. Сейчас молодь этих рыб известна под названием koytabakia, “щенки”, и ее готовят с чесночным соусом[38].
Селахии определенно странные. Но одна селахия, leios galeos (европейская кунья акула), страннее остальных. Судите сами:
Эти животные развиваются с пуповиной, прикрепленной к матке, и когда яйцо окончательно использовано, эмбрион становится похож на эмбрион четвероногих животных. Длинные пуповины прикреплены к нижней части матки с помощью чего-то наподобие присосок. Эмбрионы прикреплены к пуповинам в средней части тела, в районе печени. Вскрытие эмбриона показывает, что он питается желтком даже тогда, когда яйца уже нет. Хорион и другие оболочки формируются вокруг каждого эмбриона, как и у четвероногих. У ранних эмбрионов головы смотрят вверх, а у тех, которые завершили свой рост, головы повернуты вниз.
Яснее и быть не может. Аристотель пишет, что “щенки” европейской куньей акулы (Mustelus mustelus) связаны с организмом матери пуповиной и неким подобием плаценты. Он даже замечает, что это удивительное строение матки характерно, кроме названной акулы, лишь для млекопитающих.
В 50-х гг. XVI в. Пьер Белон и Гийом Ронделе подтвердили необычное устройство половой системы самок европейской куньей акулы. Ронделе даже зарисовал молодую рыбу свисающей из живота матери и с пуповиной. В 1675 г. датский натуралист Нильс Стенсен (Николас Стено) вскрыл одну такую рыбу и показал, как пуповина прикрепляется к ее внутренностям. Затем кунью акулу на два столетия оставили в покое. Кювье и Валансьен эту рыбу не упоминают. Иоганн Мюллер заново открыл ее в 1839 г. Он совершил поистине научный подвиг, вскрыв рыбу и показав, что плацента куньей акулы – это, по сути, желточный мешок, прикрепленный к стенке матки, и его строение настолько же сложно, как и строение плаценты млекопитающего. Мюллер с уважением к первопроходцу озаглавил монографию: “О гладкой акуле Аристотеля” (Über den glatten Hai des Aristoteles).
Leios galeos Аристотеля – европейская кунья акула (Mustelus mustelus)
Многие зоологи восхваляли Аристотеля, видя в нем коллегу. Некоторые испытывали такой энтузиазм, что игнорировали его ошибки. Они приписывали ему собственные озарения и одержимость аккуратностью. Как бы то ни было, одна оценка Аристотеля кажется мне особенно подходящей:
В отношении биологии Аристотель сделал почти то же самое, что Бойль сделал для химии – он порвал с традицией. В этом заключается величайшая из множества его великих заслуг. До Аристотеля существовала масса трудов по естественной истории; однако принадлежала она земледельцам, охотникам и рыбакам – и еще кое-что (несомненно) в ней оставалось на долю школяров, бездельников и поэтов. Но Аристотель сделал естественную историю наукой и обеспечил ей место в философии.
Это слова Дарси Томпсона.
Глава 5 Природа
29
Шиллер сказал, что греки видят природу без сантиментов, Гумбольдт – что они не изображают природу ради нее самой. Я думаю, оба они неправы.
Лишь цикада в листве, сладко звуча, льет из-под крылышек Звонкой песни поток – а между тем… Над широкой землей жар распростерт всеиссушающий. Колкий сколим зацвел. Жены теперь мерзки от похоти, А мужчины – без сил: мышцу и мозг высушил Сириус…[39]Этот милый фрагмент может быть о Лесбосе, поскольку Алкей, написавший эти стихи в VI в. до н. э., оттуда родом. Возможно, он был любовником Сапфо. Способная сравнить лицо любимого с отрядом конницы или со “стройных кораблей вереницами”, Сапфо, тем не менее, писала и о златоцвете, розах, анисе и медунице, о том, как Луна “струит блеск на соленое море”. И если погрузиться в антологию, становится очевидно: природа всю эту тысячу с лишним лет наполняла жизнь греков смыслом.
Однако Шиллер в некотором смысле прав. Может быть, греки и радовались от весеннего возвращения ласточки, но их природа не была природой романтиков, вместилищем всего стихийного, необузданного и нечеловеческого. Природа у натурфилософов иногда означала “созидание”. Ксенофан, Гераклит, Эмпедокл, Горгий, Демокрит и (чуть позднее) Эпикур – все они написали по работе (о космологии), озаглавленной “О природе” (peri physeos). И Аристотель сочинил книгу с таким названием (первые четыре книги его “Физики”), но она вовсе не о космологии, а об изменении (превращении).
Камни падают, горячий воздух поднимается, животные двигаются, растут, спариваются и умирают, а небеса вращаются: все пребывает в движении. Мы принимаем как данность то, что причины изменений могут быть различными. Пар из котла поднимается к небу, но к небу тянется и растение в саду. Тем не менее эти явления настолько различны, что их причины наверняка неодинаковы. Аристотель видит это (хотя и не совсем так, как мы), но он также видит, что сам процесс изменения требует объяснения, и определяет это объяснение как physis (фюзис) – “природа”. Он говорил, что абсурдно доказывать, что существует природа в этом смысле. Многие вещи имеют свою природу – это не требует разъяснений. Задача же ученого такова: понять, как именно устроена природа.
Аристотель не придумал концепцию physis, поскольку нечто похожее, кажется, есть уже в “Одиссее”: “Так сказавши, Гермес передал мне целебное средство, // Вырвав его из земли, и природу его объяснил мне”. Она определенно близка Демокриту: “Природа и обучение сходны между собой, ведь учение также дает человеку новый облик, но, делая это, оно только выявляет природу, вновь проявляя черты, которые природа заложила изначально”. Тогда значение physis также близко к современному “природа”, как в “Стихах против тех, кто ссорится и дерется” Исаака Уоттса (1674-1748):
Krangon Аристотеля – рак-богомол (Squilla mantis)
Тюленю свойственно реветь Собаки – те кусачи И Лев дерется, и Медведь, – Зверям нельзя иначе [For ‘tis their nature too][40].Или у Гоббса: “Природа – искусство, при помощи которого Бог сотворил мир и правит им”[41].
Но Аристотель – не деист XVIII века, поэтому, вовлекая Бога в причинную цепь, мы рискуем исказить его мысль. Природа Аристотеля – это внутреннее начало движения и покоя. В этом фундаментальное различие между природными вещами и творениями рук человеческих: первые движутся и останавливаются самостоятельно, вторые – не движутся, да и не могут. И, хотя Аристотель считал, что неодушевленные вещи, такие как начала, также двигаются по своей воле, очевидно, что его понятие природы удобно для биологов. Настоящее назначение природы – определить загадочный порядок, согласно которому животные делают то, что они делают, и притом сами по себе. Никто не заводит механизм, никто не задает направление: природа справляется сама.
30
В определении природы как внутреннего начала движения и покоя Аристотель едва ли очерчивает границы естественных наук. Вопрос (важнейший, лежащий в основе его поиска) – что есть причина изменения?
Чтобы найти ответ, Аристотель принялся читать. К моменту его приезда в Афины интеллектуальная атмосфера стала антинаучной. Великая линия натурфилософии прервалась, однако книги натурфилософов еще можно было найти. Не знаю, когда и как Аристотель достал их, но отмечу, что он покинул Афины в возрасте 37 лет, так что у него было достаточно времени для чтения и размышлений.
Аристотель прочитал и Демокрита. (И лишь Платон оказал большее влияние на Аристотеля.) Говорят, что Платон Демокрита ненавидел и велел скупить и сжечь все книги последнего. Желание Платона не осуществилось: мы знаем, что позднее Демокрита читали. Однако ни одна из его книг до нашего времени, увы, не дошла. Физическая теория Аристотеля большей частью построена на критике Демокрита, но многое из того, что известно о последней, мы знаем из первой. В отличие от Платона, Аристотель оказывал оппонентам честь, сохраняя их высказывания.
Если верить Аристотелю, то Демокрит считал, будто мир состоит в конечном счете из атомов: сущностей невидимых, твердых, неуничтожимых, неизменных, бесконечных в числе и разнообразии, постоянно движущихся. Он называл свои атомы onta – “вещи”. Демокрит воспринял эту теорию от Левкиппа, своего учителя. Сейчас Левкиппа и Демокрита почитают как отцов атомарной теории и всего, что из нее следует, поскольку тянущаяся от них к Джону Дальтону и Эрнесту Резерфорду нить хоть и тонка, но реальна.
Демокрит расширил атомарную теорию до космологии. Теория поверхностная (мы не знаем, из-за неудач самого Демокрита или превратностей судьбы) и гласит, что атомы летают в пустоте, сталкиваясь и соединяясь, и образуют все вещи, в том числе планеты и звезды. Видимо, Демокрит объяснял и определение пола, а также восприятие и движение животных атомами различного типа и формы. Возможно, он даже предложил редукционистскую теорию жизни: доксографы упоминают минимум три книги о “причинах животных”, все утерянные. Но и так суть ясна. Демокрит, объясняя природу вещей и их изменение, обращался лишь к материи, из которой они сложены. И делал так не первым. Аристотель провел значительную часть жизни в попытках доказать, что Демокрит неправ. В некотором смысле все научные работы Аристотеля – спор с материалистами. Итак, мы подошли к одной из великих поворотных точек научной мысли. И, как нередко считают, – поворот свершился в неверном направлении.
Аристотель доказывал, что главная проблема космологии Демокрита – та, что Вселенная, по Демокриту, самопроизвольно образуется от столкновений атомов. Чтобы объяснить, почему это маловероятно, Аристотель анализировал понятие “самопроизвольно”. Увидев, что треножник стоит на трех ножках, мы можем решить, что кто-нибудь поставил его так. Но, возможно, треножник, упав с крыши, просто удачно приземлился? Демокрит считал, что космос подобен треножнику, который никто специально не ставил.
Это может показаться странным. Почему космос не мог “приземлиться на ножки”? Но с точки зрения Аристотеля случайные события – это такие события, которые кажутся имеющими цель, но на самом деле не имеют ее. В этом суть: по Аристотелю, космос (звезды, планеты, Земля, все живые существа, сами начала), очевидно, имеет некую цель, все перечисленное несет след замысла. Хотя имеющие цель вещи могут возникать самопроизвольно, ему казалось маловероятным, чтобы настолько упорядоченный космос мог организоваться сам по себе.
Большая доля современных космологических теорий гласит, что Вселенная не имеет смысла, а просто существует. Лишь ребенок теперь может спросить: “А зачем звезды?” Но этот вопрос не был детским для Аристотеля. Его ощущение осмысленности охватывает почти все. Возможно, это выглядело бы менее странным, если бы мы представили его неким космическим биологом. Можно подумать, он не совсем уверенно чувствует себя, когда дело доходит до звезд, однако он определенно прав в том, что столкновение атомов не может объяснить постоянство и целеустремленность жизни на Земле (и где-либо еще).
Видение мира Аристотеля выражено предельно прямо, когда он критикует других натурфилософов. Всякий раз, когда Аристотель обсуждает идеи Демокрита, он упоминает и Эмпедокла. Для Аристотеля оба они – материалисты, хотя и разного толка. Эмпедокл полагал, что мир состоит из земли, воды и воздуха, которые можно считать материей в твердом, жидком и газообразном состоянии, а огонь их дополняет. Соединяясь, эти начала образуют камень, железо, кость, кровь и т. д.:
Существующие вещи не имеют природы – только смешивание и разделение того, что было смешано. Природа – это имя, данное человеческими существами.
Таким образом, “природа” – это искусство смешивать коктейли. Эмпедокл объясняет, как конфликт Любви и Вражды (Раздора) приводит к циклическому созданию и разрушению мира, а вместе с тем к периодическому созданию живых существ. В первых фазах каждого цикла Любовь создает ткани, каждую по определенному рецепту, и появляются странные существа, главным образом из одного органа: глаза без лица, головы без шеи и туловища, руки без плеч. Любовь усиливается, Вражда слабеет, цикл продолжается, и существа из запчастей начинают сливаться в случайном порядке, образуя существ с двумя лицами, двумя грудными клетками или одновременно женскими и мужскими, или гибридов вроде быка с человеческим лицом или человека с бычьим (весь тератологический бестиарий в комплекте с Минотавром). Может показаться, что версия Эмпедокла далека от того, чтобы произвести на свет животных, которых мы видим, однако у него есть великолепное решение. Симпликий (VI в.), комментатор “Физики” Аристотеля, рассказывает:
Эмпедокл говорит, что под владычеством Любви части животных приходят к существованию случайно – головы, руки, ноги и т. д. – и потом начинают смешиваться: “Потом пришло потомство вола с конечностями человека и наоборот. И те, что смешались так, что смогли сохранить себя, стали животными и выжили потому, что они [их части, которые срослись] удовлетворяли нужды друг друга – зубы кусали и перетирали еду, желудок переваривал ее, печень превращала ее в кровь”. И человеческая голова на человеческом теле приводит к сохранению целого, но человеческая голова на теле быка не согласуется с ним и потому умирает. Те, кто не объединился должным образом – умерли. И все это происходит до сих пор…
Большинство “рекомбинантов” оказалось нежизнеспособным. Симпликий замечает: так считали многие ранние натурфилософы. Если так, то это замечательно, поскольку означает, что во времена Аристотеля было распространено воззрение на отбор как на источник упорядоченности. Эпикур, будучи на поколение старше Аристотеля, предложил еще более тщательно проработанную космогонию, построенную на отборе, чем Эмпедокл (по крайней мере, если верить эпикурейским стихам Лукреция).
Можно ожидать, что Аристотелю придется по нраву модель Эмпедокла. Сицилиец описывает (по крайней мере, по словам Симпликия) полностью разумный механизм, способный из хаоса производить сложные, “функциональные” существа. Аристотель, несомненно, должен был в поисках объяснения замысла природы заметить этот механизм и воспользоваться им. Разумеется, он видел, насколько механизм логичен. В итоге Аристотель избрал в качестве объекта прекрасную биологическую конструкцию: зубы. У младенцев резцы появляются “острыми, предназначенными для разрывания пищи, а коренные широкими, годными для перемалывания”. Не следует ли считать это продуктом процесса, при котором выживает то, что в требуемой степени упорядоченно? Почему зубы не “самопроизвольны”?
Аристотель мог предложить несколько вариантов ответа. Но чтобы понять их, нужно вникнуть в его представления об отборе. Возможно, они не вполне совпадают с версией Эмпедокла, так как в сохранившихся стихах сицилийца речь идет лишь о событиях рекомбинации и отбора в далеком прошлом. Все формы выживших существ – современных животных и растений – уже исправлены. Аристотель, напротив, считает, что отбор продолжается. Но в его понимании отбор гораздо радикальнее дарвиновского. Теория Дарвина предполагает, что у организмов имеется механизм, позволяющий передавать потомству свои признаки более или менее полно, что переданный материал слегка отличается и что эти различия и выступают субстратом естественного отбора. Естественный отбор Эмпедокла – Аристотеля, однако, допускает, что любая индивидуальная форма всякий раз заново образуется с помощью естественного отбора. В матке находится “бульон”, из которого отбор производит ребенка с зубами. Аристотель распространяет космологическую теорию на эмбриологию.
И сам с легкостью опровергает ее. Его аргументы великолепны, поэтому-то ими и воспользовались критики эволюции путем естественного отбора:
1. Случайные события редки, но признак истинно неслучайных – частота: зубы всегда вырастают в одном порядке. Это вероятностный довод за существование целенаправленно действующей силы. И он, как и многие подобные ему доводы, неверен, поскольку отбор может периодически создавать порядок из хаоса[42]. Эмпедокл подтолкнул Аристотеля к этому выводу, сделав свою космологию неопределенной.
2. Не только итог развития имеет видимость некоего замысла, но и процесс. Каждый шаг, очевидно, направлен на результат, как этапы постройки дома. Эти шаги просто должны быть продуктом ума, который помнит о результате.
3. Хотя развитие является отлаженным процессом, ошибки все-таки случаются (в трактате “О возникновении животных” Аристотель много рассказывает о сросшихся близнецах и карликах), но это и есть ошибки – отклонения от программы. Более того, “рекомбинантные животные” Эмпедокла не могли образоваться из ничего. Они, должно быть, появились из ухудшения семенной жидкости (а причин тому может быть много).
4. Мы просто не наблюдаем большого разнообразия. Конечно, безобразное потомство иногда появляется на свет, иногда даже настолько безобразное, как бык с головой человека, но почему же мы не видим подобное у растений, скажем, лозу с оливковой “головой” (“лозорожденные масличноликие”)? И сразу же хочется предъявить Аристотелю цветок с мутацией гомеозисных генов.
5. Организмы наследуют форму от родителей. Из семени развивается не любое существо, а строго определенное: цикада, лошадь, человек и т. д. Аристотелевская версия селекционизма не способна на такое.
Аристотель, не приемлющий материализм, глубоко убежден в том, что космос и все существа, что в нем есть, упорядочены и имеют цель. Объяснимо неприятие им возможности самопроизвольного возникновения порядка по Демокриту. Его возражение Эмпедоклу менее убедительно, поскольку отбор (даже недарвиновский) может способствовать появлению порядка из хаоса. На самом деле это единственное известное натуралистическое объяснение феномена. Похоже, Аристотель загнал себя в угол. Так откуда же порядок? И в чем его цель?
31
Аристотель, говоря о натурфилософах, признает, что один из них небезнадежен: “Тот, кто сказал, что ум находится, так же как в живых существах, и в природе и что он причина миропорядка и всего мироустройства, казался рассудительным по сравнению с необдуманными рассуждениями его предшественников”. Этого двусмысленного комплимента удостоился Анаксагор из Клазомен (ок. 500–428 гг. до н. э.). По Анаксагору, космос начался как смесь существовавшей вечно материи. Ее привел в движение Нус (nous) – Разум, Ум, Мировая душа, – так что частичное разделение компонентов привело к образованию материи различных типов, которую мы наблюдаем. Из сохранившихся фрагментов Анаксагора не ясно, ни какими были компоненты, ни рецепты какой бы то ни было современной материи, ни причина Нуса. Судя по всему, Нус Анаксагора был устроителем не в большей степени, чем батарейка космологического миксера.
Сократ в “Федоне” выражает разочарование этим обстоятельством. В свое время, говорил он, когда его еще интересовали проблемы мироустройства, ему сказали, что Анаксагор поставил во главе всего Нус, и он надеялся, что Анаксагор объяснит, почему мир устроен именно так – наилучшим образом. А потом он прочитал Анаксагора и обнаружил, что “Ум у него остается без всякого применения и что порядок вещей вообще не возводится ни к каким причинам, но приписывается – совершенно нелепо – воздуху, эфиру, воде и многому иному”[43].
Именно этой реакции можно было бы ожидать от Сократа. Неожиданно у Аристотеля нашлись такие же возражения. Поэтому, после нескольких страниц с похвалами в адрес Анаксагора за то, что тот прибег к помощи Нуса, Аристотель дал задний ход и обвинил Анаксагора в том, что он, как правило, объясняет происходящее всевозможными причинами, а Нус извлекает из сундука лишь в моменты затруднений. Проблема не в том, что Анаксагор ссылается на Нус, а в том, что он не передает ему всей власти. Когда мы видим, как Аристотель солидаризируется с Сократом/Платоном и нападает на третьего философа (и второй враждебен к науке настолько, насколько первый ей предан), мы можем быть уверены, что между ними есть тесная связь. Ведь убеждение, что космос должно рассматривать, исходя из целей и конечных состояний, Аристотель заимствовал у Платона.
Объяснения с привлечением таких понятий, как “задача”, “предназначение”, “цель”, называются телеологическими (от греч. telos – результат, цель). Термин этот ввел в употребление Христиан фон Вольф в 1728 г. Телеологические объяснения, приписывая смысл миру, требуют существования некоей целенаправленной силы. И, естественно, объясняемые явления становятся доказательством существования этой силы. Уильям Пейли в “Естественной теологии” живописует функциональную безупречность глазного века:
Из всех известных мне внешних частей тела животного я не знаю более достойного внимания, со всем его призванием и структурой, чем веко глаза. Оно защищает глаз, очищает его, хранит его во сне. Есть ли где еще в каком бы то ни было произведении искусства больше замысла, чем несет в себе этот орган? Или механизм, исполняющий свой замысел более разумно, более подходяще, более механически?
А вот что говорит Сократ:
Не думаете ли вы, что это плод дальновидности, это прикрытие нежных сфер зрения веками как раздвижными дверями, которые, когда требуется их использовать для какой-либо цели, могут быть широко распахнуты, а когда придет время сна, накрепко закрываются?
Далее Сократ рассуждает, что очевидная дальновидность и целенаправленность в строении глазного века исходит от Бога, “мудрого изобретателя, полного любви ко всему живому”. Это первое в истории применение аргумента творения по замыслу, на котором построены “Естественная теология” Пейли и “Девятый Бриджуотерский трактат” Бэббиджа. Это движение к тому, что Сократ хотел услышать от Анаксагора и других натурфилософов: то, что наводит мосты между миром явлений и красивым, благим, Божественным. Это почти наверняка аргумент Сократа, так как он упоминается у Ксенофонта. Но если Сократ лишь намекнул на сотворение мира, Платон подробно изложил это (или очень похожее) представление.
“Тимей” – это, может, и миф, но записанный Платоном, и потому между шутками и морализаторством в нем много разумного. Конечно, и в Книге Бытия и в “Ригведе” изложены бесполезные для науки идеи и “Тимей” был бы столь же бесполезен, если бы Аристотель не прочитал этот диалог и не переплавил концептуальный свинец в золото научного толкования.
Миф, который изложил Платон, предполагает разумный замысел. Космос и все населяющее его существует и прекрасно потому, что божественный мастер, Dēmiourgos, Творец, создал их такими. Платон, не будучи зоологом, различал всего шесть категорий живых существ: небесные боги (звезды и планеты), люди, наземные животные, птицы, рыбы и моллюски. Несмотря на это, он мог многое рассказать о том, почему и как Творец сделал их такими, какие они есть.
Упоминание Платоном пищеварительного тракта проясняет приоритеты Творца. Наш кишечник, говорил Платон, свивается в кольца, чтобы пища не проходила через него слишком быстро. А это требуется, чтобы “род человеческий из-за чревоугодия не стал чужд философии и Музам, явив непослушание самому божественному, что в нас есть”. Похоже, философия рождается в утробе.
Творец невероятно дальновиден. Платон так объяснял наличие ногтей у человека: “Те, кто устроил нас, ведали, что некогда от мужчин народятся женщины, а также и звери, и что многие твари по многим причинам ощутят нужду в употреблении ногтей; вот почему уже при самом рождении человечества они наметили их зачатки”. Соблазнительно решить, что Платон размышлял об эволюции и что ногти – это преадаптация к когтям. Но это еще одна странная трансмутационная идея Сократа/Платона (вроде гипотезы о происхождении птиц от астрономов).
Не то чтобы в “Тимее” совсем не было интересных идей. Аристотель использует многие из них в зоологических рассуждениях. Но характерно, что Платон не предполагал, будто мы должны принять его божественную телеологию на основании ее научных достоинств. В “Законах” он объясняет, что материализм (конкретно материализм Эмпедокла и Демокрита) пагубен, так как, устраняя божественную предопределенность, он ведет к атеизму и к смуте.
32
Аристотель построил свою функциональную биологию на фундаменте платоновской “сверхъестественной” телеологии. Когда Стагирит приводит телеологическое объяснение, он использует в тексте конструкцию to hou heneka – “то, ради чего” – или другой грамматический вариант. Он дает четкое определение в книге “О частях животных”: “Мы всегда утверждаем, что одно происходит ради другого, когда обнаруживается известный конец, который ставит предел движению, если этому ничто не препятствует”. Он связывает этот телеологический импульс с природой вещей, с внутренним началом движения, и приводит пример: развитие лошади. Таким образом, говорит он, если мы видим процесс, по своей природе направленный на конкретную цель (например, развитие развитие из семени лошадей-родителей жеребенка, а следом и взрослой лошади), то мы должны говорить: “Оно существует ради этого”, причем “оно” – это некий признак животного, а “этого” – это взрослое животное.
Аристотеля впечатляло то, что живые организмы и творения рук человеческих, особенно машины, в значительной мере подобны друг другу. На примере пилы, ложа, дома и (это загадочнее) automata Аристотель объясняет различные сторон жизни животных. Иногда он упоминает их в качестве механистических моделей. В книге “О движении животных” Аристотель сравнивает работу конечности с движением конечности у куклы. Но по-настоящему Аристотеля интересует то, что вещи – и природные и искусственные – несут печать замысла.
Рассуждения о творениях рук человеческих очень похожи на платоновские, и может показаться, что Аристотель приближается к мысли о Творце. Однако он последовательно отрицает вмешательство демиурга, который сотворил все сущее. В космосе Аристотеля нет места Творцу не потому, что он не был сотворен, а потому, что он существовал всегда. Кроме того, Творец не особенно и нужен. Обратите внимание, пишет Аристотель, на несомненно целенаправленное поведение животных: то, как паук ткет паутину или ласточка строит гнездо. Некоторые считают, что эта способность делает их настолько же разумными, как людей-ремесленников. Но это явно не так, ведь и лишенные интеллекта растения “производят листья ради плодов, а корни растут не вверх, а вниз ради питания”. По той же причине кажется, что части организмов выглядят, будто их сотворил действующий извне разум, но это не так. Всякое живое существо строит и поддерживает себя, как врач, лечащий себя самого.
Аристотель отрицает, что Платон использовал аргументы “ради чего”. Это странно. Кажется, “Тимей” полон ими, Платон даже использовал конкретно этот оборот. Возможно, Аристотель считал, что его телеология сильно отличается от платоновской. И это правда. В “Тимее” Платон телеологически объяснил строение пищеварительного тракта. Аристотель (в трактате “О частях животных”) – также. Но Платон объясняет, что нутро создано Творцом таким, чтобы люди интересовались философией. А вот что пишет Аристотель:
Питаясь, некоторые животные нуждаются в большей умеренности (так как у них недостаточно места в нижнем отделе желудка, и кишка не прямая, а образует витки). Большее пространство создает желание заполнить его пищевой массой. “Прямизна” кишечника ускоряет появление такого желания. Такие животные становятся крайне прожорливы – они съедают много или быстро.
Никакого божественного любителя философии: чистая сравнительная физиология.
Примеров много: книга “О частях животных” полна ими. “Каждая часть в нем [теле] – ради чего-нибудь, равным образом и целое [тело]”. И, хотя объяснения Аристотелем этих глубоких истин восхитительно подробны и бесконечно изобретательны, выглядит все так, будто он стоит перед выбором. Ему, как и Сократу и Платону, очевидны свидетельства замысла, начертанные на лице мира. Как и они, Аристотель видит, что материальные причины сами по себе не способны это объяснить, но отказывается прибегнуть к услугам Творца. Поэтому вопрос: откуда план и целеустремленность природы? Аристотель отвечает провокационно. Он присваивает другую доктрину Платона, которая подкрепляет его, Платона, онтологию и эпистемологию и является главным источником его презрения к нашему миру. Аристотель разрушает ее, перестраивает и ставит на службу науке. В Платоне можно было много чего не любить: антисциентизм, тоталитарность, обаяние его книг. Но одного у Платона не отнять: Аристотеля обучил именно он.
33
Креационизм Платона, появившийся сразу после атомистической космологии Демокрита, мог показаться возвратом к наивной естественной теологии Гесиода. Так и было бы, если бы Платон не подкрепил его совершенно новой онтологией. Отыскивающий источник стабильности в подвижном, изменчивом мире Платон утверждает, что наблюдаемые вещи суть отпечатки “безвидных и незримых” идей (эйдосов, εἶδος). Это довольно туманная доктрина, но если считать идеи чертежами в уме Творца, мы, возможно, приблизительно поймем, что философ имел в виду. Весь космос, по сути, – лишь отпечаток идеи. В “Тимее” Платон пишет о нашем мире: “…Единое видимое живое существо, содержащее все сродные ему по природе живые существа в себе самом”. Эта всеобъемлющая идея содержит бесчисленные подчиненные идеи, чертежи всех вещей. Ложа, птицы и люди: все лишь отражение невидимых идей.
Платон стал родоначальником идеализма. Большинство же современных ученых – реалисты. Реалистом был и Аристотель. Он стремился объяснить физический мир. Если идеи неизменны и вечны, как они могут повлиять на что-либо? И что это значит: физический мир “участвует” в идеальном мире? И если идея – это мысленное представление, то почему вещи не может соответствовать столько идей, сколько есть способов помыслить о ней? А если идея есть для каждого объекта, например Сократа, то не должно быть двух, трех или даже бесконечно много разгуливающих по миру Сократов? Аристотель пришел к выводу, что платоновские идеи являются просто поэтическими метафорами. Они отменяют изучение природы.
Самое замечательное то, что эта довольно безнадежная концепция явилась источником одной из самых глубоких мыслей Аристотеля. Так как Аристотель верил, что природа живого существа (по крайней мере, самая важная его часть) – это на самом деле его “форма”, он заимствовал у Платона термин эйдос.
Аристотель считал любой осмысленный предмет комплексом из формы (eidos) и материи (hylē). Можно говорить о “форме” и “материи” отдельно, как об абстракциях, но они неразделимы. Чтобы это объяснить, Аристотель прибегает к метафорам. Если hylē – это воск, то eidos – отпечаток. В общем, eidos – это то, как структурирована материя в видимых объектах. Но Аристотель, употребляя этот термин при описании живой природы, использует его в нескольких связанных смыслах.
Первый биологический смысл, который Аристотель вкладывает в слово eidos, близок к облику животного. Он использует слово genos (мн. ч. genē) для обозначения таксона, которое я перевожу как “род”. Некоторые genē имеют малый размер, – например род воробьев, некоторые – большой, как род птиц. Аристотель, описывающий признаки, делающие воробья воробьем, а не журавлем, или же птицу птицей, а не рыбой, говорит об их eidos.
Когда Аристотель говорит об eidos в этом смысле, он обычно говорит о формах внутри разновидности: “Существует множество родов рыб и птиц”. Это приводит нас к другому смыслу слова eidos: фундаментальной единице биоразнообразия, которая стоит ближе всего к нашему виду. Конечно, прямой перевод слова eidos – это как раз вид, так же, как род является переводом слова genos[44]. То есть допустимо переписать фразу так: “Существует множество видов рыб и птиц”.
Однако есть неясность. Фраза существует множество видов рыб и птиц имеет куда более глубокий смысл, чем если сказать, что рыбы и птицы могут по-разному выглядеть, и очень часто неясно, что именно имел в виду Аристотель. Переводчики его биологических трудов часто используют слово “вид” для обозначения eidos. Загляните в переводы “О частях животных” (1882) Огла или “Истории животных” (1910) Томпсона: сложно удержаться от соблазна решить, что аристотелевское представление о сущности вида так уж отличается от линнеевского. Но современные ученые считают, что Аристотель редко использовал eidos во втором смысле. Иногда он ссылался на atomon eidos (“неделимая форма”) – например, когда говорил, что Сократ и Каллий имеют общий atomon eidos. Естественно, Аристотель не считает этих двоих идентичными, а имеет в виду, что у них сходны основные черты. (Кажется, это соответствует понятию вида.) Но Аристотель упоминает очень мало неделимых форм. Среди них – люди и лошади, воробьи и журавли.
Проблема в том, что Аристотелю не хватает технической терминологии. Он тщательно избегал введения понятий, даже когда это было необходимо. Эта проблема не осталась для него незамеченной. Он часто упоминал, что термин может быть использован в нескольких значениях, и даже указывал, в каких именно, но читателю нередко приходилось догадываться, что имеется в виду в конкретном случае.
Более того, Аристотель использовал термин eidos еще в одном значении. Оно связано с двумя другими и поражает своей глубиной. Имеется в виду внешний вид организма, который – как парадоксально это ни звучало бы – он имеет тогда, когда его еще никто не видел. Это “информация”, “формула”, которая переходит от родителей, согласно которой организм строит себя в утробе или яйце и которую позднее передаст собственному потомству. Именно в этом смысле Аристотель считал, что природа организма содержится в его идее.
Рассуждения об eidos как об “информации” могут показаться анахронизмом. Аристотель определенно понимал информацию не так, как мы. Тем не менее эта интерпретация подкреплена несколькими фрагментами, где он проводит параллель между передачей форм животных и передачей знаний. В книге “О частях животных” Аристотель размышляет, как плотник описал бы свое творение. Он не стал бы говорить только о дереве – это лишь материал. Или только о топоре либо бураве – это лишь инструменты. Он не говорил бы только о наносимых ударах – это лишь техника. Нет, если плотник действительно захочет поведать о происхождении работы, он расскажет о лежавшей в основе идее, которая его посетила вначале, о том, как она обрела форму в его руках, как развивалась и во что превратилась, ее конечный смысл и цель, то есть он будет говорить об eidos своего творения. Вот и ученый, желающий объяснить, почему живые существа выглядят именно так, а не иначе, должен говорить об их эйдосах. Просто идея, как именно должно выглядеть существо, находится не в разуме божественного ремесленника (как считал Платон), а скорее в семени родителей этого существа.
В “Метафизике” есть фрагмент, где Аристотель приводит еще одну метафору для описания взаимосвязи между материальной и формальной природой. Он на удивление удачно сравнивает компоненты тела с символьной системой. Некоторые предметы состоят из нескольких частей, говорил он. Слог ab – это соединение букв a и b. Однако просто поставить буквы рядом недостаточно, нужно определить их порядок (иначе получите ba), или, как сказали бы сейчас, нужна дополнительная информация. В этом же смысле плоть – это соединение огня, земли и чего-то еще, а именно – порядка, в котором соединены компоненты. И этот порядок как раз является идеей и природой плоти.
Уверенность Аристотеля в том, что мы должны уделять материальной структуре живых существ меньше внимания, чем информационной, заставляет его выглядеть буквально предтечей молекулярной генетики. Однако Аристотель никоим образом не предугадал открытие ДНК. Это совпадение. Тем не менее извлечением платоновских эйдосов из идеального, умопостигаемого мира Аристотель ответил, и притом правильно, на вопрос, что является непосредственным источником замысла, усматриваемого в живых существах. Это информация, получаемая ими от родителей.
34
Несмотря на суровость Аристотеля по отношению к предшественникам (причем он всегда прямо говорил то, что думал о них), он многое у них заимствовал. Демокрит и Эмпедокл указали на значение материи, Анаксагор, Сократ и Платон открыли замысел во всем, а Платон заметил, что у порядка должна быть первопричина. Все эти начала присутствуют в собственном объяснении Аристотеля.
Да и могло ли быть иначе? Ведь никто из его предшественников не увидел, что природа вещей может, даже должна, быть понята несколькими способами. Наше сердце стучит не только благодаря химическим реакциям, и не только чтобы не дать нам умереть, и не только потому, что оно сформировалось в процессе развития эмбриона, и не только потому, что у наших родителей были сердца. Наши сердца бьются по всем этим причинам сразу. Примерно так Аристотель говорит о “четырех причинах”. (Хотя “четыре типа каузального объяснения” лучше отражают суть.) Он указывает, что всего причин четыре:
1. Целевая (“то, ради чего”),
2. Формальная – “что такое” (или сущность),
3. Материальная (“то, из чего”),
4. Производящая (источник изменения).
Начну с конца. Производящую причину можно записать на счет механики изменения и развития. (Сейчас это вотчина нейрофизиологии и биологии развития.) Материальная причина определяется составом, материей, из которой сложены животные, и ее свойствами. (Это удел биохимиков и физиологов.) Формальная причина объясняется информацией, которую живое существо получает от родителей и которая ответственна за общие для вида признаки. (А это стезя генетиков.) Целевая причина – это, по сути, чистая телеология, рассмотрение частей животных для выявления их функций. Теперь эта часть эволюционной биологии исследует адаптацию. В той же мере, как функция изменяет части животных, способ их развития, воспроизводства и смерти, эта последняя причина заключает, по Аристотелю, остальные три. Его слова придают нашим мыслям структуру даже тогда, когда мы об этом не подозреваем.
Однако не все так просто. Биологию со времен ее возрождения в XVII в. сотрясали конфликты. Во многих случаях это были лишь споры о сути того или иного явления. В 50-х гг. XX века формально-материалистические молекулярные биологи сражались с телеологически ориентированными “организменными биологами”. Зоологи Эрнст Майр и Николас Тинберген попытались добиться мира – или, по крайней мере, проверить вещественность триумфа молекулярщиков – и сделать так, чтобы все четыре причины были в равной степени признаны. Их список “причин” отличался от аристотелевского (они были эволюционистами), но понимание того, что живые существа следует рассматривать по-разному, идет явно от него. В последнее время в большей части университетов каждый тип объяснения изучает отдельная кафедра.
Но Аристотель ли повлиял на нас? Некоторые ученые указывают источники его системы и считают его просто собирателем слухов. Карл Поппер полагал его “мыслителем невеликой оригинальности” (однако признавал, не замечая явного противоречия, что Аристотель – автор формальной логики). Поклонники Платона (они все еще существуют) склонны видеть в Аристотеле эпигона своего учителя. И этого можно достичь лишь усердным нежеланием замечать, как именно Аристотель трансформировал идеи Платона. Будучи студентом, Дарвин с удовольствием прочитал “Естественную теологию” Пейли и, может быть, именно оттуда взял ощущение замысла, замечаемого в живых существах. Однако никто не называет Дарвина последователем Пейли. Называть Аристотеля платоником примерно так же нелепо.
Аристотель не только создал новую систему объяснений, но и применил ее. Его предшественники будто рассматривали мир с высоты Олимпа. Этот мир лежал далеко внизу, на таком расстоянии плохо различимый. Предшественники Аристотеля домысливали то, что не могли увидеть. Он спустился с небес на землю. Он наблюдал, применял свои причины к наблюдениям и изложил результаты в трактатах по зоологии: “О частях животных”, “О долгой и краткой жизни”, “О юности и старости, о жизни и смерти и о дыхании”, “О душе”, трактате “О возникновении животных”, “О передвижении животных” и “О движении животных”. К тому времени, как он закончил, материя, форма, причинность и изменение перестали быть игрушками спекулятивной философии и стали частью научной программы.
Глава 6 Храп дельфина
35
В посвященном птицам зале лондонского Музея естественной истории есть четыре старые витрины, демонстрирующие три взгляда на природу. В первой витрине, сделанной в начале XIX в. из древесины ореха, выставлены, вероятно, около тысячи колибри (но сосчитать их непросто). Собранные со всего Нового Света, чучела закреплены так, будто птицы летят, и кажется, что перед тобой райский сад (или окрестности аэропорта Хитроу). Здесь, как написано на самой витрине, – во всей своей красе представлено семейство колибри (Trochilidae). Рассмотрим разнообразие и красоту оперения (ныне потускневшего от времени), различную длину клюва и форму хвоста: бесконечные вариации на тему, заданную Создателем, но упорядоченную человеком. Такой подход очень соответствует духу времени XVIII в., так как отражает науку Линнея и Бэнкса[45], их восхищение созданиями Нового Света и желание упорядочить их.
Вторая витрина, в центре зала, сделана из дуба в 1881 г., и наполняют ее не виды и даже не отдельные особи, а части тела. Птицы были расчленены таким образом, что перепончатая лапа утки оказалась рядом с когтистой лапой хищной птицы, а массивный клюв попугая – рядом с тонким клювом удода. Это функционалистский подход. Повсюду здесь бирки, объясняющие, почему у птиц настолько не похожие клювы, лапы и перья. Когда-то этот подход казался передовым.
Части тела птиц. Музей естественной истории, Лондон, май 2010 г.
Третья и четвертая витрины стоят в задней части зала. Птицы помещены среди ветвей и листьев, поодиночке, парами, с гнездами и птенцами. Они принадлежат к группе “Гнездование британских птиц”. В одной витрине пара буревестников припала к гебридским валунам, в другой черный дрозд выглядывает из живой изгороди, в то время как его партнер защищает кладку яиц цвета слоновой кости. Новейшие из экспонатов, они показывают нам природу такой, какой ее воспевали романтики. И мы с трудом можем поверить в существование такой природы: животных, свободно живущих в нетронутых, вечных мирах, занятых лишь спариванием и выращиванием молодняка. Это и законсервированные видения Англии: Англии “Сэлборна” [Гилберта Уайта], “Эдлстропа” [Эдварда Томаса], “Телеги для сена” [Джона Констебла] и “Взлетающего жаворонка” [Джорджа Мередита]. Читая надписи, мы узнаем, что там, где мы видим две витрины, было 159. Остальные уничтожены летом 1944 г. немецкими бомбами[46].
Красота живых существ возникает из их бесконечного разнообразия, из ощущения, что в их неодинаковости и в переплетении взаимосвязей есть единство. Перед лицом щедрости природы очень легко уступить не выразимому словами ощущению связности вещей. Геккель, взглянув на сады кораллов, начал лепетать о волшебных садах Гесперид. Дарвин в Рио-де-Жанейро, войдя в атлантический лес, испытал благоговение (любой даст слабину при виде тропического леса). Но если мы хотим понять живую природу, мы должны направить фокус на ее составляющие, вычленить и назвать их. Однако, как показывает посвященный птицам зал Музея естественной истории, есть множество способов расчленять реальность, причем каждая “препаровка” обнаруживает особую ее грань. И встает вопрос: как проводил “вскрытия” Аристотель? Что за науку он изобрел?
36
Натурфилософы эпохи Возрождения смотрели на мир с любопытством, понимали, что почти ничего о нем не знают, и, естественно, обращались к Аристотелю: человеку, который знал. Для них Аристотель был прежде всего натуралистом, который стремился рассказать все обо всех известных существах, но непостижимым образом не сумел упорядочить данные.
В 1473 г. Феодор Газа перевел зоологические работы Аристотеля на латынь времен Цицерона и представил перевод своему покровителю папе Сиксту IV. В предисловии Феодор писал:
[…в этих трудах] рациональное исследование природы проходит в особом порядке через все особенности, созданные природой, так что все ее живые существа различены друг от друга; в них сгруппированы главные роды, а оставшиеся аспекты рассмотрены по отдельности; в них роды распределены на виды и описаны один за одним (и в этих книгах их около 500); в продолжение в них объясняется, какие виды (как наземные, так и водные) как размножаются, из каких частей состоят, чем питаются, чем могут быть повреждены, что за повадками обладают, как долго живут, как велико их тело, какой из представителей вида самый крупный и какой самый мелкий, а также описывается их форма, цвет, голос, характер и то, насколько они подчиняемы; короче говоря, в этих трудах не остается без внимания ни одно животное, созданное природой.
Перед нами образчик недобросовестной рекламы. Аристотель в самом деле упоминает около 500 “видов”[47], и ему есть что сказать о многих из них, но он не описывает “виды один за одним”. Посмотрим, например, что говорит Аристотель о слоне. Учитывая, что он никогда не видел слона, он может сказать о нем многое. Чтобы найти, что именно, следует раскрыть указатель к “Истории животных”:
Слон: возраст 586a3–13, 630b19-31; молочные железы 498a1, 500a17; размножение 540a20, 546b7, 579a18-25; отлов 610a15-34; питание 596a3; болезни 604a11, 605a23b5; погонщики 497b27, 610a27; ноги 497b23; 517a31; желчный пузырь 506b1; гениталии 500b6–19, 509b11; повадки 630b19-31; волосяной покров 499a9; конечности 497b22; сон 498a9; череп 507b35; семя 523a27; характер 488a28; зубы 501b30, 502a2; хобот 492b17, 497b23-31; голос 536b22…
а также к трактату “О частях животных”:
Слон: и вода 659a30; хобот и его функции 658b30, 661a25, 682b35; передние ноги 659a25; пальцы ног 659a25; молочные железы 688b15; защита, которую дает размер 663a5…
…где “расчленение” слона продолжается[48]. Феодор (возможно, пытаясь представить зоологию своему покровителю как нечто удобоваримое) умолчал о неудобствах обращения с данными и представил Аристотеля как энциклопедиста. По сути, он изобразил Аристотеля греческим Плинием.
В I в. Плиний Старший написал “Естественную историю”, в которой перечислил почти все, что должно быть приведено в книге с таким названием. Это настоящая энциклопедия естественной истории (возможно, первая). Плиний заимствовал сведения отовсюду и расположил их по видам. Он утверждал, что ценит данные из первых рук, но не всегда следовал этому обыкновению. Римлянин вполне мог видеть слонов на триумфах, в цирке и сражениях, но этот обширный источник информации прошел мимо него:
Фрагмент перевода “Истории животных” Аристотеля, выполненного Феодором Газа и изданного в 1552 г.
[Слона] радует любовь и оказываемый ему почет; более того, он обладает качествами, редкими даже у людей, – честностью, благоразумием, справедливостью, а также благоговейным отношением к светилам и почитанием Солнца и Луны.
Так, передают, что один слон в Египте полюбил некую продавщицу кораллов и что она (дабы никто не подумал, будто слон выбрал первую попавшуюся девушку) была очень любима Аристофаном, всем известным грамматиком…
…Но самых больших слонов поставляет Индия. Она же поставляет и змей, которые находятся в постоянной вражде со слонами; эти змеи столь огромны, что легко обвивают слонов своими кольцами и сдавливают их, скрутившись в тугой узел[49].
Вот поистине тон древнего естествознания: легковерный, упорно подчеркивающий, что то, про что рассказывает автор, изумительно, – и таким это и было бы, если было бы правдой. Если у Плиния и существовал предшественник, то это, конечно, Геродот с его рассказами о муравьях-золотоискателях, грифонах и одноглазых аримаспах. (Даже Геродот находит этих последних чересчур диковинными.)
И все же парадигму естествознания эпохи Возрождения предоставил именно Плиний, а не Аристотель, даже учитывая, что Аристотель, к счастью, дал большую долю фактов. В 1551 г. швейцарский врач и ученый Конрад Геснер опубликовал первый том собственной “Истории животных”: все, что было известно тогда о животном мире. Он выборочно использовал данные Аристотеля и, вслед за Плинием, оформил материал наподобие энциклопедии. В отличие от Плиния, Геснер прежде всего интересовался биологией созданий, о которых рассказывал. Швейцарец был похвально осторожен и искал подтверждения данным античных авторов. Именно с его работы началось современное представление о том, как должен быть устроен справочник по естествознанию. После Геснера все, что нужно, чтобы возник ряд витрин “Гнездование британских птиц”, – это признание того, что природа не просто изумительна, но и полна ужаса, красоты и страданий.
37
Эра современной биологической таксономии началась в 1758–1759 гг. с выходом десятого издания “Системы природы” Линнея. Это событие определило одну из главных задач науки XIX в.: открыть, классифицировать и описать все живые организмы на планете. Продолжатели Линнея решали эту задачу, публикуя пространные труды, на хромолитографиях в которых природа представала во всей красе. “Естественная история рыб” Кювье и Валансьена, “Систематический каталог жесткокрылых” Фета (2 тт., 1804–1806), “Бабочки” Эспера и Шарпантье (7 тт., 1829–1839), “Изучение ископаемых рыб” Агассиca (5 тт., 1833–1843), “Тезаурус раковинных” Соуэрби (5 тт., 1847–1887), “Монография о семействе колибри” Гульда (1849–1861), “Современные усоногие” и “Ископаемые усоногие” Дарвина (4 тт., 1851–1854), “Сухопутные, пресноводные и морские черепахи” Белла (1872) – и это лишь малая доля подобных книг – до сих пор испытывают на прочность библиотечные полки.
Систематики изменили отношение и к Аристотелю. Для них он был не просто одним из естествоиспытателей – он был основателем их собственной науки. Они подозревали, что Аристотель, как и ученые XIX в., имел страсть к классификации (которая заставляет “особых” детей раз за разом перекладывать раковины, чтобы найти закономерность, объединяющую несопоставимые на первый взгляд формы). Он также наверняка испытывал ликование, которым сопровождается открытие нового организма, нового для науки вида, и позволял себе роскошь дать ему наименование. Пожалуй, “История животных”, как и сочинения Линнея, представляет собой каталог живых организмов – хотя, признаться, это трудно заметить с первого взгляда.
Систематики считали Аристотеля эдаким прото-Линнеем, классифицирующим все живое, сидя на берегу Эгейского моря. Как и Линнею, они не отказывали Аристотелю в таланте. Кювье пел греку дифирамбы:
Аристотель с самого начала представил такую зоологическую классификацию, которая веками фактически не требовала улучшений. Предложенные им разделы и подразделы животного царства поразительно точны и почти все в неизменном виде пережили исправления и дополнения, предложенные позднее наукой.
Это, конечно, преувеличение. Сам Кювье и выстроил классификацию живых организмов, существенно превосходящую аристотелевскую. В системе Кювье одни группы великого грека слиты воедино, другие – разделены, а третьи вообще не использовались, поэтому у Кювье сложно найти группу, которая точно соответствовала бы аристотелевской. Впрочем, если оставить в стороне жизнеописания ученых, стоит признать: та мысль, что труды Аристотеля – это, по сути, работы по систематике, выглядела прогрессивной. В конце концов, ни одна наука не может двинуться с места, пока ее предмет точно не определен. Как биология нуждалась в классификации Линнея, так и астрономии требовался атлас звездного неба Иоганна Байера, кристаллографии – геометрические законы аббата Аюи (Гаюи), а химии – периодическая система Менделеева. Это верно не только для науки. Господь, создав животных, поручил Адаму дать им имена. Так что даже бог понимает необходимость классификации.
Большая доля “родов” (gene) Аристотеля примерно соответствует современным видам. Каждое из наименований – erythrinos (красный пагелл), perke (морской каменный окунь), skorpaina (золотистая скорпена), sparos (морской карась), kephalos (кефаль) – соответствует одному или нескольким современным видам рыб. Иногда, впрочем, роды совпадают не с видами, а с породами или разновидностями в рамках вида: “существует несколько родов собак”, а именно: лаконские и молосские гончие. Судя по всему, Аристотель не придумывал животным названия, как Линней, а собирал их, узнавая от земледельцев, охотников и рыбаков. “Около Финикии [современный Ливан] на берегу водятся крабы, которых называют конями, потому что они бегают так быстро, что поймать их нелегко” (речь идет о крабе-привидении, чье латинское название Ocypode cursor означает “быстроногий бегун”). “Есть скальная птица, называемая kyanos [ «синяя»]. Ее чаще всего можно встретить на Скиросе. Большую часть времени она проводит на скалах. Размером она меньше, чем kottyphos [черный дрозд], но чуть крупнее, чем spiza [зяблик]; у нее большие ступни, с помощью которых она лазает по скалам; цвета она целиком темно-синего; клюв у нее узкий и длинный, ноги короткие, почти как у hippos [дятла]”. Вероятно, речь идет о малом скалистом поползне[50]. Тот факт, что Аристотель обозначает словом hippos и лошадь, и краба, и птицу[51], не делает его зоологические тексты легкими для чтения и понимания.
Широко распространено мнение, будто охотники и рыболовы традиционных обществ – прекрасные систематики, способные на глаз различить животных двух видов, даже если ученые не могут этого сделать. Говорят, что новогвинейские горцы способны безошибочно идентифицировать птиц 136 видов. Может быть, это правда. Но современные греческие рыбаки демонстрируют гораздо более скромные способности при определении видовой принадлежности рыб из собственного улова. И, кстати, нет причин считать, что их предки в этом отношении были талантливее.
Мы приехали в Скамануди, небольшой порт на восточном берегу острова, где, как нам сказали, при подходящем освещении в воде недалеко от берега можно увидеть остатки древней гавани Пирры. Однако дул ветер, и пенистые гребни волн мешали. Поэтому мы решили пообедать и заказали узо с соленой рыбой. Кто-то вслух заметил, что шпроты очень вкусные. Давид К., штатный ихтиолог нашей экспедиции, возразил: “Вы, вероятно, имели в виду сардины… Сардины – это Sardina pilcharus, а шпроты – это Sprattus sprattus”. И Давид продемонстрировал “Рыбы Греции” (Τα ψαρια της Ελλαδας) – книгу, которой он очень дорожит и с которой почти никогда не расстается. На ее чудесных гуашевых иллюстрациях две рыбы почти неразличимы.
Мы решили спросить хозяина. Он ответил: “Это шпроты”. Мы указали ему на то, что в меню написано: “Сардины”. “Ну да, верно, – нашелся хозяин, – шпроты – это сардины из Лагуны, и потому-то они такие вкусные, а сардины – это шпроты, выловленные за ее пределами”. Тут вмешались рыбаки из-за соседнего столика. По их словам, владелец сказал неправду – по крайней мере, не всю правду. Сардины и шпроты принадлежат к одному виду, но главное их различие не в месте происхождения, а в возрасте или питании – правда, какой фактор важнее, рыбаки не решили. Некоторые спорщики приняли научную точку зрения. Шпроты и сардины, говорили они, принадлежат к разным видам, и, как сказал kyrios [хозяин], на вкус они очень различны.
Многообразие взглядов местных жителей на систематику обескураживало. Из окрестностей Каллони ежегодно вывозят тысячи тонн сардин (или шпрот). В Греции невозможно найти магазин или рынок, где они не продавались бы, и, казалось бы, люди, которые ловят эту рыбу, могли бы прийти к консенсусу касательно систематики: времени было предостаточно. Понимал ли Аристотель неизбежную неоднозначность бытовых названий животных? Вероятно, понимал. Его вера в рыбаков не была безграничной, и он точно знал, что “поп-систематика” не отражает все многообразие жизни: “Другие роды [крабов, karkinoi] обладают меньшими размерами и обычно не имеют собственных названий”. Впрочем, нехватку наименований Аристотель не восполняет.
Тем не менее многие “роды” Аристотеля можно убедительно соотнести с современными видами, среди которых собаки (в целом), лошади, два вида цикад, четыре вида дятлов, шесть видов морских ежей, а также люди. Неудивительно, что головоногие у него определены очень четко. В “Истории животных” упоминаются: polypodōn megiston genos (обыкновенный осьминог), heledōne/bolitaina/ozolis (мускусный осьминог), sēpia (лекарственная каракатица), teuthos (кальмар-стрелка), teuthis (обыкновенный кальмар) и nautilos polypous (аргонавт арго). Аристотель также говорит о некоем головоногом, который “живет в раковине, как улитка, и иногда высовывает из нее свои щупальца”. О видовой принадлежности этого существа продолжают спорить. Описание прекрасно соответствует наутилусу (Nautilus pompilius), однако он обитает у западного побережья Андаманского архипелага: весьма далеко от мест, информация о которых была доступна Аристотелю. Некоторые исследователи полагают, что он описал особь, которую привез участник индийского похода Александра Македонского (327 г. до н. э.). Третьи считают, что Аристотель говорит о самце пелагического осьминога (Ocythoe tuberculata), который устраивается жить под оболочками сальп, или даже о пелагической улитке янтине ломкой (Janthina janthina), хотя она не выглядит как головоногий моллюск. Все варианты маловероятны, поэтому видовая принадлежность девятого головоногого у Аристотеля остается загадкой.
Аристотель признает и более крупные группы, напоминающие современные таксоны, например роды, семейства, отряды, классы и типы. Он называет их megista genē – “высшие роды”. Некоторые наименования высших родов, очевидно, взяты из обихода: ornis (птица), ikthys (рыба). Тем не менее остальные названия явно придуманы. Аристотель видел, что “народные систематики” не очень-то умеют объединять животных в крупные группы, особенно если речь идет об организмах, не интересных большинству. Названия высших родов у Аристотеля нередко включают описания животных: malakostraka (“мягкораковинные” – это большинство ракообразных), ostrakoderma (“ракушкокожие”, дословно: “с кожей, подобной раковине”, – многие иглокожие, брюхоногие, двустворчатые, усоногие раки и асцидии), entoma (“членистые” – насекомые, многоножки и хелицеровые), malakia (“мягкотелые” – головоногие), kētōdeis (“подобные монстрам” – китообразные), zōotoka tetrapoda (“живородящие четвероногие” – большинство млекопитающих), ōiotoka tetrapoda (“яйцеродящие четвероногие” – большинство рептилий и амфибии), anhaima (“бескровные животные” – беспозвоночные), enhaima (“животные с кровью” – позвоночные).
Есть ощущение, что Аристотель убежден: в хорошей классификации одни роды вложены в другие и каждый род занимает по отношению к другим четкую позицию. Иными словами, у родов должна быть иерархия с вложениями. Аристотель пишет: “Самые большие роды отличаются от остальных родов животных в том отношении, что они содержат кровь, другие же бескровны. Таковы человек и живородящие четвероногие, затем четвероногие яйцеродящие, птица, рыба, кит и другие животные, не имеющие названия потому, что они не составляют рода, а просто вид, охватывающий отдельные особи, как, например, змея или крокодил”. Или: “Теперь же следует повести речь о животных бескровных. Их существует несколько родов…” – и Аристотель перечисляет, каких именно. “Существует четыре крупнейших рода мягкораковинных: они называются astakoi, karaboi, karides и karkinoi…” – здесь мы видим, что омары, раки, креветки и крабы – это подчиненные высшие роды в составе более крупного высшего рода мягкораковинных. Правда, некоторые из определенных Аристотелем систематических положений очень узки: так, по его классификации, человек относится к животным с кровью, а во всем остальном от них отличается.
Сейчас представляется очевидным, что классификация животных должна представлять собой иерархию с вложениями. Это единственный способ словесно описать древовидный граф, а древовидный граф – единственный способ графически выразить происхождение от общего предка путем модификации. Правда, это очевидно только современным ученым, и не совсем понятно, как Аристотель пришел к аналогичному выводу, ведь он не читал то место в “Происхождении видов”, где указано на необходимость именно такой классификации. (“Сродство всех существ, принадлежащих к одному классу, иногда изображают в форме большого дерева. Я думаю, что это сравнение очень близко соответствует истине…”[52]) В конце концов, существуют логические альтернативы. Аристотель мог выстроить систематику и на таксонах, практически независимых друг от друга. Борхес рассказывает об одной такой классификации. В ней объекты внутри систематических групп характеризуются такими признаками, как “принадлежащие императору”, “набальзамированные”, “русалки”, “бродячие собаки”, “издалека напоминающие мух”. Аристотель тоже мог построить классификацию на непересекающихся (а не вложенных друг в друга) систематических группах. В кн. III “Политики” он различает формы правления на основании двух ортогональных признаков – по степени сосредоточения власти и по качеству (здесь – по горизонтали и вертикали соответственно):
Но Аристотель не применил этот принцип классификации к животным.
Вероятно, тому, кто изучает многообразие жизни, очевидно: ее проявления должны быть систематизированы иерархически. Линнею удалось самостоятельно распределить животных по родам, отрядам и классам. Аристотелевский термин genos для обозначения таксонов иерархичен по природе, поскольку исторически это слово означало “семья”, а под семьей древние греки понимали группу родственников по отцовской линии. Кроме того, вложенные иерархии логически вытекают из использованного ученым метода классификации.
Судя по всему, систематика Аристотеля была первой в своем роде[53]. Но классификация – занятие, близкое по сути к формулированию определений – любимейшему занятию членов Академии. Платон считал, что определить что-либо означает это понять. Его метод определения включал последовательное дихотомическое деление свойств, присущих определяемому предмету или явлению. Исследуя природу монархии в “Политике”, Платон начинал со всех знаний человечества, которые последовательно делил на области специальных знаний до тех пор, пока не приходил к выводу, что царь есть пастух. Но кого пасет царь? Чтобы ответить, Платон делил животных на группы с характерными признаками, в результате чего заключал, что царь – это пастух для прирученных безрогих двуногих существ, лишенных перьев. Платон так демонстрировал, что любую группу занятий, людей или животных можно разделить на более мелкие несколькими путями. Таким образом, возможно появление множества определений (сам он дал софистам около десятка определений, и почти во всех случаях они предстают корыстными растлителями молодежи). И все же Платон утверждал, что можно собрать воедино все определения и так установить природу определяемого. Поздние диалоги Платона содержат признаки разрастающейся у автора мании.
В “Метафизике” и “Второй аналитике” Аристотель видоизменяет платоновские методы, а в “Истории животных” и “О частях животных” он полностью перестраивает их. Он расширяет свою задачу объять всю классификацию и подвергает метод Платона сокрушительному натиску. Аристотель приводит множество доводов против дихотомического деления, и самый убедительный из них следующий: полученные с его помощью результаты носят случайный, субъективный характер. Платон делил животных на “обитающих или не обитающих в воде”, “стайных или одиночных” и “домашних или диких”. Это, конечно, неплохо, но независимо от выбранной дихотомии птицы оказываются в любой из названных групп (что не похоже на правду). Аристотель видел, что организмы имеют некую природную упорядоченность, которую обязана отразить система классификации. Проводя подразделение животных, он говорит: “Не стоит разрывать роды”. Интересно, что эту же мысль высказывал Платон, хотя и изящнее: “Не следует перерезать связи между объектами, как делает со связками неуклюжий мясник”. Справедливости ради замечу: сам Платон игнорировал это предписание.
Возникает вопрос: как найти связи между объектами природы?
38
Проблема в том, что связи бывает непросто увидеть. Аристотель многое может противопоставить подходу Платона, но при этом не может сказать столь же много о собственном. Тем не менее его практика и программные утверждения указывают на разви-
тый метод членения, который основывается на двух важных наблюдениях. Первое: признаки животных меняются на различных уровнях иерархии. Diaphorai – различия – родов в пределах одного крупнейшего рода (например, между воробьем и журавлем) сравнительно невелики. Они обладают теми же основными частями тела, различаясь лишь формой и размером. Его термин для подобной вариации – “большее или меньшее”:
Различия между птицами определяются избыточным или недостаточным развитием частей их тела и сводятся к проблеме “больше” или “меньше”. Некоторые птицы длинноноги, другие – коротконоги. Одни могут иметь широкий язык, а другие – узкий. И это справедливо для всех частей тела.
Многое в описательной биологии Аристотеля, следовательно, посвящено тому, как варьируют размеры и пропорции клюва, внутренностей и мозга.
Различия между крупнейшими родами, скажем, между птицами и рыбами, гораздо заметнее: речь здесь идет о том, какими частями тела обладают животные, и о расположении этих частей. Они конструкционные. Современные зоологи говорят о плане строения тела (нем. Bauplan). У Аристотеля нет эквивалентного термина, хотя присутствует общее представление. Особенно важны относительное расположение твердых и мягких частей тела и количество конечностей. Некоторые “мягкотелые” (головоногие) обладают твердой внутренней структурой (хрящевая “стрелка” кальмара и “кость” каракатицы, представляющие собой редуцированные раковины)[54]. У “мягкораковинных” (ракообразные) и “ракушкокожих” (брюхоногие моллюски, двустворчатые моллюски, морские ежи), как сказали бы сейчас, имеется экзоскелет. У рыб нет ног, у людей и птиц их две, у четвероногих – четыре, а у “членистых” и “мягкотелых” – много.
Представители крупнейших родов различаются и геометрией тела. По Аристотелю, у тела животного три оси и шесть полюсов: верхний – нижний, передний – задний и левый – правый[55]. Верхний – это полюс, принимающий питание, нижний – выделительный; передний – это полюс, на котором расположены органы чувств животного, задний – противоположный ему. Левый и правый полюса такие же, как наши. Эта геометрия основана на строении тела человека и отличает его от четвероногих. У четвероногих верхний полюс (расположение рта) и передний (расположение органов чувств) – это один и тот же полюс, как и нижний (расположение ануса) и задний (противоположный органам чувств). Это одна из причин, по которой Аристотель не включает человека в группу живородящих четвероногих (млекопитающих).
Современным зоологам этот подход к геометризации тел покажется странным[56]. Но у Аристотеля и не было причин поступать так же, как мы. Кроме того, этот геометрический подход позволил ему понять, насколько необычен план строения тела головоногих. Так как их конечности расположены вокруг ртов, а кишки закручены в подобие буквы U, Аристотель делает вывод, что каракатицы обладают геометрией четвероногого, который как бы был дважды закручен, так что его верхний и нижний, а также передний и задний полюса встречаются в одном месте.
Это почти гениально[57]. Однако этот подход приводит его к менее проницательным утверждениям. Не будучи знаком с фотосинтезом, он переносит на растения модель питания животных. Аристотель полагает, что растения получают питание от корней, которые, следовательно, являются аналогами рта у животных. Они также должны выделять нечто на другом конце – а именно плод. Такого рода аналогии приводят его к мысли, что верхний конец растения спрятан в почве, а нижним играет ветер.
Но Аристотель очерчивает свои крупнейшие роды не только исходя из плана строения тела. Он задается вопросом, содержат ли они одни и те же “типы” частей тела. Ученый приспосабливает уже существовавший термин analogon – аналог. Аристотель нигде не определяет, что это, но примеры его использования позволяют нам предположить, что он имеет в виду следующее: “Часть тела животного одного рода, которая совпадает по функции или позиции с частью тела животного другого рода, но которая, однако, отлична от второй в некотором фундаментальном смысле”. Термин по происхождению математический: “Как A относится к Y, так B – к Z”. В своей зоологии Аристотель применяет его метафорически: “Что есть оперение для птицы, то и чешуя для рыбы”. Если у двух существ есть аналогичные части, то они принадлежат к разным крупнейшим родам. Аналоги различаются тонкой структурой или физическими свойствами. И у крабов, и у улиток есть внешние жесткие части, однако стоит наступить на краба – и его панцирь сомнется, стоит наступить на улитку – и раковина ломается. Получается, панцири и раковины должны различаться фундаментально[58], следовательно, различаются и обладающие ими роды животных.
Аристотель находит немало аналогичных органов. У живородящих четвероногих, людей и дельфинов костные скелеты, а рыбы, акулы, каракатицы и кальмары имеют аналоги костей: “рыбьи хребты”, хрящи, внутренние раковины каракатиц и кальмаров. Все эти структуры обладают одной функцией: защищать и поддерживать мягкие ткани. И оперение птиц, и чешуя рыб также, очевидно, относятся к покровам. У животных с кровью есть сердце, но у бескровных животных (в частности, у головоногих) – нечто аналогичное крови и нечто аналогичное сердцу. Легкие – это аналоги жабр. Иногда Аристотель не уверен, являются ли две части аналогами или лишь вариациями. Так, он пишет, что у головоногих лишь “аналог мозга”. Или что у них есть “мозг”, и это подразумевает сходство с мозгом четвероногих[59]. Аристотель не изобретает антоним слова analogon для “одинаковых” частей тела, а только говорит, со значительной долей неуверенности, об “одинаковых без оговорок” частях тела. Лишь в 1843 г. Ричард Оуэн заполнил этот терминологический пробел понятием гомолог. Аристотель, вероятно, полагает, что большая доля внутренних органов позвоночных гомологична в своего рода протоэволюционном смысле. По крайней мере он говорит о сердце, желудке, печени, желчном пузыре и т. д. яйцекладущих четвероногих, живородящих четвероногих, птицах и рыбах без оговорок.
Геометрия живых существ. Трактат “О движении животных”, кн. IV.
Таким образом, между родами меньшего порядка (породами, видами) различия проводятся на основании вариаций размера и формы частей, а между крупнейшими родами (высшими таксонами) – на основании вариаций плана строения тела и аналогии их частей. То есть Аристотель подгоняет ценность рассматриваемых признаков к своей классификации. (Этой логике следует и современная систематика.) И все же Аристотель нередко видит единство за разнообразием. Он признает относительность своих “аналогии” и “большего или меньшего”. В конце концов, в какой момент количественная разница становится столь ярко выражена, что превращается в качественную? Так, при сравнении скелетов коровы и сардины отличие кости от хряща очевидно (хотя бы Аристотелю): первое есть аналог второго. Но, как замечает Аристотель, у птиц и змей скелет обычно костный, а у мелких птиц и змей он подобен рыбьим хрящам. И Аристотель замечает: “Природа делает переходы небольшими шагами”. Он признает, что границы между его крупнейшими родами не резки, роды перетекают друг в друга. Описывая змей и ящериц, Аристотель замечает: “Змеи – это род, части тела которого сопоставимы с частями тела ящериц (если их удлинить и убрать ноги)”. И даже называет их syngennis – родственниками. И пусть морские котики живут в воде. Их ласты – все равно конечности. Аристотель называет этих животных “несовершенными”, “покалеченными” четвероногими.
39
Второе методологическое озарение Аристотеля состоит в решении одной из великих проблем биологической классификации (речь о досадной склонности живых организмов демонстрировать набор свойств, на первый взгляд несочетаемых). Природная иерар-
хия очень запутанна. Если разделить животных по способу размножения (яйцекладущие и живородящие), мы получим одни две группы, а если по видам конечностей (ноги и плавники) – то две другие группы. Здесь, как говорят таксономисты, противоречие в данных, и любой выбор, выражаясь словами Аристотеля, рискует разорвать роды на части. Именно эту задачу нельзя решить по методу Платона. Он рассматривает каждое свойство последовательно, и это неизбежно приводит к случайным результатам. Аристотеля отличало лучшее чутье. Вот как он рассуждает о подразделении некоторых наземных животных:
Все бескрылые четвероногие имеют кровь, но у живородящих есть шерсть, а у откладывающих яйца – чешуйки, эквивалентные чешуйкам рыб. Змеи – род животных с кровью, они передвигаются по земле, но естественным образом лишены ног и покрыты роговыми чешуйками. Змеи в основном яйцекладущие, но ekhidna [малоазиатская гадюка] является исключением – она живородящая. Однако не все живородящие животные покрыты шерстью, ведь некоторые рыбы тоже живородящие.
Уловка состоит, кажется, в том, чтобы рассматривать несколько признаков одновременно – ноги (четыре либо их отсутствие), размножение (живородящие либо яйцекладующие) и покровы тела (шерсть либо чешуя), а также их комбинации. Три признака с тремя вариациями дают по восемь комбинаций, или восемь родов животных. Однако существуют лишь четыре:
1. Живородящие четвероногие с шерстью,
2. Яйцеродящие четвероногие с чешуйками на коже,
3. Яйцеродящие безногие с чешуйками на коже,
4. Живородящие безногие с чешуйками на коже.
Три первых относятся к крупнейшим родам: zōotoka tetrapoda, ōiotoka tetrapoda, opheis (змеи). Четвертая комбинация, гадюка, – во всех отношениях змея, однако живородящая. Как ее классифицировать? Платоник определил бы гадюку как живородящее безногое с чешуйками на коже и так отделил ее от остальных змей. Для Аристотеля род – это группа схожих существ, но группа с неясными границами[60]. Он довольно разумно отмечает, что гадюка, пусть и живородящая, – это змея. Такого рода прагматизм вообще свойствен Аристотелю. Он все время говорит о вещах, “по большей части” правдивых, так, будто органический мир полон исключений, которые стоит отметить, но не стоит на них надолго останавливаться.
Может быть это и не выглядит важным, однако подходы к разделению Платона и Аристотеля отражают два очень разных способа познания мира. В монотетических (по одному признаку) классификациях наличие у признака какого-либо одного состояния (например, состояния ”живорождение” у признака “размножение”) необходимо и достаточно для принадлежности объекта к какому-либо классу (живородящих животных). В политетических классификациях (по нескольким признакам) классы идентифицируются по основной тенденции всех признаков, и обладания одним из возможных состояний одного признака ни необходимо, ни достаточно для отнесения к данному классу[61]. Очерчивая роды, Аристотель занимает имплицитно вероятностную позицию, анализирует матрицу признаков и кластеры. Ему не нужен для этого компьютер. Люди естественно обращают внимание на множество признаков и ищут ассоциации. И Аристотель советует начать с родов, привычных для многих из нас (птицы, рыбы и т. д.), – по крайней мере тогда, когда выделение этих родов справедливо.
Гадюка не единственное в бестиарии Аристотеля существо, доставляющее ему неудобство. Устрицы, обезьяны, летучие мыши, морские котики, дельфины также с трудом классифицируемы. Большинство перечисленных животных обладает признаками, указывающими на сродство c разными группами. Источник затруднения неясен для Аристотеля в той же степени, в какой очевиден нам: все дело в превратностях эволюционной истории. Как правило, у близкородственных видов множество общих признаков ввиду происхождения от одного и того же предка. Дальнородственные виды также, однако, могут обладать близкими признаками ввиду конвергентной эволюции: и птицы и летучие мыши крылаты, но они не родственники. У животных может иметься целый спектр признаков – и приобретенных по наследству, и возникших независимо. Достаточно взглянуть на яйцекладущего утконоса: мало того, что он покрыт волосяным покровом. Он еще и выделяет молочный секрет и, соответственно своему названию, обладает носом, похожим на утиный. История систематики может рассматриваться и как поиск решений. Аристотель мог не понимать причину, но видел последствия. Он рекомендовал “раздваивать” (epamphoterizein) тех животных, чье строение указывает в две разные стороны.
Аристотель классифицирует некоторые “двойственные” организмы так же, как гадюку, размывая рамки внутри существующего крупнейшего рода. Strouthos Libykos (страус, буквально “ливийский воробей”) в целом как будто птица. Аристотель избегает делать выводы относительно магота. Он говорит, что этот макак соединяет в себе человеческие признаки (лицо, зубы, ресницы, конечности, ладони, грудь, женские гениталии, отсутствие хвоста), признаки четвероногих животных (шерсть, бедра, общие пропорции тела, мужские гениталии) и некоторые уникальные признаки (ступни задних конечностей, напоминающие ладони). Однако Аристотель не указывает маготу место в своей классификации. А вот относительно дельфина он настроен решительно.
40
Геродот, излагая кровопролитную династическую историю Греции, делает отступление и излагает легенду об Арионе. Красота музыки Ариона, который изобрел дифирамб трагического вида, по Геродоту, была несравненна. Арион жил в Коринфе. Это было при тиране Периандре, то есть в середине либо в конце VII в. до н. э. Потом Арион уехал на Сицилию, где играл на кифаре и разбогател. Но через некоторое время он затосковал по родине и нанял в Таренте [совр. Таранто] корабль с экипажем. Моряки были коринфянами и людьми на первый взгляд хорошими. Но едва берег исчез из виду, они, зная о богатстве Ариона, решили выбросить певца за борт и завладеть сокровищами. “Позвольте сначала спеть”, – попросил Арион. Корабельщики согласились. Арион надел пышный наряд, коснулся струн, запел и бросился в море, где дружелюбный дельфин спас его и любезно подбросил до Коринфа. Конечно, никто не поверил Ариону, но потом объявился экипаж, и пораженные матросы повинились. На мысе Тенар (Матапан) в древности существовало святилище с небольшой медной статуей: человек на дельфине.
То обстоятельство, что Арион, по Геродоту, покидает Апулию через Тарент, неудивительно: юноша на дельфине являлся неотъемлемой частью коринфского мифа, этот сюжет изображался на монетах. Павсаний, Элиан, Плиний, Оппиан, Овидий и еще дюжина авторов рассказывают об Арионе и других ездоках на дельфинах, но Аристотель, отыскивающий правдоподобное объяснение мифа, лишь замечает: “Из морских [животных] больше всего рассказов передается о дельфинах, об их кротости и способности к приручению, а также о любовных вожделениях к мальчикам, и в Таренте, и в Карии, и в других местах”. Дальше Аристотель рассказывает, как дельфины защищают себе подобных, особенно молодняк, но более всего интересуется их анатомией.
Delphis Аристотеля – афалина (Tursiops truncatus)
Дельфины – превосходные пловцы и прожорливые охотники. Аристотель говорит, что они спариваются и рождают одного или двух живых детенышей и вскармливают их через щели на брюхе. Яички располагаются у них внутри тела, а желчный пузырь отсутствует. У дельфинов настоящие кости. Дышат эти животные воздухом, имеют трахею и легкие, а также дыхало. Охотясь, дельфины спускаются на глубину, рассчитывают, сколь долго они могут оставаться в воде, и выныривают, “перескакивая мачты больших судов”. В такие моменты они словно ныряльщики, спешащие к поверхности. Если дельфинов поймать в сети, они тонут, однако на суше способны долго дышать. Если их вытащить из моря, они бессвязно мычат, поскольку языки их неподвижны и у них нет губ. Рассказывают, что спящий дельфин храпит. Дельфины живут живут парами “самец – самка” до 30 лет. Это известно, поскольку рыбаки делают надрезы на их хвостах (кажется, это первое упоминание метода мечения и повторного отлова). Иногда дельфины выбрасываются на берег без видимой причины.
Большая доля этой информации точна. То, что дельфины храпят, сомнительно, но звуки во сне они, по всей видимости, издают. Некоторые исследователи считают, что Аристотель вскрывал дельфина. Я так не думаю, потому что он делает некоторые серьезные ошибки. Так, Аристотель говорит, и даже дважды, что рот дельфина помещается, подобно акульему, снизу головы. Так может сказать тот, кто никогда не видел дельфина вблизи. (Плиний утверждает, что рот у дельфина на животе, и это наводит на мысль: нередко там, где грек лишь неправ, римлянин может показаться дураком[62].) Аристотель также считает, что дыхало соединено со ртом, так как оно выталкивает воду, попадающую туда во время кормления, однако оба эти утверждения неверны. Становится ясно, что он узнал об анатомии дельфина от рыбака, который разделывал животное. Многие думают, будто греки считали дельфинов священными. Оппиан, любивший дельфинов, говорил, что охотиться на них аморально, настолько же презренно, как и убивать людей, и клеймил позором жестоких фракийцев, которые охотятся на дельфинов с гарпуном. Но охота на дельфинов, по всей видимости, была распространена, так как Аристотель описывает еще один метод: рыбаки в полной тишине расставляют сети, а после, окружив дельфинов, поднимают шум и оглушают животных, и те оказываются в ловушке. В рассказе нет осуждения: Аристотеля лишь интересует тот факт, что дельфины, очевидно, могут слышать, хотя у них нет ушей.
Изучал ли Аристотель анатомию дельфина самостоятельно, не так важно: он наилучшим образом воспользовался полученными знаниями. Несмотря на то, что дельфин во многом подобен рыбе, Аристотель признает, что его мычание и храп, легкие и кости, расположение яичек, а также рождающиеся живыми и вскармливаемые молоком детеныши, – типичные признаки четвероногих. У дельфина есть и собственный признак: дыхало. В трактате “О частях животных” Аристотель не твердо знает, что делать с дельфином, но в “Истории животных”, которая, возможно, была дополнена позднее, он относит дельфина вместе с морской свиньей и китом к новому крупнейшему роду, kētōdeis, откуда происходят наши китообразные (Cetacea). Решение образовать новый таксон ему, возможно, помог принять тот факт, что сразу несколько родов обладали этой характерной комбинацией признаков. Он повел себя как прагматик от таксономии. Аристотель не отнес китообразных к млекопитающим, поскольку для него не существовало понятия млекопитающее. Для него китообразные были одним из крупнейших родов животных с кровью (наряду с птицами, рыбами и живородящими четвероногими). Он продвинулся куда дальше предшественников, которые 2 тыс. лет считали дельфина рыбой.
Я не видел дельфинов в Каллони, но они там бывают. Рыбак рассказывал мне, что летом 2011 г. стая афалин заплыла в Лагуну поохотиться. Некоторые рыбаки (разумеется, другие рыбаки, не он) окружили дельфинов и почти всех перебили. Мой собеседник объяснил, что детеныши дельфина портят сети, каждая ценой 300 евро, и что из полусотни афалин спаслись три.
41Отмечая успех Аристотеля в упорядочивании животных, я тем не менее обходил вопрос, с которого начал: был ли его замысел, по сути, таксономическим? Зоологи XVIII–XIX вв. считали, что да. Но мы не должны верить им на слово: ведь они искали выдающегося предшественника.
Аристотель, в отличие от Кювье, не предлагает ничего похожего на последовательную, всеобъемлющую классификацию, в которой каждому животному отведено место. Кроме того, Аристотель, даже ощущавший иерархичность природы, не называет уровней: он удовлетворяется понятием род для всех таксонов – от расы до царства. Он также не объясняет, как отличить одно от другого, и непозволительно небрежен с названиями. В его дни соленые Sardina pilchardus и Sprattus sprattus были повседневным кушаньем, однако он не упоминает ни sardella, ни papallina: оба этих названия римского происхождения. Вместо этого он говорит о membras, khalkis, trikhis, trikhias и thritta. Все они, кажется, относятся к сельдевым, но кто из них шпроты (sprats), сардины (sardines), шэды (shads) или пильчарды (pilchards), сказать трудно (пользуясь настолько же туманной английской терминологией). Его высшие таксоны никчемны. Он видит, что змеи и ящерицы родственны, но не дает им общего названия. Он забывает упомянуть, являются ли летучие мыши птицами, четвероногими или чем-либо другим. Он не приводит списки диагностических признаков, полезных для определения рода. Аристотель не пишет: “Рыба – это животное, у которого есть жабры, чешуя, плавники и т. д.”. Вместо этого он замечает, что “рыбы – это род”, считая, что далее объяснять ничего не нужно. Стоит сравнить бесконечные списки и таблицы в “Системе природы” с нарративом “Истории животных”, и становится ясно, насколько разные научные парадигмы применены в этих трудах.
Аристотель, кажется, чувствует необходимость называть и классифицировать, только когда этого требует какая-либо иная цель. Он и не отрицает этого. По его словам, описывая животных, мы могли бы говорить отдельно о воробье и отдельно о жаворонке, но “так как последует разговор много раз об одном и том же, ведь в предметах слишком много общего, то говорить отдельно о каждом несколько глупо и скучно”. Просто удобнее обсуждать крупные группы, состоящие из животных, у которых много общего.
Но если описательная биология Аристотеля – не Плиниева естественная история и не таксономия Линнея, то что это? Подсказку можно найти в структуре “Истории животных”. В начале книги Аристотель раздумывает, как привести данные в подобие порядка. Возникающая проблема неизбежна для любого зоолога: должен ли материал в книге быть упорядочен по таксонам (рептилии, рыбы, птицы и т. д.) или по признакам (половая система, пищеварительная система, поведение, среда обитания и т. д.)? Его решение, притом разумное, представляет собой компромисс: “Различия же между животными заключаются в их образе жизни, действиях, нравах, частях; о них мы сначала скажем в общем виде, а впоследствии будем говорить, останавливаясь на каждом роде животных отдельно”.
Аристотель начинает с краткого обзора, уделяя особое внимание людям (модельному организму). Далее он рассматривает топографическую анатомию животных с кровью: конечности, кожу, вторичные половые признаки, пищеварительную, дыхательную, выделительную системы. Далее он по порядку рассматривает системы органов бескровных животных, возвращается к животным с кровью, чтобы уделить внимание их сенсорным системам, звукам, которые они издают, и тому, как они спят. Далее идут две книги о половых органах и повадках снова в таком порядке (животные с кровью, затем бескровные), книга о повадках и местах обитания, книга о поведении и, наконец, книга о размножении человека. К концу становится ясно, что Аристотель составил руководство по сравнительной зоологии – первое в своем роде.
Рассматривая ступни, Аристотель указывает, что у некоторых живородящих четвероногих с кровью (млекопитающие) много пальцев (человек, лев, собака, леопард), у других (овца, коза, олень, свинья) вместо ногтей – раздвоенные стопы с копытами, а у третьих (лошадь) цельные копыта. В другом месте он описывает внутренности рыб. Кроме обычных желудка и кишок, у многих рыб есть пилорические придатки, аппендиксы, которые увеличивают абсорбирующую поверхность кишечника. Он описывает, как они варьируют в числе и расположении. В другом месте он рассматривает различия в силе обоняния и т. д. Все это предвосхищает не великие систематические монографии, например “Рыб…” Кювье, а скорее “Сравнительную анатомию” или “Зоологию позвоночных” Оуэна (1866), где разбирается строение животных. Можно прочитать о ступнях четвероногих или внутренностях рыб у Аристотеля, найти соответствующие разделы у Оуэна и проиллюстрировать слова грека английскими гравюрами. В Музее естественной истории мы разглядываем витрину с частями птичьего тела – у Аристотеля есть раздел и о клювах и лапах птиц.
Непросто указать цели Аристотеля. Подобно всем его сохранившимся работам, “История животных” плохо структурирована и полна информации непоследовательно изложенной, неуместной, иногда недопонятой самим автором. Она так и просится на стол редактора. “История животных” не была закончена. Кажется, Аристотель составлял ее по частям, добавляя информацию или переосмысляя написанное в свете новой теории, появившейся в другом фрагменте. Путаница внесена и извне, однако кем и в какой степени, сказать трудно.
Даже учитывая все это, большинство современных ученых согласно, что у “Истории животных” есть ясная цель. Это материалы для выуживания информации. Аристотель ищет комбинации. Его интересует не только то, как варьируют части тел животных, но и как они ковариируют. Вот как он описывает известный своей замысловатостью четырехкамерный желудок жвачных:
Рогатые живородящие четвероногие, имеющие разное число зубов в нижней и верхней челюсти (их еще называют жвачными животными) имеют [в желудке] четыре камеры. Первая – stomakhos [пищевод] начинается от полости рта и идет вниз, минуя легкие, от диафрагмы к megalē koilia [рубцу]. Рубец изнутри шершавый и разделен на части. Возле входа в пищевод, с рубцом соединяется kekryphalos [сетка], которая называется так потому, что снаружи выглядит как желудок, а изнутри – как сеточка для волос. Сетка гораздо меньше желудка. С ней соединяется ekhinos [книжка], шершавая и пластинчатая изнутри, по размеру такая же, как сетка. После этих отделов идет enhystron [сычуг], большего размера, чем книжка и более вытянутый по форме. Внутренняя поверхность сычуга образует большие гладкие складки. Сразу после него начинается кишечник.
Описание подробное и правдивое, но по-настоящему интересно то, что Аристотель считает этот странный желудок признаком живородящих четвероногих с рогами и неодинаковым количеством зубов на верхней и нижней челюстях (он рассуждает о резцах и клыках, отсутствующих в верхних челюстях многих жвачных). Именно из таких ассоциаций Аристотель строит крупнейшие роды, и именно эти ассоциации он ищет. Можно представить всю собранную им информацию в виде матрицы, которая будет включать, например, 6 классов признаков (количество зубов, тип желудка, тип стопы и т. д.) и 12 классов животных (рогатый скот, свинья, лошадь, лев и т. д.)[63]. Аристотель не составлял такую таблицу, но то, что он задумывался об этом, ясно из продолжения “Истории животных” – книги “О частях животных”. Там он подводит итог и объясняет, почему существуют вариативность и ковариативность. Он сводит данные и сплетает огромную сеть причинно-следственных связей, у которой одна цель: найти истинную природу живых существ.
Глава 7 Инструменты
42
У всякого ученого есть собственное представление о том, какой должна быть наука. Ощущение, какие каузальные объяснения верны, а какие – нет, настолько же глубоко, насколько его трудно выразить словами. Причем ученые не обязательно соглашаются друг с другом. Всякий, кто посылал статью в “Нейчур” или “Сайенс” (воистину у дверей этих редакций надежда умирает последней), знает, что представление рецензентов о верном каузальном объяснении иногда очень отличается от его собственного представления.
Аристотель также столкнулся с проблемой перевода наблюдений на язык причинно-следственных связей, но – столкнулся в одиночку. За спиной остались поколения, занимавшиеся умозрительными рассуждениями о причинах всего сущего, а перед ним лежал мир. Аристотель как никто видел потребность в способе соединить то и другое. И он придумал такой способ. В книге I “Истории животных” Аристотель упоминает его. Для начала, говорит он, мы должны получить факты о разных признаках животных, и только тогда мы можем работать над установлением их причин. Делая это в указанном порядке, продолжает Аристотель, мы сделаем понятными объект и цель нашего исследования.
Сейчас это кажется банальной вводной фразой. Но это не так. Аристотель имеет в виду невероятно сложное умственное построение, возведенное на фундаменте метафизики и снабженное опорами из стали формальной логики. Аристотель пишет о научном методе.
43
Греческое слово органон (ὄργανον) означает “орудие”, “инструмент”. Иногда так называют корпус текстов Аристотеля о логике. Название это им отлично подходит, так как эти шесть книг служат орудием добывания знаний. В одной из них, “Второй аналитике”, описан научный метод.
Аристотель отделял правила спора о мнениях от правил конструирования научного объяснения. Первые он называл диалектикой, а вторые – “демонстрацией”, “доказательством” (apodeixis). Под демонстрацией он понимал то же, что и современный ученый, говорящий: “Итак, мы показали, что А является причиной Б” (то есть ученый и его соавторы продемонстрировали, что А является необходимым и достаточным условием Б). Аристотель высоко ценил научные доказательства, считая, что они показывают истину, так как строятся на базе логических операций. Аристотель изобрел силлогистику: систему выведения умозаключений из посылок, где посылка – это утверждение, которое содержит субъект и предикат. Например: “У осьминогов (это субъект) восемь ног (а это предикат)”. При этом Аристотель заменял термины буквами (например, все А суть Б). Это позволило абстрактно оценивать утверждения, имеющие определенную форму, манипулировать ими и получать множество результатов.
Для Аристотеля научное доказательство покоится на фундаменте силлогизма. Но чтобы быть доказательством, силлогизм должен отвечать определенным требованиям. Во-первых, очевидно, что посылки должны быть истинными. Во-вторых, посылки должны быть более прямыми, эмпирически явными, чем его заключение (по крайней мере, в естественных науках). В-третьих, силлогизм должен касаться общих принципов, а не частностей. Аристотель считал, что невозможно получить научное знание об индивидуальном объекте. Высказывание, что этот осьминог имеет восемь ног, ничего нам не дает. Научное знание начинается, когда мы определили наличие восьми ног у всех осьминогов – или у всех нормальных осьминогов. И, наконец, лишь универсальные, самодостаточные и достоверные высказывания могут лечь в фундамент доказательства: “Все А суть Б. Все Б суть В. Следовательно, все А суть В”.
Подобные логические ограничения могут показаться далекими от современного научного метода, и в некотором смысле это так. Однако стремление Аристотеля построить науку на почве силлогизмов, я думаю, понятно любому современному ученому. Предполагаю, что “История животных”, будучи далекой от естественной истории или таксономии, служит поиску ассоциаций между признаками животных. Это, по сути, просеивание данных. Таким образом, силлогистика Аристотеля дает возможность закрепить ассоциации, показать, что они истинны. Истинные ассоциации, в свою очередь, требуют каузальных объяснений. Их также помогает найти силлогистика.
Можно проиллюстрировать этот метод примером из современной биологии. В заливах и эстуариях Северной Европы и Америки обитает трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus). Биноминальное название можно буквально перевести как “костлявый живот с колючками”. Это уместно, поскольку у рыбы на на боку имеются костные пластинки, а на брюхе шипы, в которые превратились брюшные плавники (их кости – часть тазового пояса). Колюшки обычно живут в море, но легко приспосабливаются к новым условиям и за последние 10 тыс. лет многократно вторгались в сообщества пресноводных озер. Озерные колюшки быстро эволюционировали и потеряли кости тазового пояса и, соответственно, брюшные плавники, имеющие форму шипов. Недавно показано, что озерные колюшки несут мутацию в энхансере[64] гена Pitx1, которой не имеют их проходные (морские) сородичи. Если об этом знал бы Аристотель, он, конечно, задумался бы о связи фактов. Но прежде постарался бы показать ее:
Все озерные колюшки лишены брюшных плавников.
Все колюшки, лишенные брюшных плавников, имеют мутацию энхансера гена Pitx1.
Следовательно, все озерные колюшки имеют мутацию энхансера гена Pitx1.
Правильность этого силлогизма гарантирована связью нескольких посылок: обитание в озере, отсутствие брюшных плавников и присутствие мутации энхансера гена Pitx1. Демонстративный силлогизм предполагает такую каузальную связь, которая может быть выражена в определении. Мы обычно думаем об определении как о разъяснении смысла слова – и это, собственно, номинальное определение: озерная колюшка – это колюшка, не имеющая брюшных плавников. Однако Аристотель указал бы на средний термин (часть) силлогизма (который касается мутации энхансера гена Pitx1) как на каузальную связь: “Озерная колюшка – это колюшка, не имеющая брюшных плавников из-за мутации энхансера гена Pitx1”. Это доказательство, сказал бы он; это наука. Такие доказательства являются logos – “сущностью”, “формулой” вещей. Таким образом, его научный метод заключается в способе описания сущности вещей через фундаментальную причинность, лишенную случайных, а потому науке не интересных, признаков.
Трехиглые колюшки (Gasterosteus aculeatus)
Сверху: морская (проходная) морфа из Калифорнии
Снизу: озерная (пресноводная) морфа из оз. Пакстон, Британская Колумбия
Я говорил о теории доказывания Аристотеля так, будто она одна. Он посвятил большую долю “Второй аналитики” описанному здесь методу. Однако Аристотель допускает и другие методы доказывания, хотя говорит о них неопределенно. В трактате “О частях животных” Аристотель утверждал, что в естественных науках доказательство отличается от такового в “теоретических” науках наподобие геометрии. В биологии, считал он, следует начать с конца – с телеологической цели животного, и, двигаясь к началу, дедуктивным путем установить, как части животного служат конечной цели. Если подобные доказательства видоизменить, их можно привести к силлогизмам.
Несмотря на то, что доказательство – это двигатель научного метода Аристотеля, он признает недоказуемость некоторых фундаментальных утверждений, на которых построена наука. В их числе аксиомы его собственной силлогистики и некоторые неопределяемые понятия. Так, геометрии необходимо понятие о пространстве, арифметике – определение единицы. Аксиомы и неопределяемые понятия биологии не так очевидны. Но вот апофегма, которую Аристотель часто повторяет: “Природа ничего излишнего и напрасного не делает”. Он не стремился показать, как именно можно доказать подобное, и предполагал, что истинность таких утверждений легко устанавливается путем индукции (epagōgē), но, тем не менее, рассуждал, необходимы ли они для зарождения науки.
Он совершенно прав. И в наше время есть те, кто считает науку лишь одной из систем верований. Аристотелю приходилось иметь дело с такими людьми. Некоторые, писал он, утверждают, будто научное знание невозможно, поскольку любое умозаключение должно опираться на предыдущее умозаключение, предыдущее – на то, что ему предшествовало, и так до бесконечности, и поэтому мы не можем знать ничего. Другие, продолжал он, говорят о существовании возможности доказать все, что угодно: все есть истина, следовательно – и ложь.
Аристотель признавал, что оба допущения исключают возможность науки. Не существует бесконечной череды выводов, невозможно и доказательство всего на свете, ведь все наши аргументы так или иначе начинаются с аксиом и с наблюдения. Он говорил об этом воинственно – ему приходилось так поступать. Он должен был показать оппонентам – не только Платону, но и софистам с их диалектикой, – что получение истинного знания о мире, воспринимаемом при помощи чувств, возможно. Нам остается лишь догадываться, преуспел ли он. Современная наука зависит от аксиом не меньше, чем во времена Аристотеля, и ученые по большей части оправдывают это тем, что его аксиомы работают. Но Аристотель едва ли мог доказать свою правоту так, как современные ученые, буквально щелкнув выключателем[65].
44
Силлогистика Аристотеля не лишена противоречий. Всякому студенту, изучающему естественные науки, известно, что корреляция не тождественна причинности. Потому мы ставим эксперименты. Например, чтобы статью Чаня и его соавторов приняли в журнал “Сайенс”[66], им пришлось показать, что мутация энхансера гена Pitx1 проявляется у колюшки в тех же случаях, что и потеря брюшных плавников. Они также экспериментально установили, что мутация энхансера гена Pitx1 приводит к потере плавников, и даже героически вывели трансгенную колюшку. Аристотель, никогда не проводивший контролируемые эксперименты, был менее осторожен. Он был готов перейти сразу к выводам, когда находил сосуществующие признаки. Вероятно, можно логически доказать, что наличие рогов, неполный комплект зубов и наличие более одного желудка являются набором сосуществующих признаков (то есть этот набор признаков имеют лишь жвачные), но действительно ли эти признаки прямо связаны, как об этом говорит Аристотель? В отсутствие других свидетельств мы склонны сомневаться.
Еще одна проблема: направление причинности. Рогатые животные имеют много желудков потому, что они не имеют полного набора зубов. Может быть. Но почему не в обратном порядке: рогатое животное имеет неполный комплект зубов потому, что у него много желудков? В случае трехиглой колюшки мы можем быть уверены в направлении причинности (переселение в озера → мутация энхансера гена Pitx1 → утрата костей тазового пояса, и соответственно, брюшных плавников, имеющих форму шипов)) потому, что две теории – эволюции путем естественного отбора и центральная догма молекулярной биологии – утверждают, что порядок должен быть именно таким. Аристотель ставит проблему во “Второй аналитике”, но не решает ее. Фактически на направление причинности в его построениях также влияли системы теоретических воззрений, не зависящих от силлогизмов, на которых строились эти причинности.
Наконец, Аристотель указывает, что все демонстративные умозаключения могут быть облечены в форму силлогизма. Некоторые – определенно. Но все? Современная наука во многом построена на математических моделях, которые рассматривают количественно оцениваемые явления и их взаимосвязи. Проверка таких моделей требует измерений и вероятностной теории вывода. Модели же Аристотеля, напротив, качественные, и, похоже, он никогда ничего не считал.
Некоторые исследователи считают, что если взять чисто научные работы Аристотеля, например “О частях животных”, откроется его научная машина в действии, что мы увидим его аксиомы и силлогизмы, сгруппированные почти как в трактате о доказательствах геометрических теорем. Однако действительность обескураживает. Трактаты Аристотеля представляют собой мешанину данных, суждений и заключений (учитывая обыкновенность ситуации в ту эпоху, возложить вину на переводчиков в этом отношении нельзя). Если копнуть достаточно глубоко, можно разглядеть у Аристотеля следы работы “машины”. Хотя в этих книгах нет чистых силлогизмов, выводы мы находим: у носящих рога животные много желудков потому, что у них нет полного набора зубов; у селахий шершавая кожа потому, что у них хрящевой скелет; у страуса пальцы, а не копыта потому, что он большой. Все это из книги “О частях животных”. Однако он не демонстрировал “кухню”. Почему?
Возможно, Аристотель считал, что этого и не требуется. Или чувствовал, что сможет сделать это лишь тогда, когда его работа будет кончена, когда он поймет причины всего. Но он этого не достиг и не записал силлогизмы. Но я полагаю, что он не выразил свои каузальные объяснения в силлогизмах потому, что не мог. В логических построениях Аристотеля предикаты обычно сосуществуют, а в реальности у описываемых животных это не обязательно выполняется. Рога, сложные желудки, парные копыта и отсутствующие зубы лишь имеют тенденцию проявляться вместе. Например, у верблюда есть все эти признаки, кроме рогов. Проблема силлогистики сходна с проблемой классификации по одному признаку: всегда найдется существо, которое испортит картину.
Проблему решает статистика. Когда мы ищем связи, мы не требуем однозначного сосуществования признаков: достаточно и того, что они коррелируют. Чань и его соавторы не заключают, что жизнь в озерах, отсутствие брюшных плавников и наличие мутации энхансера гена Pitx1 сосуществуют всегда. Они лишь показывают статистическую связь (пускай и очень сильную), допуская влияние и иных генетических факторов. Решение Аристотеля таково: большинство парнокопытных (курсив мой. – А. М. Л.) имеет рога для нападения, так же как некоторые однокопытные, а другие – и для обороны. Далее Стагирит разъясняет, почему у верблюда их нет. На самом деле, он часто заявлял, что та или иная связь верна “по большей части”.
Я думаю, “Вторая аналитика” устанавливает золотой стандарт научного знания. Здесь Аристотель описывает условия, выполнение которых позволяет утвердить достоверность причинно-следственной связи. Но естественные науки (я имею в виду то, чем занимался Аристотель: исследование окружающего мира, а не математических объектов) редко позволяют использовать негибкие доказательства. Большая часть этих отраслей построена на менее жестких типах доказывания, например на утверждении, что именно его доказательство в настоящее время наилучшее. Данные неполны, результаты спорны, причины малопонятны, логика хромает. Такие доказательства применяются сейчас, то же было верно и для Аристотеля. На самом деле его методы менее строгие (или более разумные) и во многом построены на вероятностности, а не на жесткой риторике, которую он обрисовал во “Второй аналитике”. В “Никомаховой этике” (этика тоже была наукой Аристотеля, хотя это не естественная наука) двойственность особенно заметна:
При подобных предметах рассуждений и подобных предпосылках желательно (agapeton) приблизительно и в общих чертах указать на истину, а если рассуждают о том, что имеет место лишь в большинстве случаев и при соответствующих предпосылках, то [довольно уже и того, чтобы] и выводы [распространялись лишь на большинство случаев]. Одинаково [нелепым] кажется как довольствоваться правдоподобными рассуждениями математика, так и требовать от ритора строгих доказательств[67].
То есть: начните с некой упорядоченной информации об интересующей вас части мира, выявите задачи, которые ставит эта часть, соберите лучшие решения и определите, какие из них подходят к ситуации. Решения, которые не будут отброшены, и окажутся ответом.
Хотя выше вроде бы описывается “доказательство”, в нем предлагается несколько иная процедура, чем описанная в теории “Второй аналитики”. Это видно по использованию слова phainomena. Силлогистика требует неопровержимой истинности предпосылок аргумента. Если эти предпосылки неверны, невозможно что-либо доказать. Однако phainomena не несут в себе такой эпистемологической точности, так как, по Аристотелю, в них есть место мнениям – само собой, людей авторитетных и мудрых, – но все-таки мнениям. Мы оказываемся во владениях диалектики, которая все же не так далека от доказательства. Большая часть биологии находится внутри этой сумеречной зоны.
Это следствие спутанности мира. Однако Аристотель имел еще одну, более глубокую стратегию, чтобы справляться с недостатком обязательности сосуществования признаков. Он предполагал, что если у группы индивидов (или родов) есть некий общий признак и он выборочно связан с другими, то, возможно, существует несколько причин таких связей. Здесь следует дробить существующие классы связей и искать общую причину для каждого, продолжая разделение, пока не найдется хотя бы по одной конкретной причине объединения для каждого нового класса.
Достаточно много современных биомедицинских исследований построены именно по этой схеме. Увеальной меланомой страдает примерно один из 167 тыс. американцев. Как помочь этим людям? Поиску ответа, то есть поиску причины болезни, ее сути, посвятили свою карьеру многие ученые. Это рак, и он, скорее всего, вызывается определенной мутацией или набором мутаций. Однако существует минимум два варианта увеальной меланомы, каждый из которых имеет свою “мутационную формулу”. Опухоли второго класса имеют мутацию в гене BAP1, а опухоли первого класса ее не имеют. Это важно, так как опухоли первого класса поддаются лечению, а опухоли второго обычно злокачественны, демонстрируют агрессивный рост и почти всегда летальны. Причем даже эти два класса гетерогенны и их можно дальше разделять по наличию или отсутствию других мутаций. Поэтому онкогенетики, занимающие поиском причин, вызывающих эту болезнь, а точнее, нескольких разных болезней, забираются все глубже, продолжая подразделять классы.
С другой стороны, между Аристотелем и современным биологом есть разница. Аристотель был уверен, что можно доискаться стабильных классов, неразделимых форм с уникальной каузальной формулой. Мы тоже поражены изменчивостью природы, но успели разглядеть ее пристальнее, и нам пришлось капитулировать перед ней. С помощью технологий (секвенирование ДНК – лишь одна из новейших) мы смогли убедиться, что ни две колюшки, ни две опухоли, ни два человека, ни даже монозиготные близнецы не имеют одинаковой “формулы”. Разница в кругозоре современных ученых и Аристотеля огромна, но это почти ничего не значит. Мы все равно “закапываемся” в классы и делим их, чтобы найти “формулу всего”, как и Аристотель. И даже если в глубине души мы знаем, что причины всех причин не доискаться, по пути мы увидим много интересного.
В этом и суть. Теория доказательств Аристотеля, несмотря на ее ограниченность, представляет собой настоящий научный метод. Это часть нашей науки. Ученые могут бесконечно спорить о методологии, но они согласны со многим в этой теории. Они понимают территорию науки – понимают, что за вещи она исследует. Они принимают то, как наука разграничивает предметы исследования и задачи, как разделяет их для изучения, вместо того чтобы пытаться понять все одновременно. Они принимают обоюдные отношения между теорией и доказательством и отделяют гипотезы от фактов. Они осознают, что наука начинается с индукции, обобщения на основе наблюдений, и продолжается через дедукцию – чтобы сделать верные умозаключения из обобщений. Они знают, что научное умозаключение обязано быть логическим, и могут распознать его, если услышат. Они понимают, что одни выводы верны, а другие нет, и что важно различать их. И об этом рассказал Аристотель.
Глава 8 “Птичьи ветра”
45
Через семьдесят дней после дня зимнего солнцестояния, в начале марта, задувают “птичьи ветра” (ornithiai anemoi). Тогда перелетные птицы начинают прибывать на Лесбос. В болотах и заводях между городом Скала и устьем реки Вуварис, где Лагуна переходит в сушу, они суетятся среди тростников и пробираются по мелководью, высоко над которыми из Африки потоком летят хищники. Любители птиц следуют за ними из стокгольмского аэропорта Арланда, амстердамского Схипхола и лондонского Гэтвика. Они наблюдают за птицами в объектив, ссорятся подобно ходулочникам и педантично обновляют свои сайты (“7 мая. На соляных разработках замечен бекас. Говорят, он присутствует там и сегодня, что бросает тень на вчерашнее заявление об обнаружении дупеля”). Остров кишит аристотелевскими птицами. Вот описание Аристотелем одной из них (на самом деле эта птица на Лесбосе лишь зимует): “Tyrannos лишь немногим крупнее саранчи, его хохолок цвета солнца, сияющего сквозь дымку. Это во всех отношениях прекрасная и изящная птичка”. Речь идет о желтоголовом корольке (Regulus cristatus), обитающем в сосновых лесах Лесбоса.
Epops Аристотеля – удод (Upapa epops)
Вероятно, весной, когда оливковые рощи Пирры краснели анемонами, а облака расступались перед горой Олимбос, Аристотель ходил смотреть на птиц. Красота птиц – в их открытости. Рыбы скрываются в глубине, звери прячутся в лесу, а птицы живут у нас на виду. Поэтому, кажется, Аристотель хочет объяснить “большее или меньшее”, различия в размере и форме, которые демонстрируют роды в составе высших родов, и часто говорит об этих различиях.
Аристотель начинает с распределения птиц: хищные, водные, болотные и т. д. Это не таксономические группы, а функциональные, вроде гильдий[68]. Хищным птицам (орлы, ястребы) приходится искать, ловить и умерщвлять добычу, и поэтому у них крупные когти, мощные крылья, короткая шея и превосходное зрение. Водным птицам (утки, поганки) нужно плавать, нырять и срывать водные растения – и поэтому у них короткие ноги и перепончатые лапы, похожие на весла, длинная шея и плоский клюв. Болотные птицы (цапли, журавли, ходулочники) живут на болоте и ловят рыбу – и поэтому у них длинные ноги, длинная шея и копьевидный клюв. Мелкие птицы (вьюрковые) собирают семена или клюют крошки – и поэтому у них короткий изогнутый клюв. Некоторые птицы – мощные летуны, поэтому они могут мигрировать в дальние края.
Пожалуй, в этих строках “Истории животных” впервые в эволюционной биологии применен функциональный подход к объяснению явлений. Люди, цитирующие слова Дарвина про вьюрков Галапагосских островов (“Наблюдая постепенность и различие в строении в пределах одной небольшой, связанной тесными узами родства группы птиц, можно действительно представить себе, что вследствие первоначальной малочисленности птиц на этом архипелаге был взят один вид и видоизменен в различных целях”), обычно интересуются тем, как изменился отдельно взятый вид. Но рассмотрим сначала градацию и разнообразие структуры, а после то, к чему эта структура была приспособлена. Так, у вьюрков одного вида клюв приспособлен для раскалывания твердых семян с шипастой оболочкой, у второго – для склевывания крошечных семян, у третьего – для прокалывания кожи олушей, чтобы напиться их крови[69], у четвертого – для поедания насекомых, а один приспособился, подобно дятлу, использовать колючки кактусов для выуживания насекомых из коры. Примите во внимание все эти данные, и вы получите анализ в чисто аристотелевском духе.
В книге “О частях животных” Аристотель пишет, что природа создает инструменты для регулирования функций, а не функции для регулирования инструмента. Сейчас это банальность. Но именно он первым увидел, что птица – это не просто шкафчик для деталей, а летающий набор инструментов.
46
Чтобы вполне объяснить природное явление, следует поставить четыре вопроса и ответить на них. Аристотелю ясно, что вопрос ради чего следует задать первым.
В лучшем случае, утверждает Аристотель, отдельные организмы могут стать бессмертными. Но они умирают. Так что они выбирают второе по степени полезности занятие: размножение. Для этого, в свою очередь, им необходимы части тела для питания, дыхания, спаривания и т. д. Функциональную часть тела Аристотель называет organon (греч. “орудие”, “инструмент”), отсюда наше “орган”.
Именование частей тела инструментами может навести на мысль, что аристотелевская телеология – не более чем наивный функционализм в духе Сократа, Платона или Пейли (зрачки – это “двери глаз” и т. д.). Конечно, у Аристотеля множество подобных объяснений. Он приводит список признаков животных, прямо как в современных учебниках (питание, дыхание, защита, подвижность, раздражимость), и он распределяет их по органам, допуская, что у некоторых органов много функций. Иногда такое деление дается легко (желудок нужен, конечно, для пищеварения), иногда не без труда (Аристотелю не до конца ясно, зачем селезенка и нужна ли она вообще). Иногда он ошибочно считает, что это легко: Аристотель уверен, что знает, для чего сердце и мозг, а на самом деле он не имеет об этом понятия.
Как бы то ни было, общая телеология этого сорта – лишь начало, ведь аристотелевская программа предлагает гораздо больше того, о чем могли мечтать Сократ, Платон и Пейли. Аристотель – сравнительный биолог. Настоящий интерес у него вызывает специфическая телеология. Он желает знать не только то, почему некоему животному присущ некий признак, но и почему у других животных его нет. Чтобы ответить на этот и бесчисленное множество подобных вопросов, Аристотель разработал систему телеологических принципов. Выходит, что трактат “О частях животных” – рассказ о том, почему одни животные летают, вторые плавают, а третьи ходят, о зубах зверей и когтях птиц, о челюстях и лапах, рогах и копытах. А еще – о слоновьем хоботе.
47
“Нос слона уникален среди носов животных своей длиною и необычайной гибкостью”. Может быть, Аристотель и не видел слона, однако про слоновий хобот ему есть что сказать.
Аристотель, желая пояснить, почему определенное животное обладает определенными признаками, иногда обращается к образу его жизни: месту обитания, рациону и взаимодействию с другими животными (словом, к bios). Так он рассказывает о птицах. И об обитателях глубин: “У морских животных тоже много специальных умений [technika], связанных с их образом жизни, и истории о рыбе удильщике и электрическом скате – чистая правда”. Аристотель рассказывает, как удильщик прячется в песке и иле, выставляет наружу приманку и засасывает в пасть привлеченных ею рыб, и как электрический скат оглушает добычу.
Когда Аристотель описывает удивительный нос слона, он начинает с его образа жизни. Аристотель полагает (лишь незначительно ошибаясь), что слоны живут в болоте, ведь они обожают воду:
Когда ныряльщики долгое время остаются под водой, они обеспечивают себя дыхательными приспособлениями и используют их, вдыхая воздух с поверхности. Природа обеспечила похожим дыхательным механизмом слона, удлиннив его ноздри.
Narkē Аристотеля – глазчатый электрический скат (Torpedo torpedo)
Действительно ли античные ныряльщики ныряли, пользуясь трубкой, а слоны – хоботом? Откровенно говоря, я сомневался в обоих утверждениях. Но Д. Л. Джонсон[70] сообщает, что африканские слоны плавают в реке Замбези, а азиатские – между островками в Шри-Ланке, и что слоны делают это, вытянув хобот вверх и совершая подпрыгивающие движения, похожие на дельфиньи. (Максимальная скорость и дальность – 1,5 узла [ок. 2,8 км/ч] и 26 морских миль [ок. 48 км] соответственно.) Джонсон прибавляет, что слонов редко можно видеть плывущими, обычно они делают это по ночам. И, чтобы заткнуть рот скептикам, демонстрирует нечеткую фотографию.
Однако среда обитания слона не в полной мере объясняет наличие хобота. Бегемоты, тюлени и крокодилы едва ли не более склонны к земноводному образу жизни, при этом хобота у них нет. Слон, должно быть, сталкивается с уникальной проблемой, наилучшим решением которой стал хобот. Так и есть. Однако это не одна проблема, а целая их группа. Хобот связан не только с жизнью в болоте. Слону приходится функционировать (дыша, питаясь, защищаясь от хищников и т. д.), будучи ограниченным набором своих признаков. Полное описание Аристотелем хобота начинается с перечисления функций и признаков и разъясняет смысл и следствия их наличия в виде занимательных причинно-следственных связей.
Слону необходима защита. От кого, Аристотель не упоминает. По-видимому, никто слабее martikhōras (тигра) с его тройным рядом зубов не способен угрожать слону. Слона охраняют уже его размеры, и это имеет свои последствия. Поскольку слон – крупное животное, его ноги должны быть толстыми и, значит, негибкими, а это делает слона малоподвижным. Возможно, это не играет роли на твердой земле, но слон живет в болотистой местности. Так что в долине Инда попавшему в трясину слону грозит смертельная опасность. Или грозила бы, если бы природа не подарила слону хобот[71].
Аристотель называет объяснения этого вида условной необходимостью. Дано: некоторая цель x и орудие для ее достижения y. Тогда орудию y необходимо условие z, чтобы осуществить x. Пример Аристотеля тривиален. Если цель x – разрубить что-либо, а орудие y – топор, то топор должен быть из твердого материала, например из меди или железа. Но принцип применим не только к топорам. Он всеобщий: если нужно дышать, а вы неповоротливое четвероногое, обитающее в болотах, то вам потребуется длинный нос. Это аристотелевский способ установить и выразить ту истину, что живое существо – это единое целое, всякая часть которого прилажена ко всем остальным так, чтобы существо выжило. Если перемешать части, относящиеся к различным формам, получатся нежизнеспособные чудовища. Поэтому селекционизм Эмпедокла абсурден.
В “Истории животных” Аристотель разбирает их, чтоб установить связи. Во “Второй аналитике” он описывает метод, с помощью которого отыскивает причины этих связей, а в трактате “О частях животных” Аристотель “собирает” живые организмы обратно и применяет свой метод на практике. Таким образом, принцип условной необходимости становится единственно важным работающим телеологическим принципом. В книге цепочки причинно-следственных связей множатся и ветвятся, и сложно увидеть, где они начинаются и заканчиваются. Аристотель приводит еще один пример условной необходимости слоновьего хобота. Описание заканчивается объяснением использования хобота в качестве руки, но начинается с пальцев ног.
Необычность пальцев слона – в их количестве. Поскольку их очень много (больше, чем у копытных), у слона есть функциональное сходство с кошками, собаками, людьми и другими многопалыми животными. Многопалые животные захватывают и держат пищу передними конечностями. Однако слон на это не способен, поскольку сам он велик, а его ноги толсты и плохо гнутся[72]. Здесь воображаешь, как слон с неподходящими конечностями умирает от голода в тиковом лесу. Но природа снабдила несчастное животное подобием руки. Чтобы сопоставить этот факт с применением хобота в качестве трубки для ныряния, понадобится схема причинно-следственных связей: она поможет понять, логична ли аргументация Аристотеля. Она логична, но непонятно, как Аристотель (судя по всему) обошелся без нее.
48
Аристотелевский анализ анатомии птиц настолько ясен и четок, что не сомневаешься: таков же весь текст “О частях животных”. Ожидаешь найти полномасштабное объяснение превосходной (этот эпитет редко забывают в подобных случаях) приспособленности животных к среде в духе адаптационизма.
Но нет! Кое-где в книге Аристотель объясняет адаптации исходя из образа жизни животных, однако преобладают рассуждения в духе условной необходимости: объяснения существования и строения одних частей тела другими. Одна из причин – подход Аристотеля к таксонам. Одни биологи рисуют картину широкими мазками, сравнивая типы животных и игнорируя виды. Другие пишут “семейные портреты” небольших групп: скажем, жуков-скакунов. А многие и вовсе занимаются каким-либо одним видом: лабораторными мышами, плодовыми мушками, червями C. elegans, людьми. Аристотель же работает со всеми таксонами сразу. Его взгляд скользит то вверх, то вниз по древу классификации, иногда задерживаясь на людях, а иногда охватывая сразу всех животных с кровью. В трактате “О частях животных” Аристотель обращается главным образом к различиям между высшими родами.
Тактика очевидная, ведь наибольшее разнообразие жизненных форм можно найти, рассматривая сразу несколько крупных таксонов. Представители высших родов различаются не “более или менее”, как одна птица отличается от другой. Разница возникает уже на уровне плана строения тела. Если органы представителей разных высших родов похожи, то лишь потому, что они выполняют сходные функции. Притом телеологически объяснить различия таких крупных таксонов сложнее всего. Почему у птиц клювы, а у четвероногих животных зубы? У большинства животных рот расположен на одном конце тела, анальное отверстие – на противоположном. У головоногих не так – а почему? У некоторых животных есть кровь, а у других нет. Почему? Каждый высший род настолько отличается от остальных и объединяет настолько разные организмы, что очень сложно связать их форму с образом жизни – если, конечно, эта связь не очевидна. Да, у рыб вместо ног плавники, а вместо легких жабры, так как они живут в воде – на подобные вещи Аристотель указывает. Но в общем случае, рассматривая различия между высшими родами, он даже не пытается найти им объяснения[73].
Может показаться, что Аристотель исчерпал свои возможности толкования чего бы то ни было. Но на самом деле он только начал. Его метод таков. У каждого высшего рода Аристотель оценивает ряд конкретных признаков как примитивные (скорее в эпистемологическом, чем в эволюционном смысле). Они – данность, так что объяснять их необязательно. Тем не менее, эти признаки служат стартовыми точками объяснений. Аристотель нередко обозначает примитивность признака, упоминая, что он входит в состав “определения [logos] сущности [ousia]” животного. У птиц такой признак – способность к полету, у рыб – к плаванию. Кроме того, для птиц (и, вероятно, ряда других животных) таким необъясняемым признаком служит наличие легкого. У живородящих четвероногих (большинство млекопитающих), яйцеродящих четвероногих (большинство рептилий и амфибий), птиц и рыб это наличие крови. Для всех животных – способность ощущать. Аристотель явно указывает лишь некоторые из главных признаков, но повествование ведет так, будто их гораздо больше.
Пищеварительный тракт птиц
Слева: alektōr Аристотеля – домашняя курица (Gallus domesticus)
Справа: aietos Аристотеля – орел (Aquila sp.)
Например, Аристотель не объясняет, почему у птиц клюв. Это данность. Однако следствия он перечисляет. Поскольку у птиц нет зубов, они не в состоянии пережевывать пищу. Чтобы компенсировать этот недостаток, одни птицы (голуби, пеликаны, куропатки) обзавелись зобом. У других (вороны) “широкий пищевод”. Третьи (пустельги) имеют “перед желудком вздутую часть пищевода для предварительного хранения необработанной пищи, или расширенную часть самого желудка”. У многих птиц желудок “твердый и мясистый” (мускульный желудок), чтобы “можно было долгое время хранить и переваривать неразмельченную пищу”. У болотных же птиц нет ни зоба, ни широкого пищевода, так как их пища легко размельчается. Перечисленные черты анатомии в целом верны. Вывод Аристотеля: всем этим птицы снабжены из-за отсутствия у них зубов.
Аристотель применяет ту же логику для объяснения того, что некоторые некоторые из пастбищных травоядных (лошади, ослы, онагры) имеют одинаковое число зубов на верхней и нижней челюстях и простые желудки, а у других (коров, коз, овец) число зубов на верхней и нижней челюстях различается, а желудки сложные. Таким же образом он поясняет, почему у некоторых рыб “простые” жабры, а у некоторых они “двойные”, или почему страусы не летают. Или почему… Примеров можно привести множество: почти каждой строке “О частях животных” требуется пояснение.
49
В порту городка Митимна на северном побережье Лесбоса я однажды обнаружил высохшего морского ежа неизвестного мне вида. Я вспомнил описание у Аристотеля: это животное невелико, имеет крупные твердые иглы и заметно отличается от “более упитанных” морских ежей из Лагуны с их хрупкими иглами. Аристотель не называет необычного морского ежа, но сообщает, что тот живет “на большой глубине”, что соответствует месту моей находки. Деревня Митимна стоит на северном побережье Лесбоса, у пролива глубиной 300 м или больше.
Томпсон в “Глоссарии греческих рыб” идентифицировал безымянного глубоководного морского ежа как Cidaris cidaris, и справедливо. Остатки представителя именно этого вида я держал в руке. Аристотель пишет, что этот морской еж “применяется иногда [как средство] от затрудненного мочеиспускания”. (Не думаю, что и теперь его так используют.) Впрочем, Аристотеля мало интересует полезность животного: интереснее, почему у животного такие длинные иглы.
Ekhinos genos mikron Аристотеля – обыкновенный копьеносный морской еж (Сidaris cidaris)
Аристотель знает, что иглы нужны для защиты, и можно ожидать предположения, что живущие на глубине иглокожие нуждаются в столь длинных иглах по функциональной причине – например, обитающие там рыбы особенно свирепы. Однако Аристотель объясняет: длинные иглы не дают заметных преимуществ. Это просто результат “материальной природы” морского ежа.
Хотя Аристотель корит предшественников за дремучий материализм, сам он вполне верит в силу материи. В конце концов, без нее формы не могут существовать. Если отвлеченно рассматривать формы и материю, то форма, несомненно, важнее: сфера остается сферой, будучи изготовленной и из дерева, и из железа. С другой стороны, сфера – очень абстрактный пример. Живые формы гораздо больше зависят от материала. Можно вырезать человека из дерева, но он не сможет ни ходить, ни говорить.
Всякое животное у Аристотеля – иерархически организованная трехуровневая система. Нижний уровень – это начала. Верхний – органы. Средний – однородные части: кровь, семя, молоко, жир, костный мозг, мышцы, жилы, волосы, хрящи, кости. Я бы назвал их тканями, но этот термин несколько нарушит то значение, которое Аристотель вкладывает в понятие “однородные части”. Мы знаем, что ткани сложены из клеток, но Аристотель считал, что однородные части действительно однородны – то есть совершенно лишены микроскопических составляющих. У каждой однородной части собственная “материальная природа”, набор функциональных признаков – мягкий, сухой, влажный, эластичный, хрупкий, – который зависит от конкретных пропорций начал. И хотя однородным частям присущи собственные функции (кость защищает мышцы), их настоящая цель – быть материалом для органов.
Аристотель замечает, что у разных животных однородные части неодинаковы. Животные отличаются теплотой крови, твердостью костей, мяса, жира и кожи, объемом костного мозга. Конечно, у многих животных нет крови, мышц или костей, однако у них могут иметься аналогичные однородные части, обычно не имеющие собственного названия. Кажется, Аристотель считает, будто однородным частям любых животных присуща некая врожденная форма, однако их качество и состав различаются в зависимости от состояния здоровья, характера питания и времени года. Это базовые блоки физиологии Аристотеля, а также связующие звенья между средой и организмом.
Это позволяет совершенно по-новому объяснить разнообразия животных. Аристотель не пытается дать телеологическое объяснение всех без исключения вариантов в пределах этого разнообразия. Некоторые случаи прямо обусловлены средой. Аристотель пишет: на глубине, где обитает безымянный морской еж, холодно. По этой причине ежу не хватает тепла, чтобы переваривать пищу. (Все морские ежи причислены у него к достаточно холодным животным.) Таким образом, из-за недостатка тепла и недостаточно интенсивного “варения” у глубоководного морского ежа остается много лишней материи. Она переходит в иглы, и поэтому они длинны. Холод же вызывает отверждение игл.
Объяснение очень механистичное. Длинные иглы результат “необходимости” – хотя Аристотель говорит скорее о материальной, а не условной необходимости. Ведь длина игл не объяснима никакой функциональной надобностью, кроме примитивной физиологии. Получается, морские ежи отращивают иглы различной длины в ответ на влияние среды. Биологи называют это фенотипической пластичностью (или модификационной изменчивостью), однако приведенное объяснение появления длинных игл не годится для Cidaris cidaris, у которого такие иглы – признак, характерный для вида. Но Аристотель считает иначе. Ему кажется, что иглы глубоководного морского ежа – тот случай, когда материя побеждает форму.
50
Аристотель, разбирая строение тела животного, мыслит как архитектор или инженер. Первым делом он думает о цели, которой служит тот или иной орган. При этом Аристотель прекрасно понимает, из чего сложены органы. В его зоологических текстах мы находим объяснения двух типов: условная и материальная необходимость. Как правило, они связаны.
Аристотель предполагает, что в общем случае органы сложены из подходящего материала, что материальная природа их однородных частей (биофизика тканей) соответствует функциональным нуждам животного. Однако ученый допускает, что у животных не всегда находятся необходимые части. Тот факт, что тела конкретных животных сложены из материи конкретных видов, ограничивает набор органов. Это может даже сделать невозможным обладание органами, которые пришлись бы очень кстати. Соответственно, животные производят материи больше необходимого. Иногда ее излишки используются для “постройки” органов желательных, но не жизненно важных. Для Аристотеля, как и для архитектора, функция не определяет все.
Приводимые учеными примеры того, как свойства однородных частей совпадают с функциональными требованиями – отрада биофизика. Змее необходимо видеть, что сзади, однако у нее нет ног и она не может развернуть тело. Поэтому она поворачивает голову и позвоночник у нее гибкий. Когда скат плывет, его тело двигается волнообразно (ундулирует), ему также нужен гибкий скелет – и поэтому у ската вместо костей хрящи. Пищевод у человека должен расширяться, чтобы пропускать пищу и не страдать от ее выступающих частей – и поэтому пищевод эластичен и одновременно снабжен мышцами. Пенис мужчины должен быть способен и расслабляться, и вытягиваться, наливаясь пневмой, и поэтому этот орган составлен из подходящего вещества. Все перечисленное – примеры условной необходимости, определяющей свойства какой-либо однородной части.
С надгортанником дело обстоит иначе. Аристотель замечает, что шея устроена не слишком рационально. Поскольку гортань и трахея расположены непосредственно спереди пищевода, животные могут задохнуться, подавившись пищей. Формируя млекопитающих, природа обошла это затруднение: сконструировала “крышку” для гортани – надгортанник, который во время глотания закрывается. Но у птиц и рептилий надгортанника нет. Почему? Аристотель отвечает: мясо и кожа этих животных “сухие”, и “не может быть подвижной часть, составленная из подобного мяса и подобной кожи”. Впрочем, птицам и пресмыкающимся природа предложила другое решение: сокращение гортани при необходимости[74].
Аристотель обычно уверен в собственных знаниях относительно функций тех или иных органов. Однако селезенка представляет для него загадку. Ученый небезосновательно считает, что она не жизненно важна. Аристотель знает, что у многих животных с кровью селезенка мала, и думает, что у иных ее вовсе нет. Поэтому он считает вероятным, что этот орган появился в противовес печени (вообще-то Аристотелю нравится объединять органы в пары по сторонам от основной оси тела), что селезенка помогает печени переваривать пищу или способствует “подвешиванию” кровеносных сосудов к органам. Но ученый отзывается о селезенке как о необязательном органе, которому природа нашла иное, не особенно важное, применение[75].
Конечно, не все отходы жизнедеятельности бесполезны. Аристотель относил к ним и желчь. И шел в этом случае против общего мнения. Греки использовали для гадания желчные пузыри жертвенных животных. Более рационально мыслящие натурфилософы выдвигали гипотезу, что желчный пузырь может быть органом чувств. Гиппократики и Платон считали, что желчь появляется при различных заболеваниях. Аристотель это отрицает и, приводя данные сравнительной анатомии (у одних животных есть желчный пузырь, а у других нет), утверждает, что желчь – это некое образующееся в печени выделение из крови. Это выделение изливается в кишечник, и в целом оно бесполезно: “Иногда природа обращает в пользу даже выделения; однако поэтому не следует всюду искать цель, но раз некоторые вещи обладают такими-то свойствами, из этого по необходимости возникает многое другое”[76].
Когда Аристотель делает вскрытия и анализирует увиденное, он ступает на скользкую дорожку. Над ним высятся телеологические горы Платона, а под ним разверзлась бездна безжалостного материализма натурфилософов. Аристотель, понимая, что все это нельзя игнорировать, рассматривает каждую часть последовательно и признает первенство то за функциональными целями, то за физиологией, а часто (и в этом его большая заслуга) обращается к их малозаметному взаимодействию. Тем не менее по мере чтения трактата “О частях животных” становится ясно, что за объяснениями, проистекающими из аристотелевских четырех причин, лежит совершенно иной ряд принципов, которые правильнее причислить к экономическим, а не к телеологическим и не к материальным.
51
Зевс создал человека, Афина – дом, Посейдон – быка. Они просят Мома, бога насмешки, выступить судьей и решить, чье творение лучше. Мом громит всех. По Эзопу, у человека “нет в груди дверцы, чтоб в сердце были тайные видны чувства”, у дома “нет крепких колес и нельзя в нем укатить, куда хочешь, и от дурных соседей без труда скрыться”, а бык плох тем, что “бычий глаз от бычьего далек рога и быку не увидать, куда бьет он”. Раздраженный Зевс, потративший на сотворение человека порядочно времени, изгоняет Мома с Олимпа.
В трактате “О частях животных” Аристотель пересказывает сюжет, но в его версии Мом выдвигает предположение, что у быка рога должны быть на плечах, поскольку это наиболее эффективно. Аристотель окорачивает своего персонажа: “Непроницателен Мом, раз он делает такой упрек”. Мому следовало бы поискать информацию о силе и направлении удара бычьих рогов. К тому же, если бы рога находились на плечах или где-либо еще, они мешали бы животному двигаться. Так что они именно там, где должны быть: на голове.
Это классический телеологический довод к условной необходимости. Рога нужны для защиты, и поэтому они помещаются в самой подходящей точке тела, пусть и подвержены другим функциональным ограничениям. Аристотель прибавляет детали: о прочности рогов, о том, что у оленя они сплошные, а у быка полые, зато укреплены в основании, и т. д. Такие рассуждения настолько адаптационистские, насколько это возможно. И снова мы ждем, что Аристотель, приступая к объяснению того, почему у большинства животных нет рогов, покажет: образ жизни одних требует рогов, а других – не требует. Однако вместо этого Аристотель вводит ряд дополнительных закономерностей, связанных с телесной экономикой.
В “Политике” Аристотель отмечает, что жизнь домохозяйства сводится к управлению (кто кому подчиняется), а также к экономике (как приобретаются и распределяются материальные блага). Аристотель – за естественный порядок вещей. Существует иерархия: хозяин дома, его жена, дети, рабы, скот. Есть (или должно существовать) природный предел богатству. Стагирит крайне отрицательно относится к случаям, когда кто-либо получает деньги сверх необходимого: перепродажа неестественна, ростовщичество отвратительно. В этом смысле Аристотель похож на интеллектуала, презирающего буржуа. Тон философа похож на тон кембриджских преподавателей 40-х гг. (вспоминаешь Фрэнка Реймонда Ливиса): непререкаемый, нравоучительный, пуританский.
Аристотель, размышляя о домашнем хозяйстве, приводит примеры из мира животных. А когда пишет о животных, то приводит примеры из экономики: “Природа всегда предоставляет каждую вещь тем, кто может ее использовать”. Или: “Природа ничего излишнего и напрасного не делает”. Или: “Что природа отнимает в одном месте, то отдает другим частям”. Или: “Где есть возможность пользоваться двумя инструментами для двух дел, причем один не мешает другому, там природа никогда не поступает, как кузнечных дел мастер, изготовляя ради дешевизны вертел-подсвечник, но только там, где не представляется возможности, она употребляет одну и ту же вещь для многих целей”. Аристотелю нужны эти принципы, чтобы его телеологические объяснения имели смысл. Однако в его планы не входит их доказательство: это аксиомы. Гераклит сказал: “Природа любит скрываться”. Но не от Аристотеля! Он пишет о природе так, будто она владеет таверной по соседству.
Аристотель двояко оценивает рога у животных. Конечно, рога нужны для защиты. С другой стороны, можно обойтись и без рогов, а в ряде случаев они даже мешают. Аристотеля впечатляет, что самцы оленя ежегодно сбрасывают рога. И мне кажется, что он ни разу не наблюдал за этими копытными. Он рассказывает о применении рогов для защиты от хищников (об этом ему могли рассказать охотники), но не упоминает, что рога нужны самцам для конкуренции за самок. Возможно, он никогда не видел, как сражаются олени[77].
Тот факт, что рога не очень полезны, отражен в их происхождении. Когда животные “строят” из питательных веществ тело, они сначала создают наиболее важные для жизни органы, используя питание высшего качества, а если остались “строительные материалы”, то тратят их на менее важные органы. У аристотелевского рачительного хозяина после семейного обеда остается немного костей. Эти кости наш персонаж бросает полудикой кошке, развалившейся под дверью. Вообще-то кошка скорее надоедливый вредитель и дома ее держать не хочется, но она нравится детям, да и мышей ловит. Рога – как кошки: обходятся дешево, но толку от них мало.
Elaphos Аристотеля – благородный олень (Cervus elaphus)
Так почему рога есть не у всех животных? Аристотель дает два ответа. Один вполне согласуется с образом рачительного хозяина: у животных, как правило, не бывает “лишних” органов. Стагирит отмечает, что животных могут защищать их большой размер, высокая скорость, рога, бивни или клыки. Но если у существа уже есть одно средство защиты, второе ему не нужно, поскольку природа не делает “ничего напрасного или излишнего”.
Здесь действует иной экономический принцип. В “Истории животных” Аристотель выявляет целую систему ассоциированных признаков живородящих четвероногих (млекопитающих), в т. ч. тот факт, что рогатые жвачные животные имеют неодинаковый набор зубов в верхней и нижней челюсти, а безрогие (например, лошади) – одинаковый. Рога и зубы должны быть прочными, и поэтому они большей частью из землистого вещества. Аристотель предполагает, что между рогами и зубами есть своеобразный баланс: организм может получить либо рога, либо полный комплект зубов, но не то и другое сразу, поскольку “что природа отнимает в одном месте, то отдает другим частям”[78]. Он с особой тщательностью применяет принцип распределения ресурсов. Аристотель замечает, что рога крупных животных непропорционально велики по сравнению с рогами мелких, таких как газель-доркас (самое мелкое из известных ему жвачных). Ученый объясняет эту закономерность тем, что у крупных жвачных в пересчете на массу тела остается больше излишков землистого вещества. Соответственно, первые могут больше потратить на рога. Он затрагивает одну из важнейших закономерностей, демонстрируемых живыми организмами – и до сих пор труднообъяснимую[79].
Аристотелевская природа экономна, но иногда она слишком экономна. У многих органов несколько функций (хобот слона в этом отношении особенно гибок). Кроме того, Аристотель упоминает о функциональных компромиссах. Трудно сделать многое хорошо, поэтому частям животного в целом лучше иметь специализацию. По выражению Стагирита, природа не поступает подобно кузнецу, который “изготовляет ради дешевизны вертел-подсвечник”. Скорее всего, это изделие не годится ни на роль вертела, ни на роль подсвечника. Также Аристотель предполагает, что наиболее сложно устроенные животные должны иметь самые специализированные части.
Такие вспомогательные принципы – неотъемлемая часть аристотелевского объяснения разнообразия. То обстоятельство, что природа ничего не делает напрасно, объясняет и то, почему у рыб нет век, легких и ног, и то, почему у животных с внушительными клыками нет бивней, и то, почему лишь животные с коренными зубами пережевывают пищу, двигая челюстью, а также почему зубы долговечны и зачем они вообще. А то, что природа отдает одним частям то, что “отнимает” у других, объясняет, например, почему у акул нет костей, у медведей – длинного хвоста, а у птиц – мочевого пузыря, почему у птиц либо когти, либо шпоры, но не то и другое сразу, а также почему у удильщика столь странный облик. Кроме того, это объясняет большую долю различий жизненного цикла, а также неизбежность смерти.
Перечисленные вспомогательные принципы представляют собой модель экономического уклада организма. У хозяина дома есть определенный доход, за счет которого он должен покупать пищу, обустраивать жилище, одевать себя и подопечных. Так и в организм животного поступают питательные вещества, из которых необходимо строить части тела и выполнять функции. Некоторые органы и функции жизненно важны. Другие полезны, но не необходимы. Жизненно важные органы и размножение имеют приоритет при распределении пищевых ресурсов, “необязательные” органы сделаны из излишков. В целом животные существуют в условиях жесткого ограничения ресурсов, и каждый орган дорого обходится. Отсюда следует, во-первых, что плата за создание конкретного органа, как правило, такова, что не позволяет сделать некий другой орган. Во-вторых, животным следует как можно эффективнее использовать питательные вещества и, таким образом, стараться не создавать функционально избыточных органов. Ограничений “бюджета” приходится придерживаться всем, однако у более крупных животных на единицу массы образуется больше излишков, поэтому они могут выделить больше питательных веществ на “строительство” необязательных органов. Наконец, хотя многофункциональные органы дешевы и многие животные “выбирают” их, специализация органов демонстрирует, что (если это возможно) стоит отводить орган под идеальное выполнение одной-единственной задачи.
Аристотель не демонстрирует эту модель в явном виде. Применительно к питанию он не говорит о “доходах”, “производительности” и “бюджете”. Речь идет о модели его модели: такой, которая придает смысл большей части аристотелевской вспомогательной телеологии. Экономика со времен Дарвина тесно переплетена с современной эволюционной биологией. Дарвин жил в эпоху свободной конкуренции, был рантье и впитал идеи Адама Смита и Томаса Мальтуса. Думаю, если Аристотель узнал бы о Смите и Мальтусе, он, подобно Дарвину, понял и принял бы их простые, но глубокие мысли, а заодно и взял на вооружение.
Глава 9 Душа каракатицы
52
Рыбаки в заливе Каллони пользуются маленькими лодками с острой кормой и носом, называемыми trehantiri. Они выкрашены в синий цвет и украшены желтыми и зелеными полосами. Когда мы добрались до порта, большая часть флотилии еще стояла на якоре. Пеликан на причале бесшумно зевнул и нахохлился. Лагуна на рассвете была тиха.
Мы собирались за каракатицей. Весной она мигрирует в мелководные заливы Эгейского моря, чтобы спариться, произвести потомство и погибнуть. Оппиан в “Галиевтике” (сочиненной в городе чуть выше по малоазиатскому побережью) рассказывает, что именно тогда каракатицу можно поймать сделанными из тростника коническими ловушками. Так ее ловят до сих пор, правда, ловушки сооружают из пластмассовой сетки. Первые извлеченные ловушки оказались пусты, и мы некоторое время думали, что их кто-то уже проверил (каждый рыбак в Каллони – сам за себя и не брезгает чужим уловом), но потом на палубу стек маленький смышленый осьминог. Он направился прямиком к портику, однако был схвачен, оглушен и отправлен в ведро. Затем показались кефаль с обглоданной головой (“Смотри, это сделала soupia”) и каракатицы – несколько килограммов: как раз столько, чтобы покрыть расходы на топливо.
“В соляных копях Зальцбурга, – писал Стендаль, – в заброшенные глубины этих копей кидают ветку дерева, оголившуюся за зиму; два или три месяца спустя ее извлекают оттуда, покрытую блестящими кристаллами; даже самые маленькие веточки, не больше лапки синицы, украшены бесчисленным множеством подвижных и ослепительных алмазов; прежнюю ветку невозможно узнать”. (Оттуда метафора: “Дайте поработать уму влюбленного в течение двадцати четырех часов, и вот что вы увидите”[80].) Если весной в воду Каллони опустить ветку, за сутки она покроется “ягодами”, напоминающими мелкий греческий виноград. Это яйца каракатиц. “Сепия кладет яйца на водоросли, тростники и тому подобные предметы, выброшенные морем, как, например: деревья, ветви или камни. Рыбаки нарочно подкладывают ветки, и на них сепия откладывает длинную и связную как бы кисть яиц”, – говорил Аристотель. Рыбаки из Каллони до сих пор так делают. Вообще же каракатицы откладывают яйца на любой прочный предмет: наши ловушки были сплошь покрыты ими. Там, под водой, должно быть, оргия головоногих.
Яйца каракатицы эластичны, расположены поодиночке и (если они отложены недавно) окрашены чернилами матери. По мере взросления оболочка яйца становится прозрачнее. Я сорвал с сети “ягоду”, поднял ее к солнцу и разглядел шевелящийся контур каракатицы, белый с розовыми глазами, плавающий в золотистой перивителлиновой жидкости. Аристотель, должно быть, делал так же:
Сначала, когда самка только отнерестилась, развитие протекает внутри похожего на градину яйца. Потом из “градины” вырастает молодая каракатица, прикрепленная к яйцу головой, как птицы прикреплены к яйцу брюхом. До сих пор не удалось наблюдать ничего, говорящего о точной природе этого прикрепления, похожего на пуповинное: только то, что по мере роста каракатицы белая часть яйца становится все меньше и, наконец, исчезает, как исчезает и желток в птичьем яйце. Глаза каракатицы, как и глаза других животных, появляются очень большими, чтобы было с чего начать развитие. На диаграмме А представляет собой яйцо, В и Г – глаза, а Δ – саму молодую каракатицу. Беременеют каракатицы весной, откладывают яйца примерно через пятнадцать дней. Когда яйца отложены, еще через пятнадцать дней из них развивается нечто похожее на гроздь винограда: когда “виноградины” лопаются, из них выходят молодые каракатицы.
“Гроздь” яиц каракатицы
Пока мы лежали в дрейфе, мимо проплыла парочка спаривающихся каракатиц. Аристотель указывал: “Мягкотелые, как-то: осьминоги, сепии и кальмары сближаются друг с другом одинаковым образом – они соединяются ртами, сплетая щупальца со щупальцами”. Однако он не упоминал, что оба партнера не обязательно должны быть при этом живы. Со страстью некрофила самец тащил мимо очень бледную и явно неживую самку. Самки после откладывания икры погибают, а самцы вцепляются во что угодно, снабженное щупальцами, независимо от того, шевелится оно или нет. Вывалившись из сети, каракатицы краснели, брызгали чернилами и шипели, как очень злые котята. Мы повернули назад. Крачки вились над следом на воде.
Зародыш каракатицы. По “Истории животных” (кн. V)
53
Что такое жизнь? Эрвин Шредингер ответил так: жизнь – это система, работающая на отрицательной энтропии. Герберт Спенсер определял жизнь как “определенную, связную разнородность, в которой сохраненное движение претерпевает параллельные
изменения”. Жак Леб думал, что живые организмы – это химические машины “из коллоидного материала, отличительной особенностью которого выступает способность к самостоятельному развитию, сохранению и самовоспроизведению”. Герман Меллер считал, что любая сущность, обладающая способностью к размножению, изменчивости и передаче наследственной информации, является живой. Какой учебник по биологии вы ни открыли бы, критерием живого предстает довольно произвольный список свойств: обмен веществ, питание, размножение и т. д. Большинство биологов избегает ответа на вопрос, что такое жизнь.
Аристотель самостоятельно поставил тот же вопрос, что и Шредингер, – и ответил на него. Начал он с того, что привел обычный перечень признаков: “Способность питать себя, расти и разлагаться”. Однако Аристотель стремился к гораздо более абстрактному описанию того, что отличает живое от неживого. Его обдуманный ответ таков: лишь у живых существ есть душа.
54
Традиционное для греков представление о душе находим у Гомера. Патрокл погибает под Троей, и душа, “члены покинув его”, устремляется в царство Аида. Возможно, поэтому греческое слово “бабочка”, psychē, имеет еще одно значение: “душа”. Душа после смерти оставляет тело, как бабочка выбирается из куколки.
Платон в “Федоне” развивает эти взгляды. У него душа уже не являлась лишь тем, что теряется после смерти, она определяла и управляла всеми нуждами и стремлениями тел живых. Теперь же умирал Сократ, его душа покидала тело, в которое ранее была заключена, и отправлялась в Аид. Однако в то время как душу Патрокла ожидало прозябание в загробном мире, душу Сократа могла ожидать перспектива постоянного перерождения – по крайней мере, Платон это оптимистично предполагал. В “Государстве” душа выглядит еще сложнее: она стала вместилищем добродетели. Платон пишет, что зло уродует душу так же, как тело морского божества Главка (вероятно, списанного с одного из видов краба-паука) отягощают наросты: “Трудно разглядеть его древнюю природу, потому что прежние части его тела либо переломаны, либо стерлись, либо изуродованы волнами, а вдобавок еще он оброс раковинами, водорослями и камешками, так что гораздо больше походит на чудовище, чем на то, чем он был по своей природе”.
В ранних работах Аристотеля читаем примерно о том же. Когда на Сицилии погиб его друг Евдем, Аристотель посвятил ему сочинение, в котором изобразил возвращение души домой. А в “Протрептике” Аристотель сравнивает отношения души и тела с обычаем этрусков связывать пленников лицом к лицу с трупами (причем душа в зловещем па-де-де была живым партнером). Один ученый сказал об этом фрагменте: “Мы определенно имеем дело с болезненным умом, хотя и сильным и живым”.
Позднее Аристотель сочинил целую книгу “О душе”. Лишенная платоновского морализма, она написана решительно научным тоном:
Признавая познание делом прекрасным и достойным, но ставя одно знание выше другого либо по степени совершенства, либо потому, что оно знание о более возвышенном и удивительном, было бы правильно по той и другой причине отвести исследованию о душе одно из первых мест. Думается, что познание души много способствует познанию всякой истины, особенно же познанию природы. Ведь душа есть как бы начало живых существ[81].
Очень странный, даже подозрительный, вывод. У слова “душа” множество значений, и ни одно не имеет отношения к современной науке. Возможно, это слово вообще не следует переводить, но и транслитерация не особенно помогает. Английское слово psyche означает психическое состояние, сознание. Само собой, Аристотель касается темы психических состояний, но относит их к сфере физиологии: до картезианства еще далеко. Конечно, “О душе” – не трактат по психологии, а рассуждение о структурах оперативного управления, которые позволяют живым существам делать то, что они делают.
Аристотель, особенно не сомневаясь, утверждает: во-первых, все живые существа – растения, животные, люди – имеют душу, а во-вторых, когда умирает живое существо, его душа перестает существовать. Возможно, эти положения были распространены среди греческих интеллектуалов IV в. до н. э. Платон явно был солидарен с первым, но второе, скорее всего, оспаривал бы. Но что, собственно, есть душа? Аристотель начал с изучения взглядов предшественников.
Все согласны с тем, писал Аристотель, что души так или иначе связаны с движением: с возможностью живых существ дышать, расти, ползать, плавать, ходить и летать. Хорошее определение души должно объяснить, почему. Аристотель рассматривает популярную идею, что душа материальна. Обычными кандидатами в составные части души были начала – вода, воздух, огонь, – и только земля среди них отсутствовала. Аристотель отвергает все эти варианты, вполне разумно считая, что ни одно начало не может само по себе заставить животных двигаться. Он рассматривает ту идею Демокрита, что движение обусловлено постоянным перемещением шаровидных атомов, составляющих душу конкретного существа. Это, как говорил Аристотель, не более осмысленно, чем план Дедала по оживлению деревянной статуи Афродиты путем вливания в нее ртути. Начала – это не сама жизнь, а ее субстрат, то, чем она оперирует.
Аристотель рассматривал и более экстравагантные объяснения. Одно, предложенное неким пифагорейцем-отступником, предполагало, что душа – на самом деле гармония. Аристотель интерпретировал это как определенное соотношение начал. Эта идея также кажется ему чрезмерно упрощенной, но он все же признает за ней некоторую ценность. Она имела точки соприкосновения с его собственной теорией в том смысле, что опиралась не на описание свойств материи как таковой, а скорее на то, как материя упорядочена. Ведь Аристотель, дойдя до изложения собственной теории, утверждает, что душа живого существа – это его форма, eidos, в его собственном теле.
Когда Аристотель говорил о “форме” или “формальной природе”, он чаще всего имел в виду информацию, которая требуется, чтобы из материи воссоздать существо определенного типа. Эта интерпретация основана не только на аналогиях (оттиск в воске, буквы и слоги), но и на том факте, что форма продолжает существовать и тогда, когда она невидима. Формы каким-то образом присутствуют в семени животных, они отвечают за развитие эмбрионов, а также за облик взрослых особей и работу их организма. Душа животного – в его форме, но лишь в определенных обстоятельствах:
Итак, если нужно обозначить то, что обще всякой душе, то это следующее: душа есть первая энтелехия естественного тела, обладающего органами.
Ключевое слово здесь – энтелехия (entelekheia): “осуществленность”, “актуальность”. Это термин самого Аристотеля – характерная черта его учения о душе. Он часто противопоставляет его “потенциальности”, “возможности” (dynamis). Это противопоставление уходит корнями в физику Аристотеля. Всякое изменение, по Аристотелю, – это актуализация потенциального. Таким образом, если Аристотель называет душу осуществленностью, он подчеркивает тот факт, что это существовало лишь потенциально, что энтелехия возникла из чего-либо еще. Если совместить это с утверждением, что душа живого существа – это “форма в его теле”, становится понятно: “формы” неоплодотворенного семени – это нереализованный потенциал, и эти формы, реализующие себя через рост и развитие эмбриона во взрослый организм, становятся душой.
Объяснение все еще раздражающе абстрактно. Но Аристотель довольно много рассуждает о свойствах душ, а это, в свою очередь, демонстрирует, на что он намекал. Некоторые свойства применимы к тому, что делают души всех существ, другие – более специфичны и относятся только к людям. Четыре особенно показательны. Во-первых, по Аристотелю, душа не состоит из материи. Это не только проистекает из его несогласия с материализмом Демокрита, но и следует из его определения души как “формы в теле”. Во-вторых, душа ассоциируется с наличием органов, из чего следует, что душа является функциональным свойством живых существ. В-третьих, душа ответственна за все изменения в живом существе. Аристотель имел в виду, что она управляет процессами в теле: ростом, гомеостазом, старением, передвижением в пространстве, ощущениями, эмоциями, даже мышлением. И наконец, душа отвечает за цели существа, в конечном счете – за выживание и размножение.
Использование Аристотелем слова “энтелехия” для описания души говорит о том, как это было важно для него: это слово частично происходит от telos – завершение, конечная цель. Концепция энтелехии пронизывает всю его метафизическую систему. Душа, говорит он, – это “усия”, “сущность, выраженная в определении (logos)”. Аристотель имеет в виду, что душа живого существа – это, по сути, сумма его функциональных признаков и свойств. Если бы глаз был отдельным организмом, его душой было бы зрение. Философа настолько захватывала та идея, что функциональные признаки существ или органов, а не то, из чего эти существа сделаны, определяют суть этих объектов, что он даже говорил: если глаз не может видеть, то, скорее всего, это и не глаз вовсе. Этот глаз только называют так, а на самом деле он является глазом в той же степени, что и глаза, которые моряки рисовали на носу корабля[82]. Аристотель настаивал: труп человеком уже не является, так как у него нет души. С этой точки зрения самец каракатицы, совокупляясь с трупом самки, не просто теряет зря время, но и совершает серьезную философскую ошибку.
55
Таким образом, души несут тяжкое бремя. Они охватывают не менее трех из четырех причин Аристотеля (формальную, действующую и целевую), оставляя для той субстанции, из которой все сложено, лишь материальную причину. Однако, несмотря на всю свою важность, души оставались тайной. В конце концов, что может управлять материальным наполнением живого существа, содержать его причины и оставаться при этом нематериальным?
Столкнувшись с такими взыскательными требованиями, исследователи часто заключали, что когда Аристотель говорит о душе, он ссылается на некую духовную силу. Спиритуалистические интерпретации могут быть различными и брать свое начало в философии сознания или в биологии. Но результат один: напускание тумана.
В версии философии сознания Аристотель являлся приверженцем картезианского дуализма разума и тела, который верил в независимость психических состояний от материи. По мнению Гилберта Райла, Аристотель, говоря о душе, ссылался на “дух в машине”. Среди суждений Аристотеля об “активном” интеллекте можно найти фрагменты, склоняющие читателя к такой интерпретации, однако они же служат источником отчаяния для исследователей: они очень противоречивы и плохо согласуются со всем, что Аристотель писал об отношениях души и психики.
Во-первых, Аристотель отрицает то, что души являются действующими силами. Это становится особенно ясно, когда он пишет об эмоциях. Аристотель указывал, что эмоция, которую мы можем приписать душе (радость, отчаяние), наглядно выражается в физиологическом ответе организма (смех, слезы). Затем он развивает мысль и настаивает на том, что наша склонность видеть в этих физиологических реакциях следствие состояния души неверно – эти проявления и есть душа:
Сказать, что душа гневается, – это то же, что сказать – душа ткет или строит дом. Ведь лучше, пожалуй, не говорить, что душа сочувствует, или учится, или размышляет, а говорить, что человек делает это душою, сочувствует, учится или размышляет…
Размышление, любовь или отвращение – это состояния не ума, а того существа, которое им обладает, поскольку оно им обладает. Вот почему, когда это существо повреждается, оно и не помнит и не любит: ведь память и любовь относились не к уму, а к связи [души и тела], которая исчезла.
Аристотель пытается искоренить гомункула: он атакует мнение, что где-то внутри нас обитает маленький бестелесный человечек – наше Я, – который думает наши мысли, ненавидит нашей ненавистью, любит нашей любовью и каким-то образом управляет нашими телесными функциями. У Аристотеля не было декартовской проблемы объяснения того, как именно нематериальная душа движет телом.
Говоря о биологической спиритуалистической интерпретации, Аристотель выступает как виталист. Быть виталистом – значит считать, что в живых существах присутствует некое свойство, которое нельзя найти или выделить в неодушевленных предметах. Это значит отрицать, что живые существа – очень сложные машины. Это значит верить в автономию жизни. В XVIII–XIX вв. бушевала битва (особенно сильно – в Германии) между двумя лагерями биологов и философов – тех, кто думал об организмах как о машинах, и тех, кто был с ними не согласен. Последние были под непреложным впечатлением от того, что в свое время занимало Аристотеля: следование живых существ определенной цели. Телеология была поводом заполнить вакуум внушительными (и пустыми) фразами вроде nisus formatus, Bildungsreib, Lebenskraft, vis vitalis, vis essentialis и т. д. Последним уважаемым ученым, который гордо нес знамя витализма, был Ганс Дриш (1867–1941). В юности великолепный экспериментатор, он стал одним из отцов Entwicklungsmechanik – экспериментальной эмбриологии. В зрелом же возрасте он сделался убежденным виталистом, настаивая, что никакая машина даже в принципе не смогла бы создать живое существо. “Однако это может означать, что живая машина просто гораздо сложнее, чем Дриш может себе представить”, – саркастически заметил Эдвард Конклин в 1914 г. Сейчас Дриша помнят, если вообще помнят, как пример того, насколько опасно оставлять лабораторию ради воздушных замков философии. В неудачной попытке преклонения перед Аристотелем Дриш называл жизненную силу энтелехией.
Сторонники дуализма разума и тела, наверное, еще встречаются в закоулках факультетов философии, но биологи-виталисты определенно вымерли. Целенаправленность объяснена естественным отбором (который говорит нам, почему организмы имеют цели и какие это цели), биохимией (которая говорит нам, как именно живые существа достигают своих целей), а также генетикой (которая разъясняет, где именно эти цели хранятся и как дети наследуют их). Целевая, действующая и формальная причины Аристотеля (все, что он причислял к функциям души) поглощены ветвями пышно разросшегося древа биологии. Не поддался ли кантовскому отчаянию Аристотель, не знавший о бесшовной иерархии объяснения, как в современной биологии, и не заткнул ли он понятием “душа” логическую брешь между неживой материей и живыми существами? Если так, то он виталист. Или он называл “душой” процессы развития и функционирования живых существ; процессы, которые, как он считал, можно было объяснить с точки зрения науки того времени? Если так, то он материалист – хотя и своеобразный.
Иногда говорят, что современные биологи – материалисты, поскольку их объяснения “грубых” свойств материи так или иначе касаются химии и физики. Однако уже не осталось биологов, наивно следующих материализму Демокрита: все они согласны с тем, что уникальные свойства живого определяются организацией материи. Одних лишь начал для образования живого недостаточно. Нужен некий упорядочивающий принцип: информация. Если уж вводить новый термин, то мы на самом деле “просвещенные материалисты”.
Эта точка зрения совпадала с мнением Аристотеля. Именно поэтому он определяет psychē как актуализацию eidos. И это лишь начало. Душа позднее появляется в книге по биологии развития и наследственности “О возникновении животных”, в книге “О движении животных”, в труде по функциональной анатомии “О частях животных” и, главное, в трудах, посвященных физиологии: “О долгой и краткой жизни”, “О юности и старости, о жизни и смерти и о дыхании”. В общем, идея души пронизывает биологию Аристотеля. Если разобрать его суждения о внутреннем мире, то становится ясно: Аристотель детально рассмотрел множество иерархических уровней биологической организации живого, то, как животные выделяют материю из окружающей среды, трансформируют ее, распределяют преобразованную материю по телу, используют ее для роста, самоподдержания (гомеостаза) и воспроизводства, как они вопринимают мир и отзываются на него, – и пришел к выводу, что форма, структура и организация всего этого и есть душа.
В результате получаем концепцию, которая нам и чужда и поразительно знакома. Она кажется чуждой, когда мы понимаем, что обсуждали душу – это слово в религии и философии чаще всего используется для обозначения сущностей, которые касаются физического мира лишь косвенно, если вообще касаются. Однако она поразительно знакома и понятна, если забыть слово “душа” и уделить внимание сути того, в чем пытался разобраться Аристотель: движущего принципа жизни.
56
Аристотель разделяет душу на функциональные части. Все живые существа имеют растительную душу, отвечающую за питание (trophē) и все, что с ним связано, а чувствующей душой, которая контролирует ощущения, аппетит и передвижение, обладают лишь животные и человек (Стагирит думал, что растения не способны ни ощущать окружающую среду, ни реагировать на нее). Наконец, у людей есть и размышляющая душа. Эти три вида души – “подсистемы”, компоненты целого.
Первой в ходе развития животного появляется растительная душа. Ее возможности очень широки: она распоряжается получением, превращениями и распределением питательных веществ и, таким образом, отвечает за рост и поддержание организма, она разрушает его старением и увековечивает его форму путем размножения. Она скрепляет тело и не дает ему рассыпаться. Если говорить более кратко, когда Аристотель говорит о растительной душе существа, он рассуждает о структуре метаболизма и контроле над ним.
Термин “метаболизм” происходит от греческого metabolē – буквально “превращение”. Это очень “аристотелевское” слово. Метаболизм – система процессов, с помощью которых организм получает материю из окружающей среды, преобразует ее в требуемые вещества и распределяет получившееся. Это открытая химическая система – что и имел в виду Шредингер, говоря, что организм питается отрицательной энтропией. Аристотель также рассматривал живые существа как термодинамически открытые системы:
Превращение и рост также происходят благодаря душе. Ведь ощущение есть, по-видимому, некоего рода превращение, а то, что не имеет души, не ощущает. Так же обстоит дело с ростом и упадком. Ведь не разрушается и не растет естественным образом то, что не питается, а не питается то, что не причастно жизни.
Аристотель часто сравнивал порождение животного с артефактами: топорами, статуями, ложами и домами. Но вместе с этим он говорил, что животное совсем не похоже на дом. Когда животное “собирает” себя, оно не просто лепит один кусок плоти к другому, как кирпичи, пока организм не станет завершенным. Динамика “живой” материи гораздо сложнее – пока она растет, надо еще и поддерживать целостность организма. В профессиональном языке биологов существует понятие обмена веществ, и рост происходит за счет поглощения материи в большем объеме, чем это необходимо для такого обмена. Эта идея в физиологии Аристотеля центральная, а кроме того, она служит начальной точкой для любой из современных теорий роста и развития.
Казалось бы, вера в способность живых созданий преобразовывать пищу в свои однородные части не похожа на ошеломляющее откровение, однако для Аристотеля она была чем-то новым. Он говорил, что предшественники высказали две точки зрения на то, как растут части тела животных. Некоторые предполагали, что живые существа производят больше x (костей, плоти или чего-либо еще), просто поедая x. Это можно назвать аддитивной моделью питания. Другие изощреннее: они считали, что для производства x требуется потреблять противоположность x. Эту теорию “антиматерии” тяжело понять, и описание ее Аристотелем ничуть не способствует ее пониманию: “вода есть пища для огня”, хотя она в себе и содержит – пускай в странной форме – идею преобразования. Аристотель соглашался с тем, что теория “антиматерии” несет в себе зерно истины. Более того, ему явно требовалась гораздо более общая теория изменений.
Если выразить эти теории в химической записи, сразу становится очевиден прогресс Аристотеля по сравнению с предшественниками. Если “аддитивную” теорию можно представить как х → x, а теорию “антиматерии” – как анти-x → x, то общая теория Аристотеля выглядит так: x → y. Или, по его словам, материя одного типа, x, “исчезает”, а другого, y, “появляется”. Но все сложнее: Аристотель утверждал, что части тела животных появляются после серии последовательных и параллельных преобразований: x → y → z и т. д. или x → y + x → z и т. д. Таким образом, он считал, что метаболические преобразования упорядочены в виде цепи или даже сети. Вокруг этой простой, но плодотворной идеи Аристотель построил свою систему.
Животные с кровью пережевывают пищу зубами, пищеварительная система измельчает ее, потом она попадает в брыжейку, печень и селезенку, где преобразуется в более подходящую для переваривания питательную массу и транспортируется дальше, через сосуды к сердцу, где преобразуется снова. Продукт последнего преобразования – кровь как ключевой промежуточный продукт, из которого образуются все однородные части животного. Кровь распределяется по телу через сосудистую систему и уже на местах становится плотью, костями, жиром, семенем и т. д. Аристотель также объясняет, как именно однородные части животного образуются друг из друга или как друг с другом соотносятся. Плоть, по его мнению, образуется в первую очередь из самой чистой питательной массы, оставляя прочее для производства других составляющих живого; все, что не используется, выделяется наружу. Аристотель нигде исчерпывающе не объясняет свою модель, но, изучив его тексты, можно составить схему, которая похожа на современную систему метаболических путей. Она иллюстрирует происхождение всех однородных частей, жидкостей и отходов, которые он описывал[83]. Она и является полным представлением Аристотеля о внутреннем хозяйстве тела.
57
Каждая теория, описывающая обмен веществ, содержит несколько характерных элементов: то, что материя течет через организмы, трансформируется в новые однородные части организма и распределяется между однородными частями по экономическим законам. Однако любая такая теория должна иметь химическую подоплеку. У Аристотеля есть собственное представление о химии, хотя и не слишком проработанное.
Все начинается с четырех начал. Пища и то, что из нее образуется – однородные части, – представляют собой комбинации начал. Здесь Аристотель упоминает Эмпедокла, который приводит формулы. Так, формула кости следующая: З2В2Во0О4, где З – земля, В – вода, Во – воздух и О – огонь. Аристотель, напротив, очень осторожно говорил о структуре однородных частей. Они состоят большей частью из земли и воды: твердые части животных (кости, ногти, копыта, рога и т. д.) содержат в значительной степени землю и немного воды, а мягкие части – жир, семя, менструальная жидкость – состоят из большого количества воды и совсем небольшого – земли. Мышцы же находятся между этими крайними точками. Аристотель предполагал, что такая классификация – шаг в сторону определения каждой однородной части. И это похоже на правду, так как строение части определяет ее функциональные особенности.
Это интуитивно понятно. Но стоит зайти чуть дальше, и возникают затруднения. Аристотель распекал Эмпедокла даже за ту шальную мысль, что однородные части – лишь нагромождения начал. Они ими не являются, возражал Аристотель, а представляют собой составные части, новые типы материи. Но как формируются новые типы? Современная химия для описания состава материи пользуется молекулярной теорией. Именно истинность этой теории позволяет ей быть столь полезной, так как допускает множество трансформаций – реакций – и бесчисленное множество типов молекул с различными физическими свойствами. Но Аристотель отверг атомизм Демокрита, и его сложные типы материи состоят из непрерывного вещества вплоть до мельчайших частей.
А как типы непрерывной материи могут производить новые типы вещества путем комбинирования? Аристотель не упоминает ни модель, ни метафору, которая помогла бы объяснить этот процесс. Я также не могу придумать объяснение. Аристотель утверждал, что когда начала образуют смесь (mixis), они превращаются в нечто совершенно новое, при этом сами начала продолжают свое существование, по крайней мере “потенциально”[84]. По сути, они и должны существовать: химия Аристотеля зависит от восстановления количества потраченных веществ путем трансформации. Корень проблемы ясен. Аристотель, отказавшись от атомизма, отказался и от любой теории, допускающей химическое превращение молекул. Он отказался от возможности представлять начала в виде “строительных блоков”, из которых может состоять новая материя и которые сохраняют свою идентичность и таким образом доступны для извлечения из вещества путем новой трансформации и повторного использования живыми существами.
Теплота превращает пищу в однородные части, но Аристотель затруднялся определить природу теплоты. Он признавал, что слова “горячо” и “холодно” можно использовать в разных смыслах, что определенно истина. Печально, что он использовал этот термин так непоследовательно. Аристотель считал, что у всех существ имеется внутренний источник “жизненного тепла” (но не у эмбрионов, получающих тепло от матери), и именно поэтому на ощупь они теплые. Этот особенный огонь, мало похожий на обыкновенный, нужно поддерживать питанием. “Огонь, – говорил он, – всегда появляется и течет как река” – и, как любой огонь, его следует кормить[85]. Внутренний огонь движет “варением”, процессом, близким к “жарке” или “кипячению”, в ходе которого внутреннее тепло и влага частично удаляются из пищевой смеси, оставляя в итоге то или иное количество вместе с нетронутым землистым веществом. Варение весьма грубый процесс, но Аристотель утверждал, что многократное и осторожное приложение тепла к сырой пище, крови и другим переработанным смесям может привести к образованию материи любых типов, из которой сложены живые существа.
Не забыл ли я, описывая метаболизм и его химическую модель по Аристотелю, упомянуть душу? Нет, не забыл: все это время я о ней и рассуждал. Метаболическая сеть и есть растительная душа или ее часть. Куда именно организм направляет питательные вещества, сколько и каких однородных частей он соорудит из пищи, когда и где, его рост, развитие, воспроизведение и смерть: все это зависит от организации обмена веществ и, как говорил Аристотель, от растительной души. Но это не все, что можно приписать растительной душе:
Некоторые полагают, что вообще в природе огня заключена причина питания и роста, ибо кажется, что из всех тел или элементов только один огонь есть нечто питающееся и растущее. Поэтому можно было бы предположить, что и у растений, и у животных огонь вызывает питание и рост. На самом же деле огонь есть некоторым образом сопутствующая причина, во всяком случае не непосредственная, скорее душа есть такая причина. Ибо возрастание огня идет до бесконечности, пока имеется горючее вещество, между тем для всех естественных образований есть предел и соотношение (logos) величины и роста. А это зависит от души, а не от огня, скорее от выраженной в определении сущности (logos), чем от материи.
Можно представить сидящего перед очагом Аристотеля (как Гераклит), то, как он глядел на огонь, вороша угли, и думал о яростном внутреннем пламени, которое поддерживает жизнь и позволяет мыслям свободно течь и охватывать весь мир. “Огонь всегда появляется и течет как река” – насколько же это верно! Но огонь не может бушевать вечно, иначе он поглотит себя. Если требуется поддерживать хрупкое пламя существования, то такой огонь нужно поддерживать, раздувать и по необходимости гасить – регулировать. И это тоже работа души.
58
Аристотель утверждал, что черепахи имеют панцири, шипят и совокупляются. У них большие легкие, маленькая селезенка, простой желудок и есть моче- вой пузырь. У самцов черепах семенники внутри, и семявыводящие протоки сходятся около полового члена.
Так что хотя бы одного самца черепахи Аристотель препарировал. По крайней мере одна черепаха попала под нож живьем, так как еще он упоминал, что если вырезать черепахе сердце и вернуть панцирь на место, она продолжает шевелить ногами. У Аристотеля не было животных-компаньонов: были лишь подопытные.
Он занимался вивисекцией с энтузиазмом, который уже не в моде. “После того, как его вскрыли разрезом, прошедшим вдоль всего тела, он продолжает дышать еще долгое время”. Насекомые также, по всей видимости, способны оставаться в живых удивительно долго после того, как их разрезали пополам. Все это довольно жестоко, но полученные данные были тщательно проанализированы, потому что когда Аристотель проводил вивисекцию, он делал это не просто так: он искал вместилище души.
Так где располагается душа? Ответ Аристотеля: везде и нигде. Все-таки душа живого существа – не физический объект, а сумма его функциональных признаков. Однако эта прописная истина не отменяет возможности, что некий орган особенно важен своей регуляторной функцией. У животных с кровью – позвоночных – таким органом, по мнению Аристотеля, является сердце.
Выбор может показаться странным: почему не мозг? На этот вопрос легко ответить: первичная обязанность души – питание, а мозг, очевидно, не способен его обеспечить. А чем же сердце способствует питанию? Всем, утверждал Аристотель. Питательные вещества переносятся с кровью, и сердечно-сосудистая система обязана участвовать в питании, но Аристотель отводил ей центральное место в своей физиологии питания. Он предполагал, что именно в сердце происходит “варение”, более того, он считал, что процесс “кипения” – это то, что постоянно приводит сердце в движение. Сердце для него – главная точка, в которой происходит “варение”, потому что там же горит “внутренний огонь”. Мы считаем сердце насосом, Аристотель же предполагал, что сердце – это химический реактор. Он называл сердце “акрополем тела” и говорил, что оно повелевает телом.
Khelōnē Аристотеля – европейская сухопутная черепаха (Testudo sp.)
Продольный разрез
Конечно, не у всех животных есть кровь. Но, по крайней мере, некоторые бескровные животные имеют что-то похожее на кровь и сердце. Именно поэтому Аристотель считает (и неверно) mytis аналогом сердца. Тем не менее, Аристотель не распространяет (и верно) свою кардиоцентрическую модель на души всех животных. Увидев, что некоторые насекомые, будучи “рассеченными на части”, продолжают двигаться, он заключил, что “в каждой рассеченной части имеются все части души”. Все части души? Это выглядит преувеличением, хотя, например, способность самца богомола продолжать спаривание даже после того, как самка отгрызла ему голову, может навести на иные мысли. Аристотель, возможно, думал о многоножках и кивсяках, так как наличием нескольких “растительных” частей они напоминают смешение многих существ. Вивисекция привела Аристотеля к выводу, что в ряду растений, насекомых, рептилий и млекопитающих централизованность души возрастает. Он считал, что централизованные души “лучше” распределенных. Именно в рамках этого исследования Аристотель подверг вивисекции черепаху. Я не повторял его опыт, однако некий склонный к эмпирическому наблюдению философ это сделал. Он утверждал, что воспроизвел результат Аристотеля, хотя и не следовал его протоколу: перед извлечением у черепахи сердца он из сострадания ее обезглавил.
59
Когда Эсхил гостил на Сицилии, орел принял его лысую голову за камень и сбросил черепаху, убив драматурга на месте. Скорее всего, черепаха тоже не пережила контакт с головой Эсхила, поскольку единственным достоверным обстоятельством является то, что орлы действительно могут поднять черепаху в воздух и уронить, чтобы расколоть панцирь. Ни драматург, ни черепаха здесь, в общем, не имеют значения. Первый невольно выступил наковальней, вторая – будущей пищей. Интересно другое: как орел догадался сделать то, что сделал.
Нейрофизиолог, набрасывая контуры работающих в этой ситуации механизмов, описал бы причинно-следственную цепочку, которая начиналась бы с цели (гомеостаз), для достижения которой требуется “пищевая мотивация” (голод), восприятие (лысины Эсхила и черепахи), некоторый расчет (когда и где достать черепаху, куда ее отнести и как бросить) и воспроизведение программы движений, чтобы воплотить эти вычисления в жизнь. Он сказал бы, что физиология некоторых из этих процессов ясна, других – непонятна, и в целом неизвестно, как все это вместе работает. Он напомнил бы, что мы до сих пор бьемся над достоверной математической моделью извивающегося в чашке Петри червя, а до моделирования охотящегося орла очень далеко.
Аристотель также пытался механистически подойти к проблеме описания движений животных. Он рисовал схемы работы органов чувств – как они передают информацию, как информация увязывается с задачами животного и как трансформируется в механическое движение конечностей. Два философа даже дали этой системе очень наукообразное название: централизованные входящие и исходящие движения (Centralized Incoming Outgoing Motions, CIOM)[86]. Сам Аристотель называет это чувствующей душой. Как ее ни назови, ее физиологическая подоплека неверна, зато структура легка для понимания.
Очевидно, что для восприятия необходима передача информации об окружающем мире из мира вовнутрь животного. Как говорил Аристотель, восприятие – это перенос формы без переноса материи. Этот процесс начинается со зрения, обоняния, вкуса, слуха, осязания и соответствующих органов. Аристотель предполагал, что при восприятии происходят количественные изменения в органах чувств. Это предполагает, что ощущаемый объект должен соприкасаться с ощущающим его органом.
Понять, как работают зависимые от контакта изменения при осязании, вкусе, слухе и, возможно, обонянии достаточно просто. Со зрением все сложнее. Платон и Эмпедокл полагали, что в глазах находится огонь и лучи света от огня движутся на объект в поле зрения. Аристотель на это язвительно замечал, что если так, то мы видели бы и в темноте. Хотелось бы думать, что аристотелевский вариант теории зрения – это просто перевернутый эмпедокловский: лучи света исходят из какого-то источника и попадают в глаза, где под воздействием этих лучей происходят какие-то изменения. Но это теория Ньютона, а не Аристотеля.
Аристотель предполагал, что некоторые среды – вода или воздух – могут становиться то прозрачными, то непрозрачными. Когда такая среда подвергается воздействию огня или солнца, она делается прозрачной. Свет, таким образом, является не лучами, волнами или частицами, а неким качеством, актуализацией потенциального. Когда мы смотрим на предмет сквозь прозрачную среду, его форма и цвета запускают определенное движение в этой среде, и именно они достигают наших глазных яблок, где и вызывают изменения.
Каждый орган чувств воспринимает определенный тип изменений в окружающем мире. Эта специфичность определена соотношением начал в его однородных частях. Чтобы ощутить цвет и форму, глазным яблокам необходимо быть прозрачными, и поэтому они из воды, а чтобы ощутить прикосновение, плоть должна быть из чего-нибудь твердого, и поэтому она из землистого материала. Представление Аристотеля о том, что происходит в глазном яблоке, когда мы видим некий предмет, достаточно туманно. Возможно, он считал, что глаз подвергается физической трансформации. Он определенно предполагал, что контакт с органами чувств запускает цепь физических изменений, последствия которых достигают тела.
Конечная точка этой цепи – центральное чувствилище, месторасположение самого восприятия. Следуя традиции, Платон считал, что таким местом является мозг, и в этом случае оказался прав. Аристотель же предполагал, что чувствилище находится в сердце. Его главный аргумент следующий: должен существовать один определяющий принцип всех функций души. Чтобы теория работала, Аристотелю, естественно, была нужна физическая связь между сердцем и периферическими органами чувств. Можно было бы предположить, что за этой связью он обратится к нервам, но они были ему неизвестны (он использовал термин nervus, но при этом имел в виду сухожилия; лишь в следующем веке Герофил идентифицировал нервы). Таким образом, Аристотель возложил бремя передачи сенсорной информации на сеть кровеносных сосудов, а также на различные “каналы”. Большая часть “каналов” не совпадает ни с одной структурой, известной современной анатомии, но одним из них, если использовать современное название, вероятно, выступает зрительный нерв. Утверждения Аристотеля основаны на том факте, что если этот нерв разрушен ударом в голову, за этим всегда следует слепота, будто затушили лампаду. Не совсем понятно, что именно он считал носителем информации – кровь, сосуды (“каналы”) или что-либо еще. В любом случае необходимо непрерывное физическое соединение между периферическими органами чувств и центральным чувствилищем.
Местом осуществления наиболее важных функций чувствующей души является сердце. Здесь сырые ощущения преобразуются в мысленные представления, а те с добавлением желаний становятся действиями. Аристотель считал, что функцией чувствующей души является поддержание благополучия животного, чтобы быть уверенным, среди прочего, что хозяин души накормлен сам и не стал обедом для кого-либо другого. Таким образом, животные ощущают мир в координатах удовольствия и боли, так как этого требует задача самосохранения. Орел ощущает черепаху как объект наслаждения, а черепаха орла – как объект, причиняющий боль. Причем ощущение может быть (в зависимости от внутреннего состояния животного) и приятным, и болезненным: если орел объелся мясом черепах, он может погнушаться еще одной.
Психическое представление какого-либо объекта Аристотель называет воображением (phantasia). Он приводит пример: ““Я хочу пить”, – говорит мне желание. “Это питье”, – сообщают мне чувственное восприятие, воображение, или ум, и я тут же пью”[87]. Аристотель не механистически объясняет воображение и другие формы высшей нервной деятельности, однако признает затруднение. После объяснения природы обоняния он выдвигает предположение: “А не вернее ли, что не всякое тело способно испытывать что-то от запаха или звука, а то, что испытывает воздействие, есть нечто неопределенное и неустойчивое, например воздух: ведь воздух, становясь пахучим, как бы испытывает какое-то воздействие. Что же другое значит обонять, как не испытывать что-то? Но обонять – значит ощущать, а воздух, испытывая воздействие, тотчас же становится ощущаемым”[88]. Да, правда.
Возможно, воображение и желание – вещи таинственные. Но Аристотель, объясняя, как они влияют на поведение, обращается к физиологии. Воображению и желанию сопутствуют нагревание и охлаждение сердца. Изменение температуры инициирует движение, которое передается конечностям:
Движение [живого существа] можно уподобить движению механических игрушек (ta automata), которое обусловлено маленькими перемещениями предварительно освобожденных и соударяющихся нитей… Органы живых существ также содержат в себе подобные элементы, например, сухожилия и кости: последние можно уподобить деревянным колышкам и гвоздикам, а первые подобны нитям; их расслабление и освобождение обеспечивает движение. Правда, движение игрушек и детских повозок неизменно… У животного же одна и та же часть обладает способностью становиться то больше, то меньше, нужным образом трансформируясь (ta simata metaballein); так как части его тела попеременно то расширяются от тепла, то сжимаются от холода.
Аристотель отмечает, что движения кукол-марионеток не совсем похожи на движения животных, так как последние предполагают качественные изменения, такие как расширение или сжатие, вроде тех, что происходят в сердце. Это привело его еще к одной анатомической задаче. Аристотелю требовалось перевести качественные изменения сердца в механические и распространить эти механические импульсы на конечности, причем сделать это не только без нервов, но и без мышц.
Не то чтобы греки не знали о мышцах. Изваяния атлетов, богов и героев демонстрировали мускулы во всей красе. У Гиппократа, однако, мы находим myes – “мышей” – и довольно расплывчатые объяснения, какую функцию выполняют мышцы. Аристотель вообще избегал этого термина и говорил о sarx – “плоти”, – которая, как он предполагал, в значительной мере имела сенсорную функцию. В его понимании эффекторами движения были сухожилия и некая symphyton pneuma.
В разных местах названная “врожденным духом”, “горячим дыханием”, “духом” или ΣΡ, пневма является одним из самых загадочных и при этом важнейших веществ в химии Аристотеля. Это нечто вроде горячего воздуха. Но теплота пневмы – особенная, она не похожа на тепло обычного огня. Эта субстанция подобна божественному первоначалу эфиру (aithēr), из которого сделаны звезды. Проще говоря, она придает веществам природного происхождения их особые свойства: оливковое масло имеет блестящую поверхность, плавает на поверхности воды и не замерзает благодаря высокому содержанию пневмы.
Пневма также служит инструментом души. Нагретая или охлажденная сердцем, она расширяется или сжимается и так перемещает ближайшие к сердцу жилы. Эти механические движения, в свою очередь, распространяются по всем остальным частям тела. Как именно они это делают, Аристотелю не ясно, так как он знает, что система сухожилий прерывиста, в отличие от костей и кровеносных сосудов. Это еще одна проблема соединения, сходная с передачей информации от органов чувств к сердцу. Несмотря на эти проблемы, система работает – он видел, что малые изменения в движениях сердца могут быть усилены, чтобы заставить двигаться все животное целиком. Это и было для Аристотеля мотивацией, чтобы склониться к причинности automaton. Приводя другой пример, он также сравнивает то, как животные движутся, с тем, как слабый поворот руля приводит к заметному изменению курса корабля.
Геркулес Фарнезский. Копия статуи Лисиппа, 330 г. до н. э.
В конце трактата “О движениях животных” Аристотель сводит анализ движения животных к простой геометрической схеме:
Ведь конечности приводятся в движение из начала (archē) одновременно так, что одна неподвижна, а другая движется… Следовательно, потенциальное единое А актуально становится двумя, не точкой, но уже по необходимости некой величиной. Г может быть приведено в движение одновременно с В, а значит, оба начала в А должны двигать, сами двигаясь[89].
Это достаточно многословный способ объяснить, что движения запускаются и осуществляются периферическими органами (B и Г), но любое движение всегда происходит при участии А (истока, сердца, вместилища души). Это суть модели CIOM. Все, что мы прежде делали – добавляли детали[90]. Аристотель допускал, что животные могут совершать действия без phantasma (непроизвольные движения, например, биение сердца), что существуют phantasmata (образы), которые запускают действия без какого-либо ощущения (сны, галлюцинации), и что человек имеет целый отдельный уровень сознания, nous – ум, который управляет его действиями. Наш орел, однако – гораздо более простое существо. Паря над холмами Сицилии, он замечает блеск лысины Эсхила, строит ее образ (ошибочный) и, сообразно “волчьему” аппетиту, запускает пневму, ослабляет суставы и жилы, разжимает когти и отпускает черепаху, спускается, чтобы подобрать ее, и удовлетворяет свои потребности.
60
Аристотель, говоря, что сердце имеет “высшую власть” над телом, не просто имел в виду, что оно помещается в центре сети обмена веществ и органов чувств. Он имел в виду в буквальном смысле власть. Он сравнивал строение животного с хорошо управляемым полисом. Душа – центральное организующее звено – запускает все процессы, а остальное происходит само собой.
Это очевидно относительно функций чувствующей души, но справедливо и для души растительной. Жизнь казалась Аристотелю явлением крайне хрупким. Его тревожила возможность того, что внутренний огонь сердца станет бушевать бесконтрольно, поглотит все топливо и вызовет кризис обмена веществ. Таким образом, он считал, что у каждого животного должны быть различные устройства для контроля над состоянием огня. Самые важные из этих механизмов используют воздух.
Огонь, говорил Аристотель, можно контролировать, изменяя поток воздуха вокруг себя. Именно так воздух из легких регулирует огонь в сердце. Вот как это происходит: 1) легкие расширяются и, как кузнечные меха, всасывают прохладный воздух; 2) прохладный воздух течет к сердцу и ослабляет внутренний огонь; 3) сердце сжимается; 4) легкие сжимаются; 5) нагретый сердцем воздух покидает легкие; 6) сердце нагревается; 7) сердце расширяется; 8) легкие расширяются; 9) цикл начинается заново.
Это очень изобретательно. Конечно, механизм целиком неверен[91]. И он, по мысли Аристотеля, есть лишь у млекопитающих, птиц и рептилий. Другие животные, по его словам, должно быть, охлаждают свой внутренний огонь иначе. Пчелы, майские жуки, осы и цикады дышат через кожу[92]. Рыбы вовсе не дышат. Они не могут глотать воздух и умирают на суше. Рыбы охлаждают себя водой, забираемой через жабры. А многие мелкие членистые животные (насекомые и т. д.) и “мягкораковинные” (лангусты, крабы и и т. д.) не особенно нуждаются в охлаждении – их внутренний огонь неинтенсивен.
Когда Аристотель объясняет, как регулируется внутренний огонь, он разбирает устройство растительной души. Это еще один характерный пример его телеологии. Он утверждает, что душа ответственна за формальную, действующую и целевую причины, и показывает, как именно все три действуют. Стагирит обозначает задачу для тела и демонстрирует, как она достигается. Многие исследователи, с трудом пытавшиеся передать, что имел в виду Аристотель под душой, описывали ее как кибернетическую систему. Это анахронизм, но он верно передает суть.
В 1840 г. Клод Бернар показал, что млекопитающие регулируют температуру тела путем изменения кровообращения, ориентируясь на сигналы от нервной системы. Фраза Бернара “Постоянство внутренней среды – залог свободной и независимой жизни” вдохновила Уолтера Кэннона на популяризацию в 1932 г. термина “гомеостаз”. В 40-х гг. Норберт Винер определил понятие “гомеостаз” как “продукт работы регуляторных систем, которые содержат петли отрицательной обратной связи”. Винер, предложивший термин “кибернетика” для науки о подобных саморегулирующихся системах, утверждал, что они решили проблему телеологии: как торпеды могут иметь поведение, ориентированное на результат. Если машины могут иметь ориентированное на результат поведение, то на это способны и животные. Пали последние оплоты витализма. “Многие признаки организменных систем, которые часто считают мистическими или виталистскими, можно выделить из концепции системы либо из свойств скорее конкретных, чем общих, уравнений системы”, – говорил в 1968 г. Людвиг фон Берталанфи.
Аристотелева душа определенно имеет множество свойств системы. Она – набор взаимодействующих единиц (органов), которые формируют целое (тело). Она имеет модульное строение (растительная, чувствующая и размышляющая души), модули имеют специализацию и выстроены иерархически. В некоторых случаях (у человека) она централизована, в некоторых (у многоножек) – распределена. У души есть цель: регулировать жизненные функции.
Но является ли душа кибернетической системой? Если аналогия сколько-нибудь верна, она может пролить свет на ход мыслей Аристотеля в самом вещественном примере – когда он описывал терморегуляторный цикл легких и сердца. Аристотель считал, что объяснил, как именно бьется сердце, а легкие качают воздух. Или нет? Из сказанного им не так-то просто выделить ответ. Однако если принять аристотелевскую физику, химию и анатомию и построить блок-схему, структура механизма проясняется[93]. Модель Стагирита жизнеспособна, хотя и не так, как он предполагал. Он думал, что объясняет работу осциллятора, который заставляет легкие ритмично расширяться и сжиматься, но на самом деле он описывал термостат. Он разработал схему, как сделать “кипячение” в сердце постоянным.
Это незаурядное достижение, поскольку система Аристотеля содержит сущность любого гомеостатического устройства – петлю отрицательной обратной связи. Это истинно кибернетическая модель. Обычно изобретение или, по крайней мере, применение системы с обратной связью приписывают александрийскому ученому Ктезибию (ок. 250 г. до н. э.), который встроил ее в схему водяных часов. Возможно, следует приписать это достижение Аристотелю, на два века ранее увидевшему необходимость такой системы для описания функций живого и набросавшему, как она могла бы работать, хоть набросок и получился причудливым.
Кибернетика – это Аристотель нашего времени. Она и общая теория систем фон Берталанфи стали, в свою очередь, предшественниками современной системной биологии, по сути, науки XXI в., изучающей сети, которые описывают потоки материи и информации, из частей которых формируются живые существа. Специалист по системной биологии Бернард Палссон высказывается так: “Компоненты появляются и пропадают, и ключевым признаком живых систем является то, как компоненты соединяются друг с другом. Взаимосвязи клеток с клеточными компонентами определяют суть жизненного процесса”. Уберите упоминание клеточного строения: чистый Аристотель.
Наша цель не в том, чтобы представить Аристотеля чрезвычайно современным. Мы стремимся понять его ответы на главные вопросы биологии. Что определяет нацеленность живого на результат? Это души, под которыми он имел в виду механизмы контроля, достаточно сложные, чтобы демонстрировать целеустремленное поведение. Что не дает живым существам распасться? Души – под которыми Аристотель подразумевал функциональную взаимосвязь между однородными частями. Как изучать живых существ? Редуцировать до составных частей. Но после мы все-таки должны собрать их воедино, потому что лишь так сможем понять, как они устроены.
Глава 10 Пена
61
Когда Аристотель желает убедить нас, что у живых существ есть цель и они не могут быть объяснены лишь материей, он апеллирует не только к красоте животных и тому, как они противостоят жестокости мира, но и к тому факту, что они развиваются определенным образом. В “Физике” Аристотель разбирает высказывание, приписываемое Эмпедоклу (трудно сказать, справедливо ли): “Части животных возникают по большей части случайно”. Отсюда аргумент: появление зубов у ребенка, если они появляются в правильном месте в правильное время, требует некоего целенаправленного процесса, обусловленного формальной природой. В книге “О частях животных” Аристотель возвращается к этой теме. Теперь его волнует позвоночник. Эмпедокл, по всей видимости, утверждал: позвонки разделены потому, что “при поворотах” позвоночному столбу “пришлось разломиться” и это “произошло при их возникновении”. Это не может быть правдой, возражает Аристотель. Ведь семя, из которого развился эмбрион, должно обладать потенциалом создавать позвонки. Именно поэтому “человек порождает человека”, а не, например, лошадь.
Формирование человеческого эмбриона по Аристотелю
Это одно из любимых высказываний Аристотеля. Оно глубоко истинно. Однако Аристотель лишь констатирует очевидное. Как именно человек порождает человека? Одно дело сказать, что Эмпедокл неправ, и совсем иное – показать, почему. Утроба, куда не проникает взгляд, обильно порождает догадки.
Решение Аристотеля – построить программу исследования, чтобы узнать, что происходит. Он изучает сорокадневный эмбрион:
Поместите эмбрион мужского пола, отсоединившийся [от матки] на сороковой день, в любую среду, за исключением холодной воды, и он растворится и исчезнет. В холодной воде он остается относительно целым внутри мембраны. Если эту мембрану разорвать, то можно обнаружить сам эмбрион – размером с крупного муравья. Все части его тела прекрасно видны, включая пенис и глаза. Глаза, как и у эмбрионов других животных, очень большие.
Аристотель в “Истории животных” не говорит, где взял его[94]. По всей видимости, он изучил не единственный зародыш. Объяснение находим в другом месте: глубоко связанный с аристотелевской физиологией механистичный разбор того, как развиваются животные, и того, почему у живых существ иногда два пола, а иногда нет ни одного, и как эмбриону передается форма от родительской особи, и что такое наследственная изменчивость. То есть это, по сути, генетика. Мы видим также анализ изменчивости жизненного цикла и влияния среды. Короче, книга “О возникновении животных” является обзором того, как один человек порождает другого и как рыба порождает рыбу. Не считая “Истории животных”, это крупнейший труд Аристотеля. И самый выдающийся.
62
Репродуктивная биология оргиастична по содержанию, но стерильна по тону. Аристотель пишет: “Общим же для всех животных являются страстные желания и стремление к наслаждению, в особенности происходящему от совокупления”. Самцы лягушек, бараны и хряки призывают самок[95]; голуби “целуются”. Самки некоторых видов выражают желание течкой. Кобылы становятся похотливы, а кошки льнут к котам, но самки оленей спариваются, отступая, ибо самка часто не переносит самца вследствие силы натиска.
Самцы, конечно, начинают бои. Жеребцы, олени, хряки, быки, верблюды, медведи, волки, львы, слоны, перепела и куропатки вынуждены бороться друг с другом. Самцы оленей собирают самок около себя, роют землю и ревут на соперников. Стадные животные обычно воинственнее одиночных. И если самцы куропаток “сладострастны” и бьют яйца самок, чтобы те не насиживали и могли снова спариваться, то голуби гораздо смирнее и образуют пары на всю жизнь – хотя иногда самка может уйти к другому.
Все описанное – лишь прелюдия к половому акту. Аристотель пишет: “Животное, изливающее семя в себя, называется самкой, а в нее – самцом”[96]. Большинство самцов подходит к самке сзади. Акулы и скаты, однако, спариваются брюхо к брюху, дельфины – бок к боку, львы, рыси и зайцы – спиной к спине (вскакивая на самку), а змеи переплетаются. Он также пишет, что во время спаривания ежи стоят на задних лапах мордами друг к другу, чтобы не мешали иголки, что медведи принимают миссионерскую позу и что у верблюдов спаривание занимает целый день[97].
Однако основное различие между полами заключается не в топологии сношения, а в репродуктивной физиологии. Аристотель заявляет, что и самцы, и самки вырабатывают семя (sperma). Мужское семя он называет gonē и предполагает, что это “выделение доведенной до конечного разделения кровяной пищи”, которое, как и все конечные продукты обмена веществ, однородно по составу. Женское семя он называет katamēnia: менструальной жидкостью. Второе утверждение покажется современному читателю необычным, однако оно соответствует представлениям Аристотеля о физиологии.
Поскольку эмбриону необходимо питание, а кровь – это чистейшая для питательных веществ форма, очевидно, что месячные выделения, которые довольно-таки похожи на кровь, должны быть тем веществом, из которого образуется эмбрион. К тому же периодическая менструация может интерпретироваться как выделение неиспользованного семени, а это является удобным объяснением, почему девочки становятся способными зачать ребенка, лишь когда у них начинается менструация, и почему она заканчивается, когда они беременеют. Месячные выделения довольно похожи на сперму, однако менее однородны или хуже “сварены”, что не лишено для Аристотеля смысла: для него самки в меньшей степени “обладают теплотой”, нежели самцы. У женщин, может, и есть душа, но сердце у них холодное.
Как и всегда, Аристотель желает построить теорию, которая включала бы всех животных (по крайней мере всех животных с кровью), однако у той догадки, что эмбрионы образуются из месячных выделений, есть очевидный недостаток: большинство животных не менструирует. Однако Аристотель определяет похожую на кровь жидкость, которую выделяют коровы и суки во время течки, как месячные выделения[98]. Куры, очевидно, никогда не выделяют ничего похожего на кровь, поэтому он рассматривает “ветреные яйца” (болтуны), без желтка, как своего рода месячные выделения[99]. И хотя Стагирит полагает, что большая доля икринок – это эмбрионы, он признает, что некоторые рыбы полны неоплодотворенной икры, которая будто бы является их месячными. Но таков уж Аристотель: он хочет получить один ответ на все вопросы.
63
Самцы производят довольно мало семени, самки – много. Поэтому их гениталии сильно различаются.
Аристотелю есть что сказать о пенисах. У тюленей они крупные, у верблюдов – жилистые, у ласок в них есть кость. Два копулятивных отростка свисают из клоак мужских (но не женских) особей акул и скатов. Насчет птиц Аристотель не уверен. В книге “О возникновении животных” он пишет, что ни у одного вида птиц нет пениса, однако в “Истории животных” оговаривает, что он есть у гуся[100]. Аристотель пишет, что у самцов змей нет пениса. (На самом деле пенисов у них два, и они заметны во время спаривания.) Аристотель не говорит ничего определенного о черепашьем пенисе, который очень велик и крепок.
Далее Аристотель переходит к семенникам. У большинства живородящих четвероногих (млекопитающих) семенники свисают внизу живота, однако у дельфинов, ежей и слонов они внутри, около почек. Внутренние семенники птиц и яйцекладущих четвероногих (лягушек, ящериц, черепах) расположены около поясницы. У всех этих животных семенники соединены с семяпроводами (мочеполовой проток/семяпровод), которые объединяются в общий проток. У яйцекладущих животных (птиц, рептилий, амфибий) имеется общий проход для фекалий, спермы и мочи (клоака), которого нет у млекопитающих.
Это описание подробно и, по большому счету, верно. И здесь очень легко потерять бдительность. Затем Аристотель говорит нечто совершенно неожиданное, и становится ясно (если вы не поняли этого ранее), что его представления о том, как все устроено, отличны от наших. Аристотель понимает, что семенники связаны со спермой, но не говорит, что они ее вырабатывают. Вместо этого он утверждает, что они лишь хранят ее и регулируют ее поток. Его выкладки, как всегда, сложны.
Семенники, пишет он, нужны не для порождения спермы, поскольку у змей и рыб их нет. У них, однако, есть полные семени “проходы”, которые в таком случае эквивалентны семяпроводам птиц и четвероногих, главному органу, получающему семя[101]. (Поскольку сперма – это переработанная и разделенная на части кровь, продукт последовательных кругов “варения”, она образуется везде, например в сердце, хотя по этому поводу Аристотель не высказывается ясно.) Отсюда следует также, что семенники – это опциональное усовершенствование, структуры, которые “лучше”, но не “необходимы”, имеющиеся у некоторых, но не у всех животных.
Семенники хранят сперму. Это подтверждается тем, что семенники некоторых птиц (куропаток и голубей) во время периода размножения полны спермы, однако пусты после него. Однако функция семенников у четвероногих – это регуляция семенного потока. Наблюдая, что семявыносящие протоки (vas deferens) у четвероногих делают петлю вверх и через мочеточник к пенису, Аристотель делает предположение, что это замедляет или даже ограничивает семенной поток[102]. Семенники являются противовесами, которые поддерживают петлю, препятствуя естественному свойству семяпроводов загибаться кольцами. Поэтому у мужчин яички спускаются во время периода полового созревания, а кастрированные животные стерильны: отрежьте яички, и семяпроводы окажутся в полости тела и остановят поток спермы.
Эта модель поражает своей механистичностью. Аристотель даже сравнивает семенники с камнями, которые ткачихи используют, чтобы удерживать основы станков на месте. Его представление о том, как работает пенис, в той же степени странно. Аристотель полагает, что в пенисе происходит финальный этап “варения” спермы благодаря теплу, которое образуется при трении во время полового акта. Собирая все предположения вместе, он предполагает, что сперма приготавливается в сосудистой системе, собирается в семяпроводах и хранится в яичках, которые также отвечают за то, чтобы был достигнут правильный объем эякулята. Пенис дает сперме дополнительный заряд и разряжает ее в женские половые проходы.
Половые органы живородящего четвероногого с кровью (по “Истории животных”, кн. III)
Вверху: самец. Внизу: самка.
Модель мужской половой системы Аристотеля построена исходя из наблюдений за живородящим четвероногим: возможно, быком или бараном. Модель женской половой системы также скопирована с некоего жвачного. Он называет структуру целиком hystera – матка – и настаивает, что она всегда “двураздельная”. (У жвачных матка состоит из двух крупных рогов, которых нет у людей.) Рога матки – keratia – затем объединяются и формируют delphys, который ведет к мясистой хрящевой трубке с отверстием, mētra. (Так он, наверное, называет тело матки и ее шейку.) Доводя идею единообразия до предела, Аристотель пытается подвести под одну схему строение женских половых органов у млекопитающих, рептилий, рыб, головоногих и насекомых. Он находит эту задачу трудной, и неудивительно: эти системы очень разнятся.
64
А каковы взгляды Аристотеля на женский оргазм? Он полагал, что женщинам требуется секс – и много. Половой акт – это ta aphrodisia. Он называет женщин с большим сексуальным аппетитом словом aphrodisiazomenai. За девочками-подростками необходимо следить, “ибо с началом месячных они особенно сильно стремятся к любовным утехам”. У них даже могут развиваться дурные привычки (неявное предупреждение о мастурбации?), но обычно они успокаиваются после рождения нескольких детей. Некоторые женщины, однако, “невоздержны в любовном общении”, как кобылы (hippomanousi).
У греков отсутствовал термин для оргазма, так что Аристотель говорит о “наслаждении” или “интенсивном наслаждении” при сношении. Но он определенно полагает, что для женщин эти переживания типичны. Его модели мужской и женской сексуальности очень похожи. У женщины “наслаждение при сношении возникает… от соприкосновения, как у самцов, хотя она этой влаги оттуда не изливает”, что подразумевает, что под “наслаждением” он имеет в виду оргазм, а под “оттуда” – головку полового члена и клитор соответственно. На самом деле, у Аристотеля есть название для первого, balanos, но не для второго, но ему необходимо отдать должное и признать, что он, кажется, в принципе нашел его.
Аристотель пишет, что некоторые женщины, когда испытывают наслаждение “сравнимым с мужчинами образом”, продуцируют похожую на слюну жидкость, которая отлична от менструальной. (Вероятно, вагинальная смазка.) Иногда ее много, больше, чем выделений мужчины, – это, очевидно, отсылка к “женской эякуляции”. Женщина получает наслаждение, жидкость выделяется – и это признак того, что матка открыта и зачатие вероятно. Аристотель утверждает, что блондинки особенно влажны.
На самом деле вопрос не в том, испытывают ли женщины наслаждение от секса (Аристотель полагает, что должны испытывать и испытывают), а скорее в том, необходима ли кульминация для зачатия[103]. Здесь Аристотель противоречит себе. В трактате “О возникновении животных” есть пассаж: хотя женщина, как правило, во время секса испытывает наслаждение, она и без этого может забеременеть. И наоборот: зачатия может и не произойти, даже если женщина “идет в ногу” с партнером. Женский оргазм хорош, но необязателен. В кн. 10 “Истории животных” оргазму придается, видимо, более важное значение. Здесь Аристотель выражает мнение, что во время секса менструальная жидкость выделяется в область “перед маткой” (возможно, имеется в виду шейка матки или влагалище), где она смешивается со спермой. Выделение, по всей видимости, происходит во время оргазма, и партнерам необходимо “идти в ногу”, чтобы зачатие прошло успешно. А бесплодие обычно обусловлено тем, что мужчины “скоро исполняют свое дело”, а “в большинстве случаев женщина – медленнее”. Чтобы понять, является ли преждевременное семяизвержение действительной причиной бесплодия, по мнению Аристотеля, мужчине необходимо сойтись с другими женщинами и определить, способен ли он зачать детей. (Здесь обнаруживает себя замечательный эмпирический дух ученого.) Он также предлагает следующее решение проблемы неравного распределения времени: женщине необходимо возбуждать себя “подходящими мыслями”, даже если партнеру трудно сдерживаться.
Трудно сказать, какая теория является конечным выводом Аристотеля в данном случае: хорош оргазм или он необходим. Сведения из кн. 10 “Истории животных” определенно не сочетаются с остальными, так как ее содержание, по большому счету, клиническое. Некоторые ученые даже сомневаются, Аристотель ли ее автор. И все же секс, по Аристотелю, – совместная работа. Оба партнера стремятся к нему ради интенсивного наслаждения и в идеале получают его одновременно. По крайней мере, так происходит, если они хотят зачать ребенка, и для Аристотеля это определенно главный вывод[104].
65
В начале трактата “О возникновении животных” Аристотель пишет, что хочет исследовать движущую причину жизни и что этот вопрос и вопрос возникновения животных – в каком-то смысле одно и то же. Аристотель верит, что вещество, из которого родители формируют потомство – семя, – лишь потенциально обладает жизнью. И оно каким-то образом должно быть оживлено. Для нас это проблема оплодотворения, а для Аристотеля – вопрос приобретения души.
То, что эмбрион “приобретает душу”, звучит загадочно, но Аристотель лишь имеет в виду приобретение набора функционирующих органов. Или, говоря по-другому, это то, как эмбрион получает свою форму. Платон помещал эйдосы в мире за пределами разумного понимания. Аристотель помещает формы в семя. Животное получает душу от родительских особей. Однако здесь многое нужно объяснить. От какой из родительских особей происходит душа? Передаются ли души – растительная, чувствующая, размышляющая, – как единое целое? Когда именно во время онтогенеза возникает душа? Когда начинается жизнь?
Аристотель выбирает эмпирический путь. Он убедился, что по сравнению с потоком месячных выделений объем спермы ничтожен. Поэтому сначала он склонен считать, что отец снабжает эмбрион формой, соответственно – душой, а мать – материей. Это все равно что сказать, что мать лишь поставляет строительные материалы. В самом деле, Аристотель часто пишет так, будто он именно в этом и убежден. В работе “О возникновении животных” он возвращается к набору дихотомий, которыми он пытается охватить разницу между особями мужского и женского пола: горячий – холодный, сперма – менструальная кровь, форма – материя, душа – материя, движущая причина – материальная причина, активный – пассивный. Термины могут варьировать, однако контраст всегда очевиден.
Или нет? Аристотель настойчиво повторяет, что вклад самцов и самок в эмбрион различен, но когда он переходит к частностям эмбриогенеза и наследственности, их роли начинают размываться, пока, наконец, их не становится трудно различить. Некоторые ученые заявляют, что в книге “О возникновении животных” приведены очень разные и несовместимые теории, но, пожалуй, мы должны считать половые дихотомии утверждениями, которые будут прояснены и уточнены. Например, сказав, что только отцы вносят вклад в душу эмбриона, Аристотель приводит свидетельства, что это не так: матери также дают своим детям жизнь.
Аристотель утверждает, что самки куропаток могут зачать, просто почувствовав принесенный ветром запах самца. Это звучит абсурдно, но Аристотель действительно это говорит (даже дважды). Куропатки не единственные птицы, которые несут “ветреные яйца”, это свойственно всем видам птиц, особенно обладающим высокой плодовитостью. То, что он пишет о ветре, неважно; интересен здесь факт, что девственные птицы несут болтуны. Неужели Аристотель верит, что птицы могут зачать без оплодотворения? Это так – но важно, что он имеет в виду. Для нас зачатие случается, когда мужская и женские половые клетки сливаются, образуя зиготу, а в представлении Аристотеля зачатие происходит тогда, когда сперма встречается с менструальной жидкостью и образует яйцо. Но, поскольку болтуны могут происходить от девственных кур, менструальная жидкость явно иногда может спонтанно сгуститься в продукт зачатия[105]. Месячные выделения, таким образом, в некотором смысле обладают жизнью, у них есть потенциал для образования растительной души. Аристотель представляет, что ветреные яйца неполноценны. Полное зачатие, приводящее к рождению цыпленка, требует участия петуха, соития и спермы, но Аристотель задается вопросом, является ли это верным для всех животных, так как делает предположение, что некоторые виды рыб могут обходиться без самцов. В рыбах khannos (каменный окунь-ханос, Serranus cabrilla) озадачивает то, что можно выловить лишь самок[106]. Может быть, самцов у этого вида и не существует? Аристотель, однако, не торопится отбросить нужду в самцах без большего объема данных (не было достаточного количества наблюдений) и остается верен той теории, что оба вида семени содержат потенциал для растительной души и лишь сперма содержит потенциал для чувствующей души и определенной формы – признаков, делающих воробья воробьем, а не курицей и не журавлем.
Описывая онтогенез, Аристотель опирается на дихотомию потенциального и актуального: “Невозможно наличие лица, руки или какой-нибудь другой части без присутствия чувствующей души или в действительности, или в потенции, притом или в определенном виде, или просто: ведь тогда будет труп или часть трупа…” Это одновременно удивительно проницательное и досадно неясное высказывание. Оно проницательно, так как несет идею, что в семени содержится нечто – форма, – что не является самим животным, но у чего, тем не менее, есть возможность сформироваться и стать им, и что онтогенез является тем процессом, что трансформирует это потенциальное в живущее, дышащее, совокупляющееся существо. Однако разговоры о потенциальном кажутся также робкой заменой физической модели онтогенеза. Что это – потенциальное? Не стоит просто указывать пальцем в небо. Нужно хотя бы отчасти объяснить, как оно актуализируется.
Аристотель, очевидно, чувствует недочет и все-таки пытается предложить физическую модель. Он начинает с вопроса, могут ли формирующие эмбрион потенциалы передаваться независимо от материи самой спермы. Он приводит одну из своих любимых аналогий: ремесло. Представьте плотника, который мастерит кровать. Делая это, он не привносит материю в сооружаемую им кровать. Это его знание ремесла (потенциальное), выраженное как целесообразное движение, актуализирует материю. Аналогично, чтобы привнести потенциальное, сперме не нужно привносить в эмбрион материю.
Аристотель приводит три зоологических свидетельства. Во-первых, некоторые насекомые совокупляются особенным образом: не самцы вставляют свой орган в самок, а наоборот[107]. В таких случаях, как предполагает Стагирит, самцы на самом деле передают не сперму, а лишь потенциальное. Во-вторых, когда курица сходится не с одним, а с несколькими петухами, цыплята могут напоминать одного из этих самцов – обычно второго по счету, – но они никогда не обладают “излишними” частями. Мысль здесь, кажется, такова: уродства определенного типа у животных (сросшиеся близнецы) могут быть обусловлены переизбытком семенного материала. Если это так, то можно было бы ожидать, что многочисленные спаривания будут производить деформированных цыплят, однако так не происходит, поэтому важно здесь не количество семенного материала, а качество: “потенциальное”[108]. В-третьих, когда самцы рыб распределяют молоки по икре, то оплодотворяются лишь те икринки, которые соприкасаются с молоками. Ни один из этих аргументов не убедителен. И все же цель Аристотеля ясна: он пытается показать, что возможность спермы определять онтогенез состоит не в передаче самого семенного материала, а в чем-то другом.
В чем же? Содержимое семени должно попасть в эмбрион, однако если это не материя семени, то что это? Аристотель снова прибегает к загадочной pneuma. Пневма – это не только инструмент животной души, но и компонент системы наследственности. Аристотель исследует сперму в поисках признаков активности. И обнаруживает, что сперма напоминает пену – по крайней мере сразу после эякуляции. Пена возникает из-за заряда пневмы, который вызван “варением” спермы во время секса. Пневма, однако, необязательно передается со спермой, так как у описанных насекомых, тех, что совокупляются необычным образом, она впрыскивается непосредственно в самку. В результате появляется теория, как душа животного воспроизводится в эмбрионе. Структура души отца помещается в сперму пневматическим движением[109].
Афродита
Не стоит считать аристотелевскую пневму носителем генетической информации: это не аналог ДНК. Единицы наследственности по Аристотелю представляют собой более абстрактные сущности; это движения в семени, порождаемые пневмой. Когда Аристотель описывает принцип движения в семени, он начинает с меткого и элегантного слова aphros – “пена”. Он имел в виду и пену, видимую при выбросе спермы, и пену, возникающую при биении волн о берег. Впрочем, как становится ясно в дальнейшем, Аристотель, выбирая это слово, думал об еще одном: богине любви Афродите.
66
Аристотеля считают первым ученым, описавшим эмбриогенез (“возникновение”). Так ли это? Источники его методов обычно неясны, однако в приписываемом Гиппократу трактате, который был написан, возможно, за полвека до рождения Аристотеля и принадлежит, вероятно, перу Полиба, содержится предположение, что человеческий плод напоминает плод курицы. Чтобы доказать это, пишет якобы Полиб, необходимо взять 20 яиц, расположить их под курами и вскрывать по одному с интервалом в день, пока не вылупится цыпленок: “Вы обнаружите все, что я говорил о том, как птица может напоминать человека”. Аристотель не цитирует якобы Полиба, и это странно: он обладал замечательной библиотекой и часто цитировал предшественников (правда, в основном тогда, когда считал, что те неправы).
Вне зависимости от того, первым или нет Аристотель изучал эмбриологию кур, его описание определенно лучше прежних:
У кур до первых видимых признаков [жизни] проходит три дня: этот промежуток времени дольше у больших птиц и короче у маленьких. Именно в это время можно наблюдать движения желтка: вверх, к острому концу яйца, где его начало и откуда вылупляется цыпленок. Сердце расположено в белке, и оно размером с капельку крови. Эта капелька бьется и двигается так, будто она живая. От сердца, которое продолжает развиваться, отходят две разветвленные трубки кровеносных сосудов. Они идут к обоим краям оболочки, закрывающей сердце. На этой стадии белок обвернут волокнистой мембраной, насыщенной кровеносными капиллярами, отходящими от двух крупных сосудов. Немного позже можно различить и тело цыпленка – белое и (вначале) невероятно маленькое. Голова становится заметной, а на ней видны хорошо выраженные глаза[110].
Аристотель изучал онтогенез курицы, потому что имел такую возможность. Эмбрионы рыб крошечные. Эмбрионы млекопитающих укрыты в матке. А чтобы увидеть куриный эмбрион, достаточно разбить яйцо. Аристотель описывает онтогенез и многих других животных, хотя гораздо менее подробно. Эмбрион рыбы, насколько может судить Стагирит, очень похож на птичий, за исключением того, что в нем лишь один вид дейтоплазмы (желтка) и нет аллантоиса. Даже эмбрионы живородящих (млекопитающих, куньих акул) достаточно похожи на эмбрионы яйцеродящих (птиц, большинства рыб и рептилий): и те и другие защищены от внешнего мира (скорлупой или маткой), окружены амниотическим мешком (khōrion) и получают через пуповину питание либо из желтка, либо из крови матери. Аристотель знает, что у коров, овец и коз матка испещрена сосочковидными образованиями (котиледонами, kotylēdones), которых нет у большинства других животных[111]. И все же иногда, когда Аристотель выбирает более общий тон, сложно сказать, говорит он о курице или о человеке.
Зародыш курицы
Он осторожен:
Ведь не одновременно возникает животное и человек или животное и лошадь; то же относится и к другим животным; завершение возникает напоследок, и то, что составляет особенность каждой особи, является завершением развития.
Значит, когда формируется эмбрион, сначала можно увидеть лишь наиболее общие признаки животного: сердце, очертания органов. Специфические признаки, которые делают человека человеком, а не лошадью, формируются позднее.
Это наблюдение повторил – в подробностях – Карл фон Бэр в своей “Истории развития животных” (1828). Фон Бэр назвал это “первым законом” сравнительной эмбриологии. “Закон” стал одним из важнейших обобщений эволюционной биологии развития[112].
Аристотель получил представление об анатомии не только из проведенных самостоятельно вскрытий, но и из рассказов торговцев рыбой и мясников, охотников и путешественников, врачей и прорицателей. Однако данные об эмбриологии он, очевидно, добыл сам. Кто, как не биолог, жаждущий разгадать тайну жизни, проведет столько времени, рассматривая эмбрионы? И даже если, вспомнив якобы Полиба, мы признаем, что Аристотель не был первым изучившим куриный эмбрион, мы должны понимать: Аристотель был, без сомнения, первым, кто увидел здесь решение проблемы онтогенеза.
Иллюстрация первого закона сравнительной эмбриологии К. фон Бэра
Слева направо: зародыши катрана, лосося, аксолотля, змеи, курицы, кошки, человека
От верхнего к нижнему ряду: ранние, промежуточные, поздние стадии эмбрионального развития
67
Когда месячные выделения контактируют со спермой, они свертываются в эмбрион или яйцеклетку. Аристотель объясняет, как это происходит: “Сок [инжира] не разделяется для свертывания определенного количества молока, но чем больше и чем в боль-
шее количество молока его войдет, тем большей величины получится сгусток”. Или: “Теплота сока или сычужины только сгущает количество”. Это про сыроделие. Когда сычуг смешивают с молоком, он заставляет молоко разделиться на твердую и жидкую части: творог и сыворотку. Аристотель предполагает, что семенная пневма делает то же самое с менструальной жидкостью, сгущая и вытягивая из нее землистое вещество, отделяя жидкость. Он, возможно, думал, что эта аналогия наиболее точна. Активные ингредиенты (сперма, сычуг, сок) обладают силой, потому что заряжены жизненным теплом; их субстраты (менструальная жидкость, молоко) являются в обоих случаях родственными друг другу производными крови[113].
Результатом выступает эмбрион, заключенный в оболочку, плавающую в жидкости. Теперь в дело вступает пневма: начинается выделка частей эмбриона. Аристотель утверждает (и повторяет это с пылом человека, сделавшего большое открытие), что первым органом, который появляется в зародыше, является сердце. Это разумно, если допустить, что Аристотель имеет в виду первый видимый функционирующий орган, и исключить сомиты и хорду, которые формируются задолго до сердца. Для Аристотеля это не просто факт: он вписывается в его теорию. Сердце должно быть первым органом в эмбрионе, поскольку от него зависят питание и рост всех остальных органов.
Питание предоставляется матерью и “варится” от ее тепла, поступает в эмбрион через желточные сосуды и перераспределяется сердцем и системой разветвляющихся сосудов. Аристотель сравнивает сосуды с корнями саженца или с ирригационными каналами в поле, а питание сквозь стенки сосудов – с тем, как вода просачивается сквозь необожженную керамику. На финальной стадии благоразумное применение тепла трансформирует питание в плоть, мускулатуру, кости и все другие части, из которых строится растущий эмбрион.
Аристотель полагает, что ткани и органы сложены из “сырья”, необработанного материала, но сначала он расправляется с мнением, будто части эмбриона (возможно, даже весь эмбрион) уже существуют в семени родителей, однако слишком малы, чтобы их разглядеть. Его оппонентами были ионийские натурфилософы, отрицавшие, что материя любого рода – даже ткани – может быть создана или уничтожена. Поздний комментатор пишет о теории Анаксагора: “В одном и том же семени, как он [Анаксагор] говорит, есть и волосы, и ногти, и вены, и артерии, и мускулы, и кости, и они невидимы, поскольку их части малы, но пока они растут, они постепенно разделяются. Потому что как, говорит он, могут волосы происходить из того, что не является волосами, и плоть – не из того, что является плотью?” Аристотель, однако, избирает мишенью Эмпедокла, который, как утверждает первый, верил, будто организмы формируются сами из сформированных заранее органов. (“Как он утверждает” – Аристотель, кажется, часто недостоверно передает идеи сицилийца.) В любом случае, Аристотель приводит множество аргументов против этой теории, однако, не колеблясь, делает некоторые весьма банальные утверждения: “Если он [Эмпедокл] говорит, что части возникающего существа «рассеяны» (ибо, по его мнению, одни находятся в самце, другие – в самке, поэтому и жаждут соединения друг с другом), то необходимо сказать, что, будучи разделены по величине, они сходятся вместе, а не возникают от холода или тепла. Но по поводу такого действия семени можно было бы сказать многое, так как вообще этот способ действия – чистый вымысел…”. Читателю не остается ничего иного, кроме как признать, что взгляды Эмпедокла абсурдны.
Аристотель излагает собственное видение при помощи двух красивых метафор. В одной природа раскрашивает эмбрион:
Все части отграничиваются сначала контурами, а потом получают окраску, мягкую или твердую консистенцию, совершенно так же, как если бы они были сработаны художником природы; ведь и живописцы, очертив сначала животное линиями, в таком виде раскрашивают его.
В другой метафоре эмбрион сплетается, подобно сети:
Как же образуются другие части? Ведь они или возникают все вместе, например, сердце, печень, глаз и каждая из остальных, или последовательно, как поется в так называемых гимнах Орфея: там говорится, что животное возникает подобно плетению сети. Что части возникают не все одновременно, это ясно и для чувств, так как одни части уже очевидно существуют, а других еще нет… Не сердце, возникая, образует печень, а печень – что-нибудь другое, но что одно появляется после другого.
В этом втором фрагменте мы видим настоящую причину, почему Аристотелю не нравится идея заранее сформированных органов. В любой такой теории должен возникнуть образ крошечных цыплят или частей цыплят в сперме, и Аристотель просто не верит в существование вещей, слишком малых, чтобы их разглядеть. Этот предубежденный взгляд на невидимый глазу мир проистекает из его взглядов на материю. Сперма гомогенна: она не состоит ни из молекул, ни из микроскопических пернатых.
Нарисовав схему, Аристотель чувствует необходимость ее объяснить. Почему части возникают одна за другой? Он выдвигает предположение, что органы дают начало друг другу – что печень на самом деле растет из сердца, – и отвергает его, поскольку у всякого органа своя форма, и форма одного органа не может существовать в другом. Органы сложены из материи более общей. Аристотель строит причинно-следственную цепочку тоньше. Сперма, пишет он, вызывает движение в эмбрионе. И вот что происходит:
Возможно ведь, что вот этот предмет движет это, а это – другое, как в чудесных автоматах. Именно, их покоящиеся части обладают известной способностью, и когда первую часть приведет в движение что-нибудь извне, сейчас же следующая часть производит действительное движение. Таким образом, как в автоматах, это нечто движет, не касаясь в данный момент ничего, а только коснувшись; подобным же образом движет и то, из чего исходит семя, или то, что его произвело, коснувшись чего то, но уже не касаясь: движет известным образом находящееся в нем движение, так же как строительство – дом.
Речь здесь о “самодвижущихся” марионетках из книги “О движении животных”. Использование кукол для объяснения того, как животные движутся – вполне очевидная идея, но это очень необычно для объяснения того, как развивается эмбрион. Под A, B и Г Аристотель точно имеет в виду развивающиеся органы эмбриона. Движения семенной жидкости формируют сердце, а уже его движения формируют другие органы, а те – следующие, и так до тех пор, пока картина не будет нарисована, сеть сплетена, эмбрион сформирован.
Аристотель, кажется, хочет сказать, что создание эмбриона подобно созданию статуи: отец – это художник, который ваяет ее, а сперма – его рука. Мать – это печь, в которой обжигается менструальная “глина”. Теперь ясно, что это сравнение не отражает того, что он имеет в виду. Аристотель уже допустил, что месячные обладают жизнью, что они несут потенциальное для растительной души. Причинно-следственная цепь, связанная с понятием automaton, дает новое значение “потенциальному”, так как у месячных выделений есть некая скрытая структура и латентная формообразующая сила.
Эта причинно-следственная связь также объясняет разнообразие форм. Эмбрионы сначала одинаковы, но причинно-следственные цепи по мере развития расходятся. Аристотель рассказывает о существе kordylos. Это амфибия: у kordylos есть жабры, и оно плавает. Его хвост напоминает хвост сома. Однако у kordylos лапы вместо плавников, и оно может жить на суше[114]. Это существо является по определению переходным этапом между наземным и водным животным. Аристотель пишет, что оно “искажено” из-за события на очень ранней стадии онтогенеза этого существа. Окружающая среда, в которой растет животное – суша или вода, – влияет на некий “бесконечно малый, но неотъемлемый орган”, который, в свою очередь, диктует, будет животное обладать признаками сухопутного или водного. Многое, что касается kordylos, неясно, однако аргумент понятен: на раннем этапе онтогенеза некий малый орган отвечает за многие признаки, которыми различаются водные и наземные животные: А движет B, B движет Г.
68
Когда в эпоху Возрождения анатомы снова заглянули под яичную скорлупу, они воспользовались, как руководством, книгой Аристотеля “О возникновении животных”. Ничего другого у них и не было. Альдрованди (“Орнитология”, 1600), его ученик Волхер Койтер Фризский (Externarum et internarum principalium humani corporis partium tabulae et exercitationes, 1573) и Иероним Фабриций из Аквапенденте (“О развитии яйца и цыпленка”, 1604) едва ли дополнили описание Аристотелем онтогенеза курицы – хотя и сделали некоторые точные наблюдения.
Уильям Гарвей, который глубоко уважал Аристотеля, подходил к нему более критически. В 1651 г. в “Исследовании о зарождении животных” Гарвей определил, что первым проявлением эмбриона является скорее зародышевый диск на желтке яйца (cicatricula, бластодерма), чем punctum saliens (сердце эмбриона). Он назвал его “источником жизни”, однако отметил, что, вопреки мнению Аристотеля, кровь формируется прежде сердца. Гарвей также искал сгусток спермы и месячных, существование которого предсказывала аристотелевская теория оплодотворения. Он вскрывал только что осемененных голубок, которые были жертвами охотничьих празднеств Карла I, и когда ему не удалось обнаружить аристотелевских жидкостей, выбрал другую объединяющую идею и объявил (на фронтисписе своей книги): Ex ovo omnia – “все из яйца”[115]. И все же Гарвей, насколько проницательным критиком он ни был, по большей части остался верен представлениям Аристотеля об эмбриологии. Он заявлял: “В яйце в действительности нет частей будущего плода, все части его находятся в нем потенциально…” Отметим здесь контраст между “в действительности” и “потенциально” – сам Аристотель не смог бы сказать лучше.
Гарвей называл процесс актуализации эпигенезом[116]. Именно здесь спор Аристотеля с ионийцами звучит на новый лад. Многие последователи Гарвея, очарованные увиденным в микроскоп, заявляли, что модель Аристотеля попросту неверна. Эмбрион, утверждали они, с самого начала содержит все части. Некоторые говорили, что могут рассмотреть миниатюрные эмбрионы в сперматозоидах, иные же видели их в яйцеклетках. Ученые называют эту доктрину преформизмом. Швейцарский натуралист Шарль Бонне предположил, что семя уже содержит полностью сформированный эмбрион, чьи семена содержат полностью сформированные заранее эмбрионы, чьи семена… и т. д. до самого Творения.
Сторонники эпигенеза и преформисты спорили около двух столетий. Некоторое время казалось, что взгляды преформистов отражают современность и механистические принципы. Более точные микроскопы с цейсовской оптикой показали, что это не так. Эмбрионы строят себя самостоятельно.
Можно увидеть, как это происходит. Для этого необходим хороший микроскоп с набором фильтров и культура здоровых нематод. Берем оплодотворенную яйцеклетку, помещаем на подложку из агар-агара с каплей буферного раствора, чтобы предотвратить раздавливание объективом и сохранить ее влажной, переводим микроскоп на 1000-кратное увеличение. Наблюдаем. Сначала ничего не происходит. Затем цитоплазма приходит в движение, деформируется – и вместо одной клетки внезапно возникает две. Они делятся снова и снова – быстро и с неизменной точностью. Клетки начинают меняться местами, некоторые проскальзывают под другие. Образуются полости и бугорки. Очертания органов – глотки, кишки – становятся все четче. Клеточная масса сворачивается в нечто, напоминающее боб, затем запятую, затем маленького червя. Примерно через 7 часов “червь” начинает дергаться, а через 10 часов он уже крутится внутри яйца.
В биологии развития Аристотеля многое кажется странным. В современной биологии родительским материалом выступают гаметы, а не жидкости. Они не просто приближаются друг к другу в неясной степени, а сливаются. Носителем наследуемой информации является не алгоритм “движений”, а очень устойчивая макромолекула. И, конечно, своей формой зарождающееся животное обязано не только отцу, но и матери. И все же можно восхищаться смелостью его системы. Здесь есть все, что нужно (механистическое описание наиболее загадочного процесса всей биологии) для того, чтобы объяснить, как бесформенная материя становится живым существом. И если задуматься о невидимых градиентах молекулярных сигналов, каскадах факторов транскрипции и сетях сигнальной трансдукции, о белках, которые приводят клетки к пунктам их назначения и к дифференцированным состояниям, начинает казаться, что логика Аристотеля, идущая от его представления о самодвижущихся предметах, – то есть то, что А движет B, а B движет Г, – внезапно отражается в разветвляющихся причинно-следственных связях и говорит нечто фундаментальное о том, как все это происходит. Это как если бы они были сработаны художником. Если и существует более приятная метафора самосозидания, которое породило и вас, и меня, и Аристотеля, и все живое, то я ее не знаю.
Глава 11 Овечья долина
69
Потами (по-гречески – просто “река”) бежит с потухшего вулкана Ордимнос в аллювиальную долину на северо-западном берегу Лагуны. Как-то весенним днем я спускался вдоль реки от деревни Анемотия. Людей по дороге я не встретил. Холмы почти необитаемы, однако не заброшены: то и дело дорогу мне преграждали мелкие псы, которые, натягивая цепи, выскакивали из будок, чтобы облаять меня. Мне стало интересно, что они делают одни в глуши, и позднее я узнал, что их обязанность – регулировать движение овец, бродящих среди оливковых рощ. И точно: зайдя за угол, я наткнулся на стадо, по всей видимости, оставленное без присмотра. Овцы на Лесбосе поджарые и смышленые. В оливковых рощах они объедают ветви, которые срезают для них крестьяне, а в сухой внутренней части острова питаются ароматными побегами фриганы, которая растет на бедной вулканической почве. На их шеях бронзовые колокольчики, и в тишине холмов можно услышать мягкие переливы задолго до того, как появятся сами овцы.
Аристотель, много говоривший об овцеводстве, рассказывает, что лишь одна овца в стаде – валух, кастрированный баран – носит колокольчик и обучена вести стадо и отзываться на кличку. Сейчас на Лесбосе колокольчики разного размера и тембра есть почти у всех овец, и когда приближаешься к ним и животные нервно отскакивают, по стаду пробегает перезвон. Один баран (очевидно, вожак) встал на моем пути и уставился немигающими желтыми глазами. Хотя мне было любопытно, есть ли у него яички (чтобы узнать наверняка, нужно было заглянуть под свалявшийся мех), поза животного заставила усомниться, что барана обрадует мой интерес. В Коринфе я встретил горного пастуха, бывалого и немногословного, и он подтвердил данные Аристотеля. В возрасте трех месяцев выбирается ягненок-самец, крупный, послушный и красивый. В возрасте полугода его кастрируют, дают имя и воспитывают его вожаком, готовым командовать “отрядом” из двадцати пяти овец. Пастух также поведал, что иногда зрелая овца-самка, следуя инстинкту или характеру, может захватить власть в стаде, и как только это происходит, она перестает ягниться. Еще он рассказал, что однажды баран-вожак спас его от смертельной опасности, однако не уточнил, какой именно.
Касаясь биогеографии овец, Аристотель пишет: у баранов на берегах Понта, то есть Черного моря, нет рогов, а в Ливии живут овцы с длинными рогами (и у самцов, и у самок[117]). У босфорских овец жесткая шерсть. На Наксосе у овец очень крупный желчный пузырь, а на Эвбее желчного пузыря у них нет вовсе. Плоскохвостые овцы переносят холода лучше, чем длиннохвостые, а короткошерстные лучше, чем длинношерстные, но сильнее всего страдают от холода те, у которых курчавая шерсть. Есть и необычные одомашненные виды:
В Сирии овцы имеют хвосты шириной в локоть, козы – уши длиной в локоть и ладонь, у некоторых уши сходятся внизу у земли, а быки, как верблюды, имеют гривы на плечах.
Само по себе не очень важное замечание – лишь крупица знания о естественной истории. Однако возникает вопрос: что думал Аристотель об этих короткохвостых овцах, длинноухих козах и гривастом крупном рогатом скоте? Были ли они для него разновидностями греческих овец, коз и коров? Этот вопрос не кажется жизненно важным, однако ответ на него обнаруживает представление о порядке и постоянстве жизни:
Готтентоты утверждают, что овцы с крупными хвостами происходят с Мыса, а те, у которых хвосты тоньше, – из мест, удаленных от моря. Капитан Дэвис в 1598 г. в Столовой бухте нашел крупный рогатый скот с горбом на спине и овец с большими хвостами.
Долина р. Потами, о. Лесбос, июнь 2011 г.
Они располагают похожими данными: жирнохвостые овцы и горбатый крупный рогатый скот, обитающие в экзотических местах и очень отличающиеся от знакомых жвачных. Однако большее значение имеет интерпретация данных. Второй фрагмент – из записных книжек Дарвина о трансмутации видов. Они датируются 1837 или 1838 г., когда он только что открыл эволюцию.
70
Первая глава “Происхождения видов” могла быть посвящена красотам бразильского тропического леса, в котором 23-летний Дарвин блуждал в религиозном экстазе. Или – Кенту, где за умиротворенностью скрывается жестокая борьба за жизнь и свет. Или – Галапагосским островам, источнику теории эволюции. Дарвин мог бы даже просто сделать краткий обзор своих опубликованных несколькими годами ранее четырех томов об усоногих раках и рассказать, какое отношение циприсовидная личинка[118] имеет к креветкам и крабам. Он мог рассказать о странных видах с микроскопическими самцами (“мешочками для сперматозоидов”) и гигантскими хоботообразными пенисами. В конце концов, существование всех этих организмов и есть проблема. Это то, что Дарвин пытается объяснить. Можно ожидать, что он, привлекая внимание читателей, покажет в первой главе книги, как интересны и прекрасны все эти существа.
Дарвин заявляет, что все породы голубей происходят от сизого голубя (Columba livia). Долгий искусственный отбор разделил и видоизменил их. Это происходит и в природе. Познай голубя, пойми голубя, и остальное приложится. Тезис Дарвина настолько тривиален, что ни один биолог не может смотреть на голубя, овцу, козу или золотую рыбку, не видя в их перьях, ногах или плавниках путь эволюционной истории: грандиозной, гротескной, той и другой сразу. Рассказ о происхождении жирнохвостой овца или гривастой коровы начинается тысячи лет назад в ближневосточных пустынях и в долине Инда, касается гор Малой Азии, прибрежных холмов Леванта, Восточно-Африканской рифтовой долины, Столовой бухты и (поскольку эволюция никогда не останавливается) продолжается сейчас.
Но это не совсем дарвиновский случай. Лишь в последние десятилетия молекулярным генетикам и археологам удалось связать извилистые генеалогии обитателей скотного двора с отправными точками в дикой природе[119]. Довод Дарвина глубже. Он хотел показать, что все виды изменяемы и что некоторые изменения наследуются. Природа порождает наследственную изменчивость:
Разнообразие пород поистине изумительно. Сравните английского почтового голубя с короткоклювым турманом и обратите внимание на удивительное различие их клювов, которое влечет за собой соответствующие различия в форме черепов. Почтовый голубь, в особенности самец, тоже отличается необычным развитием мясистых наростов на голове; и это сопровождается сильно удлиненными веками, очень большими наружными отверстиями ноздрей и широким разрезом рта. Короткоклювый турман имеет клюв, напоминающий своим очертанием клюв вьюрка, а обыкновенный турман… [и т. д.]
Дарвин хотел понять механизм наследственности. Наследственная изменчивость, в соответствии с его концепцией, служила “топливом” для эволюционного “двигателя”, и было нужно знать ее закономерности и пределы, в которых она может проявляться. Он десятилетиями бился над этой проблемой. Осторожные замечания о трансмутации в записных книжках превратились в уверенные заявления на страницах “Происхождения видов”, которое, в свою очередь, породило в 1868 г. другой трактат, “Изменение животных и растений в домашнем состоянии”, затянутый и нерешительный. Это научная неудача Дарвина, притом главная. И все же он был прав, предполагая у каждого вида богатый репертуар проявлений наследственной изменчивости. Важный урок последарвиновской биологии состоит в том, что многообразие признаков проявляется на всех уровнях организации. Фенотипическое разнообразие отчасти обусловлено генами, отчасти – условиями окружающей среды. Многое есть продукт действия обоих этих факторов в таких сочетаниях, которые мы едва ли можем распутать.
Дарвину удалось кое-что из этого понять. Но Аристотелю? Многие исследователи считают, что нет. Аристотель, утверждают они, верил: задача ученого состоит в перечислении “сущностных” признаков животного. Значения таких признаков не варьируют от особи к особи, а меняются лишь в результате несчастных случаев (перенесший ампутацию человек все еще человек, пусть и не двуногий). В поисках сути каждой формы Аристотель игнорировал индивидуальную изменчивость и рассматривал ее вне компетенции науки. Сколь ни разнился облик Сократа и Каллия – или двух овец, – для Аристотеля они были “по форме” одним и тем же.
Это неверно. Да, Аристотель желает установить типичные, функциональные – “сущностные” – признаки родов. Однако он также стремится понять бессмысленное разнообразие, которое привносит загадку даже в самые малые из них, те роды, которые можно назвать atoma eidē – “неделимые сущности”. У Аристотеля нет термина для такого рода изменчивости, поэтому я назову ее здесь неформальной изменчивостью (по аналогии с современным биологическим термином “внутривидовая изменчивость”). Аристотель пишет, что в Иллирии и Пеонии свиньи однокопытные, как лошади, в отличие от двукопытного большинства свиней. Звучит как выдумка, однако Дарвин упоминает, что такие свиньи есть в Англии. Аристотель и Дарвин ясно дают понять, что говорят не о двух родах или видах свиней, а скорее о вариантах домашней свиньи[120].
Таким образом, все земные овцы, свиньи, лошади и крупный рогатый скот – лишь проявления определенных форм. У каждого домашнего животного, говорит Аристотель, есть эквивалент в дикой природе. Следует ли отнести их к различным родам? Нет, это было бы неестественным. То же и с людьми. Аристотель знает, что у эфиопов черная кожа и курчавые волосы, однако считает само собой разумеющимся, что у эфиопов и греков одна неделимая сущность.
Дарвин утверждает, что изменчивость, наблюдаемая у домашних животных, главным образом наследуема. Аристотель, напротив, объясняет неформальную изменчивость в основном прямым воздействием среды. Где-то климат жаркий, а где-то – холодный. Климат также может быть влажным или сухим, и этим обусловлен различный облик животных. В глубинах моря настолько холодно, что у морских ежей, обитающих там, – длинные шипы. Климат Африки сухой, а черноморского побережья – влажный, и поэтому у эфиопов кудрявые волосы, а у скифов и фракийцев – гладкие. Жаркий климат Египта приводит к тому, что холодные по своей природе животные (змеи, ящерицы, а также черепахи Красного моря) вырастают очень крупными. С другой стороны, недостаток пищи связан с тем, что египетские собаки, лисы и зайцы невелики. Пчелы “окрашены равномернее”, чем шершни и осы, потому что у них сравнительно однообразное питание. Подобная неформальная изменчивость лишена функционального значения. Это лишь физические свойства тканей, сформированные по прихоти природы.
Озадачивает вот что: Аристотель упорно связывает географическую изменчивость с влиянием окружающей среды. Неужели он не понимал, что признаки домашних животных наследуемы? Предположим, Аристотель лишь читал о сирийских жирнохвостых овцах и балканских однокопытных свиньях, но сам их не видел. Но ведь он мог узнать у любого крестьянина, что длинношерстные и кудрявые овцы – это породы? Аристотель сообщает, что в некоторых районах живут овцы черные, а в других – белые и что это может быть связано с водой[121]. Это абсурд. В Греции стада овец подобны шашечной доске, и любому пастуху (как, например, коринфскому горцу, которого я повстречал) известно, что окрас наследуется. Да и нельзя сказать, что в IV в. до н. э. в Греции не были известны принципы отбора: Платон в “Государстве” рассуждает о том, как вывести наилучшую породу овчарки. Конечно, учитывая, что это работа Платона, в данном случае это было лишь введением к вопросу, который действительно интересовал автора, а именно – как “вывести” лучшего человека. И пусть Аристотелю удалось проигнорировать евгенические фантазии Платона[122], у Аристотеля был по крайней мере еще один коллега (и ближайший друг), чье понимание причин внутривидовой изменчивости было достаточно тонким и чьи данные были гораздо лучше.
Probaton Аристотеля – сирийская жирнохвостая овца (Ovo aries)
71
Если наука Аристотеля – это фейерверк, то работы Теофраста подобны свету свечей. Его теории не настолько смелы и кажутся заимствованными у Аристотеля. Рассказывая о растениях, Теофраст ни разу не упоминает своего друга, однако тот всегда незримо присутствует в его работах. И все же Теофраста нельзя недооценивать. Различие темпераментов проявляется и в методе. Теофраст осторожнее, он опирается на эмпирические данные охотнее, чем на теорию. В его работах меньше метафизической шелухи. И это не только потому, что “Метафизика” Теофраста фрагментарна, а одноименная работа Аристотеля дошла до нашего времени целиком. Когда Теофраст рассматривает альтернативные толкования и приводит аргументы, не возникает ощущения, будто автор подтасовывает данные (это постоянно чувствуешь при чтении Аристотеля). Теофраст похож на современного ученого.
Фракийская пшеница, пишет Теофраст, прорастает поздно и созревает за три месяца. А в других местах пшеница прорастает рано и созревает за два месяца. Почему? Одно из очевидных объяснений: особенности фракийских воздуха, воды или почвы. Он анализирует воздействие почвы, воды и ветров на рост растений. На Лесбосе, у Пирры, течет река, вода в которой настолько питательна, что убивает растения, а кожа людей, которые в ней купаются, оказывается покрыта какими-то чешуйками. (Он, должно быть, имеет в виду богатые минералами горячие источники Лисвори к западу от Лагуны.) Теофраст утверждает, что признаки животных также подвержены влиянию окружающей среды, однако в меньшей степени, чем растения, поскольку они не настолько тесно связаны с почвой.
Это отсылка к египетским животным[123] Аристотеля. На самом деле модель весьма близка Аристотелю. Однако дальше Теофраст пишет, что если выращивать фракийскую пшеницу в других местах, она прорастает поздно, а если выращивать рано прорастающую пшеницу во Фракии, она прорастает рано[124]. У каждой разновидности пшеницы, заключает он, “особенная природа”. Теофраст, по-видимому, полагает, что различия между разновидностями пшеницы постоянны, что они наследуемы. Но и окружающая среда, и наследуемые качества могут влиять на развитие растения. “С другой стороны, трудно найти для всякого рода сущностей разумные основания, которые связывали бы их с целевой причиной во всех случаях, для животных, растений и любого пузырька пены, – если только это не случится через перестановки и изменения в других вещах, которые и производят формы и всевозможное разнообразие явлений в воздухе и на земле”[125]. Или, пользуясь терминологией Фрэнсиса Гальтона, это вопрос и врожденных качеств, и влияния среды.
По крайней мере здесь Теофраст подошел ближе Аристотеля к объяснению. Да, ученик был садовником, но его наставник смотрел на сад лишь через забор. Однако ученые дополняют друг друга. Теории Теофраста неосновательны. Как наследуется изменчивость? В отличие от Аристотеля, этого он не объясняет.
72
Хотя Аристотель связывал наличие кудрявых или прямых волос с влиянием климата, он, конечно, знал, что дети наследуют по меньшей мере некоторые признаки родителей. У него самого было двое детей: сын и дочь. Из всех научных проблем, которых он касался, наследование “внутривидовой” (неформальной) изменчивости – одна из самых сложных. Ее проявления трудноуловимы: чтобы точно описать, насколько дети похожи на родителей, необходимо обладать пониманием вероятности. А чтобы точно описать внутренности каракатицы, этого не требуется. И наблюдение само по себе не может решить генетическую проблему: необходимы сложные эксперименты, включающие разведение и исследование большого количества особей на протяжении жизни многих поколений. Дарвин, который проводил именно такие эксперименты и даже пробовал обсчитывать их результаты, ничуть не продвинулся вперед.
Данные Аристотеля о наследственной изменчивости поразительно скудны. Да, он упоминает несколько случаев наследственной изменчивости, но это лишь слухи, и он упускает многое из того, что мог бы увидеть. Аристотель, в отличие от Дарвина, игнорирует домашних животных. Конечно, он ничего и никого не скрещивает (хотя у него есть несколько занятных фрагментов о гибридах). Аристотель посвящает целые страницы вариациям окраски глаз и волос человека, но не упоминает, что они могут передаваться по наследству. Его занимает тератология – карликовость, гермафродитизм, сросшиеся близнецы, аномальные гениталии, наличие лишних конечностей, – и Аристотель указывает, что подобные пороки развития часто, но не всегда, передаются потомству. Это, конечно, правда, но дает нам немного. В целом понимание Аристотелем изменчивости лишь немногим глубже, чем размышления любого новоиспеченного отца:
Некоторые дети похожи на своих родителей, а другие – нет. Некоторые похожи на отцов, другие – на матерей, причем некоторые всеми частями тела, а другие – отдельными признаками; кто-то напоминает родителей, кто-то предков своих родителей, а кто-то случайного человека. Мальчики могут быть больше похожи на отца, а девочки – на мать. Некоторые дети не похожи на родственников, но хотя бы имеют облик человеческого существа. А вот часть детей формой больше похожа не на человека, а на монстра.
До законов Менделя очень далеко.
Но насколько неубедительными ни были бы эти данные, они предлагают Аристотелю ряд явлений для объяснения. Почему ребенок: 1) иногда похож на родителей; 2) иногда похож на своих родственников; 3) иногда не похож ни на кого из родных, а просто имеет человеческий облик; 4) иногда совсем не выглядит как человек. А также: 5) почему мальчики обычно, но не всегда, похожи на отцов, а девочки – на матерей; 6) почему черты ребенка могут быть похожи на черты родителей или их предков. Естественно, у Аристотеля есть теория на этот счет, и, естественно, он должен сначала опровергнуть чужую.
Аристотель редко указывает оппонентов, однако время от времени мы узнаем, кто они, поскольку располагаем текстом, содержащим аргумент, который вызвал его недовольство. Трактат V в. до н. э. “О семени” содержит краткий разбор теории изменчивости, с которой Аристотель, очевидно, знаком. Он относится к “Корпусу Гиппократа”, однако его автор определенно не сам Гиппократ. Эта теория особенно интересна, так как она возрождается в XIX в. Аристотель успешно сокрушает ее и так убивает двух зайцев, отстоящих друг от друга более чем на 2 тыс. лет. Один из этих “зайцев” – Дарвин.
Модель “Гиппократа”[126] проста. Семя отца возникает в частях его тела: руках, сердце и всех остальных органах и тканях, порождающих жидкости, которые транспортируются по сосудам к пенису, где они размешиваются, нагреваются и выбрасываются наружу. Нечто подобное происходит и в организме матери. Семя обоих родителей смешивается в утробе, и возникает эмбрион с признаками отца и матери (соразмерно их вкладу). Это лишь на первый взгляд убедительная модель. Прямая физическая связь между частями тела и семенем служит удобным объяснением того, как признаки родителей передаются через семя потомству. Демокрит, по всей видимости, перенял некую версию этой теории, но, скорее всего, в качестве единиц транспортации он принимал не жидкости, а частицы. В 1868 г. Дарвин высказал ту же мысль с некоторыми уточнениями и назвал ее пангенезисом[127].
Аристотель серьезно относился к пангенезису. “Гиппократ” привел несколько аргументов в пользу этой теории. Аристотель повторяет их и даже дополняет – но лишь затем, чтобы опровергнуть. На целой дюжине страниц он предлагает 15 контраргументов. В одном случае возникает главный вопрос генетики XIX в.: наследуются ли приобретенные признаки?
“Гиппократ” высказывает мнение: если какая-либо часть тела родителя искалечена, то семя, которое исходит из этой части, будет слабым и ребенок таким же образом окажется искалеченным. Аристотель понимает, что если так, то появлялись бы “дети, напоминающие родителей не только по врожденным признакам, но и по приобретенным”. Аристотель даже рассказывает о человеке из Халкедона с клеймом на руке и его ребенке, у которого имелась тусклая версия той же отметки. Дарвин выдвинул свою версию пангенезиса именно потому, что полагал, будто приобретенные признаки могут иметь значение для эволюции. Аристотель, однако, эту теорию не принимает: “А что от увечных рождаются увечные, причина этому та же, почему дети похожи на родителей. От увечных рождаются и неувечные, как и не похожие на родителей дети”. Пангенезис также подразумевает, что если подрезать какую-либо часть растения, его потомство будет вырастать уже подрезанным в том же месте, но это не так[128]. Увечья, согласно этой теории, должны наследоваться, однако они не наследуются: соотношение между телами родителей и генетическим содержанием их семени, таким образом, должно быть гораздо менее определенным.
73
Собственная модель наследственности Аристотеля – настоящий триумф теоретической биологии. Это, вероятно, одна из наиболее зрелых его теорий. Здесь Аристотель наиболее ясно и подробно описывает роль матери в размножении. Никогда прежде влияние обоих родителей на формирование эмбриона не признавалось почти равнозначным. Аристотель говорит здесь не об активных формах и пассивном материале, а скорее о соревнующихся силах.
В стандартном аристотелевском описании эмбриогенеза форма животного передается зародышу посредством движений в семени. Это его единицы наследственности, носители информации. Аристотель довольно неопределенно высказывается о том, как месячные выделения несут информацию, но они должны участвовать в этом – в конце концов, они дают эмбриону жизнь по меньшей мере растительного рода. Далее Аристотель начинает искать объяснение явлениям наследственности. Он высказывает мнение, что семя и месячные выделения охвачены движениями, в которых закодированы индивидуальные признаки обоих родителей. Результат – система двойного наследования: набор отцовских движений, в которых закодирована форма, – благодаря которым эмбрион вырастает в воробья, а не в журавля (или в человека, а не в лошадь); и набор движений, предоставленных обоими родителями, в которых закодированы их неформальные признаки, – благодаря которым эмбрион вырастает во взрослую особь, напоминающую одного из родителей больше, чем другого. Относительная сила этих неформальных движений определяет, на кого будет похож ребенок (если вообще будет похож). Идея конфликта в ходе эмбрионального развития здесь, возможно, от Демокрита или “Гиппократа”, однако модель Аристотеля проработана лучше их моделей: она предполагает, что такой конфликт асимметричен. Движения месячных выделений существуют потенциально. Они “деактивированы” и выполняют задачу лишь тогда, когда семя не справляется со своей. Даже теперь Аристотель не вполне признает матерей равноправными участниками полового процесса.
Демонстрируя достоинства своей модели, Аристотель начинает с того очевидного факта, что дети бывают двух полов. Определение пола было одним из главных вопросов, занимавших натурфилософов, и Аристотель охотно берется развенчивать их теории. Анаксагор считал, что семя из правого яичка приносит мальчиков, а из левого – девочек, то есть приписывал все заслуги отцам. Некто Леофан даже предлагал выбирать пол будущего ребенка посредством перевязывания перед сношением одного из яичек. Аристотель считает, что это вздор (хотя бы потому, что не верит, будто яички вообще производят семя). Теория Эмпедокла была традиционно сложна. Аристотель рассказывает, что по Эмпедоклу микроскопические мужские и женские частицы, происходящие от каждого родителя, расщепляются и сливаются в утробе матери. Однако это сложно понять. Дело то ли в том, что Аристотелю не нравится теория (“Эмпедокл… довольно легкомысленно предположил”, “этот способ действия – чистый вымысел”, “странно предполагать, что…”), и он, пожалуй, искажает ее при пересказе. Или в ней изначально не было смысла (Эмпедокл все-таки сочинял стихи)? Аристотель все же выделяет явный недостаток. Кажется, Эмпедокл считал, что пол будущего плода каким-либо образом зависит от температуры в матке, и у Аристотеля есть веское доказательство обратного. Он указывает, что при вскрытии живородящих животных в одной матке нередко находят близнецов мужского и женского пола, так что температура не может определять пол. Аристотель не просто констатирует факт: он празднует победу.
В собственной теории Аристотеля движения в семени “кодируют” принадлежность к мужскому полу, а движения в месячных – к женскому. Так как женские движения возникают лишь в том случае, когда мужские слабы, девочка олицетворяет несостоятельность семени своего отца. Аристотель пытается интегрировать эту модель в свою теорию эмбриогенеза. Семя горячее, месячные выделения холодные, и чтобы эмбрион был правильным образом “приготовлен”, они должны присутствовать в правильном количестве. Получается, относительная теплота движений каким-то образом влияет на их относительную силу. Есть некоторое лукавство в том, как Аристотель переключается от теплоты к движениям, однако смысл модели ясен. Когда семя “покоряет” месячные выделения, получается мальчик; если по какой-либо причине это не удается, то движения, таящиеся в месячных выделениях, раскрываются, и рождается девочка. Таким образом, девочек производят слабые, по меньшей мере холодные, отцы. Это позволяет предположить, что среда влияет на пол потомства, и Аристотель заявляет, что рацион, возраст отца, температура окружения и направление ветра могут влиять на теплоту семени и, таким образом, на пол ребенка. Следуя указаниям Аристотеля, если отец хочет, чтобы на свет появилась девочка, ему следует принять продолжительный холодный душ, а еще как следует постараться: это подействует лучше перевязывания яичка.
Однако конфликт в теле эмбриона – это лишь начало, ведь Аристотель проводит различие между первичным определением пола и последствиями. Он говорит, что конфликт в зародыше определяет непосредственно лишь малую часть последнего, которая влияет на остальное тело и дает все остальные признаки пола. (Причинно-следственная связь напоминает о самодвижущихся вещах.) Это очень похоже на современное разделение между “первичным” и “вторичным” определением пола. В 1944 г. Альфред Жост кастрировал кроликов на стадии плода и заметил, что они все время становились особями женского пола, продемонстрировав, что критическим органом для вторичного определения пола является гонада (она продуцирует гормоны, которые определяют остальные вторичные половые признаки: наружные половые органы, грудь, борода и т. д.). Аристотель отмечает, что кастрированные животные и евнухи феминизируются, и заключает из этого, что что “присутствие некоторых частей тела принципиально для [определения пола], и когда эти важные части удаляются или повреждаются, многие другие части, связанные с ними, изменяются”. Вывод должен был быть почти таким же очевидным для Аристотеля, как и для Жоста: яички критически важны для определения пола. Однако Аристотель скептически относится к яичкам и влюблен в сердце, поэтому он выражает мнение, что именно от сердца эмбриона проистекают все остальные различия.
74
Установив тот факт, что пол ребенка является результатом конфликта между неформальными движениями в семени и месячных выделениях, он заявляет, что остальная неформальная наследуемая изменчивость закодирована таким же образом. Он говорит о носах – в частности, о знаменитом носе Сократа, представлявшем собой противоположность греческому носу. Идеал можно увидеть на “Посейдоне с мыса Артемисион” или любой другой статуе того времени: с высокой переносицей, прямой и достаточно крупный. Нос Сократа был маленьким и вздернутым. (В своем “Пире” Ксенофонт описывает, как Сократ защищает свой вздернутый нос, выпученные глаза, широкий и дряблый рот: они прекрасны, потому что “работают лучше”, чем ваши.) Таким образом, пена, видимая в семени Сократа, олицетворяет бесчисленные мельчайшие движения, в которых закодированы его черты, среди которых вздернутый нос.
Сократ женат на Ксантиппе. Ее месячные выделения также обладают движениями, в которых закодированы ее неформальные признаки. Однако, как и в общем случае, они присутствуют лишь потенциально – то есть они необязательно выражены. Ксантиппа славилась сварливостью, поэтому представим, что у нее нос с горбинкой. Если бы семя Сократа “одолело” месячные выделения Ксантиппы, их сын Менексен являлся бы копией курносого отца. А если это не удалось бы, то проявились бы скрытые движения Ксантиппы и на свет появилась бы дочь с горбатым носом.
Одна из странностей теории наследственности Аристотеля, таким образом, заключается в том, что он полагает, будто большая доля черт (он рассуждает здесь о чертах лица) обусловлена полом. Мальчики, как правило, похожи на своих отцов, а девочки – на матерей. Я не знаю, почему он так считает. В конце концов, у современных детей независимо от пола хорошо различимы черты и отцов, и матерей (а также бабушек и дедушек)[129]. Правда, Аристотель признает, что связь может нарушаться. Если семенные движения Сократа в основном победят, а его движения, отвечающие за нос, провалят свою миссию, Менексен получит материнский нос с горбинкой. В таком случае, по словам Аристотеля, нос переходит в противоположную линию.
Носы греков. Слева: герои. Справа: Сократ.
Теории наследственности Аристотеля и “Гиппократа” очень различаются. Аристотель полагал, что наследуемые признаки распределяются дискретно: нос Менексена может быть как у Сократа либо как у Ксантиппы, но у него не может быть носа промежуточной формы. “Гиппократ” же допускает непрерывное распределение: нос Менексена в зависимости от точной доли семени отца и матери может быть либо как у одного из родителей, либо чем-то средним. То есть для Аристотеля наследственные движения стабильны: они очень долго могут оставаться более или менее неизменными. По “Гиппократу” же, в каждом поколении жидкости заново смешиваются.
Это различение характерно и для теорий раннего Нового времени. Аристотель пишет о “корпускулярной” наследственности, а “Гиппократ” – о “слитной”[130]. Однако Аристотель не считает, будто при этом переносятся частицы (это было бы слишком в манере Демокрита), полагая лишь, что ее движения стабильны и дискретны. У этого есть важные следствия.
Аристотель понимает, что хорошая теория наследственности должна объяснять не только то, что дети похожи на родителей, но и то, почему дети иногда похожи на своих дедушек и бабушек и даже на более отдаленных предков. Аристотель убежден, что такие перестановки распространены, однако пример, который он приводит, неправдоподобен. Он говорит, что в Элиде “женщина прелюбодействовала с эфиопом”, но “не ее дочь родилась эфиопкой, а потомство дочери” – хотя отец ребенка был как будто греком[131]. В книге I “О возникновении животных” Аристотель пишет, что теория его оппонента не может это объяснить, и он прав. И, хотя он не возвращается к данному случаю, излагая собственную теорию, его как раз можно объяснить с помощью последней. По меньшей мере, если бы ученый добавил еще один уровень сложности.
Аристотель пишет, что иногда теплота семени и его движения недостаточно сильны, чтобы воспроизвести черты отца, однако и не настолько слабы, чтобы проявились черты матери. В этом случае Менексен унаследует нос деда и передаст его далее – своим сыновьям. Менексен, хотя это менее вероятно, может унаследовать нос и более далекого предка. Поскольку такие нарушения приводят к стойкому наследуемому изменению в движениях отцовского семени, мы можем назвать их мутациями. Аристотель, по-видимому, считает, что многие мутации (возможно, большая их доля) вызывают родовые перестановки. Он предлагает термин для стойкого наследуемого изменения в генетической динамике: lysis, “ухудшение”.
Однако “поломка” отвечающего за нос движения в семени Сократа сама по себе не объясняет, как Менексен может унаследовать нос деда: Аристотель должен объяснить также, где сохраняется эта информация. Поэтому он предполагает, что в движениях семени Сократа “закодирован” не только вздернутый нос, но и нос его отца, деда, прадеда и т. д. на протяжении… скольких поколений? Аристотель этого не говорит. В движениях месячных Ксантиппы подобным образом закодированы носы ее предков женского пола. Однако ни одно из этих движений не выражено; это лишь возможности, ожидающие реактивации в случае неудачи активного отцовского движения. Целые поколения носов, закодированные в наших физиологических жидкостях! От этой мысли захватывает дух.
Если бы Менексен унаследовал нос деда или даже нос матери (с горбинкой), это было бы не так плохо. Ведь результат некоторых мутаций гораздо удивительнее. Ходят слухи, отмечает Аристотель, о монстроподобном ребенке с головой барана или быка либо о теленке с головой мальчика, и считают этих существ гибридами человека и животных. Однако это не гибриды: просто движения в семени и месячных выделений их родителей не справились со своими задачами. Эти примеры – ребенок с головой быка (или обратное) – не только опровергают поверье, но и наносят еще один удар по преформизму Эмпедокла. Он хочет быть уверен, что ни один умник-студент не поднимет руку и не заявит: “У меня есть друг, который знает женщину, кузина которой родила ребенка с головой теленка. Разве это не доказывает, что Эмпедокл прав?”
Нет, не доказывает. Аристотель может объяснить любые уродства, отсылая к движениям в семени и месячных выделениях. Если движение, отвечающее за нос Сократа, очень слабо, то у Менексена может быть нос, лишь отдаленно похожий на человеческий[132]. А в случае полной неудачи ребенок приобретет нос, подобный носу животного. Стоит отбросить все движения в семени, отвечающие за человеческий нос, и все, что остается, это движения, создающие нос животного. Этот взгляд на последствия мутации происходит из его взглядов на эмбриональное развитие. Если у эмбрионов сначала проявляются признаки, общие для всех живых организмов (растительная душа) или всех животных (чувствующая душа), и лишь после – признаки определенного вида, то легко увидеть, как неспособность семени правильно “сварить” месячные выделения может привести к остановке развития на полпути и лишить человеческий плод его человеческих признаков. По Аристотелю, это было бы несовершенно.
Любая теория наследственности, которая стремится объяснить возврат к примитивным формам (или атавизм, возврат к ранним стадиям развития, сходство с предковыми формами, пропущенные поколения: это разные термины для похожих явлений)[133], должна подразумевать, что единицы наследования стабильны – то есть являются частицами в самом широком смысле слова, – и что они могут быть скрыты на протяжении поколений, а потом реактивироваться. Эти две идеи неоднократно возникали в истории. Аристотель объяснял реверсивную мутацию, допуская, что движения могут быть либо активными, либо потенциальными. Пьер Луи де Мопертюи в XVIII в. описал генеалогию конкретного наследуемого признака, допуская, что наследственные начала могут отличаться более или менее “стойким устройством”. Дарвин, который посвятил атавизму главу работы “Изменение животных и растений в домашнем состоянии”, положил в основу своей версии пангенезиса геммулы, которые могут находиться в состоянии покоя. Мендель сделал начала доминантными или рецессивными. Есть и другие примеры.
Современные (с XVIII в.) таксономия, функционализм и эмбриология построены на основах, заложенных Аристотелем, но нет причин думать, что взгляд Аристотеля на логику наследственности веками влиял на науку. Гораздо вероятнее, что природа, как это часто бывает, выделяла тех, кто исследовал ее в том же направлении. (Аристотель в другом контексте говорил о Демокрите: “…и коснулся этого [понимания соотношения природы и души] впервые Демокрит, – не как необходимого для рассмотрения природы, а просто будучи приведен к этому самим делом”.) Конечно, каждая теория по-разному описывает, как сочетаются и передаются единицы наследственности, и верна из них лишь одна. Аристотель неправ. Обозрев, однако, удручающую раннюю историю генетики, мы увидим: до 1865 г., когда Мендель представил “Опыты над растительными гибридами”, у ученых не было теории лучше аристотелевской.
Глава 12 Как приготовить устрицу
75
Самые крутые парни в заливе Каллони – это ныряльщики. Презирая акваланги, они ныряют со шлангами, присоединенными к дизельному компрессору, и тоннами поднимают устриц, морских гребешков и мидий. Большинство ныряльщиков – молодые люди, но я встретил и ныряльщика лет под шестьдесят. Он был тощ, как баклан, и, казалось, вырезан из оливкового дерева. Я спросил, сколько часов он провел под водой. Он ответил: пятьсот. Это поразило меня, так как я за всю жизнь провел под водой едва сто пятьдесят часов. Он продолжил: пятьсот часов – в прошлом году. И столько же в позапрошлом. И каждый год с молодости. Мы, как правило, ныряем зимой, прибавил ныряльщик.
У меня нет сведений о разведении здесь моллюсков, однако измерение глубин дает представление о прежнем изобилии. К юго-западу от Скалы по направлению к входу в Лагуну плоское дно начинает перемежаться холмиками, то и дело возникающими на экране гидролокатора. Это устричные рифы, которые рыбаки называют kapalies. Они утверждают, что их несколько тысяч (по крайней мере было). С 50-х гг. XX в. многие разрушены в результате ловли устриц сетями. Сейчас это незаконно, но рыбаки признаются, что кое-кто до сих пор это практикует, пока не видит портовая полиция (непонятно, из-за лени или коррупции). Несомненно вот что: численность устриц и морских гребешков снижается, а поля мидий разрастаются.
Limnostreon Аристотеля – устрица (Ostrea sp.)
Моллюски в Лагуне – это “ракушкокожие” (ostrakoderma) Аристотеля. Он описывает анатомию и поведение, среди прочих, limnostreon (устрицы), kteis (морского гребешка), pinna (пинны благородной), lepas (морского блюдечка) и kēryx – моей любимой харонии изменчивой[134]. Он рассказывает о porphyra (мурициде): брюхоногом моллюске, которого когда-то добывали ради пурпурного вещества, вырабатываемого его гипобранхиальной железой. Аристотель говорит, что есть много видов мурицид, и что обитающие в Лагуне невелики, и что брюхоногие из других мест дают краситель другого качества. Он, возможно, разделяет местные виды мурицид: мурекса обрубленного (Hexaplex trunculus), источника индиго, и мурекса пурпурного (H. brandaris), источника тирского пурпура. Самый распространенный вид в Каллони – H. trunculus, который, по Аристотелю, питается двустворчатыми, но не брезгует и падалью. Эти брюхоногие сейчас считаются бесполезными, но когда-то, от минойских до византийских времен, они были важной статьей торговли. По всему бассейну Эгейского моря можно увидеть кучи раковин. Во времена Аристотеля этот краситель стоил своего веса в серебре.
Porphyra Аристотеля – мурекс обрубленный (Hexaplex trunculus)
Описывая строение устрицы, Аристотель упоминает ее “так называемые” яйца. Он имеет в виду гонады, которые в летние месяцы выглядят как мешки молочного цвета. Тем не менее, он отказывает устрицам, как и остальным моллюскам, в гонадах. Он отрицает их наличие даже у морских ежей и предполагает, что в яйце накапливается жир. И это несмотря на то, что там невооруженным глазом различимы икринки. Но как тогда размножаются устрицы? Аристотель говорит: они самозарождаются.
76
Некоторые животные появляются от других животных той же формы и, соответственно, того же рода. Другие появляются спонтанно и не от родственных им животных. Некоторые из них появляются из гниющей почвы и растительных остатков, как случается со многими насекомыми, однако другие спонтанно зарождаются внутри других животных из остатков разных частей их тел.
Сердцевидки, кривохвосты и морские гребешки саморождаются на песчаном дне. Устрицы растут в иле. Пинна – в песке или иле. Асцидии, морские блюдечки, nēreitēs (улитки – возможно, из рода Monodonta), морские анемоны и губки – на скалах. Раки-отшельники происходят из почвы. В Книде есть кефаль, которая зарождается из песка или грязи, как и некоторые другие рыбешки. Рыбьи вши зарождаются из слизи рыб. Паразитические черви (гельминты) саморождаются в наших кишках. Насекомые и подобные им создания саморождаются везде: блохи – в продуктах гниения, вши – в плоти животных, клещи – в сорняках, майские жуки и мухи – в навозе[135], стрекозы – в бревнах, ложноскорпионы – в книгах, а моль – в одежде. Другие насекомые появляются из утренней росы. Инжирные осы саморождаются в инжире. Каждый вариант среды обитания, кажется, порождает форму жизни. Когда Аристотель начинает говорить о спонтанном самовозникновении, становится ясно: он считает неживую природу бесконечно плодородной.
Аристотель не просит верить ему на слово, а приводит доказательства. Однажды, рассказывает он, у Родоса несколько кораблей сорвалось с якоря, и за борт выпало множество глиняных сосудов. На дне сосуды покрылись илом, а затем и устрицами. Так как устрицы не могут передвигаться (и заползти в сосуды), они, похоже, возникли из ила. Или: некие хиосцы однажды перевезли множество устриц из Лагуны на свой остров южнее Лесбоса и выпустили их в проливе, “где сталкиваются течения”. Устрицы подросли, но не размножились.
Красивая симметрия: сначала Аристотель показывает, что устрицы могут появляться без размножения, затем – что они не размножаются, и, наконец, он определяет функцию структур, которые менее сообразительные ученые принимают за органы размножения моллюсков.
Однако, как любил напоминать Томас Кун, сколь бы ни были хороши эмпирические доказательства, нужна теория, если речь идет о важных научных вопросах. Аристотель, очевидно, это чувствует. (В трактате “О небе” он замечает: “А между тем справедливо либо не ниспровергать математику, либо ниспровергать ее на основании принципов более достоверных, чем ее аксиомы”[136].) Так что он обращается к проблеме самозарождения, приводя рецепт “приготовления” устрицы. В углубление налейте воды (морская особенно хороша) и насыпьте земли, перемешайте, нагрейте при помощи пневмы (в морской воде ее много) или на солнце. Смесь сварится и вспенится. Выделится зловонный осадок. Через некоторое время земля начнет застывать и образует раковину, а внутри нее – организм. Жизнь – это просто.
Большинство самовозникающих, по Аристотелю, животных – беспозвоночные. Есть одно особенное создание, наличие половых органов у которого ему объяснять не приходится, так как у него их нет. “Речной угорь, – пишет Аристотель в кн. 4 «Истории животных», – не самец и не самка, он не дает потомства”. В кн. 6 он добавляет: “Угри [речные] возникают не от спаривания, они не кладут яйца, и ни один угорь никогда не был пойман с молоками или икрой”. В этих двух предложениях четыре фактических утверждения, и ни одно из них не верно. Вопреки Аристотелю, угри есть мужского и женского пола и они способны спариваться, откладывать яйца и производить потомство. И этим ошибки Аристотеля касательно угрей не исчерпываются. (Он вообще мало что написал о них правильно.) Когда зоологи разбирают записи Аристотеля об угрях, то предпочитают быть снисходительными. Это потому, что он первым попытался ответить на одну из больших загадок этой науки. Он показал, что угорь – особое животное.
Проблема в том, что у угрей нет гонад. Вскройте угря, предлагает Аристотель, – и вы не найдете ни молок, ни икры. И он прав – по меньшей мере, если говорить о греческих водах. Половые железы угря обычно пусты, а гонады других рыб обычно наполнены молоками или икрой. Аристотель добавляет угря в список самовозникающих животных. Он, конечно, должен оценить теории конкурентов. Например, о форме головы угря. У одних угрей широкие головы, и они похожи на лягушек, у других узкие рыльца, и некоторые считают, что это проявление полового диморфизма. Аристотель отвечает: “Если же некоторые говорят, что разница между угрем самцом и самкой заключается в том, что у самца голова больше и длиннее, а у самки малая и короткая, то они говорят это не о самке и самце, а о различных видах [угрей]”[137]. Кое-кто утверждал, что угри живородящи. У Аристотеля это вызывает гнев: “Люди, утверждающие, что появлялись некогда угри, заключавшие в себе волосовидные и глистообразные порождения, не посмотревши ранее, где они находятся, утверждают это неосновательно”.
Аристотель решает описать онтогенез угря. Эти рыбы зарождаются в организмах gēs entera, “земляных кишках”, червеобразных существах, которые встречаются вблизи рек и болот, где наблюдается обилие согреваемого солнцем ила. Gēs entera являются матерями или хозяевами[138] новорожденных угрей – Аристотель не говорит об этом ясно. Если открыть один из них, иногда можно найти внутри маленьких угрей. Это остроумная теория, но неверная. Он, возможно, говорит о роющих норы многощетинковых червях пескожилах. Их норки разбросаны по пляжам и морским берегам, заливаемым при приливе и обнажаемым при отливе, и отвалы грунта, выбрасываемого из норок пескожилами, и в самом деле выглядят как кучки кишок[139]. Я предполагаю, что gēs entera – это попытка объяснить образ жизни угрей. Многие другие морские животные, которых Аристотель относит к саморождающимся (двустворчатые моллюски, устрицы, улитки, губки и т. д.), в его представлении очень простые животные. Он часто сравнивает их с растениями. Но угорь не похож на растение: он довольно велик, с кровью, очень активен и хищник. Можно перечислить еще множество признаков сложного устройства угрей. Аристотель – человек смелый, однако и он отказался утверждать, что животные метровой длины могут появляться каждый год из грязи, поэтому он “придумал” им личинок.
77
Идея самозарождения пагубно сказалась на юной науке. Декарт, Лицети, даже Гарвей – все были пленены ею. Ян ван Гельмонт докладывал о самозарождении мышей из тряпок и пшеницы. Упадок этой теории, как ни странно, ускорил Гомер. В “Илиаде” после боя земля усеяна трупами. Ахилл рыдает у тела Патрокла и молит мать, среброногую нимфу Фетиду:
…Но об одном беспокойно Сердце мое, чтобы тою порою в Патрокловом теле Муки, проникши в глубокие, медью пробитые раны, Алчных червей не родили; они исказят его образ (Жизнь от него отлетела!), и тление тело обымет![140]Франческо Реди, который в Пизе изучал Аристотеля и служил врачом тосканского герцогского двора, прочитал 19-ю песнь “Илиады” и задумался, был ли Гомер прав. Он разложил по горшкам мертвых змей, речную рыбу, угрей из Арно и телятину. Одни горшки Реди закрыл бумагой и кисеей velo di Napoli, контрольные оставил открытыми. В открытых горшках появилось множество мух, в закрытых – нет. Реди проследил жизненный цикл мухи и в 1668 г. опубликовал “Опыты по происхождению насекомых” (Esperienze intorno alla generazione degli insetti).
С устрицей разобрался Антони ван Левенгук. В 1695 г., купив в Зирикзее бушель устриц, он вскрыл раковины, рассмотрел в микроскоп мантийные полости моллюсков и описал семя и икру. Левенгук также обнаружил тысячи личинок-велигеров и даже увидел их эмбриональные раковины. Аристотеля он не поминает, однако выражает недовольство своими современниками: “Я открываю миру эти наблюдения, чтобы прекратить болтовню тех свиноголовых, которые все еще думают, будто моллюски самозарождаются в иле”. Левенгук видел в самовозникновении и более глубокую проблему. Он писал: “Но если из испарений происходят животные, то почему после битвы, в которой погибло более 50 тыс. человек, чьи тела оставлены гнить в поле, не зародилось множество детей или взрослых или чего-либо, напоминающего человека или лошадь? Ведь в битве, в которой погибло множество людей, погибает и множество лошадей”. Если допустить, что некоторые животные могут саморождаться, почему не распространить это обыкновение на всех?
Более века спустя после Левенгука биологи, процеживавшие шелковыми сетями прибрежные воды Европы, обнаружили в планктоне личинок “ракушкокожих”. В 1826 г. Джон В. Томпсон распознал циприсовидную личинку усоногого рака в Коркском заливе. В 1846 г. Иоганн Мюллер выловил в Германском заливе странного Pluteus paradoxus[141] и проследил, как тот превращается в морского ежа. В 1866 г. Александр Ковалевский обнаружил в Неаполитанском заливе личинку асцидии. Личинки восхитительны и в стократном увеличении выглядят так, будто они из венецианского стекла. Открытие изменило представления о порядке. Аристотель считал асцидию презреннейшим из животных. Открытие Ковалевским жаберных щелей, нервной трубки и нотохорда у личинок показало, что асцидия относится к хордовым. То есть асцидия не только не происходит из ила, но и является нашей родственницей.
К началу XIX в. большинство животных уже не относили к спонтанно зарождающимся. Исключением оставались паразитические черви с их непостижимо сложным жизненным циклом. Микроорганизмы оставались под подозрением до экспериментов Пастера (1859). В Северной Европе поверье о самозарождении угрей держалось до конца XVII в.
В Греции оно живо до сих пор. Мы ловили угрей в устье Вувариса, когда Димитрис, знавший, что я интересуюсь такими вещами, упомянул, что ученые не знают, откуда берутся угри, и что они растут в иле. Это его убеждение было основано на местных поверьях и личных наблюдениях, а не на чтении Аристотеля. Конечно, ученые знают, откуда берутся угри. Реди удостоверил то, на что Аристотель намекал: угорь – проходная рыба. Взрослые особи живут в реках и озерах, иногда по многу лет, спускаются к морю, отправляются в малопонятное наблюдателям путешествие, размножаются и умирают. Их потомство затем возвращается “стеклянными угрями”, которые между январем и апрелем миллионами заходят в устья европейских рек по пути к водоемам, откуда явились их родители.
И все же у угря никак не удавалось найти гонады. Некоторые, вопреки мнению Аристотеля, полагали, что угорь живородящ. Левенгук писал, что обнаружил утробу угря, полную молодых особей, готовых родиться. (На самом деле он нашел мочевой пузырь угря с круглыми червями-паразитами.) В 1777 г. профессор Болонского университета Карло Мондини наконец обнаружил у угря яичник. Им оказалась складчатая полоса ткани, которая проходит внутри вдоль всего тела животного и которую прежде принимали за жир. Семенники лишь в 1874 г. нашел Симон Сырский. Понятно, почему Аристотель упустил их: гонады представителей обоих полов более или менее пусты, пока угорь не уйдет далеко в море. (По сей день поймано всего несколько рыб с икрой. Одну извлекли из желудка кашалота посередине Атлантического океана.) Не знал, откуда берутся угри, и Зигмунд Фрейд: будучи 22-летним аспирантом, он вскрыл 400 угрей, ничего не нашел и решил переключиться на задачу полегче. Несколько лет спустя Грасси и Каландруччо, работавшие в Мессине, показали, что странный пелагический лептоцефал – это личинка угря. И лишь в 1922 г. Иоханнес Шмидт, совершая плавание на “Дане”, наконец установил, где угорь спаривается, умирает и рождается: в Саргассовом море (22°30′ с. ш., 48° 65' з. д.).
78
Симпатия Аристотеля к идее самозарождения кажется странной. Мы вряд ли можем порицать его за то, что он не знал, где размножаются угри, или что он не видел личинку устрицы. Но почему саморождаются мухи? В конце концов, Аристотель знал, что мухи совокупляются и порождают личинок, а из личинок вырастают мухи. Вывод, кажется, очевиден. К нему пришел даже Гомер. Но Аристотель не признает у мухи существование жизненного цикла, который у нее явно есть.
Несоответствия здесь не только эмпирические. Теория самозарождения противоречит некоторым из его собственных основополагающих теорий. По Аристотелю, порядок не может зависеть лишь от свойств материи: он требует формальной причины. Животное, которому свойственно половое размножение, получает форму от родительской особи. Форма – это информация, которая образует динамическую организацию души. Но у самовозникающих организмов нет родителей. Получается, что у улитки нет души?
Рецепт Аристотеля для саморождающихся организмов – это, без сомнений, попытка решить или хотя бы сгладить некоторые из этих проблем. Этот рецепт, очевидно, построен на его модели полового размножения. Есть субстрат (материальная причина), аналогичный месячным выделениям матери. Есть источник движения (действующая причина), источник души и тепла, аналогичный пневме в семени, а также “варение”, пена, становление порядка и жизни. Рецепт – действительно объяснение, однако неубедительное. Если отца нет, чем обусловлено появление, например, устрицы, а не другого моллюска? Почему так много саморождающихся видов?
Из ответа Аристотеля понятно лишь, что рождение животного конкретного вида зависит от точного соотношения ингредиентов. Вот почему ему важно точно указать, где можно отыскать организмы, причисленные им к саморождающимся: личинка навозной мухи (myia) возникает из навоза, а личинка слепня (myōps) – из бревен. Важна и форма углубления, в котором происходит “варение”. Все вместе эти факторы определяют, насколько “совершенным” (Аристотель приблизительно имеет в виду сложность) окажется создание. Однако, учитывая, что “сырье” для жизни распространено повсеместно, кажется, что она может возникнуть где угодно. В самом деле, Аристотель заверяет: “В известном отношении все полно души”.
Удивительно, что Аристотель находит эти основания убедительными. Они едва ли отличны от материалистических теорий, которые он так не любит, и обладают всеми их недостатками. В “Физике” (гл. 8, кн. II) Аристотель настаивает, что “все природные [образования] возникают или всегда одинаково, или по большей части, но это никак [не может быть] с теми, которые образуются случайно или самопроизвольно”. То есть самопроизвольные явления необычны и редки. Но устрицы, прочие двустворчатые моллюски, мухи и блохи – из наиболее распространенных животных. Как они могут являться результатом самопроизвольных событий? Аристотель также настаивает, что у спонтанных явлений нет целей, однако они кажутся целенаправленными. По его собственному наблюдению, у самовозникающих животных есть все те же органы (кроме репродуктивных), что и у тех, которым свойственно половое размножение. Угря может и не “быть в вечности”, но во всем остальном он того же рода телеологический конструкт, как и сардина: у обоих есть рты, желудки и плавники, которые они используют одинаково. Высвободив формы из основанной на взглядах Платона реальности и поместив их в центр своей теории наследственности и онтогенеза, Аристотель затем, по-видимому, отбрасывает их. И делает это потому, что не может понять, где у угрей гонады и как спариваются устрицы.
Таким образом, загадка остается. Аристотель верит в самозарождение, хотя у животных, знакомых ему лучше всего, есть родители. Он верит в самозарождение, несмотря на собственные данные о некоторых животных (ох уж эти мухи!). Он верит в самозарождение, хотя ему приходится исказить собственную – великолепную! – теорию эмбрионального развития. Он верит в самозарождение, хотя это противоречит его же метафизике, и отдает оппонентам-материалистам с таким трудом добытые очки. Он верит в самозарождение, хотя прямо перед ним простое альтернативное объяснение явления. Почему?
Убеждения ученого зависят одновременно от теорий предшественников, от теорий, которые он выдвигает сам, и от его собственных наблюдений. Аристотель не указывает, где он позаимствовал теорию спонтанного самозарождения, однако она была повсеместно распространена. Теофраст пишет, что в самозарождение верили многие, включая Анаксагора и Диогена. Она наверняка была связана с представлениями о происхождении жизни.
Эта связь обнаруживается в “Проблемах” Псевдо-Аристотеля. Автор ее, возможно, один из учеников Аристотеля, задается вопросом, почему некоторые животные зарождаются спонтанно, а другим приходится прибегать к половому размножению. Он начинает с утверждения, что все роды животных изначально происходят от “смеси определенных элементов”. Однако, как объяснили натурфилософы, живорождение в полной мере требует “мощных перемен и движений”. Здесь, очевидно, нужно представить химический беспорядок, подобный молодой Вселенной. (Припоминаешь “первичный бульон” с вулканами и молниями.) В наше время, однако, спокойнее, и саморождающиеся животные невелики, но тем, что крупнее, приходится размножаться половым путем.
Обычному греку не было нужды рассуждать подобным образом. Согласно поверью, цикады возникали в почве. Афинские девушки носили золотых цикад в волосах как знак того, что они коренные жительницы города. И потом: хлеб, мясо, вино, ткань и почти любое органическое вещество породит множество организмов, если надолго оставить его без присмотра. Даже в кадке с водой появится экосистема. Что же естественнее предположения о самозарождении? Даже осторожный Теофраст отмечает, что некоторые растения могут саморождаться.
Не может быть, чтобы симпатия Аристотеля к спонтанному зарождению была просто реликтом народного поверья или идеи досократиков. Обычно Аристотель скор и решителен, когда дело доходит до исправления предшественников. Однако здесь нельзя отбрасывать возможность некоторой интеллектуальной инертности. Возможно, было так. Аристотель, как всегда, берет за основу народное поверье, мнения экспертов (кроме Гомера) и допускает, что некоторые роды животных саморождаются. (Это нулевая гипотеза.) Далее он начинает изучать этих животных, собирая опровержения и доказательства. Он занимает позицию эмпирика, отказываясь верить в то, что у животного есть полный жизненный цикл, пока не проследит его целиком. Например, Аристотель упоминает, что некоторые авторы заявляют, будто саморождаются все серые кефали, однако из опыта ясно, что это делает лишь одна. Аристотель не считает саморождающиеся организмы продуктом прорастания невидимых “семян”: как правило, он скептически относится к существованию микроскопических объектов вроде атомов. Аристотель формулирует объяснение для саморождающихся животных, которое, насколько возможно, соотносится с его теорией полового зарождения, и попросту обходит затруднения. Он продолжает использовать досократовский эпитет самопроизвольный, хотя его собственное определение спонтанных событий (в “Физике”) гораздо строже. Здесь Аристотель, как он часто делает, применяет термин в нескольких довольно сильно различающихся значениях и забывает уточнить, в каком именно.
Это не очень удовлетворительное решение. Однако Аристотель не помогает нам найти лучшее. Он редко упоминает о затруднениях и почти всегда предстает человеком, который понимает явление и может убедительно его объяснить. Иногда, однако, Аристотель не в состоянии выбрать из двух или даже трех точек зрения. Он, кажется, не может определить, саморождаются ли porphyrai – мурициды с илистого дна Лагуны. Весной, пишет Аристотель, porphyrai собираются вместе и прячут “соты”, по которым ползают новорожденные улитки. Он, очевидно, говорит о кладках яиц, но, как и в случае гонад устрицы, не узнает их. Напротив, в “Истории животных” Аристотель указывает, что новорожденные улитки саморождаются из ила под “сотами”. В трактате “О возникновении животных” он рассказывает несколько по-другому: “соты” – это семяподобный осадок, из которого появляются новорожденные улитки, подобно тому, как на растении появляются почки. В другом фрагменте трактата “О возникновении животных” Аристотель все же допускает половое размножение: “Спаривание у них [ «ракушкокожих»] наблюдалось только в роде улиток; происходит ли их возникновение в результате спаривания или нет, – это в достаточной степени не выяснено”. Необходимо дальнейшее изучение.
Tettix Аристотеля – цикада (Cicada sp.)
Эмпиризм Аристотеля хорошо заметен в отношении к насекомым. Он полагает, что большинство животных саморождается. Можно предположить, что Аристотель не знает о сложном жизненном цикле, но это не так:
Большие и маленькие цикады спариваются в одинаковом положении – брюхо к брюху. Самец вводит свой репродуктивный орган в самку, а не самка в самца, как и у других насекомых; у самки цикады есть наружный половой орган в виде щели, в которую и вводится орган самца. Цикады откладывают яйца на неокультуренных участках земли, причем просверливают в почве отверстие, используя заостренный задний конец тела так же, как это делает саранча… Цикады могут откладывать яйца и в колышки, которые люди используют как подпорки для виноградной лозы: они высверливают в колышках дырки; и такие же дырки они проделывают в стеблях морского лука [средиземноморское растение семейства лилейных]. Часть кладки может вытечь из отверстия на землю, и в случае влажной погоды такие наземные кладки бывают многочисленны. Личинка, развивающаяся в земле, вырастает очень большой и становится цикадой-маткой [зрелой нимфой]. Когда приближается летнее солнцестояние, развитие цикады заканчивается: ночью шкурка нимфы лопается вдоль тела, и цикада-матка [нимфа] превращается во взрослую цикаду [имаго]. Она быстро приобретает темную окраску, ее покровы затвердевают, и она начинает петь. В обоих родах поют только самцы, а не самки.
И прибавляет: если поднести к цикаде согнутый палец, она взберется на него.
Глава 13 Смоквы, мед и рыба
79
Как-то раз в Эресосе я видел, как разделывают тунца. Его поймали далеко в море: хозяин таверны, по локоть в крови, на миг отвлекся от заточки ножа и махнул рукой куда-то в сторону Трои. Аристотель много говорит о тунцах, но, похоже, ни одного он не вскрывал. Он ничего не говорит об их анатомии: ни о том, что тунцы теплокровны, ни о том, что сердце тунца размером с сердце ребенка. Он не пишет о мощном скелете тунца (рыбы-убийцы в серо-голубой броне, весом в центнер), его челюстях и плавниках. Вместо этого он рассказывает об их образе жизни.
Весной, пишет Аристотель, женские особи thynnos “беременеют”, накапливая икру. С приближением лета они мигрируют в Понт Евксинский (Черное море). Рыбаки высматривают косяки thynnos с наблюдательных вышек, а ночью вылавливают рыб сетями, пока те спят. Thynnos нерестится только в Черном море. После нереста тунцы сильно худеют, слабеют, и их одолевают “тунцовые оводы”: напоминающие скорпионов паразиты, размером с паука (видимо, разновидность рыбьих вшей, рачков карпоедов). Молодые рыбы очень быстро вырастают и уплывают осенью в глубины Эгейского моря. Там они зимуют, нагуливают жир, а потом возвращаются в Черное море[142].
Membras Аристотеля – европейская сардина (Sardina pilchardus?)
Все земные твари смертны. Однако они могут обрести бессмертие, производя себе подобных. Как выразился Аристотель, “они возрождаются”, но не как индивидуальности, а как формы. Жизненный цикл живых существ зависит от более глобальных циклов, управляемых обращением Луны и Солнца вокруг Земли. Луна указывает период менструального цикла у женщин. А Солнце, двигаясь в плоскости эклиптики, вызывает смену времен года, к которой приспосабливаются все существа. Поэтому можно бесконечно рассказывать, когда и как животные спариваются, дают потомство, впадают в спячку и мигрируют.
Большинство животных, говорит Аристотель, спаривается весной, хотя есть и множество исключений из правила. Люди совокупляются и рожают детей круглый год, но мужчины наиболее страстны зимой, а женщины – летом. Птица же alkyōn, который прилетает на Лесбос тогда, когда Плеяды начинают всходить на закате (то есть в начале ноября), вьет свои затейливые гнезда и выводит птенцов во время зимнего солнцестояния (в декабре), когда стоит тихая погода – это время называют halkyonides hēmerai, “зимородковыми днями”. Аристотель говорил об обыкновенных зимородках (Alcedo atthis), которые прилетают зимовать на Лесбос. Этих птиц с изумрудно-синим оперением можно было часто видеть на болотах и в бухтах залива Каллони. По совпадению, Линней назвал зимородка в честь Аттис – любимой ученицы Сапфо[143].
Thynnos Аристотеля – обыкновенный тунец (Thunnus thynnus)
Эресос, 2012 г.
Каждый год рыба отправляется на нерест. Первой по счету, ранней весной, нерестится atherinai (западноевропейская атерина), во время нереста она трется о песок своим телом. После нее, пишет Аристотель, нерестятся kestreus (кефаль), salpē (салема), затем, в начале лета – anthias (средиземноморский окунь?), chrysophrys (хризофрис, новозеландский морской карась), labrax (обыкновенный лаврак) и mormyros (атлантический землерой). Triglē (барабулька) и некая korakinos размножаются ближе к осени, и вместе с ними еще раз нерестится salpē. Maenis (смарида), sargos (белый сарг), myxinos и khelōn (еще две разновидности кефали) нерестятся зимой. Некоторые рыбы нерестятся несколько раз в году в разных местах[144].
Многие животные, избегая крайностей, стремятся скрыться и от палящих лучей эгейского солнца, и от порывов зимнего ветра борея. В разгар лета исчезают все животные – змеи, ящерицы, черепахи, многие рыбы, улитки и насекомые. Когда Плеяды показываются на небе, пчелы укрываются в ульях и перестают питаться, так что к зиме они становятся почти прозрачными. Медведица, которая спарилась в месяце элафеболионе (март – апрель) и за лето располнела, рожает и впадает в спячку на три месяца[145]. Другие животные уходят в места с более умеренным климатом. Аристотель пишет о массовой весенней и осенней миграции журавлей между Африкой и центром Евразии.
Конечно, не нужно быть Аристотелем, чтобы обратить внимание на изменения, происходящие в течение года. Однако Аристотель не просто поэтически описывает сезоны, как Алкей, Симонид и Генри Торо. Он стремится показать, как животные подстраиваются под времена года, чтобы размножаться, выращивать потомство и добывать пропитание. Так, рыбы плывут в Понт, потому что там больше пищи и меньше хищников и потому что пресные ключи, бьющие в тех водах, идут на пользу молодняку. Кроме того, Аристотель объясняет, что у всякого животного собственная зона комфорта и что есть “слабые” животные с узкими пределами толерантности к температуре, а есть “сильные” животные с широкими. Так, перепел, “слабая” птица, улетает в теплые края прежде “сильного” журавля, а макрель уплывает раньше тунца. Кроме того, Аристотель стремится показать, насколько жизнь живых существ находится в соответствии с устройством мира, с физическими законами. Их жизненный цикл прямо зависит от небесных тел: “Таким образом, цель природы состоит в том, чтобы управлять рождением и смертью животных в соответствии с движением [небесных] тел”. Но, предупреждает Аристотель, природе не всегда удается этого достичь, поскольку материя бывает неподатлива.
80
Угрозу целостности аристотелевского мира представляет сама его структура. Наука, говорит Аристотель, – это объяснение перемен. В мире многое изменяется, а значит, многое нужно и объяснить. Тайфуны приходят с моря, на землю проливается дождь, реки несут свои воды к морю. Сходят лавины и оползни, эрозия губит горы, извергаются вулканы. Живые существа – бесчисленные живые существа – живут. По мнению Аристотеля, ничто из этого нельзя принимать как должное – потому что миру свойственно стремление к стабильному состоянию. (Должен уточнить: здесь под “миром” я подразумеваю не весь космос, а его часть, примерно соответствующую тому, что мы называем Землей. Аристотель выражается аккуратнее: “подлунный мир”.)
Подлунный мир, по Аристотелю, состоит из четырех начал, и у всех их есть “присущее им” место в космосе, куда они стремятся и где, достигнув цели, остаются. Присущее земле место – в центре подлунной сферы, воде – над землей, воздуху – над водой, а огню – над воздухом. Мы находимся приблизительно посередине всего этого и поэтому видим, как воздух и огонь движутся вверх, а вода и земля – вниз. По мнению Аристотеля, эти закономерности столь же незыблемы для начал, как для нас – закон всемирного тяготения. Но если сила тяжести делает мир целостным, не давая ему развалиться, то движение начал грозит превратить мир Аристотеля в подобие луковицы. На самом деле, в первом приближении этот мир и вправду похож на луковицу: ядро – это земля, а сверху ее последовательно покрывают слои воды, воздуха и огня. Однако если бы начала были идеально упорядочены – если бы мир находился в равновесии, – он пребывал бы в трупном окоченении. Не было бы – и не могло бы существовать – самой жизни.
Аристотель понимает проблему, порождаемую его собственной теорией начал, и предлагает затейливое решение. Что-то, утверждает он, должно постоянно смещать начала с присущего им места, что-то должно помешивать содержимое подлунного котла. Чтобы поддерживать начала в движении, он заключает их в цикл. Все начала характеризуются сочетанием двух основных свойств, каждое из которых может принимать одно из двух противоположных значений: теплый и холодный, сухой и влажный. Так, земля объединяет в себе холод и сухость, вода – холод и влажность, воздух – тепло и влажность, огонь – тепло и сухость. Эти свойства определяют возможность двусторонних превращений одного начала в другое: огонь ↔ земля, земля ↔ вода, вода ↔ воздух, воздух ↔ огонь. Цикл замыкается.
Сама по себе изящная схема не спасает мир от превращения в луковицу. Чтобы проходить цикл, начала должны взаимодействовать друг с другом. В поисках того, что могло бы обеспечить перемешивание, Аристотель обращается к небесным телам: Солнцу и Луне. Их восход и закат, цикл движения (суточный, месячный и годовой) обусловливают нагревание и охлаждение земли. Летом Солнце нагревает почву, и образуется горячий влажный, насыщенный воздухом пар, из которого формируются облака. С приходом зимы облака замерзают и снова превращаются в холодную, насыщенную водой субстанцию: “Это следует себе представить как бы рекой из воды и воздуха, которая течет по кругу вверх и вниз, а именно, когда Солнце близко, река пара идет вверх, а когда [оно] удалено, водяная [река падает] вниз”. И “даже у ветра свой срок жизни”.
Аристотель объясняет эти процессы в книге “Метеорологика”. Значительная ее часть посвящена циклам. В ней описан метод противодействия хаосу. Модель начал призвана объяснить, как мир может одновременно изменяться и продолжать существование, как он удерживается в состоянии динамического равновесия. Поверхность земли, говорит Аристотель, постоянно изменяется, но настолько медленно, что мы едва это замечаем. Во времена Троянской войны Арголида была заболоченной, а земли вокруг Микен были плодородными, а теперь бывшие топи у Аргоса возделываются, а в Микенах почва суха и бесплодна. Египет тоже высыхает, и поэтому Нил изменил свое русло. Некоторые, говорит Аристотель, считают, что это свидетельствует о том, что Земля продолжает высыхать с тех пор, как сформировалась, но это ограниченный взгляд на проблему. Более вероятно, что, по мере того как одна часть земли высыхает, другая погружается в море, поскольку земная поверхность непрерывно растет и разрушается. Аристотель предвосхищает концепцию геологического времени, но опирается при этом на сведения Гомера.
Возникает вопрос, как Аристотель представляет себе подлунный мир. Считает ли он его живым организмом? Является ли метеорологический цикл жизненным? Служит ли он некоей цели? Этому посвящен фрагмент (один из самых спорных) “Физики” (II, 8), где Аристотель пишет: зимние дожди проливаются ради весенних посевов. Этим он, по всей видимости, желает сказать, что физический мир существует ради населяющих его созданий, и в особенности ради человека, который пожинает то, что сеет. В “Метеорологике”, однако, ничего подобного нет. Там циклы объясняются исключительно материальной и действующей причинами, а целевая отсутствует. Подлунный мир действительно обладает гомеостатическими механизмами, которые поддерживают его существование, но они гораздо проще, чем кибернетические обратные связи, которые Аристотель использует для объяснения живых организмов. “Органический” язык метафоричен; у земли нет души. Аристотель пытается передать свое ощущение того, что космос, времена года, начала, сама жизнь – все взаимосвязано, все переходит друг в друга: циклы внутри циклов внутри циклов.
81
Подобно тому, как Аристотель составляет перечень периодов нереста рыб в разные сезоны, Теофраст перечисляет периоды цветения растений. Первые весенние цветы – левкой и желтушник. Затем приходит черед нарцисса поэтического, нарцисса букетного, анемонов и гадючьего лука, которые так любят составители гирлянд. Таволга обыкновенная, гименоксис, ветреница павлинья, гладиолус полевой, пролеска двулистная и другие горные цветы идут следом. Шиповник цветет последним и увядает раньше других цветов – ему отведено совсем немного времени.
Хотя Теофрасту знакомо множество цветков, ему неизвестно, для чего они нужны. Он видит тычинки и пестики, однако не знает, что эти части служат для полового размножения, что пыльца – это мужское семя и что пышное разнообразие расцветок и ароматов существует лишь для привлечения опылителей. Любовь растений (позаимствуем этот термин из названия книги Эразма Дарвина) была ему неведома.
Причины его неведения как будто понятны. Тычинки и пестики очень малы, а пыльца и того меньше. К тому же многие растения могут вырастать из отрезанных частей (Теофраст, истинный садовник, весьма внимателен в этом вопросе), и полового размножения при этом не происходит. Возможно, на Теофраста также повлияло данное Аристотелем определение: самец – это животное, которое размножается внутри другого животного. Это определение никак не получалось применить к растениям. Объясняя, как размножаются растения, Аристотель говорит лишь, что они содержат и мужское, и женское начало[146].
Но есть исключение. В “Истории животных” Аристотель рассказывает:
В плодах дикой смоковницы присутствуют так называемые псены. Псен начинает свою жизнь как личинка, а после того как оболочка куколки раскрывается, он покидает плод и улетает. Затем он проникает в плод садовой смоковницы через имеющиеся в нем отверстия, и его присутствие – причина того, что плод не опадает с дерева. Именно поэтому крестьяне сажают дикие смоковницы рядом с садовыми и прикрепляют к садовым деревьям плоды диких.
Инжир (смоковница) – как и овцы, он имеет азиатское происхождение), – произрастал у Эгейского моря еще до Гомера[147]. Любой скажет, что в наши дни лучшие на Лесбосе смоквы – в Эресосе. Рощи там столь же зелены, прохладны и полны жизни, сколь знойны, сухи и бесплодны окружающие их холмы. На острове множество сортов инжира: apostolatika, vasilika, aspra (белая), maura (черная), diphora (плодоносящая дважды – весной и осенью). Но самый знаменитый сорт – smyrna, названный в честь малоазиатского города: плоды с детский кулак, с черно-лиловой кожицей и малиновой мякотью.
Садовый инжир, о котором пишет Аристотель, мог относиться к любому из древних сортов. Psen – это инжирные осы-бластофаги, Blastophaga psenes, которые вылетают из плодов в точности так, как говорит Аристотель[148].
Дикий инжир, сегодня известный как ornos, часто встречается в русле высохших рек. Прививание садового инжира частями дикого называется капрификацией, ведь лишь козам (capra) на корм дикий инжир и годится. Когда-то широко распространенная, сейчас практика прививания инжира в Греции редка. На Лесбосе крестьяне просто выращивают дикий и садовый инжир в соотношении 1: 25.
Вроде бы описание достаточно четкое, но многое по-прежнему вызывает вопросы. Например, как именно взаимодействуют дикий и садовый инжир? И как оса, выросшая в плоде одного дерева, может помешать упасть плоду другого? Теофраст, который был родом из Эресоса и поэтому знал об инжире все, подробно останавливается на этих вопросах. Он повторяет историю Аристотеля и добавляет некоторые детали – например, что на инжирной осе паразитирует другое насекомое, kentrines – вероятно, наездник Philotrypesis caricae[149]. Еще Теофраст выдвигает несколько гипотез, объясняющих, как осы могут удерживать плоды инжира на деревьях. (Они механистичны и по большей части неверны.) Интереснее то, что и Теофраст, и Аристотель допускают, будто история с двумя видами инжира имеет отношение к полу.
В книге “О возникновении животных” Аристотель, рассуждая о полах, упоминает инжир: “Ведь и у растений в одном и том же роде существуют, с одной стороны, плодоносные деревья, с другой – деревья, которые не приносят плода, но содействуют плодоносящим для завязывания плода, что имеет место, например, у смоковницы и дикой смоковницы”. Теофраст идет в понимании вопросов пола у растений еще дальше и сравнивает инжир с финиковыми пальмами. По всей видимости, ссылаясь на некое сообщение, принадлежащее Геродоту или Каллисфену, он говорит, что у финиковых пальм есть “мужские” и “женские” цветки и что земледельцы помогают плодам завязываться, перенося “пыль” (очевидно, пыльцу) с одного дерева на другое. Это похоже на прививание диким инжиром садового, продолжает Теофраст, а оба этих процесса напоминают то, как рыба мечет молоки на икру.
Аристотель и Теофраст привели правильную аналогию. Они вплотную подошли к истине. Две разновидности инжира – это просто-напросто растения двух полов, принадлежащие к одному виду. Незрелый инжир – это не цельный плод, а собрание крошечных цветков, спрятанных в толще мякоти. “Дикий” и “садовый” инжир – один и тот же вид Ficus caria, но у “дикого” инжира есть и мужские, и женские цветки, а у “садовых” – только женские. Инжирные осы переносят пыльцу с одних на другие. Плоды инжира не созревают без опыления, поэтому необходимо, чтобы растения разных полов располагались близко друг к другу. Два греческих ученых обдумывают эту идею, но ни один не говорит, что у растений есть половое размножение.
Поэтому наглядные свидетельства его наличия в свете теории Аристотеля могут приобрести ложную интерпретацию. Увы, это и происходит. Инжир – довольно изменчивое растение. Чтобы плодоносить, замечает Теофраст, некоторым инжирным деревьям требуется помощь ос и капрификация, но большая доля в этом не нуждается. Не странно ли? Сейчас известно, что одним сортам инжира необходимо опыление, а другим – нет. Вторые, таким образом, являются бесполыми мутантами, притом оба варианта растений были широко распространены в IV в. до н. э.[150] Теофраст на основании того, что некоторые сорта инжира могут обходиться без полового процесса, решил, что на это способны абсолютно все инжирные деревья. Выходит, нет никаких оснований считать, что растениям в принципе нужно половое размножение.
Над загадкой инжира в XVII–XVIII вв. бились Турнефор в Париже, Понтедера в Падуе, Каволини в Неаполе, даже Линней в Уппсале. Хоть они и продвинулись вперед, но разгадать загадку не смогли. В 1864 г. Гульельмо Гаспаррини, профессор ботаники из Неаполя, обобщив данные об инжире – от трудов Аристотеля до результатов собственных экспериментов, – пришел к абсолютно неверному выводу. “Дикий” и “садовый” инжир, говорил он, – это два совершенно разных вида, принадлежащие к разным родам, а необходимость произрастания дикого инжира рядом с садовым – не более чем крестьянское суеверие. Гаспаррини не повезло: ему попались размножавшиеся вегетативным путем растения, и, подобно Теофрасту, он сделал слишком широкое обобщение[151].
Вопрос, вечно волнующий ученого: насколько смело можно интерпретировать полученные данные? Аристотель склонен к смелым обобщениям. Теофраст осторожнее. Поэтому, кстати, читать его не так увлекательно. Оба время от времени сомневаются в силе своих доказательств, но ни один ни разу не высказал свои сомнения, как это сделал Гаспаррини в конце посвященной инжиру монографии. Посмотрите, как жалобны эти строки:
Теперь, завершив свой труд, я не могу утаить некоторую тревогу, которая втайне у меня росла. Кажется, будто мне со всех сторон твердят, что обычай прививать дикий инжир к садовому, который так давно возник и который поддерживает так много выдающихся ученых древности и наших дней, обязан быть основанным на опыте. Тем не менее, нет ни одной научной теории, никаких свидетельств, которые могли бы объяснить, зачем он нужен. Воистину, зарождение этих мыслей так волновало меня, что много раз, когда я работал, мое дыхание сбивалось от страха, что некоторые факты я понял неверно и они затуманили мой разум.
Наука в большой мере связана с тем, чтобы отличать общее от частного, с тем, чтобы выбирать, объединять явления или разделять их. Иногда случается ошибаться.
82
До восхождения Плеяд меда нет. Сбор меда можно начинать, когда на рассветном небосводе впервые загораются alkyōn (Альциона, η Тельца) и sirios (Сириус, α Большого Пса); и когда радуга спускается на Землю. Мед собирают в то время, когда плодоносит дикий инжир – в конце мая и в июне.
Медоносные пчелы приводили Аристотеля в восхищение. В “Истории животных” им отведено больше места, чем любому другому животному (за исключением человека). Аристотель описывает их питание, охотящихся на них хищников, поражающие их болезни, продукты, которые они собирают или производят, их поразительное усердие и потрясающую сложность их социальной жизни. Аристотель говорит, что они божественны.
Как он узнал о пчелах так много? Египетский энциклопедист аль-Дамири (ум. 1405) утверждал, будто у Аристотеля имелся стеклянный улей, через стенки которого можно было наблюдать за пчелами. Возмущенные пчелы изнутри измазали стекло глиной. Эта деталь делает историю неправдоподобной, а источники аль-Дамири внятно не называет. Я не уверен, что Аристотель видел изнутри хотя бы и обыкновенный улей. Однако пчеловодство было одной из главных отраслей греческого хозяйства IV в. до н. э., и Аристотель, несомненно, общался с пчеловодами.
Кроме пчел, Аристотель рассуждает о происхождении меда. Сейчас любой ребенок знает, что пчелы делают мед из нектара, собираемого с цветов. Как и стоило ожидать, Аристотель пишет, что пчелы залезают в чашечки цветков и собирают соки при помощи органа, напоминающего язык[152]. Кроме того, он утверждает, что мед из белого чабреца лучше, чем мед из красного. Теофраст упоминает белый и черный чабрец[153]. Здесь вопросов нет. Но в других частях текста, в том числе рядом, Аристотель себя же опровергает. Мед, утверждает он, не может появляться из цветов, ведь осенью, когда в цветах нет недостатка, улей не наполняется медом после того, как пчеловоды его забирают. Аристотель говорит об этом так, будто исправляет распространенную ошибку.
Вот в чем связь между медом и звездами. Образование меда привязано к астрономическому календарю. Мед – нечто вроде падающей с неба росы. “Небесный мед” – это медвяная роса, капли сладкой жидкости, которые появляются весной в лесу на ветвях и листьях. Аристотель не знал, что это выделения тли и других насекомых, питающихся растительными соками[154]. В наши дни около 65 % греческого меда производится из “медвяной росы”. (Греки, истинные ценители меда, спорят, какой мед вкуснее – этот, цветочный или сосновый.) Там, где Аристотель противоречит себе, кто-то, судя по всему, менял текст. Я подозреваю в этом Теофраста, который написал книгу, ныне утерянную, “О меде”. Насколько можно судить по пересказу, там говорилось, что есть три источника меда: медвяная роса, цветы и “тростник” (судя по всему, индийский сахарный тростник).
Если не все ясно с медом, то происхождение пчел еще туманнее. Не то чтобы Аристотель не имел представления о развитии пчел: напротив, он довольно подробно его описывает. Пчела откладывает яйцо в ячейку (соту), а потом высиживает его, как птица, пока яйцо не превращается в личинку. Пока личинка маленькая, она лежит в своей ячейке наискосок. Потом она принимает вертикальное положение, начинает питаться, испражняться и цепляться к стенкам сот. Потом она превращается в куколку и запечатывается в ячейке. Потом у нее вырастают лапки и крылья, и, вырвавшись наружу, она улетает. Вопрос в том, какие именно пчелы оставляют потомство.
Как и в случае “дикого” и “садового” инжира, в этой истории слишком много действующих лиц. Если бы в улье можно было встретить пчел всего двух родов, как у большинства животных, то разобраться, где пчела какого пола, не представляло бы сложности. Однако пчелы бывают трех родов: пчелы, трутни и “цари” (“вожди”), и никто не видел, что кто-нибудь из них совокупляется[155]. Относительно возникновения пчел не все думают одинаково, замечает Аристотель.
В книге “О происхождении животных” он делится соображениями на этот счет, выстроив логическую цепочку. Для наглядности привожу их в виде списков. Итак, пчелы могут:
1. Самопроизвольно зарождаться.
2. Рождаться от каких-либо других животных.
3. Рождаться от пчел.
Если верно 3, возможны следующие варианты:
3.1. Они зарождаются без совокупления.
3.2. Они зарождаются в результате совокупления.
Если верно 3.2, то встает вопрос, пчелы каких родов спариваются и какое потомство получается. Вот варианты:
3.2.1. w × w × w (то же относится к другим родам);
3.2.2. q × q ➝ w + d + q (или другое гомотипическое[156] скрещивание);
3.2.3. w × d ➝ w + d + q (или другое гетеротипическое скрещивание).
Здесь буквами w, d и q обозначены соответственно рабочая пчела, трутень и матка, × означает скрещивание, ➝ – потомство[157].
Аристотель, скоро отбросив и гипотезу, будто пчелы зарождаются самопроизвольно, и гипотезу, будто их порождают животные какого-нибудь иного вида, не живущие в улье, обращается к вопросу о поле пчел. Он отталкивается от гендерных стереотипов или, если выразиться мягче, от эмпирических обобщений. Самцы должны быть вооружены (рогами, клыками и т. д.), а самки обходятся без этого. Самки заботятся о потомстве, а самцы нет. Однако ни рабочие пчелы, ни трутни не вписываются в схему: у первых есть жало, и в то же время они ухаживают за потомством. Трутни жала не имеют и не делают ничего. Следовательно, ни рабочие пчелы, ни трутни не являются в полной мере ни самцами, ни самками, а несут признаки обоих полов. Они подобны растениям или обоеполым рыбам, которые предположительно размножаются без спаривания. (Аристотель знал, что трутни иногда вьются у улья, но не знал, что при этом они преследуют девственную матку с целью спариться с ней на высоте.)
Затем Аристотель переходит к вопросу, какие пчелы каких порождают. Он сообщает, что трутни могут появляться в улье, где нет ни трутней, ни матки, а есть лишь рабочие. (И он прав: могут.) Таким образом, рабочие пчелы могут порождать трутней. Рабочие пчелы никогда не появляются в ульях, где нет матки – значит, рабочие пчелы рождаются от маток. Ни рабочие пчелы, ни трутни не могут произвести на свет матку (по Аристотелю), а значит, матки порождают маток. Вот схема:
q ➝ q + w ➝ d
Далее Аристотель переходит к вопросу, совокупляются ли пчелы каждого рода. Рабочие пчелы обоеполы, поэтому могут размножаться без спаривания. К тому же, если бы они спаривались, это обязательно кто-нибудь увидел бы, но никому не довелось на это взглянуть. Поскольку рабочие пчелы не спариваются, можно предположить, что матки также этого не делают. Остается одна возможность: разветвленная схема родственных связей, где в результате бесполого размножения матки производят на свет маток и рабочих пчел, рабочие пчелы – трутней, а трутни никого не производят.
Это странная схема, но она не страннее, чем реальное положение дел[158]. В изначальном варианте она выглядит еще необычнее. Если вы прочитаете, что пишет Аристотель о размножении пчел, то обнаружите, что “маткой” я называл аристотелевского “вождя” (hēgemōn) или “царя” (basileus).
Некоторые ученые обвиняют Аристотеля в половой дискриминации. (Матка женского пола, так почему бы не называть ее basileia?) Но Аристотель не считал, что “вождь” – это самец. В рамках его биологии, как и в рамках современной биологии, самцы не способны размножаться самостоятельно. Опираясь на собранные данные, Аристотель делает вывод, что “вождь” – это существо обоеполое. Название же это было распространенным в его время. У общественных ос, по его словам, есть главная особь, которую называют матка. Как видим, это название Аристотель принимал.
Медоносная пчела (Apis mellifera)
Слева направо: melissa Аристотеля – рабочая пчела, kēphēn – трутень, пчеломатка – basileus (“царь”) или hēgemōn – “вождь”
Аристотель доволен своей схемой. Она изображает династию пчел в три поколения, которая обрывается на бесплодных трутнях. По его словам, здесь прослеживается закономерность: каждое звено отличается от предыдущего по одному параметру. (Матки крупные и с жалом, рабочие пчелы малы и имеют жало, трутни крупные и жала не имеют.) “Природа так хорошо и разумно устроила, что пчелы всех трех родов будут существовать всегда, несмотря на то, что не все они размножаются сами”. Итак, мы видим полный жизненный цикл пчел.
Это хороший пример научного подхода Аристотеля. Это напоминает процедуру, описанную в “Никомаховой этике”. Он отталкивается от наблюдаемых явлений, собирает наиболее вероятные объяснения, а затем логически исключает их в соответствии с объективными данными. Предполагается, что к концу книги Аристотель должен был дать исчерпывающее и правдивое описание пчел.
Получилось ли это? По мнению Аристотеля, объяснения позволяют читателю познать истину. Но любые доказательства хороши лишь постольку, поскольку надежны посылки, и Аристотель это знает. А посылки он приводит довольно слабые, хотя не признается в этом. Они основаны на обобщениях, которые верны в лучшем случае “в целом”. (Правда ли, что самцы никогда не заботятся о молодняке? А Silurus aristotelis – glanis Аристотеля? Действительно ли у самок никогда нет защитных приспособлений? А рога у коров?) К тому же Аристотель опирается на слова пчеловодов, а они не надежнее рыбаков. Текст изобилует конструкциями вида: “Говорят, что…”.
Таким образом, у Аристотеля остаются сомнения в достоверности собственных слов. Заканчивает он пассажем, в котором выражает эти сомнения. Нельзя сказать, что это для него характерно. Обычно Аристотель уверен, что никто никогда не оспорит, не превзойдет его… Его суждения окончательны и будто бы не подлежат обсуждению. Но здесь ученый обращает взор в будущее и признается, что в некоторых вопросах он разобрался не в полной мере. Более того, он рассказывает нам, как позднее будут сделаны открытия – или как их следовало бы сделать. И хотя Аристотель, когда он в “олимпийском”, горделивом настроении (к которому вообще склонны великие ученые), вызывает скорее уважение, здесь придется полюбить его:
Вот так обстоит дело с размножением у пчел – по крайней мере, согласно теории. В заключение скажу, что теория построена на тех сведениях об их поведении, которые люди считают правдой. Однако до сих пор нет четкого понимания сути этих фактов. Если в будущем понимание будет достигнуто, это случится тогда, когда свидетельства наших чувств станут значить больше, чем теории – хотя теории играют определенную важную роль в том случае, если их содержание сообразуется с тем, что можно наблюдать в реальности…
Так и получилось.
83
В марте на Лесбосе появляются ласточки. Они прилетают из Африки вместе с khelidonias – “ласточкиным ветром” (у Теофраста это словосочетание предположительно означает то же, что ornithiai anemoi). Аристотель упоминает ласточек в числе других перелетных птиц и рассказывает, как разумно устроены их гнезда, как они выращивают птенцов и поддерживают свое жилище в чистоте и порядке[159]. Кажется, он очень любит этих птиц. Но далее, как всегда хладнокровно, он пишет: если вырвать глаз у птенца ласточки, он вырастет снова. Аристотель действительно верит в это и повторяет это утверждение целых три раза. Может быть, это звучит ужасно, но я не уверен, что он неправ. Вполне возможно, что Аристотель ставил этот опыт самостоятельно[160].
За этим утверждением стоит обширное исследование по сравнительной эмбриологии. Собрав сведения об онтогенезе многочисленных изученных им животных, Аристотель выстраивает их по степени “совершенства” потомства. О “совершенстве” он судит по тому, насколько сильно отличается новорожденное животное от взрослой особи. У насекомых с полным превращением, например у бабочек, весьма несовершенное потомство. (Аристотель считает, что рост гусеницы – то же самое, что формирование яйца в половых путях курицы, а куколка – то же самое, что яйцо.) Яйца головоногих моллюсков, ракообразных и рыб мягкие и, будучи отложенными, “вырастают” незначительно: и эти животные занимают низкое положение на шкале совершенства. Потомство у птиц, змей, черепах и ящериц более совершенно, поскольку их яйца имеют твердую скорлупу и не растут. Потомство хрящевых рыб еще совершеннее: оно развивается внутри яиц с твердой скорлупой в материнской утробе и вылупляется там же, являя собой пример яйцеживорождения. Потомство живородящих четвероногих (млекопитающих) наиболее совершенно.
Распределив наиболее значимых для него животных по шкале эмбрионального совершенства, Аристотель отмечает, что принадлежащие к одной группе животные могут различаться и между собой. В этом случае “совершенство” определяется им исходя из относительного размера животного при рождении и из степени его готовности к самостоятельной жизни: несовершенные рождаются слепыми. Из числа живородящих четвероногих к обладателям совершенного потомства Аристотель причисляет непарнокопытных (лошади, ослы) и парнокопытных (коровы, козы, овцы). Детеныши многопалых млекопитающих (медведь, лев, лиса, собака, заяц, мышь и т. д.)[161], напротив, довольно несовершенны. У птиц несовершенное потомство производят сойка, воробей, вяхирь, обыкновенный голубь и горлица[162]. То же и с ласточками. Рассказывая про вырывание глаз у птенцов, Аристотель хочет донести мысль: регенерация с более высокой вероятностью происходит у зародыша, чем у взрослой особи – а значит, поскольку птенцы ласточки могут регенерировать, они и в самом деле очень близки к зародышевому состоянию, когда вылупляются из яйца.
Наука Аристотеля не количественная. Разумеется, ее нельзя назвать и исключительно качественной: Аристотель часто оперирует такими понятиями, как “большой и маленький”, “больше и меньше”, “по большей части”. Он рассматривает количественные соотношения: например производит довольно точные сравнения размеров тел разных животных. И все-таки Аристотель редко приводит цифры, а в современной науке без них нельзя. Однако описывая жизненный цикл птиц и млекопитающих, он это делает.
Из этих цифр даже можно составить таблицу. Сведения, которые он приводит, местами сомнительны, но довольно полны[163]. Как и всегда, Аристотеля интересуют связи и закономерности. Паутина связей, которую он плетет, широка, но основные рассматриваемые им признаки таковы: размер тела во взрослом возрасте, срок жизни, срок беременности, степень “совершенства” плода, размер помета или число яиц в кладке, размер новорожденного. Часть выявленных им закономерностей довольно очевидна: чем больше срок вынашивания плода, тем совершеннее рождается потомство (как в случае выводковых птиц). Другие закономерности кажутся контринтуитивными. Можно ожидать, говорит Аристотель, что у крупных животных число детенышей в помете больше, чем у мелких, но все наоборот. Лошади и слоны вынашивают за один раз лишь одного детеныша. Очевидно, Аристотель считает, что найденные им закономерности обладают предсказательной силой. “Об их жизни рассказывают басни, будто они долговечны, – сообщает Аристотель, – но в самих баснях нет ничего определенного, а кроме того, и беременность и рост телят происходят не так, как у животных долговечных”. Если принять, что продолжительность жизни и сроки беременности положительно коррелируют, то при условии, что олени живут долго (а это довольно сложно проверить), срок вынашивания плода должен быть большим – а это не так[164].
Аристотеля интересуют не всякие связи – он ищет причинно-следственные. Любая связь может оказаться, пользуясь его терминами, “случайной”, и тогда искать ей объяснения не нужно, в отличие от связи “необходимой”. Например, Аристотель заметил, что обратная зависимость размера тела взрослого животного и количество детенышей в помете затрагивает еще и морфологию стопы. Непарнокопытные животные, как правило, довольно крупные и приносят одного детеныша за раз. Парнокопытные обычно имеют средние размеры и рожают нескольких детенышей. Многопалые животные в целом мельче и имеют большой помет. Можно предположить, что главную роль играет количество пальцев, но это не так – имеет значение лишь размер тела. “Известно, что хотя слон и самое крупное животное, у него много пальцев; верблюд, второй по величине, парнокопытен”, – значит, зависимости между морфологией стопы и размером тела нет. Кроме того, “правило, что крупные животные имеют малочисленное потомство, а мелкие – многочисленное, распространяется не только на обитателей суши, но и на тех, кто летает и плавает, по тем же причинам. Большие растения тоже не приносят много плодов”. Таким образом, Аристотель не только понимает опасность смешения переменных, но и знает, как этого избежать: искать одну и ту же закономерность у животных из совершенно разных групп[165]. Подобным образом он делает заключение, что положительная корреляция срока беременности и продолжительности жизни у живородящих четвероногих млекопитающих (например, оленей) не является причинно-следственной связью. Здесь он хотя бы не переходит сразу от обозначения связи к ее объяснению, а рассматривает различия причинно-следственных отношений и корреляций[166].
Для объяснения связей в сети свойств живых организмов Аристотель пользуется всеми известными ему методами. Рассматривая связь между размером помета и размером во взрослом состоянии, он обращается к “телесной экономике”. В данной ситуации она применима, поскольку плодовитость зависит от образования семени, а это самый концентрированный и, значит, самый ценный питательный продукт. Излияние семени иссушает тело. Поэтому (по Аристотелю) мужчины бывают измождены после секса, толстые люди бесплодны, а кастрированные животные и мулы велики и свирепы. По той же причине крупные животные обычно приносят малочисленное потомство, а плодовитые, как правило, сами небольших размеров. (Адрианская птица[167], как говорят, – сверхплодовитый карлик.) Может, секс и приятен, а размножение необходимо, но через половые органы утекает жизненная сила и энергия для роста.
Поэтому животным приходится выбирать, обзаводиться потомством или заниматься чем-либо другим. Аристотель-орнитолог знает, что некоторые птицы (куропатки) ежегодно делают одну кладку с большим количеством яиц, другие (голуби) – много кладок, в которых мало яиц, а третьи (хищные птицы) – единственную кладку с одним или двумя яйцами. Чтобы объяснить эти различия, он представляет сеть распределения ресурсов, включающую такие параметры, как крылья, ноги, размер тела, плодовитость и некоторые другие. Птица может “сделать вклад” в несколько параметров, но не во все, поскольку ресурсы ограничены.
В таком виде анализ, однако, неполон. Аристотель может раскидывать свои сети условной необходимости настолько широко, насколько пожелает – но он должен дать и окончательное объяснение, почему одно животное обладает одним набором признаков, а другое – другим. Кажется, Аристотель часто этого не делает. Он редко заботится о том, чтобы четко обозначить главную, окончательную причину наличия у животного специфических признаков. Если он и упоминает ее, то вскользь. Однако когда он объясняет многообразие жизненных циклов, объяснения обоих типов – условные и окончательные – превосходно сочетаются. Аристотель пишет, что то, делает ли птица “вклад” в совершенствование своего тела или в размножение, зависит от ее bios – образа жизни. Хищным птицам, утверждает он, требуются сильные крылья, большие перья и массивные когти, чтобы охотиться. Куропаткам же и голубям, которые кормятся зерном и фруктами, ничего этого не нужно. Поэтому хищные птицы делают “вклад” в крылья и когти, а на продолжение рода отводят мало питательных веществ и, соответственно, производят мало яиц. Куропатки и голуби не “инвестируют” в крылья и когти, поэтому у них остается больше ресурсов и они откладывают много яиц.
Анализируя многообразие жизненных циклов животных, Аристотель использует качественные данные, чтобы указать всеобщие закономерности; отделяет причинно-следственные связи от случайных и рассматривает их как наилучший компромисс между физиологической необходимостью и телеологической – иными словами, между телесными потребностями и требованиями, которые предъявляет среда. Мне кажется, это наиболее полный и правильный анализ совместной работы любого набора частей тела, который был произведен Аристотелем. Он дает понимание, как в природе любого животного проявляется лучшая из доступных возможностей. Птицы и четвероногие, однако, воплощают лишь небольшую часть вариантов жизненных циклов. Лучше всего на вопрос, почему животные размножаются так, а не иначе, Аристотель отвечает, рассуждая о рыбах.
84
Теофраст пишет, что лето приносит с собой розовый лихнис, гвоздики, лилии, лаванду широколистную, сладкий майоран и дельфиниум, который называ- ют еще “печаль”. Он бывает двух видов: у первого цветки как у шпорника, а у второго белые, и его принято приносить на похороны. Затем цветут ирис и мыльнянка, которая, по словам Теофраста, имеет красивые цветки, но не пахнет.
Так начинается лето. К концу июля острова в Эгейском море выжжены и пустынны. В оливковых рощах цикады призывают партнеров. Пожарные автомобили курсируют по сосновым лесам. (Теофраст говорит, что лес в Пирре сгорел, а потом вырос; несомненно, с тех пор это происходило еще много раз.) Реки, впадающие в Лагуну, мелеют. Река Вуварис течет всегда, но даже ее бурные воды становятся застойными, а водопад в Пессе еле струится. Речная кефаль становится добычей цапель с клювами длинными, как рапиры, а ужи находят убежище в иле лимана. Водяные черепахи притворяются камнями. Фригана – колючие кустарники, покрывающие вулканический западный берег, еще совсем недавно мягкие, многоцветные и ароматные, – превращается в убогий потрепанный покров из хрупких шипов.
Когда землю иссушает солнце, море будто покрывается восковой пленкой. Летний ветер со стороны моря, который местные жители называют boukadora (“ветер, направленный внутрь”), вспенивает воды Лагуны. В глубинах Каллони размножаются “саморождающиеся” организмы. Но никто не ест полных семени мидий и устриц (гонады морских ежей – другое дело): сейчас пора рыбы, особенно сардин. Обычно сардин едят солеными, из них готовят sardeles pastes, но сейчас их нужно есть свежими. Аристотель говорит, что летом рыба приходит в Лагуну на нерест. Если он имеет в виду сардин, то прав он лишь отчасти. Они действительно приплывают из открытого моря – но мальками. Каллони служит им не нерестилищем, а яслями. К августу они подрастают, крепнут и отправляются на настоящие нерестилища в Эгейском море. Проплывая сквозь узкое устье, они встречают на пути стену сетей, и их вытаскивают тоннами.
Аристотель, разбирая жизненные циклы птиц и четвероногих, весьма проницателен, но не учитывает один фактор, который эволюционные биологи считают ключевым в формировании сценария индивидуального развития: повозрастной коэффициент смертности. Его наличие предполагает, что риск смерти наиболее высок для молодых и взрослых особей. Рассуждая о рыбах, Аристотель кое-что упускает. Он утверждает, что задача рыб – быть очень плодовитыми. Конечно, эта задача любого существа (кроме самовозникающих), но для икромечущих рыб с высоким уровнем детской смертности она особенно важна: “Большинство эмбрионов в отложенных икринках разрушается, и это является причиной того, что рыбы производят многочисленное потомство. Природа использует число, чтобы победить разрушение”.
У икромечущих рыб множество приспособлений для производства многочисленного потомства. Самки крупнее самцов и за счет этого способны нести в себе всех зародышей. Чтобы показать, как это необходимо, Аристотель приводит в пример некоторых маленьких рыбок с матками, которые выглядят как сплошная масса яиц. Кроме этого, он упоминает belone – тот почти лопается от давления яиц изнутри. Под belone Аристотель подразумевает морскую иглу, которая обитает на дне Лагуны в зарослях зостеры и держит икру до вылупления в выводковой сумке[168]. Еще и поэтому обычно икринки “достигают совершенства” – оплодотворяются – лишь после того, как выметаны. Если бы они “достигали совершенства” внутри тела рыбы, им не хватило бы там места. Яйца рыб, как правило, малы, но после оплодотворения эмбрион, а затем личинка растут очень быстро, чтобы “от замедления роста во время развития род их не погиб”. В конце концов, некоторые рыбы, такие как glanis (аристотелев сом), заботятся о потомстве, не допуская, чтобы его съели.
Чтобы компенсировать высокую смертность эмбрионов и личинок, икромечущие рыбы располагают целым набором взаимосвязанных приспособлений: высокая плодовитость, мелкие икринки, половой диморфизм (самки крупнее самцов), “птенцовое” развитие, быстрый рост и забота о потомстве. Тем селахиям (акулам), для которых характерно живорождение, не нужна сверхвысокая плодовитость: их молодь имеет крупные размеры и при рождении относительно хорошо развита, а значит, у нее “выше шансы избежать уничтожения”. В начале книги я упомянул, что ученые, специализирующиеся на естественных науках, отнимают хлеб у историков, стремясь изучать источники и искать в них собственные теории. Еще рискну сказать, что ученый способен заметить детали, которые работающий с античными источниками историк мог упустить. Фрагменты у Аристотеля, в которых он освещает вопрос, почему у четвероногих, птиц и рыб сильно разнится размер выводка, представляют собой как раз такой случай. Насколько я могу судить, ни в одной из посвященных Аристотелю работ эти фрагменты не рассматривались. Тем не менее, любой эволюционный биолог, читая “О происхождении животных”, обратит на них внимание. Они затрагивают теорию жизненных циклов, которая относится к адаптационизму и в рамках которой в качестве универсальной ценности рассматривается репродуктивный успех. Более того, анализ у Аристотеля имеет очень узнаваемую структуру. Как и у современных ученых, рассматриваются решения, которые животные находят, чтобы приспособиться к неожиданным изменениям окружающей среды, и объясняется, как “телесная экономика” определяет форму, в которой воплощаются эти решения. Современные теории, конечно, выражены в виде уравнений, но это исключительно вопрос подачи материала. Есть и другие, более глубокие различия (о которых мы поговорим подробнее). Интересно следующее: придает ли Аристотель этому анализу такое же большое значение, какое мы придаем его аналогу? Я думаю, да, поскольку в конце объяснения многообразия организмов он утверждает, что конечная цель и главное желание любого создания – размножиться: цикл должен воспроизводиться снова и снова. Так считал Аристотель. Так считаем и мы.
В Скала в честь доброго улова устраивают panagyri: две ночи можно бесплатно есть жареных сардин, пить и танцевать, сверкая прилипшей к ногам рыбьей чешуей. Большая часть песен пришла из Малой Азии и прижилась в Константинополе – великолепном городе, канувшем в вечность. (Когда Смирна сгорела в 1922 г., греческие беженцы прибыли на Лесбос и многие там осели.) Но однажды я услышал песню о рыбе:
В Агиос-Георгиос я сел в новую лодку и отчалил. Я встретил на воде мальчишек, ловивших рыбу, и окликнул: “Эй, рыбаки! Есть ли у вас рыба, омары и кальмары?” Они отвечали: “У нас есть сардины, прекрасные, как юные девушки. Поднимайся на борт и бери! Отвесь сколько тебе надо, возьми веревку, свяжи и заплати, сколько пожелаешь!”[169]
85
В окрестностях Каллони осень – это время, когда старики вновь начинают жить в свое удовольствие. Девушки из Скандинавии и голландские семьи уже не занимают их любимые кресла в кофейнях. Уехали даже непоседливые английские парочки, которые так любят гулять на природе. Теперь старики снова могут сидеть, потягивая узо, играть в нарды и громко спорить, не опасаясь, что придет хозяин кофейни и начнет ругаться, чтобы те не шумели, не размахивали тростями и не мешали туристам.
Часто можно слышать, что у островитян высокая средняя продолжительность жизни. Икария – остров к югу от Лесбоса – даже преподносилась туристам в качестве эгейской Шамбалы, населенной долгожителями. Пусть это преувеличение, но у пожилых женщин на Икарии действительно высокий коэффициент выживаемости. Верно и то, что у греков (а также итальянцев и испанцев), несмотря на пристрастие к табаку, средняя продолжительность жизни выше, чем у граждан большинства стран Северной Европы. По-видимому, отчасти дело в “средиземноморской диете”: много овощей, фруктов, оливкового масла и бобов – мало мяса.
Аристотеля это могло бы заинтересовать. “Мы должны разобраться, почему одни животные живут долго, а другие – мало, а также исследовать вопрос длительности и краткости жизни в целом”, – так начинается его трактат “О долгой и краткой жизни” В “Истории животных” можно найти довольно много на эту тему: в частности, там описана ephemeron – поденка, которая вылупляется из крошечных мешочков в реке Гипанис, что в Киммерийском Босфоре, незадолго до летнего солнцестояния, и живет всего день[170]. Там же можно найти предположение, что слон живет несколько веков, и наблюдение, что большинство крылатых насекомых погибает осенью. Может быть, Аристотель имеет в виду цикад, иссохшие тельца которых усеивают в конце осени тихие оливковые рощи?
Аристотель говорит, что растения обычно живут дольше животных, крупные животные – дольше мелких, животные с кровью живут дольше животных без крови, наземные – дольше морских. Ни одно из приведенных свойств не предсказывает продолжительность жизни с достаточной достоверностью, но вместе они могут кое-что сказать нам об относительных сроках жизни видов. Из правил существует множество исключений: продолжительность жизни некоторых растений (однолетних) очень невелика, есть долгоживущие бескровные животные (пчелы), некоторые крупные животные (лошади) живут меньше, чем более мелкие (люди). Аристотель прослеживает тенденции, а также указывает исключения.
Аристотель задумывается, можно ли дать смерти такое объяснение, которое подходило бы для всех ее разнообразных форм. Некоторые особи и виды живут значительно дольше других по одной причине, или причин несколько? Все это, признается Аристотель, сложные вопросы. Поэтому он разрабатывает такую теорию старения, которая объясняла бы и тенденции, и исключения. На самом деле он рассматривает исключения лишь для того, чтобы отбросить слишком примитивные объяснения (“большие животные живут долго потому, что они большие”) и обратиться к более сложным.
Объясняя, почему срок жизни разных организмов различен, Аристотель начинает с наблюдения, что все живые существа теплые и влажные. Это относится главным образом к молодым особям. Старея, они становятся холодными и сухими (таковы и мертвые). (“Это установленный факт”.) Далее Аристотель пишет, что животные различаются по количеству и качеству тепла и влаги в организме. Различиями по этим параметрам Аристотель и объясняет разную продолжительность жизни. В организме крупных животных и растений относительно больше теплой и влажной материи, чем в организме мелких, и поэтому первые живут дольше. Необычайно долгая продолжительность жизни людей и пчел (для их размеров) обусловлена тем же. Морские бескровные животные (беспозвоночные), хотя и всегда влажные (поскольку живут в море), недолговечны, поскольку в составе субстанции их тела слишком мало тепла. Рассуждения о содержании тепла кажутся невнятными, если не знать, что под теплом Аристотель подразумевает жир. Из всех постоянных компонентов организма у жира самое высокое содержание теплоты, и он очень устойчив к распаду. (Оливковое масло – самый необходимый на кухне продукт.) Жир, по мнению Аристотеля, дает жизненные силы.
Однако все это не объясняет, почему животные стареют. По Аристотелю, животные поддерживают свое существование за счет питания, у них есть сложные регуляторные приспособления для контроля над метаболизмом. По мере старения что-то должно лишать животных теплоты и влаги, которые необходимы им для жизни. Аристотель усматривал причину в размножении: оно отнимает у тела не только материал, необходимый для роста, но и саму жизнь. Это позволяет и иначе объяснить различную продолжительность жизни. Важно скорее не то, сколько тепла и влаги получают животные при рождении, а то, насколько быстро они их тратят. Похотливые животные, пишет Аристотель, стареют намного быстрее, чем целомудренные. Бесплодные мулы живут дольше, чем лошади и ослы. Самец воробья (существо необыкновенно развратное) живет не так долго, как воробьиха. Растениям размножение дается той же ценой. Однолетние растения умирают каждую осень, потому что расходуют все свои питательные вещества на производство семян. Складывается впечатление, что Аристотель рассматривает тело как банковский счет, который постоянно пополняется за счет доходов от пищи, но гораздо быстрее опустошается тратами на поддержание целостности и размножение. Когда же кредитный лимит превышен, наступает смерть. В его понимании таков суровый закон биологической экономики[171].
По поводу растений Аристотель говорит, что их в среднем более высокая по сравнению с животными продолжительность жизни связана отчасти с их маслянистостью. Но если он считает, что факты того требуют, то дает природным явлениям несколько противоречащих друг другу объяснений. Так, он утверждает, что растения долго живут и из-за способности к регенерации: “Растения всегда возрождаются, поэтому они и живут так долго”. Корни, стволы и ветви могут умереть, но рядом вырастают новые. Более того, как показали опыты с черенками, “растение содержит потенциальные корни и стебли в каждой своей части” – действительно, черенок “в некотором смысле часть [родительского] растения”. И, хотя он знал (или предполагал), что некоторые животные способны к регенерации – змеи и ящерицы способны восстанавливать хвост, а птенцы ласточек – глаза, – постоянно возрождаться могут лишь растения. Лишь они содержат “живое начало в каждой своей части”[172]. Под “живым началом” Аристотель подразумевал душу[173].
Таким образом, Аристотель считает, что в определении продолжительности жизни может участвовать множество механизмов. В другом трактате, “О юности и старости, о жизни и смерти и о дыхании”, он излагает теорию, которая больше подходит для позвоночных животных. Согласно его предположению, смерть всегда связана с исчерпанием живительного тепла. У животных с кровью очень активный обмен веществ, поэтому они особенно подвержены опасности возникновения химических сбоев в организме. Чтобы этого избежать, такие животные имеют весьма совершенные механизмы гомеостаза. Причина, по которой они умирают – нарушение этих механизмов, главным образом нарушение системы терморегуляции. Аристотель даже описывает жизненный цикл в терминах терморегуляции: “Юность – состояние, когда вырастает первичный охлаждающий орган, старость – когда он разрушается. Промежуточный период – это зрелость”. “Охлаждающие органы” – легкие и жабры – разрушаются оттого, что животные, старея, становятся “землистее”, менее подвижными и в итоге совсем замирают. Метаболизм совершенно нарушается, и животное погибает от жара, или, по словам Аристотеля, “задыхается”.
Аристотель отмечает: слова, обозначающие старость (geras) и землю (geeron), подобны друг другу[174]. На самом деле их происхождение совершенно различно. В любом случае это не объясняет, почему легкие и жабры с возрастом становятся “землистее”. Возможно, он считал, что они покрываются землей, как легкие курильщика смолами. Или, может быть, он имел в виду, что они теряют влагу и тепло и приобретают сходство с землей. Последняя версия выглядит наиболее правдоподобно, поскольку связывает обе его теории старения. Кроме того, именно так Аристотель объясняет появление морщин.
Между двумя теориями старения есть любопытное различие. Теория старения как расплаты за размножение детерминистична: присутствует причинно-следственная связь между истощением запаса жира и смертью, а в теории нарушения гомеостаза присутствует элемент случайности. Это видно по фрагментам, где Аристотель утверждает: старые существа более чувствительны к колебаниям здоровья, состояниям внутреннего огня и изменениям внутренней среды организма. Старые умирают даже от нетяжелых болезней: “чтобы тусклое и небольшое пламя погасло, достаточно даже легкого движения”. Небольшие животные особенно уязвимы, поскольку имеют “слишком тонкие границы”. Вот как это видит Аристотель: живые существа подвергаются воздействию разных факторов, по-разному влияющих на метаболизм и заставляющих их внутреннее пламя то разгораться, то гаснуть. Когда пламя яркое или молодое, существа выживают легко, а когда пламя состарилось или потухло, существа приближаются к порогу смерти[175].
Не ясно, почему Аристотель считает, будто старение у разных групп организмов должно объясняться по-разному. Но все его объяснения так или иначе построены на метаболизме и на механизмах его регуляции – то есть на функционировании растительной души. Это, в свою очередь, означает, что в целом продолжительность жизни существа не определяется случайно – она заложена в самой его природе и является характерным признаком.
Своеобразное очарование аристотелевской теории – или теорий – старения заключается в том, что они отвечают на вопросы, ответа на которые нет до сих пор. Для нас причины старения почти столь же туманны, как и для Аристотеля. Конечно, находятся ученые с гонором, не уступающим аристотелевскому, которые берутся утверждать, что им известна тайна старения. Впрочем, их заносчивость свидетельствует о том, что их коллеги не слишком им верят. Многие предлагаемые ими объяснения получили не больше экспериментальных доказательств, чем теории Аристотеля, – а некоторые даже меньше.
На один вопрос, однако, мы можем ответить лучше, чем Аристотель. И наука Аристотеля, и современная наука требуют телеологических или, если угодно, адаптивных объяснений для большей доли наблюдаемых биологических явлений. Сердце, перья и гениталии – это адаптации ради выживания и размножения. Но каков смысл старения? Ведь смерть не приносит очевидной пользы.
Аристотель обходит этот вопрос стороной. Он говорит, что такова “природа” всех существ на земле – стареть и умирать, и все, о чем остается говорить – как и когда это произойдет. Дарвин тоже уклонился от этого вопроса, сказав по этому поводу еще меньше Аристотеля. Это ужасное упущение. Август Вейсман, один из виднейших последователей Дарвина в Германии, попытался восполнить этот пробел – и складывается впечатление, что он оспаривает мнение Аристотеля: “Жизнь имеет ограниченную продолжительность не потому, что она по своей природе не может быть вечной (курсив мой. – А. М. Л.), а потому, что неограниченно долгое существование отдельных особей было бы бесполезным излишеством”. Вейсман пишет, что старые и дряхлые особи бесполезны для вида или даже вредны, что старение выработалось в ходе эволюции, дабы избавиться от обузы.
Современные эволюционные биологи возражают: польза для вида – это плохой аргумент. Вместо этого они утверждают, что старение является следствием отсутствия естественного отбора. Большая доля животных и растений погибает, не успевая состариться. Поскольку мертвые не размножаются, старость остается невидимой для естественного отбора. Поскольку старые (неразмножающиеся) особи также невидимы для естественного отбора, организмы нормально функционируют в молодом (репродуктивном) возрасте (это поддерживается отбором), но разрушаются в старости. Поэтому вопрос, для чего нужно старение, имеет ответ – ни для чего. Старение – это следствие отсутствия причин продолжать жить.
Стоит сказать еще кое-что о том, почему мы, согласно представлениям Аристотеля, дряхлеем. По Аристотелю, разрушению подвержены не только живые существа: эта участь ждет все и всех в подлунном мире. Животные, растения, живые ткани, реки, горы и даже сами начала разрушаются. Однако это не эквивалент второго закона термодинамики: в аристотелевском мире все, что было разрушено, возрождается в той же форме. Более того, ограниченная продолжительность жизни любого создания есть следствие непрерывного бурления в нем стихий. И вот главная причина того, что мы рождаемся, живем, стареем и умираем: мы тоже часть круговорота материального мира.
86
Есть рассказ о том, каким был Лесбос примерно две тысячи лет назад. Двое детей, пастушок и пастушка, пасут коз на холмах за городом Митилини. Они подкидыши, росли в бедных семьях, а теперь сияют свежестью и красотой. Все вокруг цветет, пчелы гудят над лугом, рощи наполнены трелями птиц. Опьяненные весенним воздухом, дети скачут, как ягнята, ловят сверчков и плетут венки. Они бредут к гроту, в котором берет начало бегущий по мшистому руслу ручей. Здесь святилище: у ног застывших в хороводе нимф (с нагими руками, распущенными волосами) лежат флейты и свирели, принесенные многими поколениями пастухов. Дафнис купается в ручье, Хлоя наблюдает за ним, и вдруг девушку пронзает неведомое доселе чувство: она влюбляется. Каменные нимфы, улыбаясь, смотрят на подростков, их шеи увиты цветами.
Некоторые исследователи считают, что пасторальный пейзаж у Лонга – придуманная, идеализированная картина. Но другие думают, что действие романа разворачивается в реально существующей местности. Один даже соотносит грот Дафниса и Хлои с истоком реки Вуварис к юго-востоку от Лагуны. Лично мне кажется, что больше подходят на эту роль водопады у Пессы, питаемые близлежащей Макри, где в скалах под сенью сосен много глубоких бассейнов, населенных пресноводными крабиками. Местная молодежь и сейчас ходит туда купаться. Но точное местоположение грота не так уж важно. (В конце концов, это просто роман.) Важно, что там родник.
Глава 14 Каменный лес
87
У порта Скала-Калонис в хибарке жил пеликан по кличке Одиссей. Он жил за счет рыбы, негодной на продажу. Я видел этого пеликана, шесть кошек и колли, глазеющих на приготовления рыбака – определенно известного своей щедростью, – с оптимизмом пассажиров метрополитена, ждущих поезда. Одиссей разинул бы клюв и попытался поймать брошенную в его сторону рыбу, однако у пеликанов (или, возможно, только у этого пеликана) неважная координация между работой клюва и глаз, поэтому он научился подбирать рыбин, упавших на камни. Для этого ему приходится сильно изгибать шею, к чему она природой явно не приспособлена.
Одиссей являл собой образец надменной красоты: розовое оперение и лимонно-желтый клюв. При этом птица была одноногой. Если брошенная рыбина летела в воду, пеликан стоял на волноломе и угрюмо смотрел, как она тонет. Летом я иногда растягивался на теплом пирсе, чтобы вглядеться в глубину. Одиссей подскакивал ко мне и, от скуки или мизантропии, терзал ботинки, пока я строго не приказывал ему перестать. Тогда птица взъерошивала перья и глядела на меня крошечными, налитыми кровью глазками.
Вода в гавани Скала кишит мальками. Их преследуют мерцающие косяки морских карасей. На тех, в свою очередь, охотятся группы безжалостных черных бакланов. Сразу же под поверхностью воды пирс покрыт коричневыми водорослями, по которым взбираются десятки раков-отшельников. Ярко-красные клешни выделяются на фоне служащих им домом сероватых раковин. Раки неповоротливы, да и актинии, которых они носят на раковинах, не прибавляют им прыти. Этот вид актиний называется Calliactis parasitica, но, вопреки имени, они мутуалисты, своим присутствием и стрекательными клетками защищающие раков-отшельников и взамен получающие пищу.
Чем глубже, тем пестрее сообщество. Средиземноморские мидии, прозрачные асцидии, золотистые нити колоний гидроидных полипов, полчища зеленых и коричневых губок ведут борьбу за жизненное пространство. Маленькие крабы-пауки скользят мимо скоплений голотурий (Holothuria forskali). Однажды я спросил у чинящего сети рыбака, каково местное название этих животных. Тот ответил: “Gialopsolos. Знаешь, что это значит?”. Да, морские огурцы называют еще морскими пенисами. Необычно то, что в Каллони водится и gialopmoya, “морская вульва”. Так называют ядовитую сцифоидную медузу [очевидно, из рода Chrysaora] с колоколом ярко-оранжевого цвета, пульсирующим с небольшой амплитудой, и щупальцами длиной до метра.
Здесь немало и морских коньков. Их нечасто увидишь с пирса, но они попадаются в сети, и, поскольку их не едят даже кошки, этих рыб просто выбрасывают. Часто я находил их умирающими на солнце, сгибающими бронированные хвосты в напрасном поиске предмета, вокруг которого можно обвиться. Я бросал их в воду, но, подозреваю, дело все равно кончалось плохо. Они никогда не опускались, двигаясь самостоятельно, а медленно тонули.
В Скала археологи пока не нашли ничего интересного, поэтому предположим, что Аристотель жил в Пирре, маленьком полисе на юго-восточном берегу Лесбоса. Представим очаровательное летнее раннее утро. Море спокойно. Перед рассветом на небе появился Sirios, α Большого Пса и затем исчез в набирающих силу солнечных лучах. Аристотель, возможно, позавтракал: смоквы, мед и мягкий сыр. Теперь он растянулся лицом вниз на пристани. Разгневанный пеликан терзает его пятку, а Стагирит достает губок, актиний и асцидий. Вытащенные из воды, они превращаются в неприятную на ощупь слизь.
Аристотель испытывал онтологические затруднения с губками. Не то чтобы они были необычными существами: их можно было увидеть в любом доме. В “Одиссее” губками чистят утварь. А Эсхил сравнивает беду с “влажной губкой”, стирающей “рисунок” человеческого счастья. Но Аристотель не понимал, животные это или растения.
Кажется, мир аккуратно структурирован. Живое отделено от неживого, а животные – от растений. В онтологии Аристотеля живые существа имеют душу, неживые – не имеют ее, животные имеют чувствующую и растительную души, а растения – лишь растительную. Никто не перепутает камень с оливой, а оливу – с козой. Все выглядит упорядоченным, пока мы не столкнемся с губками. С одной стороны, они, подобно растениям, укоренены в камнях, на которых растут и из которых, похоже, получают питательные вещества. С другой стороны, они могут ощущать прикосновения и реагировать на них. Аристотель приводит свидетельство ныряльщика: если губка “почувствует, что ее намереваются оторвать от скалы, она сокращается и отделить ее трудно”. И прибавляет: ловцы в Тороне отрицают это, однако все сходятся в том, что aplysia (может быть, Sarcotragus muscarum?) может чувствовать прикосновение[176].
Через пропасть между растениями и животными мост перебросили не одни только губки. Аристотелевские tēthya (асцидии), knidai и akalēphai (актинии), holothourion и pneumōn (описания довольно скупы, так что это могут быть и голотурии, и медузы), pinna (род морских двустворчатых моллюсков) – все они страдают своего рода раздвоением сущности, куда более радикальным, чем дельфин (млекопитающее, выбравшее море), страус (нелетающая птица), летучая мышь (летающее млекопитающее). Не менее неоднозначные создания населяют море и вдали от берега. Теофраст рассказывает о растущих в глубине каменистых алых созданиях и называет их korallion. Речь идет о красном коралле (Corallium rubrum). Теофраст описывает его в книге о камнях, вместе с жемчугом, лазуритом и красной яшмой. Так что же, коралл – это минерал? Возможно, нет, тем более что Теофраст называет его разновидностью растения из морских глубин, растущего близ Гибралтарского пролива и напоминающего осот. Упоминаются им и древоподобные наросты высотой в три локтя (135 см) в Заливе героев. Когда их извлекают из воды, пишет Теофраст, они напоминают камни, а при погружении в воду вновь оказываются яркими. Теофраст слышал об удивительных коралловых рифах, которые тянутся на 2 тыс. км от Акабы до входа в Красное море.
Hippokampos Аристотеля – морской конек (Hippocampus sp.)
У животных есть три черты, которых нет у растений: восприятие, аппетит и способность к перемещению. Все аристотелевские организмы, сочетающие признаки животных и растений, лишены хотя бы одной из указанных черт. Асцидии неподвижны, однако отвечают на прикосновение. Актинии неподвижны, но могут отделяться от поверхности, к которой прикреплены, и хватать добычу. Holothourion и pneumōn могут свободно двигаться или, по меньшей мере, дрейфовать, однако лишены восприятия. Мидии, отнесенные Аристотелем к “ракушкокожим” и поэтому близкие к улиткам и устрицам, “укоренены” (под “корнями” понимается биссус). Итак, поскольку эти существа имеют по крайней мере одну способность, ассоциируемую с чувствующей душой, Аристотель, возможно, предполагал, что они животные, но никогда не говорил об этом. Дело в том, что решение таксономической проблемы интересовало его в меньшей степени, чем то, почему это вообще стало проблемой:
Природа переходит так постепенно от предметов бездушных к животным, что в этой непрерывности остаются незаметными и границы, и чему принадлежит промежуточное. Ибо после рода предметов бездушных первым следует род растений, и из них одно от другого отличается тем, что кажется более причастным к жизни, и в целом весь род растений по сравнению с другими телами кажется почти одушевленным, а по сравнению с родом животных бездушным.
Живое и неживое, растения и животные формируют единое пространство, в котором одно плавно переходит в другое. На одном полюсе в этой схеме помещаются неодушевленные, почти бесформенные предметы, например камни, на другом – животные с двух- или даже трехчастной душой. По мере перехода от неживого к живому характерные признаки каждой группы проявляются постепенно. Но факт остается фактом: в море трудно провести границы.
88
“Природа переходит постепенно”, или (на латыни) Natura non facit saltum – “природа не делает прыжков”. Это один из лозунгов Дарвина. В одном лишь “Происхождении видов” он звучит семь раз. Хаксли (Гексли) считал, что это ненужная слабость дарвиновской теории[177]. Этот мотив встречается и у Аристотеля. Он прямо говорит это, рассуждая о похожих на растения губках или о животных, кости которых иногда похожи на рыбьи. Менее явно этот мотив возникает, когда он говорит о змеях как о ящерицах с удлиненным телом (они действительно родственны друг другу) или о том, что тюлени – это “деформированные” наземные четвероногие, а обезьяны весьма напоминают человека.
При чтении Аристотеля невозможно не вспомнить о Дарвине. Аристотель конструирует иерархическую классификацию и использует слово genos для своих таксономических категорий. По всей видимости, это подразумевает единство видов по происхождению – ибо что есть семья, как не группа генеалогически родственных сущностей? Он различает аналогичные и гомологичные части. Какой смысл могут иметь эти понятия, если не эволюционный? Сходный характер имеет и его описание эмбрионов – он отмечает, что на начальных стадиях развития они похожи и лишь позднее начинают различаться. Наряду с “первым законом” эмбриологии фон Бэра, это одно из важнейших дарвиновских доказательств эволюции.
Кроме того, и у Аристотеля, и у Дарвина встречается множество объяснений того, как устроены органы того или иного животного, чтобы взаимодействовать друг с другом или со средой. Многие философы и ученые пытались отграничить аристотелевскую телеологию от дарвиновского адаптационизма. (Появился даже обтекаемый термин телеономия, позволяющий использовать телеологию без того, чтобы слишком откровенно подражать Аристотелю.) Эта игра слов затемняла сходные признаки. Функционализм Аристотеля столь же непоколебим, как и Дарвина и большинства эволюционных биологов.
Действительно, читая Стагирита, трудно отделаться от ощущения, что он движется в сторону теории эволюции или даже пришел к чему-либо подобному. Однако это не так. Он не заявляет, как Дарвин, что все живое происходит от одного предка. Нигде он не предполагает, что одно животное может трансформироваться в другое. Нигде не поет он погребальную песнь тому или иному вымершему виду. У слова genos несколько смыслов, но у Аристотеля нет ни намека на его использование в генеалогическом смысле. Когда он пишет, что “природа переходит постепенно”, он имеет в виду не развитие, а неподвижную картину мира – что каждый может насчитать множество переходных ступеней между существующими на данный момент формами. А Дарвин имеет в виду то же самое, но уже в плане динамики – что виды могут изменяться, но крайне медленно. Нигде Аристотель не обращается к чему-либо, напоминающему естественный отбор, как к силе, ответственной в живой природе за ставшее или становящееся.
При этом у него было все необходимое для такого шага. Естественный отбор – вот единственное рациональное объяснение адаптации, то есть приспособления к окружающей среде. Аристотелю известно об адаптациях, а также о том, что адаптации нуждаются в объяснении. В плане научного объяснения естественный отбор – сама простота. Чтобы к нему прийти, нужно принять всего три концепции: 1) живые существа изменчивы, 2) по крайней мере некоторая часть этой изменчивости наследуется, 3) некоторые из “носителей” унаследованных вариантов выживают и размножаются благодаря особенностям их фенотипов, а остальные – нет. Теория квазистабильного наследования дает Аристотелю первые две концепции. Селекционизм Эмпедокла должен был показать ему третью. Похоже, Аристотелю не хватило лишь вдохновения или, возможно, желания сложить воедино фрагменты мозаики.
Интересно, почему? В конце концов, умственная подготовка – необходимое, но явно недостаточное условие для формулирования новой идеи. Хаксли, ознакомившись с теорией естественного отбора, сказал: “Как глупо с моей стороны было не подумать об этом”.
И в то же время эта простая идея очень сильна. Биолог может читать Аристотеля, не вспоминая при этом о теории эволюции, однако это очень непросто. Эволюция поддерживает все наши теории и объясняет все наблюдения. Мы видим ее работу повсюду. Как ученые мы сформировались так, чтобы видеть их, подобно тому, как гончие выведены для бега. Есть и другая трудность. Дарвин на фоне предшественников так велик, что мы склонны приписывать ему и чужие заслуги. Историки пишут о немецкой натурфилософии и французской трансцендентальной анатомии – но биологи к этим работам глухи. Для них нулевым годом их эры по-прежнему остается 1859-й. Мы так и говорим: “Еще со времен Дарвина…” Такова история, наш миф о происхождении. Не то чтобы я мог или хотел его развенчать, но один вопрос все же задам. Если мы находим определенно дарвиновскую мысль у Аристотеля, то, может быть, это у Дарвина мы находим ту или иную аристотелевскую мысль?
89
Если и так, то не потому, что Дарвин штудировал Аристотеля. В одной из записных книжек “Трансмутация видов” (июнь 1838 г.) мы видим многообещающее: “Читаю Аристотеля, чтобы понять, насколько давно появились мои взгляды”. Прошло около двух лет после того, как Дарвин сошел с корабля "Бигль" в Фалмуте. И после этого – вплоть до четвертого издания “Происхождения видов” (1866) – почти никаких упоминаний этой темы. Там, обсуждая возможных предшественников эволюционизма, Дарвин упоминает запутанный фрагмент кн. II аристотелевской “Физики”, где тот рассуждает об эмпедокловском селекционизме. Но и тогда Дарвин обращается к этому фрагменту лишь потому, что его прислал один из корреспондентов. В общем, мы можем уверенно сказать, что Дарвин знал об Аристотеле очень немногое, причем только в отрывках или пересказе. Ситуация изменилась лишь в 1882 г., когда Уильям Огл, врач и антиковед, послал ему свой только что законченный перевод “О частях животных”[178]. К переводу прилагалось письмо:
Дорогой г-н Дарвин! Я позволил себе удовольствие послать вам экземпляр “О частях животных” Аристотеля и чувствую собственную значимость из-за того, что являюсь первым человеком, формально представившим отца естествоиспытателей его великому современному преемнику. Случись такая встреча в действительности, она была бы крайне любопытной.
Перевод Огла хорош, хотя с тех пор были выполнены еще более точные и с более глубокими комментариями. Как Томпсон осветил “Историю животных” с точки зрения натуралиста, так и Огл дополнил “О частях животных” своим видением. Когда Аристотель пишет: “Самки всех четвероногих мочатся назад, потому что такое расположение удобно им для совокупления”, Огл делает сноску, в которой отмечает справедливость этого суждения.
Лучшего подарка для Дарвина и не придумать. Через несколько недель тот ответил Оглу:
Из цитат, которые были в моем распоряжении, ранее я получил хорошее представление о достоинствах Аристотеля, но у меня не было и самого отдаленного понимания того, каким удивительным человеком он был. Линней и Кювье были моими богами, хотя в разных отношениях, но в сравнении со стариком Аристотелем они просто школьники.
Исходя из всего, что мне известно, это первый случай непосредственного знакомства Дарвина с Аристотелем. И хотя было бы крайне интересно узнать, о чем Дарвин думал в ходе чтения “О частях животных” (творения одного из немногих равных ему в истории умов по широте охвата и силе, да еще совпадавших по интересам), к сожалению, мы никогда этого не узнаем. Ответ Дарвина Оглу был одним из последних его писем: в апреле того года Дарвин умер. И может показаться, что мои предположения об аристотелевских корнях работ Дарвина – типичный случай того, как желаемое принимают за действительное, но это не так. Когда Дарвин писал, что Линней и Кювье в сравнении со Стагиритом лишь школьники, он был недостаточно точен. Ему следовало сказать, что старик Аристотель был их учителем.
90
Аристотелевская классификация животных – точка отсчета нашей собственной. Линней позаимствовал у него многие европейские виды либо прямо, либо через энциклопедистов XVI в. В Линнеевском обществе в Берлингтон-хаус на Пикадилли есть принадлежавшие Линнею экземпляр зоологических работ Аристотеля (в переводе Газы, венецианское издание 1476 г.) и экземпляр геснеровской “Истории животных”. Можно проследить имена видов оттуда через все издания линнеевской “Системы природы”, вплоть до их появления в современном виде в десятом издании. Упомянутые латинские переводы Аристотеля говорят sēpia, Геснер – Sepia, а Линней в 1758 г. – Sepia officinalis. Под этим именем мы знаем каракатицу и сегодня.
Более высокий таксономической уровень у Аристотеля – megista gēne – также лежит в основе современной классификации. В первом издании “Системы природы” Линнея (1735) аристотелевские живородящие четвероногие названы Quadrupedia, и переименовали их в Mammalia (млекопитающие) лишь в десятом издании. Кое-какие другие аристотелевские таксоны перемешаны или перенесены в другие разделы, но вполне узнаваемы. Скажем, его ostrakoderma (“ракушкокожие”) стали у Линнея Testacea, а аристотелевские entoma (членистые) и malakostraka (“мягкораковинные”) у Линнея объединились в Insecta[179].
Влияние Аристотеля на Линнея заметно не только в названиях таксонов. По меньшей мере отчасти таксономическая терминология последнего заимствована у Аристотеля или Платона. Самые яркие примеры – “виды” (eidos) и роды (genos). Часто говорят, что линнеевские методы классификации таксонов основаны на аристотелевской логике подразделения. Историки с этим не согласны, и я сам в этом вопросе склонен к сомнению. И все же вполне очевидно, что комплекс платоновских и аристотелевских идей сформировал видение структуры природы, характерное для Линнея и других додарвиновских натуралистов.
Около 1260 г. Альберт Великий, первый изучавший Аристотеля современный западноевропеец, так выразил аристотелевский тезис природа переходит постепенно: “Природа не делает отдельные виды [животных] без создания чего-то промежуточного между ними; природа не переходит от крайности к крайности без промежуточных этапов”. К началу XVII в. суждение, полученное из этой мысли инверсией, стало общеприменимым и зафиксировалось во фразе Natura non facit saltum (“Природа не делает прыжков”). Линней в “Философии ботаники” (1751) возвел это в методологический принцип: “Это первое и главное из требуемого ботаникой – Природа не делает прыжков”. Возможно, именно это имел в виду Дарвин, упоминая Линнея.
Та идея, что природа не делает прыжков, тесно связана с другой: она организована в линейную шкалу, проходящую через все – от камней до Бога, и в эту линейку включены растения, животные и люди. “Лестница природы” (scala naturae), как ее стали называть позднее, появляется в космических структурах платоновского “Тимея”, и уже там она чисто иерархическая. Тема лестницы проходит и через работы Стагирита. Для него каждое природное явление может быть своего рода сплавом формы и материи (eidos и hylē), но в одних вещах может быть важнее первое, а в других – второе. В камнях доминирует hylē, в живых существах – eidos. Но и для живых существ есть лестница сложности. Она восходит от растений к людям, последовательно проходя через одно-, двух- и трехсоставную душу. В трактате “О возникновении животных” Аристотель разрабатывает “лестницу жизни” в отношении одних животных и обосновывает ее с точки зрения эмбриологии и физиологии.
Он начинает с того, что связывает линейку “совершенства” потомства (то, насколько развито то или иное существо при рождении) с родителями: “Вполне естественно, что совершенное происходит из более совершенного”. Совершенство родителей зависит от присущего им тепла, и чем больше тепла в них, тем лучше. Тепло отражается и в составе их органов, более теплые животные более мягкие и менее твердые, чем те, что холоднее их. Тепло также отражает анатомию существа – более теплые из них имеют легкие и более сложную систему терморегуляции. “Теплые” животные обычно крупнее, умнее и живут дольше “холодных”. Итогом рассуждений для Аристотеля стала лестница совершенства, спускающаяся от живородящих четвероногих к акулам, икромечущим рыбам, ракообразным и головоногим, насекомым, откладывающим личинки, и далее – к самовозникающим существам, например губкам, актиниям и асцидиям (которые для него немногим отличаются от растений). Хотя эта лестница объясняет большую долю крупных различий между животными, Аристотель – слишком хороший зоолог для того, чтобы поверить, будто какое-либо животное можно однозначно поставить на ту или иную ступень. Относя то или иное существо к определенной группе на основании присущих ему признаков, он всегда оговаривает – по большей части.
“Лестницу природы” восприняли неоплатоники, христианские теологи и философы начала Нового времени. Она подпирает собой космологию Лейбница. После расширения и заметной трансформации эта аттическая по происхождению концепция достигла пика своего влияния в XVIII в. Именно тогда она появилась в “Системе природы” Линнея[180]. Линнеевская версия “лестницы” вполне аристотелевская. Биологи забыли, что он классифицировал не только растения и животных. Раздел “О трех царствах природы” (Per regna tria naturae) имеет подзаголовок: для камней существует своя таксономия. Три великих царства природы – животное (Animale), растительное (Vegetabile) и минералов (Lapideum) – явно упорядочены по убыванию сложности их организации. Книга начинается с Homo sapiens и заканчивается железом.
Хотя все это кажется довольно ясно очерченным, в пору написания “Системы природы” картина вовсе не была такой ясной. В XVIII в. натуралисты пытались, как и Аристотель в свое время, классифицировать камнеподобные растения и животных, напоминающих растения. Следовавшие одно за другим издания “Системы природы” фиксируют эти попытки. В первом издании (1735) самое низкоорганизованное из низших животных – отряд Zoophyta (зоофиты), буквально “растения-животные”. Он включал медлительных и едва способных чувствовать существ: голотурий, морских звезд, медуз и актиний (и, как ни странно, каракатиц). Все они озадачивали еще Аристотеля. Губки, кораллы, роговые кораллы и мшанки у него даже не являются животными – они растения, и даже среди растений поставлены на весьма низкую ступень. Они принадлежат к отряду Lithophyta, буквально “растения-камни”. Лишь через полвека всех их подняли в статусе. Только в последнем, посмертном издании 1788–1793 гг., аристотелевские существа с двойственным статусом растений и животных стали наконец полноценными животными. Zoophyta еще наличествует, но теперь содержит всех линнеевских Lithophyta: коралловых полипов, горгониевые кораллы, мшанок и, конечно, губок. Растения-камни стали животными-растениями – Линней, видимо, находил эти двусмысленности привлекательными. Он определял зоофитов как “составных животных, цветущих как растения” и отмечал, что на них сходятся границы трех царств природы.
Среди множества натуралистов (например, А. Трамбле, Ж.-А. Пейсонель, Б. де Жюссье), пытавшихся разобраться с двойственностью статуса растений и животных, один заслуживает особого внимания. Лондонскому торговцу Джону Эллису нравилось составлять коллекции морских организмов. Заинтересовавшись, он стал изучать их. В 1765 г. Эллис побывал в Брайтоне. Там он поместил живую губку в стеклянный сосуд и наблюдал, как она всасывала воду и выделяла ее через систему “маленьких трубочек”. Именно так, отметил он в сообщении Королевскому обществу, губки получают питательные вещества и избавляются от отходов жизнедеятельности. Следовательно, губки являются животными:
Если мы обратимся к древним, то обнаружим, что во времена Аристотеля люди, собиравшие губки, чувствовали что-то вроде съеживания, когда отрывали губки от камней. Однако в последующем на этот вид сведений перестали обращать внимание…
Эллис чувствовал, и небезосновательно, что отомстил за Аристотеля. Но, увы, убедил он немногих. Губок вполне признали животными лишь в 1826 г., когда эдинбургский зоолог Роберт Грант продемонстрировал их подвижных личинок.
Вот до какой степени сохранялось влияние платоновско-аристотелевского взгляда на природу как на лестницу, ведущую от менее совершенного к более совершенному. Однако у Аристотеля можно найти и другое видение порядка. Рассуждая о биологии, он много где пишет о крупных, естественным образом выделяемых группах. Все животные делают одно и те же: едят, испытывают ощущения, двигаются, размножаются, – и все по-разному. Оба этих подхода проявлялись и в аристотелевских текстах, и в зоологических работах позднее XVII в. Иной раз эти взгляды даже сосуществуют, хотя и не без трений, в одном пространстве.
Даже когда представление о “лестнице природы” восторжествовало, ряд натуралистов, например Паллас, утверждал, что животные, во всем их разнообразии, не могут и не должны быть подогнаны под линейку. В 1812 г. Кювье разделил животных на четыре “ветви” (типа) “в соответствии с кажущимся превосходством одних над другими. Я не считаю подобные идеи практичными”. Он представил схему в четырехтомнике “Царство животных” (1817), прославившем ученого. Там же Кювье называл Аристотеля своим великим предшественником, который едва ли оставил последователям что-нибудь, им не исследованное. И в то же время классификация Кювье не выглядит аристотелевской. Значимое разделение животных на тех, что имеют кровь, и тех, что бескровны – переформулированное Ламарком как animaux sans vertèbres и animaux à vertèbres, у Кювье отброшено. Иерархия классов, отрядов, семейств и родов была им в огромной степени расширена, но немногие из высших родов Аристотеля остались нетронутыми. И все же один аристотелевский элемент в новой схеме остался. Как Аристотель схематически набрасывал каждый из высших родов в виде комплекса функциональных элементов, так и Кювье изображал “ветви”. Именно это вызвало один из наиболее долгих и ожесточенных споров в истории зоологии.
91
В октябре 1829 г. два начинающих анатома, Мейран и Лорансе, отправили в Париж, в Академию наук, работу, в которой показали, что если взять четвероногое и сложить его пополам так, чтобы хвост касался головы (надеюсь, они упражнялись лишь на бумаге),
то результат будет очень напоминать каракатицу. Не знаю, вдохновлялись ли Мейран и Лорансе аристотелевским разбором геометрии каракатицы в “Истории животных” и “О частях животных”: детали неясны, а рукопись, похоже, утрачена. Как бы то ни было, невинная каракатица явилась настоящим поводом к войне.
Главными комбатантами выступили Жорж Кювье и Этьен Жоффруа Сент-Илер – его коллега из Национального музея естественной истории. Жоффруа Сент-Илер, старший из этих двоих, помог Кювье сделать карьеру, устроив его на работу. Но к 1830 г. Кювье превзошел своего наставника. “Лекции по сравнительной анатомии” Кювье вернули к жизни эту отрасль. “Царство животных, распределенное согласно их организации” стало стандартом классификации. В “Особом значении ископаемых костей четвероногих” Кювье продемонстрировал следы вымирания в геологической летописи. “Естественная история рыб” превзошла все, что к тому времени было написано о рыбах. Наполеон сделал Кювье членом совета Императорского университета, а после реставрации Бурбонов тот стал бароном, а после и пэром Франции. (Перечисление сочинений, титулов, постов и наград Кювье может занять целые страницы.) Жоффруа Сент-Илер, напротив, не был плодовит. Он издал лишь два тома “Философии анатомии” (1818–1822): собрание размышлений на темы сравнительной анатомии и тератологии.
Спор начался с классификации, предложенной в 1812 г. Кювье. Вслед за своим кумиром Аристотелем он провозгласил, что каждая из четырех “ветвей” животного мира [“позвоночные”, “членистые”, “мягкотелые”, “лучистые”] имеет собственный план строения, а различие форм обусловлено сопряженностью функций. Животные из одной “ветви” часто не имеют ни одного органа, аналогичного имеющемуся у животных из другой. “Ветви” разделены пропастью, через которую природа не перепрыгивает, да и не может прыгать.
Жоффруа Сент-Илер не согласился. Он был романтиком и предпочитал видеть единство там, где другие видят различия. Жоффруа Сент-Илер заявил о единстве плана строения у животных. Рассматривая экзоскелет насекомых и позвонки рыб, ученый предположил, что у них одна и та же структура. Действительно, насекомые обладают наружным скелетом (твердые части окружают мягкие), а рыбы – внутренним (мягкие части окружают твердые). Но если другие анатомы усматривали здесь достаточную причину для отграничения одних от других, Жоффруа Сент-Илер видел в этом объединяющий принцип. С уверенностью провидца он писал, что у всякого животного либо есть позвоночник, либо нет. Не удовлетворенный одним этим приложением всеохватной системы, он показал, что анатомия лангустов очень близка к анатомии позвоночных – достаточно перевернуть животное. У лангустов главные нервные волокна идут по брюшной стороне, а главные кровеносные сосуды – по спинной. Для позвоночных верно обратное.
Насилие над его схемой подразделения животных на “ветви” привело Кювье в ярость. В 1829 г., когда Мейран и Лорансе представили свою работу Академии, Жоффруа Сент-Илер пришел в восхищение: стена между двумя из “ветвей” Кювье, “позвоночными” и “мягкотелыми”, наконец треснула. Жоффруа Сент-Илер настаивал на немедленной публикации. Для Кювье это было слишком. Он выступил резко против работы о каракатице: по его словам, все это было виной Жоффруа Сент-Илера. Тот, конечно, ответил, и целых три месяца 1830 г. два зоолога сражались в Академии. Скандал вышел наружу. На стороне Жоффруа Сент-Илера выступили Гете и Бальзак. В итоге все сошлись на том, что Кювье победил по очкам.
Иногда говорят, что это были дебаты об эволюции – и Жоффруа Сент-Илер действительно заигрывал с этой идеей. Однако то был скорее спор о силе и значении аристотелевской науки. Жоффруа Сент-Илер глядел сквозь странную геометрию каракатицы на то, что лежало под ней и доказывало ее родство с другими животными. Поэтому он и утверждал, что все ее органы были теми же, что и у позвоночных, просто расположенными в ином порядке. Кювье же считал это ошибкой, причем сразу во многих отношениях. По его мнению, это неверно анатомически. У головоногих, показал он вскрытиями, имеется целый ряд органов, отсутствующих у позвоночных. Это было неверно и в концептуальном отношении – ведь, по Кювье, “проливы” между четырьмя типами слишком широки, чтобы через них можно было перекинуть мосты тождества. Наконец, это неверно и исторически, поскольку представляло собой извращение доктрины Аристотеля. Несчастные Мейран и Лорансе так и не дождались публикации. Зато Кювье свое опровержение напечатал.
Сопоставление геометрии тела позвоночного (слева) и головоногого
Апеллируя к авторитету античности, Кювье провозгласил, что изучение сходства среди различных видов – это “объект особого раздела науки, называемого сравнительной анатомией, но эта наука родилась далеко не сегодня, поскольку ее основатель – Аристотель”. Жоффруа Сент-Илер указал, что смог преодолеть эти ограничения: “Я не довольствовался одними описаниями Аристотеля. Во-первых, я никогда не забывал упоминать его в моих работах… но хотел получить более точные указания из самих фактов”. Кювье в ответ высмеивал его, утверждая, что там, где Аристотель построил монумент из фактов, Жоффруа Сент-Илер в лучшем случае занимался философией. Нельзя сказать, чтобы это было самым обдуманным высказыванием Кювье.
Поле боя затянул семантический туман. Оба спорщика заявляли, что органы каракатицы и четвероногих “аналогичны”, но явно имели в виду очень разное. Понимание Кювье было ближе к аристотелевскому. Жоффруа Сент-Илер же усматривал ровно противоположное, то, что Аристотель в отношении внешне сходных органов с разными функциями называл “одинаковыми без оговорок”. Оуэн в 1834 г. назвал это “гомологом”. К марту 1830 г., однако, терминологические проблемы потеряли значение. Но вопрос о классификации каракатицы не утратил важности. Главные герои спора разошлись в более фундаментальном вопросе – как именно следует объяснять форму.
Кювье был величайшим функциональным анатомом своего времени и хвалился тем, что может классифицировать животное по одной-единственной кости. По Кювье, части животных соотносятся между собой так, “что форма зуба подразумевает определенную форму мыщелка, а тот – форму лопаток, тот, в свою очередь – когтей, и все это точно так же, как уравнение, описывающее кривую на графике, заключает в себе все ее свойства”. Это апофеоз метода Аристотеля. Великий объяснительный принцип Кювье – закон условий существования – был аристотелевскими необходимыми условиями, возведенными французом в ранг закона:
Естественная история имеет рациональный принцип, присущий ей и с пользой применяемый во многих случаях: принцип этот – закон условий существования, широко известных как целевые причины. Ничто не может существовать, пока не объединяет в себе условия, которые делают его существование возможным. Таким образом, разные части каждого существа должны быть скоординированы между собой так, чтобы сделать возможным существо в целом, причем не только возможным самому по себе, но в плане его связей с теми, кто его окружает. Анализ таких условий часто позволяет сформулировать общие законы, такие же строгие, как и те, что получены вычислениями или экспериментом.
В эпоху научных законов у Жоффруа Сент-Илера имелся собственный. Функция, заявил Жоффруа Сент-Илер, не предопределяет форму: скорее форма предопределяет функцию. Приводя в пример грудину у позвоночных, он объяснял изменяющиеся пропорции ее частей в чисто физиологических терминах. Киль, гипертрофированный вырост грудины у птиц, к которому прикрепляются нужные для полета мышцы, тормозит развитие других костей, отвлекая в свою пользу питательные жидкости, которые могли бы питать эти другие кости. Здесь нет функциональной гармонии Кювье: обычная экономика. Жоффруа Сент-Илер назвал это законом компенсации (loi de balancement) и провозгласил великим открытием. (Правла, Гете уже предвосхитил его в этом отношении.) Возможно, Жоффруа Сент-Илер пришел к своему открытию, воспользовавшись аристотелевским сочинением “О частях животных”, поскольку закон компенсации – это аристотелевское “Что природа отнимает в одном месте, то отдает другим частям”, возведенное в ранг закона. “Великий спор о каракатице” (1830) касался многого: единства жизни, идентичности органов и терминологии для такой идентичности, причинного объяснения разнообразия жизни. Большей частью дискуссия стала конкуренцией одних взглядов и аргументов Аристотеля против других.
Скелет колибри
92
То были последние крупные научные дебаты, в которых участвовал Аристотель. Герои этих событий жили два века назад, но концептуально они ближе к нему, чем к нам, поскольку все их работы были написаны до 1859 г. Дарвиновское “Происхождение видов” изменило саму терминологию аристотелевской науки, иначе говоря, сделало ее устаревшей. Genē (и типы Кювье) стали настоящими семействами, происходящими от общего предка. “Двойственные” существа, сочетающие свойства животных и растений, перестали быть таковыми и стали примерами конвергентного решения проблем адаптации. Части животных перестали быть “аналогичными” или “одинаковыми без оговорок”, но стали аналогичными или гомологичными, причем в зависимости от расположения животных, обладающих этими частями, на древе жизни. То, что план строения может быть общим даже у сильно различающихся животных (единство плана строения по Жоффруа Сент-Илеру), объяснили постепенным накоплением изменений в ходе длительной эволюции. Закон условий существования Кювье были объяснен естественным отбором.
Иногда говорят, что Кювье заимствовал телеологию у Канта, но для Канта телеология была лишь “эвристической фикцией” и прологом к отчаянию: “Никогда не появится Ньютон, способный объяснить травинку”. Кювье настроен оптимистичнее: “Почему бы естественной истории не заполучить своего Ньютона?” (И отвечал на собственный вопрос: “Теперь он у нее есть”.) Можно посочувствовать Кювье. Если у естественной истории и был собственный Ньютон, то это Дарвин. В “Происхождении видов” он великодушен, хотя и ставит предшественника на место:
Выражение “условия существования”, на котором так часто настаивал знаменитый Кювье, вполне охватывается принципом естественного отбора. Естественный отбор действует либо в настоящее время путем адаптации варьирующих частей каждого существа к органическим и неорганическим условиям его жизни, либо путем адаптации их в прошлые времена. При этом адаптациям содействовало во многих случаях усиленное употребление или, наоборот, неупотребление частей, на них влияло прямое действие внешних условий и они подчинялись во всех случаях различным законам роста и вариаций.
Заметьте, как тонко Дарвин подменяет смысл понятий Кювье. Там, где последний обращается к закону условий существования, он в большинстве случаев старается объяснить то, что части животного “подходят” друг к другу. Дарвин делает то же – чтобы объяснить адаптацию частей животного к окружающей его среде. Разница только в том, на что он делает упор. Любой, кто пытается понять устройство живых существ, обязательно изучает их как целое, а также их окружение. Аристотель, Кювье и Дарвин: все они обращали внимание и на то, и на другое.
В “Происхождении видов” закон компенсации Жоффруа Сент-Илера появляется под названием “коррелятивная вариация”. “Под этим выражением я разумею, – пишет Дарвин, – что вся организация во время роста и развития внутренне связана, и когда слабые вариации встречаются в какой-нибудь одной части и кумулируются путем естественного отбора, другие части оказываются модифицированными”. Идея Дарвина более общая, чем у Жоффруа Сент-Илера, поскольку он позволяет связям иметь не только экономический характер. Но Дарвин ссылается на Жоффруа Сент-Илера (и Гете) как на авторов идеи.
Эти концепции еще развиваются. Однако они снова сильно видоизменились: если Аристотель, Кювье и Жоффруа Сент-Илер писали об этом до 1859 г., то Дарвин в некотором смысле присоединяется к ним после 1900, или, если угодно, после 1953 г.[181] Аристотелевский принцип условной необходимости по-прежнему применяется к молекулам и даже генам, пусть под другим именем. Если обстоятельства вынудят мексиканскую живородящую рыбку пецилию Xiphophorus maculatus и зеленого меченосца Xiphophorus helleri, они будут скрещиваться, и их гибриды, что необычно, могут вновь гибридизироваться. У некоторых гибридов второго поколения разовьется меланома, которая распространяется по телу рыбки, как плесень по винограду. Естественный отбор настроил 20 тыс. генов пецилии на слаженную работу по построению пецилии, а гены зеленого меченосца – на построение зеленого меченосца. Но гены пецилии не предназначены для совместной работы с генами зеленого меченосца. Поэтому “незаконнорожденные” гибриды, чьи геномы представляют собой мозаику генов обоих предков, гибнут под натиском опухолей.
Это настоящие эмпедокловские уроды. Явление, которое иллюстрирует данный пример, генетики называют “эпистазом приспособленности”, но это просто пересказ “закона условий существования” Кювье[182]. Точно так же это можно назвать и пересказом “отношений” между частями Пейли или аристотелевской условной необходимости. Под новыми именами концепция продолжила свой путь и в описании механизмов видообразования Г. Дж. Меллера и А. Стертеванта, и в теории смещающегося равновесия С. Райта, и в объяснении поддержания полового размножения А. Кондрашова, и в моделях адаптивных ландшафтов С. Кауфмана, и много где еще. Где бы идея ни появлялась, суть ее неизменна: “смешать” различных животных невозможно.
Аристотелевскую идею – “лучшее и более ценное там, где не препятствует что-нибудь еще более значительное” – можно изложить и на языке генетики. Гены, влияющие на явно различные части животного, вызывают плейотропные эффекты. Этот термин используют, чтобы описать разделение потоков информации, материи или энергии. Например, существует мутантная линия нематод, продолжительность жизни которых примерно вдвое больше, чем у обычных червей этого вида. Но при этом они откладывают гораздо меньше яиц – очевидно, такова цена долгой жизни. Такую мутацию называют антагонистической плейотропией, поскольку она усиливает проявление одного признака, ослабляя другой. Плейотропия в генетике, дарвиновская коррелятивная вариация, закон компенсации Жоффруа Сент-Илера и аристотелевское “лучшее и более ценное там, где не препятствует что-нибудь еще более значительное” – все эти идеи, таким образом, взаимосвязаны. В своей современной форме они подкрепляют эволюционную теорию жизни и старения, а в античности подкрепляли взгляды Аристотеля. Вне зависимости от времени возникновения этих идей их суть одна: части животных неотделимо связаны.
Возможно, наиболее важная часть наследия Аристотеля та, которую я пока вообще не затрагивал, хотя она проходит через всю историю зоологии. Это его настойчивость в отношении того, что живой мир организован в естественные классы, которые классификация не должна дробить. Для современных зоологов (почти всех, начиная с Линнея) эта идея превратилась в поиск системы классификации, вытекающей из самой природы. Дарвин объяснил, почему такая система существует и что она значит: “Я думаю, что общность происхождения, единственная известная причина близкого сходства организмов и есть та связь между ними, которая, хотя и выражена разными степенями модификаций, до некоторой степени раскрывается перед нами при помощи наших классификаций”. Теперь проблема в том, чтоб выявить форму этой скрытой связи, топологию Древа жизни. Это делают ученые, используя высокопроизводительные алгоритмы, которым скармливают терабайты полученных при секвенировании ДНК данных. Сейчас животные разделены на три крупных надтипа (плюс несколько базальных групп, например, губки). Они, в свою очередь, делятся на тридцать с чем-то типов, а те – на группы, вплоть до видов. Нельзя сказать, будто виды неисчислимы, однако и подсчитать их трудно: видов от 3 до 100 млн.
Великое древо, метафора истории жизни, служит метафорой и истории идей. Например той, что природа не делает прыжков, что существует “лестница природы”, что естественно деление животных на группы, что группы должны определяться гомологией и аналогией их органов и что органы формируются под действием и функциональных связей, и расходуемых на них ресурсов организма. Все эти идеи, утверждаю я, можно найти у Аристотеля. Современная зоология структурно определялась ими на протяжении большей части ее истории – и сейчас определяется. Мы, однако, можем задаться вопросом, остались ли эти идеи по сути теми же.
Ответ зависит от того, что понимать под “теми же”. Идеи – это органы нашей мысли, и, как органы каракатиц или четвероногих, они могут быть теми же по праву общего происхождения или теми же в том смысле, что решают ту же проблему, но другим способом. Аристотель с удовольствием отмечал, что одни и те же идеи возникали у многих людей многократно. Если это и кажется банальностью, то лишь потому, что оно верно и само приходило в голову многим людям многократно. Полагаю, что для той группы идей, что я описал, наиболее обоснованной версией может быть идентичность происхождения: интеллектуальная гомология, если угодно. Линней, Жоффруа Сент-Илер и Кювье читали Аристотеля. Дарвин читал Линнея, Жоффруа Сент-Илера и Кювье. Мы читали Дарвина. Генеалогическая линия ясна.
У историков довольно немодно заниматься генеалогией идей и концепций – историей идей как таковых, а не интеллектуальной историей (то есть идеями в их социальном и культурном контексте). Они отмечают, что мыслители каждой эпохи присваивают себе терминологию и концепции предшественников, а затем радикально изменяют смысл заимствований. Философы называют это концептуальным сдвигом и наслаждаются поиском признаков таких процессов, как терьеры – ловлей крыс. Ученые непочтительны с терминологией, но постоянно предлагают новые теории – они вообще примечательны таким отношением к наследию. Вечно изменяющиеся значения слов аналогия и гомология – вот типичный пример. Аристотель также был склонен к ползучему переосмыслению: его формы и души по смыслу определенно не то же самое, что у Платона.
Историки правы в том, что подчеркивают эту особенность, но не правы в том, что отрицают логику модификации при переходе от поколения к поколению. Эта логика в одинаковой степени применима и к сфере идей, и к самой жизни. В некотором смысле разница между этими двумя сферами – просто вопрос точки зрения. Если мы фокусируемся на каракатице в ее мире, странная геометрия ее тела покажется логичным решением ее проблем. Но стоит посмотреть на вопрос шире, как покажется, что это лишь штрих на большом плане, очень давно замысленном.
Нам кажется непостижимым, что много веков зоологи заимствовали идеи у Аристотеля, даже воевали с ними. Дарвин затмил предшественников. Он стал для нас тем, кем Аристотель был для них: авторитетом, который вдохновляет или к которому просто взывают. И все же мы забыли исходный источник упомянутых выше идей, структурирующих зоологию. Идеи Аристотеля, трансформировавшиеся и примененные к областям, о которых он не мог бы и помыслить, все еще с нами.
93
Аристотель так и не сделал шаг к эволюционизму. И неудивительно: он не стоял, подобно Дарвину, на плечах Линнея, Бюффона, Гете, Кювье, Жоффруа Сент-Илера, Гранта и Лайеля. Он не слышал робких голосов трансформистов из Парижа и Эдинбурга. Он не видел ни галапагосских пересмешников, ни гигантские окаменелости из аргентинской пампы. То, что у него имелись все предпосылки для эволюционной теории, очевидно, разумеется, лишь теперь. Мы можем заметить влияние Аристотеля на Дарвина – но не Дарвина на Аристотеля. По этой причине аристотелевская система не может быть антидарвиновской. Оппонентами Аристотеля были натурфилософы и Платон. Ни один из них не был эволюционистом в дарвинистском смысле. Многие, однако, были эволюционистами в более широком смысле: они дали натуралистические описания происхождения или изменения видов[183]. Аристотель решительно отверг эти описания.
Креационизм и эволюционизм – братья-соперники. Оба предполагают, что прошлое существенно отличалось от настоящего, что создания, которые мы видим теперь, не всегда были такими. Не так-то легко разделить эти два направления мысли у древних греков. Досократики могли отвергать мифы, но в их идеях всегда можно найти божественное начало. Ксенофан Колофонский (ок. 525 г. до н. э.), по словам современников, утверждал, что живые существа произошли из земли и воды, хотя нам неизвестно, как он это представлял. Нам известны идеи Эмпедокла о самозарождении. Он считал, будто сначала появились части животных, затем соединившиеся в самых невероятных видах; после в дело вступил отбор, и, наконец, выжившие разбрелись по местам обитания[184]. Демокрит дал натуралистическую концепцию самозарождения, но мы не знаем о ней ничего, кроме того, что она исходит из взаимодействия атомов.
Досократические идеи самозарождения, как правило, не были трансформистскими. По Эмпедоклу, живые организмы, однажды приобретя некие признаки, сохраняют их. Анаксимандр (ок. 525 г. до н. э.), кажется, усматривал наше родство с рыбами. Одни источники сообщают, что Анаксимандр считал, будто люди исходно напоминали рыб, вторые – что люди появились от рыб, а третьи – что мы рождены от galeos. Это слово может относиться к куньим акулам: leios galeos Аристотеля. Кунья акула вынашивает детеныша в матке, питая его с помощью плаценты и пуповины.
А вот еще один платоновский диалог: “Тимей”. На секунду отнесемся к мифу серьезнее, чем он того заслуживает. Животные – это дегенерировавшие люди. Боги превратили глупых, хотя и безвредных людей, изучающих небеса (астрономов), в птиц. Люди, которые больше использовали свое сердце, чем голову, стали наземными животными. Их передние конечности притянуло к земле, а их головы деформировались за недостаточным использованием. По-настоящему глупые люди приобрели тела, близкие к земле, с множеством ног (многоножки?), слишком толстые были лишены ног (змеи или черви). Порочные люди были брошены в глубины. Недостойные дышать воздухом, они были обречены жить как рыбы и улитки в грязных водах. Или даже стали женщинами.
Анаксимандр производит людей от рыб, а Платон – рыб от людей. Эти две теории обладают трогательной симметрией прогресса и дегенерации. Аристотель не упоминает ни одну из них – на самом деле, он вообще очень мало говорит о происхождении жизни или видов. Критикуя Эмпедокла, он, верно или неверно, относится к его теории самозарождения как к эмбриологии. В то же время Аристотелю были известны воззрения предшественников. Обсуждая в трактате “О возникновении животных” спонтанное зарождение, он говорит: если, “как предполагают некоторые”, все животные, включая людей, “рождены из земли”, они спонтанно зарождались бы в земле как личинки (и он именно так думал о “земляных кишках” и угрях). Но кто именно предполагал такое: Анаксагор? Ксенофан? Демокрит? Диоген? Неважно. Аристотель лишь играл с этой идеей, указывая, что если бы самозарождение имело место, то оно, с точки зрения его физиологии питания, выглядело бы так. Насколько было известно Стагириту, такого никогда не случалось: все виды животных с половым размножением существовали всегда и всегда будут существовать.
Наш биологический мир с концептуальной точки зрения структурирован манихейским конфликтом креационизма и эволюционизма. Концептуальный мир древних греков до и после Аристотеля структурирован конфликтом между креационистским и натуралистическим объяснениями происхождения всего живого. С точки зрения Аристотеля, выбор не очень привлекательный. Оба варианта не схватывали одну из выдающихся особенностей живого мира: повторяемость.
Для Аристотеля происхождение особи того или иного вида, практикующего половое размножение, требует существования двух других представителей того же вида. Чтобы появился воробей, нужны два других воробья. Его слоган – человек порождает человека – прилагается, mutatis mutandis, ко всем видам с половым размножением. Лишь родители, точнее – отец, могут дать форму новому индивиду. Эта теория, взятая в буквальном прочтении, подразумевает вечный регресс воробьев. Аристотель воспринял ее буквально.
Аристотелевская теория полового размножения и ее метафизический базис несовместимы ни с одной теорией самозарождения или трансформации. Его теория наследственности также с ними несовместима. Я показывал, что система наследования у Аристотеля двойственная. Ее первая компонента – формальная система – заключается в уникальном отцовском вкладе в эмбрион. Она передает logos – набор функциональных признаков, которые дают потомству возможность жить в его окружающей среде и, если это потомок мужского пола, в свою очередь, воспроизводиться. Вторая компонента – неформальная система, идущая от обоих родителей, – отвечает за случайные различия между разными индивидами одного вида – например, за то, что нос Сократа отличается от носа Каллия. Эта система кодирует случайные вариации признаков. Это разделение труда между двумя системами наследования имеет далеко идущие последствия. Аристотель допускает, что индивид может приобрести мутацию, которая дает ему некий новый признак – скажем, вздернутый нос. Но Стагирит, кажется, не готов (несмотря на позицию Сократа, который считал форму своего носа полезной) признать, что случайные изменения могут иметь адаптивный смысл. В глазах Аристотеля все ошибки развития (унаследованные и нет) либо не имеют функционального значения – например, нос странной формы, либо вредоносны (нехватка тех или иных органов). Оставляя в стороне женщин, он не дает даже намека на то, что мутация может принести пользу любому животному. В его мире каждое создание в пределах своей физиологии абсолютно приспособлено к окружающей среде, здесь просто не остается места для улучшения. Доведись Аристотелю встретиться с Дарвином, он спросил бы – и обоснованно: а где благоприятные изменения, о которых вы говорите? Когда семя отца не может создать эмбрион, все, что я вижу – это смерть, уродство или (в лучшем случае) зачатие девочки. Дарвин не смог бы ответить. Его нынешние последователи, хоть и не без труда, ответить могут.
Аристотелевская теория наследования определенно не оставляет места для эволюции посредством естественного отбора. Но это порождает трудности для нас, а не для Аристотеля: он и не спорил с Дарвином. Мог ли Аристотель разработать некую эволюционную теорию? Возможно. Но для этого пришлось бы отказаться кое от чего в его собственной теории, и результат Дарвин не обязательно одобрил бы.
В среднем возрасте Линней считал, что путем гибридизации могут возникать (и возникают) новые, устойчивые виды растений. Аристотель мог думать примерно так же. В “Метафизике” он указывает, что лошадь рождает мула “вопреки природе”, но в зоологических работах он такое не пишет. Аристотель определенно считает, что спариться и дать потомство могут в общем случае лишь существа, принадлежащие к одному виду[185]. Но Аристотель говорит также, что животные разных видов иногда спариваются и дают потомство. По меньшей мере, они делают так, когда не слишком отличаются друг от друга по форме, размерам и длительности вынашивания[186]. Аристотель приводит обдуманное объяснение того, почему мулы стерильны, но явно считает это исключением, поскольку описанные ограничения гибридизации довольно умеренны. Аристотель думал, что можно получить фертильное потомство, скрещивая разные породы гончих собак и волков, собак и лисиц, лошадей и ослов, а также различных хищных птиц. Он пишет, что “индийские собаки рождаются от какого-то зверя, похожего на собаку, и собаки”, а также что rhinobatos, средиземноморские гитарные скаты (Rhinobatos rhinobatos), – это потомки столь же чудных rhinē, европейских морских ангелов (Squatina squatina), и неких batos (возможно, Rajiformes). Но здесь Аристотель опирается на непроверенные данные и явно понимает это.
Возникновение новых видов в силу гибридизации несовместимо с часто встречающимся у Аристотеля утверждением, что форма, передающаяся в рамках вида, идет от отца. Если гибрид должен иметь функциональные признаки обоих родителей, как это получается у гитарных скатов, то его эйдос должны происходить от эйдосов обоих родителей. Насколько я понимаю, Аристотель в это не верит. Однако в его текстах достаточно темных мест, и возможно, на каком-то этапе жизни он все-таки допускал такую возможность.
Однако если Аристотель выбрал бы эволюцию, то он отправился бы путем Жоффруа Сент-Илера. Во втором томе “Философии анатомии” (1822) француз заложил основы тератологии, науки об уродствах. Он заметил, что тератологические деформации имеют определенный порядок и что такие особи напоминают некоторых нормальных животных. Он назвал одно из человеческих уродств “аспалосомой”, потому что анатомия мочеполовой системы при таком уродстве напомнила ему крота (aspalax). Эти наблюдения явились почвой для трансформистских размышлений. “Ничто не уродливо, природа всего едина” – одно из высказываний, отражающих этот подход.
Таков и дух кн. IV “О возникновении животных”: “И противоприродное есть в известном отношении согласное с природой”. Уроды “противоприродны”, но главным образом потому, что они редки. Аристотель склонен признать уродов соответствующими природе, объяснив их существование через течение нормальных процессов эмбриогенеза. И действительно, “причина уродства очень близка и в каком-то смысле похожа на причину появления уродливых животных”. Здесь под уродливыми животными Аристотель понимает естественным образом деформированных животных. Кроты деформированы, потому что слепы, а тюлени – потому что у них ласты. Омары деформированы, поскольку у них асимметричные клешни. Они нарушают до некоторой степени нормы для более широких групп животных, в которые они входят. Проводя параллель между “противоприродными” и естественными деформациями, Аристотель подразумевал лишь, что их движущие причины одинаковы. В отличие от Жоффруа Сент-Илера, он не имеет в виду, что уродства дают начало новым видам – Аристотель так и не перешел к эволюционным взглядам.
А мог бы. Платон показал, как. Порочность определенно не может превратить человека в рыбу, но мутация (lysis) может. Или, по меньшей мере, она может превратить человека в четвероногое – иногда язык, который использует Аристотель, подсказывает нечто подобное. В книге “О частях животных” он объясняет, почему четвероногие ходят на четырех ногах. Аристотель говорит, что четвероногие имеют сравнительно тяжелую, в сравнении с человеком, верхнюю часть туловища. Во-первых, это делает тело четвероногого неустойчивым, клонит к земле. Во-вторых, это мешает активности души, сосредоточенной в сердце. По этим двум причинам четвероногие приобрели – egeneto – наклон туловища вперед, и для устойчивости природа снабдила их вместо рук передними ногами.
Приобрели? В каком смысле четвероногие приобрели четыре ноги? Почему Аристотель использует такой динамический язык? Почему бы просто не сказать, что они так устроены? Не то чтобы четвероногие рождались прямоходящими, да и мир не был никогда наполнен умственно ограниченными двуногими лошадьми или овцами, ковыляющими на двух копытах. По всей видимости, Аристотель здесь использует метафору. И все же можно найти источник такого изложения. У Аристотеля был подходящий рецепт, и он очень часто его использовал. Взять идею из “Тимея”, отбросить морализаторство, добавить основанной на здравом смысле биологии и представить результат как науку.
94
Иногда говорят, что Аристотель не мог быть эволюционистом из-за отсутствия у него свидетельств эволюции. Выглядит вполне разумно. Есть один класс свидетельств, в изобилии имевшихся у Дарвина и точно отсутствовавший у Аристотеля: окаменелости[187].
Аристотель не знал, что Землю населяли существа, к его времени вымершие. И что Лесбос и Троада выглядели (не так давно!) так, как теперь Серенгети, и были населены схожими животными[188]. Именно такое свидетельство требовалось, чтобы теория эволюции расправила крылья. В ноябре 1832 г., когда Дарвин прибыл в Монтевидео, на почте его ждал второй том лайелевских “Основ геологии”. Там шла речь об окаменелостях, биогеографии и преобразовании одного вида в другой – точнее, доводов против такого преобразования.
И все же такое обоснование отсутствия эволюционной теории слишком упрощено. Аристотель не упоминает об окаменелостях, однако он не мог о них не знать. Он не мог не сталкиваться с неопровержимыми свидетельствами существования в прошлом форм, в его время вымерших по меньшей мере локально. Целый ряд греческих путешественников и натурфилософов (до, после и во времена Аристотеля) описывал предметы, напоминавшие остатки животных. С особенно высокой вероятностью внимание могли привлечь скопления морских раковин в необычных местах. Ксенофан сообщал о раковинах в сицилийских горах, отпечатках рыб и другой морской живности в камне из Сиракуз, с Пароса и Мальты. Ксанф Лидиец около 475 г. до н. э. видел сращения раковин в Анатолии, Армении и Персии. Геродота, Эратосфена Киренского (285–194 гг. до н. э.) и Стратона из Лампасака (ок. 275 г. до н. э.) озадачивали находки морских раковин в египетской пустыне у Карнака. То, что море некогда скрывало сушу, было очевидно: спорили лишь о деталях.
Теофраст (“О камнях”) упоминает “ископаемый бивень” (ἐλέφας ὁ ὀρυκτός)[189]. Он не указывает его происхождение, но, скорее всего, окаменелость относится к остаткам мегафауны с островов Самос, Кос или Тилос юго-восточнее Лесбоса. Породы, соответствующие плейстоцену, содержат остатки карликовых слонов, которые могли жить в этих краях до 2000 г. до н. э. Эти остатки известны минимум с архаического периода истории Греции (750–480 гг. до н. э.). На Самосе кости гигантских вымерших животных выставлялись в храме Геры. В местном мифе эти окаменелости фигурируют как остатки древних чудовищ. Кость, извлеченная из земли у алтаря VII в., принадлежала вымершему миоценовому жирафу самотерию[190].
Окаменелости из Калабрии
На Лесбосе остатки мегафауны гораздо скромнее. Их можно осмотреть в маленьком музее естественной истории во Вриссе, деревне у Лагуны. Смотритель Костас Костакис особенно гордится гигантской черепахой, остатки которой нашли у Ватеры. Реконструкция выполнена из стеклопластика в реальном размере (с “Фольксваген-жук”), однако сами ископаемые разочаровывают. Их так мало, что животное получилось аккуратным, но все же приближением, на манер Кювье: из костей ноги, когтей и щитков.
Неудивительно, что Аристотель не упоминает вымерших гигантских черепах. Но леса окаменелостей? В холмах, сложенных из пирокластических пород к западу от Каллони, есть немало вымерших хвойных деревьев с корневой системой, выглядящих как упавшие храмовые колонны. В маленьком порту Сигри на пляже лежат массивные окаменевшие стволы. Они лежат там уже 20 млн лет, с тех пор, как их повалило извержением вулкана. Аристотель ничего о них не говорит. Молчит и Теофраст. В “Исследовании о растениях” он упоминает находки “окаменевшего индийского бамбука” на побережье Индийского океана (бамбук? коралл?), но окаменевших лесов Лесбоса Теофраст не удостоил и словом. И это при том, что Сигри недалеко от его родного Эресоса. Мальчиком он мог играть там. В Эресосе теперь тоже музей, и довольно заметный.
Впрочем, возможно, Теофраст знал об окаменевшем лесе и описывал его. Диоген Лаэртский упоминает работу Теофраста, которая могла быть озаглавлена “О вещах, обратившихся в камень”. Это позволяет предположить, что речь шла об окаменелостях, но мы не знаем наверняка, поскольку текст пострадал настолько, что у него есть и альтернативное прочтение – “О горящих камнях” – и он, предположительно, повествует об угле или вулканах.
Так что, может быть, не хватает не знания об окаменелостях, а лишь текстов. Ну, или Аристотель просто счел плодом фантазии сообщения о моллюсках в пустыне и горах. В конце концов, Геродот, один из источников таких сведений, упоминал, что в Египте есть некрополь крылатых змей – и даже что сам видел их[191]. Или Аристотель просто никогда не бывал на дальней стороне Лесбоса. На холмах было жарко, а как моряк он был не очень. Теофраст мог позабыть рассказать ему о каменном лесе. Может быть. Но мне думается, что Аристотель сознательно игнорировал такие сообщения или даже то, что он видел собственными глазами. В конце концов, если кто-либо верит в вечность и неизменяемость живых существ, то он вполне может проигнорировать каменный лес.
95
То предположение, что Теофраст мог написать книгу об ископаемых, звучит заманчиво, поскольку в этом случае он избрал путь, которым не пошел его учитель.
Начать можно с малого. Раз Теофраст анализирует различия между сортами культурных растений (фракийская пшеница, египетские гранаты, апулийские оливки и т. д.), он понимает, что растение формируется и под влиянием того, что заложено в его семени, и под влиянием внешней среды. Это интуитивно ясно. Но затем он показывает, что после переселения в другой регион сорт всего за несколько поколений приобретает новые признаки:
Из второго источника [различий в условиях], кроме того, возникают отличия внутри родов (сорта); и то, что ранее было противоестественным, становится со временем естественным и увеличивается в числе.
А вот это совсем не по-аристотелевски. Это фактически позволяет формам меняться. Кроме того, это смешивает формальную и материальную причины, которые отчаянно пытается разделить Аристотель. Но Теофраст не бросает на этом мысль, а прибавляет, что сорта растений из различных стран “полезны”. Он имеет в виду, что фракийская пшеница поздно прорастает из-за того, что во Фракии суровые зимы и если посеять ее или иное растение в другой стране, оно изменится так, что в итоге будет соответствовать новым условиям. Растения Теофраста не идеально адаптированы к имеющимся условиям. Его видение мира также телеологическое, но у Аристотеля мир – застывшее совершенство, а у Теофраста он не предопределен и способен изменяться.
Теофраст настолько скромен, трудолюбив, с такой неохотой выдвигает масштабные предположения, что наиболее радикальное из них легко пропустить. Вплоть до этого момента Теофраст говорил о происхождении новых разновидностей пшеницы и винограда. Если это эволюция, то весьма низкого сорта. А что насчет происхождения видов? Может ли один род растений трансформироваться (metaballein) в другой? Может, говорит Теофраст, смотря на нас с уровня описанных им эволюционных изменений. Удивительно, когда такое происходит, но это определенно возможно.
Пшеница может трансформироваться в aira: плевел опьяняющий (Lolium temulentum). Эти злаки, говорит Теофраст, разных родов, и их можно различить по листьям. Некоторые сомневаются, может ли одно из этих растений трансформироваться в другое, и говорят, что плевел просто вырастает на пшеничных полях в особенно дождливые годы. Однако, продолжает Теофраст, авторитеты подтверждают: некоторые сеют пшеницу, а пожинают плевел.
Может, и так. Дело не в том, что греческие земледельцы никогда не пожинали плевел вместо пшеницы – вероятно, такое бывало. Проблема в том, что это не такая уж радикальная трансформация. Плевел, как говорит Теофраст, представляет собой совершенно другой вид, и причина, по которой земледелец может обнаружить плевел на поле, заключается в сходстве его семян с пшеницей[192]. Таким образом, трансформация пшеницы в плевел – это признание земледельца и в том, что он не сумел как следует рассортировать посевной материал и, получив целое поле сорняка, был вынужден придумать объяснение.
Но в трансформистских утверждениях Теофраста есть доля истины. Плевел не мутирует мгновенно в пшеницу, но причина, по которой зерна этих двух растений так похожи, заключается в том, что они эволюционировали, чтобы “добиться” этого сходства. История этой эволюции записана в археологии Леванта. Плевел был сорняком и до Вавилонского царства. Земледельцы отбраковывали его и в неолите. Но выбраковка – это отбор, а отбор при наличии наследуемых изменений представляет собой эволюцию. За тысячелетия сорняк эволюционировал так, чтобы наилучшим образом имитировать зерна пшеницы и за счет этого избежать сита. К IV в. до н. э. плевел стал кукушкой, чье потомство наводнило зернохранилища Европы. Вывести его удалось только с помощью современных гербицидов.
Поверил бы Теофраст этой сказке об эволюции? Вероятно, да – ведь он считает возможным трансформацию в пределах одного сезона. Да, он сомневается в истинности превращения пшеницы в плевел (это одна из нескольких проблем, которые он упоминает при описании размножения растений), однако, убедившись в достоверности этого факта, недолго думая, добавляет его к своей теории. Теофраст анализирует трансформацию и заключает, что “порча” семян, должно быть, изменяет точку роста зародыша. Мы должны воспринимать землю подобно женщине.
Теофраст просто применил теорию уродств Аристотеля для объяснения превращения одного рода организмов в другой. Это именно эволюция, пусть и весьма далекая от воззрений Дарвина. Очень часто, читая Аристотеля, мы ощущаем давление трансформизма. В такие моменты мы должны заподозрить, что видим отражение собственных взглядов на эволюцию в текстах, где ничего подобного нет. Но давление было, ведь Теофраст (сначала ученик, потом коллега Аристотеля, в конце концов – наследник и на протяжении 20 лет – друг) этому давлению поддался.
96
Уильям Огл, почитавший и Дарвина, и Аристотеля, мечтал, чтобы эти двое встретились. В письме Дарвину Огл представляет, как древний грек приезжает в Даун. Аристотель смотрит на Дарвина с подозрением. Он, как и свойственно авторам, осматривает полки на предмет наличия собственных работ. И с изумлением не обнаруживает ни одной (их у Дарвина действительно не было, поскольку, по собственному признанию, он давно забыл то немногое, что знал по-гречески). Кроме того, Аристотель с удивлением узнал бы, что его взгляды теперь представляют лишь исторический интерес, но зато его соперника Демокрита чествуют (по сути, эти воззрения возродились в трудах Дарвина). “Я, однако, настолько уверен в том, что Аристотель был охотником за истиной, – пишет Огл, – что, услышь он ваши доводы, он признал бы, как настоящий мужчина, поражение и сжег все свои труды”.
Оптимистично, ничего не скажешь. Аристотель наверняка презрительно заметил бы, что Демокрит глух к наличию замысла в природе, и (подчеркивая свой приоритет) поздравил бы Дарвина с тем, что тот поместил целевые причины в центр теории. Аристотель отверг бы пангенезис как раскрученную теорию гиппократика и естественный отбор – как новое название болтовни Эмпедокла. Он был бы прав относительно первого и ошибся бы по поводу второго. Его очаровала бы природа Нового Света и впечатлили американские окаменелости (мегатерия сложно игнорировать). Вероятно, обдумав все, он даже принял бы ту идею, что виды эволюционируют и что его величественное видение жизни поглощено еще более величественным. Мне хочется так думать.
Тогда Аристотелю пришлось бы отчасти отречься от своей метафизики, но (насколько их можно разделить) не от своей науки. По выражению Феодосия Добржанского, которое бесконечно повторяют эволюционные биологи, “ничто в биологии не имеет смысла кроме как в свете эволюции”. Хорошо звучит, да и всегда кстати в случае спора с креационистами. Но оно не вполне верно, потому что многое в биологии имеет смысл и без эволюции.
Аристотель понимает, как и Дарвин (и мы с вами), что:
1) Сложное строение и функции, наблюдаемые у живых организмов, требуют наличия источника порядка или информации (“формальных причин” или просто “форм”);
2) Формы – динамичные, самореплицирующиеся системы;
3) Формы организмов разных родов различны, и это обеспечивает разнообразие;
4) Формы проявляют себя, изменяя течение материи при развитии организма и в физиологических процессах в целом;
5) Организмы получают материю из пищи;
6) Объем доступной для питания материи ограничен;
7) Образование частей тела и потомства, да и само выживание, влекут расходование материи. Таким образом, указанные процессы имеют определенную “стоимость”;
8) “Стоимость” жизненных процессов обусловливает размеры и возможности организмов, так что осуществление одного процесса происходит за счет другого и тормозит его либо делает невозможным;
9) Величина расходов на каждый процесс не абсолютна, и одни организмы подвержены им более, чем другие;
10) Указанные материальные ограничения действуют в сочетании с функциональными потребностями организма и обеспечивают наблюдаемое разнообразие животных;
11) Части животных соответствуют их местообитанию и, по сути, являются адаптациями;
12) Функции одних органов зависят от функций других. Следовательно, организм нужно воспринимать как целое.
В этом списке большая доля концепций современного эволюционизма – но не сама эволюция.
Можно возразить, что сходство лишь внешнее. В конце концов, эволюция – динамическая концепция, а мир Аристотеля статичен. Но динамика сложна, и поэтому, учитывая признаки животных, биологи часто рассматривают мир как равновесный. В таком случае и для нас, и для Аристотеля это инженерная задача: выбор оптимального решения. “Природа из возможного всегда делает лучшее”, – пишет он. Это кредо инженера, а также отправная точка биомеханики, функциональной морфологии, социобиологии и т. д. Определенно не случайно Аристотель обозначил этот принцип и сделал его фундаментальным в книге о движении животных.
Хотя я, как и Аристотель, противопоставил телеологические объяснения материалистическим, грек, несомненно, считает, что между ними вовсе нет конфликта. Объясняя связь частей тела, Стагирит иногда обращается к функциональной анатомии, иногда – к телесной экономике, но чаще всего привлекает обе дисциплины. У скатов хрящевой скелет, поскольку, из-за стиля плавания, им нужно быть гибкими, а также потому, что истратив всю свою землистую материю на твердую кожу, они ничего не оставили себе на скелет. Подобные двойные объяснения кажутся излишними, но таковыми не являются (просто здесь опущено дополнительное условие). По Аристотелю, функциональные потребности и перераспределение ресурсов гармонизированы, так как “природа не делает ничего излишнего и напрасного”. Вайбель и Тейлор в “Принципах устройства животных” (1998) называют это принципом симморфоза.
История западной мысли знает много сторонников телеологии. От Аттики IV в. до н. э. до Канзаса XXI в. аргумент творения по замыслу пользуется успехом. Аристотель и Дарвин разделяют более необычное убеждение: хотя живая природа преисполнена замысла, того, чей замысел, нет. А если Создатель – покойник, то ради чьего блага замысел? Кому это выгодно?
Дарвин отвечал: пользу получают особи. С тех пор биологи спорят. Ответы таковы: мемы, гены, особи, группы особей, виды, все перечисленное вместе. Аристотель, кажется, в целом согласен с Дарвином: органы предназначены для выживания и размножения особей. Вот почему многое в его биологии кажется нам знакомым.
И все же между телеологией Аристотеля и адаптационизмом Дарвина есть глубокое различие. Оно становится явным, если реконструировать цепь объяснений в любой эволюционной теории. Зачем слону хобот? Чтобы пользоваться им как трубкой для подводного плавания. Зачем слону нырять? Потому что он медлителен и живет в болоте. Отчего слон медлителен? Потому что он большой. Зачем ему быть большим? Чтобы защитить себя. Зачем защищаться? Слон желает выжить и оставить потомство. Почему слон хочет выжить и оставить потомство? Да потому…
Потому что естественный отбор сделал слона способным размножаться. Дарвин дал телеологии механистическое объяснение. Он разорвал цепь “зачем” и “почему”. По этой причине Огл славил Дарвина как реинкарнацию Демокрита. Ведь там, где организменную телеологию Аристотеля пытаются применить к упрямой материи, Дарвин показал, как при выполнении нескольких простых условий она из материи появляется. Дарвин – онтологический редукционист. Аристотель – нет.
Но почему животные Аристотеля должны стремиться к выживанию и размножению? Ведь Стагирит едва ли мог обращаться к естественному отбору. (Он отверг по меньшей мере один его вариант.) Аристотель мог сказать, что они просто делают это, но это был бы не Аристотель. Он дает эффектный и отчасти загадочный ответ. Живые организмы желают выжить и размножаться, чтобы “по возможности быть причастными вечному и божественному”. Предполагая, что организмы желают “быть причастными вечному”, он имеет в виду, что они задуманы такими, чтобы не вымереть. Так кому выгодно? Выходит, замысел, лежащий в основе организмов, приносит пользу не особям, поскольку они рано или поздно умирают. Он гарантирует, что их формы (рода) будут существовать вечно. А когда Аристотель говорит о “божественном”, он не привлекает к объяснению Бога-ремесленника, поскольку того не существует. Скорее бессмертие – это свойство божественного, а размножение делает животных в некотором смысле бессмертными.
Мы близко подошли к объяснению Аристотелем космоса и его отношению к концепции бессмертного Бога. Почему рода животных должны быть бессмертными? И здесь мы приходим к одной из недоказуемых аксиом аристотелевской науки: лучше существовать, чем не существовать.
Глава 15 Космос
97
Когда Аристотель говорит о “совершенстве”, это легко можно интерпретировать в зоологических терминах. Более “совершенное” потомство сразу же после рождения более развито, чем менее “совершенное”. Указывая, что устройство того или иного органа “лучше” устройства другого, Аристотель, как правило, объясняет это функциональными различиями. Однако когда он описывает порядок в живой природе, становится ясно: речь идет и о метафизике.
“Геометрия” животных по Аристотелю (верхний – нижний, передний – задний, правый – левый) не совпадает с “геометрией” современной биологической науки (передний – задний, дорсальный – вентральный, правый – левый). Это объяснимо: Аристотель указывает на аналогии функций, современные биологи – на сходство структур. Кажется странным, что Аристотель придает ценность одному из полюсов в каждой паре – например верхнему или правой стороне, – называя его “более благородным” (или “более ценным”). Безусловно, здесь есть биологический смысл: органы чувств полезнее ягодиц или хвоста, прием пищи для большинства людей приятнее испражнения, а правши численно превосходят левшей. И все же неочевидно, есть ли место “благородному” и “ценному” в функциональной биологии: в нашей точно нет.
Телеология Аристотеля пронизана оценочными суждениями. Он пишет, что положение сердца в середине тела диктуется его эмбриональным происхождением. При этом сердце скорее сверху, чем снизу, и скорее спереди, чем сзади: “Вообще лучшее и более ценное там, где не препятствует что-нибудь еще более значительное, в отношении верха и низа всегда скорее помещается наверху”. Это напоминает рассадку гостей согласно их общественному положению. Конечно, хочется спросить, почему сердце у человека внизу и слева, но Аристотель делает оговорку – “если не препятствует что-нибудь еще более значительное” – и импровизирует: сердце там, чтобы “выровнять охлаждение левой стороны”. Он, конечно, думает, что “более достойная” правая половина тела горячее левой (особенно у человека), и сердцу пришлось уравновесить относительную холодность левой стороны.
Даже когда Аристотель не говорит о почестях, он, кажется, считает, что определенные конфигурации просто “лучше” прочих, независимо от их функциональности. По его мнению, органам лучше иметь простое происхождение. Аристотелю нравится симметрия. Так как сердце (главный орган души) помещается в середине тела, ему “лучше” иметь три камеры, и среднюю камеру уравновешивают остальные две. Да, у биологии Аристотеля есть мистическая сторона. В ней ощущается влияние народных, пифагорейских или, скорее, платоновских представлений о ценности. Биология “Тимея” (если так можно выразиться) не просто пронизана религией, а построена на ней.
Влияние Платона заметнее всего тогда, когда Аристотель говорит о человеке. Он высказывается недвусмысленно: человек для него образец не только потому, что это животное нам известно лучше всего, но потому, что он – самое совершенное животное. Оси тела сильнее всего различаются у людей, а у других животных они спутаны (так, у четвероногих нет разницы между правым – левым и верхом – низом). Аналогично, черты характера, которые определяются чувствующей душой – смелость, робость, разум и т. д. – у человека развиты лучше, чем у других животных. В некоторых случаях исключительность человека определяется количественными параметрами (у нас чего-то больше или меньше), в других – качественными. Да, ласточка, сооружая прекрасное гнездышко, проявляет сообразительность, но человеческий разум все равно устроен иначе.
Поскольку способности чувствующей души сильнее всего развиты у человека, различие нагляднее всего как раз у людей. Оценим, например, различия между полами. По Аристотелю, мужчины обычно храбрее и преданнее женщин, однако они менее отзывчивы, не такие бесстыжие, ревнивые, лукавые и не в такой степени подвержены унынию. А если самку каракатицы ударить трезубцем, самец героически плавает вокруг нее, пытаясь спасти подругу. Если же ранить самца, самка предпочтет улизнуть. То же и у людей. Аристотель в целом мрачно смотрит на женщин. По его мнению, они менее совершенны, чем мужчины. И это еще мягко сказано: в трактате “О возникновении животных” Аристотель пишет, что женский род “слабосилен”, “страдателен”, что самки – “как бы увечные самцы”. Ученые-феминистки сделали массу выводов из этих пассажей.
Что же, в этом есть резон. Однако я не хочу сажать Аристотеля на скамью подсудимых за его гендерную идеологию – только за его науку. Не то чтобы у него не было причин делать такие выводы – конечно, были, он же Аристотель. Он задает вопрос: почему обоим полам даны отдельные тела? Это не обязательно: взгляните на растения. Следовательно, различие полов нужно как-то объяснить[193]. И философ приходит к телеологическому объяснению: животные (хотя бы большинство) разнополы, потому что так “лучше”.
Иногда Аристотель описывает различие полов так: самцы сообщают потомству действующую причину, самки – материальную. Первая, утверждает философ, выше второй, так как она охватывает сущность и форму животного. И для вещей высшего порядка лучше не смешиваться с вещами низшего порядка, продолжает он. Это самоочевидно. Следовательно, для животных мужского и женского пола лучше существовать в разных телах, чем в одном.
Существование полов, таким образом, связано с разделением труда между причинными силами, необходимыми для воспроизводства, в котором самцы играют более “божественную” роль. Ну, по крайней мере, это дает женщинам некую цель в жизни. В остальном биология пола у Аристотеля подчиняется той же логике: девочки рождаются, когда у семени не получается “овладеть” менструальным кровотечением, семя чище менструальной крови, мужчины темпераментнее женщин, форма выше материи и т. д. Эти утверждения не подкрепляются эмпирическими наблюдениями. С другой стороны, евнухов калечат, делая женоподобными.
Когда Аристотель рассматривает людей как вид, его страсть находить связи и объяснять переходит все границы. Все признаки человека (любострастие, объем связанных с совокуплением выделений, плодовитость, осанка, конечности, пропорции тела, отсутствие волос, группа крови, устройство сердца, общественный характер и, прежде всего, ум) он объединяет в сложную сеть взаимосвязей. Начать можно с любого узла сети, например с секса.
По мнению Аристотеля, люди исключительно сладострастны: из всех животных лишь мы, а еще лошади, во время беременности занимаемся сексом. Это оттого, что мы вырабатываем больше семени (относительно размера тела), чем другие животные[194]. А поскольку женщины производят много менструальной жидкости, они необычайно плодовиты для своего размера. Самки большинства крупных животных рожают по одному детенышу за раз. Женщины, как правило, также, но иногда и двойню, и тройню. Аристотель слышал даже о четверне.
Зачем организм мужчины вырабатывает столько семени? Аристотель предлагает два ответа, и оба опираются на его изыскания в области физиологии. Первый – у нас самые горячие и жидкие тела. Второе – мы голые. В отличие от других животных, у нас нет бивней, рогов и даже выраженного волосяного покрова. Мы не расходуем питательные вещества на эти вещи, и поэтому больше остается на семя. Аристотель настаивает, что волосы растут за счет семени. Он обращает внимание на то, что евнухи и женщины не лысеют – они тратят гораздо меньше мужчин. С другой стороны, лысые мужчины особенно сладострастны. Философ также полагает, что семя вытягивает вещества из мозга – именно поэтому избыток секса вызывает западение глазных яблок[195].
Все это Аристотель излагает в книге “О возникновении животных”. Но главную причину исключительности человека он объясняет в трактате “О частях животных”. Мы голые потому, что лишь у нас есть совершенное орудие, способное превратиться в любое другое – в коготь, клык, рог: наши руки. Руки могут изготовить все эти орудия и управляться с ними. Следуя принципу экономии (природа ничего не делает “напрасного и излишнего”), больше ничего и не надо.
Почему у нас есть руки? Анаксагор говорит: люди – самые разумные животные потому, что у нас есть руки. Все наоборот, утверждает Аристотель: у нас есть руки потому, что мы – самые разумные животные (ибо только высокоразвитое существо смогло бы их использовать). Далее, у нас есть руки потому, что мы (и это уникальное свойство) ходим на двух ногах. Откуда у нас прямохождение? Потому что мы выросли такими. Все животные в сравнении с нами карлики: не только по росту, но и по интеллекту. И такие мы оттого, что мы самые страстные из всех животных – что, наряду с нашей чистой кровью, делает нас самыми разумными существами. Итак, прямохождение и интеллект тесно связаны материальной необходимостью. Есть здесь и целевая причина (мы наконец доходим до финала этой длинной цепи причинно-следственных связей). Мы ходим на двух ногах и наделены разумом не потому, что мы самые совершенные из животных, а потому, что наиболее божественны. Это – часть определения нашей сущности, которое не требует объяснения. Так получается, что причина уникальных свойств человека (в том числе похотливости) в том, что мы ближе к Богу, чем другие животные.
98
В “Истории животных” Аристотель выделяет несколько уровней социальной организации. Большинство животных ведет одиночный образ жизни, некоторые – стадный, но есть и “политические” животные – они способны сообща добиваться определенной цели. Журавли в этом смысле исключительно разумны: они подчиняются вожаку, который громкими криками направляет стаю во время долгих перелетов[196]. Но любимое “политическое животное” Аристотеля – конечно, пчела.
Его завораживает поведение этих насекомых. Аристотель отмечает, что пчелы за один полет посещают цветки лишь одного вида, что они призывают сородичей отправиться к лужайке с цветами, что они делают круги перед ульем (ему неизвестно, зачем), вернувшись с грузом пыльцы[197]. Пока одни рабочие особи добывают мед, другие строят соты, а третьи собирают воду – прекрасное разделение труда. Пчела-“царь” (мы говорим “матка”) посвящает жизнь лишь одному: производству новых пчел. У этих насекомых есть общая цель – поддерживать жизнь улья. Они содержат его в безупречной чистоте. Они умирают, защищая его. Пчелы безжалостно управляют внутренней экономикой улья и перераспределяют рабочую силу в зависимости от потребностей. Трутни подвержены особенному риску[198].
Все это очень интересно читать. Однако рассказ Аристотеля о поведении пчел указывает на важный пробел: в его биологии отсутствует поведенческая экология. Философ не объясняет, почему животные ведут себя так или иначе. Нет никаких “Повадок животных”, которые дополняли бы “О частях животных” и “О возникновении животных”. И мы не знаем, как Аристотель отвечал на некоторые в высшей степени интересные вопросы.
Например, как пчелы ведут свои дела? В “Домострое” Ксенофонт излагает одну из точек зрения на предмет. Исхомах, самодовольный молодой человек, рассказывает Сократу, какие наставления по ведению хозяйства он дал молодой жене. Я, говорит Исхомах, поведал ей о пчеломатке. Она инструктирует рабочих, распределяет еду, надзирает за сооружением сот и воспитанием потомства. И тебе, дорогая женушка, следует поступать так же.
У Ксенофонта пчеломатка представляет собой руководящий ум командно-административной экономики. Конечно, этот диалог (написанный примерно в то время, когда Аристотель преподавал в Академии) обогащает апиологию не больше, чем “Басня о пчелах” Мандевиля. Однако он показывает, как образованные греки в IV в. до н. э. представляли себе организацию улья. (И не просто образованные. Ксенофонт, судя по всему, был богатым землевладельцем, оставившим также изящное сочинение “О [псовой] охоте”.) Однако его точка зрения на пчел не совпадает с аристотелевской. У Аристотеля “царь” далек от управления и просто сидит сиднем, порождая новых пчел. Единственный раз в жизни, когда он проявляет инициативу, – это когда вылетает вместе с роем основать новый улей. Нередко рабочие особи, пишет Аристотель, убивают юных “царей”, чтобы предотвратить раскол. А когда два улья объединяются, одного “царя” убивают. Судя по всему, власть у пчел принадлежит пролетариату.
Итак, взгляды Аристотеля на устройство улья нелегко реконструировать – ведь он прямо об этом не рассказывает. Вообще же у Стагирита поражает отсутствие текстов на экологическую тематику. Все данные наличествуют, и философ вполне может включать их в трактаты. В “Истории животных” встречаются разрозненные мысли об экологии. В книге “О частях животных” Аристотель пишет о том, как физиология влияет на характер животных (теплокровные животные смелы, холоднокровные – трусливы и т. д.). Не хватает как раз телеологии, функциональной биологии. Возможно, трактат “Повадки животных” и существовал, но утрачен: до наших дней дошла всего треть сочинений Аристотеля. Но если и так, сам философ не упоминает о таком трактате, доксографы не включили его в перечни. Возможно, что Аристотель просто не видел нужды в таком тексте: ведь он уже написал трактат, который мы называем “Политикой”.
99
“Человек по природе своей есть существо политическое”, – это, наверное, самое цитируемое высказывание Аристотеля. (Из кн. I “Политики”.) Иногда здесь видят определение нашего вида, но это неверно. Скорее это значит, что у нас много общего с некоторыми животными. Политическая наука (politikē epistēmē) Аристотеля очень близка к социобиологии. Обе эти науки опираются на поведение животных, и обе исходят из врожденных желаний и способностей людей. Аристотель согласился бы с Э. О. Уилсоном и Стивеном Пинкером, что люди не рождаются табула раса: у них есть врожденное желание сотрудничать[199].
Этот инстинкт Аристотель иллюстрирует квазиисторическим рассказом о происхождении государства. Оно начинается с образования семьи (домохозяйства). В основе семьи лежит союз мужчины и женщины, обусловленный не рациональным выбором, а инстинктом продолжения рода. “По природе” связаны также правители и подданные, которых вместе удерживает нужда последних в защите. Аристотель упоминает и скот, которым природа предусмотрительно снабдила греков наряду с рабами. (У менее развитых варваров “женщина и раб занимают одно и то же положение”.) Женщина и раб – “два различных существа”, поскольку “в природе каждый предмет имеет свое назначение” и ее “творчество ни в чем не уподобляется жалкой работе кузнецов”, изготовляющих универсальные орудия вместо специальных. (Ту же аналогию Аристотель проводит, рассуждая об органах насекомых.) Конечно, Аристотель не представляет себе семью без женщины. Интереснее, что он не представляет семьи без раба или хотя бы быка (который “у бедняков служит вместо раба”). Цель института семьи (с женщинами, рабами и скотом) – удовлетворение повседневных потребностей. Связанные друг с другом семьи объединяются в селения, чтобы удовлетворять “менее кратковременные” потребности. Сначала селения были рассеяны. Позднее, стремясь достигнуть “в полной мере самодовлеющего состояния”, они объединились в общество. Так родился полис (“возникший ради потребностей жизни, но существующий ради достижения благой жизни”). Способность, желание и нужда жить в государстве Аристотелю представляются свойствами человеческой природы. Тот же, “кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства”, – это либо “недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек” (в другом месте: “либо животное, либо божество”). Аристотель напоминает: такого “и Гомер поносит, говоря «без роду, без племени, вне законов, без очага»”.
То, что у большинства мужчин и женщин есть инстинкт размножения, а у домашнего скота – инстинкт служения человеку, не вызывает у Аристотеля сомнений. Именно эти инстинкты порождают семьи из двух родителей, двух детей и собаки. Рассказ о происхождении государства (растущая сложность которого обуславливается природным желанием людей расширить свои экономические возможности) напоминает многие теории органического происхождения государства[200]. Однако присущ ли некоторым людям инстинкт подчинения? Да, говорит Аристотель. Некоторые люди – “по природе” рабы:
Невозможна дружба и с конем или быком или с рабом в качестве раба. Ведь [тут] ничего общего быть не может, потому что раб – одушевленное орудие, а орудие – неодушевленный раб, так что как с рабом дружба с ним невозможна, но как с человеком возможна. Кажется ведь, что существует некое право у всякого человека в отношении ко всякому человеку, способному вступать во взаимоотношения на основе закона и договора (koinonesai nomoy kai synthekes), а значит, и дружба возможна в той мере, в какой раб – человек.
Но что именно делает человека рабом по природе? Ясно, что не просто факт его нахождения в собственности другого человека: кто-то стал рабом, попав на войне в плен, пишет Аристотель. Также не становятся рабами по природе те, кто рожден от рабов. Скорее это те, которые в некотором смысле ущербны и просто не могут не быть рабами:
Есть нечто такое, что подобному человеку в качестве развлечения прилично и говорить, и выслушивать, а развлечения свободнорожденного отличаются от развлечений скота так же, как развлечения воспитанного и невежи.
То есть рабы по природе – это люди, “лишенные рассудка”, фактически животные.
Аристотель ценил интеллект превыше всего, но и, учитывая это, его взгляд на рабство можно признать прямо-таки экстремистским. Конечно, он признает, что рабы могут выполнять команды (даже если они не способны мыслить самостоятельно). То есть раб по природе – это орудие, которое природа предоставляет людям разумным. Также, по Аристотелю, природа “желает, чтобы и физическая организация свободных людей отличалась от физической организации рабов: у последних тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов; свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного рода работ, зато они пригодны для политической жизни”. Впрочем, природа иногда ошибается: “Одни имеют только свойственные свободным тела, а другие – только души”. (Обратные случаи – душу свободного в теле раба – философ не рассматривает.)
Концепция не слишком привлекательная. Неудивительно, что Аристотеля обвиняют в защите (через апелляцию к природе) несправедливости общества, в котором он жил. Такое же обвинение (выведение должного из сущего – философы называют это “натуралистической ошибкой”) нередко выдвигают и против современной социобиологии. Что же, возможно. Гораздо интереснее, есть ли в теории Аристотеля зерно истины?
Итак, если вынести за скобки вопрос о собственности, разница между свободным и рабом для Аристотеля заключается в способности пользоваться разумом. Если перенести это в современные условия, то речь идет о различиях между руководящим составом и рабочими, например в центре исполнения заказов. Управление с точки зрения менеджера высшего звена – это ежемесячный доклад совету, а для складского рабочего – это портативный прибор, указывающий, что и на какой полке брать, как до нее добраться, и передающий информацию о его перемещениях компьютеру. Эту работу вполне смог бы выполнять и робот, будь они чуть дешевле. Аристотель пишет: если бы у нас имелись автоматические ткацкие станки или кифары, которые играли бы сами, то не понадобились бы ни работники, ни рабы. Как мало он знал!
По отношению к центру исполнения заказов аристотелевская теория естественного рабства работает так: кому-то свойственно быть менеджером, а кому-то кладовщиком. Спорно? Вовсе нет, скажет кадровик, отказавший девяти из десяти кандидатам на должность менеджера из-за отсутствия “лидерских качеств”. Более того, Аристотель считает, что, поскольку умственное развитие людей различно, то и рабам и господам лучше всего подходят их роли. С этим наши менеджеры охотно согласятся. Насчет кладовщиков не уверен.
Я не стремлюсь оправдать естественное рабство по Аристотелю или кадровую политику современных корпораций. Я просто хочу показать, что эта теория Аристотеля представляет собой не патологический продукт греческого общества IV в. до н. э., а описывает социально-экономическую структуру любого развитого общества, в том числе нашего. Более того, можно сказать, что все современные споры о неравенстве упираются в вопрос, существуют ли “рабы по природе” и, если да, как отличить их от “рабов по закону”.
Поясню на примере. Я вырос в ЮАР в период апартеида. Фундаментом этого государства служило то соображение, что африканцы по природе неспособны управляться с чем-либо столь же хорошо, как это получается (столь же естественно) у европейцев. В “Политике” также есть намеки на то, что варвары суть рабы по природе. Аристотель даже считает справедливыми походы для поимки рабов по природе. Слово, которым философ обозначает деятельность господина (despotikē), не имеет прямого соответствия в английском языке. А вот baasskap (господство) на языке африкаанс – очень точный эквивалент.
100
Греки, по словам Платона, теснились вокруг Средиземного моря, как лягушки вокруг болота. От Сицилии до Северного Причерноморья существовало более тысячи греческих городов-государств с различным устройством. Ко времени рождения Аристотеля афинской демократии уже было более столетия. Имелись и другие виды демократии, но афинская оказалась наиболее известной, могущественной и радикальной. В других полисах правила аристократия. Во главе многих государств стояли цари. Некоторые правили хорошо, а некоторые – ужасно. Фаларис, тиран Акраганта на Сицилии (VI в. до н. э.), зажаривал оппонентов в пустотелом медном быке (и в конце концов сам погиб так же). Говорят, Аристотель собрал сведения о 158 греческих государствах, но, увы, данные обо всех, кроме одного, утеряны. Сохранилась лишь “Афинская полития”: ее нашли в египетских песках в конце XIX в. Утерянные рассказы о государственном устройстве – настоящая тема “Политики”.
К государственному устройству Аристотель применяет свою систему объяснений. У государства, как и у раковины улитки, есть цель. Формальная причина государства – его устройство: не только собственно конституция, но и экономическая, правовая и политическая структура. “Законодатель” (скорее, его занятия) представляет собой производящую причину. Под “законодателем” Аристотель имеет в виду человека, подобного Солону (ок. 590 г. до н. э.) или Ликургу (ок. 800 г. до н. э.). Граждане и территория – это материя, из которой формируется государство.
Все это звучит очень биологически, и “Политика” (как и “Метеорологика”) полна биологических сопоставлений. Государство имеет не только исток, путь развития и цель, но и оптимальный размер, а также механизмы самоподдержания. Оно состоит из множества взаимозависимых функциональных частей, в то же время представляя собой единое целое. Как душа “скрепляет тело”, так и устройство государства обеспечивает его целостность. Споря с Гераклитом, сказавшим, что в одну реку нельзя войти дважды, Аристотель сравнивает государство с рекой, сохраняющей облик несмотря на непрерывный поток воды (то есть граждан). Государство может видоизмениться или прийти в упадок. “Политика” Аристотеля – это государствоведение в изложении биолога.
Но не стоит слишком доверять сравнениям. Здесь, как и в аристотелевской модели физики подлунного мира, это лишь сравнения. С точки зрения Аристотеля, люди могут быть политическими животными, но мы в большей степени политические, чем все остальные животные. Человек – единственное животное, способное к суждениям о морали, и единственное, способное изложить их словами. Гоббс, Гегель и Спенсер – и это всего три примера – прямо сравнивали государство с живым организмом. Аристотель, единственный среди них биолог, этого не делал. И он никогда не говорил, что у государства есть physis – природа, внутренний принцип изменений – между тем, physis есть у всех живых существ. Хотя государство и существует “по природе”, это, по мнению Аристотеля, не совсем творение природы, поскольку оно формируется и под влиянием человека. Можно назвать это киборгом. “Все общения стремятся к тому или иному благу, причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим”. Мы во мгновение ока прошли путь от государства как продукта стадного инстинкта до производного некоего гения. С философской точки зрения это затруднительно, а вот с точки зрения науки – неизбежно. Любое человеческое общество построено на врожденных и приобретенных желаниях индивидов, а также на законах. “Путник! Пойди возвести нашим согражданам в Лакедемоне, что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли”, – гласит эпитафия Симонида Кеосского. Но и спартанец предпочел бы делать дома, в Лакедемоне, сыновей, а не кормить своим трупом мух у Фермопил.
Законы необходимы. Между настоящей целью жизни и нашей врожденной способностью ее достигать существует конфликт. Люди, говорит Аристотель, должны стремиться к счастью (eudaimonia), “высшему благу”, а счастье состоит “в совершенной деятельности и применении добродетели”. Этого, однако, можно достигнуть лишь подчинением государству: “Счастье каждого отдельного человека и счастье государства тождественны”. Представления о природе человека у Аристотеля достаточно туманны. Да, у нас есть врожденная способность к сотрудничеству и моральному развитию, но без законов мы худшие из животных: свирепые, сладострастные богохульники.
Если политическая наука Аристотеля началась с социобиологии, то теперь последняя значительно обгоняет первую в развитии. И правда, его политическая наука не относится к естественным, она прикладная: ее цель – советовать правителям, как лучше поступать. При общении с властями философ может даже применить политтехнологии: Платон следовал этой стратегии в Сицилии, а Аристотель, видимо, пользовался ею в Ассосе. Как и у Сократа (или у Платона, – понять непросто), у Аристотеля имелось ясное представление об идеальном государстве: это такое государство, которое стремится, чтобы как можно больше граждан жило хорошо и достигло eudaimonia. Звучит неплохо, но в идеальном государстве Аристотеля гражданство предполагает свободу от физического труда, поэтому торговцы, ремесленники и рабочие гражданами быть не могут (а то, что гражданских прав лишены женщины, дети и рабы, понятно и так). В идеальном государстве Аристотеля численно преобладает средний класс (распределение доходов кеглевидное) и установлен нечетко очерченный, но явно высокий имущественный ценз для граждан. Государство Аристотеля спроектировано так, чтобы благородные люди могли духовно развиваться. Подобное наблюдалось в Англии, когда представители Ганноверской династии сидели на троне, а поместные дворяне – в парламенте. Сейчас это трудновато устроить.
Нелюбовь Аристотеля к демократии – не просто снобизм зажиточного философа, но и реакция на государственное устройство Афин IV в. до н. э… Общественная жизнь в Афинах позволяла довольно гнусные приемы. Каждый гражданин мог выйти на Пникс[201] и проголосовать. Многие пользовались этой возможностью – пусть даже ради получения трех оболов за участие. В результате город получил власть организованной толпы. Демагоги, обученные поднаторевшими в своем деле софистами, подстрекали чернь.
Сикофанты – доносчики, шантажисты и клеветники – подтачивали судебную систему. Человек мог быть призван к ответу по ничтожному поводу или сфабрикованному обвинению, и это грозило ему потерей наследства, дома или даже жизни. Должностные лица забрасывали друг друга исками. Храбрые военачальники, которым не повезло проиграть битву и при этом остаться в живых, предпочитали изгнание возвращению на родину, чтобы отстаивать там право на жизнь. В 406 г. до н. э. в Афинах казнили шестерых стратегов, которые, если верить обвинению, не сумели спасти выживших в морском бою. Коррупция распространилась повсеместно. В “Женщинах в народном собрании”, поставленных в 392 г. до н. э., Аристофан рассказывает, как женщины взяли власть, поскольку мужчины устроили бардак. Фарс, пожалуй, был грубоват, но точен: положение дел действительно было из рук вон дурным. Даже философ, далекий от общественной жизни, мог предстать перед судом. Аристотель хорошо помнил о судьбе Сократа.
Неудивительно, что Аристотель считал себя способным справиться лучше. Но его взгляды не были утопичными. Устройству идеального государства посвящена сравнительно небольшая часть “Политики”. Почти все в книге относится к государствам реальным и чрезвычайно разнообразным. Страстный любитель порядка, Аристотель пытается их классифицировать. Животные распределяются по группам в зависимости от различий в строении их органов и их взаимосвязей. Государства, говорит Аристотель, можно классифицировать таким же образом. Функциональные его части – классы: земледельцы, ремесленники, торговцы, рабочие, военные, богачи, чиновники, судьи. Взаимоотношения классов – кто кем правит – и качество управления показывают, с каким государством мы имеем дело. Результат классификации – сложная таксономия власти и добродетели.
Прагматик Аристотель утверждает: главная причина разнообразия государств в том, что люди пытаются достичь счастья различными путями и приходят к различным формам государственного устройства и образу жизни. Очевидна параллель с телеологическим объяснением разнообразия животных. Но и здесь рассуждения вполне стройные: государственное устройство обусловлено материальной необходимостью. Олигархии образуются на равнине, где власть полагается на конных воинов, т. е. людей небедных. Демократии же возникают на плодородных землях, где большая доля населения обрабатывает свои участки. На государственное устройство также влияют “природные свойства” людей. По Аристотелю, варвары, живущие в Европе, смелы, но не очень сообразительны, и поэтому их общество слабо развито. Азиатские же варвары умны, однако безынициативны, и поэтому они “подчиняются деспотической власти, не обнаруживая при этом никаких признаков неудовольствия”. Это обусловлено климатом. А эллины, которые по темпераменту помещаются между указанными группами (они и храбры и разумны), обладают наиболее подходящим для хорошего государства характером. Кроме того, они “не склонны переносить рабство”. Тем не менее, честность побуждает Аристотеля признать: если бы эллины смогли договориться о единой форме государственного устройства, они правили бы миром. Если бы…
Свойство греческих государств, которое бросается в глаза в описании – их уязвимость. Расцвет афинской демократии – это правда – уже миновал. Но по сравнению с эгейскими монархиями олигархии, демократии и подобные существовали не дольше поденок. Аристотель изобразил государства, качающиеся на волнах едва сдерживаемого хаоса. Большая часть “Политики” посвящена выяснению причин нестабильности и поиску избавления от нее. Поскольку государство – не вполне природное образование, Аристотель не описывает его жизненный цикл, хотя и не считает никакую форму правления совершенно устойчивой к переменам (metabole).
Анализируя причины перемены государственного устройства, Аристотель говорит о стремлении человека к почестям, деньгам, власти и справедливости. Это ведет к разногласиям. Он также говорит, что обыденные, малозначительные события могут привести государство к гибели. Он затрагивает социальные и демографические факторы и указывает на дестабилизирующее действие иммиграции, хотя – или потому что? – он сам чужестранец в Афинах и даже не может владеть там жильем. Однако он снова и снова возвращается к негативному влиянию неравенства. Неожиданный рост числа бедняков, богачей или власть имущих уничтожит или изуродует государство, как и некая гипертрофированная часть тела приведет животное к смерти. Вовсе не экстремистски настроенный реформатор, Аристотель хочет знать, как удержать ситуацию под контролем. Несколько глав “Политики” он посвятил советам для тиранов. Но там есть и доводы против безумных законов. В “Государстве” Платон вкладывает в уста Сократу мысль, будто бы женщин следует сделать в некотором смысле общественным достоянием. Аристотель считает это плохой затеей. (Отметим, что среди его доводов нет желаний, а тем более прав женщин, о которых идет речь.)
Хотя государство, по меньшей мере отчасти, образование искусственное, оно представляет собой один из инструментов, помогающих людям – точнее, тем немногим, кому посчастливилось иметь статус гражданина – проявить свой потенциал в полной мере. В трактате “О частях животных” Аристотель пишет, что люди – единственный вид, представители которого способны “хорошо жить”. Как и руки, прямохождение и разум, государство – это божественный инструмент.
Вот почему Аристотелю несмотря ни на что нравится концепция полиса. Разумно устроенный полис воистину может стать источником счастья. И все же “Политика” – работа во многом ностальгическая. К тому времени, когда она была написана, время независимых городов-государств уже прошло, наступила эпоха империй. Захватчики были друзьями Аристотеля. Он даже сам входил в их число. Когда Македония подчинила себе гордые Афины, Аристотель еще обучал Александра. Так что от “Политики” веет духом иронии.
101
Орел, пишет Аристотель, враждует с drakōn, которым питается. А drakon бьет и уничтожает сома на мелководье. Хотя наше “дракон” выросло из греческого drakōn путем долгого, сложного превращения, Аристотель имеет в виду крупную змею, вероятно водяного ужа (Natrix tessellata), которая в других источниках именуется hydros. В устье Вувариса иногда можно их увидеть. Орлы действительно едят змей, а змеи – сомов, однако, как и во многих подобных описаниях кн. VII “Истории животных”, первая часть утверждения несет отпечаток фольклора, даже мифа. В песни XII “Илиады” описывается схватка орла с “обагренным кровью огромным змеем”. “Змей”, избегая орлиных когтей, падает среди троянцев в тот момент, когда они готовятся встретить флот ахейцев. Троянцы видят в случившемся дурное предзнаменование – и, как позднее выясняется, справедливо. Корни этого сюжета нетрудно найти[202], но происхождение упоминаемого Аристотелем факта, что водяной уж пьет сок pikris, разновидности маргаритки, более туманно.
Каким бы ни был источник сведений об отношениях хищника и жертвы, они по большей части хотя бы возможны. Настоящая слабость утверждений Аристотеля в том, что он не дает объяснений. Как не существует зоологической “Политики” для объяснения поведения видов, так нет и книги, поясняющей, почему виды определенным образом взаимодействуют. В руках Аристотеля – все составляющие экологии сообществ, однако он ими не пользуется.
Впрочем, есть абзац – прекрасный и загадочный, – в котором Аристотель будто делится своими взглядами на положение живых существ не только в подлунном мире, но и в космосе. Он появляется в двенадцатой (λ) книге “Метафизики”. Аристотель считает, как прежде Сократ и Платон, что Вселенная устроена “хорошо”. В “Метафизике” (λ, 10) он пытается уяснить ее строение. Одна из причин “хорошего” устройства Вселенной заключается в том, что она, подобно армии или домашнему хозяйству, устроена иерархически:
Надо также рассмотреть, каким из двух способов содержит природа мирового целого благо и наилучшее – как нечто существующее отдельно и само по себе или как порядок. Или же и тем и другим способом, как у войска? Ведь здесь и в самом порядке – благо, и сам предводитель войска – благо, и скорее даже он: ведь не он зависит от порядка, а порядок – от него. [В мировом целом] все упорядочено определенным образом, но не одинаково и рыбы, и птицы, и растения; и дело обстоит не так, что одно не имеет никакого отношения к другому; какое-то отношение есть. Ибо все упорядочено для одной [цели], но так, как это бывает в доме, где свободным меньше всего полагается делать все, что придется; напротив, для них все или большая часть [дел] определено, между тем у рабов и у животных мало что имеет отношение к общему [благу], а большей частью им остается делать что приходится, ибо природа каждого из них составляет такое начало. Всякому, по моему разумению, необходимо занять свое особое место, и точно так же есть и другое, в чем участвуют все для [блага] целого.
Поклонники Аристотеля отзываются о его прозе с восхищением. Они хвалят его способность умещать огромное количество смыслов в небольшом количестве слов. Но, по правде сказать, это удовольствие сродни удовольствию от разгадывания головоломки. Тексты Аристотеля иногда поразительно темны[203]. Иначе историки философии не бились бы столько веков, да и вообще у них не было бы работы. На моем столе сейчас три монографии и одна статья, посвященные Аристотелю, – и все это издано лишь в последнее десятилетие. Все работы выполнены талантливыми учеными, и каждый из них анализирует наполненный иносказаниями фрагмент, который я привел выше. Анализ выполнен с такой точностью, даже гениальностью, которой я и не надеюсь достичь. Все эти авторы расходятся в оценках того, что Аристотель имел в виду. Я расхожусь в оценках со всеми.
Мне кажется, что если изложить этот пассаж доступным языком, получится вот что: “Что делает устройство космоса хорошим – вероятно, даже лучшим из возможных? Армии и домашнему хозяйству присущ организующий принцип (военачальник, хозяин дома), их отношения строго упорядочены. Зависит ли «хорошесть» от организующего принципа или же от упорядочивания взаимоотношений? Ответ: зависит от обоих факторов, но от второго в большей степени. Как и армия и домашнее хозяйство, организмы объединены набором упорядоченных взаимоотношений. И, как и в человеческих обществах, порядок определяется организующим принципом, только не начальником, а общей целью. [ «Ибо все упорядочено для одной [цели]».] Но не каждый воин в армии или член домохозяйства вносит одинаковый вклад в достижение общей цели. Вышестоящие (военачальники, хозяева, высокоразвитые животные) способствуют достижению цели в большей степени, чем нижестоящие (воины, рабы, растения). Это предопределено их природой. Хотя все населяющие мир организмы представляют собой отдельные сущности (и у каждой, соответственно, – собственные цели), все они способствуют достижению общей цели”.
Предложенная Аристотелем аналогия с домашним хозяйством, с одной стороны, изящна, с другой стороны, кажется знакомой. Пусть и не в таком явном виде, она появлялась в обсуждении экономики тела как обоснование того, что я называю вспомогательными телеологическими принципами. В этом случае Аристотель приводит ее для объяснения строения космоса. Но знакомой она, конечно, кажется по другой причине. В 1866 г. Эрнст Геккель предложил название “экология” (oekologie) для новой науки об экономике природы. Это слово – производное от греческого oikos (“домашнее хозяйство”). Совпадение демонстрирует силу метафоры. А еще дает повод задуматься: действительно ли населяющие Землю организмы взаимодействуют подобно членам домашнего хозяйства, будучи подчинены единому организующему принципу, – или же они похожи на постояльцев гостиницы, случайно оказавшихся под одной крышей? Этот вопрос, заботивший Аристотеля, рассматривается в большей части современных экологических теорий.
Утверждение Аристотеля, будто организмы соотносятся друг с другом как воины в армии или члены домашнего хозяйства, представляется мне очевидным отклонением от текста. Он указывает здесь на более высокий, межвидовой уровень организации, общую цель космоса или глобальную телеологию. В “Политике” Аристотель ясно дает понять, что должным образом функционирующее домашнее хозяйство – это не просто собрание индивидов, каждый из которых независимо преследует собственные цели. Это коллектив, члены которого действуют сообща под руководством хозяина дома, и общая цель этого коллектива – размножаться и защитить себя. Но Аристотель, рассуждая о животных, почти никогда не упоминает кооперацию или даже альтруистическое поведение, которое мы надеемся наблюдать у воинов или членов одного домохозяйства. Да, он заявляет, что karidon (или pinnophylax), небольшая симбиотическая креветка или краб-горошинка, приносит пользу благородной пинне, в которой живет, однако он не делает никаких выводов. И когда Аристотель объясняет ряд признаков животных с функциональных позиций, он почти всегда говорит о пользе, которую данный признак приносит конкретному животному. Если представители всех видов имеют один и тот же организующий принцип или некую общую цель, которому (или которой) подчинено желание особи выжить, то зоология Аристотеля не сообщает нам, что это за принцип, какова цель и каким способом она достигается. Формы Аристотеля эгоистичны.
Более того, есть род глобальной телеологии, который Стагирит отвергает. Наиболее сильной формой глобальной телеологии была бы постулирующая, будто земной мир, а может, и целый космос представляет собой сверхорганизм. В этом мире правила бы Гея, притом она обладала бы такой мощью, которую и Джеймс Лавлок[204] не смог бы представить. Этот мир был бы похож на Пандору Джеймса Камерона, на которой все населяющие ее существа были бы объединены в сеть передачи сигналов и в едином порыве реагировали бы на призыв духа планеты “к оружию”, а хищники экологически были бы похожи не на шакалов и ястребов, а на фагоциты. Точнее, поскольку Аристотель жил в IV в. до н. э., мир был бы очень похож на описанное в “Тимее”. Космос Платона – это “живое существо, наделенное душой и умом”. И его не просто замыслил демиург: он замыслил космос для себя. Даже кишки у людей уложены так, чтобы мы могли думать о Творце. Но Аристотель говорит: у космоса нет души. (Впрочем, выясняется, что и небесная сфера не лишена жизни.)
Pinnophylax и pinna Аристотеля – краб-горошинка (Nepinnotheres pinnotheres) и благородная пинна (Pinna nobilis)
По этой и другим причинам в большинстве недавних переводов “Метафизики” не придается должного значения аналогии с домохозяйством. Переводчики утверждают, что Аристотель, говоря, будто организмы “упорядочены для одной цели”, имеет в виду то же, что и обычно: все они стремятся к вечности. Я не соглашусь по трем причинам. Во-первых, такое прочтение делает аналогию лишней.
Во-вторых, Аристотель все-таки описывает некоторые альтруистические взаимоотношения видов. Забавно, что в некоторых из этих описаний фигурируют акулы. Философ объясняет, почему у акул (и дельфинов) такие головы. У них узкое рыло, а рот снизу головы. Эти признаки, по Аристотелю, делают их малоэффективными хищниками, поскольку они не могут широко открыть рот и для поимки добычи им приходится разворачиваться вверх животом, из-за чего маленьким рыбам легко ускользнуть. Аристотель дает два объяснения. Одно из них – благодаря такому расположению рта акулы не могут погибнуть от переедания. Это вполне в духе Аристотеля. Он часто отмечает, что у каждого животного есть положенный природой предел: объем пищи, которую оно может съесть, или яиц, которые оно может отложить, или объем спермы, которую оно может выработать. Здесь проявляется некий другой признак, приносящий животному пользу. Мы сказали бы, что указанные рамки – плата за компромиссные функциональные решения. А второе объяснение Аристотеля поражает. Он утверждает, что у акул узкое рыло и рот снизу головы затем, чтобы они не съели всю потенциальную добычу (“По-видимому, природа устроила это… для спасения других животных”). Получается, что акулье рыло задумано таким на благо не только самих акул, но и сардин[205].
История об акульем рыле странна настолько, что хочется верить: ее добавили позднейшие переписчики. Но это вряд ли так, поскольку она упоминается и в “Истории животных”, и в трактате “О частях животных”. Так что защитники индивидуальной телеологии иногда говорят, что Аристотель просто пытается говорить на понятном народу языке и рассказывает историю наподобие той, что может поведать простой рыбак. Или – более мягко – что польза сардинам от акульего рыла возникла случайно, как побочный эффект разумного устройства, призванного быть полезным самой акуле. В этом я не уверен. Рыло акулы, помогающее сардинам выжить, вполне вписывается в концепцию мира как единого домашнего хозяйства, описанную в “Метафизике” (λ, 10). Но я уверен, что в приведенном выше абзаце содержится решение глубокой проблемы экологии Аристотеля.
А вот третья причина, по которой я серьезно воспринимаю уподобление домашнему хозяйству. Большинство комментаторов сходится в том мнении, что Аристотель уверен: 1) организмы устроены так, чтобы они выживали и размножались, 2) роды животных вечны. Однако все забывают, что эти утверждения несовместимы. Ведь в мире, где живые существа взаимодействуют, соперничают и охотятся друг на друга, нет причин предполагать, что соотношение сил никогда не изменится. Животные и растения нередко истребляют конкурентов. Хищники сжирают всех или некоторых представителей вида, на который охотятся, а после переключаются на кого-либо еще. Так происходит в нашем мире. Но в мире Аристотеля вымирание невозможно. Его метафизика требует равновесия в природе. По-моему, Аристотель понимал, что равновесие не проявляется само по себе в каком угодно множестве организмов (каждый преследует собственные интересы), а должно быть задумано природой.
Признаем, что посылки к такому выводу неочевидны. Чтобы начать с доказательства, наиболее близкого к предмету, Аристотель (если я прав) должен был иметь некоторое представление о хрупкости сообществ живых организмов. В “Истории животных”, рассказывая о рыбах, он говорит, что если бы “все их яйца сохранялись, то каждый род был бы чрезмерно велик”. Аристотеля впечатляет и плодовитость мышей. Он рассказывает, что иногда они размножаются настолько стремительно, что хищники не способны снизить их число, что эти грызуны могут уничтожить весь урожай, а после этого внезапно и по неизвестной причине исчезнуть[206]. Аристотель считает, что описывает необычный случай. Это действительно так. В “Никомаховой этике” при обсуждении “невоздержностей” людей – и довольно жестком – он задается вопросом, могут ли животные иметь столь же неуемные аппетиты. Аристотель гениально отвечает на собственный вопрос: поскольку животные не могут рассуждать, мы обычно говорим, что они “воздержные” или “распущенные”, в переносном смысле. Однако некоторые роды животных превосходят другие и “один какой-то род животных в целом отличается от другого наглостью, буйством и обжорством” (он определенно думал о мышах) и представляет собой нечто похожее на “отступления от природы, так же как среди людей – помешанные”.
До экологической теории далековато. Правда, это показывает, что у Аристотеля имелось представление о нормальном соотношении численности популяции животных и доступных ресурсов, а также о том, что иногда соотношение нарушается, и о негативных последствиях этого. В “Истории животных” он в более общей форме приводит объяснение (пророческое!) конфликтов между животными: “Дружба и вражда у… животных происходит в результате [сходств и различий] в пище и образе жизни”. Это один из немногих выраженных у Аристотеля в явном виде экологических принципов – но принцип этот глубок[207]. Стагирит не утверждает, что животные могут вымереть из-за нехватки пищи. С другой стороны, он понимает: нет гарантии, что ресурсов будет хватать всегда, и поэтому животным приходится конкурировать (на уровне особей и видов).
Некоторые считают, что телеология Аристотеля антропоцентрична и что Аристотель (подобно Ксенофонту до него и стоикам после него) видит цель существования мира и животных лишь в служении человеку. Но Аристотель ничего такого в виду не имел, поскольку, как я говорил, все остальное в его телеологии направлено исключительно на выживание особей (не только человеческих). Но приведенный абзац по меньшей мере показывает, что растения, животные и люди связаны пищевыми цепочками, что организмы зависят друг от друга и что это не совпадение: природа устроила все именно так. Таким образом, животные более совершенные обычно используют менее совершенных в качестве инструмента для собственного выживания (питаются ими). Но чья природа тут работает? Когда Аристотель говорит, что “природа” делает то или это, он почти всегда имеет в виду формальную или материальную природу конкретного животного. Здесь, по всей видимости, речь о природе какого-то более высокого уровня организации. Может быть, здесь говорится о природе самого космоса – что она обеспечивает пищу всем.
Космос – это holon, “целое”. В этом космос подобен душе, домашнему хозяйству, государству, даже трагическому произведению: Аристотель применяет этот термин ко всему. Под “целым” он подразумевает систему, сложный объект, представляющий собой нечто большее, нежели сумму его частей. Но Аристотель отлично понимает, что сложные целостные объекты очень хрупки. Его представление о растительной душе – это, по сути, описание потоков материи и регулирующих их механизмов, поддерживающих существование животных. Его описание смерти – это рассказ о случаях, когда такие механизмы приходят в негодность. Большая часть его политических соображений – об условиях, обеспечивающих стабильность государства. Было бы воистину странно, если бы он не замечал, что то, что верно для его “целых”, верно и для самого крупного и сложного из известных ему объектов: космоса.
Это, я уверен, – суть аналогии с домашним хозяйством. Это утверждение, что если составляющие подлунного мира – все формы растений и животных – будут жить вечно, то их взаимоотношения должны быть построены соответствующим образом. Акулы должны сдерживать свои аппетиты, если не хотят, чтобы сардины вымерли (ведь вымирание сардин дурно скажется на акулах). Аристотель делает упор на это в “Никомаховой этике”. Он объясняет отличия мудрости от рассудительности, т. е. способности управлять домашним хозяйством или государством. Он говорит, что рассудительность у людей и рыб заметно различается. Это бесспорно, но возникает вопрос: как рыба может быть рассудительной? Ни одна из аристотелевских рыб не подходит под определение “политической”. Я думаю, что Аристотель имел в виду, что рыба – акула – столь же рассудительна, как человек: управляя “доходами” и умеряя природную жадность, она сохраняет свой oikos – дом – и, как следствие, себя. Философ даже высказывает мысль, что акулы способны думать о будущем. Животные действительно устроены так, чтобы преследовать собственные интересы, но не до такой степени, чтобы подвергать другие роды смертельной опасности – ведь это представляет опасность для них самих.
Представление об иерархии в этой аналогии с домашним хозяйством туманно, но я уверен, что Аристотель заявлял, будто людям и животным доступно большее разнообразие способов достижения целей, чем, скажем, растениям, чье единственное предназначение – размножение. Так это или нет, аристотелевское домашнее хозяйство определенно отсылает к гораздо более мягкой версии глобальной телеологии, чем платоновский сверхорганизм-космос, в котором интересы всех подчинены интересам Творца. В этом смысле представления Аристотеля (используя очередную аналогию с другим социальным образованием) напоминают скорее взаимовыгодные отношения производителей со множеством компаний-поставщиков сырья и комплектующих. Все преследуют одну цель – добродетель: в этом случае – выгоду[208].
Такой взгляд на телеологию космоса выгоден в одном отношении. Он предполагает наличие решения (пусть неоднозначного, которому нет прямого доказательства в текстах) загадки, почему существуют спонтанные генераторы. Аристотель отверг бы утверждение Макбета, будто человеческая жизнь – только шум и ярость. Выступая скорее в качестве биолога, чем политического философа, он сказал бы, что причина, по которой он родился и вырос, а теперь разбирается с неурядицами в мире – необходимость воспроизводить свою форму. У устрицы не так. Ее жизнь, согласно Аристотелю, лишена цели, так как она ничего не продолжает. Но, вероятно, Аристотель здесь очень узко смотрит на вещи. Ведь у устрицы и ее товарищей по саморождению есть общий признак: ими питаются другие. Большинство самовозникающих существ находится в самом низу пищевых цепей. Если так, то, вероятно, цель существования таких животных – обеспечивать выживание тех, кому они служат пищей. Они, как и все, существуют, чтобы поддерживать неизменный порядок в мире.
Меня устроило бы, если бы телеология Аристотеля была направлена на выживание особей. Он выглядел бы вполне современно: как дарвинист, даже неодарвинист. Но если я верно восстановил картину мира Аристотеля, она сильно отличается от нашей. В нашем мире естественный отбор делает кратковременный репродуктивный успех максимальным, а к вечности он безразличен[209]: “ [Естественный отбор] не планирует будущего. Он не обладает проницательностью, не видит наперед, он вообще ничего не видит. Если и можно сказать, что в природе он играет роль часовщика, то часовщик этот – слепой”[210]. В нашем мире, таким образом, виды доводят друг друга до вымирания. Около 1280 г. маори завезли в Новую Зеландию полинезийскую крысу. Она истребила пять местных видов птиц и три – лягушек, а также несколько видов ящериц, насекомых и наземных улиток. Сами маори, охотясь, уничтожили девять видов моа. А сейчас завезенные из Европы хищники – пасюки, черные крысы, горностаи, ласки и кошки – подъедают остатки аборигенной фауны. Если и существует баланс в природе, он может быть лишь временным перемирием равных по силе противников, которые после боев на биологическом театре военных действий стоят, утомленные, среди трупов менее удачливых и хуже вооруженных. Мир Аристотеля ничуть не добрее: в нем не бывает перемирий.
Akanthias galeos Аристотеля – катран (Squalus acanthias)
102
Все утверждают, что оно [небо] возникло, но при этом одни – что оно возникло вечным, другие – уничтожимым, как и любая другая конкретная вещь, а третьи – что оно попеременно находится то в одном, то в другом состоянии, [периодически] уничтожаясь, и что это продолжается вечно, как утверждают Эмпедокл из Акраганта и Гераклит из Эфеса. Утверждать, что оно возникло и тем не менее вечно, – значит утверждать нечто невозможное.
Так пишет Аристотель в трактате “О небе”. Он говорит, что хочет беспристрастно сравнить космологические теории, но настаивает на истинности собственной. Она основана на предположении, что Вселенная вечна, не имела начала и не будет иметь конца. Поскольку формы живых существ вечны, им в качестве места обитания, конечно, нужен вечный космос. Аристотель, тем не менее, выдвигает ряд аргументов.
Некоторые аргументы в пользу вечности космоса чисто семантические, большая доля – лицемерные. Наиболее разумные приведены в “Физике”. Здесь Аристотель сосредоточился на обязательности существования не материи космоса, а изменений в нем. Изменения – предмет наук Аристотеля. Все объекты живой природы несут в себе принцип внутренних изменений (physis), и поэтому доказательство вечности изменений равноценно доказательству вечности изменяемых объектов.
Доказательство Аристотеля основано на необходимости первопричин. Сам по себе аргумент абстрактен, но рассказ о гибели Эсхила все проясняет. Дело в том, что причина смерти (упавшая на голову черепаха) – и в драматическом, и в чисто физическом смысле – должна была изначально существовать. По крайней мере, так считал Аристотель. Чтобы черепаха упала, необходимо, чтобы произошли изменения в неких существующих объектах: орел разжал когти. Чтобы орел разжал когти, необходимо другое изменение в некоем существующем объекте: необходима чувствующая душа птицы – сенсомоторная система, воспринявшая образ лысины Эсхила, рассчитавшая цели и желания хищника, давшая огонь его душе и разжавшая когти… Однако суть ясна: неважно, сколь далеко идти по цепи причин, – любое наблюдаемое изменение обязательно нуждается в существовании некоего предыдущего изменения, а также подвергаемых изменению объектов. Таким образом, изменения бесконечны.
Довод Аристотеля – это общее выражение аргумента о вечности форм/родов: воспроизводство живых существ – особый вид изменений. Этот довод хорош, если обсуждаемая физика полностью детерминистична. Поскольку нам (в теории Аристотеля) дан детерминированный космос, в котором постоянно происходят изменения, последние, должно быть, существовали так же долго, как и время. У Аристотеля есть еще довод за то, что у времени нет начала и конца. Можно было бы ожидать, что им станет конец материи, но это не так. “Вечность – ужасная вещь. То есть где она все-таки кончается?” – вопрошает Розенкранц в пьесе Тома Стоппарда. Аристотеля, напротив, страшит, что вечность кончится.
Аристотель опасается, что цепь причинно-следственных связей разорвется. Это возможно, поскольку его физика основана на той житейской мудрости, что движущийся предмет рано или поздно придет в состояние покоя. Перед тем, как это произойдет, он может провзаимодействовать с другим объектом и привести его в движение, однако энергия в конце концов рассеется. Так происходит, когда камень бросают в пруд и рябь постепенно исчезает[211]. Таким образом, чтобы поддерживать движение в мире, Аристотелю необходим бесконечный источник изменения. И Аристотель обращает взор к небесам. Многие поколения египтян и вавилонян, отмечает Аристотель, наблюдали за небом, и небесные тела никогда не отклонялись от известных путей[212]. Если что-то и может гарантировать вечное движение на Земле, то это звезды.
Когда Аристотель занимается биологией, его одиночество становится заметным. Конечно, он мог обсудить биологические вопросы с Теофрастом, а позднее и с другими учениками, но кому из его ровесников были интересны губки и подобные им создания: старому чудаку Спевсиппу? Может быть. А вот астрономия – другое дело. К середине IV в. до н. э. эллинский мир мог похвастаться множеством астрономов-математиков[213]. Двое из них, Евдокс Книдский и Каллипп Кизикский, посещали Академию вместе с Аристотелем. Каллипп был первоклассным математиком, обучавшимся у Архита Тарентского, которого называли основателем математической механики.
Аристотель необычно добр к ним. Это почтение ловко обращающегося со словами теоретика к коллегам, которые хорошо считают. (Как это мне знакомо!) Всегда, когда Аристотелю требуется геометрическая модель космоса, он заимствует ее у друзей. Эта модель постулировала, что Земля имеет форму шара[214] и расположена в центре вложенных друг в друга сфер, в которые встроены небесные тела. Система (или скорее системы, поскольку Каллипп улучшил, по крайней мере модифицировал, систему Евдокса) была сложной и существовала главным образом для объяснения ретроградного движения “странников” (planētai): они вальсируют по небу, вместо того чтобы двигаться по прямой, как звезды[215].
Детали в этом случае неважны. Насколько известно Аристотелю, астрономия не имеет отношения к естественным наукам. Модели, предложенные математиками-астрономами, могут описывать божественные события. Они способны “сохранить явления”, phainomena, – эту фразу приписывают Платону. Это важно, хотя и недостаточно. Звезды – не просто математические модели, они представляют собой природные объекты. Это предмет изучения естественных наук, а естественным наукам требуются каузальные объяснения. Из чего небеса? Почему они вращаются? У астрономов не просто не было ответов на эти вопросы – они об этом даже не задумывались.
Из всех природных сущностей аристотелевского космоса небесные тела – Луна, Солнце, планеты и особенно звезды – наиболее совершенны и божественны. Они, признает Аристотель, хуже всего поддаются изучению, так как расположены очень далеко, и мы знаем о них крайне мало. Однако это не должно останавливать нас от попыток понять их. Пытаясь разобраться в сложном, следует радоваться и скромным результатам. Быстрый взгляд на лицо любимого принесет больше удовольствия, чем постоянное присутствие обыденных вещей в поле зрения.
Ретроградное движение Марса относительно звезд (август 2003 г.)
Аристотель разбирает связанные с небесными телами вопросы в трактате “О небе”. Он утверждает, что небесные тела, как и содержащие их сферы, сделаны из уникального вещества: to prōton stoicheion. С эфиром (aithēr) число аристотелевских начал доходит до пяти. Как и четырем подлунным началам, эфиру присущ природный принцип изменения и покоя. Здесь, как и всегда, когда Аристотель считает нечто вечным, он обращается к форме круга. Он считает движение по кругу простейшим из возможных[216].
Исходя из этого, Аристотель постулирует, что естественное движение эфира круговое, однако естественного места отдыха у этой субстанции нет. Поскольку эфир движется по кругу (а не вверх-вниз), он невесом. Он не входит в цикл трансформаций, в котором задействованы четыре “обычных” начала, и поэтому разрушить эфир невозможно.
Эфир – вещь неоднозначная. Платон в “Тимее” изложил традиционный взгляд на строение звезд: считалось, что они из огня. Прокл Диадох (V в.) отмечал, что платоники воспринимали эфир совершенно по-первобытному.
Некоторые перипатетики отказались от концепции эфира. (Она вернула себе былую популярность в средние века.) Тем не менее, причины выдумать его были весомыми. Если бы звезды состояли из комбинации четырех подлунных начал, было бы сложно объяснить элегантную закономерность их движения – а с эфиром это возможно без труда. Кроме прочего, эфир обеспечивает вечное существование. Это означает, что звезды не должны соперничать с вечным круговоротом начал, уничтожающем все на Земле, включая людей.
Наиболее странная часть космологии Аристотеля – это не химия, какой он ее видел, а приложение телеологического – функционального – мышления к небесам. Заявлять, что небесные тела вращаются вокруг Земли потому, что они из эфира, – означает просто наделить их материальной и действующей причинами. Однако Аристотель, как обычно, требует и целевой причины. Небесные тела вращаются по той же причине, по которой размножаются животные и растения: чтобы быть вечными. Это странно: зачем звездам для движения вообще нужна причина? Но для начала пойдет.
Аристотель хочет показать, что звезды движутся за счет вращения эфирной сферы, а не ведомые каждая собственным “двигателем”. Он приводит несколько аргументов: все звезды движутся синхронно, поэтому наиболее экономично объяснение их движений – коллективное перемещение. Аристотель сравнивает звезды с кораблями, влекомыми течением. Притом, если эти объекты двигались бы самостоятельно, мы видели бы, как они вращаются. Например, Луна не вращается: мы постоянно видим ее “лицо”. А если бы небесные тела перемещали сами себя, у них имелись бы приспособления: ноги, плавники, крылья – но их нет. (Никто и никогда не видел у Луны крылья!) Однако не может быть так, продолжает он, чтобы природа забыла снабдить их приспособлениями для передвижения. В конце концов, устройство небесных тел прекрасно отвечает их целям – гораздо лучше (Аристотель это признает), чем целям любого животного. Так что способ перемещения таких объектов, видимо, не требует приспособлений: они двигаются в хрустальной сфере из эфира.
Аристотелевские телеологические объяснения в отношении животных легко интерпретировать в свете современных адаптационистских воззрений в биологии. Но небесные тела? Науке известно, что Луна шарообразна и обращается вокруг Земли. Обсуждать то, что у спутника Земли нет крыльев, никому не приходит в голову. Но в том и дело, что мы считаем Солнце, Луну и звезды неодушевленными, а для Аристотеля они не менее живы, чем пчелы, слоны и люди. В каком-то смысле они даже более живые – ведь из всех природных объектов они совершеннее всех. Может быть, у космоса как целого нет души – зато у отдельной звезды она есть.
Аристотелевская биология небесных тел несколько туманна (но может ли быть иначе?). Иногда он утверждает, что живы не сами звезды или планеты, а сферы, в которые те встроены. Для него внеземная жизнь определенно существует – и не столь важно, в форме ли звезд либо их сфер. Может, это очередное космологическое нововведение? “До сих пор мы думали о звездах лишь как о телах и единицах, имеющих порядок, но совершенно неодушевленных, а надо представлять их себе как [существа], причастные жизни и деятельности”. Аристотель даже пристраивает несколько ступеней к верху своей зоологической лестницы. Звезды или их сферы наиболее совершенны, учитывая характер их движения, следовательно, совершенны и способы достижения ими целей. Планеты, Солнце и Луна ближе к Земле, а значит, чуть менее совершенны. У бездвижной Земли вообще нет цели.
Небесные тела (подобно растениям и животным) в общем случае устроены так, чтобы достигать своих целей. Однако они не обязательно безразличны к подлунному миру. Звезды, чьи орбиты неизменны, движутся по очень простым траекториям, но с другими космическими объектами дело обстоит иначе. Планеты совершают обратное движение, а Солнце движется не только с востока на запад, но и “вторично”, с запада на восток, по эклиптике. Именно это движение пытались математически описать астрономы. Аристотель, тем не менее, хочет наделить эти более сложные движения целью. “Вторичные движения” Солнца и Луны служат причиной смены времен года, как и круговорот начал в подлунном мире, удерживающий мир от превращения в луковицу. Однако есть ощущение, что Аристотель считает это не следствием материальной необходимости, а причиной “вторичных движений”. Отметьте направление причинно-следственной связи. Начала подлунного мира участвуют в круговороте не потому, что Солнцу присущи “вторичные движения”, а строго наоборот: “вторичные движения” Солнца существуют для того, чтобы был возможен круговорот начал в подлунном мире. Аристотель будто использует здесь принцип условной необходимости из собственной зоологии. Принцип гласит, что свойства живого существа подобраны так, чтобы соответствовать друг другу и космосу в целом. В таком случае аналогия с домохозяйством в “Метафизике” (λ, 10) применима не только к тому, как существование обитателей подлунного мира зависит друг от друга, но и к тому, как их существование зависит от действий созданий, вращающихся вокруг Земли. Сущности, стоящие выше и ниже в цепочке бытия, связаны сетью многократно перекрещенных взаимовыгодных отношений. Масштаб экологии Аристотеля буквально космический. В трактате “О возникновении и уничтожении” Аристотель пишет, что возникновение происходит при приближении к Солнцу, а в “Физике” он превращает одну из своих любимых фраз “человек рождается от человека” в “человек порождает [не только] человека, но и Солнце” (курсив мой. – А. М. Л.). Это не просто утверждение о взаимосвязи всего сущего, а констатация космической причины.
Схема величественно абсурдна. Не говоря уже о заявлении, будто небесные тела живые, любое, даже самое робкое, предположение о разумном устройстве Вселенной звучит странно. Ни один астроном не считает, что луны, планеты, звезды, туманности, черные дыры, сверхновые, галактики служат подтверждением замысла. Телеологии нет места вне рамок биологии. Вселенная просто существует.
Или не “просто”? Стандартная модель физики частиц и стандартная космологическая модель (ΛCDM), которые успешно объясняют устройство Вселенной (на масштабе от 10–21 до 1025 м), содержат около 30 параметров, например массы элементарных частиц и величины трех фундаментальных взаимодействий (электрослабое, сильное ядерное и гравитационное). Многие из них скалярные (т. е. не имеют направления) и принимают произвольные значения (но если они отличались бы от наблюдаемых, Вселенной не существовало бы). Вот два примера. Космологическая постоянная Λ приблизительно равна плотности энергии вакуума, содержащего 1 атом водорода на 1 м³. Квантовая теория гласит, что Λ должна быть существенно больше, но если так, Вселенная расширилась бы настолько быстро, что не существовало бы галактик и тем более человека. Нейтроны примерно на 0,1 % тяжелее протонов: если было бы наоборот, протоны распадались бы на нейтроны и нейтрино, атомы водорода были бы нестабильными, а известной нам химии не существовало. Это проблема точной настройки.
Некоторые физики пытались объяснить проблему точной настройки, применяя слабый антропный принцип, предполагающий, что если физические константы Вселенной были бы иными, то не образовались бы звезды, планеты, не существовало бы разумной жизни и некому было бы обо всем этом задумываться. Да, это верно, но это не решает проблему. Если есть лишь одна Вселенная и небольшое число значений параметров, совместимых с появлением разумных форм жизни, шансы на то, что природа все сделает как надо, поистине астрономические. Аристотель, атакуя Демокрита и ему подобных, пишет: “Они говорят, что животные и растения не существуют и не возникают случайно, а что причина их – или природа, или разум, или что-нибудь другое подобное… нелепо говорить это, видя, что в Небе ничто не возникает самопроизвольно, а в том, что происходит [будто бы] не случайно, многое происходит случайно”. Эмпирические закономерности, приводящие Аристотеля в замешательство, и вопросы, беспокоящие современных космологов, различны, но корень проблем один.
Предположим, что в космосе можно найти признаки упорядоченности, служащей достижению некоей цели (ее наличие служит признаком разумного замысла). Откуда они? На этот вопрос есть лишь три варианта ответа. Первый – апеллировать к милосердному Создателю, устроившему мир именно таким. Подобный ответ удовлетворял Платона и до сих пор устраивает христиан. Второй – апеллировать к бесконечности Вселенной: это снимает вопрос катастрофически низкой вероятности возникновения жизни. Этот вариант принимали Демокрит и Эпикур. Первый вариант можно отбросить. Касательно второго у меня нет готового мнения, хотя ряд космологов считает, что этот ответ верен[217]. Поскольку я биолог, меня более всего устраивает третий вариант ответа. Я говорю о единственном известном механизме рождения порядка из хаоса: естественном отборе.
Я имею в виду теоретические выкладки, на которых построена теория космологического естественного отбора, постулирующая существование целой популяции вселенных. В мультиверсе вселенные размножаются, притом с неодинаковым успехом, и передают свои значения физических постоянных вселенным-потомкам (при передаче возможно возникновение мутаций). Это ни много ни мало космологический дарвинизм, а также простой путь к вселенной, которая в зависимости от функции приспособленности будет иметь любое “нелетальное” сочетание признаков. В рамках одной из теорий мультиверса предполагается, что одни вселенные порождают другие посредством черных дыр. В этом случае число черных дыр в нашей Вселенной (а их миллионы) – ее конструктивная особенность. Вопрос вероятности такой физики не должен сдерживать нас; если принять эту или некую похожую схему, становится очевидно, что естественный отбор среди звезд будет идти. Если так, то ряд свойств Вселенной будет объясним телеологически в той же степени, что и части тела слона, и будет чем-то большим, нежели побочным продуктом материальной необходимости.
У такого космоса имелась бы цель. Здесь Аристотель чувствовал бы себя как дома. И все же он отверг бы селекционистское объяснение происхождения космоса, как отверг бы и идею Творца, и суждения о случайном зарождении. Если бы Аристотеля спросили, как космос получил целесообразные черты, он сказал бы, что это бессмысленный вопрос: космос ничего не получал. Он просто был и всегда будет. Из всех воззрений Аристотеля, пожалуй, это понять сложнее всего.
103
И вот мы приблизили сь к Богу. Я упоминал, что Аристотель считал звезды, людей и даже пчел “божественными”, но стоит воспринимать это лишь как способ описать красоту, интеллект и сложные социальные взаимодействия. Бог даже появлялся на сцене один или два раза под собственным именем, но вам, вероятно, показалось, что его используют как метафору для чего-то вроде платоновского абсолютного блага. Если так, то это, несомненно, моя вина. Я скрывал theos Аристотеля. А может, мне не хотелось показывать, до какой степени наука моего персонажа пронизана религией? Да, я скрывал это. Бог Аристотеля все это время был рядом.
Почему Аристотель считает звезды живыми? Он не предъявляет доказательств. В трактате “О душе” он говорит: “Жизнью мы называем всякое питание, рост и упадок тела”. Но у звезд (и это он отмечает) ничего подобного нет. У них нет органов. Звездам они и не нужны. Да, Аристотель отмечает, что звезды обладают душой и что им нравится на небе, но откуда это известно? Странная позиция для ученого, который столько внимания уделяет половому поведению пчел. Кажется, Аристотель благоговеет перед звездами:
Итак, что первое из тел вечно и не испытывает ни роста, ни убыли, но является нестареющим, качественно не изменяемым и не подверженным воздействиям – это ясно из сказанного для всякого, кто считает верными [наши] исходные посылки.
Судя по всему, [наша] теория подтверждает непосредственный [человеческий] опыт, а опыт – теорию. А именно, все люди имеют представление о богах, и при этом все, кто только верит в существование богов, – и варвары и эллины отводят самое верхнее место божеству, разумеется, потому, что они полагают, что бессмертное неразрывно связано с бессмертным; иначе, [по их мнению], и быть не может.
Аристотель благоговеет и перед Богом.
В “Метафизике” есть место, где Аристотель предпринимает попытку археологического исследования религии. Наши праотцы, говорит он, передали нам представление о том, что небесные светила – это боги и что божественное есть в каждом объекте природы. Тем не менее, позднее к этим воззрениям добавились элементы мистики – звероподобные и человекоподобные боги. Но они выдуманы “для внушения толпе”, а еще потому, что они “выгодны”. (Я понимаю это так: народу для поклонения нужны были красивые статуи, а правителям для контроля над народом требовалась религия.) Однако, продолжает Аристотель, следует отделять настоящие “божественные изречения” от более поздних приобретений.
Аристотель разработал новую теологическую систему, которая бесшовно соединяет доисторические поверья с передовой для его времени наукой. Он постоянно упоминает некие древние представления о богах – что они живут на небе, что они бессмертны и неизменны, – а затем эффектно показывает совместимость этих представлений с космологической теорией. Причина (единственная, насколько я могу судить), по которой Аристотель думает, что небесные сферы живые, заключается в том, что он считает их богами.
Аристотель говорит, что теология не относится к естественным наукам. Если говорить его словами, это первая философия, подраздел нашей метафизики. Естественные науки – вторая философия. Он также отмечает, что различные области знаний не стоит смешивать, поскольку они следуют неодинаковым принципам. Тем не менее в этом настойчивом желании пространства для интеллектуальной жизни Аристотель нарушает все междисциплинарные границы. Он рассуждает о природе богов не только в “Метафизике”, но и в трактатах “О небе”, “О душе”, “О возникновении и уничтожении” и в “Физике”. Боги появляются даже в работе “О движениях животных”.
Иначе и быть не могло, учитывая, что функционирование мира в совершенно разных аспектах зависит от них. Вращение небесных сфер – первопричина всех изменений в подлунном мире. Небесные сферы в качестве действующих причин могут поддерживать существование космоса независимо от того, живы они, мертвы или божественны. Однако Аристотель также приписывает им свойство давать всем существам цели; таким образом, небесные сферы являются богами. Эсхил стал инструментом для достижения целей орла. Целью птицы (по крайней мере, насколько мы можем предположить) было накормить своих прожорливых птенцов. Чтобы достигнуть ее, орел попытался имитировать вечное движение звезд – не застывшее совершенство хрустальных сфер, а бессмертие существующих богов. Все, чего искала птица, так это кусочка бесконечности. Если взглянуть вокруг, станет понятно, что того же желают все.
От чего зависят движения небесных сфер? Можно подумать, что ни от чего: в конце концов, они боги. К тому же они сложены из эфира, которому от природы свойственно движение по кругу. Так говорится в трактате “О небе”. Впрочем, в “Метафизике” и “Физике” Аристотель излагает другую точку зрения, а может, просто изменяет акцент. Во второй версии не сказано, что небесные сферы двигают сами себя. Их божественность снижается. Эфир отходит на второй план, пропуская вперед таинственные “неподвижные двигатели”.
Неподвижные двигатели – это новые божества. Сферы были понятны даже обывателю. Любой любитель научной фантастики спокойно отнесется к разумной сущности астрономических размеров, состоящей из экзотической материи. А неподвижные двигатели, напротив, в достаточной степени абстрактны и парадоксальны. Говорят, что их 55, но также утверждают, что такая всего одна. Они подпитывают небесные сферы, но сами абсолютно статичны. Они делают это, хотя сами невидимы, неделимы и даже не обладают материальными телами. Аристотель имеет в виду, что они состоят не из физически ощутимых субстанций.
Причина, по которой существует столько неподвижных двигателей, заключается в том, что каждый питает только одну из сфер в аристотелевской геометрической модели космоса. Всеми звездами, движущимися просто и единообразно, можно управлять с помощью одной и той же сферы. Луна, Солнце и пять планет, чьи движения более сложны, требуют присутствия остальных 54 сфер. (Геометрические космологические модели никогда не отличались экономностью.) Происхождение неподвижных двигателей раскрыто в аристотелевской теории движений. По этой теории, еще не до конца сформулированной в то время, когда он писал “О небе”, каждое движение требует наличия предшествующего движения. Теперь эфирные сферы больше не могут двигать сами себя, а нужно, чтобы что-то поддерживало их перемещение. Однако Аристотель не хочет, чтобы за движением каждой сферы стояла бесконечная последовательность двигателей, и он дает каждой сфере по двигателю. Эволюция физической теории Аристотеля, а также его космологии и теологии теснейшим образом переплетены.
Неподвижные двигатели, очевидно, не толкают и не тянут “свои” сферы, так как если бы они делали это, они были бы подвижными двигателями. Кроме того, они не материальны, так что и толкать и тянуть они не в состоянии. Вместо этого каждый управляет своей сферой за счет того, что является объектом ее любви и вожделения. Звучит странно, но ведь мы имеем дело с нетипичным случаем действующей причины, отличным от обычной физической причинности и зависящим от разума. Аристотель говорит, что неподвижные двигатели “трогают” небесные сферы, но последние их не касаются. Это надо понимать не буквально, а как психологическое изменение – примерно такое же, что “я растроган вашим отношением” или “я тронут ее красотой”. Даже животные, способные к самостоятельному передвижению, зависят от объектов вожделения; последние, по сути, дают им импульс к движению. Выходит, любовь и впрямь вращает мир[218].
Теперь космос Аристотеля выглядит очень оживленным. Если сложить все сферы и их неподвижные двигатели, получится 110 вращающихся вокруг Земли сущностей различной степени материальности и божественности. Причина, по которой Стагирит может уже через два абзаца утверждать, что существует множество неподвижных двигателей, заключается в том, что они, как и большая доля объектов в мире Аристотеля, выстроены согласно единственно возможным образом установленной иерархии, во главе которой стоит одна сущность. Это, конечно, неподвижный двигатель, отвечающий за внешнюю звездную сферу. “Перводвигатель” в некотором смысле контролирует все остальные. Может, это объект их абсолютных любви и вожделения. Это Бог Аристотеля.
В “Метафизике” Аристотель открывает цель и природу этой сущности:
Так вот, от такого начала зависят небеса и [вся] природа. И жизнь его – самая лучшая, какая у нас бывает очень короткое время. В таком состоянии оно всегда (у нас этого не может быть), ибо его деятельность есть также удовольствие (поэтому бодрствование, восприятие, мышление – приятнее всего, и лишь через них – надежды и воспоминания). А мышление, каково оно само по себе, обращено на само по себе лучшее, и высшее мышление – на высшее. А ум через сопричастность предмету мысли мыслит сам себя: он становится предметом мысли, соприкасаясь с ним и мысля его, так что ум и предмет его – одно и то же. Ибо то, что способно принимать в себя предмет мысли и сущность, есть ум; а деятелен он, когда обладает предметом мысли, так что божественное в нем – это, надо полагать, скорее само обладание, нежели способность к нему, и умозрение – самое приятное и самое лучшее. Если же богу всегда так хорошо, как нам иногда, то это достойно удивления; если же лучше, то это достойно еще большего удивления. И именно так пребывает он. И жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума – это жизнь, а бог есть деятельность; и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что бог есть вечное, наилучшее живое существо, так что ему присущи жизнь и непрерывное и вечное существование, и именно это есть бог.
Вот что делает Бог: он мыслит. Обычный процесс мышления недостаточно хорош для него, поэтому он проводит время, мысля о мышлении мысли (noesis noeseos noesis). Это Бог, который не знает ни любви, ни ненависти, который ничего не разрушает и не сохраняет, не осуждает и вообще не судит. Ему безразличны земные дела – тем не менее, именно от него зависит само существование Вселенной.
В “Никомаховой этике” Аристотель говорит о наилучшем способе жизни. Хорошая жизнь – это, очевидно, жизнь активной добродетели, и добродетели можно достигнуть множеством путей – скажем, ведя политическую деятельность или воюя. Но добродетель, происходящая из таких источников, совершенно утилитаристская. Лучший для человека способ провести жизнь – размышлять о вещах, не имеющих прикладного значения. Это само по себе приятно. Аристотель рассказывает историю. Некто спросил Анаксагора, в чем смысл рождения на свет, на что великий натурфилософ ответил: “Изучать небеса и порядок устройства космоса”. Такой ответ Аристотель считал верным. Он рассказывает историю про Анаксагора минимум дважды. Однако ничья жизнь не может состоять лишь из размышлений. Повседневность отвлекает от божественной жизни разума. Но стоит “напрягать каждую жилу”, чтобы посвящать себя лишь умозаключениям. Это ключ к счастью.
Работы Аристотеля, безжалостные в своей отстраненности, показывают, что он имел в виду. В конце концов, это он писал о давлении сексуального желания, а не о давно умершей Пифиаде, о возвышении и падении государств, а не о деяниях своего бывшего ученика Александра, о структуре реальности, фактически не называя учителя, у которого он с легкостью заимствовал важнейшие идеи, адаптировал их, а затем подвергал разгромной критике. Это рациональная жизнь – научная жизнь, – и если принять во внимание и число томов, и полки со свитками, и неустанный марш аристотелевских аргументов по страницам его книг, то невозможно отделаться от мысли, что Аристотель перепутал причинно-следственные связи, что он не искал Бога, а воссоздавал Его образ в себе.
У аристотелевского Бога есть еще одна сторона. Не только философы и ученые могут (должны!) стараться быть как Он. Каждый объект природы играет свою, пусть очень скромную роль, в проявлении Его качеств. Да, лишь сейчас мы можем до конца понять значение слов, с которых Аристотель, должно быть, начинал свой великий курс, а я начал эту книгу:
Не следует ребячески пренебрегать изучением незначительных животных, ибо в каждом произведении природы найдется нечто, достойное удивления; и по слову Гераклита, обращенному, как говорят, к чужестранцам, искавшим с ним встречи, но в нерешительности остановившимся у порога при виде его, греющегося у очага (он призвал их быть смелыми и входить: “Ибо и здесь существуют боги”).
Даже каракатица в некотором смысле божественна. Это приятная мысль.
Если бы я верил в бога (если бы он существовал), то он был бы Богом Аристотеля.
Глава 16 Пиррейский залив
104
В 340 г. до н. э. разгоряченные речами Демосфена афиняне выступили вместе с фиванцами против Македонского царства. Македонский царь Филипп II повел армию на юг. В августе 338 г. до н. э. противники встретились при Херонее. Македоняне одержали победу, но Филипп II проявил милость. Царь не обратил пленных в рабство, как было принято в ту эпоху, и не занял Афины. Напротив, полису были возвращены тела погибших. Два года спустя Филипп II, на радость афинянам, погиб. Новый же царь, говорили они, – просто мальчишка (хотя 20-летний Александр уже был закаленным в боях человеком). В 335 г. до н. э. против македонян восстали Фивы, и Александр, захватив город, сровнял его с землей[219]. После этого афиняне подчинились, и лишь тогда, после 12 лет изгнания, в Афины вернулся Аристотель – почти 50-летний.
Хотя Аристотель был другом завоевателей-македонян, отношение к нему в Афинах не было недоброжелательным. Город поделили между собой две партии: антимакедонская (сторонники Демосфена) и промакедонская (аристократическая). Поскольку Демосфена теперь преследовали (он едва успел покинуть город, жители которого хотели выдать оратора и так умиротворить Александра), македонская партия оказалась в выигрыше. Кроме того, Аристотель был близким другом Антипатра, которого царь вскоре, на время похода в Азию, оставил наместником европейской части своих владений. Так что философ, вероятно, был неплохо принят в обществе.
Аристотель арендовал здания в Ликее и начал преподавать. Трудные занятия он проводил утром, а популярные, для широкой публики – во второй половине дня. Его коллеги (Теофраст Эресский, Каллипп Кизикский) также должны были проводить беседы. Ученики являлись со всего греческого мира, и Аристотель давал им возможность участвовать в работе. Сведения для “Истории животных”, вероятно, могли быть собраны одним человеком, но материалы для всех произведений Аристотеля – едва ли. Достаточно упомянуть, что среди них были и описания политического устройства 158 греческих государств, и полный перечень победителей Пифийских игр, и описание всех шедших в Афинах театральных постановок, и многое другое. А ведь его авторству принадлежит целый ряд энциклопедических проектов. Масштаб заставляет предположить, что Ликей был не любительским философским кружком и даже не школой, а скорее исследовательским институтом.
Довольно трудно сказать, что именно преподавал Аристотель. На первый взгляд, темы очевидны. Дошедшие до нас книги Аристотеля кажутся либо записями его бесед, либо неопубликованными трактатами, и все это из библиотек Ликея. Вместе они и есть учебный курс. Однако не все так просто. Во многих аспектах (и в мелочах, и в существенных моментах) эти тексты противоречат друг другу. Мелочи можно списать на ошибки переписчиков, позднейшие вставки или перемену самим Аристотелем мнения (например, относительно мозга осьминога). Более серьезные расхождения объяснить труднее, и есть два подхода к их интерпретации. В рамках первого можно показать, что кажущиеся противоречивыми тексты не так уж противоречивы: нужно лишь читать их правильно. Второй подход допускает, что Аристотель мог изменить свое мнение не только по мелким вопросам. Сторонники этого взгляда считают, что ко времени преподавания в Ликее часть ранних текстов Аристотеля уже не соответствовала его представлениям о том или ином предмете и пылилась на полках, тогда как другие его работы отражали актуальные воззрения. Этот второй подход довольно разумен: в конце концов, за 40 лет почти все философы меняют свои взгляды.
Представления о том, как именно менял взгляды Аристотель, подвержены своего рода моде. В 1923 г. немецкий филолог Вернер Йегер опубликовал работу[220], в которой проследил эволюцию мыслителя от молодого человека, находящегося под влиянием Платона, до зрелого философа-эмпирика, каким Аристотель стал к ликейскому периоду. Йегер считал, что он восстановил последовательность появления сочинений Аристотеля, и доказывал, что кн. A, B, M 9–10 и N “Метафизики” написаны в Ассосе и направлены против Спевсиппа, а кн. Z, H и Θ написаны позднее. Кн. II, III, VII и VIII “Политики” Йегер считал “платоновскими” по духу, а “эмпирические” кн. IV–VI относил к более позднему периоду.
Построения Йегера, блестящие и отчасти сумасбродные, очаровывали аристотелеведов до 60-х гг. XX в. Затем их подвергли уничтожающей критике. Современные философы (возможно, все еще споря с Йегером) часто подчеркивают целостность воззрений Аристотеля на всех этапах его жизни. Сейчас в моде исследователи, умеющие показать, что якобы неразрешимые противоречия в аристотелевских текстах на самом деле вполне разрешимы. В глазах этих людей признание того, что древнегреческий философ в течение жизни мог менять мнение или что он в разное время вкладывал разный смысл в те или иные термины, почему-то равносильно признанию собственного поражения.
Такое прочтение Аристотеля скрывает от нас не меньше, чем дает. В конце концов, неоспоримы лишь два факта: 1) Аристотель начал свою интеллектуальную жизнь как ученик Платона, сочинявший диалоги в платоновском духе на платоновские же темы, и 2) позднее создал систему воззрений, которая, несмотря на все влияния, содержала элементы естественнонаучного подхода. Это очень значительная трансформация, и удивительно, если бы она не оставила отпечатка на его работах. На мой взгляд, эта трансформация проявляется в двух Аристотелях: философе и ученом. Я не имею в виду предложенное им самим деление на первую и вторую философию (теологию, theologikē, и физику, physikē). Речь о современном различении философии и науки, очень далеких друг от друга.
Частично трансформация проявляется в стиле. С одной стороны, мы отмечаем его обращение к априорному знанию (в “Метафизике”, “Органоне”, даже в “Физике” и “О небе”). Вот типичный пример из сочинения “О небе”, где Аристотель объясняет, почему не может быть более одного мира:
Скажем теперь, почему не может быть и нескольких Небосводов. Этот вопрос, как мы сказали, надлежит рассмотреть на случай, если кто-нибудь считает, что мы еще не доказали для всех тел вообще невозможность нахождения какого-либо из них вне этого космоса и что приведенное выше доказательство имеет силу только в отношении тел с неопределенным положением. Все тела и покоятся, и движутся как естественно, так и насильственно. Естественно они движутся в то место, в котором и покоятся ненасильственно, а покоятся [естественно] в том, в которое и движутся [естественно]. Насильственно они движутся в то место, в котором и [покоятся] насильственно, а покоятся насильственно в том, в которое и движутся насильственно. Кроме того, если данное движение насильственно, то противоположное [ему] – естественно. Так, если к здешнему, т. е. этого космоса, центру земля будет двигаться оттуда, т. е. из другого космоса насильственно, то отсюда туда она будет двигаться естественно, а если…
Здесь не нужны пояснения: перед нами априорные суждения, которые принимаются за “самоочевидно истинные” или выводятся из “самоочевидно истинных” суждений. И вот банальная истина: любая наука должна отталкиваться от неких основных начал, но лишь их явно недостаточно.
С другой стороны, в зоологических работах, а также в “Метеорологике” и “Политике” есть места, основанные на данных или, по крайней мере, ограниченные ими. Вот Аристотель-эмпирик (“О возникновении животных”):
Эмбрионы живородящих животных получают через пуповину все необходимое для роста. У животных душа имеет питающую силу (кроме всего прочего), так что она посылает пуповину, будто корень, в стенку матки. Пуповина состоит из кровеносных сосудов, покрытых оболочкой, причем у крупных животных, таких как коровы, сосудов больше, у маленьких животных он всего один, а у животных среднего размера – два. Эмбрион получает питательные вещества в форме крови через пуповину: многие кровеносные сосуды заканчиваются в матке. Все животные без зубов в верхней челюсти…
В зоологических работах также много дедуктивных суждений, однако они, как правило, опираются на фактические данные. В этом разница между сочинениями двух типов. Для Аристотеля и “О небе”, и “О возникновении животных” относились к физике, а с нашей точки зрения первая работа посвящена философии, а вторая – репродуктивной биологии. И дело не только в стиле изложения. Нередко теория и практика не в ладу между собой. Заметен конфликт и между строгой теорией доказательства из “Второй аналитики” и тем, как сам Аристотель занимается наукой[221]. В эмпирических работах он пользуется иными способами аргументации, но не излагает их четко. Нередко Аристотель обращается лишь к диалектике: вот несколько объяснений и аргументы против, это объяснение выглядит лучше других. Есть и противоречие между тем, что сначала Аристотель настаивает, чтобы каждая отрасль знаний четко отделялась от других, – и сам же нарушает эти границы. Также существует конфликт между таксономическим эссенциализмом[222] “Категорий” и прагматическим отходом от него в “Истории животных”. Если в “Метафизике” он настаивает, что рукотворные вещи очень отличны от животных и что первым не следует предоставлять онтологический статус усии, “сущности” (οὐσία), то в зоологических работах он зачастую механистически описывает живое. К этому я вернусь. Есть конфликт между простотой дихотомий мужчина/женщина и форма/материя, и сложностью его теории наследственности. Есть и конфликт между его антиматериализмом – то есть всей его теорией причин – и верой в самозарождение. Некоторые исследователи считают отдельные или даже все эти конфликты неразрешимыми, другие видят здесь выражение одних и тех же мыслей в различной форме. Я думаю, что они показывают нам философа, столкнувшегося с эмпирической реальностью, или, по крайней мере, с тем, что он за нее принимал.
Возникает соблазн предположить, что эти два Аристотеля относятся к различным периодам его жизни: ранний Аристотель-философ и поздний Аристотель-ученый. Первый сидел под деревом в Афинах и выискивал прорехи в платоновском методе дихотомии, второй на лесбосской пристани ковырялся в куче рыбы. Полагаю, эта точка зрения во многом верна, однако у меня не хватит ни мужества, ни знаний, чтобы указать эти периоды, а тем более попытаться дать хронологию написания текстов[223]. Кроме того, как только мы пошли бы этим путем, нам было бы трудно вовремя остановиться. Скажем, все изучавшие “Метафизику” согласны, что это серия неравнозначных книг, собранных позднейшим составителем. А что насчет очевидных противоречий в трактате “О возникновении животных”? На вид это цельная, хотя и неидеально построенная работа и, чтобы разделить ее, придется резать по живому.
По этой причине я также пытался представить такого Аристотеля, который не противоречил бы самому себе. Если я, раз или два, и допустил, что его тексты не стыкуются из-за того, что со временем он изменил точку зрения на тот или иной предмет, то прибегал я к этому лишь как к последнему средству, своеобразному экзегетическому мечу, которым можно ударить, лишь когда все средства исчерпаны. Верно и другое: стоит отступить на шаг и обозреть корпус аристотелевских текстов, и откроется грандиозное единство. Какими бы несовершенными они ни были, вместе они составляют потрясающе полную систему. И в значительной степени полнота эта обусловлена биологией. Среди всего, что Аристотель изучал и чему мог посвятить жизнь, он избрал живые организмы как предмет, в наибольшей степени достойный внимания. Почти все остальное (метафизика, логика, физика, химия, метеорология, космология, политика, этика, даже поэтика[224]) несет отпечаток его решения отдать приоритет живой природе.
Несложно объяснить и разный стиль аргументации в его сочинениях. Современные философы и ученые принадлежат к разным академическим кастам, которым свойственны резко различающиеся типы аргументации. Но кто сказал, что более чем две тысячи лет назад один человек не мог принадлежать сразу к обеим кастам? Что Аристотель-ученый заменил, а не дополнил Аристотеля-философа? Я думаю, именно таким был Аристотель в момент, когда, гуляя по тропинкам Ликея, начал преподавать.
105
Он преподавал в Ликее около 12 лет. Когда Александр умер в Вавилоне, афиняне возликовали. Дельфийцы некогда чествовали его и Каллисфена за описания победителей Пифийских игр. Теперь же они отказали им в почестях, уничтожив табличку с записями. Аристотель решил уехать. “Я не дам афинянам совершить второе преступление против философии”, – сказал он, памятуя о судьбе Сократа.
Аристотель уехал на Эвбею – большой остров, отделенный от Аттики узким проливом, еще одним euripos. У его семьи по материнской линии там, в Халкиде, были дом и участок земли. Фрагменты писем того времени говорят, что философ проводил время в уединении. Он писал Антипатру[225], что сожалеет об отозванных почестях, но не слишком. В другом месте он пишет: “Чем больше времени я провожу один, тем большую я испытываю тягу к мифам”. Он умер, когда с момента изгнания не прошло и года.
Сохранившееся завещание начинается (по Диогену Лаэртскому) словами: “Да будет все к лучшему; но ежели что-нибудь случится…” Душеприказчиком Аристотель назначает Антипатра и выдает свою приемную дочь за македонского командира Никанора, своего бывшего воспитанника. Герпиллиде (любовнице или второй жене – неясно) Аристотель оставляет поместье, серебро, утварь и несколько рабов. Также он отпускает на волю десяток рабов. Некоторые освобожденные рабы наделяются деньгами и имуществом в виде других рабов. Один из учеников отсылается домой. Аристотель распоряжается об установке статуй в память своих родителей и опекунов. Другие статуи надлежало поставить в храмах Зевса и Афины, чтобы возблагодарить их за безопасное возвращение Никанора из восточного похода. Также Аристотель попросил похоронить его рядом с Пифиадой, первой женой, умершей несколькими годами ранее. Вот и все, что известно об Аристотеле-человеке.
Во главе Ликея встал Теофраст, беседы которого, согласно Диогену Лаэртскому, “посещало до 2 тыс. учеников”. Возможно, это все, кто посещал его занятия в разное время, но и так очевидно, что школа процветала. В завещании Теофраста упоминаются: собственное святилище, посвященное музам, портики с изваянием Аристотеля и картинами, изображающими “всю землю в охвате”, а также “сад и прогулочное место”. Все это Теофраст оставил последователям-философам, чтобы те жили “по-домашнему дружно”. После Теофраста школу возглавил Стратон из Лампсака, по прозвищу Физик. Деятельность ее продолжалась до 86 г. до н. э., когда Сулла закрыл школу[226].
Подножье холма Ликавитос (Ликабет) поросло кустарником. Здешние руины (фундаменты и обломки, выставленные в ряды) вполне понятны лишь археологам. Тенты указывают на то, что здесь работали археологи, но раскоп давно покинут. На улице Ригилис высокая ограда вместе с рядами цветущих жакаранд не даст вам приблизиться к развалинам, но с прилегающей территории Византийского музея вполне можно бросить взгляд через проволочную сетку. Раздражительный охранник может начать приставать, но если вы объясните, на что именно смотрите и почему, он пойдет с вами и, как настоящий афинянин, выкурит сигарету, пока вы осматриваете место, где преподавал Аристотель[227].
Страбон пишет, что Теофраст завещал ликейскую библиотеку Нелею, а тот увез ее в Скепсис, горную деревню у города Ассос на малоазийском берегу Эгейского моря. Согласно Страбону, свитки почти два столетия гнили в пещере, прежде чем были куплены афинским библиофилом. Сулла в качестве трофея забрал свитки в Рим. По всей видимости, так и было. Именно эти тексты в I в. были отредактированы Андроником Родосским и получили известный нам вид. Однако эти копии не могли быть единственными. В течение века после смерти Аристотеля династия Птолемеев собирала Александрийскую библиотеку. В этом собрании определенно имелись работы Аристотеля и Теофраста. Александрия стала научным центром, где расцвели механика, астрономия и медицина. И многие александрийские философы называли себя перипатетиками.
Руины Ликея, Афины, июль 2011 г.
В новой науке имелся, однако, пробел: биология. Были врачи с научным складом ума (Герофил, Эрасистрат), и, позднее, в Риме, энциклопедисты с естественнонаучным складом ума (Плиний), и поэты (Оппиан), и парадоксографы (Элиан), и величайший врач и ученый античности Гален из Пергама. Но не было никого, кто пытался бы, как Аристотель, объяснить живые существа в их многообразии. Никого, кто занимался бы зоологией или ботаникой. Никого, кто видел, подобно Аристотелю, что всякое существо открывает нам “что-то естественное и что-то прекрасное”. Никто не делал это более тысячелетия после него.
106
Но если, как я утверждаю, Аристотель был великим биологом, едва ли есть такая грань нашей науки, которую он не осветил, и если многие из наших теорий построены на его теориях, то почему его надолго забыли?
Конечно, пренебрежение не абсолютно. Авторы учебников биологии изредка выражают почтение (“Аристотель был отцом…”), прежде чем быстро переключиться на следующий предмет. Историки философии изучают его, как они всегда делали и всегда будут делать. Но для биологов он пустое место. Его научные работы и система потеряны для современного знания так же надежно, как если бы их начисто съела моль. И даже если мы слышим, как ученый неожиданно заявляет, что знаком с какими-либо работами Аристотеля, оценка из уст такого человека, скорее всего, будет иррационально, неподобающе жесткой. Питер Медавар, обладатель Нобелевской премии по физиологии и медицине, высказался о книгах Аристотеля так: “Странная, по большому счету довольно утомительная мешанина из слухов, неточных наблюдений, принятия желательного за действительное и доверчивости, доходящей до легковерия”.
Хотя Медавар написал это в 1985 г., по тону это XVII в. Это тон раннего Лондонского королевского общества, членством в котором Медавар по праву гордился. Этот анахронизм объясняет все: оскорбления нацелены не на Аристотеля как отца науки, а на Аристотеля как величайшего врага науки. Это была предназначенная для нового поколения реконструкция мифа о происхождении современной науки. В этом мифе Аристотель был великаном, которого нужно убить, чтобы мы могли миновать Сциллу и Харибду философии и достичь лежащего за ними моря научной истины. Аристотель в нем немногим более чем бесконечно богатый источник эмпирических, теоретических и методологических ошибок. Этот же миф объясняет и отсутствие фигуры Аристотеля в научном пантеоне рядом с Линнеем, Дарвином и Пастером, и то, почему один ученый из тысячи не может вспомнить (и уж тем более четко изложить) хотя бы один результат из его научных работ. Я называю это мифом, и настолько, насколько история вообще важна для нас, он определенно пагубен, поскольку пренебрегает всем, чем мы обязаны Стагириту. В нем лишь одно правда: наука Аристотеля стала главной жертвой научной революции. Можно даже сказать, что современная наука воздвигнута на руинах аристотелевской.
107
За 23 столетия, прошедших после смерти Аристотеля, его множество раз забывали и вновь открывали. В раннесредневековом христианском мире забвение было почти полным. Фрагменты “Органона” в Византии еще читали, но “Метафизику”, “Поэтику”, “Политику” и естественнонаучные книги – уже нет. Переоткрытие случилось во многом из-за Реконкисты. В 1085 г. Толедо, жемчужина Аль-Андалуса, был захвачен Альфонсо VI. Среди сокровищ находилась и основная часть аристотелевских сочинений (на арабском языке), вместе с пересказами и комментариями перса Авиценны и андалусийца Аверроэса. После перевода работ Аристотеля на латынь Майклом Скоттом они начали циркулировать в Европе. Их судьба в следующие 400 лет отмечена двумя примечательными событиями. В 1210 г. Парижский университет под страхом отлучения от церкви запретил изучение натурфилософии Аристотеля на артистическом факультете. А в 1624 г. Парижский парламент по требованию теологического факультета того же университета запретил под страхом смертной казни изучение любой доктрины, противоречащей аристотелевской. Власти запрещают что-либо, когда чувствуют угрозу ортодоксии, – и всегда опаздывают.
Обаяние Аристотеля оказалось непреодолимым для средневековых мыслителей. Даже парижский запрет распространялся лишь на артистический факультет, а богословы все еще могли его читать, что они и делали. В 1245 г. Альберт Великий, доминиканец, получивший должность профессора в Париже, начал, пользуясь переводами Скотта, составлять обширный пересказ и комментарий к аристотелевским работам. Через несколько десятилетий Фома Аквинский, ученик Альберта, взялся за собственный, столь же амбициозный проект по синтезу аристотелевской метафизики и христианской теологии. Фома упразднил аристотелевское деление философии на первую и вторую, теологию и физику (это было нетрудно, учитывая, что разделение нечетко провел сам Аристотель), и превратил натурфилософию в ветвь теологии. Бог Фомы, primum movens immobile, есть неподвижный двигатель Аристотеля, и телеология его этики[228] также аристотелевская. Триумф томистов сделал философию Аристотеля высшей истиной. Данте называет Аристотеля “учителем тех, кто знает” (“Ад” IV, 131). Ценой успеха философии стало забвение науки. Вслед за Фомой Аквинским схоласты из Оксфорда, Коимбры, Падуи и Парижа бесконечно перебирали сущности, формы и материи, категории и остальные детали метафизической машины древнего грека. Их методом стал диспут, их фракции были бесчисленны, сочинения шли нескончаемым потоком, а выводы в них наводили скуку. Многое из этого вообще не было аристотелевским по духу. Томисты царили в европейских университетах три столетия.
Были, разумеется, и отклонения от томистской ортодоксии. В XVI в. мыслители, как правило, не из университетов, критиковали схоластов – с позиций стоиков, платоников или эпикурейцев, а также с принципиально новых. В Вармии [север Польши] Коперник предложил новую космическую геометрию, в Калабрии Бернардино Телезио набросал основы материалистического космогенеза. Из-за тесной связи натурфилософии и теологии такие новации были рискованными. Неаполитанского монаха Джордано Бруно, разработавшего пантеистическую космологию, в 1600 г. сожгли на костре.
Галилей обосновывает свою картину мира в “Диалоге о двух системах мира” (1632). В беседе участвуют сторонник Галилея Сальвиати, Сагредо (убеждаемый нейтральный персонаж) и аристотелист Симпличио. Прообразом последнего считается Чезаре Кремонини, падуанский профессор натурфилософии. В свое время он отказался от предложения Галилея взглянуть на Луну в телескоп, мотивируя это тем, что наличие там гор означало бы неидеальность ее поверхности, подверженность порче, а Аристотель эту возможность отрицал. Этот подход обычен для считавших себя последователями Аристотеля, но, как отмечает Галилей, нехарактерен для самого Аристотеля.
108
Физическая система Аристотеля серьезно пострадала от новых ученых. К середине XVII в. его космология и теория движения устарели. Его химия сопротивлялась дольше, а биология, прочно подкрепленная эмпирическими данными, держалась лучше всего. Даже в XIII в. Альберт Великий делал из нее верные выводы. “Цель естествознания, – писал он, – не просто принятие чужих утверждений, а исследование действующих в природе причин… Опыт – единственный безопасный проводник в таких исследованиях”. Он добавил в свой разбор аристотелевской зоологии много данных о животных, которые отчасти добыл сам, отчасти позаимствовал. Сравнивая, как идеи древнего грека используют Альберт и Фома, трудно не заключить: из-за того, что Фома затмил Альберта, развитие естествознания на века замедлилось.
Это ощущение укрепится, если вспомнить, что в XVI в. биология Аристотеля помогла прорвать оборону схоластики. В 1516 г. Пьетро Помпонацци, профессор из Болоньи, опубликовал трактат “О бессмертии души”, в котором настаивал, вопреки томистской доктрине бессмертия души, возведенной в ранг догмы на Пятом Латеранском соборе (1512), на смертности души[229]. Книга Помпонацци подверглась в Венеции сожжению, и лишь могущественные друзья и осторожная защита своих взглядов уберегли автора от судьбы собственного творения. В 1521 г. Помпонацци публикует “Трактат о питании и росте”, опиравшийся на работу “О возникновении и уничтожении” Аристотеля. Затем итальянец стал читать учебный курс, основанный на материале “О частях животных” – впервые со времен античности. “Я не хочу учить вас, – говорил своим слушателям, судя по записям ученика, этот очаровательный человек, – я пришел сюда не потому, что знаю больше вас, а потому, что я старше. Любовь к науке привела меня сюда, поэтому я готов подвергнуться резкой критике и хочу, чтобы вы учили меня”. Это не был курс зоологии в прямом смысле слова. Помпонацци, обсуждая описание Аристотелем мигательной перепонки у птиц (вполне корректное) в трактате “О частях животных”, жаловался, что, препарируя цыпленка, не смог ее найти: “Я потерял курицу и не нашел ничего!”
Помпонацци (и это было необычно для схоласта) получил в Падуе степень по медицине. Следующие несколько десятилетий анатомы с медицинских факультетов Падуи и Болоньи – Везалий, Фабриций, Фаллопий, Коломбо и Евстахий – вскрывали трупы. В этом они апеллировали к другому авторитету древности – Галену, но охотно обращались и к Аристотелю. В 1561 г. Улиссе Альдрованди стал первым в Болонье профессором естествознания (с пышным латинским титулом lectura philosophiae naturalis ordinaria de fossilibus, plantis et animalibus[230]). Он создал ботанический сад, музей и стал упорядочивать аристотелевскую зоологию, как и все другие доступные ему материалы, в виде энциклопедии. Ипполит Сальвиани, Пьер Белон, Гийом Ронделе и другие натуралисты ходили по рынкам Рима и Монпелье и классифицировали рыбу. Это не было отказом от науки Аристотеля – лишь ее переоткрытием.
Анатомы и натуралисты XVI в. оставили аристотелевские теории в основном нетронутыми. Впервые нанесли по ним заметные удары гарвеевская демонстрация существования кровообращения (1632)[231] и изучение о зарождении животных из яйцеклетки. Уильям Гарвей одновременно и учитывал взгляды Аристотеля, и наблюдал все своими глазами:
Постижение природы вещей посредством рассмотрения самих вещей, а не с помощью книг, – путь во многом новый и трудный, и он требует сопоставления добываемых нами знаний авторитетному мнению философов. И все же признаемся, что этот новый путь в гораздо большей степени подает надежду и в меньшей степени способствует обману, особенно при раскрытии тайн естествознания.
Как это верно! И в то же время Гарвей сообщал Джону Обри, что он предпочитает чтение Аристотеля чтению “гадящих задниц”, к коим причислял и Декарта.
Эмпирические результаты Аристотеля легли в основу современной биологии, однако предложенные им объяснения того, как устроены животные, оказались уязвимыми со стороны его физики. Привлекательность аристотелевского естествознания заключается именно в удивительном его переплетении с физикой. Как я говорил, Аристотель не придерживался онтологического редукционизма: он никогда не сказал бы, что ребенок или каракатица – это просто материя. И действительно, форма для Стагирита важнее, чем материя. Он, однако, сторонник теоретического редукционизма, поскольку считает, что феномены более высокого уровня объяснимы с точки зрения физики. То есть сын напоминает отца, потому что форма отца сформировала ребенка в эмбрионе. Звучит несколько загадочно, но может быть объяснено через физическое воздействие пневмы, а также нагрева и охлаждения материальной субстанции, очевидно из семенной пены. Стройная конструкция, верно? Но изымите из нее пневму, и конструкция развалится. Уничтожьте аристотелевскую теорию движения – и утратит смысл работа “О движении животных”. Лишите четыре начала их “природы” – и физиология в книгах “О долгой и краткой жизни”, “О молодости и старости”, “О жизни и смерти” и “О частях животных” перестанет быть убедительной. Возродите атомизм – и остановится механизм из книги “О возникновении и уничтожении”. Заставьте Землю вращаться вокруг Солнца – и выйдет из строя небесный двигатель (“О небе”). Наконец, лишите мир его вечности – и все живое утратит смысл существования.
И все же причиной забвения науки Аристотеля не стали ни опровержение его физики, ни то, что аристотелизм ассоциировался со схоластикой, ни его зоологические заблуждения. Краеугольным камнем новой философии стало убеждение, что порочна, по сути, его система объяснений. Это привело к тому, что если Аристотеля и вспоминают как ученого, то не как конструктора величайшей научной системы, когда-либо созданной в одиночку, да и просто первой в истории, а лишь как некоего безликого древнего, едва отличимого от Плиния. Медавар, понимая это, указывает на одного человека – и даже чествует его – за то, что тот более, чем кто-либо, сделал для разрушения репутации Аристотеля. Знакомьтесь: Фрэнсис Бэкон.
109
Будущий лорд-канцлер Англии навис над Стагиритом, как стервятник над добычей. Сам Бэкон ученым не был: он являлся теоретиком и самым страстным пропагандистом новой философии. В многословных оборотах его труда “О достоинстве и приумножении наук” (1605) сквозит враждебность к Аристотелю:
…Вызывает удивление самоуверенность Аристотеля, который из какого-то духа противоречия объявляет войну всей древности и не только присваивает себе право по своему произволу создавать новые научные термины, но и вообще старается уничтожить и предать забвению всю предшествующую науку, так что нигде даже не упоминает ни самих древних авторов, ни их учений, если не считать, конечно, тех случаев, когда он критикует их или опровергает их точку зрения[232].
По словам Бэкона, Аристотель “по обычаю турок считает, что он не может царствовать в безопасности, если не уничтожит всех своих братьев”[233].
Нельзя отрицать: Аристотель был щедр на критику и скуп на похвалу. Ну и что? Задача ученого заключается также и в том, чтобы не соглашаться. При этом все книги Аристотеля начинаются с изложения мнений предшественников, и лишь после этого он переходит к собственным соображениям по теме. Этой схемой ученые пользуются до сих пор[234]. Как отмечал Бертран Рассел, Аристотель стал первым, писавшим как профессор.
Бэкон преследовал несколько целей. Он желал связать Стагирита со сварливыми схоластами, полагавшими себя последователями Аристотеля, и противопоставить их бурные споры научной дискуссии нового, более цивилизованного рода, которая, по его мнению, пришла на смену. (Правда, собственные работы Бэкона вряд ли служат удачным примером.) Он также обвиняет Аристотеля в несправедливом отношении к подлинным, по Бэкону, научным героям античности: натурфилософам.
В “Новом Органоне” (1620) англичанин заявил, будто Стагирит подтасовывал факты:
Пусть не смутит кого-либо то, что в его книгах “О животных”, “Проблемы” и в других его трактатах часто встречается обращение к опыту. Ибо его решение принято заранее, и он не обратился к опыту, как должно, для установления своих мнений и аксиом; но, напротив, произвольно установив свои утверждения, он притягивает к своим мнениям искаженный опыт, как пленника. Так что в этом отношении его следует обвинить больше, чем его новых последователей (ряд схоластических философов), которые вовсе отказывались от опыта[235].
Томас Спрат (“История Королевского общества”, 1667) и Джозеф Гленвилл (“Дальше пределов”, 1668) вторили этому обвинению. Особенно едко высказывался Гленвилл: Аристотель, “выдвигая теории, не рассматривал опыт… В его обычае было… выбирать то, что поддерживало его сомнительные суждения”.
Наиболее серьезное обвинение Бэкона касается системы объяснений. Из четырех причин, на необходимости которых настаивал Стагирит, Бэкон исключает две: формальную и целевую. Натурфилософов должны беспокоить лишь свойства и движение материи, полагал англичанин. Объяснения наподобие “брови и ресницы… существуют ради защиты; брови – от спускающихся вниз жидкостей, чтобы наподобие навеса защищать от влаги, стекающей с головы; ресницы же – от падающих на глаза предметов”, или “волосы, покрывая голову, оберегают ее от чрезмерного холода и жара”, или кости созданы природой как своего рода колонны и балки, чтобы на них держалось все здание тела, – по Бэкону, не наука, а метафизика. Эти “рассуждения, подобно фантастическим рыбам, присасывающимся к кораблям и мешающим их движению, замедлили… прогресс наук, мешая им следовать своим курсом и двигаться вперед”, то есть затрудняют открытие подлинных (физических) причин явлений.
Атаку на формы Бэкон повел тоньше. По его словам, бесполезно исследовать форму льва, дуба, золота, даже воды и воздуха. Формы в натурфилософии присутствуют, но лишь как набор основных свойств материи, доступных ощущению (тяжесть – легкость, тепло – холод, твердость – мягкость и т. д.). Формальные свойства Бэкон выводил из корпускулярной теории. Так, по Бэкону, тепло – это движение, имеющее место тогда, когда частицы и движутся, и в то же время некоторым образом скованы. Он, очевидно, рисовал в воображении тепловой “закон”, связывающий движение частиц (корпускул) с температурой. Бэкон обошел вопрос, как при помощи простых свойств получаются сложные объекты: золото, львы. Но он был скорее озабочен выработкой основополагающих принципов, нежели применимыми теориями. Впрочем, основная мысль ясна: Бэкон предлагал радикальный неаристотелевский онтологический редукционизм, в котором оставалось место лишь для движения и материальных причин явлений. Бэкон принялся искать среди древних предшественника – и нашел его. Демокрит должен был стать кумиром новой научной эпохи.
Неприятие Бэконом Аристотеля и аристотелизма (он почти не делает различий между Стагиритом и его последователями) выросло также из особого видения цели науки и объекта исследования. С точки зрения Бэкона, наука нужна не только для познания мира, но и для его преобразования. Соответственно, объектом изучения следует избрать скорее искусственное, нежели естественное. Бэкон был энтузиастом технического прогресса, считал философию Аристотеля “богатой словами, но бесплодной в делах” и требовал механистической натурфилософии, опирающейся на фундамент целостной физики, которая объяснила бы движения объектов и естественных, и рукотворных. (Вскоре Ньютон выдвинул такую теорию.)
В биологии активным сторонником механистического подхода был Декарт. Животные и растения, провозгласил он, не имеют души: они лишь автоматы. Доктрина эта получила название bête machine, “животное-машина”. Декарт свел сложные аристотелевских изменений к локальным и построил свою физиологию на корпускулярном подходе, позаимствованном у Пьера Гассенди и Исаака Бекмана. Его математическая физика была значима, но в анатомии он не преуспел и не сделал никаких открытий в биологии. (Декарт спорил с Гарвеем по поводу сокращений сердечной мышцы и проиграл.) Его телеология теистическая: да, животные суть машины, но эти изумительные машины сотворил Бог. Столь откровенное сравнение животных с автоматами в пору всеобщего увлечения механикой получило широкий резонанс. На первый взгляд, это позволяло избавиться от неясностей, связанных с понятиями растительной и чувствующей души у Аристотеля (они и у схоластов представлены довольно неясно), и открыло дорогу экспериментальному изучению животных. В 1666 г. датский анатом Нильс Стенсен писал:
Не кто иной как Декарт в механистической манере объяснил устройство всего человеческого тела, в первую очередь устройство мозга. Остальные описали нам самого человека. Декарт же говорит о машине, что одновременно и указывает нам на несостоятельность других подходов, и демонстрирует метод изучения устройства частей тела так же наглядно (курсив мой. – А. М. Л.), как он описывает части механического человека.
Животное-машина напрягло мышцы и издало громкий вопль.
Таковы интеллектуальные течения, которые в XVII в. смыли аристотелевскую науку. С тех пор она знала и взлеты и падения. Зоологи всегда относились к ней с уважением. В XIX в. Кювье, Мюллер, Агассис и многие другие даже создали нечто вроде культа[236] Стагирита. Для них Аристотель был и прославленным прародителем с острым глазом в отношении зоологически любопытных сведений, и авторитетом, пригодным в борьбе с оппонентами, и даже богатым источником разъяснений. (По крайней мере, мне так кажется.) В XVIII–XIX вв. телеологию извлекли из метафизической мусорной корзины, куда ее отправили Бэкон и Декарт. В определенных научных кругах, особенно среди немецких зоологов, причину, обусловленную достижением цели, вновь начали воспринимать как вполне респектабельную. Впрочем, для его собственной репутации это оказалось вредным. Связь телеологии с витализмом возродила бэконовское обвинение в том, что наука Аристотеля немеханистична. Известный своими промахами эмбриолог Ганс Дриш даже написал историю витализма, возведя его к Аристотелю. Биологи XX в. бичевали витализм еще долго после того, как исчезли его следы. Еще в 1969 г. Фрэнсис Крик писал: “Я могу предсказать всем потенциальным виталистам: то, во что вчера верил каждый и во что вы верите сегодня, завтра будет пользоваться доверием лишь у психов”. Эрвин Шредингер, опубликовавший в 1954 г. небольшую книгу “Природа и греки”, просто остановился на Демокрите. Зачем утруждать себя, если Аристотелю нечего сказать современной науке?
110
Бэкон и его последователи утверждали, что и методы и объяснения Аристотеля ошибочны. Но справедливы ли эти тяжкие обвинения? Ведь представления о научном истолковании явления и о том, как его составить, изменяются. Поэтому, возможно, мы способны увидеть в Аристотеле то, что упустили наши предшественники: каждое поколение должно прочитывать Аристотеля заново[237].
То, что Аристотель провел бесчисленное множество наблюдений за природой, очевидно всякому, кто читал его книги (с этим соглашались даже члены Королевского общества). Но если вы прочитаете книги Аристотеля по биологии, то, возможно, удивитесь, по поводу чего негодовали Бэкон и Гленвилл. По их словам, Аристотель ставил опыты, но злоупотреблял их результатами, используя их лишь для подтверждения того, что он уже знал (или ему так казалось). Злоупотребление экспериментальными данными, однако, обескуражит меньше, чем совершенное их отсутствие.
Причина неразберихи – семантическая. В XVII в. термин “опыт” (experiment) означал любое изучение природного явления, предполагавшее вмешательство изучающего в изучаемое. Таким, по сути, было исследование Аристотелем эмбриогенеза у курицы, в ходе которого он подбирал яйца на нужной стадии формирования, аккуратно удалял оболочку и прокалывал эмбрион, чтобы увидеть сердце. Другим “опытом” было морение голодом скота с последующим его удушением, что делало видимым сосудистую систему. Были и другие примеры, такие как вивисекция черепах и выкалывание глаз ласточкам. Аристотель иногда и сам обозначает, что именно пытался сделать, используя термин pepeiramenoi. Аристотель пишет: “Мы утверждаем на основании опыта, что [морская вода], превращенная в пар, когда [этот пар] вновь сгущается, оказывается пресной и что морская [вода] из пара не образуется”[238]. По крайней мере, слово pepeiramenoi часто переводят так: “опыт”.
Современные ученые смотрят на это строже. Такие манипуляции, – скажет наш современник, – это просто наблюдения, выполненные с использованием замысловатой техники. Эксперименты определяются не техникой, а их логической структурой. Настоящий эксперимент – это сравнение управляемых ситуаций с неуправляемой, контрольной ситуацией, а целью является проверка гипотезы о причинно-следственной связи. В работах Аристотеля, с сожалением заключит он, нет экспериментов такого рода[239].
Почему? Аристотель определенно понимал логику эксперимента, он постоянно обращался к тому, что мы сейчас называем экспериментом в естественных условиях. Те устрицы, что перевозились с Лесбоса на Хиос, не размножались на новом месте. Следовательно, заключал он, размножение устриц зависит не только от присутствия устриц, но и от правильной грязи, и, значит, они саморождаются в ней. Вывод правдоподобный, но не бесспорный. Возможно, вода у Хиоса была слишком холодной для устриц, или они размножались, но юные устрицы быстро погибали, и их не удавалось обнаружить, или… на ум приходит сразу дюжина объяснений. Экологи и эволюционные биологи часто говорят об экспериментах в естественных условиях, поскольку им сложно изменить ход эволюции или повлиять на развитие экосистемы. Но, как любит добавлять известный эколог Мик Кроули, “суть экспериментов в естественных условиях в том, что это вообще не эксперименты”. Он имеет в виду, что в настоящем эксперименте единственные переменные, которые различаются у контрольной и основной групп – это те, которыми управляет экспериментатор. Когда же вы полагаетесь на природу, то не можете быть уверены, куда именно она сунула нос.
Возьмем, например, сообщения Теофраста о том, какие сорта пшеницы где лучше растут. Если бы их высаживали там намеренно, могли бы получиться эксперименты по взаимной пересадке. Можно было бы подтвердить и его вывод о том, что сорта пшеницы различаются из-за наследуемых признаков. Но Теофраст не делал опыты намеренно, поэтому его вывод (скорее всего, верный) довольно слаб. В самом деле, кто знает, как крестьяне их выращивали? Если начнете им верить, закончите тем, что поверите и тому, что из пшеницы может вырасти плевел. Аристотелевская версия эксперимента по пересадке еще интереснее. Чтобы определить, обусловлено ли бесплодие пары проблемами мужчины, философ предлагал позволить этому мужчине совокупиться еще с одной женщиной помимо жены и посмотреть, появится ли потомство. Это уже похоже на эксперимент. (И он даже был бы совершенным, если бы Аристотель порекомендовал сделать его двухсторонним.) Но эксперимент так и остался предложением. Перефразируя Кроули, скажем: “Суть мысленного эксперимента в том, что это…”.
Не то чтобы эксперименты технически трудны. Действительно ли мухи саморождаются в гниющем мясе? Все, что нужно – это пара кувшинов, немного свежей рыбы и тряпки из тонкой материи. Франческо Реди в XVII в. обошелся этим инвентарем. Действительно ли эмбрион четвероногого животного возникает из сгустка семени и менструальной жидкости? Если так, то сгусток должен быть видим в рассеченной матке недавно забеременевшего млекопитающего, то есть для эксперимента достаточно умерщвленной овцы. Аристотель не стал проверять свои утверждения, а Уильям Гарвей – стал[240].
Вернемся к Аристотелю. Иногда историки объясняют его отказ от настоящего эксперимента особым взглядом на мир. Если вы проводите, как Аристотель, резкую границу между изменением естественным и неестественным, то управляемый эксперимент, явно включающий неестественное, вряд ли сможет пролить свет на естественное. Возможно, в этом что-то есть. После смерти Аристотеля греческие инженеры создавали очень сложные устройства. Герон Александрийский (I в.) описал гидравлическую машину, в которой стайка бронзовых птиц прекращала петь, когда к ним поворачивалась бронзовая сова. Склонные к механике александрийцы также были более склонны проверять свои физические теории. В “Пневматике” Герона изложена экспериментальная программа, вполне достойная Роберта Бойля[241].
Возможно, причина, по которой Аристотель не катал, подобно Галилею, шары по наклонной плоскости, заключается в концептуальной структуре его физики, не позволявшей ему делать подобное[242]. Но почему он не попросил какого-нибудь крестьянина скрестить белого барана с черной овцой, чтобы узнать, каким получится потомство? Это определенно не было бы вмешательством, и он понимал подобную логику, как видно из рассказа о ветренице из Элиды. Результаты такого эксперимента точно дали бы ему пищу для размышлений о модели наследственности[243].
И действительно: если бы Аристотель поставил хотя бы несколько простых экспериментов, он определенно сделал бы меньше ошибок. Впрочем, понимать логику эксперимента – это одно, а видеть здесь столбовую дорогу к истине – иное. Можно ли счесть метод Аристотеля соответствующим тому, что мы теперь признаем наукой? Метод Платона определенно не позволяет его теориям считаться научными: кроме прочего, ему свойственно пренебрежение эмпирической реальностью. Труднее охарактеризовать методы натурфилософов: мы слишком мало знаем о том, чем конкретно они занимались. У Аристотеля, однако, имелся собственный метод добывания истины из эмпирических данных, притом довольно сложный. И очень похожий на тот, которым пользуемся мы.
111
Известны два радикально различных подхода к эмпирическому исследованию. В рамках первого подхода (лучше известного нам) гипотеза проверяется с помощью тщательно спланированных, критически оцениваемых экспериментов. Именно этот подход исповедовали и пропагандировали учредители Лондонского королевского общества. Второй известен не так широко, однако он не менее важен. Накапливаются данные, отыскиваются закономерности и предлагаются каузальные объяснения. Некогда этот подход применялся лишь в “исторических” науках, где затруднительно поставить управляемый эксперимент: в космологии, геологии, палеонтологии, экологии и эволюционной биологии. Однако ситуация изменилась.
Первый подход преобладал в биологии в XX в. Сначала ученый определял объект исследования – скажем, некий ген некоего существа, который казался ему особенно интересным. Затем ученый придумывал, как измерить уровень его активности, пробовал им манипулировать, инактивировать его или, напротив, заставить его сверхэкспрессировать, чтобы он проявил себя неожиданным образом и в неожиданных местах. После этого ученый мог увидеть, как манипуляции повлияли на фенотип исследуемого существа или, возможно, на поведение других его генов. Правда, за многими генами одновременно вы проследить не могли, поскольку каждый опыт был сложным, дорогим и долгим. Это заняло бы годы, а закончив, вы опубликовали бы статью примерно с таким заглавием: “Гены TGF-β и DBL-1 контролируют экспрессию гена белка LON-1, продуцирующегося в случае атаки патогенов и регулирующего полиплоидизацию и длину тела нематоды”[244].
Авторы этой работы (и тысяч ей подобных) сравнили длинных (мутировавших) червей с обычными и указали роль нескольких генов в определении длины тела. Морита и его коллеги хорошо понимали, что нашли всего несколько причинно-следственных связей из множества способных повлиять на длину тела червя. И поскольку ученые были уверены в своих результатах, они посчитали верным свое каузальное объяснение. Каким бы скромным ни было открытие, в сочетании с тысячами подобных оно должно было дать нечто важное.
Теперь эта работа выглядит архаичной. Изучение всего нескольких генов за один раз вышла из моды. Сейчас не представляет трудности выделить тот или иной интересующий нас ген. Один-единственный секвенатор ДНК может выдавать 54 гигабаз последовательностей нуклеиновых кислот (сиквенсов) в день[245]. Это примерно 16 геномов человека каждый примерно по 25 тыс. генов. Анализ экспрессионного чипа (кДНК-чипа), если вы правильно подготовите для него образец ткани, покажет, какой из 25 тыс. генов в этих тканях активен и в которой степени. Другие технологии позволят изучать тысячи метаболитов или белков за один раз. Биологи говорят об -омиках: геномике, транскриптомике, метаболомике, протеомике, но значит это лишь одно: данные, много, много данных. Вот типичная работа по “-омике”: “Метаболические признаки продолжительного срока жизни нематод”[246].
Авторы сравнили мутировавших долгоживущих нематод с обычными и описали множество различий между их метаболитами. Вроде бы много общего с работой Мориты: те же черви (C. elegans), та же лаборатория (моя), те же проблемы – рост и старение. Но метод совершенно иной. Там, где первая группа детально изучает всего несколько генов, вторая более поверхностно обращается к сотням метаболитов. Последствия для выводов, которые можно сделать на основе полученных данных, очень разнятся, и это нашло отражение в заголовках. Авторы первой работы говорят о “контроле”, второй – лишь о “признаках”. Им удалось найти множество различий долгоживущих и короткоживущих червей одного вида, но у них нет представления, какие отличия важны и какие действительно удлиняют жизнь. Неясно даже, есть ли такие отличия среди обнаруженных Фукс и ее коллегами – авторами второй статьи. Технологии дали ей полноту сведений, но пришлось пожертвовать причинной обусловленностью. Конечно, исследователи (я в их числе) не пришли от этого в отчаяние. Мы проанализировали данные, нашли закономерности и построили модель причинно-следственных связей, которая, как мы наивно полагаем, может содержать крупицу истины. Но наша группа охотно готова признать, что наверняка мы не знаем.
Вторая работа следует второму из упомянутых подходов к эмпирическому исследованию. Он типичен для эпохи “больших данных” и внедряется в социологию, историю культуры, инженерное дело и экономику. Метод в данном случае всегда один: собрать все, какие возможно, данные, упорядочить их согласно той или иной классификации, сделать наглядной их структуру, построить модель причинно-следственных связей. И хотя инструменты (многомерное шкалирование, построение сетевых графов, самоорганизующиеся карты Кохонена и т. д.) новы, стоящий за ними подход очень стар. Это аристотелевский подход.
Вообразите, что вы, наткнувшись на огромную область объектов, подлежащих изучению, открыли новый мир, а не изучаете то, с чем уже работали предшественники. Все это море объектов прекрасно в своем беспорядке, крайне интересно в своей упорядоченности и весьма неясно в плане причинно-следственных связей. Технологии наших дней (например, улучшенные системы секвенирования, более быстрые компьютеры, более крупные телескопы) предлагают нам новые миры. Аристотель не нуждался в этих технологиях. Все, что ему требовалось для того, чтобы найти огромную область, которую никто еще не изучал, это пройтись по пляжу. “История животных” представляет собой хранилище “больших данных” античности. Не таких уж и “больших”, скажете вы. Возможно! Но вот 158 “политий”: история и характеристика не менее 158 эллинских и “варварских” государств. Выглядит впечатляюще даже сегодня. Именно эти данные легли в основу другой важной работы Аристотеля: “Политики”.
Кроме того, в рамках двух обозначенных подходов к эмпирическому исследованию по-разному организованы отношения между теорией и данными. В первом случае опытным путем проверяется конкретная гипотеза. Результат опыта или расходится или не расходится с гипотезой. Во втором случае излагаются факты, и вы позволяете данным “самим говорить за себя”. Конечно, то, что они “скажут”, значительно зависит от ваших предпочтений и взглядов. Гленвилл, жаловавшийся на то, что Аристотель искажает “опыт и подбирает то, что поддерживало его сомнительные суждения”, верно указал опасность. Мы гораздо лучше Аристотеля знаем, что любая эмпирическая закономерность может объясняться различными моделями, подверженными той же ошибке. Именно поэтому необходимы оба указанных подхода. Анализ данных и поиск закономерностей дает модели, а целевые эксперименты говорят нам, верны эти модели или нет. Многие ученые применяют оба подхода.
Кроме недостатка сильных выводов о причинной зависимости, второй, аристотелевский, подход уязвим и еще в одном отношении. Обилие данных предполагает обилие малодостоверных данных, особенно если сведения получены из самых разных источников (назовем это “принципом «Википедии»”). Огромная база данных Genbank, в которой биологи размещают полученные последовательности ДНК, печально известна своими ошибками. Но ученых это не останавливает. Они берут данные, проверяют их так тщательно, как только могут, и надеются в итоге добыть истину. Это очень по-аристотелевски. Стагирит делает сотни фактических утверждений, которые, как он должен знать, основаны на сомнительных данных. Возможно, это было сделано сознательно. Масса эмпирических данных служит Аристотелю материалом для обобщений и установления причинно-следственных связей (последнее и было его целью). Кажется, Аристотель чувствовал, что приз в виде их обнаружения стоил риска включения в работы сомнительных данных. Сведения о поведении животных, почерпнутые у прорицателей, ненадежны, однако они иллюстрируют отношения в животном мире: иногда конкурентные, иногда – хищника и жертвы. Этого может быть достаточно для важных обобщений: вражда животных обостряется по мере уменьшения доступности пищи. В трактате “О небе” Аристотель предполагает, что мы должны строить теории и тогда, когда свидетельства слабы, а объект исследования очень далеко. Когда такие ученые оказываются правы, история называет их смелыми, а когда нет – неосторожными.
112
Есть мнение (и, кажется, очень распространенное), что объяснения Аристотеля в некотором отношении ненаучны. Иногда говорят, что его обращение к “причинам” вещей опирается лишь на себя. В “Мнимом больном” (1673) Мольера шарлатаны объясняют (в духе Аристотеля), что опиум вызывает сон потому, что обладает вызывающим сон началом. С тех пор подобные аргументы воспринимаются (и справедливо) с насмешкой. Также говорят, что аристотелевские “причины” обладают “творческим началом” и даже “сверхъестественной силой”. По отношению к биологии Аристотеля это вежливый способ сказать, что он виталист (впрочем, многие называли его так и прямо). Есть и считающие, что целевая и формальная причины и есть “творческое начало” и “сверхъестественная сила”, и им не место в современной науке.
Все эти бесконечные обвинения – эхо научной революции. Часто их произносили недоброжелатели Аристотеля, притом такие, кто почти ничего не знал о том, что он делал и писал. Впрочем, и те, кто был хорошо знаком с его текстами и испытывал к ним уважение, иногда думали, что его объяснения несостоятельны (например, Уильям Огл или Дарси Томпсон). Томпсон через семь лет после публикации перевода “Истории животных” напечатал странную и притягательную книгу “О росте и форме”: хвалебную песнь Демокриту.
В последние полвека ученые лучше, чем когда-либо, оценили объяснительный потенциал аристотелевской биологии. В этой книге я показал кое-что из найденного ими. Их открытия вкупе с изменением нашего взгляда на природу требуют ревизии приведенных выше обвинений в адрес Аристотеля.
Утверждение, что аристотелевские объяснения не только неверны, но и ненаучны, восходит к давнему утверждению, что они немеханистичны. Примем, что научное объяснение (неважно, древнее или современное) явления должно быть механистичным или допускать возможность такого истолкования. Большинство ученых не увидит здесь противоречия. Вопрос в том, что значит механистический?
Термин довольно неясный. Мы определенно можем согласиться, что механистическое объяснение должно быть по крайней мере выражено в физических терминах. Но далее взгляды расходятся. Вот несколько определений – по-моему, неверных. Например, некоторые философы и историки требуют, чтобы такая физическая теория была верной или хотя бы подробной – как ньютоновская механика или атомизм. Подобные ограничения явно антиисторичны. С чего бы какой-либо физической теории быть в привилегированном положении? Физические теории приходят и уходят. Открытие субатомных частиц сделало химический атомизм Джона Дальтона излишним, даже неверным. Но он не стал немеханистичным, тем более ненаучным.
Механистическими объяснениями часто считаются те, которые не упоминают целевую и формальную причины Аристотеля. Но определенные сложные явления требуют объяснения через целевую и формальную причины. Механистические объяснения ими не исключаются, а скорее дополняются. Другие философы требуют, чтобы механистические объяснения содержали прямое сравнение с механизмом – скажем, шкивом или часами. И этот подход ограничен. Спросите биолога, как в клетке образуются молекулы белков, и он расскажет о рибосомальном аппарате. Спросите, что напоминает рибосома, и он скажет, что она похожа на сиди-проигрыватель, поскольку может перекодировать записанную в физической форме информацию, и одновременно на нечто вроде локомотива, поскольку может перемещаться по “рельсам” (матричная РНК). Биолог признает бессодержательность таких сравнений, ведь люди никогда не создали ничего подобного рибосоме и уж точно не создали ничего столь сложного. Несмотря на то, что здесь неоправданны прямые сравнения, физический подход вполне уместен.
Поэтому я предлагаю определение: механистическое объяснение – это объяснение явления в терминах физической теории, господствующей в конкретную эпоху. И если мы примем его, аристотелевская биология окажется полна таких объяснений. Именно механистическими объяснениями являются два из четырех пунктов системы объяснений: движущая и материальная причины. Аристотель, конечно, всегда говорит, что природа животного в том, чтобы делать то или это. Остановись он на этом, и его объяснения действительно были бы бессодержательными или неясными – но Стагирит на этом не останавливается. Он продолжает, объясняя “как” и “почему” действует природа того или иного животного.
Выше я привел сообщения Аристотеля о пяти взаимосвязанных биологических процессах: 1) система питания, с помощью которой животное поглощает сложную материю из окружающей среды, изменяет ее свойства и распределяет эту материю в различные ткани так, чтобы они могли расти, разрастаться и воспроизводиться; 2) терморегуляторный цикл, с помощью которого животное поддерживает себя и который по мере старения перестает работать; 3) система централизованно управляемых входящих и исходящих перемещений, с помощью которой животное воспринимает окружающую среду и реагирует на нее; 4) эпигенетические процессы эмбрионального развития и связанная с ним версия спонтанного источника энергии; 5) система наследования признаков. Все эти процессы опираются на физическую теорию Аристотеля, а если так, то они механистичны. То, что эта физическая теория неверна, к делу не относится – рано или поздно такими оказываются абсолютно все физические теории.
Все эти процессы объясняют те или иные функциональные части души. Но душа у Аристотеля не есть нечто, наложенное дополнительно на процессы. Все вместе они и составляют душу. Точнее, душа – динамическая структура этих физических процессов (или их результатов). И снова, то, что эта аристотелевская душа опирается на устаревшую теорию движения, более не работающую химическую теорию и часто неверную анатомию, никак не относится к делу. Сколько бы ни говорил Декарт о “животном-машине”, он считал, что животные двигаются из-за “животных духов” в нервной системе – то есть, выражаясь по-аристотелевски, он верил в существование пневмы. Если биология Аристотеля и становится на каком-либо этапе немеханистичной, то лишь когда он рассматривает высшие когнитивные функции – phantasia, мышление, желания. Они у него просто черные ящики, но мы его извиним – для нас они то же самое.
Хотя сравнения с механизмом не обязательны для того, чтобы теория была механистичной, они часто выступают признаком такой теории. И когда Аристотель объясняет, как устроены животные, он постоянно обращается к таким сравнениям. Кузнечные меха, ирригационные каналы, пористая керамика, сыроделие, игрушечные повозки и загадочные куклы-автоматы: все это появляется в его биологических работах. Во всех этих случаях он не сравнивает, как Декарт, организм с машиной в целом. Без сомнения, так получается лишь потому, что механизмы времен Аристотеля были довольно примитивными[247]. Мы легко замечаем, что его цикл “сердце – легкие” похож на термостат, но Аристотель этого не видел – поэтому просто говорил, как все это, по его мнению, устроено.
Итак, вот дилемма. Аристотель видит, что и рукотворные вещи, и организмы состоят из сравнительно более простой материи, что они изменяются, что изменения должны быть объяснимы с точки зрения физики. И все же, глядя на мир, он видит, что нет ни одного рукотворного предмета, хотя бы отдаленно способного на то, что без особых усилий делают живые существа. Аристотель решил признать существование подобных параллелей (как мы показали), но он твердо воздерживается от их полномасштабного применения. Кибернетические свойства живых существ даже заставили его дать им специальный онтологический статус “сущностей” (усии) – и одновременно отрицать их статус искусственно созданных объектов. Он определенно отверг бы рассуждения Декарта о “животном-машине” как болтовню. В случае Декарта она таковой и была, хотя после него ситуация изменилась.
Враги Аристотеля, как и некоторые его друзья, придали его формальной и целевой причинам гораздо больше загадочности, чем стоило. Стагирит видел, что сложные объекты – а ведь нет ничего сложнее живого существа! – не могут получиться случайно. Напротив, они должны иметь образцом нечто находящееся вне поля нашего зрения. Для Аристотеля это эйдосы. После него это понятие надолго ушло из науки. Однако молекулярная биология вновь сделала форму – те же эйдосы – респектабельной с научной точки зрения. Шредингер в книге “Что такое жизнь?”, цитируя Гете (“Живое существо вечно, поскольку существуют законы сохранения сокровищ жизни, из которых Вселенная черпает свою красоту”), утверждает, что хромосомы (которые он представляет себе как апериодические кристаллы) содержат зашифрованную рукопись. В хромосомах одновременно скрыты и “своды законов, и исполнительная власть – или, используя другую аналогию, и архитектурный проект, и сноровка строителя”. Последнее сравнение тоже аристотелевское. На эту связь указал Макс Дельбрюк из Калифорнийского технологического института. В очаровательном эссе “Аристотель-тотель-тотель” он рассказал, что познакомился с работами Стагирита в ходе долгой переписки с Андре Львоффом из парижского Пастеровского института. После цитирования трактата “О возникновении животных” Дельбрюк отметил: “Все эти цитаты говорят об одном: «Принцип формы – это информация, которая хранится в семени. После оплодотворения она считывается… Считывание изменяет материю, на которую воздействует, но не хранящуюся в ней информацию, которая, строго говоря, не является частью конечного продукта»”. Дельбрюк предположил, что если бы Нобелевскую премию давали посмертно, Аристотелю следовало бы присудить ее за открытие принципа (хотя и не материального носителя, не говоря уже о структуре) ДНК. В 1969 г. Дельбрюк сам получил Нобелевскую премию за работу по изучению мутаций.
Целевая причина также утратила былую таинственность. Аристотель видел, что она нужна тогда, когда кажется, что объясняемое явление имеет цель. Тогда целевая причина возникает как ответ на несколько связанных вопросов, которые он задавал так же, как и современные биологи. Когда мы спрашиваем, почему существуют направляемые целями сущности, мы даем дарвиновский ответ: потому что эволюция посредством естественного отбора создала их. Это эскиз целой теории популяционной генетики, делающей фигуры милостивых Творцов ненужными. Когда мы спрашиваем, каковы цели таких сущностей, то отвечаем, указывая на адаптивные особенности, позволяющие им двигаться, питаться, спариваться, обороняться от хищников и, в конечном счете, выживать и размножаться. Теперь причудливыми выглядят уже насмешки Бэкона в адрес телеологических объяснений. Утверждать, подобно Бэкону, будто изучение функций ресниц, кожи и костей не должно быть частью науки, означает обнаружить поразительную нелюбознательность.
Мы также можем спросить: как устроены живые или неживые объекты, имеющие цель. Это наиболее трудный вид объяснения с помощью целевой причины. И это самая суть наук, изучающих сложные объекты. Кибернетика, общая теория систем и теория управления формализуют общие принципы. Системная биология показывает, как указанные принципы действуют применительно к живым существам, а синтетическая биология – как эти принципы могут быть использованы для придания этим существам новой формы. В 2010 г. появилась первая искусственная клеточная форма жизни: JCVI-syn1.0[248]. Различие между созданным объектом и организмом растворилось в чашке Петри.
Иногда аристотелевские ответы на эти вопросы, входящие в целевую причину, похожи на наши, современные, а иногда (и это неудивительно) очень отличны. Невозможно отрицать, что вопросы эти научные и что Стагирит давал на них научные ответы, по крайней мере, до тех пор, пока не обращался к своему Богу, который задавал всем живым существам, не исключая Аристотеля, цель их бытия.
Что же, подводя итог, сказать о бэконовских обвинениях, будто наука Аристотеля бесполезна? Это голос бюрократа от науки. (Вы, ученые, хотите заграбастать все деньги, но что именно мы получим взамен?) Ни жалобы Бэкона, ни жалобы бюрократа, распоряжающегося грантами, нельзя назвать совершенно безосновательными. Однако Аристотеля не тревожил вопрос о пользе, как и наших современников-ученых. Кое-что все же было: его отец был врачом, и неудивительно, что в списке утерянных работ Аристотеля есть несколько книг, озаглавленных “О медицине”. И хотя его книги о старении – “О молодости и старости, о жизни и смерти” и “О долгой и краткой жизни” – не раскрывают секреты поддержания нашего внутреннего огня, он заключает книгу “О долгой и краткой жизни” так:
Наше исследование жизни, смерти и относящихся к этому предметов почти завершено. Что до причин здоровья и болезни – то это, до некоторой степени, вопрос, относящийся к занимающимся естествознанием и докторам. Но важно отметить различия между этими двумя группами изучающих этот вопрос – они в том, как эти люди обращаются с различными проблемами. Ясно, что до некоторой степени они занимаются одним и тем же.
Доктора, проявляющие любопытство и умственную гибкость, часто могут кое-что рассказать о естествознании и заявить, что их теории проистекают из последнего, и лучшие из занимающихся естествознанием имеют склонность, в конечном счете, создавать медицинские теории.
Это своего рода приглашение к биомедицине. “Это наша наука, – писал Томпсон, – не незначительное ремесло, не некая узкая дисциплина. Она была великой и значительной в руках Аристотеля и с тех пор выросла до гигантских размеров”. Стагирит мог не понимать, какой окажется основанная им наука. И все же сравнивая ее с нашей, я прихожу к выводу, что мы можем увидеть его намерения и их исполнение более ясно, чем когда-либо. И это потому, что мы догнали его.
113
Мы хорошо знакомы с одним ученым, пожалуй, из всех живших наиболее близким Аристотелю по духу. Вероятно, именно знакомство с ним позволяет понимать греческого философа лучше, чем наших предшественников.
Они были очень похожи. Оба сыновья знаменитых врачей, выбравшие изучение природы. Оба были жадны до фактов, оба безжалостно и твердо логичны – хотя и не очень хороши в математике. И тот, и другой в равной степени демонстрировали и смелость и опрометчивость, оставив нам ощущение жизни, наполненной – другого слова здесь не подобрать – величием. Если и есть между ними разница, то лишь в масштабе достижений. Дарвин не изобретал науку, а Аристотель сделал именно это.
Схожим был и научный стиль. В поисках фактов оба широко раскидывали сети. Оба опрашивали крестьян, рыбаков, охотников и путешественников. (Дарвин – также заводчиков голубей[249].) И тот, и другой часто “смягчали” логические нестыковки в наблюдениях. (Англичанин, например, делал так с механизмами наследования, разрывами в геологической летописи и сложностями с наглядной демонстрацией естественного отбора.) Оба провели огромное множество наблюдений, хотя и нередко поверхностных. Порой и Дарвин и Аристотель строили слишком широкие обобщения.
В “Происхождении видов” Дарвин упоминает грызунов туко-туко (Ctenomys), которыми кишит аргентинская пампа. Эти животные обитают в норах, из-за чего, уверяет Дарвин, часто слепы. Одного туко-туко биолог взял с собой на “Бигль”. Дарвин пишет: “Заспиртованный мною экземпляр был слепым… это следствие воспаления мигательной перепонки глаза”. Поскольку, предполагает Дарвин, туко-туко ведут исключительно подземный образ жизни, отбор поощряет безглазых животных, и они в итоге станут кем-то вроде крота. Это разумный и весьма важный аргумент – и единственный пример естественного отбора, доступный Дарвину. Но, увы, и почти наверняка неверный. Несколько лет назад, повторяя маршрут Дарвина, я искал в Аргентине и Уругвае туко-туко со слезящимися глазами. Опрошенные местные жители, от гаучо до ученых, отрицали, что у туко-туко бывают больные глаза. Один пастух объяснил: “Когда мы ловим туко-туко, то бьем его лопатой – ведь они быстры и агрессивны. Может быть, поэтому туко-туко Карлоса Дарвина имел кровотечение из глаз, а?”[250]
Вывод очевиден, и с ним знаком всякий биолог и вообще ученый: занятия наукой требуют необычайно тесного контакта с предметом изучения. Нужно знать его форму, его причуды и слабости, и т. д. И если вы не знаете этого, то сделаете ошибку или пропустите что-нибудь крайне интересное и важное – и второе почти столь же плохо, как и первое. Дарвин восемь лет изучал усоногих раков, и все это время он пытался (по выражению Барбары Мак-Клинток) “почувствовать организм”. Мой научный руководитель Скотт Эммонс в первый день в лаборатории сказал: “Познай червя”. И я его прекрасно понял.
Аристотель, полагаю, был знаком с этим принципом. Его (и Теофраста) близкий контакт с природой очевиден. Он позволял им, выходцам из Ликея, вылавливать в океане россказней крупицы истины и строить из них новую науку. Аристотель писал:
Причина того, что они [некоторые люди] в меньшей степени способны обозреть общепризнанные [факты], заключается в недостатке опыта. Поэтому те, кто лучше знает природные [явления], скорее могут делать предположения о первоначалах, позволяющих связать вместе многое. Напротив, те, кто [чрезмерно] предаются пространным рассуждениям и не наблюдают за тем, что присуще [вещам], легко обнаруживают узость своих взглядов.
Это из книги “О возникновении и уничтожении”. Первый тип людей для Аристотеля – последователи Платона с их пристрастием к идеальным сущностям, к нумерологии и геометрии, нередко заставлявшим их игнорировать очевидное. Поэтому они не смогли разглядеть структуру нашего мира. Когда Аристотель писал, что мы должны уделять внимание даже крошечным существам, он не только призывал потрошить каракатиц, – он до конца своих дней спорил с тенью Платона. Он делал то, что должен делать любой ученый, открывающий новую отрасль знаний: защищать ее от коллег. Из всего огромного мира платоновская Академия считала достойными изучения лишь звезды. Но, напоминает Аристотель, мы живем на Земле.
Да и не всю Землю мы занимаем. Если Томпсон прав (а я думаю, это так), то Лесбос и Пиррейский залив стали для Аристотеля тем местом, тихим и красивым, где он столкнулся с природой. Лесбос был для него тем же, чем Чимборасо для Гумбольдта, Малайский архипелаг для Уоллеса, Амазония для Генри Уолтера Бейтса. В случае Дарвина эту роль сыграли джунгли Бразилии, пампасы Патагонии, скалы Галапагосских островов и поля Кента. У биологов часто есть такие места, они нуждаются в них, ведь идеи проистекают не из ниоткуда – они приходят из самой природы.
114
Когда Аристотель упоминает о “Каллони”, речь всегда идет о Пиррейском эврипе, то есть проливе (euripos Pyrrhaiēn): узком входе в Лагуну. В произведениях Аристотеля именно через эврип рыбы совершают ежегодную миграцию. Именно здесь гребешки то увеличиваются, то уменьшаются в числе, и здесь же дно кишит морскими звездами. Я захотел увидеть это место сам.
Эврип образован подводным рифом, который примыкает к северо-западному берегу Лесбоса. Чайки на рифе кажутся ходящими по воде. Течения Эгейского моря слабы, риф сужает проход, и во время прилива масса воды преодолевает его, образуя перекаты.
Один из ныряльщиков взялся доставить нас туда. Мы выбрали дату, назначив ее на период убывания Луны[251], рассчитали резерв времени, нагрузили лодку у Апотикеса и собрались в дорогу. Когда мы приблизились к месту погружения, из воды высоко выпрыгнул тунец: синий на фоне синего моря и неба. Мы спустились на семиметровую глубину, на каменистое дно. Розовые и коричневые губки припали к скалам, окруженные зостерой. Серебряные и черные морские караси двигали плавниками, плывя против течения. Давид Куцогианнопулос, увлекавшийся голожаберными брюхоногими, исчез, чтобы рассмотреть их. Позднее он сообщил, что заметил эолид (Cratena peregrina) с пурпурными цератами, похожими на рожки, и оранжевыми ринофорами [органы обоняния], Caloria elegans (цераты с черными кончиками на фоне белого тела), а также дориду (Discodorus atromaculata), которая напоминает расплющенную бельгийскую конфету с марципаном.
Ближе к области резкого спуска косяки розово-оранжевых каменных окуней из подсемейства Anthiinae и ярко-синих молодых хромисов качались между ветвей роговых кораллов. Эти хрупкие зоофиты обычно водятся глубже 30 м, но здесь (как и на близких к поверхности подводных скалах Сулавеси) они живут на малой глубине. Их отростки – иногда золотистые, иногда белые – ветвятся согласно своеобразной сетчатой геометрии. Скопления полупрозрачных асцидий (Clavelina ascidians) похожи на хрустальные подвески на люстре. Из-под выступа выскользнул групер.
На десятиметровой глубине скопились губки, колеблющиеся на грани бесформенности. Одна выглядела как диковинный суккулент, вторая – как изуродованная рука, третья напоминала огромную ватную палочку, застрявшую в камне. Коралловые водоросли свисали с камней, как сталактиты. Рядом прихорашивался осьминог.
Всей этой роскошью, очевидно, мы обязаны приливам. Дважды в день воды, богатые планктоном и питательными веществами, проходят через эврип, поддерживая здесь жизнь такой интенсивности, которую мне не доводилось видеть в других частях Эгейского моря. Затем, на глубине 15 м, я наткнулся на коралловую стену, как если бы я неожиданно оказался в Красном море. Присмотревшись, я понял, что предполагаемый риф был огромным валуном, колонизированным кораллом одного вида: Parazoanthus axinellae. Обрамленные щупальцами золотые диски-чашечки напоминали тысячи маленьких солнц.
Коралл Parazoanthus axinellae у входа в зал. Колпос-Каллони, о. Лесбос, август 2012 г.
Борхес писал: “Говорят, все люди рождаются сторонниками либо Аристотеля, либо Платона”. Философы от этого утверждения могут содрогнуться, но, подозреваю, оно совершенно точное. Платон предлагает нам мир абстракций, Аристотель – мир осязаемых вещей. Вы начинаете с конкретных предметов, например ящика с морскими раковинами, и бесконечно перекладываете их, чтобы постичь логику и порядок. Здесь, писал Стагирит, – дар разума и начало науки. И истинная красота. Я понимал это, когда мне было 10 лет, хотя и не формулировал это ясно.
По мере взросления мы становимся такими же пленниками привычек своего ума, ограниченного имеющейся информацией, как рыбы – пленниками моря. Наука, блестящая среда, в которой мы плаваем, определяет то, что мы видим. Это то, как все должно быть устроено, и неизбежно так оно и есть, ведь ничье видение мира не свободно от предположений и ожиданий. И все равно мы хотим увидеть мир будто заново. “Каков дневной свет для летучих мышей, таково для разума в нашей душе то, что по природе своей очевиднее всего”, – констатирует Стагирит в “Метафизике”. Аристотель, вооруженный им же открытым методом – лежащей в основе науки рискованной комбинацией теории, закаленной опытом, – обратился к той части мира, на которую никто не смотрел, описал ее, объяснил и, как отмечал Томпсон, отвоевал для нее место в философии. Мы можем завидовать. Захваченные бурным течением научного прогресса, мы прилагаем усилия, чтобы соревноваться с ним, а Аристотель показывает, что мы должны делать.
Glaux Аристотеля – домовый сыч (Athene noctua). Акрополь, Афины, 2013 г.
И не только что, но и почему. Между камнями я нашел харонию. Ее нога, пятнистая, как шкура леопарда, выпросталась из-под раковины. Щупальца были полосатыми, как зебра. Никогда я не видел это существо воочию. Толстую раковину покрывала скань из мшанок и лоскутное одеяло из кораллин. Верх был серым и потрепанным. Должно быть, харония была очень старой. Хоботок моллюска застрял в черном морском еже, чьи внутренности хищник медленно поглощал. Иглы морского ежа топорщились в последней, бесполезной попытке защититься, но животное быстро угасало. И этот мир дал нам Аристотель: ярко ощущаемый, целостный мир живых существ. Мир, который он завещал любить и понимать. Философ написал тысячи строк, но одна (первая в “Метафизике”) определяет его лучше всего: “Все люди от природы стремятся к знанию”. Однако не все формы знания одинаковы – лучшей является чистый, бескорыстный поиск причин всех вещей. И это лучший способ прожить свою жизнь.
Благодарности
За время работы над этой книгой я наделал моральных долгов перед разными людьми. Мой литературный агент Катинка Мэтсон, а также Джон Брокман, основатель агентства Brockman Inc., всегда знали, какой должна быть “Лагуна”. Я благодарен им, а также Рику Коту из издательства Viking Penguin, Анне Симпсон и своему удивительному редактору Майклу Фишуику из Bloomsbury. Редактор Питер Джеймс спас книгу от множества неточностей.
В Афинах и на Лесбосе мне помогали многие. Назову некоторых: Макис Аксиотис, Лара Баразай-Еруланос, Них Димопулу, Георгиос Филиос из Scuba Lesvos, Георгиос Фотинос из Fotinos FishShells, Алкис Калампокис, Димитриос Каридис, Костас Костакис, Игнатис Манавис, Алека Мелиаду, Феодора и Елени Паниотис, Георгиос Пападатос, Михаэлис Ступакис (иногда исполняющий обязанности старпома рыболовецкой лодки “Сапфо”), Христос Самарас и Димитра Вати.
А вот мои коллеги-ученые (некоторые работают в Митилини в Эгейском университете), отвечавшие на мои вопросы относительно зоологии: Филиос Акреотис, Иоаннис Батакис, Иоаннис Базос, Майк Белл, Тим Беркхед, Мик Кроули, Чарльз Годфри, Гиоргос Коккорис, Дросос Куцубас, Иоаннис Леонардос, Салли Лейс, Крис Макдэниел, Иэн Оуэнс, Паниотис Паниотидес, Василис Папасотиропулос, Феодора Петаниду, Томмазо Пиццари, Мишель Пулен, Майк Ричардсон, София Спатари, Клеон Цимабос, Георгиос Цитирис и Николаос Зурос.
Исследователи античной философии и истории, обладающие по-настоящему глубокими познаниями об Аристотеле, великодушно и терпеливо помогали мне понять великого грека. Некоторые (Кит Бемер, Иштван Боднар, Ник Буннин, Девин Генри, Вольфганг Кульман, Джим Леннокс, Маришка Люниссен, Джеффри Ллойд, Диана Кварантотто, Боб Шарплс, Альфред Штюкельбергер, Полли Уинзор, Малкольм Уилсон и Карен Цвиер) любезно ознакомились с рядом глав рукописи и высказали мнение о прочитанном. Выдающийся исследователь Аристотеля, один из самых отзывчивых, умер незадолго до того как эта книга ушла в печать. Аллан Готтхельф со многим в этой книге поспорил бы, однако именно он объяснил мне функциональное устройство слона, а также указал на сходство Дарвина с Аристотелем.
В 2009 г. я участвовал в съемках фильма “Лагуна Аристотеля” для BBC4. К началу съемок я уже несколько лет трудился над этой книгой. Множество людей внесло свой вклад в создание фильма, однако именно мой соавтор-сценарист Ричард Кинг, а также режиссер Гарри Киллас сделали его наиболее приятным фильмом из всех, над которыми мне довелось работать.
Эммануэль Альмира, Кассандра Коберн, Энрико Коэн, Них Димопулу, Оливия Джадсон, Давид Куцогианнопулос, Маржена Погожалы, Джонатан Свайр, Клэр Айсек и Ребекка Стотт прочитали отдельные главы рукописи или советовали мне, как лучше написать о том или ином предмете. Дэвид Анджели составил схему растительной души по Аристотелю. Давид Куцогианнопулос консультировал меня в вопросах древнегреческой естественной истории, на Лесбосе нырял со мной в компании и рисовал (вместе с Грейс Иоанниду) иллюстрации к работам Аристотеля. Саймон Макферсон, специалист по античной филологии в школе Хэрроу, был не просто переводчиком с греческого: его заслуги в появлении этой книги гораздо больше. Георгиос Коккорис показал мне Лесбос. Георгиос, а также Димитра Филиппопулу с тех пор всегда помогали мне. Историю этой книги можно отсчитывать с того момента, когда Алкистис Конту-Димас сказал, что я должен ее написать. Я благодарен всем названным выше людям.
Еще более я обязан друзьям и близким: Остину Берту, Вассо Куфопану, Дафне Берт, Оливии Джадсон, Джонатану Свайру, Каори Имото, Михаэлису Кутруманидису, Катерине Эрцу, а также своей семье – Мари-Франс Леруа, Ирасему Леруа, Гарри Килласу, Джозефу Мигеру.
Никому я так не обязан появлением этой книги, как Клэр Айсек.
Говоря словами Эзры Паунда, лондонское течение занесло меня в Саргассово море с его “богатствами, впечатляющим багажом” (“амбра” и “редкая инкрустация” и “странный рангоут знаний”). Если бы меня попросили написать свою версию “Портрета”, я бы однозначно приписал все эти чудеса одной Джерри Холл.
Глоссарий
Термины
aithēr эфир
anō сверху
antithesis противоположная сторона (в анатомии)
analogon аналог; позднее у Аристотеля – равенство отношений, пропорций
aphrodisiazomenai нимфоманка
aphros пена
apodeixis демонстрация, доказательство
aristeros левый
arkhē исток, начало
atomon eidos неделимая сущность
automata самопроизвольно движущиеся вещи
balanos головка полового члена
basileia царица
basileus царь
bios образ жизни
delphys тело матки
Dēmiourgos Творец
dexios правый
diaphora/diaphorai различие, различия (по какому-либо признаку)
dynamis потенциальность, сила
eikōs mythos/eikotes mythoi правдоподобное предание/мн.ч.
ekhinos книжка (отдел сложного желудка жвачных); еж; морской еж; широкогорлый сосуд
eidos/eidē форма/формы
emprosthen перед
entelekheia осуществленность, актуальность, энтелехия
epagōgē индукция
epamphoterizein раздваивать
epistēmē знания
euripos пролив
geēron земля
genos/genē род (семья)/роды (семьи)
gēras старость
gēs entera “земляные кишки”
gonē сперма
hippomanein нимфоманки
historia tēs physeōs изучение природы, естественная история
historiai peritōn zōiōn “История животных”
holon целое
hylē материя, материал
hystera матка; женские половые органы
katamēnia месячные выделения
katō внизу
kekryphalos сетка (отдел желудка жвачных)
keratia рога матки
khelidonias “ласточкин ветер”
khōrion амниотический мешок
kinēsis/kinēseis движение/движения
kotylēdones сосочковидные образования в матке
limnothalassa лагуна, буквально “море-озеро”
logos определение, сущность, суть; слово, понятие
lysis ухудшение/мутация
mathematikē математика
megalē koilia рубец
metabolē превращение
mētra шейка матки
mixis смесь
myes мышцы
mythos сказка, история
mytis “сердце” головоногого моллюска (по Аристотелю; на самом деле это пищеварительная железа)
neuron/neura жила/жилы
nous разум, ум
oikoumenē известный мир; Ойкумена
onta вещи
opisthen сзади
organon инструмент/приспособление/орган
ornithiai anemoi “птичьи ветра”
ousia/ousiai усия, вещество, сущность/мн.ч.
pepeiramenoi эксперимент, опыт
peri physeēs о природе
phainomena явления
phantasia воображение
phantasma/phantasmata образ/образы
physis природа
physikē epistēmē естественные науки
physikos тот, кто понимает природу
physiologos/physiologoi натурфилософ (тот, кто изучает природу)/мн.ч.
pneuma дыхание, душа
polis полис, город-государство
politikē epistēmē политическая наука
prōton stoicheion первоначало
psychē душа
sarx плоть (мышцы)
sōma тело
sperma семя
stoma рот
stomakhos пищевод
symmetria пропорции
symphyton pneuma врожденный дух
syngennis родственник
synthesis образование смеси, слияние отдельных частей
ta aphrodisia половой акт
technika искусство, умение, навык
telos конец
theologikē теология
theos бог
thesis положение (в анатомии)
to agathon благо
to hou heneka ради чего
trophē питание; образ жизни
tōn zōiōn средства к существованию
Роды животных по Аристотелю
При анализе этой массы полезной информации становится очень жаль, что [Аристотель] не подозревал, что в будущем зоологическая номенклатура его времени станет малопонятной, и что он не позаботился о том, чтобы указанные им виды животных впоследствии оказались опознаваемыми. Это общий для натуралистов древности изъян: нам почти всегда приходится догадываться, какое животное скрывается под тем или иным названием. Традиция, очень неустойчивая, усугубляет трудности. Сколько-нибудь точная идентификация видов возможна лишь в результате непростых обобщений и сопоставления признаков животных, упоминаемых различными авторами. Тем не менее, большинство видов мы вынуждены признать неидентифицируемыми.
Жорж Кювье и Ахилл Валансьен“Естественная история рыб” (1828–1849)Первый вариант идентификации упоминаемых Аристотелем животных появился около 1256 г., когда Альберт Великий начал собирать сведения для своего труда “О животных”, частично основанного на аристотелевской “Истории”. С тех пор интересующиеся зоологией антиковеды и зоологи, интересующиеся классическим наследием, предлагают (с переменным успехом) свои варианты решения задачи. Описания животных у Аристотеля зачастую такие короткие, будто созданы для затруднения “опознания” вида. Тем не менее, ряд других текстов аристотелевского времени, в которых используются те же (или близкие) названия, дает некоторые подсказки. Помогают и бытовые названия, используемые охотниками и рыбаками Адриатики. Помогает и биогеография. Можно самому посетить Лагуну, чтобы понять, кто там обитает. Поступивший так ученый (Tipton 2006) идентифицировал аристотелевского kōbios как бычка (в Лагуне встречаются бычки трех видов), а phykis – как обыкновенную морскую собачку Parablennius sanguinolentus.
Хотя уже не одно поколение ученых пыталось идентифицировать животных Аристотеля, полного и окончательного их списка не существует. По этой причине я сгруппировал около 230 аристотелевских родов, упомянутых в этой книге, и собственные догадки об их современных названиях. Одни ученые, стремящиеся аристотелевские роды привести в соответствие с линнеевскими видами, настроены оптимистично, другие же считают эту задачу неразрешимой. Я занял умеренную позицию. В конце концов, когда Аристотель пишет hippos, он почти наверняка разумеет Equus caballus, то есть лошадь – по крайней мере, в тех случаях, когда он говорит не о крабе hippos или о дятле hippos. Правда, вид kephalos определить сложнее. Аристотель определенно имеет в виду кефаль (их до сих пор так называют в Греции), но какой конкретно вид – Mullus cephalus (лобань), Chelon labrosus (толстогубая кефаль), Oedalechilus labeo (обыкновенный губач), Liza saliens (остронос), L. aurata (сингиль) или L. ramada (быстрюг), – не сразу скажешь. Все они водятся в греческих водах и внешне почти неразличимы (Koutsogiannopoulos 2010). Кроме того, Аристотель упоминает кефаль минимум четырех видов, так что вероятно, что и он и рыбаки того времени различали по меньшей мере четыре из шести известных сейчас вида кефали. Но какая из них какому линнеевскому виду соответствует, скорее всего, навсегда останется загадкой.
И здесь также ловушка для невнимательных. Первые таксономисты, например Линней, часто давали обитающим в Европе видам наименования на основе античных описаний. Иногда они были правы. Линнеевский Chamaeleo chamaeleon chamaeleon (обыкновенный хамелеон) – это определенно аристотелевский chamaileōn, поскольку это единственная ящерица, подходящая под описание[252]. Впрочем, иногда основания для сопоставления видов были гораздо более шаткими. Линней, считавший, что rhinobatos Аристотеля – это средиземноморский гитарный скат, назвал этого ската Rhinobatos rhinobatos. И, поскольку сама рыба и ее описание у Аристотеля интересные, приятно думать, что Линней не ошибся. Но мы не можем быть уверены, так как античные сведения о ринобате отрывочны.
Мой список основан на нескольких изданиях “Истории животных” и “О частях животных”[253], а также на монографиях по биологии известных в античности животных[254]. Я старался указывать сомнительные места. Как правило, упомянутых Аристотелем крупных млекопитающих можно сопоставить с современными видами. Птиц можно определить с точностью до рода, а некоторые несопоставимы с современными названиями (в “Истории животных” множество странных – вероятно, египетских или вавилонских – названий птиц). Рыб можно определить до вида, рода или семейства (в зависимости от красочности и подробности описания). Морских беспозвоночных можно идентифицировать и до вида, и лишь до типа. Правда, о некоторых упомянутых Аристотелем существах мы в состоянии сказать лишь, что они обитают в море.
Приложения
Я привожу в таблицах и схемах некоторые данные, собранные Аристотелем, и разработанные им модели. Нельзя назвать этот способ представления информации чуждым Аристотелю, поскольку он, объясняя биологические явления, по крайней мере иногда прибегал к абстракциям: например, когда он в трактате “О частях животных” объяснял геометрию животных или их восприятие и движение в “О движении животных” (Natali 2013, ch. 3.3). Для меня причина использовать таблицы и схемы заключается не только в наличии подобных примеров: представляя материалы Аристотеля в такой форме, я хочу указать на сильные и слабые стороны его данных и объяснений. Отсутствие таблиц у Аристотеля очень затрудняет их интерпретацию: иногда он посвящает целую книгу (скажем, в кн. VI “Истории животных” говорится только о жизни птиц) объяснению закономерностей, которые уместились бы в одну таблицу статьи в журнале “Нейчур” или хотя бы в дополнительных материалах к этой статье. Точно так же невозможно понять, работает ли заявленным образом цикл “сердце – легкие” (О юности и старости, о жизни и смерти, 26), пока не построена блок-схема или даже материальная модель этого цикла (конечно, первое гораздо проще). Специалисты по античной философии могут со скептицизмом отнестись к получившимся таблицам и схемам. Подобные формы представления информации могут показаться им неуместным анахронизмом. Я прошу рассматривать данные схемы и таблицы просто как инструменты, подобные тем, которые мы теперь используем для проверки утверждений в формальной логике (а эту науку, как мы помним, тоже придумал Аристотель). Специалистам по естественным наукам мои нововведения, скорее всего, больше придутся по душе. Для них удобство такого способа записи очевидно, ведь они недоумевают, как Аристотель смог так много всего узнать и упорядочить без таблиц и схем. Эту категорию читателей я попрошу помнить, что жил он действительно давно.
I. Двенадцать “родов” и шесть морфологических признаков
Ниже указаны некоторые морфологические признаки, присущие животным, как считает Аристотель. Его данные не всегда верны. Для удобства в первый раз значения признаков показаны в виде целых чисел. Если Аристотель считает, что у рода более одного значения признака, то значения перечислены через косую черту (например, “0/1”). Промежуточные значения указаны как “0,5”.
Таблица построена на следующих материалах. Тип стопы у льва, собаки, овцы, козы, оленя, бегемота, лошади, мула, свиньи (История животных 499b5). Таранная кость и тип стопы у льва, свиньи, человека, двукопытных, однокопытных (499b20), человека (494a15); верблюд (499a20). Рога и двукопытность у быка, оленя, козы (499b15). Число зубов и рога у рогатых животных, верблюда (501a7, 499a22). Тип зубов и рога у свиньи, льва, собаки, лошади, быка (501a15), слона (501b30). Тип желудка + рога + число зубов у животных (495b25, 507b30), у человека (495b25). Матрица признаков демонстрирует сильную корреляцию значений признаков, описываемых Аристотелем. Такие корреляции становятся предметом объяснения. Таблицу можно расширить и включить в нее больше признаков и родов, однако я не стал этого делать, так как данные Аристотеля по ряду признаков неполны либо он не делает из них никаких выводов.
II. Пути получения и распределения ресурсов (trophĒ) у “живородящих четвероногих” (млекопитающих)
Здесь обобщены представления Аристотеля об обмене веществ, о том, как в организм поступают питательные вещества, как они транспортируются, претерпевают превращения и достигают той или иной части организма. Стрелки указывают потоки материи. “Однородные части” Аристотеля примерно ссответствуют тканям, хотя он склонялся к тому, что они не содержат микроскопические части, такие как клетки или атомы. Все “однородные части” происходят из крови, которая сама является “однородной частью”. Их можно отнести к двум крупным категориям: мягкие и влажные, плотные и твердые, хотя мышцы (мясо) стоят особняком. В результате любой реакции остаются побочные продукты. Все “однородные части” распадаются на отходы и выводятся наружу, поскольку животное – незамкнутая система.
Некоторая часть питания уходит на поддержание внутреннего огня. Узлы (кружки) обозначают конкретные превращения питательных веществ. Информация взята из указанных источников (подробнее см.: Leroi 2010).
Кровь как конечное (универсальное) питание: О частях животных 650a34, 651a15. Мясо делается из наилучшего питания, а кости, жилы и т. д. – из остатков: О возникновении животных 744b20. Мясо – это результат варения крови, а жир – это лишняя кровь: О частях животных 651a20. Жир – это результат варения крови: О частях животных 651a21. Жир может быть мягким или твердым (жир или сало): О частях животных 651a20. Семя образуется из крови, а именно из ее части, лежащей в основе жира: О частях животных 651b10; О возникновении животных 726a5. Костный мозг – это частично сваренная кровь: О частях животных 651b20. Копыта, рога и зубы сопоставлены с костями: О частях животных 655b1, 663a27. Кости и костный мозг образуются из одного материала: О частях животных 652a10. Хрящи и кости – одно и то же: О частях животных 655a27. Выводимое наружу мочевым пузырем и кишечником – это остатки переработанной организмом пищи: О частях животных 653b10. Желчь – это остаток переваренной пищи: О частях животных 677a10.
1 Пища
2 Кровь
3 Моча, желчь, фекалии
4 Копыта, волосы, ногти (когти)
5 Зубы
6 Костный мозг
7 Хрящ
8 Кости
9 Мышцы
10 Сало
11 Жир
12 Семя
13 Маточные выделения, менструальная кровь, молоко
III. Модель CIOM (чувствующей души по Аристотелю)
Здесь представлена модель “Централизованные входящие и исходящие движения” (Centralized Incoming Outgoing Motions). По Аристотелю, в организме сенсорная информация передается от органов чувств в центральное чувствилище (сердце), она обрабатывается с учетом целей животного и преобразуется в движения конечностей за счет действий пневмы и механических движений жил (Gregoric and Corcilius 2013). Стрелки указывают на причинно-следственные связи.
IV. Схема терморегуляторного цикла легких и сердца (растительной души по Аристотелю)
Здесь представлена описанная Аристотелем в трактате “О юности и старости, о жизни и смерти”, 26 (см.: King 2001, 126–129) простейшая из множества возможных моделей, описывающих терморегуляторный цикл сердца и легких. Стрелками показано, что какая часть контролирует. Чтобы модель работала, придется сделать ряд допущений, которых Аристотель не делал явно. В частности, мы предполагаем, что у животного есть идеальная “базовая” температура Tб. Цель системы – поддерживать температуру сердца Tс на этом уровне. Система работает следующим образом. Пища попадает в сердце и “варится” там. Температура питания (ставшего теперь кровью) Tп поднимается выше базовой температуры. Если этот подъем достаточен, чтобы покрыть потери тепла в результате диффузии, он увеличит температуру сердца Tс. Поскольку объем легких представляет собой функцию от разности Tс и Tб, он увеличивается. Это приводит к повышению интенсивности тока воздуха через рот Пв.
Поскольку температура воздуха Tв ниже, чем базовая температура, температура сердца снижается, как и объем легких. Получается система отрицательной обратной связи. Примите во внимание, что мы учитываем постоянную потерю некоторого количества тепла сердца в результате диффузии, вероятно, через мозг, который, по мнению Аристотеля, работает как теплоотвод. Это амортизирует систему, делая ее менее восприимчивой к повышению Tп, и способствует равновесию при Tб. Такая система способна работать, только если температура воздуха ниже, чем идеальная базовая температура. Однако если Tв > Tб, никакое количество воздуха не снизит Tс. Петля отрицательной обратной связи станет неустойчивой петлей положительной обратной связи, и легкие животного будут либо постоянно открыты, либо постоянно закрыты. В любом случае это приведет к угасанию огня (из-за избытка холода или того, что вся пища переварена), что вызовет гибель животного. Исходя из описанного, система будет стремиться к постоянному динамическому равновесию подобно термостату. Однако если появятся дополнительные задержки или нелинейные факторы, в системе возникнут колебания, которыми, по предположению Аристотеля, объясняются движения (расширение и спадание) легких.
Модель построена при помощи Дэвида Анжели из Группы изучения систем управления электрическими системами (Имперский колледж, Лондон).
Тб Базовая температура
Тс Температура сердца
Тп Температура питательного вещества
Тв Температура воздуха
Пп Поток питательных веществ
Пв Поток воздуха
Ол Объем легких
Кд Константа диффузии тепла
Кв Константа притока воздуха
○ Чувствительный элемент
⊗ Устройство умножения
+ Положительная обратная связь
– Отрицательная обратная связь
V. Аристотель о жизненных циклах “живородящих четвероногих” и птиц
Ниже обобщены данные Аристотеля о жизненном цикле животных. У него информация организована несколько сложнее, чем в приведенных таблицах, и не всегда верна. Поскольку во времена Аристотеля не пользовались описательной статистикой, он часто говорит, что нечто таково “по большей части”. В подобных случаях я привожу указанное им значение. Если Аристотель называет диапазон значений, я указываю среднее, а исключения игнорирую. Случаи, когда Аристотель оговаривает, что он не уверен в чем-либо (например, насчет огромной продолжительности жизни слона или короткого срока, отпущенного воробью), я отмечаю буквой с (сомнительно). Иногда Аристотель не говорит четко, что у представителей такого-то рода животных такой-то признак жизненного цикла имеет конкретное значение, а пишет про какой-либо высший род в целом – например, большинство птиц в тот же год ничего не производит. В этих случаях я отметил, что значение присуще всем родам в составе данного высшего рода, если не указано иное. Однако в случаях, когда Аристотель не говорит прямо, что значение применимо ко всему высшему роду, я ничего сверх данной им информации не указываю. Так, он наверняка знает, что большинство крупных “живородящих четвероногих” (млекопитающих) приносит один помет в год, но явно он этого не говорит. Исключение из этого правила – размер тела. Аристотель нигде не упоминает количественные данные по этому параметру, даже когда понятия “большой” и “малый” применяются к конкретному животному лишь для функционального объяснения. Тем не менее, из таких объяснений понятно, что для Аристотеля человек или страус большие, свинья или курица – средние, а кошка или воробей маленькие по сравнению со средним размером представителей своего высшего рода. Соответственно, я внес в таблицу предполагаемые значения размера тела некоторых животных. Большая доля данных взята из “Истории животных”, V и VI, а информация о совершенстве зародышей – из трактата “О возникновении животных”, IV. Аристотель верно отмечает, что многопалые животные (лиса, медведь, лев, собака, волк, шакал и т. д.) производят несовершенное потомство, а однокопытные и двукопытные животные (корова, лошадь) производят совершенное потомство. Свинья – исключение, она двукопытная, но потомство у нее лишь относительно совершенное. Если говорить о птицах, то Аристотель называет воронов, соек, воробьев, ласточек, вяхирей, горлиц и голубей дающими несовершенное потомство – но птиц с совершенным потомством он не упоминает. Он, вероятно, не приводит некоторые данные, на которые опирается.
Птицы (Ornis)
* Когда Аристотель пишет, что большинство птиц в тот же год ничего не производят, он, конечно, имеет в виду, что большинство их дает потомство на втором году жизни, то есть в следующем сезоне размножения, обычно следующей весной.
VI. Соотношение некоторых черт жизненного цикла животных, проиллюстрированные современными данными
Аристотель заявляет (О возникновении животных IV; О долгой и краткой жизни), что различные значения черт жизненного цикла определенным образом связаны друг с другом. По крайней мере в случае плацентарных животных его заявления верны. Ниже я иллюстрирую четыре упомянутые им связи, используя информацию из базы данных по млекопитающим panTHERIA[255]. Я исключил из анализа отряды млекопитающих, которые Аристотель не обсуждает (например, инфракласс сумчатых Marsupialia) или не относит к четвероногим (Chiroptera, Cetacea), и построил в логарифмических шкалах графики зависимости различных параметров, используя линейную регрессию. Здесь приводятся четыре зависимости, выявленные Аристотелем: 1) числа детенышей в помете от размера тела взрослой особи (обратная пропорция), 2) длительности беременности от общей продолжительности жизни (прямая пропорция), 3) размера тела взрослой особи от общей продолжительности жизни (прямая пропорция), 4) плодовитости от размера тела взрослой особи (обратная пропорция). Были опубликованы и гораздо более глубокие анализы подобного рода[256]. Обычно принимаются во внимание разнообразные затрудняющие интерпретацию эффекты. Это ослабляет, хотя ни в коей мере не устраняет, трудности выявления причинно-следственных связей.
Примечания
Комментировать работы Аристотеля люди начали еще в древности. Современные антиковеды, пытаясь разобраться, к чему стремился Аристотель в “Физике”, часто цитируют комментарии Александра Афродисийского, хотя они составлены во II в. Я, однако, должен воздержаться от проявления такого рода эрудиции, а у примечаний ниже всего две скромных задачи. Первая – быть вашим гидом к текстам Аристотеля. Если хотите сами прочесть то, что он писал о глазах крота, вы можете найти необходимую информацию в примечаниях к гл. 9. Вторая – это предоставить читателю возможность познакомиться с наиболее важной, актуальной и доступной для понимания вспомогательной литературой. К сожалению, перечисленные качества редко совпадают, так как исследование трудов Аристотеля движется неторопливо, подобно леднику, и часто работы на эту тему возникают в таких дебрях академической публицистики, как юбилейные сборники статей (Festschriften) и материалы конференций. По большей части я не соотносил свои толкования с этой литературой и не пытался разрешить никаких диспутов. Если время от времени я и цитирую иные, кроме своей, интерпретации, то лишь чтобы поведать о важных расхождениях во мнениях экспертов либо о собственном небольшом отклонении от общепринятого мнения.
Ссылки на работы Аристотеля приведены в форме чисел Беккера, относящихся к редакции греческого текста И. Беккера (1831). Они выглядят так: 608b20, где 608b20 – номер строки. Каждая работа, например “История животных”, поделена также на книги и главы, которые я не упоминаю, кроме тех случаев, когда цитирую целую главу, например: История животных I, 1. Так вы сможете найти фрагмент в любом издании и на любом языке.
Оксфордское издание работ Аристотеля (The Oxford Works of Aristotle Translated into English, 1910–1952) под ред. Дж. А. Смита и У. Д. Росса доступно в Сети. Оно было переработано и издано под ред. Дж. Барнса в 1984 г. в двух томах (The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation). Однако если вам нужна “твердая копия” “Истории животных”, поищите подержанный экземпляр оксфордского издания (1910) Дарси У. Томпсона. Здесь я позволяю себе немного сентиментальности, но в этом издании есть примечания, которых нет ни в принстонском издании, ни в онлайн-версии. Выпущенные в Гарварде в рамках Лебовской серии издания бесценны и содержат оригинал на греческом.
Эти издания частично вытеснены книгами серии Clarendon Aristotle, в которых английский текст сопровождают важные комментарии. Впрочем, единственная пока доступная в этой серии работа Аристотеля по биологии – “О частях животных” (ред. Дж. Леннокс), изданная в 2001 г. Немецкому читателю я посоветовал бы серию Aristoteles: Werke in deutscher Übersetzung, выпускаемую издательством Akademie Verlag. Опять же, единственными доступными работами по биологии в этой серии являются трактаты “О походке животных” и “О движении животных” под ред. Ю. Коллеш (1985) и “О частях животных” под ред. В. Кульмана – Über die Teile der Lebewesen, 2007. Стандартным греческим изданием “Истории животных” является первое издание этой книги под ред. Д. Балма (совместно с А. Готтхельфом, Кембридж, 2002).
Глава 1. “У Эрато”
О раковинах см.: История животных 528a20. О внутреннем строении улиток см.: История животных 529a1. Дарси У. Томпсон сомневается в происхождении слова kēryx от “глашатай” и предполагает, что это лишь древнее название моллюска. См.: Thompson 1947, 113.
Сулла захватил Афины в Первую Митридатову войну (87–86 гг. до н. э.). См.: Keaveney 1982, 69. Страбон рассказывает в “Географии” (XIII, 1, 54–55), как Сулла привез работы Аристотеля в Рим. В “Географии” Страбона (IX, 1, 24) и “Описании Эллады” (I, 19, 3) Павсания описывается Ликей. Линч рассказывает о его топографии и функции. См.: Lynch 1972. Высказывания и облик Аристотеля см.: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов V, 1–2; V, 17–22. В некоторых источниках во фразе “Позор молчать, коль Ксенократ болтает” вместо Ксенократа (из Академии) указывают Исократа (софиста). Большинство ученых согласно, что сохранившиеся работы Аристотеля – это конспекты его лекций. Например см.: Ackrill 1981, 2; Grene 1998, 32; Barnes 1996, 3; Anagnostopoulos 2009b. Историографическая критика см.: Canguilhem L’objet de l’histoire des sciences, 1968. Также см.: Pellegrin 1986, 2. Аристотель об исследовании природы см.: О частях животных 639a13, 644b17, 645a6; О душе 402a7. О программе курса см.: Метеорологика 338a20. “Приглашение к биологии” см.: О частях животных 645a15.
Глава 2. Остров
Биографию Д. Томпсона написала его дочь. См.: Thompson 1958. Томпсон (Thompson 1910) идентифицирует тушканчика (История животных 606b6, n. I) и обсуждает род Rhinobatos и родственных ему в прим. 6 к История животных 566a27. Томпсон (Thompson 1910, vii) доказывает, что на Лесбосе (точнее, в восточной части бассейна Эгейского моря) Аристотель написал основные труды по биологии. Йегер (Jaeger 1948) проигнорировал это мнение, Ли (Lee 1948) поддержал Томпсона, а Сольмсен (Solmsen 1978) критиковал ее на основе “безликости” основных пассажей “Истории животных”. Позднее Ли (Lee 1985) снова выступил в поддержку Томпсона. Балм (Balme 1991, 25) считает пребывание на Лесбосе “наиболее вероятным” временем создания основной части “Истории животных”, однако полагает, что некоторые другие биологические труды Аристотель написал еще раньше, возможно, еще в Академии. Кульман (Kullmann 2007, 145–146) заключает, что наброски зоологических трудов созданы “не ранее времени пребывания на Лесбосе… Есть много данных, указывающих на то, что все зоологические труды задуманы в один период жизни Аристотеля. Мы не знаем, были ли они проработаны позднее”. Томпсон (Thompson 1910, iv) заявляет о невозможности снабдить комментариями естественнонаучные работы Аристотеля.
О птицах Лесбоса см.: Dudley 2009. О геологии острова см.: Zouros et al. 2008. О флоре острова см.: Bazos and Yannitsaros 2000; Biel 2002. Кроме того, местный врач, натуралист и полимат Макис Аксиотис издал (на греческом языке) несколько прекрасных книг о фауне и флоре Лесбоса, которые можно купить на острове.
Мой обзор фауны аристотелевской Лагуны собран из: История животных 621b13, 544a20, 547a4, 548a8, 603a22; О частях животных 680b1; О возникновении животных 763b1. Издание Томпсона (Thompson 1913) также включает фрагмент (История животных 548b25), где речь идет о губках мыса Малея. Однако, хотя на Лесбосе и есть мыс Малея, гораздо более знаменит тот, что находится на Пелопонесском полуострове, поэтому я не упомянул его. Аристотель называет Лагуну limnothalassa, “море-озеро” (ср.: О возникновении животных 761b7; История животных 598a20). Он не применяет его конкретно к Каллони.
Фрагменты Архестрата собраны и переведены Уилкинсом и др. (Wilkins 2011). В классической работе о греческой культуре потребления Дэвидсон (Davidson 1998) приводит массу сведений о роли рыбы.
О натурфилософах см.: Lloyd 1970; Warren 2007. Барнс (Barnes 1982; Barnes 1987) приводит обширную подборку текстов, снабжая их остроумными и познавательными комментариями. Увы, Барнсу, как он сам признается, не очень интересны научные теории натурфилософов, так что к его прекрасным книгам следует присовокупить работу Кирка и его соавторов (Kirk et al. 1983). По мнению Фаррингтона (Farrington 1944, 49) и Ллойда (Lloyd 1970, 9), натурфилософы “оставляли богов за порогом”. Другие ученые, например Седли (Sedley 2007), склонны усматривать у них намек на присутствие божественного. По Ллойду (Lloyd 1970, 10) и Барнсу (Barnes 1982, ch. 1), натурфилософы спорили между собой. Воззрение Фалеса на причины землетрясений приведено у Сенеки в “Исследованиях о природе” (III, 14; 6.6). О Гесиоде см.: Метафизика 983b19. Также см.: Гесиод Теогония 116–120. Гераклит о своих предшественниках и современниках: Тексты досократиков 22B40. “Корпус Гиппократа” имеется на французском (LittrÉ 1839–1861) и английском языках (Jones et al. 1923–2012; Lonie 1981).
Гиппократ о том, как формируются человек и другие животные: LittrÉ VIII, 1; Jones et al. 1923–2012, vol. VIII. “Гиппократ” об оксимеле: LittrÉ II, 16. Аристотель упоминает Гиппократа лишь однажды и не в связи с медициной (Политика 1326a15). О шарлатанстве Эмпедокла см.: Тексты досократиков 31B111. Аристотель критикует его стиль: Метафизика 985a5.
Много лет образцовой биографией Аристотеля считалась работа Дюринга (DÜring 1957). Превосходный новый анализ см.: Natali 2003. Об отказе Аристотеля от естествознания см.: О частях животных 642a29. Об учениках Платона см.: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов III, 46. Об отчаянии Сократа см.: Платон Федон 99B. Об антинаучной позиции Сократа см.: Ксенофонт Меморабилии I, 1.11–1.15. Цицерон одобряет этический поворот Сократа в т. 10 своих “Тускуланских бесед”.
О Спевсиппе см.: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов IV, 1. Диалог Сократа и Главкона см.: Платон Государство, 527C-531C.
О значении eikōs mythos см.: Burnyeat 2005. Учение Платона о числе см.: Тимей 54D-55C. Грегори (Gregory 2000) и Йохансен (Johansen 2004) дают обзор натурфилософии Платона. Хокинг (Hawking 1988) искал божественный разум. (И в итоге прекратил.) О конфликте дружбы и любви к истине см.: Никомахова этика 1096a11.
Рассказ (маловероятный) о том, как Аристотель издевался над престарелым Платоном, приводит Элиан. См.: Клавдий Элиан Пестрая история III, 19. О Гермии и Ассосе см.: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов V, 3–9. Ср.: Афиней Пир мудрецов XV, 696; Страбон География XIII, 1, 57. Эндрюс (Andrews 1952) рассуждает, участвовал ли Аристотель в политической жизни при дворе Гермия. Платон, возможно, никогда не встречал Гермия – по крайней мере это, по-видимому, подразумевается в его Шестом письме (о дружбе), адресованном Гермию и академикам Кориску и Эрасту. См.: Natali 2013. Аристотель рассуждает об оптимальном возрасте для брака: Политика 1335a27. Ему самому в то время было около 37 лет, поэтому предположим, что Пифиаде было 18 лет. “Своей прекрасной розе с веткой миртовой…”: Архилох [пер. В. Вересаева].
О раскопках в Ассосе см.: Clarcke et al. 1882.
Об археологии Эресоса см.: Schaus and Spencer 1994. О жизни Теофраста см.: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов V, 36–57. О Теофрасте как ботанике см.: Hort 1916; Einarson and Link 1976–1990; Amigues 1988–2006; Amigues 2012. Остальные записи Теофраста см. в серии Theophrastus of Eresus: Sources for his Life, Writings, Thought and Influence и связанных с ней работах под ред. Р. Шарплза, У. Фортенбо и П. Хьюби из Theophrastus Project.
“И счастлив будет тот…”: Thompson 1913, 13.
Глава 3. Ойкумена
О physikē [epistēmē] см.: Метафизика 1026a6. О physikos см.: Физика 197a22. О термине “ученый” см.: Whewell 1840, vol. I, 113. Этот автор пользовался им и ранее.
“Все люди от природы стремятся…”: Метафизика 980a21; Метафизика I, 1. “Метафизика” – компиляция. По примеру Йегера (Jaeger 1948), было принято выделять в ней временные слои, однако сейчас считается, что делать это трудно. См.: Barnes 1995b.
Оуэн (Owen 1961/1986) и Нуссбаум (Nussbaum 1982) рассуждают о том, что Аристотель имеет в виду под phainomena, но, по моему мнению, они не отдают должное его эмпиризму. Также см.: Bolton 1987. О понимании эмпирической реальности и первостепенной важности наблюдения в науке, например, см.: О небе 306a5. Следует также учитывать, что исследования Аристотелем phainomena часто начинаются не только с его собственных наблюдений, но также и с “достойных уважения мнений” или “мнений многих или мудрых”, т. е. endoxa. Например, см.: Топика 100b21. “Одни животные живородящи…”: История животных 489a35. Я рассчитываю число эмпирических заявлений в История животных в выбранном наугад отрывке (1500 слов) “Истории животных” под ред. Томпсона. См.: Thompson 1910. О допущении Платоном гаданий см.: Тимей 71–72. “Наступая на тех, кто впереди…”: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов V, 20. Об источниках эмпирических данных Аристотеля см.: Bourgey 1955; Preus 1975; Lloyd 1987. О прорицателях и поведении птиц см.: История животных 608b19. О том, что большую часть сведений о птицах Aристотель, вероятно, получил от прорицателей, см.: Thompson 1895, Thompson 1910, n. 609a4; Preus 1975, 34–36; Ibid. 278, n. 113, 115, 116). Об alkyōn также см. гл. 13 моей книги. О мифе у Аристотеля см.: Preus 1975, 22. Ллойд (Lloyd 1979, ch. 3) рассматривает связь между наукой и народными поверьями у греков. О таранных костях см.: История животных 499a22, 499b19. О желчном пузыре см.: История животных 506a20. О журавлях см.: История животных 597a23. О львах см.: История животных 579b2. О волках см.: История животных 580a11. О говорящих головах см.: О частях животных 673a10.
Об издающих звуки рыбах см.: История животных 535b14. О звуках, которые издает Zeus faber, и механизме, который позволяет рыбе это делать, см.: Onuki and Somiya 2004. Сарказм Афинея: Пир мудрецов VIII, 352. Существует поверье, будто крестьяне и рыбаки отлично разбираются в существах, с которыми они имеют дело, однако практика показывает обратное. Например, см.: Thompson 1998 (о преданиях о тюленях шотландских островов). О рыбах, делающих фелляцию, см.: История животных 541a13, 567a32; О возникновении животных 756a7. Часто говорят, что рассказ Геродота (История II, 93) относится к тилапии (Oreochromis nilotica), которой свойственна оральная инкубация икры, однако тилапия пресноводна, а Аристотель и Геродот, кажется, говорят о солоноводном или эстуарном виде. Также см.: О частях животных 639a1; История животных 566a8.
О хамелеоне см.: История животных 503a15. Также см.: Balme 1987a. Лоунс (Lones 1912, 157) указывает, что у хамелеона есть селезенка, однако она невелика: “около 0,11 дюймов длиной”.
Плутарх в “Жизнеописании Александра” (668, 7, 4 [пер. М. Ботвинника и И. Перельмутера, обработка С. Аверинцева]) пишет, что он считает воспитание Александра заслугой Аристотеля. Натали (Natali 2013) подвергает сомнению историю о Миезе, но непонятно, почему: ведь он признает, что Аристотель где-то учил Александра. История “Илиады” Александра также рассказана Плутархом. Аристотель сочинял для Александра пособия (за исключением нескольких фрагментов, они утеряны) о том, как руководить подвластными территориями. Лейн-Фокс (Lane-Fox 1973) рассказывает о жизни Александра. Плиний рассказывает, что Александр спонсировал исследования Аристотеля (Естественная история VIII, 44). Также см.: Афиней Пир мудрецов IX, 398e. Льюис (Lewes 1864, 15), Огл (Ogle 1882, xiii-xiv), Ромм (Romm 1989) и т. д. отрицают правдивость рассказа Плиния. При этом Йегер (Jaeger 1948) высказывался в поддержку Плиния, поскольку рассказ соответствует эволюции творчества Аристотеля. Ллойд (Lloyd 1970, 129) отмечает, что идея, что государство прямо финансирует научное исследование, а не содержит ученых при дворе, как Гермий, скорее всего, в IV в. до н. э. была чужда грекам и что первым зафиксированным случаем государственного финансирования науки является Александрийская библиотека (III в. до н. э.). Высказывание о Ливии приписывают Плинию (Естественная история VIII, 42), однако Аристотель пишет, что уже в его время оно было старо. См.: История животных 606b20. В Глоссарии см. список упоминаемых здесь аристотелевских животных и их сопоставление с современными видами.
О мартихоре см.: История животных 501a24. О том, насколько неправдоподобны высказывания Ктесия о слоновьей сперме, см.: История животных 523a26. О сведениях Ктесия об Индии см.: 606a8. Об oryx см.: История животных 449b20. Об onos Indikos см.: История животных 499b19; О частях животных 63a19. Аристотель амбивалентно высказывается о статусе так называемого индийского осла и пишет, что, “как сообщают”, у него есть рога и один горб; если это все-таки носорог, то он неправ, так как у того три пальца на ноге. См.: Глоссарий. Геродот о доверии своим наблюдениям: История II, 99; II, 147; IV, 81; V, 59. Аристотель взял у Геродота, но не оговорил это, следующие данные: о менопаузальнах жрицах (Аристотель История животных 518a35; Геродот История I, 175; VIII, 104), о том, как верблюды дерутся с лошадьми (Аристотель История животных 571b24; Геродот История I, 80), о львах (Аристотель История животных 579b7; Геродот История VII, 126), о журавлях (Аристотель История животных 597a4; Геродот История II, 22), о египетских животных (Аристотель История животных 606b20; Геродот История II, 67), о летающих змеях в Эфиопии (Аристотель История животных 490a10; Геродот История II, 75), о коленях у верблюда (Аристотель История животных 499a20; Геродот История III, 103). О сперме эфиопов см.: Аристотель История животных 523a17; Геродот История III, 101. О выкапывающих золото муравьях см.: Геродот История III, 101–105. О крылатых змеях см. гл. 14 моей книги. Кроме “Персики” и “Индики” Ктесия и “Истории” Геродота, Аристотель также мог использовать “Гераклею” Геродора, которую он упоминает. Есть и множество других работ, которые Аристотель не упоминает, но которые он мог использовать, например “Персику” Гераклита из Кимы (сер. IV в. до н. э.) и “Перипл” Дамаста (V в.).
О том, видел ли Аристотель слона, и, если да, азиатского или африканского, написано немало. Я полагаю, что он не видел ни того, ни другого. Пройс (Preus 1975, 38) считает, что Аристотель мог видеть слона в македонском зоопарке, хотя нет свидетельств, что у македонян когда-либо были зоопарки. Ромм (Romm 1989) пробует опровергнуть Плиния, утверждая, что Аристотель видел африканского слона, а Бигвуд (Bigwood 1993) рассматривает возможные литературные источники знаний Аристотеля о слоне. Также см. гл. 6, 8 моей книги. О львах см.: Аристотель История животных 579a31, 594b18, 629b12; Аристотель О возникновении животных 760b23. Данные о распространении азиатского льва в Европе Аристотель большей частью взял у Геродота (ок. 430 г. до н. э.). В “Истории животных”, 629b12, Аристотель, по-видимому, опирается и на рассказы охотников, выделяя два рода львов. Ксенофонт (ок. 380 г. до н. э.) рассказывает об охоте на львов в Македонии. Также см.: Bigwood 1993, 236 n. 6; Schnitzler 2011. О страусе см.: Аристотель История животных 616b5; О частях животных 644a33, 658a10, 695a15, IV, 14; О возникновении животных 749b15, 752b30. О пальцах у верблюда см.: История животных 499a23. То, что Аристотель о них говорит, неясно (Lones 1912, 191–192), но если задние и передние означает соответственно задние конечности и передние конечности, то Аристотель прав: щель между пальцами на задних ногах глубже, чем на передних. Аристотель не указывает ясно, из скольких камер состоит желудок верблюда, и с этим можно смириться: об их количестве и связи с желудками жвачных спорили веками. См.: Wang et al. 2000. О выстреливающем фекалиями зубре см.: Аристотель История животных 630b9. Ср.: О чудесных слухах (псевдоаристотелевский трактат) 1. О направленном против хищников поведении бычьих см.: Estes 1991, 195. Такое же поведение наблюдалось у американского бизона.
О гиене см.: История животных 579b15. Ср.: О возникновении животных 757a3. Многие увидели здесь описание псевдогермафродитизма пятнистой гиены, однако это неправдоподобно. См.: Глоссарий (hyaina/glanos/trochos). Бигвуд (Bigwood 1993) утверждает, что сведения об экзотических животных Аристотель получал от Каллисфена, а также упоминает Евдокса Книдского. (См. гл. 15 моей книги.) Об отношениях Aристотеля, Каллисфена и Александра Македонского см.: Brown 1949. Ромм (Romm 1989) пишет о традиции имиджмейкерства. Конечно, неизвестных помощников у Аристотеля могло быть и несколько: вспомним огромную сеть корреспондентов Дарвина.
Глава 4. Анатомия
Сложно точно сказать, животных скольких видов вскрывал Аристотель. Лоунс (Lones 1912, 102–106) заявляет о 48 видах, что, конечно, является преувеличением, так как он включает сюда слона и других животных, насчет которых Аристотель высказывается неясно. О вскрытии крота (aspalax) см.: История животных 491b28. Также см.: Глоссарий. Подробное описание анатомии каракатицы см.: История животных IV, 1. Упоминание о схеме вскрытой каракатицы см.: История животных 525a8. Вообще Аристотель часто прибегает к схемам и таблицам. См.: Natali 2013, ch. 3.3.
О том, что мы должны сначала уяснить устройство человеческого тела, см.: История животных 491a20. Ллойд (Lloyd 1983, ch. I, 3) рассуждает о человеке как о модельном организме и указывает признаки, которые, по Аристотелю, присущи лишь людям, но оговаривает, что этот перечень применим и в других случаях, например когда Аристотель описывает обезьян. О неясности внутренней анатомии человека см.: История животных 494b19. О форме человеческого желудка и позвоночника см.: История животных 495b24, 496b22. Кроме этих, однако, есть не так уж много указаний, позволяющих предположить, что Аристотель вскрывал человеческий труп. Льюис (Lewes 1864, 160–170) рассуждает, вскрывал ли Аристотель человека, и на с. 157 несправедливо принижает значение вскрытий Аристотеля, утверждая, что его навыки слабее тех, что присущи современному анатому. Косанс (Cosans 1998) пишет об этом более благожелательно. Ллойд (Lloyd 1973, ch. 6; Lloyd 1975) пишет об Эрасистрате, Герофиле и александрийской школе анатомов. О том, что человеческая матка двурога, см.: История животных 510b8. Также см.: Owen 1866, vol. 3, 676–708. О количестве ребер у человека см.: История животных 583b15. О том, почему Аристотель мог ошибиться, см.: Lewes 1864, 155–170; Ogle 1882, n. О частях животных I, 5. Ни у одного из обычных одомашненных млекопитающих, которых мог видеть Аристотель, нет восьми пар ребер. О почках у домашних животных см.: Owen 1866, vol. 3, 604–609; Sisson 1914, 564–570. О человеческом эмбрионе см.: История животных 583b14. Замечательное, хотя отчасти неверное, описание Аристотелем сердечно-сосудистой системы см.: История животных III, 2–4. Ср.: История животных 496a4; О частях животных III, 4. Предшественники Аристотеля: Сиеннесий (История животных 511b24), Диоген (История животных 511b31) и Полиб (История животных 512b12). Об отношении Аристотеля к гиппократикам см.: Oser-Grote 2004. Претензия Аристотеля на авторитетность результатов его препаровок: История животных 513a13. Ср.: О частях животных 668a22; История животных 496a8; О частях животных 668b26. Когда в трактате “О частях животных” Аристотель ссылается на “вскрытия” или “анатомии”, я предполагаю, что речь идет о книгах, однако он мог иметь в виду и общие исследования. См.: Lennox 2001а, 179, 257, 265. Существует огромное множество книг о том, насколько верно описание Аристотелем сердечно-сосудистой системы и, в частности, почему он полагал, что у млекопитающих трехкамерные сердца. Например, см.: Huxley 1879; Ogle 1882, 193–196; Thompson 1910, прим. к История животных 513a30; Lones 1912, 136–147; Harris 1973, 121–176; Cosans 1998; Kullmann 2007, 522–251. О капиллярах см.: Аристотель История животных 513b21, 514a23; О частях животных 668b1.
О мочеполовой системе живородящих четвероногих см.: История животных 506b26. Боянус (Bojanus 1819–1821) иллюстрирует классическую бобовидную форму и модульное строение почек черепахи. О морских ежах в Пиррейском проливе см.: История животных 544a20. Аристотель утверждает, что съедобного морского ежа (Paracentrotus lividus) можно опознать по водорослям и другому мусору, который он носит на иглах (История животных 530b16). В Эгейском море это свойственно лишь P. lividus, хотя причины этого загадочны. См.: Crook et al. 1999. По сей день жители Лесбоса охотятся лишь на “украшенных” морских ежей, хотя более распространены несъедобные (и “неукрашенные”) Arbacia lixula. О структуре, которая впоследствии станет известна как аристотелев фонарь, см.: История животных 531a3. Ср.: История животных 530b24. Леннокс (Lennox 1984) утверждает, что то, что мы теперь называем аристотелевым фонарем, – лишь часть того, что он подразумевал. Также см.: Voultsiadou and Chintriroglou 2008 (авторы поместили изображение древнего фонаря). О том, что дятлы гнездятся в оливковых рощах, см.: История животных 614b11. Кювье (Cuvier 1841, vol. I, 132) хвалит Аристотеля как зоолога. См.: Lewes 1864, 154–156. Похожие фрагменты работ зоологов прошлого см.: Bourgey 1955; Lloyd 1987, 53. Холдейн (Haldane 1955) и Бодсон (Bodson 1983), среди прочих, призывали к систематической оценке качества эмпирической работы Аристотеля в свете современной биологии. Это еще предстоит сделать.
О родительской заботе у сомов см.: История животных 621a21. О развитии сома см.: 568a20. Об анатомии сома см.: 490a4, 505a17, 506b8. Кювье и Валаньсен (Cuvier and Valenciennes 1828–1849, vol. 14, bk. 17, ch. 1, 350–351) идентифицировали glanis у Аристотеля как S. glanis. Агассис (Agassiz 1857) предложил название S. aristotelis, но не описал его. Это сделал Гарман (Garman 1890). Агассис, Гарман, Хотон (Agassiz, Garman, and Houghton 1873) и Джилл (Gill 1906; Gill 1907) повторяют рассказ, однако никто из них, кажется, сам не видел, как самец S. aristotelis строит гнездо и охраняет икру. И. Леонардос из Университета Янины (2010) в переписке подтвердил мне данные Аристотеля и прибавил, что мальки этих рыб растут медленно. Аристотель (История животных 607b18) описывает родительскую заботу и у другого вида рыб, phykis. Он утверждает, что это единственный вид морских рыб, которому это свойственно. Какая именно это рыба, неясно, однако Аристотель неправ в том, что это единственный вид морских рыб, которому свойственно строить гнезда: несколько видов губанов, бычков и морских собачек строят гнезда и охраняют молодняк. О характерах животных см.: История животных 608a1.
Об аргонавте см.: История животных 525a19, 622b8. Об обнаружении гектокотиля см.: Owen 1855, 630–631. О щупальце у самца осьминога см.: История животных 524a4, 541b8. О половом поведении осьминога см.: История животных 544a8; О возникновении животных 720b32. Льюис (Lewes 1864, 197–201) резко критикует представление, будто Аристотель видел гектокотиль, однако Льюис ошибся. Стенструп (Steenstrup 1857) и Фишер (Fischer 1894) продемонстрировали, что Аристотель все-таки видел гектокотиль. Томпсон (Thompson 1910) иллюстрирует слова Аристотеля изображением развитого гектокотиля, принадлежащего виду, которого тот видеть не мог. Гектокотиль Octopus vulgaris гораздо менее выражен.
О половой системе селахий см.: История животных VI, 10–11; ср.: История животных 511a3; О возникновении животных III, 3. О строении плаценты куньей акулы см.: История животных 565b4; ср.: О возникновении животных 754b28. О куньей акуле см.: MÜller 1842; Cole 1944; Thompson 1947, 39–42; Bodson 1983. О batrakhos, его идентификации и размножении см.: История животных 505b4, 564b18, 570b29; О возникновении животных 749a23, 754a26, 754b35, 755a8, 749a24. Томпсон (Thompson 1940, 47) суммирует достижения Аристотеля.
Глава 5. Природа
Шиллер о природе: О наивной и сентиментальной поэзии (1795-1796). “Гермес передал мне…”: Одиссея X, 302–303. Демокрит о природе: Тексты досократиков 68B33. Ллойд (Lloyd 1991, ch. 18) рассуждает о социальном контексте “изобретения природы” в Греции. Аристотель о природе: Метафизика IV, 4; Физика II, 1. Также см.: Lear 1988, 16–17. О самоочевидных свойствах природы см.: Физика 193a3.
О желании Платона сжечь книги Демокрита см.: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов IX, 38–40. Аристотель, напротив, написал книгу о Демокрите, в которой изложил его физическую теорию и указал ее последствия для биологии. См.: Фрагменты F208R3. Аристотель постоянно нападает на материалистов. Например, см.: Физика II, 4–8; Метафизика I, 3–4; О душе I, 2–3; О частях животных 640b5. В центре его критики понятие самопроизвольного – это термин, который я использую для двух терминов: automaton и tychē. Оба слова относятся к событиям или феноменам, которые кажутся результатом целенаправленной действующей силы, однако таковыми не являются. Они различаются следующим образом: tychē (часто переводимое как “судьба”) могло быть, но не вызвано человеческим разумом, а automaton (часто переводимое как “самопроизвольное”, “автоматическое”, “случайное”) могло быть, но не вызвано целенаправленной действующей силой, например побуждениями некоторого животного. Таким образом, automaton – более общий термин. Оба слова иногда переводят как “случай”, однако это подразумевает результат вероятностного процесса, как, например, подкидывание монеты, а Аристотель имеет в виду не это. Я перевожу “самопроизвольное” в обоих случаях, поскольку, во-первых, я не рассматриваю воздействие человека, во-вторых, и Аристотель не разделяет их последовательно, в-третьих, слово “самопроизвольное”, кажется, способно указать на непреднамеренный результат. Отмечу также, что Аристотель, говоря о самозарождении, использует термин automaton иначе. См. гл. 12 моей книги.
О теории смешивания у Эмпедокла см.: Тексты досократиков 31B8; Метафизика 1015a1. Живорождение по Эмпедоклу можно реконструировать из следующих фрагментов. Об образовании тканей см.: Тексты досократиков 31B96, 31B98. О частях тела см.: 31B57. О случайном комбинировании см.: 31B59. Многое в его теории неясно, в частности, должны ли Любовь и Вражда пониматься как свойства начал, внешнее физическое воздействие, божественные силы или как все это сразу. Симпликий анализирует воззрения Эмпедокла в своей “Физике”, 371.33–372.11. Несмотря на то, что Эмпедокл ясно изложил принцип селекции, он не помышлял о непрерывной эволюции. Аристотель также приписывал идею эмбриональной селекции Эмпедоклу (гл. 10 моей книги), однако неясно, верил ли в это сам Эмпедокл – хотя он, кажется, и признавал, что и в наше время еще могут появляться уроды. См.: Sedley 2007, 31–74. Кэмпбелл (Campbell 2000) утверждает, что нашел идею эволюции путем естественного отбора в принадлежащем к “Гиппократову корпусу” трактате “О древней медицине” (3.25). Однако, хотя в этом тексте явно говорится о селекции (посредством питания), остается неясным, передают ли более здоровые особи свое более выносливое строение – т. е. эволюционируют ли они. Селекция у Эпикура и Лукреция выглядит гораздо убедительнее. См.: Campbell and Sedley 2007, 150–155. Аристотель об органическом развитии: Физика II, 8. Ллойд (Lloyd 1970, ch. 4) и Седли (Sedley 2007, ch. II, V) рассматривают материалистов-досократиков. Также см.: Barnes 1982, ch. XV–XX. Об атомизме Демокрита см.: Barnes 1982, 377. О критике Аристотелем материалистов см.: Nussbaum 1978, 59–99; Waterlow 1982, ch. II; Johnson 2005, ch. 4, 5.
Аристотель хвалит Анаксагора (Метафизика 984b15; ср.: О душе 405a20) и критикует его (Метафизика 985a19). Сократ (Платон) критикует Анаксагора. См.: Федон 98B-99C. Также см.: Johnson 2005, 112–115. Об источнике термина “телеология” см.: Johnson 2005, 30. Пейли (Paley 1809/2006, 24) восторгается, как и Сократ, глазным веком. См.: Меморабилии I, 4.6. Аристотель о веках: О частях животных II, 13. О Сократе как авторе аргумента творения по замыслу см.: Johnson 2005, 115–117; Sedley 2007, 78–92. Платон о благе и божественном: Тимей 29A; Тимей 30A; Государство, 530A. Платон о ремесленниках: Горгий 503D-504. О зоологии Платона см.: Тимей 72D-73, 74E-75C. Платон о пищеварительном тракте: Тимей 73A. Платон о превращении ногтей в когти: Тимей 76D-E. О недовольстве Платона материализмом см.: Законы 889A-890D. Леннокс (Lennox 2001b, ch. 13) рассуждает о телеологии Платона. Ллойд (Lloyd 1991, ch. 14) дает менее желчный обзор платоновской науки, чем я.
“Мы всегда утверждаем, что одно происходит ради другого…”: О частях животных 641b25. Также см.: Gotthelf 2012, 2–5. Написано множество книг об аристотелевской телеологии. Например, см.: Kullmann 1979; Gotthelf and Lennox 1987; Lennox 2001b; Quarantotto 2005; Johnson 2005; Leunissen 2010a; Gotthelf 2012. О самодвижущихся предметах и живых существах см.: О движении животных 701b2. Также см. гл. 9 моей книги. Аристотель сравнивает организмы и произведения рук человеческих (Физика II, 8; О частях животных I, 1; Метафизика VII, 7) и приводит доводы против разумного Творца (Физика 199a8, 199b30). Аристотель отрицает телеологию Платона (Метафизика 988a7), но Платон действительно использует аргумент “ради чего-то”, когда говорит о порождении (Филеб 54C). См.: Johnson 2005, 118–127. О пищеварительном тракте см.: Аристотель О частях животных 675b23. О морфологии половой системы см.: О возникновении животных 717a21. О цели тела см.: О частях животных 645b15.
О существе, наделенном душой и умом, у Платона см.: Тимей 30C-31A. Также см.: Cornford 1997, 39–42. О критике Платона см.: Метафизика I, 9. О множестве eidē птиц и рыб см.: История животных 486b224. Томпсон (Thompson 1910, n. 490b16) одним из первых отметил, что Аристотель использует eidos несколькими способами, и не все можно переводить как “виды”. Балм (Balme 1962a) и Пеллегрен (Pellegrin 1986) возражают против того, что Аристотель занимался таксономическим проектом. Об atomon eidos см.: О частях животных 643a13; Метафизика 1034a5; О душе 415b6; История животных 486a16. Предметом спора остается то, что такое atomon eidos: особи или виды (или то и другое). Балм (Balme 1987d) и Генри (Henry 2006a; Henry 2006b) считают, что Аристотель имел в виду особей. Я нахожу убедительным следующий аргумент (Gelber 2010): Аристотель обычно подразумевает виды, т. е. две особи могут делить между собой одну неделимую форму. У этой интерпретации есть следствия, касающиеся теории наследственности Аристотеля, так как в этом случае я вынужден прибегнуть к дополнительному, подвидовому уровню наследственной изменчивости, которую называю “неформальной” изменчивостью. См. гл. 11 моей книги. О формах см.: О частях животных 641a6; Метафизика VII, 17. Дельбрюк (DelbrÜck 1971) высказывался за интерпретацию формы как информации, и многие с ним согласились. См.: Furth 1988, 120; Kullmann 1998, 294; Henry 2006a; Henry 2006b. Иную точку зрения на предмет см.: Depew 2008.
О каузальных объяснениях см.: О возникновении животных 715a4; Физика II, 3; О частях животных 642a2. О каузальном объяснении у Аристотеля см.: Peck 1943, xxxviii-xliv; Leunissen 2010a; Leunissen 2010b. Лир (Lear 1988, 29–31) объясняет, как “причины” у Аристотеля отличаются от “причин” у Юма. Влияние разделения Аристотелем каузальных объяснений на историю биологии – одна из основных тем классической работы Рассела (Russell 1916). Хаксли (Huxley 1942), Майр (Mayr 1961) и Тинберген (Tinbergen 1963) приводят разные виды каузальных объяснений в современной биологии, причем Майр прямо цитирует Аристотеля. Также см.: Dewsbury 1999. Главное различие между их списком каузальных объяснений и списком Аристотеля заключается в том, что в списке Аристотеля нет эволюционного измерения, а в их – есть. Среди тех, кто видел в Аристотеле неоригинального мыслителя или платоника, были Поппер (Popper 1945/1962, vol. 2, ch. 11) и Седли (Sedley 2007, 167–204), но эта традиция идет из древности и лежит в основе всего неоплатонического проекта.
Глава 6. Храп дельфина
О Музее естественной истории (Лондон) и его экспонатах см.: Stearn 1981. Леннокс (Lennox 2001b, ch. 2) рассуждает о том, как Аристотель мог распорядиться своими данными.
Предисловие Феодора Газы (1476) к изданию Аристотеля см.: Perfetti 2000, 16. Перфетти также указывает на влияние Плиния. О датировке и структуре “Истории животных” по Феодору Газе см.: Beullens and Gotthelf 2007. Плиний о слоне см.: Естественная история VIII, 1, 13, 32 (пер. И. Шабага). Широко распространено мнение, что Аристотель не занимался изучением естественной истории. Френч (French 1994) с этим не соглашается, хотя его взгляд (по его же собственным критериям) непоследователен.
Панегирик Кювье (1841) Аристотелю-систематику см. у Пеллегрена (Pellegrin 1986, 11). Современные греческие названия рыб см. у Куцогианнопулоса (Koutsogiannopoulos 2010; работа доступна пока лишь по-гречески). Аристотель упоминает несколько пород собак: История животных 574a16. О крабе hippos см.: История животных 525b7. О kyanos см.: История животных 617a23. Он много пишет о головоногих, особенно об их анатомии. См.: История животных IV, 1. Также см. гл. 11 моей книги. Об аргонавте см.: История животных 622b8. Ср.: История животных 525a19. Также см. гл. 12 моей книги. О головоногом, которое живет в раковине, как улитка, см.: История животных 525a26. Также см.: Scharfenberg 2001. О других видах крабов см.: История животных 525b6. Ср.: О частях животных 683b26. Даймонд (Diamond 1966) рассказывает о способности новогвинейских горцев различать птиц. О “народной систематике” см.: Atran 1993. Также у него есть глава о систематике Аристотеля.
О “животных с кровью” см.: История животных II. О “бескровных” животных см.: История животных 490b7, 523a31 и т. д. О том, что названия ornithes и ikthyes происходят из обиходного языка, см.: О частях животных 644b5. Ср.: 643b9. Некоторые из терминов, придуманных Аристотелем (например, malakostraka), являются сокращенными описаниями. Ср.: Аристотель Вторая аналитика 93b29-32; Peck 1965, lxvii, 31; Lennox 2001a, 155. Вероятно, использование таких названий началось в Академии. Спевсипп, по всей видимости, пользовался термином malakostraka. См.: Wilson 1997. Иерархия genē Аристотеля очень несовершенна, однако он не позволяет никакому второстепенному роду находиться более чем в одной позиции. Ср.: Топика IV, 2. Многие genē в лучшем случае классифицированы в enhaima или anhaima, напр., люди не входят ни в какой genos, кроме enhaima. См.: История животных 490b18. Следующие фрагменты свидетельствуют в пользу того, что Аристотель был убежден в необходимости иерархической классификации. О “животных с кровью” см.: История животных 505b26. О “бескровных” животных см.: 523a31, 523b1. О “мягкораковинных” см.: О частях животных 683b26 (ср.: История животных 490b7). О том, что в классификации каждое животное должно появляться лишь единожды, см.: О частях животных 642b30, 643a8. Борхес пишет о (вымышленной) энциклопедии в произведении 1942 г. “Аналитический язык Джона Уилкинса”. См.: Borges 2000, 231. Об ортогональной классификации форм правления см.: Политика III, 7. Эта классификация – результат применения метода, описанного в “Политике”, IV, 3. Аристотель явно сравнивает классификации государств с классификациями животных и советует, чтобы мы взяли все разнообразие органов – государств или животных – и классифицировали их ортогонально: “Таким образом, неизбежно получается столько же видов государственного строя, сколько имеется способов управления в зависимости от превосходств и отличительных свойств, присущих составным частям государства”. Однако именно этого он и не делает, когда классифицирует животных, поскольку это неизбежно привело бы к появлению пустых классов. Например, представьте, что вы классифицируете животных по двум видам признаков: оральным органам (зубам или клювам) и дермальным (волосам или перьям). Ортогональная классификация породила бы четыре класса животных: 1) с зубами и волосами, 2) с клювом и волосами, 3) с зубами и перьями, 4) с клювом и перьями. Млекопитающие соответствуют пункту 1, птицы – пункту 4, а пунктов 2 и 3 не существует (у утконоса нет клюва). Это показывает, что ортогональные классификации неэффективны, так как они не отражают у биологических объектов реальной ковариации. Я полагаю, что Аристотель сначала рассматривал их, но увидел абсурдность и отказался от них, возможно, когда занялся биологией. На самом деле он даже не следует собственному призыву к ортогональной классификации, поскольку подразделяет genē (Политика III, 7) так, что классификация форм правления обладает гнездовой структурой.
О значении genos см.: Метафизика V, 28. Также см.: Pellegrin 1986, ch. 2.
О монархе см.: Платон Политика 257-268e. Платон находит смешным (Политика 266D), что царь “бежит вместе со стадом и в беге сотовариществует с таким храбрецом, который превосходно приучен к жизни без затруднений” (изм. пер. В. Карпова). В схеме разделения группе “пастухов для двуногих без перьев” – т. е. монархов – оказывается параллельна группа “пастухов для двуногих с перьями” – гусятников, профессия которых, очевидно, нехлопотлива. Аристотель следует платоновским методам разделения, однако с некоторыми изменениями: Метафизика VII, 12; Вторая аналитика II, 5, 13, 14. Также см.: О частях животных I, 2–3; Balme 1987b, Lennox 2001a, 452–472. Некоторые утверждают, что целью аристотелевского разделения было определение, а не классификация, но из чтения “О частях животных” (I, 4) ясно, что он заинтересован в идентификации родов и работает с ними. См.: Lennox 2001a, 167–169. Также см. гл. 6 моей книги. “Не следует перерезать связи между объектами…”: Платон Федр 265E.
О diaphorai, или признаках, см.: История животных I, 1. О принципе “большее или меньшее” как источнике разделения обычных родов внутри высших родов птиц см.: О частях животных 692b3. Ср.: История животных II, 12–13; История животных 486b13, 497b4; О частях животных 644a13. также см.: Lennox 2001b, ch. 7. О геометрии тела животных см.: О походке животных 4; О частях животных 665a10; История животных 494a20. О том, почему человек стоит особняком, см.: История животных 490b18, 505b31. О каракатице и геометрии тела головоногих см.: История животных 523b22; О частях животных IV, 9; О походке животных 706a34. Также см. гл. 14, 15 моей книги. О геометрии растений см.: О походке животных 706b5; О долгой и краткой жизни 467b2; Физика 199a26; О частях животных 686b35. Об аналогах см.: История животных 486b18, 497b11; О частях животных 644a22. Некоторые полагают, что эта идея у Аристотеля близка к аналогии (Owen 1843) как “части или органа одного животного, у которого такая же функция, как у части или органа другого животного”. Леннокс (Lennox 2001a, 168) справедливо отмечает, что Аристотель редко указывает явным образом на функциональное сходство, однако иногда он это делает (например, в случае сердца и его аналогов). Об аналогах см.: Lloyd 1996, ch. 7; Lennox 2001b, ch. 7; Pellegrin 1986, 88–94. Пеллегрен утверждает, что у analogon нет классифицирующей функции, но я нахожу его аргументы неубедительными. О “мозге” головоногих см.: О частях животных 652b24; История животных 494b28, 524b4. Также см.: Lennox 2001a, 209–210. Расселл (Russell 1916, 7) и Балм и Готтхельф (Balme and Gotthelf 1992, 120) соглашаются, что у Аристотеля косвенно присутствует концепция гомологии. Однако следует отметить, что у частей, являющиеся одинаковыми “без оговорок”, может быть множество значений. См.: Lennox 2001b, ch. 7. О сравнении скелетов змеи и яйцекладущего четвероногого см.: История животных 516b20; О частях животных 655a20. О том, что змеи подобны безногим ящерицам, см.: История животных 508a8; О частях животных 676a25. О морских котиках см.: История животных 498a32; О частях животных 657a22, 697b5.
О способах разделения некоторых сухопутных животных см.: История животных 490b19. Этот пассаж появляется посередине рассуждения о высших родах, так что, кажется, направлен на их обозначение. О змеях как genos см.: История животных 490b23, 505b5. О необходимости учитывания многих признаков одновременно см.: О частях животных 643b9. О политетической классификации и ее истории см.: Beckner 1959; Mayr 1982, 194–195. Майр (Mayr 1982, 192) и Леннокс (Lennox 2001a, 165–166, 343; 2001b, ch. 7) соглашаются, что Аристотель использовал политетическую классификацию. О страусе см. гл. 3 моей книги. О трех видах обезьян у Аристотеля см.: История животных 502a34; О частях животных 689b31 (в другом месте упомянут и возможный четвертый вид). Pithēkos является “двойственным” существом не из-за конвергентной эволюции, а потому что он оказывается посередине между двумя дивергентными родами (четвероногими и людьми). Это следствие отказа Аристотеля расположить людей там, где они должны находиться: среди zōotoka tetrapoda. Аристотель сделал это потому, что верил в уникальность человека (гл. 15 моей книги). О “двойственных” существах см.: Lloyd 1983, ch. I, 4; Lloyd 1996, ch. 3.
Рассказ об Арионе см.: Геродот История I, 24. О дельфине в античности см.: Thompson 1947, 54–55. О педофилических наклонностях дельфинов см.: История животных 631a8. О признаках китообразных см.: О юности и старости, о жизни и смерти 476b12, История животных 589a33, О частях животных 655a15, 669a8, 697a15. Плиний пишет бессмыслицу о дельфинах в кн.: Естественная история IX, 7–10.
Мейер (Meyer 1855), Балм (Balme 1987b) и Пеллегрен (Pellegrin 1986) последовательно опровергали мнение, будто Аристотель строит классификацию (и даже то, что он вообще желал ее построить), и эта точка зрения стала до некоторой степени догмой. Однако Аристотель явно строит классификацию и пользуется ею, пусть она очень несовершенна и не является его главной целью. См.: Lloyd 1991, ch. 1; Lennox 2001a, 169; Gotthelf 2012, ch. 12. О пользе классификации см.: О частях животных 644a34. О порядке подачи данных в “Истории животных” см.: 487a10. Я исходил из последовательности частей “Истории животных”, установленной Балмом (Balme 1991), а не Томпсоном и ранними авторами, которые использовали порядок Феодора Газы (см.: вступление у Балма). Балм также предполагает, что “История животных” – не первая из зоологических работ Аристотеля. Вероятно, все они в течение жизни Аристотеля (и, возможно, его последователями) дополнялись и в той или иной степени объединены, и теперь очень трудно определить порядок появления трактатов. О желудке жвачных см.: История животных 507a32. Среди ученых, изучающих зоологию Аристотеля, распространено мнение, что “История животных” предоставляет базовый материал для науки, построенной на доказательствах.
Глава 7. Инструменты
Аристотель о своей работе “История животных” см.: 491a12. Ср.: О частях животных 639a13, 640a1; О возникновении животных 742b24. Также см.: Leunissen 2010a, ch. 3.1.
О логике и силлогистике Аристотеля (в порядке увеличения сложности) см.: Barnes 1996, 7–8, Ackrill 1981, ch. 6–7; Ross 1995, ch. II; Anagnostopoulos 2009c; Byrne 1997; Barnes 1993. Последняя требует знания формальной логики. О том, что требуется для научного знания, см.: Вторая аналитика 71b9. О доказывании см.: Вторая аналитика 71b9, 71a8, 73b25 (ср.: О душе 417b21; Метафизика 1036a2, 1039a24, 1086b32), 72a25. О том, как колюшка утратила брюшные плавники, см.: Shapiro et al. 2004; Chan et al. 2010. Ареал Gasterosteus aculeatus включает и Грецию, однако среди описаний Аристотеля нет ни одной рыбы, которую можно очевидным образом соотнести с этим видом. Аристотель понимает “определение” по-разному. См.: Вторая аналитика II, особенно 94a11. Здесь я имею в виду “высказывание, объясняющее что есть (данная) вещь”[257]. О роли в науке Аристотеля причинно-следственных определений см. мою гл. 8. О телеологических доказательствах, например, см.: О частях животных 640a1. Также см.: Lloyd 1996, ch. 1; Leunissen 2010a. О необходимости первичных определений см.: Вторая аналитика II, 19. Другие примеры см.: Gotthelf 2012, ch. 7. Бирн (Byrne 1997, 207–211) рассматривает расхождения Аристотеля с софистами.
Аристотель не закрывает глаза на проблемы: 1) ложного вывода причин из ассоциаций, 2) ложного определения направления причинности, 3) множественной причинности. Он делает различие (Вторая аналитика I, 13) между “фактом”, под чем он, по-видимому, имеет в виду просто ассоциацию, доказанную силлогизмом, и “обоснованным фактом”, под чем он, по-видимому, имеет в виду ассоциацию + некоторую другую информацию, которая убедит нас в том, что причинная связь существует, и покажет, в какую сторону она направлена. Говоря кратко, он, возможно, утверждает (обоснованно), что некоторые другие источники информации, внешние по отношению к силлогизму, могут показать, что причинная связь существует, и чем именно она является, однако его рассуждение не слишком ясно. См.: Lennox 2001b, ch. 2. Вопрос, почему работы Аристотеля не построены исключительно на силлогизмах, вызывает много дискуссий. Барнс (Barnes 1996, 36–39) предлагает решение, но Косман (Gotthelf 2012, ch. 7) утверждает, что эта проблема является ложной, так как Аристотель нигде и не пишет, что наукой должно заниматься таким образом. Я полагаю, что Аристотель не облекает науку в силлогизмы, потому что не может. В самом деле, у Аристотеля (Вторая аналитика I, 30) есть утверждение, что доказательства могут включать связи, которые “по большей части” правдивы, однако это, кажется, нарушает его же требование рассмотрения “необходимо (присущего)”. Барнс (Barnes 1993, 192) и Хэнкинсон (Hankinson 1995) рассматривают эти затруднения. О том, почему у верблюдов нет рогов, см.: О частях животных 674a30. Также см.: Lennox 2001a, 280–281. О доказательстве и диалектике см.: Никомахова этика 1145b2. Это приводит к неопределенности по поводу того, в какой степени теория доказательства Аристотеля включена в его биологию. Некоторые полагают, что биология Аристотеля во многом основана на этой теории. Другие указывают разнообразие методов доказательства. См.: Bolton 1987; Lloyd 1996, ch. 1; Lennox 2001b, ch. 1, 2; Leunissen 2007; Leunissen 2010a; Leunissen 2010b; Gotthelf 2012, ch. 7–9. О том, как обращаться с множественными причинами (разделять и объяснять), см.: Вторая аналитика II, 13–18. Также см.: Lennox 2001b, ch. 1. О глазных мазях см.: Вторая аналитика 97b25. О современном эквиваленте этого метода при исследовании рака см.: Harbour et al. 2010.
Глава 8. “Птичьи ветра”
О “птичьих ветрах” см.: Метеорологика 362a24. О повадках птиц см.: История животных VII, 3. О птице tyrannos см.: История животных 592b23. О признаках птиц см.: О частях животных 692b4. О связи между разнообразием птиц и их bios см.: О частях животных 662a34, 674b18, 692b20, 693a11, 694a15, 694b12. Ср.: О возникновении животных 749a35. О гильдиях и функциональных группах в современной экологии см.: Wilson 1999. Знаменитые строки о птицах Галапагосских островов см.: Darwin 1845, 380. О том, как природа создает инструменты, соответствующие их функциям, см.: О частях животных 694b12.
О целевых причинах см.: О частях животных 639b13, 646a25. Также см.: Leunissen 2010a, ch. 7.1. О причинах размножения см.: О возникновении и уничтожении 338b1; О душе 415a25; О возникновении животных 731b31. Этот аргумент применим лишь к подлунным существам (и исключает божественные); к организмам, которые размножаются (и исключает самозарождающиеся). Здесь и в гл. 14 я излагаю то мнение, что от размножения выигрывают именно формы. Также см.: Lennox 2001b, ch. 6.
О слоновьем хоботе см.: История животных 497b26, 536b20, 630b26. О назначении хобота см.: О частях животных 658b34, 661a26. Описание образа жизни слонов в трактатах “История животных” и “О частях животных” не всегда последовательно. В трактате “О частях животных” основное внимание уделено водным повадкам слона, а в “Истории животных” слон не причислен к животным-амфибиям: хотя он часто обитает возле рек, он не живет в воде и плохо плавает. Об отношении Аристотеля к слонам см.: Lennox 2001a, 234; Kullmann 2007, 469–473; Gotthelf 2012, ch. 8. Джонсон описывает слонов, которые плавают под водой, держа хобот над ее поверхностью. Теперь вы можете увидеть их и на YouTube. Аристотель утверждает (О частях животных 659a25), что ноги слона не сгибаются, однако в других случаях (История животных 498a8; О походке животных 709a10, 712a11) указывает, что они все-таки могут сгибаться (хотя эти фрагменты, по общему мнению, темны). Ктесия винят в том, что он ввел Аристотеля в заблуждение относительно конечностей слона, однако ни один текст это не подтверждает. См.: Bigwood 1993. О ногах слона в историческом контексте см.: Tennant 1867, 32–42. О ногах слона в свете современной кинематики см.: Ren et al. 2008. О водном предке слона см.: Gaeth et al. 1999; West et al. 2003.
Аристотель приводит (История животных 487a10) довольно обширный список различий образа жизни животных. В своих телеологических объяснениях в трактате “О частях животных” он, однако, использует лишь немногие из них. Возможно, это потому, что, как отмечает Леннокс (Lennox 2010), различия в образе жизни (История животных I, 1) смешаны с видами деятельности. Об образе жизни (с упором на питание) см.: Политика 1256a18. Об адаптациях жабовидной рыбы и электрического ската см.: История животных 620b10. Есть и иные случаи, когда Аристотель объясняет разнообразие форм различиями в образе жизни. О ртах и питании рыб см.: О частях животных 662a7, 662a31, 696b24. О крыльях насекомых и связи подвижности и уязвимости см.: История животных 490a13, 532a19; О частях животных 682b12. О сухопутных и водных животных см.: 668b35.
Об условной необходимости см.: О частях животных 642a4. Аристотель выделяет два рода причин – “ради чего” и “по необходимости”, – и две формы необходимости: условная (признаки, которые должны иметься у части, чтобы она правильно функционировала) и материальная (признаки части или животного, которые возникают как прямое следствие свойств материи). Ср.: О частях животных 639b24, 645b15. Эти типы необходимости трудно разделить, и нередко Аристотель не указывает, о какой именно говорит. См.: Cooper 1987; Leunissen 2010a, ch. 3.
На страницах “О частях животных” Аристотель подчеркивает важность genē, и это опровергает мнение, будто классификация для него не важна или ее вовсе не существует. См.: Gotthelf 2012, ch. 9. О том, что определенные части тела или деятельность важны для “определения сущности” (О возникновении животных 778a34), см.: полет у птиц (О частях животных 669b10, 697b1, 693b10), плавание у рыб (О частях животных 695b17), легкие у птиц (669b10), кровь у рыб (695b17), кровь у птиц (693b2-13), кровь или ее отсутствие (678a26), ощущения для животных (653b19). О важности таких аргументов для Аристотеля см.: Gotthelf 2012, ch. 7; Leunissen 2010a, ch. 3.2. Он лишь указывает, что у птицы есть клюв, потому что такова природа птицы (О частях животных 659b5), и что это “лишняя черта” птиц “по сравнению с прочими” (692b15). О наличии клюва и пищеварительном тракте у птиц см.: История животных 508b25 и далее; О частях животных 674b22. Также см.: Ogle 1882, 241; Owen 1866, vol. 2, 156–186; Ziswiller and Farner 1972.
Балм (Balme 1987d) рассуждает о роли материальной необходимости в объяснительной схеме Аристотеля. Об однородных частях, их композиции и функциях см.: История животных III, 2–20; О частях животных II, 1–9. Также см.: Lones 1912, 107–117. О том, что однородные части нужны для существования неоднородных, см.: О частях животных 646b11. Ср.: О частях животных 653b30, 654b26. О физиологических связях см. мою гл. 16. О глубоководном морском еже см.: История животных 530a32. Об иглах этого животного см.: О возникновении животных 783a20. Также см.: Thompson 1947, 72. О том, что морские ежи в общем холодны, см.: О частях животных 680a25. Гиппократики и автор медицинских текстов Диоскорид, по-видимому, использовали иглы морского ежа как мочегонное средство. См.: Platt 1910, n. О возникновении животных 783a20. О функциональных свойствах игл морского ежа см.: Guidetti and Mori 2005. Моро и Дюбуа (Moureaux and Dubois 2012) демонстрируют пластичность игл. Аристотель считает глубинного морского ежа видом (genos), что, казалось бы, должно подразумевать наличие наследуемых признаков, однако он рассуждает о детерминированности окружающей средой, и поэтому не может быть речи о различии eidos или наследуемой формы. Аристотель произвольно использует термин genos и в других местах (о пчелах см. гл. 13).
О функциональных свойствах спинного хребта змеи см.: О частях животных 692a1. О том, как передвигаются скаты, см.: 655a23. О структуре пищевода см.: 664a32. О пенисе см.: 689a20. Эти примеры очень близки к метафоре, которую он использует для объяснения условной необходимости: О частях животных I, 1. Иные примеры см.: Lennox 2001b, ch. 8. О предназначении надгортанника см.: О частях животных 664b20. Современное представление см.: Ekberg and Sigurjonsson 1982. О селезенке и ее функции см.: История животных 506a13; О частях животных 666a25, III, 7. Также см.: Lennox 2001a, 270; Ogle 1882, 207–208. Огл оценивает вполне точные сравнительные данные Аристотеля. Селезенка является примером “непрямой” или “вторичной” телеологии. См.: Lennox 2001a, 248–249; Leunissen 2010a, ch. 4.3. Современное представление о функции селезенки см.: Mebius and Kraal 2005. О желчном пузыре и желчи см.: История животных 506a20; О частях животных IV, 2. Леннокс (Lennox 2001a, 288–290) настаивает, что греческое слово cholē означает и “желчный пузырь” и “желчь”, и поэтому переводит его всегда как “желчь”, но аристотелевские описания распределения cholē у животных кажутся более осмысленными, если мы допускаем, что иногда он говорит о желчном пузыре, а иногда о желчи. Огл (Ogle 1882, 218) рассматривает расположение желчного пузыря и снова заключает, что сравнительная анатомия Аристотель по большей части верна. О том, что желчь бесполезна, см.: О частях животных 677a16.
О Моме см.: О частях животных 663a34. Также см.: Бабрий Басни 59. О необходимости дополнительных телеологических принципов см.: Аристотель О походке животных 704b11. Ср.: 708a9, 711a18. Аристотель перечисляет лишь некоторые. Многие другие принципы см.: Farquharson 1912, n. О походке животных 704b12. О домохозяйстве см.: Политика I, 2–9. Аристотель излагает и применяет ряд экономических принципов своей зоологии в следующих примерах. 1) Природа – это “хороший хозяин”. См.: О возникновении животных 744b12. Также см.: Leunissen 2010a, ch. 3.2. 2) Правило “природа ничего не делает напрасно” применимо к глазным векам рыб (О частях животных 658a8), морфологии зубов (661b23), функции рта (691b25), отсутствию ног у рыб (695b16), отсутствию у рыб легких (О юности и старости, о жизни и смерти 476a13), зубам (О возникновении животных 745a32), мужским особям (О возникновении животных 741b4). Также см.: Lennox 2001a, 231, 244; Lennox 2001b, ch. 9. 3) Правило “что природа отнимает в одном месте, то отдает другим частям” применимо к: хрящам селахий (О частях животных 655a27; ср.: 696b5), распределению волосяного покрова (658a31), отсутствию мочевого пузыря у животных с перьями или чешуей (671a12), соскам у львов (688b1), отсутствию хвоста у людей (689a20), крыльям и шпорам (694a8), шпорам и когтям (694a26), птичьим хвостам и лапам (694b18), причине, по которой у уток короткие лапы (О походке животных 714a14), форме жабовидной рыбы (О частях животных 695b12), истории жизни в целом (см. гл. 13 моей книги). Также см.: Lennox 2001a, 218–219; Leroi 2010. 4) “Природа никогда не поступает, как кузнечных дел мастер, изготовляя ради дешевизны…”: Политика 1252b1; О частях животных 683a22. 5) Многофункциональные части. Например, см.: О частях животных 655b6. Также см.: Tipton 2002; Kullmann 2007, 444. О рогах см.: О частях животных 655b2, 661b26, III, 2. См.: Ogle 1882, 186–191; Lennox 2001a, 246–250; Kullmann 2007, 499–514. Аристотель упоминает об агрессии у животных во время спаривания (О частях животных 571b1), но не упоминает, что самцы оленей дерутся рогами.
Глава 9. Душа каракатицы
О нересте каракатицы см.: История животных 550b6. Об ее эмбриологии см.: 550a10. О спаривании у головоногих см.: 541b1, 541b13. Томпсон (Thompson 1928) описывает древние и современные способы ловли каракатицы.
См.: SchrÖdinger 1944/1967, ch. 6; Loeb 1906, 1; Spencer 1864, vol. 1, 74. Льюис (Lewes 1864, 228–231) приводит определения предшественников Аристотеля и разбирает его собственное (О душе 412a14).
О Патрокле см.: Илиада, XVI. О бабочке-psychē см.: История животных 551a14. Также см.: Davies and Kathirithamy 1986, 99–108. О бессмертии души у Платона см.: Федон 78B-95D; Федр 245C-257B; Государство, 609C-611C. О древних воззрениях на душу см.: Lorenz Summer 2009. Ранние представления Аристотеля о душе см. в “Эвдеме” (Фрагменты F37R3-F39R3) и “Протрептике” (Фрагменты F55R3, F59R3, F60R3, F61R3). Обычно считается, что представления Аристотеля о душе в течение его жизни радикально изменялись. Например, см.: Lawson-Tancred 1986, 51–52. Также см.: Bos 2003. Также см.: King 2007. О том, что знание души очень велико, см.: О душе 402a1. О воззрениях предшественников Аристотеля см.: О душе I. О душе как первом действительном проявлении тела см.: О душе 412b4[258]. Ср.: 412a19, 412b4, 414a15. О семени как потенциально обладающем душой теле в О душе 412b27. Также см.: King 2001, 41–48. Учение Аристотеля о том, что душа является воплощенной формой, – особенный случай гиломорфизма (т. е. “субстанция”, “сущность” (усия) может пониматься как составная часть материи и формы). О душе в свете этой теории см.: О душе 412b6. Иногда считается, что эта позиция противоречит общей гиломорфической теории, согласно которой форма и вещество условно взаимосвязаны. См.: Ackrill 1972/1973. О том, что душа ответственна за изменение, см.: О душе I, 3; 415b21. Я перевожу kinēsis (мн. ч. kinēseis) как процесс (любой зависящий от времени набор состояний), но это слово чаще переводят как движение. О целеустремленности души см.: О душе II, 4. О душе как сущности см.: О душе 412b10 (ср.: 415b8); О частях животных 640b34; Метеорологика 390b31. Об отношении души к своим причинам см.: О душе 415b8. О глазах крота см.: История животных 491b28, 533a1; О душе 425a10.
О “духе в машине” см.: Ryle 1949, ch. 1. Лоусон-Танкред (Lawson-Tancred 1986, 24), кажется, рассматривает аристотелевскую концепцию души через призму картезианского дуализма. Фреде (Frede 1992), среди прочих, показывает, что теория Аристотеля – это не теория Декарта. См.: О душе 408b19, III, 5. О том, что души не деятельны, см.: О душе 408b11, 408b25, I, 4. Также см.: Nussbaum and Rorty 1992; Durrant 1993. Кант о надежде объяснить телеологические процессы см.: Kant 1793, 75, Ak. V, 400. О биологии Канта см.: Grene and Depew 2004, ch. 4. Как отмечает Ленуар (Lenoir 1982), не все телеологи были открытыми виталистами, однако увлечение телеологией часто приводит к витализму. Дриш (Driesch 1914) излагает историю витализма. Конклин (Conclin 1929, 30) и Шредингер (SchrÖdinger 1944/1967) критикуют Дриша, а Сандер (Sander 1993a; Sander 1993b) относится к нему благожелательно. Также см.: Kullmann 1998, 308–310. Дриш (Driesch 1914, 1) и Нидэм (Needham 1934, 30 ff) интерпретируют биологию Аристотеля явно виталистически. Теперь уже немногие придерживаются этой трактовки, однако изложение Фройденталем (Freudenthal 1995) аристотелевской концепции пневмы кажется виталистическим. См.: King 2001, n. 141. Среди исследователей, согласных, что Аристотель не является ни виталистом, ни материалистом в демокритовском духе, Нуссбаум (Nussbaum 1978), Cooper (1987), Балм (Balme 1987c), Готтхельф (Gotthelf 2012, ch. 1), Кинг (King 2001, ch. 3), Кульман (Kullmann 1998, ch. IV), Кварантотто (Quarantotto 2010). Мое личное определение Аристотеля как “просвещенного материалиста” – лишь повторное утверждение его гиломорфизма. О соотнесении души с формой см.: О душе 412b6, 414b20. О соотнесении души с движущим принципом жизни см.: О душе 415b21.
Об иерархии структур души см.: О душе 414a2. О растительной душе см.: О душе 415a22, 416b3, 432b7. О том, что растительная душа присуща всем живым существам, см.: О душе 414a29, 416b20, 434a22. О том, что растительная душа первой появляется в ходе развития, см.: О возникновении животных 735a12. Также см. гл. 10 моей книги. О том, что душа скрепляет тело и не дает ему рассыпаться, см.: О душе 411b5 и 415a6. Также см.: Quarantotto 2010. О метаболизме см.: О душе 416a33. Об уподоблении роста речному потоку см.: О возникновении и уничтожении 321b24. Ср.: 322a22. Это напоминает современные модели роста. Например см.: Bertalanffy 1968, 180. О питании для поддержания процессов в организме и питании для роста см.: О возникновении животных 744b33. Также см.: n. Peck 1943, 232. О химических превращениях см.: О душе 416a21. Также см. гл. 9 моей книги. О пищеварении у “животных с кровью” см.: О частях животных III. Пример современного энергетического бюджета см.: Ware 1982.
О пропорции начал в однородных частях см.: О частях животных 642a18; Метафизика 993a17. Эмпедокл о химических составляющих костей: Тексты досократиков 31B96. Также см.: Furth 1987, 30–33. Сольмсен (Solmsen 1960, 375) и Кинг (King 2001, 168) скептически относятся к интерпретации соединений Аристотеля как пропорций, но идея численного соотношения подразумевается во многих других, кроме процитированных, фрагментах о составе однородных частей. Например см.: О частях животных II, 4 (кровь), 653a20 (мозг), 654a29 (экзоскелеты насекомых); О возникновении животных 743a14 (ногти). Аристотель иногда пишет об однородных частях так, будто и они состоят из некоего “теплого вещества”. Например см.: О возникновении животных 743a14. Аристотель может иметь в виду pneuma. См. гл. 9, 10 моей книги. Критика Эмпедокла см.: О возникновении и уничтожении 334a27. О разнице между смесями и соединениями см.: Bogaard 1979. О соединениях см.: Метеорологика IV, 8; О возникновении и уничтожении I, 10; II, 7–8. Я пишу здесь о изменяющихся пропорциях начал в однородных частях, но Аристотель часто рассуждает о составе однородных частей как соотношении сил (горячее/холодное, сухое/влажное), присутствующих в них в определенный момент, и даже утверждает, что эти силы имеют более фундаментальную природу (О частях животных 646a12). Эти силы не сходны по форме с началами, так как каждое начало является комбинацией сил. См. гл. 13 моей книги. Аристотель часто переходит от начал к силам и наоборот. Например см.: О возникновении животных 743a14. Также см.: Waterlow 1982, 83–86; Sorabji 1988, 70; King 2001, 74–80; Scalitas 2009.
О “горячем” и “холодном” см.: О частях животных II, 2. Есть минимум три причины прийти в замешательство, читая о тепле. Во-первых, Аристотель не так уж ясно проводит различие между тем, как тепло участвует в “варении”, и как в “горении”. См.: О частях животных 648b35. Во-вторых, когда Аристотель говорит, что некий объект “горячий”, он не обязательно имеет в виду, что у того более высокая температура по сравнению с окружающей средой. Он подразумевает, что этот объект легко изменяем при воздействии тепла – иными словами, что тот с легкостью горит, тает или варится. Ср.: О частях животных 648b16. Таким образом, Аристотель говорит о чем-то вроде относительной термодинамической устойчивости. Жир в этом смысле “горячий” (хотя он может быть и высокой температуры). В-третьих, неясно, что такое “жизненное тепло”. Фройденталь (Freudenthal 1995) предполагает, что это не обычное тепло живого существа, и связывает его с пневмой (см. гл. 9 моей книги). Хотя жизненное тепло – не то же самое, что обычный огонь, это утверждение чересчур виталистическое, и есть сомнения, что пневма настолько важна: Аристотель не упоминает ее, рассуждая о физиологии питания взрослых (О юности и старости, о жизни и смерти), и говорит о ней только применительно к эмбриологии и физиологии органов чувств. В этом контексте она, по-видимому, интерпретируется как носитель души, благодаря которому возможно действие на расстоянии. См.: King 2001.
О том, что у животных есть внутренний источник тепла, см.: О юности и старости, о жизни и смерти 469b8. Ср.: О частях животных 682a24. Об огне как реке см.: О юности и старости, о жизни и смерти 470a3. О том, что жизненное тепло все же не обычный огонь, см.: О возникновении животных 736b33. О тепле и трансформации, например, см.: Метеорологика 390b2. О варении см.: Метеорологика IV, 2–3; О душе 416b28. Аристотель иногда очень сбивчиво объясняет, как тепло производит однородные части. Например, см.: О возникновении животных 743a5. По Аристотелю, некоторые однородные части формируются при нагревании, некоторые – при охлаждении, а некоторые (например, плоть) – при нагревании и охлаждении одновременно. Объясняется это, по-видимому, тем, что при нагревании кровь разделяется на более горячие и холодные составляющие. Более холодные застывают, превращаясь в плоть, кости или другие плотные однородные части. Ср.: Метеорологика IV, 7–8. О том, что огонь не является главным источником питания и роста, см.: О душе 416a9. О регуляции внутреннего огня см.: О юности и старости, о жизни и смерти 469b10, 474b10.
О вивисекции черепахи см.: О юности и старости, о жизни и смерти 468b9, 479a3. О вивисекции хамелеона см.: История животных 503b23 (ср.: О частях животных 692a20). О насекомых и растениях см.: О душе 411b19; О юности и старости, о жизни и смерти 468a23, 471b20, 479a3; О частях животных 682a2. Также см.: Lloyd 1991, ch. 10. О сердце как вместилище души см.: О юности и старости, о жизни и смерти 1, 3. О “варении” и внутреннем огне в сердце см.: О юности и старости, о жизни и смерти 469b10, 479b28. О сердце как “цитадели тела” см.: О частях животных 670a25. О том, что сердце обладает высшим контролем над телом, см.: О юности и старости, о жизни и смерти 469a5. О сердце см.: О частях животных III, 4. О кардиоцентризме Аристотеля см.: King 2001, 64–73. Аристотель утверждает, что внутренностями являются лишь органы с кровью (у животных с кровью). См.: О частях животных 665a28. О централизованных и распределенных душах см.: О юности и старости, о жизни и смерти 468b9 (ср.: О частях животных 682a2, 682b30, 666a13). Косенс (Cosans 1998) “подверг вивисекции” черепаху.
О модели CIOM см.: Gregoric and Corcilius 2013. Авторы, однако, не называют систему “чувствующей душой”. Разные интерпретации обусловлены противоречием у Аристотеля кардиоцентрического и гиломорфического описаний чувствующей души. О восприятии как передаче формы см.: О душе 435a4. О зрении по Эмпедоклу и Платону см.: О душе II, 7; О чувственном восприятии 2. У Аристотеля есть и другие анатомические возражения, но их сложно интерпретировать из-за неясности текста. См.: Lloyd 1991, ch. 10. О свете и зрении см.: О душе II, 7; 434b24. Природа изменения в глазном яблоке неясна. Некоторые утверждают, что это материальное изменение, другие это отрицают. Я думаю, что это материальное изменение: трудно представить, что нематериальное изменение может вызывать дальнейшие физические изменения. Кроме того, эта модель соотносится с явно материальными изменениями, которые происходят при тактильном восприятии. См.: Johansen 1997. О сердце и ощущениях см.: О частях животных 657a28; О юности и старости, о жизни и смерти 467b27. О мозге и ощущениях см.: О юности и старости, о жизни и смерти 469a10, 469a20; О частях животных 656a15. О связи сердца и органов чувств см.: О чувственном восприятии 2. Также см.: Lloyd 1991, ch. 10; Frampton 1991. О гомеостатической роли чувствующей души см.: Gregoric and Corcilius 2013, 63. Также см.: О душе 431a8. “«Я хочу пить», – говорит мне желание…”: О движении животных 701a32. О phantasia см.: Nussbaum 1978; Caston 2009. О восприятии запахов см.: О душе 424b16. О желаниях приятных и болезненных см.: О движении животных 701b35.
Сложно сказать, что именно имеет в виду Аристотель под пневмой, так как эта теория кажется довольно слабо разработанной. Проблема в том, что сначала Аристотель указывает, что пневма есть “теплый воздух” (О возникновении животных 736a1), а всего несколькими строками ниже утверждает, что это нечто более “божественное”, чем обычные начала, “аналогичная элементу светил” эфиру. См.: О возникновении животных 736b33. Ср.: О небе I, 3. Дискуссию см.: Peck 1943, App. B; Balme and Gotthelf 1992, 158–65; Freudenthal 1995, ch. 3; King 2001, ch. 4. О роли пневмы в движении животных см.: О движении животных 10. Фремптон (Frampton 1991) и Грегорич и Корцилиус (Gregoric and Corcilius 2013) слегка по-разному распределяют пневму в организме. Также см.: Nussbaum 1978, Essay 3. О коммуникации между сердцем и приспособлениями для движения, а также сравнение с автоматами см.: О движении животных 701b2. Также см.: Preus 1975, 291; Loeck 1991. О мускулах см.: Osborne 2011, 39–40. О механической амплификации см.: О движении животных 701b27; 702a21. Модель CIOM c диаграммой см.: 703b27. Об умственных способностях людей см.: О душе III, 3–4.
О терморегуляции см.: О дыхании. Вслед за Кингом (King 2001, 38–40) я включаю этот текст в трактат “О юности и старости, о жизни и смерти”. О необходимости охлаждения см.: О юности и старости, о жизни и смерти 5. О цикле легких и сердца см.: 480a16. Также см.: King 2001, 127–129. О дыхании у насекомых см.: О юности и старости, о жизни и смерти 471b20, 474b25, 475a29. О дыхании у рыб см.: 480b19. О кибернетической интерпретации концепции души у Аристотеля, например, см.: Nussbaum 1978, 70–74; Frede 1992; Whiting 1992; King 2001; Shields 2008; Quarantotto 2010; Miller and Miller 2010. Об истории гомеостаза, кибернетики и системной биологии см.: Bernard 1878; Cannon 1932; Rosenblueth at al. 1943; Wiener 1948; Adolph 1961; Cooper 2008. Об истории управления корректирующими действиями см.: Mayr 1971. В целом о греческой технологии см.: Berryman 2009. О взаимоотношении телеологии и целенаправленного поведения см.: Ayala 1968; Ruse 1989. “Многие признаки организменных систем…”: Bertalanffy 1968, 141. Об общих свойствах систем см.: Simon 1996. “Компоненты появляются и пропадают…”: Palsson 2006, 13. О рулевом в другом контексте см.: О душе 413a8; 416b26. О методологическом редукционизме см.: Политика 1252a17. О том, что души удерживают организмы от распада, см.: О душе 410b10, 411b6, 415a6. Также см.: Quarantotto 2010.
Глава 10. Пена
Аристотель оспаривает мнение Эмпедокла о позвоночнике (О частях животных 639a20). О спонтанно абортированном эмбрионе человека см.: История животных 583b14. По крайней мере некоторые сведения выше и ниже этого фрагмента взяты у Гиппократа, а может быть, и само описание.
Большую долю того, что Аристотель пишет о спаривании у “животных с кровью”, см.: История животных VI, 18–37. “Общим же для всех животных являются страстные желания…”: История животных 571b9. О брачных призывах см.: История животных 536a11. Об ухаживании у голубей см.: 560b25. О похотливости кобыл и кошек см.: 572a9 и 540a9. О сопротивлении самок оленей самцам см.: 540a4. Ср.: 578b5. О конфликтах самцов см.: История животных 571b11. О самцах и самках см.: О возникновении животных 716a14. Об определении полов см.: О возникновении животных 765b13. Также см.: Meyhew 2004; Nielsen 2008. О способах совокупления у “животных с кровью” см.: История животных V, 2–6; О возникновении животных I, 4. О спаривании у ежей см.: О возникновении животных 717b26. О спаривании у рыб см.: О возникновении животных 756a32.
О происхождении sperma см.: О частях животных 651b15; О возникновении животных 725a21. Хотя я обычно перевожу sperma как “семя” (могут иметься в виду и мужские, и женские половые выделения), иногда Аристотель использует это слово в более узком смысле, имея в виду собственно мужскую сперму, и в этих случаях я перевожу соответственно. О месячных выделениях см.: О возникновении животных 738a10 и т. д. О вагинальных выделениях см.: История животных VI, 18–19, 582a34; О возникновении животных 738a5. Также см.: Preus 1975, 54–57, n. 286–287. Аристотель не различает менструальные и эстральные выделения. См.: О возникновении животных 728b12. Об исключениях из модели менструальной жидкости см.: О возникновении животных 727b12, 739a26. О том, что яйца-болтуны и икра являются эквивалентами месячных выделений у птиц и рыб соответственно, см.: О возникновении животных 750b3. Современное представление о менструации см.: Strassmann 1996.
О наружных половых органах “животных с кровью” см.: История животных 500a33, III, 1, V, 5, 566a2; О возникновении животных I, 3–8. О клоаке у яйцекладущих см.: О возникновении животных 719b29. О пенисах пластинчатоклювых см.: Brennan и др. 2007. О строении пениса в целом см.: Kelley 2002. О функции яичек см.: О возникновении животных I, 4–7, 787b20. Об отсутствии яичек и пенисов у рыб и змей, а также иных различиях в репродуктивной анатомии самцов, см.: О возникновении животных I, 4–7. Аристотель также касается вопроса, почему животным вообще нужно ограничивать выработку своей спермы, если их делом является размножение. Современное объяснение петлеобразной формы семяпровода см.: Williams 1996, 141–143. Об анатомии мужских репродуктивных органов у “животных с кровью” см.: История животных 510a13, женских – 510b7; О возникновении животных I, 3, 8–17. Здесь Аристотель также объясняет, почему матка устроена по-разному у разных животных.
О половом влечении у девочек и женщин см.: История животных 581b12; О возникновении животных 773b25. Об удовольствии женщины от полового акта, его отношении к зачатию, менструальных жидкостях и вагинальной смазке см.: История животных 583a11; О возникновении животных 727b7, 728a31, 739a29. О головке полового члена см.: История животных 493a25. Кн. X из текста “Истории животных” обычно исключают, поскольку она посвящена каузальному толкованию. Иногда ее считают вовсе не принадлежащей перу Аристотеля. См.: Balme 1991, 26; Nielsen 2008. Описания механики размножения в кн. X “История животных” и в “О возникновении животных” различаются в двух отношениях. В кн. X “Истории животных” Аристотель утверждает, что половое сношение приводит к выделению женского семени (т. е. менструальной жидкости) перед маткой, где оно смешивается с мужским семенем, но в трактате “О возникновении животных”, 739b16, он это отрицает. Во-вторых, в кн. X “Истории животных” Аристотель утверждает, что женский оргазм необходим для всасывания смеси мужского и женского семени обратно в матку. В трактате “О возникновении животных” это уже не является необходимым условием. См.: Balme 1991, n. 487–489. О функции женского оргазма (если она есть) см.: Judson 2005; Lloyd 2006. Сомнительная цитата Монтеня: Опыты, III, 5.783.
О том, что темой “О возникновении животных” является исследование движущей причины жизни, см.: О возникновении животных 715a12. Аристотелевский набор половых дихотомий известен как теория репродуктивного гиломорфизма. См.: Henry 2006b. О том, что мужские особи обеспечивают форму, а женские – материю, см.: О возникновении животных 729a9, 730a27, 732a1, 737a29, 738b9, 740b20. Эта теория очевидным образом противоречит многим аспектам его механистических описаний, и ниже я рассматриваю некоторые из этих противоречий. О том, как эти противоречия могут (если могут) быть разрешены, см.: Henry 2006b.
О болтунах см.: История животных 539a31, 560a5; О возникновении животных 730a32, 737a30, 741a16, III, 1. О болтунах у куропаток см.: История животных 541a27, 560b10; О возникновении животных 751a14. Я благодарю за предоставленную информацию К. Макдэниела (Университет штата Миссисипи), Т. Пиццари из Оксфордского университета и Н. Уилкокса из Pheasants UK. О предположительно партеногенетических видах рыб см.: История животных 538a18, 539a27, 567a26; О возникновении животных 741a32, 757b22, 760a8. О гермафродитизме у серрановых см.: Cavolini 1787; Smith 1965. Интересно, что Аристотель не только не замечает у этих видов рыб двойных гонад, но и заявляет, что функциональных гермафродитов не существует. См.: О возникновении животных 727a25.
О потенциале души в месячных выделениях см.: О возникновении животных 736a31. О том, что сперма потенциально является самим животным, см.: О возникновении животных 726b15. Термин, переводимый здесь как “потенциал”, – dynamis. О различении потенциального/актуального см.: О возникновении животных II, 1. Также см.: Peck 1943, xiix-lv. Сравнение с плотником см.: О возникновении животных 730b6. Зоологические аргументы против физической передачи семени см.: О возникновении животных 729a34, 736a24. Ср.: 721a13. Кроме того, Аристотель описывает совокупление у кузнечиков. См.: История животных 555b18. Также см.: Davies and Kathirithamy 1986, 81.
О пневме и сперме см.: О возникновении животных 736b33. О роли спермы в оплодотворении см.: 737a7, 741b5. Об омонимии Aphros/Афродита см.: 736a19. Взгляд на сперму как на пену появляется в “Гиппократовом корпусе” (LittrÉ VII, О размножении, 1; также см.: Lonie 1981) и во фрагменте Диогена (Тексты досократиков 64B6). О моделях размножения V в. до н. э. см.: Coles 1995.
О гиппократовской эмбриологии см.: LittrÉ VII, О размножении, 29; Lonie 1981; Needham 1934, 17. Об эмбриогенезе цыпленка см.: История животных 561a7. Ср.: О возникновении животных II, 4–6, III, 1–2. Томпсон (Thompson 1910, прим. к История животных 561a7) объясняет, что именно видит Аристотель, а Пек (Peck 1943, 396) демонстрирует оболочки. Об эмбриологии костистых рыб см.: История животных 564b24. Также см.: Oppenheimer 1936. Об эмбриологии млекопитающих см.: О возникновении животных 745b23, 771b15. О том, что мыши, летучие мыши и зайцы также обладают котиледонными “матками”, см.: История животных 511a28. Сейчас их плаценты классифицируются как дисковидные. Об онтогенезе насекомых см.: История животных 550b22; О возникновении животных 732a25, 758a30. Также см.: Davies and Kathirithamy 1986, 102. О сравнении эмбрионов живородящих и яйцекладущих см.: О возникновении животных 753b31. О сравнительном совершенстве эмбрионов см.: О возникновении животных 732a25. Ср.: История животных 489b7; О возникновении животных II, 1. Аристотель утверждает, что по крайней мере у “животных с кровью” совершенство потомства обусловлено тем, сколько тепла и влаги есть у родительской особи (холодная/сухая – наименьшее совершенство, горячая/влажная – наибольшее). Это станет частью его распределения животных по степеням, чем-то вроде “лестницы совершенства”, которое ортогонально относительно его системы классификации. См. гл. 14, 15 моей книги. Предсказание Аристотелем первого закона фон Бэра (Baer 1828) см.: О возникновении животных 736b2. См.: Needham 1934, 31; Peck 1943, n. 166. Об эмбриологических песочных часах см.: Kalinka et al. 2010.
Аристотель сравнивает воздействие спермы на месячные выделения с воздействием сычужного фермента и инжирного сока на молоко: О возникновении животных 737a11, 739b21. Ср.: История животных 516a4; О возникновении животных 729a11, 771b23, 772a22. О сравнении роста эмбриона с ростом дрожжей см.: О возникновении животных 775a17. Также см.: Preus 1975, 56 и 77. Нидэм (Needham 1934, 34) обращает внимание на то, что Аристотель говорит о ферментах, и прослеживает истоки сыродельческой метафоры, обнаруживая ее, например, в книге Иова. О том, что сердце развивается в первую очередь, см.: История животных 561b10; О частях животных III, 4; О юности и старости, о жизни и смерти 468b28; О возникновении животных 734a11, 735a23, 738b15, 740b2, 741b15, 742a16. О желтке как о запасах питательного вещества см.: О возникновении животных III, 2. О сосудах см.: О возникновении животных 739b33. Сравнение с керамикой см.: О возникновении животных 743a10. Сравнение с ирригацией см.: О возникновении животных 746a18.
Доводы против преформизма досократиков см.: О возникновении животных I, 17. Пройс (Preus 1975, 285) предполагает, что смысл определенных пассажей у Эсхила и Эврипида и в “Пире” Платона соответствуют теории преформизма в широком смысле, но эмбриология в этих произведениях очерчена настолько приблизительно, что при желании им можно приписать любую теорию. Более убедительными примерами являются Анаксагор (Тексты досократиков 59B10) и Эмпедокл. См.: Barnes 1982, 332, 436–442. Собственные эпигенетические описания Аристотеля даны в двух богатых метафорами фрагментах, в которых он сравнивает эмбрион с художником (О возникновении животных 743b20) и с тканью (734a11). Аристотель утверждает однородность спермы: О возникновении животных 724b21. О происхождении каждого органа или однородной части из сырого материнского материала см.: О возникновении животных 734a25. Об automaton см.: О возникновении животных 734b9. Ср.: 741b8. О роли самодвижущихся предметов в локомоции также см. гл. 16 этой книги. Причинность automaton в эмбриогенезе, видимо, вступает в конфликт с репродуктивным гиломорфизмом, так как она придает материнской особи существенную формирующую роль. Пек (Peck 1943, xiii) просто принимает как данность то, что материнский материал “в высокой степени насыщен информацией”, а Балм (Balme 1987c, 281–282; ср.: Balme 1987d, 292) разрешает этот конфликт, утверждая, что automaton относится к движениям в сперме, а не в эмбрионе. О kordylos см.: История животных 589b22. Ср.: История животных 490a4; О юности и старости, о жизни и смерти 476a5; О частях животных 695b24. Томпсон (Thompson 1910) и Пек (Peck 1965) предполагают, что это существо – личинка тритона, а Огл (Ogle 1882, 248) – что это головастик. Он пишет, что “странно, и все же, мне кажется, неоспоримо верно то, что Аристотель совершенно не знал, что головастики являются личиночными формами лягушек и тритонов”. О загадочном kordylos также см.: Kullmann 2007, 741–742.
Нидэм (Needham 1934) в своей классической истории эмбриологии рассказывает о “макроиконографах” эпохи Возрождения, а также о аристотелизме Гарвея (с. 118). О последнем также см.: Lennox 2006. Традиционно все теории, в рамках которых предполагается, что эмбрион или его части существуют в неоплодотворенном материале родительских особей, будь то сперма или яйцеклетки, назывались преформистскими. См.: Needham 1934. В этом значении и я использую этот термин. О более тонких различиях теорий см.: Bowler 1971; Pyle 2006. Нидэм (Needham 1934, 29–30) предполагал, что описание Аристотелем automaton – это отклонение от более или менее виталистического варианта эмбриогенеза. На самом деле automaton является одним из центральных понятий его эмбриогенеза, как показывают примеры kordylos и определения пола (гл. 11 этой книги). Также см.: Peck 1943, 577. О роли спермы см.: Pinto-Correia 1997; Cobb 2006. О немецких микроскопистах XIX в. см.: Mayr 1982, ch. 15.
Глава 11. Овечья долина
О разведении овец например см.: История животных 573b18, 596a13. О баранах-вожаках см.: Thompson 1932. О морфологической изменчивости у овец см.: История животных 496b25, 522b23, 596b4, 606a13. Высказывания Дарвина на эту тему см.: Darwin 1837–1838/2002-, 233e; Darwin 1838–1839/2002-, 12e.
О голубях см.: Darwin 1859, ch. 1. Обоснование термина “неформальная изменчивость” см.: прим. к гл. 5, 11 моей книги. О свиньях с копытами см.: История животных 499b12; О возникновении животных 774b15. Дарвин цитирует Аристотеля: Darwin 1868, vol. 1, 75. О различении одомашненных и диких животных у Аристотеля. См.: История животных 488a30; О частях животных 643b5. Аристотель часто упоминает об “эфиопах” (История животных 517a18, 586a4; О возникновении животных 722a10, 736a10, 782b35; Метафизика X, 9, и т. д), но не выделяет их в отдельный род. Аристотель различает греков и негреков: Политика VII, 7. Это, кажется, случайное использование термина genos, так как в других местах он ясно дает понять, что различия между людьми обусловлены влиянием внешней среды, а не формой. Аристотель в отдельных случаях использует термин genos произвольно, упоминая, например, о genē пчел, которые явно могут скрещиваться друг с другом, и живущего на глубине морского ежа, который отличается от других морских ежей лишь в материальном отношении. О греках и варварах например, см.: Политика 1252b5. Также см.: Hannaford 1996, 43–57; Simpson 1998, 19; гл. 15 моей книги. Единственные одомашненные породы, которые Аристотель различает как “роды”, – это породы собак (История животных 574a16, 608a27), о которых он, по-видимому, думает, что они настолько же отличны друг от друга, как волки и лисы (ср.: Теофраст О причинах растений IV, 11.3). О гибридах см.: История животных 607a1, 608a31; О возникновении животных 738b27, 746a29. Аристотель открыто заявляет о своем интересе к неформальной (внутривидовой) изменчивости (О долгой и краткой жизни 465a1, где он использует eidos в значении “вид”). Об эссенциализме см. гл. 6 моей книги. О детерминизме и среде обитания см.: История животных 605b22. О крупных рептилиях в Египте см.: О долгой и краткой жизни 466b21. О млекопитающих в Египте см.: История животных 606a22. О пчелах и осах см.: О возникновении животных 786a35. О волосах см.: 782a19. О цвете шерсти у овец см.: История животных 518b15. Большая доля рассматриваемых случаев (О возникновении животных V) изменчивости не может быть истолкована телеологически или формально, это следствие материальной необходимости. См.: Gotthelf 2012, ch. 5. Платон о селекции животных и людей: Государство 459A, Государство 546A. Также см.: Popper 1945/1962, vol. I, 51–54, 81–84, прим. 227–228, 242–246. Аристотель о регулировании брака: Политика VII, 16.
О рано и поздно созревающей пшенице (и других растениях) см.: Теофраст О причинах растений I, 10.1–10.2; IV, 11.1–11.7. О чувствительности растений и животных к воздействию окружающей среды см.: О причинах растений IV, 11.9. О воздействии факторов среды на рост растений см.: О причинах растений II, 1–6, II, 13.1–13.5, II, 2.7–2.12. О водах у Пирры см.: О причинах растений II, 6.4. О врожденных признаках и влиянии среды см.: О причинах растений IV, 11.7. Удивительно совпадение мнений Теофраста (О причинах растений I, 9.3, II, 13.3) и Аристотеля (О возникновении животных 738b28), когда они сравнивают влияние почвы на растение с влиянием материнской особи на детеныша. См.: прим. к гл. 14 моей книги.
Об отсутствии теории наследования цвета волос, глаз, кожи и типа волос см.: О возникновении животных V. Большая часть моего описания генетики Аристотеля основана на анализе материала О возникновении животных IV у Генри (Henry 2006a). Моя интерпретация отличается в нескольких аспектах. О наследовании деформаций см.: История животных 585b29; О возникновении животных 724a3. О тератологии см.: История животных IV, 3. О наследственности как явлении см.: О возникновении животных 767b1. Аргументы против пангенезиса см.: О возникновении животных I, 17–18. О детях людей с деформациями см.: О возникновении животных 724a4. Ср.: 721b28. О растениях см.: 722a13. По мнению Морсинка (Morsink 1982, 46–47), Аристотель выступает против автора гиппократовского текста “О семени”, а не Демокрита. См.: О размножении 3, 8, 11. Также см.: Lonie 1981. Морсинк прав в том, что оппонентом Аристотеля является автор гиппократовского текста, но в трактате “О возникновении животных” (769a7) Аристотель излагает два варианта этой теории, и один из них может принадлежать Демокриту. См.: Тексты досократиков 68b32, 68a141, 68a143. Дарвин (Darwin 1868, vol. II, ch. 27) предлагает собственную теорию пангенезиса. Пек (Peck 1943), Морсинк (Morsink 1982), Генри (Henry 2006a) и др. применяли термин Дарвина к теории Аристотеля. Дарвин признает древнюю теорию пангенезиса (Darwin 1875, 2nd edition, vol. II, 370, footnote). Об аргументе Аристотеля против пангенезиса см.: Morsink 1982, ch. III. Генри (Henry 2006a) упоминает пример растений.
Термин двойное наследование – мое собственное небольшое нововведение. Это следствие решения проблемы в теории наследственности Аристотеля. В стандартной теории репродуктивного гиломорфизма Аристотеля мужские особи предоставляют форму, а женские – материю. См.: Henry 2006b. Но в О возникновении животных, IV, допускается, что материнский материал (месячные выделения) также может содержать наследственную информацию. Одно из решений этого явного противоречия заключается в том, что, когда Аристотель говорит о неделимых формах, он имеет в виду не виды, а особи. Этого мнения придерживается и Генри (Henry 2006a; Henry 2006b), оно подразумевает, что оба родителя передают потомству форму. Я, однако, полагаю, что предпочтительнее представление, согласно которому форма избирает сущностные признаки родов и лишь отцовские особи предоставляют ее (см. прим. к гл. 5, 11 моей книги). Если так, то нужен другой термин для изменчивости внутри atomon eidos, – и отсюда неформальная изменчивость. Поскольку она может исходить и от материнских, и от отцовских особей, и также заключена в движениях в семени, мы получаем систему двойного наследования. В одном (отцовском) заключены сущностные, функциональные признаки; в другом (происходящем от обеих родительских особей) заключены несущностные признаки (вздернутые носы, пол и т. д.), и оба типа зависят от движений семени и могут подвергаться мутациям. О нескольких слоях наследственности см.: О возникновении животных 767b24.
Критика Аристотелем теорий определения пола см.: О возникновении животных IV, 1. Сам он оперирует понятиями “горячее” и “холодное”. См.: О возникновении животных 766b8. Важно помнить, что для Аристотеля “горячее” не обозначает лишь присутствие тепла (термальной энергии), а “холодное” – его отсутствие. “Горячее” и “холодное” скорее являются противоположными качествами, которые больше подобны силам, – отсюда происходит то, как он облекает эту теорию в слова (сравнения с конфликтом, завоеванием). О пропорциях в сперме и месячных выделениях (logos или symmetria) см.: О возникновении животных 767a16. Ср.: 723a29. В дальнейшем Аристотель переформулирует теорию горячего/холодного в понятиях актуальных и потенциальных движений и свяжет ее с теорией общей наследственности в О возникновении животных IV, 3. Аристотель пишет об определении пола средой (О возникновении животных 767a28) и ссылается на части (сердце) как “начала” (766a28). Платт (Platt 1910, прим. к 716b5) указывает на различие между первичным и вторичным определением пола. Пек (Peck 1943, прим. к О возникновении животных 776a30) отмечает, что Аристотель часто противоречит себе в вопросе, являются ли половые части “началами”, но разъясняет свою позицию (О возникновении животных 766a31) и считает сердце “началом”. См.: Peck 1943 прим. к 766b8. О кастрации и евнухах см.: О возникновении животных 716b4, 766a26. Аристотель не объясняет, как кастрация затрагивает сердце. Возможно, он не представлял, насколько прямой была его аналогия, так как послеродовая кастрация затрагивает лишь некоторые вторичные половые признаки, например волосяной покров и тембр голоса, но не сами гениталии. Об экспериментах Жоста и определении пола см.: Leroi 2003, ch. 7.
О модели наследственности см.: О возникновении животных IV, 3. О признаках, связанных с полом, см.: 768a24. О женщине из Элиды см.: История животных 586a4; О возникновении животных 722a8. О том, что гиппократовская теория не объясняет сходство с предками, см.: О возникновении животных 769a24. См.: Henry 2006a. О недостаточном тепле спермы как причине атавизма см.: О возникновении животных 768a9. В работе О размножении, 8, показано, что гиппократовская теория является теорией слитной наследственности, так как автор утверждает: “Если из любой части тела отца происходит большее (курсив мой. – А. М. Л.) количество семени, чем из соответствующей части тела матери, то ребенок будет этой частью более напоминать отца; и наоборот”. Таким образом, любой признак имеет непрерывное, а не дискретное, распределение и зависит от вклада. Также см.: О возникновении животных 769a7. Там Аристотель пишет (гораздо менее точно) об этой теории: если “от обоих [родителей] происходит одинаковое количество, отпрыск не напоминает ни одного из них”. Это, возможно, означает, что детеныш является смешением двух родителей, однако это может означать и то, что он представляет из себя нечто совершенно иное. О том, что уроды не являются гибридами, см.: О возникновении животных 769b11. О теории монстроподобности Аристотеля см.: О возникновении животных 767b1. О первых теориях генетики см.: Glass 1947; Darwin 1868, vol. 2, 399–401; гл. 2 моей книги; Mayr 1982, ch. 14. О Демокрите см.: О частях животных 642a29.
Глава 12. Как приготовить устрицу
О биологии “ракушкокожих” см.: История животных IV, 4–7. О мурициде см.: История животных 528b36, 546b18; О частях животных 679b2. О добыче пурпура см.: Thompson 1910, прим. к История животных 547a3. О гонадах устриц см.: О возникновении животных 763b5. Ср.: История животных 607b2.
“Часть животных рождается от спаривания…”: История животных 539a21. Сердцевидки, кривохвосты, морские гребешки, морские двустворчатые моллюски, асцидии, морские блюдечки, усоногие раки, иглянки, другие улитки, раки-отшельники причислены к самозарождающимся животным. См.: История животных V, 15. О морских анемонах и губках см.: V, 16. О рыбьих вшах см.: 557a21. О червях см.: 551a8. О майских жуках, скарабеях, мухах, слепнях, псевдоскорпионах, моли см.: V, 19. О молоди рыб и книдской кефали см.: VI, 15–16. Случаи с устрицами представлены как доказательство самопроизвольного зарождения. См.: О возникновении животных 763a26. Ср.: История животных 569a10; 570a3. О “рецепте” устрицы см.: О возникновении животных 762a19, 763a25. Ср.: История животных 569a10. О размножении угрей см.: История животных 538a3, 570a3; О возникновении животных 762b27. О gēs entera см.: История животных 570a15; О возникновении животных 762b22. См.: Platt 1910; Peck 1943, прим. к О возникновении животных 762b22; Thompson 1947, 59. О форме головы угря см.: Thompson 1910, прим. к История животных 538a12; Bertin 1956; Proman and Reynolds 2000. “А между тем справедливо либо не ниспровергать математику…”: О небе 299a5.
О теории самозарождения Аристотеля и науке нового времени см.: Farley 1977; Ruestow 1984; Roger 1997. Гонады и личинки устриц в 1690 г. впервые наблюдал Брах и независимо описал Левенгук в письмах 151 (1695), 157 (1695), 170 (1696). См.: Leeuwenhoek 1931–1999. Плутеусы морских ежей идентифицированы Мюллером в 1846 г., науплиусы усоногих раков – Томпсоном в 1835 г., личинки асцидии – Ковалевским в 1866 г. См.: Winsor 1969; Winsor 1976. Левенгук пишет о своих наблюдениях угрей и современных ему теориях размножения угрей в письмах 33 (1677), 15 (1691), 123 (1693), 169 (1696). См.: Leeuwenhoek 1931–1999. Левенгук нашел во внутренностях угря его предположительное потомство, но затем решил, что это паразиты. Впрочем, он остался убежденным, что обнаружил репродуктивные органы и потомство рыбы. Об открытии гонад у угря см.: Bertin 1956.
О совокуплении и личинках у мух: История животных 539b10. Ср.: История животных 542a6; О возникновении животных 721a8. О личинках см.: История животных 552a20. О самозарождении мух см.: История животных 552a20; О возникновении животных 721a8. То же противоречие применимо и к блохам и вшам. Например, см.: История животных 556b21. Аристотель размышляет, что случилось бы, если бы личинки мух размножались. Он говорит, что они не могут этого делать, так как они бы обязательно породили третий род животного – нечто “неопределенное”, – потомство которого, в свою очередь, было бы четвертым родом, и т. д. до бесконечности. Они бы породили линию постоянно мутирующих существ, а этого не может быть, поскольку, как он пишет, “природа избегает бесконечности”. См.: История животных 539b7; О возникновении животных 715b14.
О самозарождении в сопоставлении с половым размножением см.: О возникновении животных 762b1. Также см.: 762a25. Многие отмечали противоречие между теорией самозарождения Аристотеля и его метафизическими построениями, хотя не пришли к согласию ни по поводу природы этой проблемы, ни ее решения. См.: Peck 1943, 583–585; Balme 1962b; Lloyd 1996, ch. 5; Lennox 2001b, ch. 10; Gotthelf 2012, ch. 6; Zwier (in prep.).
По мнению Цвир, Аристотель исследует вопрос, насколько самопроизвольно “самозарождение”. Мое решение отличается от ответа Цвир большим акцентированием влияния на Аристотеля предшественников и представлением, до какой степени одно и то же имеется в виду под “самопроизвольностью” самозарождения и “самопроизвольностью” событий (в смысле “Физики”, II). Вслед за Балмом (Balme 1962b) и Ллойдом (Lloyd 1996, ch. 5) я полагаю, что они используются по-разному. Теофраст о самозарождении см.: О причинах растений I, 5.1–5.4. Ср.: О причинах растений I, 1.2; Исследование о растениях III, 1.3–1.6. Также см.: Исследование о растениях III, 1.4. О теориях происхождения жизни и самозарождении см.: Проблемы (псевдоаристотелевский трактат) X, 13. Ср.: О возникновении животных 762b28. О поверьях о самозарождении цикад см.: Campbell 2003, 72. Эмпиризм Аристотеля очевиден в его описании самозарождения у кефали (История животных 569a23) и у мурицид (История животных V, 15; О возникновении животных 762a34). О жизненном цикле цикады см.: История животных 556a25.
Глава 13. Смоквы, мед и рыба
О необходимости жизненного цикла см. гл. 14 моей книги. Также см.: King 2010. О тунце см.: История животных 537a19, 543b32, 543a9, 543a12, 571a8, 597a23, 598a18, 598a27, 599b9, 602a26, 607b28 и 610b4. О регуляции месячных циклов у женщин см.: История животных 582a34. О том, что большинство животных спаривается весной, см.: История животных 542a20. Об alkyōn см.: История животных 542b1. Ср.: 616a14. Также см.: Peck 1970, n. 368–372. Об идентификации alkyōn и мифологических ассоциациях см.: Arnott 2007. Большую долю сведений Аристотеля о сезонных повадках животных (кроме полового поведения) см.: История животных VII, 12–30. О нересте см.: История животных VI, 17 (ср.: V, 9–11) и т. д. О зимовке пчел см.: История животных 599a21. О зимовке медведей см.: История животных 600b28. О миграции жаворонков см.: История животных 597a4 (ср.: История животных 597b30). О причинах миграции рыб см.: История животных 598a30. О связи повадок животных с временами года: История животных 596b20. О пределах толерантности к температуре см.: История животных 597a14. О связи жизненного цикла с обращением небесных тел см.: О возникновении животных 778a5; IV, 10; О возникновении и уничтожении 336b16; О долгой и краткой жизни 465b26.
О естественных движениях начал см.: Физика 225a28, 255b14; О небе 297a30. Я исхожу из тезисов Аристотеля (Физика VIII; О движении животных), что начала, строго говоря, не движут сами себя. См.: Cohen 1996, ch. II; Falcon 2005, 11. Также см.: Waterlow 1982, 167–168; Gill 1989, 238. О превращении начал см.: О возникновении и уничтожении II, 1–5. О временах года и превращении начал см.: О возникновении и уничтожении 336a13, 336b16, 337a4, 338b1. Также см.: Falcon 2005, 11. О телеологической связи между теорией начал и движением небесных тел см.: Leunissen 2010a, ch. 5.2–5.3. О ветрах и дождях см.: Метеорологика I, 9, II, 4–6. О том, что у ветра есть жизненный цикл, см.: О возникновении животных 778a2. О реках см.: Метеорологика 347a2. О геологических циклах см.: I, 14. Также см.: Wilson 2013. О зимнем дожде см.: Физика II, 8 198b16 и далее. Также см.: Johnson 2005, ch. 5.5; Wilson 2013, ch. 5. Уилсон справедливо указывает на неясность этого фрагмента (Физика II, 8 198b16) и отсутствие в “Метеорологике” телеологического толкования. О биологических метафорах в “Метеорологике” см.: Wilson 2013, ch. 5. Уилсон также выдвигает интригующее предположение, что, по Аристотелю, погодные явления следует рассматривать как нечто промежуточное между началами и самозарождающимися организмами, а самозарождающиеся организмы – как нечто промежуточное между погодными явлениями и животными, размножающимися половым путем.
Об инжире см.: Аристотель История животных 557b25; Теофраст Исследование о растениях II, 8.1–8.3; Теофраст О причинах растений II, 9.5–9.15. Теофраст о периодах цветения: Исследование о растениях VI, 8.1–8.5. О структуре цветков: Теофраст Исследование о растениях I, 12. Также см.: История животных 557b25; О возникновении животных 715b21. Ср.: 755b10. Теофраст о финиковой пальме: Исследование о растениях II, 6.6, II, 8.4; О причинах растений II, 9.15. Об источнике сведений Теофраста о финиковых пальмах см.: Amigues 1988–2006, vol. I, xxiii. Ср.: Геродот История I, 193. Об образовании Теофраста см.: Lloyd 1983, ch. III, 2. О полах у растений см.: О возникновении животных 715b16, 731a21. О полах растений: Теофраст О причинах растений II, 10. О представлениях Теофраста о мужском и женском см.: Negbi 1995. Этот автор приписывает Теофрасту больше уверенности в определении полов растений, чем, как я полагаю, следует. Об определении связанных с инжиром насекомых см.: Davies and Kathirithamy 1986, 81–2, 92. О лесбосском инжире см.: Candargy 1899, 29. Я благодарю Ч. Годфри из Оксфорда за идентификацию kentrinēs, Ф. Акриотиса и Ф. Петаниду (из Эгейского университета в Митилини) соответственно за сведения о названиях сортов инжира и о культуре его выращивания. Я также благодарю Д. Каридиса, крестьянина из Эресоса, выращивающего инжир, за дополнительную информацию. О капрификации см.: Lelong 1891. О жизненном цикле инжирной осы см.: Kjellberg et al. 1987; Weiblen 2002.
О происхождении меда см.: Аристотель История животных VIII, 40; Теофраст Исследование о растениях VI, 11.2–11.4. Об утерянной работе Теофраста о меде см.: Sharples 1995, 208–210. О размножении пчел см.: Аристотель О возникновении животных III, 10. Защита Аристотеля от обвинений в сексизме по поводу пчел см.: Mayhew 2004, ch. 2. О сомнениях Аристотеля относительно пчел см.: О возникновении животных 760b27. Ср.: О небе 287b28. Об истории открытия жизненного цикла пчел см.: Maderspracher 2007.
О “ласточкиных ветрах” см.: Теофраст Исследование о растениях VII, 15. О повадках ласточек, связанных с миграцией и гнездованием, см.: История животных VII, 16, VIII, 8. О регенерации глаз у ласточек см.: История животных 508b4, 563a15; О возникновении животных 774b31. О регенерации глаз у цыплят см.: Del Rio – Tsonis and Tsonis 2003. О недоразвитых детенышах медведя см.: История животных 579a20. Также см.: Peck 1970, 376–378.
Данные Аристотеля о жизненном цикле млекопитающих и птиц большей частью см.: О возникновении животных IV, 4–10. О размере помета и размере тела см.: О возникновении животных 771a17 и далее. О размере тела взрослого животного и размерах тела детеныша см.: О возникновении животных 773b5. О “совершенстве” новорожденного, сроках беременности и размере помета см.: О возникновении животных 774b5. О “совершенстве” новорожденного, сроках беременности см.: О возникновении животных 774b30. О сроке беременности, сроке жизни, размерах новорожденного детеныша см.: О возникновении животных 777a32. Также см.: История животных 578b23; О долгой и краткой жизни 466b7. См.: прим. к гл. 13 моей книги. О птицах см.: О возникновении животных 749a35. Сундеваль (1835) впервые использовал термины “птенцовый” и “выводковый”. См.: Starck and Ricklefs 1998.
О том, что обратная зависимость между размером тела и плодовитостью является причинно-следственной, см.: О возникновении животных 771b8. О том, что положительная корреляция между сроком беременности и сроком жизни таковой не является, см.: О возникновении животных 777a35. О сравнительном методе см.: Leroi et al. 1994. О слабости после полового акта см.: О возникновении животных 725b6. О бесплодии у полных людей см.: О возникновении животных 725b32; О частях животных 651b12. О влиянии кастрации на продолжительность жизни и рост см.: История животных 575a31, 578a33, 631b19. Также см.: Leroi 2010; гл. 13, 15 этой книги. Об адрианской птице см.: История животных 558b16; О возникновении животных 749b25. О ней пишет и Альдрованди. См.: Lind 1963, 27–29. О лапах, крыльях и образе жизни птиц см. гл. 8 моей книги. О связи с жизненным циклом см.: О возникновении животных 749a30. Ср.: 771a17. Я делаю акцент на аллокативном аспекте, но Аристотель также утверждает, что некоторые хищные птицы получают меньше питания, чем другие птицы. О жизненном цикле млекопитающих см.: Приложение V.
О летних цветах см.: Теофраст Исследование о растениях VI, 8.1–8.5. О жизненном цикле рыб см.: Аристотель История животных VI, 10–17; Аристотель О возникновении животных III, 3–6. В трактате “О возникновении животных” (718b8) Аристотель утверждает, что высокая плодовитость присуща рыбам (икромечущим) и растениям, а также объясняет, что в случае икромечущих рыб дело обстоит так из-за высокой эмбриональной смертности (О возникновении животных 755a30; ср.: История животных 570b30). Признаками икромечущих рыб, которые способствуют высокой плодовитости, являются: 1) обратный половой диморфизм[259] (О возникновении животных 720a16), 2) мелкие икринки (О возникновении животных 755a30), 3) внешнее “совершенство” (оплодотворение? – см. ниже) для избежания тесноты в утробе (О возникновении животных 718b8е; ср.: 755a26), 4) быстрый рост эмбриона (О возникновении животных 755a26), 5) родительская забота у glanis (История животных 568b15). О высиживании икры у belonē см.: История животных 567b22, 571a2; О возникновении животных 755a30. О контрасте между плодовитостью икромечущих чешуйчатых рыб и живородящих селахий см.: История животных 570b29.
Когда Аристотель говорит об относительном совершенстве потомства птиц и млекопитающих, то ясно, что он имеет в виду что-то вроде дихотомии птенцовые/выводковые. Когда он говорит о “совершенных” и “несовершенных” яйцах (напр., в О возникновении животных 718b8, 732b1, 754a22 и 755a11), он имеет в виду родственные, но разные понятия. Его терминологический словарь снова оказывается серьезно недоработанным. Рассуждая о размножении рыб, Аристотель пишет, что те рыбы, которые рождаются живыми (большинство селахий), наиболее совершенны, что яйца с твердой, подобной скорлупе, оболочкой (других видов пластиножаберных рыб, например, ромбовых скатов) менее совершенны, а также что мягкие яйца (большинства видов чешуйчатых рыб) наименее совершенны из всех. Различение Аристотель проводит на основании того, в какой степени нужно развиваться родившемуся существу, чтобы стать функционирующим (“немного”, “сколько-то”, “много”). Это различие в морфологии яиц тесно связано с типом оплодотворения: пластиножаберным свойственно внутреннее оплодотворение, а большинству видов костных рыб – внешнее. Вполне возможно, что Аристотель об этом знает, но он очень неясно выражается по поводу спаривания у рыб. Даже учитывая это, можно допустить, что он видит собственно в оплодотворении “совершенствование” женского материала, и что стадия, на которой происходит “совершенствование” (ранняя; внутренняя или поздняя; внешняя), частично определяет, насколько совершенным окажется потомство. О расширении слизистой оболочки рыбьих яиц при оплодотворении, см.: Coward et al. 2002.
Введение в теорию жизненного цикла см.: Roff 2002. О жизненном цикле рыб, например, см.: Winemiller and Rose 1993.
На острове Икария ожидаемая продолжительность жизни соответствует общим для Греции показателям (сообщено мне К. Цимабосом), но предполагаю, что икарийские женщины имеют больше шансов прожить дольше женщин из остальных районах Греции (из моей переписки с М. Пуленом).
О теории старения у Аристотеля см.: King 2001. “Мы должны разобраться, почему одни животные живут долго, а другие – мало…”: О долгой и краткой жизни 464b19. О поденках см.: История животных 552b18. О гибели крылатых насекомых в конце лета см.: 553a12. Обобщенные данные о сравнительной биологии продолжительности жизни см.: О долгой и краткой жизни 466a1. О том, что старые особи “холодные” и “сухие”, см.: 466a21. О том, есть ли универсальное объяснение смерти: О юности и старости, о жизни и смерти 478b22. О том, есть ли универсальное объяснение разной продолжительности жизни: О долгой и краткой жизни 464b19. Об относительной теплоте и влажности животных см.: О долгой и краткой жизни 5, 6. О роли жира в жизни см.: О долгой и краткой жизни 466a24. Ср.: О частях животных 651b1. См.: Freudenthal 1995, ch. IV. О сокращении срока жизни как расплате за размножение см.: О долгой и краткой жизни 466b7; История животных 576b2; О возникновении животных 750a20. Также см.: Leroi 2010. О том, что старение является платой за размножение, в современной эволюционной биологии см.: Williams 1966; Rose 1991; Leroi 2001; Roff 2002. О регенерации у растений см.: О долгой и краткой жизни 467a7. О регенерации у змей и ящериц см.: История животных 508b4. О регенерации у гидры см.: Bosch 2009. О смерти из-за нарушения систем охлаждения см.: О юности и старости, о жизни и смерти 470b10. О разрушении охлаждающих органов см.: 479a8, 479a31. О этимологии (неверной) земли/старости см.: О возникновении животных 783b7. О уязвимости немолодых особей к изменению окружающей среды см.: О юности и старости, о жизни и смерти 474b30, 478a15, 479a16. О роли души и старении см.: О душе 415b25, 434a22; О юности и старости, о жизни и смерти. О том, что смерть соответствует природе живых существ, см.: О юности и старости, о жизни и смерти 464b29; О частях животных 644b23; О возникновении животных 731b24. О современных механистических теориях старения, например, см.: Finch 2007; Gems and Partridge 2013. О терморегуляции и старении у людей см.: Someren 2007. Об эволюционных теориях старения см.: Weissman 1889. Современные представления на этот счет см.: Medawar 1951/1981; Williams 1957. Также см.: Leroi 2003, ch. IX. О разрушении и возрождении: О долгой и краткой жизни 2, 3; О небе 288b15; гл. 13 моей книги.
Идиллическая сцена у Лонга: Дафнис и Хлоя I, 9–10. Также см.: Mason 1979; Green 1982; Green 1989, ch. 3.
Глава 14. Каменный лес
О губках см.: История животных 487b10, 548a32, 548b8, 588b21; О частях животных 681a10. О месте губок в античной культуре см.: Voultsiadou 2007. О других организмах, сочетающих признаки животных и растений, морских анемонах, асцидиях и т. д. см.: История животных 487b10, 547b12, 548a22; О частях животных 681a10, 683b18. Трудно сказать, считает Аристотель этих существ животными, растениями или средним между теми и другими. Так, он пишет, что губки “подобны растениям”, даже “подобны растениям во всем”. Я допускаю, что Аристотель полагает, что они животные, так как у всех их есть по крайней мере одно свойство чувствующей души (способность передвигаться, ощущать, испытывать голод). Это соотносилось бы с его политетическим подходом к классификации. Однако, пожалуй, наиболее убедительной причиной считать, что для Аристотеля они животные, – это тот факт, что он пишет о них в “Истории животных”, а не, например, в утерянном трактате “О растениях”. Похожим образом Теофраст касается губок в “Истории растений” (IV, 6.10), однако он пишет, что “они другого рода” – предположительно животные. В псевдоаристотелевском тексте de Plantis, 1 (который, как предполагают, является комментарием Николая Дамасского к утерянному тексту Аристотеля “О растениях”) также поднимается этот вопрос. Там утверждается, что животные способны чувствовать, растения – нет, моллюски способны чувствовать, но являются одновременно животными и растениями. См.: Drossart Lulofs 1957. Также см.: Lloyd 1983, ch. I, 4; Lloyd 1996, ch. 3; Lennox 2001a, 301. Теофраст о кораллах и других морских “растениях”: О камнях 38; Исследование о растениях IV, 6. (Там красный коралл назван “морской пальмой”.) Об Акабе см.: Исследование о растениях IV, 7.2. О скептицизме относительно сокращения губок см.: Thompson 1947, 250. Я благодарю Салли Лейс из Университета Альберты за информацию о передвижении губок. Также см.: Nickel 2004.
“Природа переходит так постепенно…”: История животных 588a1. Также см.: О частях животных 681a10; Метеорологика IV, 12; О возникновении животных 731a25. Может показаться, что существует противоречие между этим утверждением и убежденностью Аристотеля в том, что мир состоит из дискретных родов и каждому из них присуща собственная наследуемая форма и телеологически задаваемая сущность. Однако под “непрерывностью” Аристотель не имел в виду ни то, что протяженность родов бесконечно делима, ни то, что роды так накладываются друг на друга, что их границы неразличимы. Он считал, что они формируют градуированную последовательность, которая развивается небольшими, но четко отделимыми друг от друга стадиями. См.: Granger 1985; Lovejoy 1936.
Об истории высказывания Natura non facit saltum и использовании его Дарвином см.: Fishburn 2004. “Со времен Дарвина” – название сборника статей С. Дж. Гулда для журнала Natural History. О значении genos см.: Метафизика V, 28. Некоторые (Lennox 2001b, ch. 6; Pellegrin 1986, ch. 2) акцентировали тот факт, что Аристотель использует понятие genos для обозначения группы организмов, связанных происхождением. Это не лишено смысла, но только если принять во внимание то, что в случае megista genos (напр., птицы) с второстепенными genē (воробьи, жаворонки) мы признаем, что Аристотель не утверждает, что воробьи и жаворонки связаны друг с другом происхождением, так как это будет подразумевать наличие общего предка, т. е. эволюцию. Его использование понятия genos в смысле наличия общего происхождения (определения 1 и 2 из Метафизика V, 28, которые очень близки) может, таким образом, быть применимо лишь к genē, которые являются atoma eidē, т. е. тем, которые на самом деле скрещиваются (например, люди). В общем, он должен использовать понятие genos в третьем смысле (Метафизика V, 28), который относится лишь к классификации и не подразумевает ничего относящегося к происхождению. У Кульмана (Kullmann 2008) см. обсуждение предвосхищения Аристотелем эволюционной тематики (при том, что он не был эволюционистом).
О косвенном влиянии Аристотеля на Дарвина см.: Lennox 2001b, ch. 5; Gotthelf 2012, ch. 15. “Читаю Аристотеля…”: (Darwin 1838/2002-, 267). Стотт (Stott 2012) рассказывает, как Аристотель “проник” в “Происхождение видов”.
Самым авторитетным английским переводом книги “О частях животных” является перевод Леннокса (Lennox 2001a). Некоторые зоологические факты все еще следует брать из перевода Огла (Ogle 1882). Немецкий перевод и комментарии Кульмана (Kullmann 2007) превосходны и в философском, и в зоологическом аспектах.
О происхождении линнеевских названий см.: Heller and Pennhallurick 2007. Ни в одном из двух фрагментов (История животных 588b30; О частях животных 681a10), которые обычно используют для иллюстрации идеи лестницы существ, или лестницы природы (scala naturae), эта идея не выражена ярко. См.: Lennox 2001a, 300–301. Однако в других местах, например в трактате “О возникновении животных”, ясно дается понять, что у Аристотеля было четкое представление о том, как животные должны быть классифицированы в зависимости от нарастающего совершенства. Об относительном совершенстве потомства, например, см.: О возникновении животных 733a32. О связи между родительским совершенством и совершенством потомства см.: О возникновении животных 733a1. Физиология относительного совершенства описана в следующих фрагментах. Горячие животные обладают легкими: О частях животных 669b1. Им свойственно держаться прямо: О частях животных 686b26. Они, как правило, крупнее: О возникновении животных 732a17. Они, как правило, живут дольше “холодных” животных (гл. 13 этой книги). Теория Аристотеля (О частях животных 648a2, II, 4) о том, как состав крови влияет на интеллект и темперамент, изложена в том же ключе, но более сложна. Кровь обладает тремя свойствами, которые влияют на интеллект и темперамент: теплота, густота и чистота. Хотя они взаимосвязаны, эти свойства независимо варьируют в той или иной степени и у животных с кровью, и у бескровных, что позволяет Аристотелю анализировать поведение различных животных (быков, пчел и т. д.). Те животные, у которых кровь горячая, жидкая и чистая, лучшие: они и смелы и умны. У людей наиболее жидкая и чистая кровь из всех животных. См.: Lloyd 1983, ch. I, 3.
Об истории идеи scala naturae см.: Lovejoy 1936, ch. 2. На с. 79 Лавджой цитирует Альберта Великого. Также см.: Linnaeus 1735; Linnaeus and Gmelin 1788–1793. Об истории зоофитологии см.: Johnston 1838, 407–437; Ellis 1765. Классификацию Кювье, впервые представленную в 1812 г., см.: Cuvier and Latreille 1817.
О споре Кювье и Жоффруа Сент-Илера см.: Russell 1916, ch. 3, 5, 6; Appel 1987; Guyader 2004; Stott 2012. Об анализе Аристотелем геометрии головоногих см.: О частях животных IV, 9; гл. 4, 14 и 15 моей книги. Жоффруа Сент-Илер и Кювье об Аристотеле: Guyader 2004, 143, 155, 181. У терминов “гомология” и “аналогия” запутанная история. Впервые их различил Оуэн (Owen 1843, 374, 378; Owen 1868). Их значение, однако, изменялось. См.: Hall 2003. О методе Кювье см.: Cuvier 1834, vol. 1, 97, 179–189. О Ньютоне и естественной истории см.: Cuvier 1834, vol. 1, 96. “Форма зуба подразумевает…”: Cuvier 1834, vol. 1, 181. “…Рациональный принцип…”: Cuvier and Latreille 1817, vol. I, 6. Жоффруа Сент-Илер о грудине у позвоночных и loi de balancement: Guyader 2004.
Об отношении Кювье к другим мыслителям см.: Russell 1916, ch. 3; Outram 1986; Rudwick 1997; Grene and Depew 2004, ch. 5; Reiss 2009, 103–113. “Условия существования” Кювье появляются у Дарвина (Darwin 1859, 206) и Пейли (Paley 1809/2006, ch. 15). Похожую идею в современной генетике см.: Leroi et al. 2003 (о раке у гибридов Xiphophorus); Phillips 2008 (об эпистазе). Закон компенсации Жоффруа Сент-Илера появляется как корреляция роста у Дарвина (Darwin 1859, 143) и как плейотропия у Леруа (Leroi 2001). О возникающих вновь и вновь идеях см.: О небе 270b16; Метеорологика 339b28; Метафизика 1074b1; Политика 1329b25.
О живорождении и трансформизме у досократиков см.: Campbell 2000; Lloyd 2006, ch. 11; Sedley 2007. Трансформизм Платона очевиден в кн.: Тимей 91D– 92C. См.: Sedley 2007, ch. 4. О том, что все животные могут быть “рождены из земли”, см.: О возникновении животных 762b23. Как и большинство комментаторов, я полагаю, что Аристотель убежден в устойчивости форм. Балм и Готтхельф (Balme and Gotthelf 1992, 97–98), Балм (Balme 1987d) и Грейнджер (Granger 1987) утверждают, что это не так (и это неубедительно). См.: Lennox 2001b, ch. 6. О вечности родов/форм см.: О душе 415a25; О возникновении животных 731b31; Метафизика VII, 8–9; О возникновении и уничтожении II, 10–11. О вредоносных эффектах врожденных уродств см.: О возникновении животных 771a12, 772b35. Генри (Henry 2006a) предполагает, что для Аристотеля приспособленность рода к среде поддерживается селекцией, противостоящей мутациям, которые выходят за определенные рамки, так что любое животное с такими мутациями “уже не будет приспособлено к среде, и таким образом обладание этим признаком будет причинять ущерб его возможности выживать и размножаться”. Такого рода отбор (очень близкий к отбору Эмпедокла) называется стабилизирующим, но я не думаю, что Аристотель имел в виду его. Он лишь говорит, что безусловно неприспособленные особи (те, у которых отсутствуют необходимые органы) умирают, и никогда не связывает это с поддержанием форм.
О гибридизме у Линнея см.: MÜller-Wille and Orel 2007. Аристотель о гибридах: Метафизика 1033b33; О возникновении животных 738b32, 746a29; История животных 566a27, 606b25, 608a32. Ср.: О чудесных слухах 60 (псевдоаристотелевский трактат). Думает ли Аристотель, что новые роды животных могут возникать путем скрещивания, – каверзный вопрос. Генри (Henry 2006b) и другие, не принимающие систему двойного наследования (что я принимаю здесь), полагают, что и материнская и отцовская особи дают свои формы эмбриону. Если так, то гибриды, являющиеся устойчивой смесью родительских форм, были бы возможны. Однако нет достаточных доказательств, что Аристотель считал так. На самом деле он утверждает (о гибридах собак и лис – в О возникновении животных 738b28), что гибриды будут возвращаться к женской форме. Это несовместимо ни с принятием исключительно отцовских форм, ни с принятием форм обеих родительских особей, так как в этом случае возникает необъяснимый приоритет материнских форм или материи. Полагаю, это не принадлежащая Аристотелю вставка, сделанная, возможно, Теофрастом – язык этого фрагмента, в котором используются сравнения с почвой и семенем, наводит на мысль, что в текст вмешался ботаник. См.: О причинах растений I, 9.3; II, 13.3. Также см.: прим. к гл. 11 моей книги. О тератологическом трансформизме у Жоффруа Сент-Илера см.: Appel 1987, 128, 130–142; Guyader 2004.
Об уродливом см.: О возникновении животных 770b15, 769b27. Следующие животные, по Аристотелю, деформированы естественным образом: тюлени (История животных 498a33; О частях животных 657a22), кроты (История животных 491b28, 533a1; О душе 425a10). Также см.: Lloyd 1983, ch. I, 4; Granger 1987; Witt 2013. О том, как четвероногие стали передвигаться на четырех конечностях, см.: О частях животных 686a32. Ср.: О частях животных 686b21, Платон Тимей 91D-92C.
Э. Майр, Д. Халл и А. Кейн заявили, что “эссенциализм” Аристотеля (через Линнея) две тысячи лет сдерживал теорию эволюции. Опровержение этого потребовало бы детального анализа того, что эти ученые думали об Аристотеле и Линнее. Я займусь этим в будущей статье.
О предшественниках Дарвина см.: Mayr 1982; Stott 2012. Некоторые утверждали, что у Аристотеля попросту не было свидетельств об эволюции: Balme 1987d; Balme and Gotthelf 1992, 97–98; Lennox 2001b, ch. 6. О геологической истории Лесбоса см.: Страбон География I, 3.19. Об окаменелостях рыб у Ксенофана см.: Pease 1942. Ксанф, Эратосфен и Стратон об ископаемых остатках: Страбон География I, 3.3–3.4. Теофраст об ископаемой слоновой кости: О камнях 37. Также см.: Mayor 2000. О палеонтологии позвоночных Лесбоса см.: Dermitzakis 1999. О слонах Самоса и их остатках см.: Solounias and Mayor 2004. О крылатых змеях Аравии см.: Геродот История II, 75. Также см.: Radner 2007. Теофраст об окаменевшем тростнике: Исследование о растениях IV, 7.3. О fossiles см.: Метеорологика 378a20. Также см. упоминания об окаменелостях в псевдоаристотелевских трудах, например: Проблемы XXIV, 11; О чудесных слухах 52, 95.
Об адаптации у пшеницы см.: Теофраст О причинах растений IV, 11.5–11.9. О новых признаках растений: О причинах растений IV, 11.7. О возвращении семени к дикому состоянию см.: О причинах растений I, 9.1–9.3; Исследование о растениях II, 2.4–2.6. О плевеле см.: О причинах растений II, 16.3, IV, 4.5–5.5; Исследование о растениях II, 4.1, VIII, 8.3 (здесь Теофраст признает, что плевел может быть просто сорняком). Об эволюции и культурном значении плевела см.: Thomas et al. 2011. О Теофрасте, принимая во внимание несколько его фрагментов, часто говорят, что он менее восприимчив к телеологии, чем Аристотель, однако нет никаких сомнений, что его биология пронизана телеологией. См.: Lennox 2001b, ch. 12.
“Ничто в биологии…”: Dobzhansky 1973. “Части тела в известном отношении существуют ради работ, для которых каждая из них предназначена по природе”: О походке животных 704b11. Ср.: О возникновении животных 788b20. Об оптимальности у Аристотеля см.: Leroi 2010. Об оптимальности в эволюционной биологии и ее формальной связи с теорией естественного отбора см.: Grafen 2007. О том, что от дарвиновских адаптаций выигрывают особи, см.: Darwin 1859, 186; Ruse 1980. О том, как отличить уровни селекции от уровней адаптации, см.: Gardener and Grafen 2009. Живые существа “участвуют в вечном и божественном”: О душе 415a25, 415a22; О возникновении животных 731b18; О возникновении и уничтожении II, 10–11. Сравните с вряд ли принадлежащим перу Аристотеля “Большой этикой” (1187a30). Когда Аристотель говорит о конечной цели жизни, он обычно имеет в виду цели души, т. е. физиологической системы, которая контролирует питание, рост и размножение, а также другие функции. (См. гл. 9 моей книги.) Я утверждаю, что признаки аристотелевских существ существуют ради форм/родов. Некоторые ученые, например Балм и Готтхельф (Balme and Gotthelf 1992, 96–97), Леннокс (Lennox 2001b, ch. 6), отрицают это и утверждают, что вечное существование родов – это лишь вторичное следствие желания особей размножаться. Однако у Аристотеля (О душе 415b2) отмечается, что есть два смысла, в которых мы можем говорить о “том, ради чего”. Первый – это “ради чего”, второй – “для пользы чего”. Он явно идентифицирует второй вариант как форму/род. Также см.: О душе 416b22. Также стоит отметить, что, говоря о конкретной адаптации, Аристотель обычно не уточняет, является ли она (например, рога) “полезной для особи” или “полезной для вида”. Ему не нужно этого делать – она полезна и для того и для другого. Однако иногда он прямо указывает, что некоторый признак полезен для вида, например когда он пишет о жизненном цикле рыб (О возникновении животных 755a30; гл. 13 моей книги). В этом отношении его телеология все-таки отличается от телеологии Дарвина, поскольку для Дарвина от адаптации выигрывают особи (а с точки зрения неодарвиниста – гены). Также см. гл. 15 моей книги. О редукционизме в аристотелевских толкованиях см.: Gotthelf 2012, ch. 3. О том, что лучше существовать, чем не существовать, см.: О возникновении животных 731b30.
Глава 15. Космос
О осях тела животных и растений см. гл. 14. Об относительной ценности полюсов см.: О походке животных 5. Сольмсен (Solmsen 1955), Леннокс (Lennox 2001a, 275) и Седли (Sedley 2007, 172) рассуждают о платоновских представлениях о ценности в биологии Аристотеля. Большая часть того, что Аристотель писал о происхождении, позиции и структуре сердца, см.: О частях животных III, 4–5 (особенно 665b20). См.: Lennox 2001a, 254–265. О симметрии печени и селезенки: О частях животных 666a25, 669b13 и далее. Телеология, связанная с понятием “благородного”, также объясняет существование диафрагмы, отделяющей нижние менее “ценные” пищеварительные органы от тех, что находятся в грудной полости, в частности от сердца. См.: О частях животных 672b17. О телеологии см.: Gotthelf 2012, ch. 2.
О различии осей тела человека и животных см.: История животных 494a27. О разнице характеров см.: 588a19, 608a10, 608b4. О самках см.: О возникновении животных 728a17, 737a22, 767b6, 775a15. О причине существования полов см.: О возникновении животных 732a1. О том, что самки необходимы для сохранения форм, см.: О возникновении животных 767b8. Ср.: 731b34; Метафизика X, 9. Появление полов, однако, является “случайной” чертой (Метафизика X, 9). О евнухах см.: О возникновении животных 716b5. Ср.: 766a26. Мэйхью (Mayhew 2004), Генри (Henry 2007) и Нильсен (Nielsen 2008) обсуждают вопрос, является ли сексистской аристотелевская теория определения пола. Интерпретация в соответствии со “степенью совершенства” см.: Witt 1998.
О непропорциональном образовании семени у людей и объяснении этого явления см.: История животных 521a25, 572b30, 582b28; О возникновении животных 728b14, 776b26. О том, что люди и лошади занимаются сексом во время беременности, см.: История животных 585a4. О сладострастии лысых мужчин см.: О возникновении животных 783b27. Ср.: 774a34. О том, почему женщины и евнухи не лысеют, см.: История животных 583b33; О возникновении животных 728b15, 784a4-784a7; Leroi 2010. О физиологии человека см.: История животных 521a2; О частях животных 669b1. О связи наготы с использованием рук как оружия см.: О частях животных 687a22. О связи прямохождения у людей с божественностью см.: О частях животных 686a25. Ср.: 656a7. См.: Lloyd 1983, ch. I, 3; Lennox 2001, 317–318; Kullmann 2007, 690.
О политике у животных в Аристотель Политика 1253a7, История животных 488a10 (ср.: 589a3). Также см.: Kullmann 1991; Depew 1995. О социальном поведении журавлей см.: История животных 488a7, 614b18.
О посещении пчелами цветков одного вида и виляющем танце см.: История животных 624b5. О виляющем танце также см.: Haldane 1955. О сооружении сот см.: История животных 623b26. Об изгнании трутней см.: 626a10. О разделении труда см.: 625b18, 627a20. О специализации пчеломатки см.: О возникновении животных 760a11. Ксенофонт рассказывает, как пчеломатка управляет ульем. См.: Ксенофонт Домострой (Экономика) VII. Аристотель изъясняется по этому поводу гораздо менее ясно. См.: История животных 488a10. О цареубийстве у пчел см.: История животных 625a17, 625b15.
Об экологии пчел см.: История животных VII, VIII (нумерация по Балму). В первом фрагменте описываются их питание и места обитания, во втором – поведение и характеры. Так как в принадлежности второго фрагмента (в который включено описание привычек пчел) авторству Аристотеля часто сомневаются, одно из объяснений отсутствия причинно-следственного анализа привычек животных состоит попросту в том, что эти данные не его. Многие современные исследователи, однако, полагают, что большая доля этих текстов аутентична.
О происхождении домохозяйства и государства см.: Политика I, 1–2. О цели домохозяйства см.: 1252b9. Аргументы в пользу специализации см.: 1252b1. Ср.: Ch. LI. О самообеспечении как первоначальной цели государства см.: 1253a1. О том, что циклопы не признают законов, см.: 1252b35. О политической мысли Аристотеля и его последователей см.: Kullmann 1998, ch. V.
О естественном рабстве см.: Политика 1254a9 и далее. См.: 1254b16. Ср.: 1260a1 (об умственных способностях рабов по природе). Комментаторы (например, Heath 2008) пытались выяснить, каких именно умственных способностей, по мнению Аристотеля, недостает рабам по природе. Аристотель не занимается проблемой собственности. Он пишет (Политика 1260a35), что свободный ремесленник, работающий на хозяина, в узком смысле находится в рабстве. Об автоматических кифарах и челноках см.: Политика 1253b30. О том, что варвары – это рабы по природе, см.: Политика 1256b20. Ср.: 1252b5, 1255a28, 1285a19. Также см.: Heath 2008.
О греках и Средиземном море см.: Платон Федон 109B. Аристотель о государстве как о чем-то, обладающем органами: Политика IV, 4. Аристотель сравнивает органы госуправления с душой: 1254a28, 1254a34; О душе 410b10. Ср.: Политика 1253a20. Сравнение с рекой см.: Политика 1276a35. О том, что государство есть природное образование, см.: Политика I, 2, 1263a1. Однако на самом деле оно является полуприродным-полуискусственным гибридом. См.: Политика 1265a29. Также см.: Kullmann 1991; Leunissen 2013. Без буквы закона люди – “худшие из животных”: Политика 1253a29. О классификации наук см.: Метафизика XI, 7. Об идеальном государстве см.: Политика IV, 11, VII. О гражданстве и цензе см.: Политика 1328b35, 1329a20. Буркхардт (Burkhardt 1872/1999, ch. 5) дает особенно жесткую оценку афинской демократии IV в. до н. э., но и Аристотель критикует ее. Ср.: Политика V, 5. О классификации государственных органов см.: Политика IV, 4. О материальных причинах различия форм государства см.: Политика 1321a5, 1318b10. Ср.: 1326a5. О характерах европейцев, азиатов и греков см.: VII, 7. О разрушении государств см.: Политика V, 1. Аристотель яростно нападает на “супружеский коммунизм” Платона: II, 1–3. О природном порядке и способности людей жить хорошо см.: О частях животных 656a5.
О вражде орла с “драконом” (змеей) см.: История животных 609a4. О происхождении и распространении этого символического мотива см.: Wittkower 1939; Rodrigues Perez 2011. Также см.: История животных 602b25, 612a33. “Надо также рассмотреть…”: Метафизика XII (λ) 1075a16[260]. “Три монографии и одна статья”: Johnson 2005, ch. 9; Sedley 2007, ch. V; Leunissen 2010a; BodnÁr 2005. Взгляд на глобальную телеологию, которого я здесь придерживаюсь, близок к следующим: Nussbaum 1978, 93–99; BodnÁr 2005; Matthen 2009. Я благодарю И. Боднара за советы. О Аристотеле и каракатице см.: Schmidtt 1965. О происхождении термина “экология” см.: Haeckel 1866, vol. II, 286–288; Stauffer 1957. О том, что краб-горошинка обитает в пинне, см.: История животных 547b16. О биологии Пандоры см.: Swire and Leroi 2010. Рассуждения Аристотеля (О душе I, 3; ср.: О небе II, 3) показывают, что он не верит в существование мировой души.
Об акульей голове (О частях животных 696b25, ср.: История животных 591b25) часто рассуждают с позиций глобальной телеологии. Леннокс (Lennox 2001a, 341–342) пробует истолковать этот пассаж, но признает, что это непросто. Об исключительной плодовитости рыб см.: История животных 567a34. О плодовитости мышей см.: 580b10. О “распущенности” животных см.: Никомахова этика 1149b30. О состоянии вражды, которое воцаряется, когда заканчивается пища, см.: История животных 608b19 (ср.: 610a12). О том, что враждебные друг другу виды рыб будут собираться в стаи, когда пищи будет довольно, см.: История животных 610b2. О балансе природы см.: Геродот История III, 108–109 [Rawlinson et al. 1858–1860/1997)]. О зоологии у древних и этой идее см.: Egerton 1968; Egerton 2001a; Egerton 2001b. Аристотель не пользуется этим фрагментом, хотя он появляется, когда Геродот пишет о крылатых змеях, а этот фрагмент Аристотель точно знает. Те, кто отстаивает идею глобальной телеологии, опираются, кроме Метафизика XII (λ) 1075a16, на Политика 1256b7. Седли (Sedley 1991; Sedley 2007, ch. 5) крайне антропоцентрически интерпретирует этот фрагмент. Джонсон (Johnson 2005, ch. 9) предлагает контраргументы. О “рассудительных” рыбах см.: Никомахова этика 1141a20. Джонсон (Johnson 2005, ch. 8) использует этот пассаж для опровержения антропоцентрической телеологии, но не задается вопросом, как рыбы вообще могут быть мудрыми. Существует альтернативное прочтение этого фрагмента, заключающееся в следующем: рыбы должны быть мудрыми ради некой прямой физиологической пользы – и во фрагменте об акульем рыле Аристотель упоминает о такой пользе. Однако, кажется, здесь Аристотель имеет в виду не это, так как он добавляет: “Поскольку тот, кто рассматривает все в связи с самим собой, рассудителен, и такие явления доверяются ему”. Это звучит довольно загадочно. Предполагаю, что каждый род относится мудро к определенным вещам (человек – к деньгам, акула – к сардинам) и что в самом деле каждому роду доверены эти вещи, т. е. ему от природы свойственно не уничтожать вещи, которые необходимы. Кварантотто (Quarantotto 2010) пишет о “целых” и их свойствах. Критику понятия “баланса природы” в современной экологии см.: Pimm 1991. “[Естественный отбор] не планирует будущего…”: Dawkins 1986, 5.
О досократиках и происхождении космоса см.: О небе 297b14. Об изменениях см.: Физика VIII, 250b7. О вечности изменений см.: Физика 251a8. В связи с этим см.: Graham 1999, 41–44. Также см.: О небе I, 10–13. О постоянном источнике изменений см.: Физика VIII, 5. Также см.: Graham 1999, 93–94; BodnÁr Spring 2012. Об отсутствии у Аристотеля теории инерции см.: Balme 1939.
Об изучении звезд см.: О частях животных 644b22; О небе 286a5, 291b24, 292a14. Также см.: Falcon 2005, 99. Об астрономии см.: Метафизика 1073b10, 1074a16. Об отношении Аристотеля к астрономам и довольно строгий анализ его собственных попыток заниматься астрономией см.: Lloyd 1996, ch. 8. О геометрической модели космоса см.: Метафизика XII (λ) 8. Также см.: Lloyd 1996, ch. 8. О Евдоксе см.: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов VIII, 86–91; Jaeger 1948, ch. 1. О размере Земли см.: Аристотель О небе 298b15. О природе см.: О небе 268a1. Также см.: Falcon 2005, ch. 2. О толковании см.: Физика 193b22. Также см.: Lloyd 1991, ch. 11; Leunissen 2010a, ch. 5. О том, что космос неизменяем, см.: О небе 270b13, 292a7. Ср.: Метафизика 342b9. Также см.: Lloyd 1996, ch. 8. Об эфире см.: О небе I, 2–3. Фэлкон (Falcon 2005, 115) предполагает, что соотнесение первоначала с эфиром началось в поздней античности. О восприятии и свойствах эфира см.: Falcon 2005, ch. 3. О свойствах кругового движения: О небе I, 2. Ср.: Физика VIII, 9. О целевых причинах кругового движения небесных тел см.: О небе II, 3, II, 12. Также см.: Leunissen 2010a, ch. 5.2.
О том, почему у звезд нет приспособлений для движения, см.: О небе II, 8. Также см.: Leunissen 2010a, ch. 5.4. Аристотель сравнивает их с кораблями, влекомыми течением, см.: О небе 291a11. О том, что звезды (или сферы) живые, см.: О небе 292a18[261]. Ср.: 285a29. См.: Guthrie 1981, 256. О небесной жизни см.: О небе 279a20. О небесной иерархии см.: О небе II, 12. О движениях Солнца и Луны см.: О небе II, 3. Здесь Аристотель не говорит о том, ради чего, – может быть, имея в виду, что движения Солнца и Луны просто из материальной необходимости поддерживают круговорот начал в подлунном мире. Он пишет (О возникновении и уничтожении 336b1), что если образование и исчезновение (круговорот начал) вечно, то должно быть некое тело (Солнце), которое движется “вторичными движениями”. В трактате “О возникновении и уничтожении” (336b32; также см. гл. 13 моей книги) Аристотель говорит даже о боге, который направил движения Солнца и Луны так, чтобы обеспечить существование величайшей возможной взаимосвязанности. Также см.: Leunissen 2010a, ch. 5.2. Автор твердо отстаивает глобальную телеологию в своем прочтении фрагмента Метафизика XII (λ), 10: “Использование телеологического принципа здесь [О небе II, 3] позволяет Аристотелю нарисовать органичную картину космологической системы…”. В О небе II, 12 есть дополнительный телеологический аргумент в пользу относительного совершенства движения небесных тел. “Человек порождает человека…”: Физика 194b13. Ср.: Метафизика XII (λ), 10. Также см.: Falcon 2005, 9. Аристотель против материалистического толкования порядка в космосе: Физика 196a26. Демокрит о бесконечности: Sedley 2007, 138. Седли опирается на современную космологическую теорию бесконечной вселенной. О точной настройке см.: Rees 1999. О мультивселенных см.: Tegmark 2007. О теории космологического естественного отбора и уравнении Прайса см.: Gardner and Conlon 2013.
О признаках жизни см.: О душе 412a14. Также см. гл. 9 моей книги. О религии и небесных телах см.: О небе 270b5. О религиозных основаниях космологии см.: О небе 270b5. Ср.: 278b14, 283b26. Также см.: Nussbaum 1978, 134 ff; Falcon 2005, 112. О религиозной археологии см.: Метафизика 1074b1. О первой и второй философии см.: Метафизика 1026a27. Также см.: Grene 1998. О том, что животные не движутся сами, см.: Физика 252b16, 259b1; О движении животных 2–5. Гатри (Guthrie 1939, Introduction; Guthrie 1981, ch. 8) и Сорабджи (Sorabji 1988, ch. 13) указывают на следы у Аристотеля по крайней мере двух взаимосвязанных теорий, касающихся космологии, теологии и движения. Проблема в том, что неподвижные двигатели кажутся излишними в качестве движущих причин, если звезды уже вращаются из-за того, что они из эфира. Даже в этом случае мы имеем возможность допустить в одном контексте неподвижные двигатели и небесные сферы из эфира, если принять, что эфир, как и пневма, – лишь часть цепи движущих причин. Боднар в переписке обратил мое внимание на то, что неподвижные двигатели появляются в раннем утерянном диалоге de Philosophia. О пользе неподвижных двигателей см.: Метафизика 1073a23; Физика VIII, 8–10. В Метафизика 1073a1 Аристотель пишет, что неподвижных двигателей 55, в другом месте – что их 49. Он, кажется, работает (несколько неуклюже) с несколькими моделями. См.: Lloyd 1996, ch. 8. Рассматривая зрелую теорию движения Аристотеля, я большей частью пренебрег неясной книгой Физика VIII. См.: BodnÁr Spring 2012; Graham 1999; Waterlow 1982. Об отсутствии у Аристотеля законов движения см.: DelbrÜck 1971; Nussbaum 1978, 130, 305, и т. д. О том, как неподвижные двигатели приводят в движение вещи: Метафизика 1072a26; О растениях (псевдоаристотелевский трактат) VIII, 10. Есть очевидный конфликт между утверждением, что существует много неподвижных двигателей (Метафизика 1074a14), и указанием, что он один (например, О растениях VIII). Гатри (Guthrie 1981, 267–279) примиряет эти фрагменты, призывая на помощь иерархию. О природе абсолютного неподвижного двигателя см.: Метафизика 1072b13, и т. д. О том, как мыслит Бог, см.: Метафизика 1074b33. О наилучшей жизни см.: Никомахова этика X, 7. Аристотель цитирует Анаксагора: Фрагменты B18–19 (Протрептик); Эвдемова этика 1216a10.
Глава 16. Пиррейский пролив
О Ликее см.: Jaeger 1948, ch. 12, 13. Первая цитата взята из трактата “О небе” (276a18), вторая – из трактата “О возникновении животных” (745b23). Введение в современную литературу об интеллектуальной эволюции Аристотеля: Anagnostopoulos 2009b.
Об обвинении Аристотеля см.: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов V, 6–8. Туда же включен вызвавший неприятности гимн. О завещании Аристотеля см.: Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов V, 12–16. О дельфийских почестях см.: Jaeger 1948, 325. “Я не дам афинянам…”: Фрагменты F666R3. О сожалениях по поводу отозванных почестей см.: Фрагменты F667R3. “Чем больше времени я провожу один…”: F668R3. Также см.: Jaeger 1948, 320–321. Завещание Теофраста приводит Диоген Лаэртский (О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов V, 51–57). У Страбона (География XIII 1.54–1.55) описана судьба библиотеки. См.: Barnes 1995a, Anagnostopoulos 2009b; Lennox 2001b, ch. 5. Я благодарю Уильяма С. Морисона из Университета Гранд-Вэлли за сведения об археологии Ликея. Отчет о раскопках см.: Lygouri-Tolia 2002.
“Утомительная мешанина из слухов…”: См.: Medawar and Medawar 1985, 26–27.
О парижских запретах см.: Gaukroger 2007, ch. 2; Garber 2000. О томизме см.: Gaukroger 2007, ch. 2. О рукописях “Истории животных” см.: Balme and Gotthelf 2002, 6–35. Об интеллектуальных течениях XV в., противостоящих схоластике, см.: Gaukroger 2007, ch. 3. Спор у Галилея см.: “Диалог о двух главнейших системах мира” (1632), день 2.
Цитаты Альберта Великого см.: Albert Magnus de Miner., lib. II, tr. ii, I; de Veg., lib. VI, tr. ii, i. О Помпонацци см.: Perfetti 2000, ch. I, 1; Gaukroger 2001, 92; Gaukroger 2007, ch. 3.
“Вызывает удивление самоуверенность Аристотеля…”: Бэкон Успехи и развитие знания божественного и человеческого (1605, bk. 2). Ср.: Cogitata et visa (1607). О научном дискурсе см.: Gaukroger 2001, 10, и т. д. Бэкон о телеологии см.: Успехи и развитие знания божественного и человеческого, кн. 2. О формах: Новый Органон (1620), гл. 63. Также см.: Jardine 1974, ch. 5. Бэкон об искусственной науке: Gaukroger 2001, 39. Гленвилла цитирует Медавар (Medawar 1984, 95). О животном-машине Декарта см.: Grene and Depew 2004, ch. 2; Gaukroger 2007, ch. 9). Цитату Нильса Стенсена (1666) см.: Grene and Depew 2004, 63.
О витализме см. гл. 9, 10 моей книги. Против витализма: Crick 1967. Шредингер игнорирует Аристотеля: SchrÖdinger 1954/1996.
Исследователи античной философии, рассуждая об эмпирических исследованиях Аристотеля, часто используют понятие “опыт” в более широком смысле. Так, Леннокс (Lennox Fall 2011) называет опытом изучение Аристотелем эмбриогенеза курицы. Однако это не эксперимент, а лишь очень хорошее исследовательское наблюдение. Хэнкинсон (Hankinson 1995) считает опыт с сосудом из воска опытом – но и это нельзя так назвать. Ллойд (Lloyd 1991, ch. 4) обобщает сведения о древнегреческих опытах и анализирует их, однако и он не различает ясно настоящие опыты и наблюдения. О соотношении эмпирических данных и теории у Аристотеля также см.: Lloyd 1987. О Галилее и пушечном ядре см.: Butterfield 1957, ch. 5.
Фаррингтон восторженно отзывается о трактате “Пневматика” и вслед за Дильсом приписывает его авторство Стратону. См.: Farrington 1944, vol. 2, ch. 1 Однако см.: Lloyd 1973, ch. 7; Berryman 2009, ch. 5.
О “стилях” науки см.: Kell and Oliver 2004. О том, что следует выдвигать теорию даже при наличии немногих фактов, см.: О небе 292a14 и далее. Ср. (о пчелах): О возникновении животных 760b28-760b32. Также см.: О небе 293a25-293a31.
Об организменных “природах” Аристотеля и критике этого подхода см.: Henry 2008. Примечательно, что Лир (Lear 1988, 23–24) признает и защищает у Аристотеля аргументы virtus dormitiva. Берримен (Berryman 2007; Berryman 2009) и Джонсон (Johnson In press) предлагают ценные рассуждения о значении механистического и о том, могут ли теории Аристотеля считаться таковыми. Использование понятия “механизм” довольно распространено сейчас у исследователей биологии Аристотеля. См.: Kullmann 1998, 292; Henry 2006a (о наследственности); Gregoric and Corcilius 2013 (о движении животных). Шилдс (Shields 2008) определяет, что у Аристотеля значит ousia в случае артефактов и организмов. Приглашение к медицине см.: О долгой и краткой жизни 480b20. Об интересе Аристотеля к медицине см.: Anagnostopoulos 2009a.
“Эта наша наука…”: Thompson 1913, 30.
О туко-туко см.: Darwin 1845. Дарвин предполагает, что это животное может в дальнейшем стать слепым роющим животным, как Proteus, крот или Aspalax, – но осмотрительно приписывает эту мысль Ламарку. В другой работе Дарвин (Darwin 1859) снова проводит параллель с кротами, но теперь не обращается к Ламарку и предполагает, что естественный отбор в сторону утери глаз в сочетании с воздействием неупотребительности (так как Дарвин частично все же придерживается подхода Ламарка) могут отвечать за отказ от зрения животных, роющих норы. Борги (Borghi 2002) исследует уменьшение глаз у роющих млекопитающих и показывает, что у Ctenomys глаза немного меньше, чем у воробья, однако больше, чем у других роющих млекопитающих, и что во время рытья они зажмуриваются. “Причина того, что…”: Аристотель О возникновении и уничтожении 316a5. См.: Lennox 2011.
“Говорят, все люди рождаются…”: “Немецкий реквием” (1949). См.: Borges 1999, 233. Кольридж сказал это первым (Table Talk, July 2, 1830).
Библиография
Ackrill, J. L. Aristotle’s definitions of psuche // Proceedings of the Aristotelian Society, New Series 73 (1972/1973): 119–133.
Ackrill, J. L. Aristotle the philosopher. Oxford, Oxford University Press, 1981.
Adolph, E. F. Early concepts of physiological regulations // Physiological Reviews 41 (1961): 737–770.
Agassiz, L. Quarterly meeting report // Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 3 (1857): 325–384.
Amigues, S. Théophraste: recherches sur les plantes (5 vols). Paris, Les Belles Lettres, 1988–2006.
Amigues, S. Théophraste: les causes des phénomènes végétaux – Tome 1: livres 1 et 2. Paris, Les Belles Lettres, 2012.
Anagnostopoulos, G. Aristotle’s life / In: Anagnostopoulos, G., ed. A companion to Aristotle. Oxford, Blackwell, 2009a.
Anagnostopoulos, G. Aristotle’s works and the development of his thought / In: Anagnostopoulos, G., ed. A companion to Aristotle. Oxford, Blackwell, 2009b.
Anagnostopoulos, G. Aristotle’s methods / In: Anagnostopoulos, G., ed. A companion to Aristotle. Oxford, Blackwell, 2009c.
Andrews, P. Aristotle, Politics IV. 11. 1296a38–40 // Classical Review, New Series 2 (1952): 141–144.
Appel, T. A. The Cuvier – Geoffroy debate: French biology in the decades before Darwin. New York, NY, Oxford University Press, 1987.
Arnott, W. G. Birds in the ancient world from A to Z. London, Routledge, 2007.
Atran, S. Cognitive foundations of natural history: towards an anthropology of science. Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
Ayala, F. Biology as an autonomous science // American Scientist 56 (1968): 207–221.
Baer, K. E. von Über die Entwicklungsgeschichte der Thiere. Königsberg, Bornträger, 1828.
Balme, D. M. Greek science and mechanism I. Aristotle on nature and chance // Classical Quarterly 33 (1939): 129–138.
Balme, D. M. Genos and eidos in Aristotle’s biology // Classical Quarterly, New Series 12 (1962a): 81–98.
Balme, D. M. Development of biology in Aristotle and Theophrastus: theory of spontaneous generation // Phronesis 7 (1962b): 91–104.
Balme, D. M. The place of biology in Aristotle’s philosophy / In: Gotthelf, A., and J. G. Lennox, eds. Philosophical issues in Aristotle’s biology. Cambridge, Cambridge University Press, 1987a. Pp. 9–20.
Balme, D. M. Aristotle’s use of division and differentiae / In: Gotthelf, A., and J. G. Lennox, eds. Philosophical issues in Aristotle’s biology. Cambridge, Cambridge University Press, 1987b. Pp. 69–89.
Balme, D. M. Teleology and necessity / In: Gotthelf, A., and J. G. Lennox, eds. Philosophical issues in Aristotle’s biology. Cambridge, Cambridge University Press, 1987c. Pp. 275–285.
Balme, D. M. Aristotle’s biology was not essentialist / In: Gotthelf, A., and J. G. Lennox, eds. Philosophical issues in Aristotle’s biology. Cambridge, Cambridge University Press, 1987c. Pp. 291–312.
Balme, D. M. History of animals: books VII–X. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1991.
Balme, D. M., and A. Gotthelf Aristotle’s De partibus animalium I and De generatione animalium I (with passages from II, 1–3). Oxford, Clarendon Press, 1992.
Balme, D. M., and A. Gotthelf Historia animalium. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
Barnes, J. The Presocratic philosophers. London, Routledge, 1982.
Barnes, J. Early Greek philosophy. Harmondsworth, Penguin Books, 1987.
Barnes, J. Aristotle’s Posterior Analytics. Oxford, Clarendon Press, 1993.
Barnes, J. Life and work / In: Barnes, J., ed. The Cambridge companion to Aristotle. Cambridge, Cambridge University Press, 1995a. Pp. 1–26.
Barnes, J. Metaphysics / In: Barnes, J., ed. The Cambridge companion to Aristotle. Cambridge, Cambridge University Press, 1995b. Pp. 66–108.
Barnes, J. Aristotle. Oxford, Oxford University Press, 1996.
Barnstone, W. Greek lyric poetry. New York, NY, Schocken, 1972.
Bazos, I., and A. Yannitsaros The history of botanical investigations in Lesvos island (East Aegean, Greece) // Biologia Gallo-Hellenica, Supplementum 26 (2000): 55–68.
Beckner, M. The biological way of thought. New York, NY, Columbia University Press, 1959.
Bernard, C. Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux. Paris, Baillière, 1878.
Berryman, S. Teleology without tears: Aristotle and the role of mechanistic conceptions of organisms // Canadian Journal of Philosophy 37 (2007): 357–370.
Berryman, S. The mechanical hypothesis in ancient Greek natural philosophy. Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
Bertalanffy, L. von General system theory: foundations, development, applications. Harmondsworth, Penguin Books, 1968.
Bertin, L. Eels: a biological study. London, Cleaver-Hume Press, 1956.
Beullens, P., and A. Gotthelf Theodore Gaza’s translation of Aristotle’s De Animalibus: content, influence, and date // Greek, Roman and Byzantine Studies 47 (2007): 469–513.
Biel, B. Contributions to the flora of the Aegean islands of Lesvos and Limnos, Greece // Willdenowia 32 (2002): 209–219.
Bielby, J., et al. The fast-slow continuum in mammalian life history: an empirical reevaluation // American Naturalist 169 (2007): 748–757.
Bigwood, J. M. Aristotle and the elephant again // American Journal of Philology 114 (1993): 537–555.
BodnÁr, I. Teleology across natures // Rhizai 2 (2005): 9–29.
BodnÁr, I. Aristotle’s natural philosophy / In: Zalta, E. N., ed. The Stanford encyclopedia of philosophy. Spring 2012. См.: -natphil/.
Bodson, L. Aristotle’s statement on the reproduction of sharks // Journal of the History of Biology 16 (1983): 391–407.
Bogaard, P. A. Aristotle’s explanation of compound bodies // Isis 70 (1979): 11–29.
Bojanus, L. V. Anatome testudinis Europaeae. Vilnius, Josephi Zawadzki, 1819–1821.
Bolton, R. Definition and scientific method in Aristotle’s Posterior Analytics and Generation of Animals / In: Gotthelf, A., and J. G. Lennox, eds. Philosophical issues in Aristotle’s biology. Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Pp. 120–166.
Borges, J. L. Collected fictions. Harmondsworth, Penguin, 1999.
Borges, J. L. Selected non-fictions. New York, NY, Penguin Books, 2000.
Borghi, C. Eye reduction in subterranean mammals and eye protective behaviour in Ctenomys // Journal of Neotropical Mammology 9 (2002): 123–134.
Bos, A. P. The soul and its instrumental body: a reinterpretation of Aristotle’s philosophy of living nature. Leiden, E. J. Brill, 2003.
Bosch, T. C. G. Hydra and the evolution of stem cells // Bioessays 31 (2009): 478–486.
Bourgey, L. Observation et expérience chez Aristote. Paris, 1955.
Bowler, P. J. Preformation and pre-existence in the seventeenth century: a brief analysis // Journal of the History of Biology-X 4 (1971): 221–244.
Brennan, P. L. R., et al. Coevolution of male and female genital morphology in waterfowl // PLoS ONE 2 (2007): e418.
Brown, T. S. Callisthenes and Alexander // American Journal of Philology 70 (1949): 225–248.
Burkhardt, J. The Greeks and Greek civilization. New York, NY, St Martin’s Griffin, 1872/1999.
Burnyeat, M. F. Εἰκὼς μῦθος // Rhizai 2 (2005): 143–165.
Butterfield, H. The origins of modern science, 1300–1800. New York, NY, The Free Press, 1957.
Byrne, P. H. Analysis and science in Aristotle. Albany, NY, State University of New York Press, 1997.
Campbell, G. Zoogony and evolution in Timaeus, the Presocratics, Lucretius and Darwin / In: Wright, M. R., ed. Reason and necessity: essays on Plato’s Timaeus. Swansea, Classical Press of Wales, 2000. Pp. 145–180.
Campbell, G. Lucretius on creation and evolution: a commentary on De Rerum Natura book five, lines 772–1104. Oxford, Oxford University Press, 2003.
Candargy, C. A. La végétation de l’île de Lesbos. Uster, Zurich, A. Diggelmann, 1899.
Cannon, W. B. The wisdom of the body. New York, NY, W. W. Norton, 1932.
Caston, V. Phantasia and thought / In: Anagnostopoulos, G., ed. A companion to Aristotle. Oxford, Blackwell, 2009.
Cavolini, F. Memoria sulla generazione dei pesciedei granchi. Naples, 1787.
Chan, Y. F., et al. Adaptive evolution of pelvic reduction in sticklebacks by recurrent deletion of a Pitx1 enhancer // Science 327 (2010): 302–305.
Clarke, J. T., et al. Report on the investigations at Assos, 1881. Boston, A. Williams, 1882.
Cobb, M. The egg and sperm race: the seventeenth-century scientists who unravelled the secrets of sex, life and growth. London, Pocket Books, 2006.
Cohen, S. M. Aristotle on nature and incomplete substance. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Cole, F. J. A history of comparative anatomy, from Aristotle to the eighteenth century. London, Macmillan, 1944.
Coles, A. Biomedical models of reproduction in the fifth century BC and Aristotle’s Generation of animals // Phronesis 40 (1995): 48–88.
Conklin, E. G. Problems of development // American Naturalist 63 (1929): 5–36.
Cooper, J. Hypothetical necessity and natural teleology / In: Gotthelf, A., and J. G. Lennox, eds. Philosophical issues in Aristotle’s biology. Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Pp. 243–274.
Cooper, S. J. From Claude Bernard to Walter Cannon: emergence of the concept of homeostasis // Appetite 51 (2008): 419–427.
Cornford, F. M. Plato’s cosmology: the Timaeus of Plato. Indianapolis, Hackett, 1997.
Cosans, C. E. Aristotle’s anatomical philosophy of nature // Biology and Philosophy 13 (1998): 311–339.
Coward, K., et al. Gamete physiology, fertilization and egg activation in teleost fish // Reviews in Fish Biology and Fisheries 12 (2002): 33–58.
Cresswell, R., and J. G. Schneider Aristotle’s History of animals in ten books. London, H. G. Bohn, 1862.
Crick, F. Of molecules and men. Seattle, University of Washington Press, 1967.
Crook, A. C., et al. Comparative study of the covering reaction of the purple sea urchin, Paracentrotus lividus, under laboratory and field conditions // Journal of the Marine Biological Association of the UK 79 (1999): 1117–1121.
Cuvier, G. Recherches sur les ossemens fossiles, où l’on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces. Paris, Editions d’Ocagne, 1834.
Cuvier, G. Histoire des sciences naturelles depuis leur origine jusqu’à nos jours. Paris, Fortin Masson, 1841.
Cuvier, G., and P. A. Latreille Le règne animal distribué d’après son organisation, pour servir de base à l’histoire naturelle des animaux et d’introduction à l’anatomie comparée. Paris, Deterville, 1817.
Cuvier, G., and A. Valenciennes Histoire naturelle des poissons. Paris, F. G. Levrault, 1828–1849.
Dakyns, H. G. The works of Xenophon. London, Macmillan, 1890.
Darwin, C. R. Transmutation Notebook, B / In: Wyhe, J. van, ed. The complete work of Charles Darwin online. Cambridge, 1837–1838/2002-. См.: -online.org.uk.
Darwin, C. R. Transmutation Notebook, C / In: Wyhe, J. van, ed. The complete work of Charles Darwin online. Cambridge, 1838/2002-. См.: -online.org.uk.
Darwin, C. R. Transmutation Notebook, E / In: Wyhe, J. van, ed. The complete work of Charles Darwin online. Cambridge, 1838–1839/2002-. См.: -online.org.uk.
Darwin, C. R. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H. M. S. Beagle round the world. 2nd ed. London, John Murray, 1845.
Darwin, C. R. On the origin of species by means of natural selection, or, the preservation of favoured races in the struggle for life. 1st ed. London, John Murray, 1859.
Darwin, C. R. The variation of animals and plants under domestication. 1st ed. London, John Murray, 1868.
Darwin, C. R. The variation of animals and plants under domestication. 2nd ed. London, John Murray, 1875.
Davidson, J. N. Courtesans & fishcakes: the consuming passions of classical Athens. New York, NY, St Martin’s Press, 1998.
Davies, M., and J. Kathirithamby Greek insects. London, Duckworth, 1986.
Dawkins, R. The blind watchmaker. New York, NY, W. W. Norton, 1986. [Рус. пер.: Докинз, Р. Слепой часовщик: Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной. М.: АСТ: CORPUS, 2015.]
Del Rio-Tsonis, K., and P. A. Tsonis Eye regeneration at the molecular age // Developmental Dynamics 226 (2003): 211–224.
DelbrÜck, M. Aristotle-totle-totle / In: Monod, J., and E. Borek, eds. Of microbes and life: festschrift for André Lwoff. New York, NY, Columbia University Press, 1971. Pp. 50–55.
Depew, D. J. Humans and other political animals in Aristotle’s History of Animals // Phronesis 40 (1995): 156–181.
Depew, D. J. Consequence etiology and biological teleology in Aristotle and Darwin // Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 39 (2008): 379–390.
Dermitzakis, M. D., ed. Natural history collection of Vrisa-Lesvos Island. Athens, National and Kapodistrian University of Athens, 1999.
Derrickson, E. M. Comparative reproductive strategies of altricial and precocial Eutherian mammals // Functional Ecology 6 (1992): 57–65.
Dewsbury, D. A. The proximate and the ultimate: past, present, and future // Behavioural Processes 46 (1999): 189–199.
Diamond, J. M. Zoological classification system of a primitive people // Science 151 (1966): 1102–1104.
Dobzhansky, T. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution // American Biology Teacher 35 (1973): 125–129.
Driesch, H. The history and theory of vitalism. London, Macmillan, 1914.
Drossart Lulofs, H. J. Aristotle’s Peri phyton // Journal of Hellenic Studies 57 (1957): 75–80.
Dudley, S. A birdwatching guide to Lesvos. Shrewsbury, Subbuteo Natural History Books, 2009.
DÜring, I. Aristotle in the ancient biographical tradition. Göteborg, Almqvist & Wiksell, 1957.
Durrant, M. Aristotle’s De anima in focus. London, Routledge, 1993.
Egerton, F. N. Ancient sources for animal demography // Isis 59 (1968): 175–189.
Egerton, F. N. A history of the ecological sciences: early Greek origins // Bulletin of the Ecological Society of America 82 (2001a): 93–97.
Egerton, F. N. A history of the ecological sciences: Aristotle and Theophrastos // Bulletin of the Ecological Society of America 82 (2001b): 149–152.
Einarson, B., and G. K. K. Link Theophrastus: De causis plantarum. 2 vols. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1976–1990.
Ekberg, O., and S. V. Sigurjonsson Movement of the epiglottis during de-glutition – a cineradiographic study // Gastrointestinal Radiology 7 (1982): 101–107.
Ellis, J. On the nature and formation of sponges: in a letter from John Ellis, Esquire, F. R. S. to Dr. Solander, F. R. S. // Philosophical Transactions of the Royal Society 55 (1765): 280–289.
Estes, R. The behavior guide to African mammals: including hoofed mammals, carnivores, primates. Berkeley, CA, University of California Press, 1991.
Falcon, A. Aristotle and the science of nature: unity without uniformity. Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
Farley, J. The spontaneous generation controversy from Descartes to Oparin. Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 1977.
Farquharson, A. S. L. De incessu animalium / In: Ross, W. D., and J. A. Smith, eds. The works of Aristotle translated into English. Oxford, Clarendon Press, 1912.
Farrington, B. Greek science, its meaning for us. 2 vols. Harmondsworth, Penguin Books, 1944–1949.
Finch, C. The biology of human longevity: inflammation, nutrition, and aging in the evolution of lifespans. New York, NY, Academic Press, 2007.
Fischer, H. Note sur le bras hectocotylisé de l’Octopus vulgaris, Lamarck // Journal de Conchyliologie 42 (1894): 13–19.
Fishburn, G. Natura non facit saltum in Alfred Marshall (and Charles Darwin) // History of Economics Review 40 (2004): 59–68.
Frampton, M. F. Aristotle’s cardiocentric model of animal locomotion // Journal of the History of Biology-X 24 (1991): 291–330.
Frede, M. On Aristotle’s conception of soul / In: Nussbaum, M. C., and A. Rorty, eds. Essays on Aristotle’s De anima. Oxford, Clarendon Press, 1992. Pp. 93–107.
French, R. K. Ancient natural history: histories of nature. London, Routledge, 1994.
Freudenthal, G. Aristotle’s theory of material substance: heat and pneuma, form and soul. Oxford, Clarendon Press, 1995.
Funk, H. R. J. Gordon’s discovery of the spotted hyena’s extraordinary genitalia in 1777 // Journal of the History of Biology 45 (2012): 301–328.
Furth, M. Aristotle’s biological universe: an overview / In: Gotthelf, A., and J. G. Lennox, eds. Philosophical issues in Aristotle’s biology. Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Pp. 21–52.
Furth, M. Substance, form, and psyche: an Aristotelean metaphysics. Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
Gaeth, A. P., et al. The developing renal, reproductive, and respiratory systems of the African elephant suggest an aquatic ancestry // Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 96 (1999): 5555–5558.
Garber, D. Defending Aristotle/defending society in early 17th century Paris / In: Detel, W., and C. Zittel, eds. Wissensideale und Wissenskulturen in der frühen Neuzeit/Ideals and cultures of knowledge in early modern Europe. Berlin, Akademie Verlag, 2000. Pp. 135–160.
Gardener, A., and A. Grafen Capturing the superorganism: a formal theory of group adaptation // Journal of Evolutionary Biology 22 (2009): 1–13.
Gardner, A., and J. P. Conlon Cosmological natural selection and the purpose of the universe // Complexity 18 (2013): 48–56.
Garman, S. Silurus (Parasilurus) aristotelis // Bulletin of the Essex Institute 22 (1890): 56–59.
Gaukroger, S. Francis Bacon and the transformation of early-modern philosophy. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
Gaukroger, S. The emergence of a scientific culture: science and the shaping of modernity 1201–1685. Oxford, Oxford University Press, 2007.
Gaza, T. De animalibus. Venice, Johannes de Colonia and Johannes Manthen, 1476.
Gelber, J. Form and inheritance in Aristotle’s embryology // Oxford Studies in Ancient Philosophy 39 (2010): 183–212.
Gems, D., and L. Partridge Genetics of longevity in model organisms: debates and paradigm shifts // Annual Review of Physiology 75 (2013): 621–644.
Gill, M. J. Aristotle on substance: the paradox of unity. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1989.
Gill, T. Parental care in fishes // Annual report of the Smithsonian Institution, Washington for the year ending June 30, 1905 (1906): 403–531.
Gill, T. The remarkable story of a Greek fish // Washington University Bulletin 5 (1907): 5–15.
Glass, B. Maupertuis and the beginnings of genetics // Quarterly Review of Biology 22 (1947): 196–210.
Gotthelf, A. Teleology, first principles and scientific method in Aristotle’s biology. Oxford, Oxford University Press, 2012.
Gotthelf, A., and J. G. Lennox, eds. Philosophical issues in Aristotle’s biology. Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
Grafen, A. The formal Darwinism project: a mid-term report // Journal of Evolutionary Biology 20 (2007): 1243–1254.
Graham, D. W. Aristotle: Physics, book VIII: translated with a commentary. Oxford, Clarendon Press, 1999.
Granger, H. Continuity of kinds // Phronesis 30 (1985): 181–200.
Granger, H. Deformed kinds and the fixity of species // Classical Quarterly, New Series 37 (1987): 110–116.
Green, P. Longus, Antiphon, and the Topography of Lesbos // Journal of Hellenic Studies 102 (1982): 210–214.
Green, P. Classical bearings: interpreting ancient history. Berkeley, CA, University of California Press, 1989.
Gregoric, P., and K. Corcilius Aristotle’s model of animal motion // Phronesis 58 (2013): 52–97.
Gregory, A. Plato’s philosophy of science. London, Duckworth, 2000.
Grene, M. A portrait of Aristotle. Bristol, Thoemmes Press, 1998.
Grene, M., and D. J. Depew The philosophy of biology: an episodic history. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
Guidetti, P., and M. Mori Morpho-functional defences of Mediterranean sea urchins, Paracentrotus lividus and Arbacia lixula, against fish predators // Marine Biology 147 (2005): 797–802.
Guthrie, W. K. C. Aristotle on the heavens. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1939.
Guthrie, W. K. C. Aristotle: an encounter. Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
Guyader, H. le Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, 1772–1844: a visionary naturalist. Chicago, IL, University of Chicago Press, 2004.
Haeckel, E. Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie. Berlin, Reimer, 1866.
Haldane, J. B. S. Aristotle’s account of bees’ “dances” // Journal of Hellenic Studies 75 (1955): 24–25.
Hall, B. K. Descent with modification: the unity underlying homology and homoplasy as seen through an analysis of development and evolution // Biological Reviews 78 (2003): 409–433.
Hankinson, J. Philosophy of science / In: Barnes, J., ed. The Cambridge companion to Aristotle. Cambridge, Cambridge University Press, 1995. Pp. 109–139.
Hannaford, I. Race: the history of an idea in the west. Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 1996.
Harbour, J. W., et al. Frequent mutation of BAP1 in metastasizing uveal melanomas // Science 330 (2010): 1410–1413.
Harris, C. R. S. The heart and the vascular system in ancient Greek medicine, from Alcmaeon to Galen. Oxford, Clarendon Press, 1973.
Hawking, S. A brief history of time: from big bang to black holes. New York, NY, Bantam, 1988.
Heath, M. Aristotle on natural slavery // Phronesis 53 (2008): 243–270.
Heller, J. L., and J. M. Penhallurick The index of books and authors cited in the zoological works of Linnaeus. London, Ray Society, 2007.
Henry, D. Aristotle on the mechanism of inheritance // Journal of the History of Biology 39 (2006a): 425–455.
Henry, D. Understanding Aristotle’s reproductive hylomorphism // Apeiron 39 (2006b): 257–287.
Henry, D. How sexist is Aristotle’s developmental biology? // Phronesis 52 (2007): 251–269.
Henry, D. Organismal natures // Apeiron 41 (2008): 47–74.
Hett, W. S. On the soul. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1936.
Hicks, R. D. Diogenes Laertius: lives of eminent philosophers. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1925.
Hort, A. F. Theophrastus: Enquiry into Plants. 3 vols. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1916.
Houghton, R. W. On the silurus and glanis of the ancient Greeks and Romans // Annals and Magazine of Natural History 11 (1873): 199–206.
Houghton, S. On the form of the cells made by various wasps and by the honey bee; with an appendix on the origin of species // Annals and Magazine of Natural History 11 (1863): 451–429.
Huxley, J. Evolution, the modern synthesis. London, Allen & Unwin, 1942.
Huxley, T. H. On certain errors respecting the structure of the heart attributed to Aristotle // Nature 21 (1879): 1–5.
Jaeger, W. Aristotle: fundamentals of the history of his development. Oxford, Clarendon Press, 1948.
Jardine, L. Francis Bacon: discovery and the art of discourse. Cambridge, Cambridge University Press, 1974.
Johansen, T. K. Aristotle on the sense organs. Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
Johansen, T. K. Plato’s natural philosophy: a study of the Timaeus-Critias. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
Johnson, D. L. Problems in the land vertebrate zoogeography of certain islands and the swimming powers of elephants // Journal of Biogeography 7 (1980): 383–398.
Johnson, M. R. Aristotle on teleology. Oxford, Clarendon Press, 2005.
Johnson, M. R. Aristotelian mechanistic explanation / In: Rocca, J., ed. Teleology in the ancient world. Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
Johnston, G. A history of the British zoophytes. Edinburgh, Lizars, 1838.
Jones, K. E., et al. PanTHERIA: a species-level database of life history, ecology, and geography of extant and recently extinct mammals // Ecology 90 (2009): 2648–2648.
Jones, W. H. S., et al. Hippocrates. 11 vols. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1923–2012.
Judson, O. P. The case of the female orgasm: bias in the science of evolution // Nature 436 (2005): 916–917.
Kalinka, A. T., et al. Gene expression divergence recapitulates the developmental hourglass model // Nature 468 (2010): 811–814.
Kant, E. Kritik der Urteilskraft. 2nd ed. 1793.
Keaveney, A. Sulla, the last republican. London, Croom Helm, 1982.
Kell, D. B., and S. G. Oliver Here is the evidence, now what is the hypothesis? The complementary roles of inductive and hypothesis-driven science in the post-genomic era // Bioessays 26 (2004): 99–105.
Kelley, D. A. The functional morphology of penile erection: tissue designs for increasing and maintaining stiffness // Integrative and Comparative Biology 42 (2002): 216–221.
King, R. A. H. Aristotle on life and death. London, Duckworth, 2001.
King, R. A. H. Review of The soul and its instrumental body: a reinterpretation of Aristotle’s philosophy of living nature by A. P. Bos // Classical Review, New Series 57 (2007): 322–323.
King, R. A. H. The concept of life and the life-cycle in De juventute / In: FÖllinger, S., ed. Was ist “Leben”? Aristoteles’ Anschauungen zur Entstehung und Funktionsweise von Leben. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010. Pp. 171–187.
Kirk, G. S., et al. The presocratic philosophers: a critical history with a selection of texts. Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
Kitchell, K. F. Animals in the ancient world from A-Z. London, Routledge, 2014.
Kjellberg, F., et al. The stability of the symbiosis between dioecious figs and their pollinators – a study of Ficus caria L. and Blastophaga psenes L. // Evolution 41 (1987): 693–704.
Koutsogiannopoulos, D. Ta psara tis Hellas [Fishes of Greece]. Athens, 2010.
Kullmann, W. Die Teleologie in der aristotelischen Biologie: Aristoteles als Zoologe, Embryologe und Genetiker. Heidelberg, Winter, 1979.
Kullmann, W. Man as a political animal / In: Keyt, D., and F. D. Mill, eds. A companion to Aristotle’s Politics. Oxford, Blackwell, 1991.
Kullmann, W. Aristoteles und die moderne Wissenschaft. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1998.
Kullmann, W. Aristoteles: über die teile der Lebewesen. Berlin, Akademie Verlag, 2007.
Kullmann, W. Evolutionsbiologie vorstellungen bei Aristoteles / In: Hingst, K.-M., and M. Liatisi, eds. Pragmata: Festscrhift für Klaus Ohler zum 80. Geburtstag. Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2008. Pp. 70–80.
Lane-Fox, R. Alexander the Great. London, Allen Lane, 1973.
Lawson-Tancred, H. De anima (On the soul). Harmondsworth, Penguin Books, 1986.
Lear, J. Aristotle: the desire to understand. Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
Lee, H. D. P. Place-names and dates of Aristotle’s biological works // Classical Quarterly 42 (1948): 61–67.
Lee, H. D. P. The fishes of Lesbos again / In: Gotthelf, A., ed. Aristotle on nature and living things: philosophical and historical studies presented to David M. Balme on his seventieth birthday. Pittsburgh, PA, Mathesis Publications, 1985.
Leeuwenhoek, A. Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1931–1999.
Lelong, B. M. California fig industry with a chapter on fig caprification. Sacramento, CA, California State Office, 1891.
Lennox, J. G. Aristotle’s lantern // Journal of Hellenic Studies 103 (1984): 147–151.
Lennox, J. G. Aristotle on the Parts of Animals I–IV. Oxford, Clarendon Press, 2001a.
Lennox, J. G. Aristotle’s philosophy of biology: studies in the origin of biology. Cambridge, Cambridge University Press, 2001b.
Lennox, J. G. The comparative study of animal development: from Aristotle to William Harvey’s Aristotelianism / In: Smith, J. E. H., ed. The problem of animal generation in early modern philosophy. Cambridge, Cambridge University Press, 2006. Pp. 21–46.
Lennox, J. G. Bios, praxis and the unity of life / In: FÖllinger, S., ed. Was ist “Leben”? Aristoteles’ Anschauungen zur Entstehung und Funktionsweise von Leben. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010. Pp. 239–259.
Lennox, J. G. Aristotle on norms of inquiry // HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 1 (2011): 23–46.
Lennox, J. G. Aristotle’s biology / In: Zalta, E. N., ed. The Stanford encyclopedia of philosophy. Fall 2011. См.: -biology.
Lenoir, T. The strategy of life: teleology and mechanics in nineteenth century German biology. Dordrecht, Reidel, 1982.
Leroi, A. M. Molecular signals versus the loi de balancement // Trends in Ecology and Evolution 16 (2001): 24–29.
Leroi, A. M. Mutants: on the forms, varieties and errors of the human body. London, HarperCollins, 2003. [Рус. пер.: Леруа, А. М. Мутанты. М.: Астрель: CORPUS, 2010.]
Leroi, A. M. Function and constraint in Aristotle and evolutionary theory / In: FÖllinger, S., ed. Was ist “Leben”? Aristoteles’ Anschauungen zur Entstehung und Funktionsweise von Leben. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010. Pp. 261–284.
Leroi, A. M., et al. What does the comparative method reveal about adaptation? // American Naturalist 143 (1994): 381–402.
Leroi, A. M., et al. Cancer selection // Nature Reviews Cancer 3 (2003): 226–231.
Leunissen, M. The structure of teleological explanations in Aristotle: theory and practice // Oxford Studies in Ancient Philosophy 33 (2007): 145–178.
Leunissen, M. Explanation and teleology in Aristotle’s science of nature. Cambridge, Cambridge University Press, 2010a.
Leunissen, M. Aristotle’s syllogistic model of knowledge and the biological sciences: demonstrating natural processes // Apeiron 43 (2010b): 31–60.
Leunissen, M. Biology and teleology in Aristotle’s account of the city / In: Rocca, J., ed. Teleology in the ancient world. Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
Lewes, G. H. Aristotle: a chapter from the history of science, including analyses of Aristotle’s scientific writings. London, Smith, Elder, 1864.
Lind, L. R. Aldrovandi on chickens: the ornithology of Ulisse Aldrovandi, vol. II, book XIV. Norman, OK, University of Oklahoma Press, 1963.
Linnaeus, C. Systema naturæ, sive regna tria naturæ systematice proposita per classes, ordines, genera, & species. 1st ed. Leiden, Joannis Wilhelmi de Groot, 1735.
Linnaeus, C., and J. F. Gmelin Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. 13th ed. Leipzig, Georg Emanuel Beer, 1788–1793.
LittrÉ, E. Hippocrate: oeuvres complètes. 10 vols. Paris, Baillière, 1839–1861.
Lloyd, E. A. The case of the female orgasm: bias in the science of evolution. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2006.
Lloyd, G. E. R. Early Greek science: Thales to Aristotle. London, Chatto & Windus, 1970.
Lloyd, G. E. R. Greek science after Aristotle. London, Chatto & Windus, 1973.
Lloyd, G. E. R. A Note on Erasistratus of Ceos // Journal of Hellenic Studies 95 (1975): 172–175.
Lloyd, G. E. R. Magic, reason, and experience: studies in the origin and development of Greek science. Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
Lloyd, G. E. R. Science, folklore, and ideology: studies in the life sciences in ancient Greece. Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
Lloyd, G. E. R. Empirical research in Aristotle’s biology / In: Gotthelf, A., and J. G. Lennox, eds. Philosophical issues in Aristotle’s biology. Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Pp. 53–63.
Lloyd, G. E. R. Methods and problems in Greek science. Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
Lloyd, G. E. R. Aristotelian explorations. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Lloyd, G. E. R. Principles and practices in ancient Greek and Chinese science. Aldershot, Ashgate, 2006.
Loeb, J. The dynamics of living matter. New York, NY, Columbia University Press, 1906.
Loeck, G. Aristotle’s technical simulation and its logic of causal relations // History and Philosophy of the Life Sciences 13 (1991): 3–32.
Lones, T. E. Aristotle’s researches in natural science. London, West, Newman, 1912.
Long, A. A., and D. N. Sedley The Hellenistic philosophers: vol. 1. Translations of principal sources, with philosophical commentary. Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
Lonie, I. M. The Hippocratic treatises On generation, On the nature of the child, Diseases IV: a commentary. Berlin, Walter de Gruyter, 1981.
Lorenz, H. Ancient theories of the soul / In: Zalta, E. N., ed. The Stanford encyclopedia of philosophy. См.: -soul/.
Lovejoy, A. O. The great chain of being: a study of the history of an idea. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1936.
Lygouri-Tolia, E. Excavating an ancient palaestra in Athens / In: Stamatopoulou, M., and M. Yeroulanou, eds. Excavating Classical Culture. Oxford, Oxford University Press, 2002. Pp. 203–212.
Lynch, J. Aristotle’s school: a study of a Greek educational institution. Berkeley, CA, University of California Press, 1972.
Maderspacher, F. All the queen’s men // Current Biology 17 (2007): R191-R195.
Mason, H. J. Longus and the topography of Lesbos // Transactions of the American Philological Association 59 (1979): 149–163.
Matthen, M. Teleology in living things / In: Anagnostopoulos, G., ed. A companion to Aristotle. Oxford, Blackwell, 2009.
Mayhew, R. The female in Aristotle’s biology: reason or rationalization. Chicago, IL, University of Chicago Press, 2004.
Mayor, A. The first fossil hunters: paleontology in Greek and Roman times. Princeton, NJ, Princeton University Press, 2000.
Mayr, E. Cause and effect in biology // Science 134 (1961): 1501–1506.
Mayr, E. The growth of biological thought diversity, evolution, and inheritance. Cambridge, MA, Belknap Press, 1982.
Mayr, O. Origins of feedback control. Cambridge, MA, MIT Press, 1971.
Mebius, R. E., and G. Kraal Structure and function of the spleen // Nature Reviews Immunology 5 (2005): 606–616.
Medawar, P. B. The uniqueness of the individual. New York, NY, Dover, 1951/1981.
Medawar, P. B. Plato’s Republic. Oxford, Oxford University Press, 1984.
Medawar, P. B., and J. S. Medawar Aristotle to zoos: a philosophical dictionary of biology. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1985.
Meyer, J. B. Aristoteles Tierkunde: ein Beitrag zur Geschichte der Zoologie, Physiologie und alten Philosophie. Berlin, Reimer, 1855.
Millar, J. S., and R. M. Zammuto Life histories of mammals: an analysis of life tables // Ecology 64 (1983): 631–635.
Miller, M. G., and A. E. Miller Aristotle’s dynamic conception of the psuchē as being alive / In: FÖllinger, S. ed. Was ist “Leben”? Aristoteles’ Anschauungen zur Entstehung und Funktionsweise von Leben. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010. Pp. 55–88.
Morsink, J. Aristotle on the generation of animals: a philosophical study. Washington, DC, University of America Press, 1982.
Moureaux, C., and P. Dubois Plasticity of biometrical and mechanical properties of Echinocardium cordatum spines according to environment // Marine Biology 159 (2012): 471–479.
MÜller, J. Über den glatten Hai des Aristoteles und über die Verschiedenheiten unter den Haifischen und Rochen in der Entwicklung des Eies. Berlin, Königlichen Akademie des Wissenschafte, 1842.
MÜller-Wille, S., and V. Orel From Linnaean species to Mendelian factors: elements of hybridism, 1751–1870 // Annals of Science 64 (2007): 171–215.
Murray, A. T. The Odyssey: books 1–12. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1919.
Natali, C. Aristotle: his life and school. Princeton, NJ, Princeton University Press, 2013.
Needham, J. A history of embryology. Cambridge, Cambridge University Press, 1934.
Negbi, M. Male and female in Theophrastus’ botanical works // Journal of the History of Biology 28 (1995): 317–332.
Nickel, M. Kinetics and rhythm of body contractions in the sponge Tethya wilhelma (Porifera: Demospongiae) // Journal of Experimental Biology 207 (2004): 4515–4524.
Nielsen, K. M. The private parts of animals: Aristotle on the teleology of sexual difference // Phronesis 53 (2008): 373–405.
Nussbaum, M. C. Aristotle’s De motu animalium: text with translation, commentary, and interpretive essays. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1978.
Nussbaum, M. C. Saving Aristotle’s appearances / In: Schofield, M., and M. Nussbaum, eds. Language and Logos. Cambridge, Cambridge University Press, 1982. Pp. 267–294.
Nussbaum, M. C., and A. Rorty Essays on Aristotle’s De anima. Oxford, Clarendon Press, 1992.
Ogle, W. Aristotle on the Parts of Animals. London, K. Paul, French, 1882.
Onuki, A., and H. Somiya Two types of sounds and additional spinal nerve innervation to the sonic muscle / In: Dory, John Zeus faber (Zeiformes: Teleostei) // Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 84 (2004): 843–850.
Oppenheimer, J. M. Historical introduction to the study of teleostean development // Osiris 2 (1936): 124–148.
Osborne, R. The history written on the classical Greek body. Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
Oser-Grote, C. Aristoteles und das Corpus Hippocraticum. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2004.
Outram, D. Uncertain legislator: Georges Cuvier’s laws of nature in their intellectual context // Journal of the History of Biology 19 (1986): 323–368.
Owen, G. E. L. Tithenai ta phainomena / In: Nussbaum, M., ed. Logic, science and dialectic: collected papers in Greek philosophy. Ithaca, NY, Cornell University Press, 1961/1986.
Owen, R. Lectures on the comparative anatomy and physiology of the invertebrate animals, delivered at the Royal College of Surgeons, in 1843. London, Longman, Brown, 1843.
Owen, R. Lectures on the comparative anatomy and physiology of the invertebrate animals: delivered at the Royal College of Surgeons. London, Longman, Brown, Green & Longmans, 1855.
Owen, R. On the anatomy of vertebrates. London, Longmans, Green, 1866.
Owen, R. Derivative hypothesis of life and species. London, Longmans, Green, 1868.
Paley, W. Natural theology. Oxford, Oxford University Press, 1809/2006.
Palsson, B. Ø. Systems biology: properties of reconstructed networks. Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
Pease, A. S. Fossil fishes again // Isis 33 (1942): 689–690.
Peck, A. L. The generation of animals. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1943.
Peck, A. L. Historia animalium: books I–III. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1965.
Peck, A. L. Historia animalium: books IV–VI. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1970.
Pellegrin, P. Aristotle’s classification of animals: biology and the conceptual unity of the Aristotelian corpus. Berkeley, CA, University of California Press, 1986.
Perfetti, S. Aristotle’s zoology and its Renaissance commentators, 1521–1601. Leuven, Leuven University Press, 2000.
Phillips, P. C. Epistasis – the essential role of gene interactions in the structure and evolution of genetic systems // Nature Reviews Genetics 9 (2008): 855–867.
Pimm, S. L. The balance of nature? Ecological issues in the conservation of species and communities. Chicago, IL, University of Chicago Press, 1991.
Pinto-Correia, C. The ovary of Eve: egg and sperm and preformation. Chicago, IL, University of Chicago Press, 1997.
Platt, A. De generatione animalium / In: Smith, J. A., and W. D. Ross, eds. The works of Aristotle translated into English. Vol. 5. Oxford, Clarendon Press, 1910.
Popper, K. R. The open society and its enemies. New York, NY, Harper Torchbooks, 1945/1962.
Preus, A. Science and philosophy in Aristotle’s biological works. New York, NY, G. Olms, 1975.
Proman, J. M., and J. D. Reynolds Differences in head shape of the European eel, Anguilla anguilla // Fisheries Management and Ecology 7 (2000): 349–354.
Pyle, A. J. Malebranche on animal generation: pre-existence and the microscope / In: Smith, J. E. H., ed. The problem of animal generation in early modern philosophy. Cambridge, Cambridge University Press, 2006. Pp. 194–214.
Quarantotto, D. Causa finale, sostanza, essenza in Aristotele: saggio sulla struttura dei processi teleologici naturali e sulla funzione del telos. Naples, Bibliopolis, 2005.
Quarantotto, D. Aristotle on the soul as a principle of unity / In: FÖllinger, S., ed. Was ist “Leben”? Aristoteles’ Anschauungen zur Entstehung und Funktionsweise von Leben. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010. Pp. 35–53.
Rackham, H., et al. Pliny: Natural history. 10 vols. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1938–1962.
Radner, K. The winged snakes of Arabia and the fossil site of Makhtesh Ramon in the Negev / In: KÖhbach, M., ProchÁzka, S., Selz, G. J., and L. RÜdiger, eds. Festschrift für Hermann Hunger zum 65. Geburtstag. Vienna, Institut für Orientalistik, 2007. Pp. 353–365.
Rawlinson, G., et al. Herodotus: the histories. New York, NY, Everyman, 1858–1860/1997.
Rees, M. Just six numbers: the deep forces that shape the universe. London, HarperCollins, 1999.
Reiss, J. Retiring Darwin’s watchmaker. Berkeley, CA, University of California Press, 2009.
Ren, L., et al. The movements of limb segments and joints during locomotion in African and Asian elephants // Journal of Experimental Biology 211 (2008): 2735–2751.
Rodríguez PÉrez, D. Contextualizing symbols: “the eagle and the snake” in the ancient Greek world // Boreas: Münstersche Beiträge zur Archäologie 33 (2011): 1–18.
Roff, D. A. Life history evolution. Sunderland, MA, Sinauer Associates, 2002.
Roger, J. The life sciences in eighteenth-century French thought. Redwood City, CA, Stanford University Press, 1997.
Romm, J. S. Aristotle’s elephant and the myth of Alexander’s scientific patronage // American Journal of Philology 110 (1989): 566–575.
Rose, M. R. Evolutionary biology of aging. New York, NY, Oxford University Press, 1991.
Rosenblueth, A., et al. Behavior, purpose and teleology // Philosophy of Science 10 (1943): 8–24.
Ross, W. D. Metaphysica / In: Smith, J. A., and W. D. Ross, eds. The works of Aristotle translated into English. Vol. VIII. Oxford, Clarendon Press, 1915.
Ross, W. D. Aristotle. London, Routledge, 1995.
Rudwick, M. J. S. Georges Cuvier, fossil bones, and geological catastrophes: new translations & interpretations of the primary texts. Chicago, IL, University of Chicago Press, 1997.
Ruestow, E. G. Leeuwenhoek and the campaign against spontaneous generation // Journal of the History of Biology 17 (1984): 225–248.
Ruse, M. Charles Darwin and group selection // Annals of Science 37 (1980): 615–630.
Ruse, M. Do organisms exist? // American Zoologist 29 (1989): 1061–1066.
Russell, E. S. Form and function: a contribution to the history of animal morphology. London, John Murray, 1916.
Ryle, G. The concept of mind. London, Hutchinson, 1949.
Sander, K. Hans Driesch’s “philosophy really ab ovo”, or, why to be a vitalist // Roux’s Archives of Developmental Biology 202 (1993a): 1–3.
Sander, K. Entelechy and the ontogenetic machine: work and views of Hans Driesch from 1895–1910 // Roux’s Archives of Developmental Biology 202 (1993b): 67–69.
Scalitas, R. Mixing the elements / In: Anagnostopoulos, G., ed. A companion to Aristotle. Oxford, Blackwell, 2009.
Scharfenberg, L. N. Die Cephalopoden des Aristoteles im Lichte der modernen Biologie. Trier, Wissenschaftlicher Verlag, 2001.
Schaus, G. P., and N. Spencer Notes on the Topography of Eresos // American Journal of Archaeology 98 (1994): 411–430.
Schmidtt, C. B. Aristotle as a cuttlefish: the origin and development of a Renaissance image // Studies in the Renaissance 12 (1965): 60–72.
Schnitzler, A. R. Past and present distribution of the North African – Asian lion subgroup: a review // Mammal Review 41 (2011): 220–243.
SchrÖdinger, E. What is life? Cambridge, Cambridge University Press, 1944/1967.
SchrÖdinger, E. Nature and the Greeks and science and humanism. Cambridge, Cambridge University Press, 1954/1996.
Sedley, D. Creationism and its critics in antiquity. Berkeley, CA, University of California Press, 2007.
Sedley, D. N. Is Aristotle’s teleology anthropocentric? // Phronesis 36 (1991): 179–196.
Shapiro, M. D., et al. Genetic and developmental basis of evolutionary pelvic reduction in threespine sticklebacks // Nature 428 (2004): 717–723.
Sharples, R. W. Theophrastus of Eresus: sources for his life, writings, thought and influence: commentary. Vol. 5: Sources on biology (human physiology, living creatures, botany: texts 328–435). Leiden, E. J. Brill, 1995.
Shields, C. Substance and life in Aristotle // Apeiron 41 (2008): 129–151.
Simon, H. A. The sciences of the artificial. 3rd ed. Cambridge, MA, MIT Press, 1996.
Simpson, R. L. P. A philosophical commentary on the Politics of Aristotle. Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press, 1998.
Sisson, S. The anatomy of the domestic animals. Philadelphia, W. B. Saunders, 1914.
Smith, C. L. The patterns of sexuality and the classification of serranid fishes // American Museum Novitates 2207 (1965): 1–20.
Solmsen, F. Antecedents of Aristotle’s psychology and scale of beings // American Journal of Philology 76 (1955): 148–164.
Solmsen, F. Aristotle’s system of the physical world: a comparison with his predecessors. Ithaca, NY, Cornell University Press, 1960.
Solmsen, F. The fishes of Lesvos and their alleged significance for the development of Aristotle // Hermes 106 (1978): 467–184.
Solounias, N., and A. Mayor Ancient references to the fossils from the land of Pythagoras // Earth Science History 23 (2004): 283–296.
Someren, E. J. W. von Thermoregulation and aging // American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 292 (2007): R99-R102.
Sorabji, R. Matter, space and motion: theories in antiquity and their sequel. London, Duckworth, 1988.
Spencer, H. Principles of biology. London, Williams & Norgate, 1864.
Starck, J. M., and R. E. Ricklefs Patterns of development: the altricial – precocial spectrum / In: Starck, J. M., and R. E. Ricklefs, eds. Avian growth and development: evolution within the altricial – precocial spectrum. New York, Academic Press, 1998. Pp. 3–30.
Stauffer, R. C. Haeckel, Darwin, and ecology // Quarterly Review of Biology 32 (1957): 138–144.
Stearn, W. T. The Natural History Museum at South Kensington. London, Natural History Museum Publishing, 1981.
Steenstrup, J. Hectocotylus formation in Argonauta and Tremoctopus explained by observations on similar formations in the Cephalopoda in general // Annals and Magazine of Natural History 20 (1857): 81–114.
Stott, R. Darwin’s ghosts: the secret history of evolution. London, Bloomsbury, 2012.
Strassmann, B. I. The evolution of endometrial cycles and menstruation // Quarterly Review of Biology 71 (1996): 181–220.
Sundevall, C. J. Ornithologiskt System. Stockholm, Kongliga Svenska Vetenskap Akademie, 1835.
Swire, J., and A. M. Leroi Planet Cameron: return to Pandora // Trends in Ecology and Evolution 25 (2010): 432–433.
Tegmark, M. The multiverse hierarchy / In: Carr, B., ed. Universe or multiverse? Cambridge, Cambridge University Press, 2007. Pp. 99–125.
Tennant, J. E. The wild elephant and the method of capturing it in Ceylon. London, Longmans, Green, 1867.
Thomas, H., et al. Evolution, physiology and phytochemistry of the psychotoxic arable mimic weed Darnel (Lolium temulentum L.) // Progress in Botany 72 (2011): 72–103.
Thompson, D. The people of the sea: a journey in search of the seal legend. Edinburgh, Canongate, 1998.
Thompson, D. W. A glossary of Greek birds. London, Oxford University Press, 1895.
Thompson, D. W. Historia animalium / In: Ross, W. D., and J. A. Smith, eds. The works of Aristotle translated into English. Vol. 4. Oxford, Clarendon Press, 1910.
Thompson, D. W. On Aristotle as a biologist with a prooemion on Herbert Spencer. Oxford, Clarendon Press, 1913.
Thompson, D. W. How to catch cuttlefish // Classical Review 42 (1928): 14–18.
Thompson, D. W. Ktilos // Classical Review 46 (1932): 53–54.
Thompson, D. W. Science and the classics. Oxford, Oxford University Press, 1940.
Thompson, D. W. A glossary of Greek fishes. Oxford, Oxford University Press, 1947.
Thompson, R. D. A. D’Arcy Wentworth Thompson, the scholar-naturalist, 1860–1948. Oxford, Oxford University Press, 1958.
Tinbergen, N. On the aims and methods of ethology // Zeitschrift für Tierpschyologie 20 (1963): 410–433.
Tipton, J. A. Division and combination in Aristotle’s biological writings // Journal of Bioeconomics 3 (2002): 51–55.
Tipton, J. A. Aristotle’s study of the animal world: the case of the kobios and phucis // Perspectives in Biology and Medicine 49 (2006): 369–383.
TÓth, L. F. What the bees know and what they do not know // Bulletin of the American Mathematical Society 70 (1964): 468–481.
Voultsiadou, E. Sponges: an historical survey of their knowledge in Greek antiquity // Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 87 (2007): 1757–1763.
Voultsiadou, E., and C. Chintriroglou Aristotle’s lantern in echinoderms: an ancient riddle // Cahiers de Biologie Marine 49 (2008): 299–302.
Voultsiadou, E., and D. Vafidis Marine invertebrate diversity in Aristotle’s zoology // Contributions to Zoology 76 (2007): 103–120.
Wang, J. L., et al. Anatomical subdivisions of the stomach of the Bactrian camel (Camelus bactrianus) // Journal of Morphology 245 (2000): 161–167.
Ware, D. M. Power and evolutionary fitness of teleosts // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 39 (1982): 3–13.
Warren, J. Presocratics: natural philosophers before Socrates. Berkeley, CA, University of California Press, 2007.
Waterlow, S. Nature, change, and agency in Aristotle’s physics. Oxford, Clarendon Press, 1982.
Watson, M. On the female generative organs of Hyaena crocuta // Proceedings of the Zoological Society of London 24 (1877): 369–379.
Weiblen, G. D. How to be a fig wasp // Annual Review of Entomology 47 (2002): 299–330.
Weismann, A. Essays upon heredity and kindred biological problems. Oxford, Clarendon Press, 1889.
West, J. B., et al. Fetal lung development in the elephant reflects the adaptations required for snorkeling in adult life // Respiratory Physiology and Neurobiology 138 (2003): 325–333.
Whewell, W. The philosophy of the inductive sciences, founded upon their history. London, J. W. Parker, 1840.
Whiting, J. Living bodies / In: Nussbaum, M. C., and A. Rorty, eds. Essays on Aristotle’s De anima. Oxford, Clarendon Press, 1992. Pp. 75–91.
Wiener, N. Cybernetics, or, control and communication in the animal and the machine. New York, NY, John Wiley, 1948.
Wilkins, J., et al. Archestratus: fragments from The Life of luxury. Totnes, Prospect Books, 2011.
Wilkins, J. S. Species: a history of the idea. Berkeley, CA, University of California Press, 2009.
Williams, G. C. Pleiotropy, natural selection and the evolution of senescence // Evolution 11 (1957): 398–411.
Williams, G. C. Natural selection, the costs of reproduction and a refinement of Lack’s principle // American Naturalist 100 (1966): 687–690.
Williams, G. C. Plan and purpose in nature. North Pomfret, VT, Trafalgar Square, 1996.
Wilson, J. B. Guilds, functional types and ecological groups // Oikos 86 (1999): 507–522.
Wilson, M. Speusippus on knowledge and division / In: Kullmann, W., and S. FÖllinger, eds. Aristotelische Biologie: Intentionen, Methoden, Ergebnisse. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1997. Pp. 13–25.
Wilson, M. Structure and method in Aristotle’s Meteorologica: a more disorderly nature. Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
Winemiller, K. G., and K. A. Rose Why do most fish produce so many tiny offspring? // American Naturalist 142 (1993): 585–603.
Winsor, M. P. Barnacle larvae in the nineteenth century: a case study in taxonomic theory // Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 24 (1969): 294–309.
Winsor, M. P. Starfish, jellyfish and the order of life: issues in nineteeth-century science. New Haven, CT, Yale University Press, 1976.
Witt, C. Form and normativity in Aristotle: a feminist perspective / In: Freeland, C., ed. Re-reading the canon: feminist essays on Aristotle. University Park, PA, Penn State University Press, 1998. Pp. 118–137.
Witt, C. Aristotle on deformed animal kinds // Oxford Studies in Ancient Philosophy 43 (2013): 83–106.
Wittkower, R. Eagle and serpent: a study in the migration of symbols // Journal of the Warburg Institute 2 (1939): 293–325.
Ziswiler, V., and D. S. Farner Digestion and the digestive system / In: Farner, D. S., King, J. R., and K. C. Parkes, eds. Avian Biology. New York, NY, Academic Press, 1972. Pp. 343–430.
Zouros, N., et al. Guide to the Plaka and Sigri petrified forest parks. Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest, Ministry of Culture, Lesvos, 2008.
Zwier, K. Methodology in Aristotle’s Theory of Spontaneous Generation // Journal of the History of Biology (2017). DOI 10.1007/s10739-017-9494-7.
Иллюстрации
Все иллюстрации к зоологическим работам Аристотеля (если они вообще существовали) утеряны. Вместо того чтобы пытаться подобрать древнегреческие изображения животных (их мало и по времени они все равно не современны Аристотелю), я решил использовать иллюстрации с 1500 г. Для этой цели рисунки XVI в. Геснера, Белона и т. д. кажутся мне особенно подходящими. Они почти столь же наивны, как, скажем, блюда для рыбы IV в. до н. э. Изображения экзотических животных у художников 1500-х гг. нередко отличает странность, присущая реконструкциям, сделанным по неполным или неверным данным. Кроме того, анималисты эпохи Возрождения работали с аристотелевскими описаниями. Анатомические схемы на с. 82, 86, 145 и 237[262] основаны на схемах, упоминаемых Аристотелем. Их реконструировал Давид Куцогианнопулос, а помогла ему в этом специалист по папирусам Грейс Иоанниду. Давид читал античные тексты, а затем искал модели того времени. Ни одна анатомическая схема времен Аристотеля до наших дней не дошла, однако папирусы аристотелевского и эллинистического времени, на которых изображены геометрические схемы или животные, могут дать примерное представление об утраченном. На блюдах для рыбы видны детали, которые подмечали современники Аристотеля. После множества экспериментов получились изображения, передающие не стиль художника, а мысли ученого, по чьим описаниям создавались эти рисунки.
15 Lister, M. Historiae sive synopsis methodicae conchyliorum. London, 1685.
27 Choiseul-Gouffier, M. G. F. A. de Voyage pittoresque en Grèce, vol. 2. Paris, 1782–1822.
31 Gesner, K. Historia animalium. Zurich, 1551–1587.
47 Литография неизвестного художника (XIX в.).
49 Choiseul-Gouffier, M. G. F. A. de Voyage pittoresque en Grèce, vol. 2. Paris, 1782–1822.
49 Мой снимок.
52 Alpini, P. De Plantis exoticis. Venice, 1629.
57 Gesner, K. Historia animalium. Zurich, 1551–1587.
64 Там же.
76 Pocock, R. The fauna of British India, including Ceylon and Burma: mammalia. London, 1939. С изменениями.
82 Koutsogiannopoulos, D.
86 Koutsogiannopoulos, D.
91 Klein, J. Naturalis dispositio echinoderatum. Danzig, 1734.
94 Gill, T. Parental care in fishes // Annual report of the Smithsonian Institution, Washington, for the year ending 30 June 1905: 403–531.
97 Fischer, H. Note sur le bras hectocotylis de l’Octopus vulgaris Lamarck // Journal de Conchyliologie 42 (1894): 13–19, Paris.
97 Gesner, K. Historia animalium. Zurich, 1551–1587.
100 Там же.
104 Там же.
126 Мой снимок.
130 Gaza, T. Aristotelis et Theophrasti Historiae. Lyon, 1552.
145 Koutsogiannopoulos, D.
151 Belon, P. Histoire naturelle des estranges poissons. Paris, 1551.
162 Bell, M. A. Evolution of phenotypic diversity in the Gasterosteus aculeatus superspecies on the Pacific coast of North America // Systematic Zoology 25 (1976): 211–227. С изменениями.
171 Gesner, K. Historia animalium. Zurich, 1551–1587.
175 Там же.
180 Owen, R. Anatomy of vertebrates, vol. 2. London, 1866.
182 Mortenson, T. Handbook of the echinoderms of the British Isles. London, 1927.
190 Gesner, K. Historia animalium. Zurich, 1551–1587.
196 Там же.
197 Koutsogiannopoulos, D.
215 Bojanus, L. H. Anatome testudinis Europaeae. Vilnius, 1819–1821.
222 Литография неизвестного художника (XIX в.).
230 Rueff, J. De Conceptu et generatione hominis. Frankfurt, 1554.
237 Koutsogiannopoulos, D.
246 Литография неизвестного художника (XIX в.).
249 Fabricius, H., ab Acquapendene De formatione ovo et pulli. Padua, 1604.
251 Richardson, M. K., et al. Haeckel, embryos and evolution // Science 280 (1998): 985–986. С изменениями.
262 Мой снимок.
267 Gesner, K. Historia animalium. Zurich, 1551–1587.
279 Офорты неизвестного художника (XIX в.).
285 Lister, M. Historiae sive synopsis methodicae conchyliorum. London, 1685.
286 Dezallier d’Argenville, A. J. La conchyliologie, ou, Traité sur la nature des coquillages. Paris, 1772.
299 Anon. Natural history of insects compiled from Swammerdam, Brookes, Goldsmith & Co. Perth, 1792.
302 Belon, P. Histoire naturelle des estranges poissons. Paris, 1551.
303 Koutsogiannopoulos, D.
320 Anon. Natural history of insects compiled from Swammerdam, Brookes, Goldsmith & Co. Perth, 1792.
345 Gesner, K. Historia animalium. Zurich, 1551–1587.
360 Cuvier, G. Considérations sur les mollusques et en particulier les C éphalopods // Annales des Sciences Naturelles 19 (1830): 241–259.
362 Owen, R. Anatomy of vertebrates, vol. 2. London, 1866.
378 Scilla, A. La vana speculazione disingannata dal senso. Naples, 1670.
412 Belon, P. Histoire naturelle des estranges poissons. Paris, 1551.
420 Gesner, K. Historia animalium. Zurich, 1551–1587.
425 Tezel, T.
450 Мой снимок.
486 Koutsogiannopoulos, D.
487 Koutsogiannopoulos, D.
Сноски
1
Евро заменило драхму 1 января 2002 г. – Прим. пер. Если не указано иное, – прим. автора.
(обратно)2
Аэропорт закрыт в 2001 г. – Прим. пер.
(обратно)3
Фраза Аристотеля: historia tēs physeōs. Биология сюда включена.
(обратно)4
“Не обязательно знать тезисы и названия работ великих умов античности, чтобы они оказывали на вас влияние”, – писал Теодор Гомперц в книге “Греческие мыслители” (1911).
(обратно)5
Сейчас это латинское название не используется. В род Dipus включают лишь один вид, Dipus sagitta, и он характерен для Средней Азии. Скорее всего, имеется в виду малый египетский тушканчик (Jaculus jaculus). – Прим. пер.
(обратно)6
Европейский морской ангел. Наиболее часто использующееся сейчас латинское название – Squatina squatina. – Прим. пер.
(обратно)7
Морские хищные моллюски из семейства Muricidae. Из слизи, выделяемой средним отделом их гипобранхиальной железы, добывали пурпурную краску. – Прим. науч. ред.
(обратно)8
Когда Аристотель говорит о море у Пирры, он обычно имеет в виду euripos (пролив), ведущий в Каллони. Для описания самой Лагуны лучше всего подходит слово limnothalassa – “море-озеро”.
(обратно)9
Излагая теорию Фалеса, Аристотель пользуется терминами, которые были придуманы уже после смерти Фалеса (напр. arkhē – первопричина или основополагающий принцип). Одно это уже заставляет нас сомневаться, понимаем ли мы, что Фалес имел в виду.
(обратно)10
Пер. В. Вересаева. – Прим. пер.
(обратно)11
Пер. А. Лебедева, М. Гаспарова. – Прим. пер.
(обратно)12
Пер. В. Руднева. – Прим. пер.
(обратно)13
Пер. Г. Якубаниса в переработке М. Гаспарова. – Прим. пер.
(обратно)14
Пер. С. Соболевского под ред. И. Маханькова. – Прим. пер.
(обратно)15
Пер. С. Соболевского под ред. И. Маханькова. – Прим. пер.
(обратно)16
Пер. М. Гаспарова. – Прим. пер.
(обратно)17
Обратите внимание, что глумление направлено против попыток решить важную научную проблему: поиск когнитивной основы восприятия гармонии.
(обратно)18
Пер. С. Аверинцева, сверен И. Маханьковым. – Прим. пер.
(обратно)19
Пер. Н. Брагинской. – Прим. пер.
(обратно)20
“Анагност”. Так говорил Платон. Это пренебрежительное прозвище: было принято воспринимать прочитанное на слух, а чтением текста занимались рабы. – Прим. пер.
(обратно)21
Считается, что Пифиада была приемной дочерью Гермия. Есть сведения, что она сама, как и муж, увлекалась биологией. – Прим. пер.
(обратно)22
Пер. В. Вересаева. – Прим. пер.
(обратно)23
“Сколько народов вмещали обитель Макарова, Лесбос… край плодоносный” (“Илиада”, песнь XXIV [пер. Н. Гнедича]).
(обратно)24
Речь не о чисто физическом труде, который Аристотель считает предосудительным [для “свободнорожденного”], а скорее о недостаточном понимании. В своих биологических работах он часто пользуется метафорой ремесленничества, а также говорит о человеке, который работает руками, не понимая, что и зачем он делает.
(обратно)25
Эта рыба издает звуки за счет сокращений особой мышцы, расположенной напротив плавательного пузыря. Звук обыкновенного солнечника (Zeus faber) морские биологи сравнивают с лаем и рычанием.
(обратно)26
Пер. Н. Голинкевич. – Прим. пер.
(обратно)27
Пер. И. Шабага. – Прим. пер.
(обратно)28
Пер. М. Ботвинника и И. Перельмутера. – Прим. пер.
(обратно)29
Ответ может быть прост: сверху задние ноги слона скрыты складками кожи, и для простого наблюдателя они короче, чем передние. Препарировав слона, уже невозможно заблуждаться на этот счет.
(обратно)30
Азиатский лев (Panthera leo persica) в Европе вымер, вероятно, к I в. Сейчас он сохранился лишь в Гирском лесу в Индии.
(обратно)31
Преувеличение, которое происходит из привычки быков, будучи напуганными, выгибать хвосты и разбрызгивать жидкие фекалии. Эта история может не принадлежать Аристотелю. Она повторяется почти дословно в сборнике “Об удивительных слухах”, который входит в корпус аристотелевских текстов, но написан одним из последователей Аристотеля.
(обратно)32
У моллюсков нервная система образует окологлоточное кольцо, в котором проходит глотка. – Прим. пер.
(обратно)33
Двурогая матка у женщин встречается, это отклонение от нормы. – Прим. пер.
(обратно)34
Ошибочно и мнение Аристотеля, что в сердце только три камеры вместо четырех – он либо не отделяет правое предсердие от правого желудочка, либо принимает правое предсердие за часть полой вены. Похожим образом он путается в связях легочных артерий – они впадают в правый желудочек, а не в полую вену. Также Аристотель предполагает, что вены, отводящие кровь от органов пищеварительной системы, объединяются и входят в нижнюю полую вену (на самом деле – в печень), что головная вена ответвляется от яремной около уха (это не так; данная вена – ветвь подключичной вены), что в мозге крови нет. Также Аристотель выдумывает пару вен, идущих от нижней полой вены к рукам (может, это остатки гиппократического мировоззрения). Я отличаю артерии от вен, а он – нет. Ну и, конечно, Аристотель не в курсе, что кровь циркулирует по телу.
(обратно)35
Его и сейчас называют гектокотилем. – Прим. пер.
(обратно)36
Селахии (selakhe) Аристотеля не эквивалентны современному надотряду “акулы” (Selachii), который включает только акул, но примерно равны по смыслу современному классу хрящевые рыбы (Chondrichthyes), включающему акул, скатов и ромбовых скатов (Rajidae).
(обратно)37
Аристотель также говорит, что batrakhos (европейский удильщик, Lophius piscatorius) – хрящевая рыба, которая откладывает на морской берег массу яиц с твердой скорлупой. И хотя он в целом знаком с биологией рыб, в этом вопросе он “плавает”. Во-первых, Lophius не относится к хрящевым; во-вторых, хотя этот удильщик яйцеродящий, аристотелевское описание его яиц не имеет ничего общего с реальностью, ведь в 1882 г. Александр Агассис показал, что европейский удильщик упаковывает миллионы икринок в огромные студенистые полосы в толще воды. Либо Аристотель, либо его информаторы, либо переписчики перепутали batrakhos (удильщика) с batos (скатами).
(обратно)38
Skylion – от древнегреческого слова “щенята”.
(обратно)39
Пер. М. Гаспарова. – Прим. пер.
(обратно)40
Пер. Е. Фельдмана. – Прим. пер.
(обратно)41
Пер. А. Гутермана. – Прим. пер.
(обратно)42
Тот же довод привел Фред Хойл в 1982 г.: “Вероятность возникновения жизни на Земле [путем естественного отбора] не больше, чем вероятность того, что ураган, пролетающий через свалку, соберет из мусора «Боинг-747»”. Этот аргумент схож с аргументом Аристотеля, так как оба основаны на том, что если один шанс не может обеспечить регулярное воспроизводство какой-либо сложной структуры (зубов у ребенка, самолета и т. д.), должен действовать неслучайный фактор. Оба упускают из виду тот факт, что естественный отбор – не просто случайный, а детерминированный, творческий процесс.
(обратно)43
Пер. С. Маркиша. – Прим. пер.
(обратно)44
Платоновско-аристотелевская терминология деления на таксоны – eidos/species и genos/genus – проходит сквозь работы римских энциклопедистов, неоплатоников, средневековых мыслителей, натуралистов эпохи Возрождения и, наконец, Линнея, от которого мы ее и унаследовали.
(обратно)45
Джозеф Бэнкс (1743–1820) – британский натуралист. – Прим. пер.
(обратно)46
“Гнездование британских птиц” – немецкая заслуга. Об экспонатах распорядился хранитель отдела зоологии Альбрехт Гюнтер (1830–1914), уроженец Тюбингена. Его вдохновила таксидермическая выставка в Хрустальном дворце в Саутуарке, подготовленная для Всемирной выставки 1851 г. Германом Плукетом, также немцем. Помимо буревестника и черного дрозда, которые выставляются до сих пор, некоторые из оригинальных гнезд были спасены и находятся в исследовательской коллекции.
(обратно)47
Газа здесь уже начинает использовать термины “род” и “вид” в ином, нежели Аристотель, смысле.
(обратно)48
В рукописях Аристотеля не было указателя. Мне трудно понять, как он выбирал из сотен свитков в библиотеке свои ранние мысли на какую-либо тему. На самом деле кажется, будто он вовсе не занимал себя этим, так как обладал досадной привычкой противоречить себе даже в вопросах элементарного соответствия фактов, будто забывая, что писал ранее. Как мы увидим, он поступает так и со слоном.
(обратно)49
Пер. И. Шабага. – Прим. пер.
(обратно)50
Интересно, что малый скалистый поползень не имеет синих перьев. – Прим. пер.
(обратно)51
Использование слова hippos для обозначения дятла может быть следствием описки в слове pipo, которым Аристотель обозначал птиц вообще. Так что, вероятно, путаница не имеет к Аристотелю непосредственного отношения.
(обратно)52
Пер. К. Тимирязева. – Прим. пер.
(обратно)53
Афиней указывает, что Спевсипп написал книгу “Сходства”, где утверждал, что тритоны (моллюски), мурексы, улитки и двустворчатые моллюски похожи. На каком основании Спевсипп предполагал их сходство, а также к каким конкретным выводам он пришел, неизвестно.
(обратно)54
Отмечая этот контраст, он, видимо, забывает упомянуть раковины аргонавта и загадочного девятого головоногого.
(обратно)55
Поскольку переводчики Аристотеля по-разному обозначают полюса, я привожу греческие оригиналы: передний (to emprosthen), задний (to opisthen), верхний (to anō), нижний (to katō), правый (to dexion), левый (to aristeron).
(обратно)56
В нашем понимании люди и четвероногие имеют те же самые оси: передняя – задняя, спинная – брюшная, левая – правая. Это потому, что мы игнорируем тот факт, что люди прямоходящи, в то время как для Аристотеля это фундаментальное различие. То есть Аристотель основывает оси на функциональной аналогии, а мы на структурной гомологии (по крайней мере, в случае позвоночных). И все же различие между его и нашим подходами не настолько глубоко, как может показаться. Наши оси в действительности не определяются структурной гомологией. Условно считается, что брюшко дрозофилы относится к брюшной оси, а спинка – к спинной, хотя молекулярно-генетические данные предполагают, что насекомые перевернуты относительно нас, так что наша спинная ось гомологична брюшной оси мухи, и наоборот. В этом свете разделение “спинная – брюшная” также лишь утверждение функциональной аналогии.
(обратно)57
Столь же проницательно он замечает, что брюхоногие обладают схожей cкрученной геометрией. И для головоногих, и для брюхоногих это результат т. наз. торсионного поворота, который проходит еще в эмбриональном состоянии.
(обратно)58
Они и в самом деле различаются тем, что первые сложены в основном из хитина, а вторые – из кристаллов карбоната кальция.
(обратно)59
Переводит головоногих из “животных с кровью” в “бескровные”. (По смыслу – наоборот. – Прим. пер.)
(обратно)60
Я не имею в виду, что роды обладают перекрывающимися границами. По Аристотелю, животное не может одновременно принадлежать к двум родам на одном уровне иерархии. Гадюка может быть (и это неправдоподобно) не имеющим ног живородящим четвероногим со щитками на коже, либо живородящей змеей, либо чем-нибудь иным, – но она не может быть живородящим четвероногим-змеей.
(обратно)61
Процедура Аристотеля имеет некоторое сходство с методами фенетической классификации [виды группируются по признаку их внешней схожести], разработанными в 70-х гг. XX в., поскольку приводит к политетическим таксонам. Тем не менее, фенетисты традиционно настаивают на общем сходстве (использование всех определимых признаков с одинаковым весом), чего не делает Аристотель.
(обратно)62
К чести Плиния, он догадался о предназначении дыхала.
(обратно)63
См.: Приложение I.
(обратно)64
Энхансер – регуляторная область ДНК, усиливающая экспрессионную активность какого-либо гена, т. е. частоту считывания с него молекулы матричной РНК. В данном случае речь идет об активности гена Pitx1. – Прим. науч. ред.
(обратно)65
Это, конечно, прерогатива философов: размышлять об эпистемологических проблемах, но не было такого ученого, который не потерял хотя бы час сна в попытках, скажем, выбрать между фундаментализмом и конструктивизмом. Неясно, что было в случае Аристотеля.
(обратно)66
См.: Chan, Y. F., et al. Adaptive Evolution of Pelvic Reduction in Sticklebacks by Recurrent Deletion of a Pitx1 Enhancer // Science 2010, 327 (5963): 302–305.
(обратно)67
Пер. Н. Брагинской. – Прим. пер.
(обратно)68
Гильдией в современной экологии называют группу видов в сообществе, обладающих сходными функциями и нишами одинакового размера (осы, паразитирующие на популяциях питающихся нектаром насекомых; улитки, живущие в лесной подстилке и т. д.). – Прим. пер.
(обратно)69
Остроклювый земляной вьюрок (Geospiza difficilis), обитающий на Галапагосских островах, пьет кровь голуболицей олуши (Sula dactylatra). – Прим. пер.
(обратно)70
Johnson, D. L. Problems in the Land Vertebrate Zoogeography of Certain Islands and the Swimming Powers of Elephants // Journal of Biogeography, Vol. 7, No. 4 (Dec., 1980), pp. 383–398.
(обратно)71
Полуводный слон Аристотеля – существо довольно нелепое, но то была еще одна его гениальная догадка. Недавнее изучение эмбриологии слона, его ископаемых остатков и молекулярной филогенетики показали, что слоны произошли от водного млекопитающего. Отсюда вывод: хобот, независимо от многообразия способов его использования, изначально служил дыхательной трубкой. Интересно, что Аристотелю, как и современным ученым, известно, что у слона, а также у тюленей и дельфинов, семенники располагаются в полости тела. Но он не связывает эти обстоятельства.
(обратно)72
Аристотель не был уверен в гибкости слоновьих ног. Пять столетий спустя Элиан удивлялся тому, что слоны могут танцевать – при том, что у них якобы нет суставов. Представление, будто у слонов нет коленей и что они спят стоя, закрепилось в средневековых бестиариях и сохранялось достаточно долго, войдя в поэму “Троил и Крессида” Шекспира, в стихотворение “Слон” Джона Донна, став предметом вялых насмешек Томаса Брауна. Изучение кинематики слоновьих ног показало, что они неплохо гнутся.
(обратно)73
Эволюционные биологи, как правило, также их не ищут. Попытки объяснить свойства типов или классов с точки зрения адаптаций весьма редки, если речь не идет об историях наподобие “возвышения млекопитающих” или “вымирания динозавров”.
(обратно)74
Приводимые Аристотелем сведения из зоологии в целом верны. Однако объяснение наличия надгортанника у млекопитающих и его обычного отсутствия у пресмыкающихся и птиц неверно. Но почему у млекопитающих появился надгортанник, а их предки уже нашли решение?
(обратно)75
Функция селезенки оставалась загадкой до прошлого столетия. Она фильтрует кровь и в процессе фильтрации удаляет из нее некоторые красные кровяные тельца, поддерживая баланс железа в организме. Кроме того, селезенка служит центром формирования иммунного ответа систем систем адаптивного и врожденного иммунитета.
(обратно)76
Желчь, вероятно, представляет собой пример экскрета, который в ходе эволюции начал вторично использоваться организмом. Желчь – это продукт выделения билирубина, который, в свою очередь, является отходом от вышедших из строя красных кровяных телец, собранных в селезенке, транспортированных в печень, концентрированных желчным пузырем и выброшенных в тонкий кишечник (где они участвуют в переваривании жиров).
(обратно)77
Ср.: “О частях животных” (II, 2) и “Происхождение человека и половой отбор” (II, 17).
(обратно)78
Этот принцип до сих пор в ходу в эволюционной биологии. Его используют, чтобы объяснить очевидные компромиссы (trade-offs) между органами или их отдельными частями. Не так давно его применили для объяснения эволюции рогов у пластинчатоусых жуков и их компромиссное сосуществование с другими структурами головы.
(обратно)79
Если построить график зависимости некоего параметра (длины рогов, скорости обмена веществ, продолжительности жизни) от размера тела у некоей группы родственных животных (скажем, млекопитающих), нередко обнаруживается, что параметр не коррелирует с размером тела, а растет быстрее или медленнее. Это соотношение аллометрическое (антоним – изометрическое). Оно лучше описывается экспонентой, чем линейной функцией – по крайней мере, если оси не логарифмические. Математический аппарат аллометрии свел в систему Джулиан Хаксли в 20-х гг. XX в. Конечно, Аристотель не использовал этот аппарат, однако описываемую им закономерность он явно заметил и попробовал объяснить. Многие после него пытались это сделать. Стивен Джей Гулд применил аллометрии для объяснения монструозных рогов гигантского ирландского лося, однако не указал приоритет Аристотеля в применении метода. Скорее всего, Гулд его просто не читал.
(обратно)80
Пер. М. Левберг и П. Губера. – Прим. пер.
(обратно)81
Здесь и далее – пер. П. Попова, исправленный и дополненный М. Иткиным. – Прим. пер.
(обратно)82
Аристотель не всегда был настолько чистым функционалистом: он без особых оговорок упоминал глаз крота, при этом говоря, что кроты слепы потому, что их глаза прикрывает кожа.
(обратно)83
Схему метаболических путей по Аристотелю см. в Приложении II.
(обратно)84
А тут ловушка. По Аристотелю, synthesis – это образование смеси (слияние отдельных частей), а mixis – образование сложного вещества (новой субстанции). По непонятной причине в современном английском [и в русском] эти слова имеют противоположные значения. Не все переводы указывают на это.
(обратно)85
Конечно, идея внутреннего огня напоминает современную концепцию клеточного дыхания, которое, по сути, является очень медленным горением. Однако для Аристотеля важным продуктом “огня” было само тепло, а для нас тепло является лишь побочным продуктом реакций катаболизма (распада на составные части) макромолекул. Эти реакции осуществляются за счет расщепления макроэргических связей в молекулах АТФ и других подобных соединений.
(обратно)86
Corcilius, Klaus, and Pavel Gregoriс Aristotle’s Model of Animal Motion // Phronesis, Vol. 58 (2013), Issue 1, 52–97. DOI: 10.1163/15685284–12341242.
(обратно)87
Пер. Е. Афонасина. – Прим. пер.
(обратно)88
Пер. П. Попова, исправленный и дополненный М. Иткиным. – Прим. пер.
(обратно)89
Пер. Е. Афонасина. – Прим. пер.
(обратно)90
Полную схему модели CIOM Аристотеля см. в Приложении III.
(обратно)91
Он неверен с точки зрения анатомии: сосуды, соединяющие сердце и легкие, – это легочные артерии и вены, но у животных они заполнены кровью, а никак не воздухом, как считал Аристотель. Механизм неверен и с химической точки зрения: Аристотель не читал Лавуазье и не знал, что горение – это реакция, в которой атмосферный кислород соединяется с топливом. (На самом деле он задумывался над тем, что воздух поддерживает внутренний огонь, но в итоге отверг эту мысль.) Это привело его к мысли, что воздействие воздуха на огонь (и жизнь) связано с охлаждением. Описанное неверно и с точки зрения физики: модель предполагает, что температура горения может зависеть от окружающей температуры, но, конечно, это не так. Кроме цикла сердце – легкие, Аристотель также выдвинул предположение, что у животных с кровеносной системой внутренний огонь также охлаждается мозгом и приглушается питанием. Это также неверно.
(обратно)92
В книге “О юности и старости, о жизни и смерти и о дыхании” Аристотель указывает, что производимое насекомыми в полете жужжание обусловлено дыханием, а в “Истории животных” он уже уверен, что звук производит движение крыльев.
(обратно)93
Схему контроля над циклом легких и сердца см. в Приложении IV.
(обратно)94
Непосредственно перед этим фрагментом (кн. 7 “Истории животных”) речь идет о выкидышах и упоминается, что “гибель зародыша до семи дней называется вытеканием, до сорокового дня – выкидышем, большинство зародышей погибают в эти дни”. Логично предположить, что осмотренный Аристотелем зародыш – продукт такого выкидыша. – Прим. пер.
(обратно)95
В 2017 г. появилось сообщение о лягушках вида Limnonectes palavanensis, у которых, напротив, самки призывают криками самцов. См.: Goyes Vallejos, Johana, Grafe, T. Ulmar, Ahmad Sah, Hanyrol H., and Kentwood D. Wells Calling behavior of males and females of a Bornean frog with male parental care and possible sex-role reversal // Behavioral Ecology and Sociobiology, June 2017, 71:95. – Прим. пер.
(обратно)96
Это определение, кажется, исключает икромечущих рыб, которые практикуют наружное оплодотворение. Аристотель, конечно, знает, что самцы многих видов рыб “опрыскивают” икру молоками, однако неясно его мнение о том, что происходит во время спаривания рыб – он признает, что это явление малопонятно.
(обратно)97
Ежи, медведи, верблюды, львы, рыси и зайцы не совокупляются таким образом.
(обратно)98
Аристотель посвящает целые страницы вопросу вагинальных выделений, включая мочу, влагалищную смазку, патологические выделения, послеродовые кровотечения, менструальные кровотечения у людей и кровяные выделения животных во время течки (эструса). Он справедливо утверждает, что первые три типа выделений не связаны прямо с размножением, однако не прав, считая, что менструация (у людей) и эстральные кровотечения (у собак и коров) – это одно и то же, и называет оба типа katamēnia, что для него тождественно семени (sperma), которое материнская особь вкладывает в эмбрион.
(обратно)99
Утверждение Аристотеля, будто девственные куры несут болтуны (hypēnemia, буквально “ветреные яйца”), неверно. Все магазинные яйца, крупные и с идеально сформированным желтком, несут девственные куры. Однако первые яйца, которые несет молодка – молодая курица, – часто невелики и не содержат желтка. Если мы заменим “девственный” на “молодой”, мы получим утверждение Аристотеля. Но он мог быть и прав. Современные племенные куры – птицы очень необычные. Их селекция длится тысячи лет. Возможно, куры древних пород несли болтуны, лишь будучи девственными. И конечно, по крайней мере некоторые виды птиц начинают нести яйца лишь после спаривания.
(обратно)100
Некоторым пластинчатоклювым (уткам, гусям и лебедям) свойственно совершать половой акт в жесткой, принудительной манере, чему соответствуют их особенно развитые половые органы. Не так давно стало известно, что самец аргентинской савки обладает 20-сантиметровым, похожим на штопор пенисом, в котором есть хрящ.
(обратно)101
Аристотель ожидает, что семенники должны быть круглыми, однако у рыб и змей они удлиненные, поэтому он воспринимает их как эквиваленты семявыносящих протоков четвероногих. Эта ошибка удивительна, так как Аристотель знает: семявыносящие протоки у рыб наполняются спермой каждый сезон, как и семенники птиц, что должно наталкивать на мысль о том, что их функции сходны. Это похоже на его затруднения в попытке идентифицировать почки у рыб и птиц, так как те по форме отличаются от почек четвероногих.
(обратно)102
Так как семенники не являются противовесами, изобретательное объяснение Аристотелем того, что семявыводящие протоки закручиваются в петлю, неверно. Так какова функция петли? Никакой специальной функции у нее нет. Это случайный, не связанный с адаптацией продукт эволюционной истории млекопитающих, у которых опущение семенников из брюшной полости, где им было свойственно находиться на ранних этапах эволюции, к паху, пошло по неэффективному пути. Здесь телеология Аристотеля выходит за пределы самой себя. По крайней мере, так происходит, если верно общепринятое представление об эволюции.
(обратно)103
В “Опытах” Монтень цитирует якобы Аристотеля: “Нужно сближаться с женой осторожно и сдержанно и постоянно помнить о том, что, если мы станем чрезмерно распалять в ней желание, наслаждение может заставить ее потерять голову и забыть о границах дозволенного” [пер. А. Бобовича]. Не знаю, чей это плохой совет, но точно не Аристотеля.
(обратно)104
Эволюционные биологи также ломали голову над функцией женского оргазма. Мужской оргазм – очевидное приспособление, прямое побуждение к размножению. Однако женщине для зачатия не нужен оргазм, как бы он ей ни нравился. И если у женского оргазма есть функция, то достаточно незначительная. Есть множество занятных предположений о том, какова она. Некоторые биологи даже заявляли, что у него вовсе нет адаптивной функции и что это лишь связанный с развитием побочный продукт отбора для мужского наслаждения – генитальный эквивалент мужских сосков. Но многие считают это маловероятным.
(обратно)105
Когда Аристотель утверждает, что запах самца может позволить куропатке “зачать”, он имеет в виду лишь, что она сможет нести болтуны, которые никогда не развиваются полностью. Опытный специалист по разведению фазанов рассказал мне, что это не так: молодые курочки несут “ветреные яйца” вне зависимости от присутствия самцов, однако я также думаю, что есть смысл глубже изучить вопрос влияния феромонов самцов на оогенез у куропаток.
(обратно)106
Аристотель упоминает три вида рыб, которые могут размножаться без самцов: khannos, erythrinos и psētta. Khannos – это каменный окунь-ханос Serranus cabrilla; erythrinos – это, возможно, средиземноморский (обыкновенный) антиас Anthias anthias или красный пагелл Pagellus erythrinus; идентификация psētta остается загадкой, однако есть мнение, что это ошибка в тексте и что на самом деле подразумевался perkē, морской каменный окунь Serranus scriba. Если эти идентификации верны, то все три вида являются членами семейства серрановых (каменных окуней). В 1787 г. Филипо Каволини показал, что S. cabrilla и S. scriba являются синхронными гермафродитами (т. е. могут одновременно производить мужские и женские гаметы), а средиземноморский антиас – протогиничным (сначала имеющим женский пол) гермафродитом, самцы же среди них редки. У синхронных гермафродитов семенники невелики, и их трудно увидеть. Аристотель, не обнаружив у рыб этих видов семенников или особей мужского пола, рассматривает возможность того, что эти рыбы размножаются без спаривания.
(обратно)107
Вероятно, Аристотель описывает самку кузнечика или другого прямокрылого, которая во время спаривания вытягивает длинный заостренный яйцеклад навстречу более скромным гениталиям меньшего по размеру самца, сидящего на ее спине. В любом случае неясно, почему в этой ситуации, по Аристотелю, невозможно настоящее осеменение.
(обратно)108
Аристотель полагает, что переизбыток женского семени вызывает рождение сросшихся близнецов. Но он также желает сказать этим, что переизбыток мужского семени к этому не приводит. Аргумент основан на оригинальной, но неверной теории о причинах этого отклонения. Аристотель, однако, прав в том, что второй по счету самец чаще всего успешно оплодотворяет яйцеклетку. Этот феномен известен как “преимущество последнего самца”, обнаружен у многих видов птиц и связан с явлением конкуренции сперматозоидов.
(обратно)109
Эта модель оплодотворения преобладала веками в истории биологии развития. Она оставалась в силе даже после 1677 г., когда Левенгук описал семенные “анималькули”, что он увидел под микроскопом. Иероним Фабриций предполагал, что сперма выполняет свою загадочную задачу при помощи “светящегося или похожего на дух пара”. Гарвей, осуждая терминологию своего учителя, писал, что это происходит посредством “заражения”. Оба с таким же успехом могли сказать, что сперма активна благодаря пневме или пузырькам. Даже модель оплодотворения Карла Эрнста фон Бэра была очень аристотелевской. (Именно фон Бэр назвал сперму сперматозоидами, и “-зоид” также выражает их неопределимость для науки того времени.) Лишь в 1875 г. Оскар Гертвиг определенно показал, что эмбрион начинается со слияния ядер сперматозоида и яйцеклетки – и сделал это, наблюдая очень “аристотелевское” существо – скального морского ежа (Paracentrotus lividus). Это, однако, потребовало микроскопа. Доказательство того, что хромосомы являются носителями наследственной информации, пришло с опытами Томаса Ханта Моргана в 1910 г. – и даже тогда еще были скептики. В 1928 г. Уильям Бейтсон, один из первых защитников Менделя, а также ученый, который ввел термин “генетика”, все еще высказывал мнение, что наследственность управляется системой внутриядерных “вибраций”, то есть движений.
(обратно)110
Этот отрывок, перефразированный с использованием современных анатомических терминов, звучит так: трехдневный эмбрион обладает сердцем, которое бьется и от которого ответвляются в капилляры желточного мешка два кровеносных сосуда – правая и левая желточные артерии. Можно увидеть тело, голову и глаза. В десятидневном эмбрионе голова все еще больше, чем тело, глаза достаточно велики для их препарирования, и видны несколько зародышевых оболочек – хорион, аллантоис, амнион и желточный мешок. Эти оболочки отделены друг от друга заполненными жидкостью пространствами; амниотический мешок васкуляризирован; желток стал более жидким, а альбумина стало меньше. Можно увидеть желудок и другие внутренности. Двадцатидневный цыпленок уже имеет все основные части тела и находится в такой позе, что его голова наклонена к ноге и скрыта под крылом. Аллантоис теперь содержит отходы обмена веществ, и его соединение с цыпленком разорвано; желточный мешок почти полностью растворился в желудке зародыша. Цыпленок спит, бодрствует, движется, открывает глаза и чирикает; он готов проклюнуться. Вот и все о развитии птиц.
(обратно)111
Аристотель справляется с этим вопросом лучше Леонардо да Винчи, печально известного своим наброском человеческого плода, прикрепленного к коровьей плаценте с котиледонами. С другой стороны, у Аристотеля не было термина для обозначения плаценты.
(обратно)112
Это наблюдение обладало силой до совсем недавнего времени. В последние несколько лет транскриптомные данные показали, что самые ранние стадии эмбрионов также довольно различны. Теперь считается, что эмбрионы различных родственных видов более всего похожи не на самых ранних, а на промежуточной стадии. У позвоночных это время совпадает с формированием сомитов и нейрогенезом. После этого схема их развития такова, как описали ее Аристотель и фон Бэр.
(обратно)113
Осматривая свою кухню в поисках химической аналогии для объяснения ранней стадии эмбриогенеза, Аристотель (и это поразительно) выбирает ферментирование (протеазу содержат и сок инжира, и сычуг). Он предвосхищает идею катализа, так как полагает, что активные ингредиенты не становятся частью продукта. Однако Аристотель не может вполне понять ее, так как считает, что они также поглощаются во время реакции.
(обратно)114
Kordylos, по всей видимости – тритон, саламандра или головастик лягушки. Однако непонятно, думает ли Аристотель, что это личинка. Возможно, он считал, что это “раздваивающаяся” взрослая особь, как морской котик или дельфин. Когда Аристотель говорит о мельчайшем органе, который диктует будущее развитие животного, зоологам мгновенно приходят на ум эндокринные железы – гипоталамус, гипофиз или щитовидная железа, – которые контролируют метаморфоз амфибий. Аристотель, возможно, имеет в виду сердце – как и обычно.
(обратно)115
Это, однако, было лишь удачным предположением или, возможно, программным утверждением. Оно точно не было эмпирическим обобщением. Фон Бэр обнаружил яйцеклетки млекопитающих лишь в 1827 г. Так как ему меньше Гарвея везло с покровителями, он обнаружил их, вскрыв собаку коллеги.
(обратно)116
Это понятие не стоит путать с “эпигенетикой” в современном смысле – то есть с химической модификацией структуры ДНК, или структуры хромосом, результатом которой является изменение паттернов экспрессии генов.
(обратно)117
Возможно, “длиннорогие овцы” – представители другого вида, а именно гривистые бараны (Ammotragus lervia), поскольку современные североафриканские берберские овцы рогов не имеют.
(обратно)118
Стадия развития некоторых ракообразных. – Прим. пер.
(обратно)119
Дарвин подозревает, что гривастый крупный рогатый скот может на самом деле происходить от определенных видов древних полорогих. Сейчас считается, что он происходит от подвида Bos primigenius indicus, а европейский крупный рогатый скот – от B. p. taurus.
(обратно)120
Особи-мутанты с синдактилией, известные в Луизиане как “свиньи с копытами мула”.
(обратно)121
В другом месте он подходит к мысли, что цвет шерсти может наследоваться, однако делает это странно: утверждает, что цвет вен под языком барана определяет цвет потомства. Крестьяне, которых я расспрашивал об этом, были озадачены вопросом.
(обратно)122
В “Политике” Аристотель предполагает, что государство должно регулировать браки и рождаемость, чтобы обеспечить рождение здоровых детей. Он даже высказывается за то, чтобы избавляться от детей с отклонениями. Однако он не связывает это с наследственностью, и его точку зрения нельзя считать евгенической.
(обратно)123
Имеются в виду упоминания Аристотеля о том, что мыши, голуби и прочие животные в Египте по ряду признаков отличаются от греческих животных тех же видов. – Прим. пер.
(обратно)124
Если это делается специально, то такой эксперимент известен ботаникам как эксперимент “общего сада” и используется с теми же целями, что и у Теофраста: чтобы определить относительный вклад наследственности и среды в фенотипическую изменчивость.
(обратно)125
Пер. Е. Афонасина. – Прим. пер.
(обратно)126
Здесь и далее имя Гиппократа приводится в кавычках, так как, по словам автора, теория не принадлежит Гиппократу, хотя и включена в “Корпус Гиппократа”. – Прим. пер.
(обратно)127
Теория “Гиппократа” настолько близка к теории Дарвина, что современные ученые используют древнегреческое слово для обозначения взглядов последнего, не опасаясь анахронизма, даже несмотря на то, что построения Дарвина были лучше разработаны. По словам Дарвина (в “Изменении животных и растений в домашнем состоянии”), Уильям Огл сообщил ему, что Аристотель знал (и отверг) очень похожую теорию. Так как Дарвин мало читал Аристотеля и точно не знал работу “О возникновении животных”, нет никаких сомнений, что он пришел к своей теории независимо.
(обратно)128
Это аристотелевская версия “довода к крайней плоти”: если приобретенные признаки наследуются, то почему мужчины-евреи рождаются с крайней плотью?
(обратно)129
Я рассматривал возможность того, что люди могут быть склонны видеть сходство между отцами и сыновьями и между дочерьми и матерями. Так, в рамках небольшого эксперимента я попросил 35 родителей оценить степень потомственного сходства их 55 детей (с отцом, матерью, дедом по отцу и т. д.) по ряду черт (нос, разрез глаз, цвет волос и т. д.). На основании этих данных я подсчитал для каждого ребенка “отцовскую” и “материнскую” степень сходства. Это была не такая уж весомая подборка данных. Даже учитывая это, подсчитанные значения для мальчиков и девочек были неразличимы, так что предубеждение, даже если и существует, должно быть несильным. Людям представляется, что черты ребенка могут происходить от любого из родителей вне зависимости от пола. Конечно, некоторые из моих испытуемых могли отдаленно припоминать генетику Менделя, что они изучали в школе или университете, так что возможно, что их восприятие было отлично от древнегреческого, однако я сомневаюсь в этом.
(обратно)130
Термин “слитная наследственность” обычно ассоциируется с теорией, предложенной в 1867 г. шотландским инженером Флемингом Дженкином в отрицательном отзыве на “Происхождение видов” Дарвина. Однако четкое различие между корпускулярной и слитной наследственностью провел Гальтон. Конечно, непрерывное распределение черт не обязательно подразумевает слитную, а не корпускулярную наследственность. Как показал Рональд Фишер в 1918 г., непрерывное распределение все же совместимо с корпускулярной наследственностью, если предположить, что множество частиц делает вклад в фенотип. Это замечание было основой для примирения биометристских и менделистских точек зрения и объяснением, почему многие черты (цвет кожи, рост) могут быть непрерывны и все же контролироваться дисперсными генами. Однако “Гиппократ” 1) не читал Фишера и 2) явно говорит о жидкостях, а не о частицах, и его мнение должно быть на стороне слитной наследственности.
(обратно)131
Эти данные неправдоподобны, однако и невероятными их назвать нельзя: наследование пигментации кожи у человека – сложный процесс. В общем случае, однако, следует ожидать, что кожа дочери в примере будет кофейного цвета, а правнука – еще светлее.
(обратно)132
Д. Генри поделился со мной предположением, что здесь Аристотель может иметь в виду черты детей с синдромом Дауна – трисомией по хромосоме 21: отчетливо человеческие, но не напоминающие черты старших родственников ребенка.
(обратно)133
В генетике явление “пропущенного поколения”, т. е. такого поколения, в котором не проявляется данный признак (это обусловлено независимым расхождением рецессивных аллелей при формировании гамет), отличается от обусловленных мутациями редких “атавизмов”. Однако это различение в данном случае не должно относиться к Аристотелю (а также к Дарвину).
(обратно)134
Архестрат, которого морские обитатели интересовали лишь в связи с их вкусовыми качествами, пишет, что из Эноса (Саросский залив) привозят крупных мидий, из Абидоса, Париона и Эфеса (полуостров Троада) – устриц и сердцевидок, а с Лесбоса – морского гребешка.
(обратно)135
При этом скарабей, по Аристотелю, откладывает яйца или личинки в навоз, а не самозарождается.
(обратно)136
Пер. Н. Брагинской. – Прим. пер.
(обратно)137
Ученые обмерили множество угрей, однако краниометрия в отношении этих рыб – наука лукавая. Некоторые соглашаются с Аристотелем в том, что отличие формы головы – это признак другого вида, по крайней мере подвида угря. Другие принимают сторону его оппонентов и относят различия на счет полового диморфизма. Третьи вообще предполагают, что это просто реакция на неодинаковое питание.
(обратно)138
В системе “паразит – хозяин”. – Прим. пер.
(обратно)139
Платт определяет gēs entera как дождевых червей, Пек – как паразитических червей-волосатиков из рода Gordius. Ни один из них не объясняет свою точку зрения. Предположение Томпсона состоит в том, что gēs entera связаны с casentula – так сицилийские рыбаки называют личинок угреобразных (лептоцефалов). Это кажется неправдоподобным, так как как лептоцефалы редко встречаются около берега и не живут в иле.
(обратно)140
Пер. Н. Гнедича. – Прим. пер.
(обратно)141
Сейчас это латинское название носит один из шляпочных грибов рода плютей. – Прим. пер.
(обратно)142
Обыкновенный (синеперый) тунец в настоящее время не обитает в Черном море, но во времена Аристотеля он действительно отправлялся туда на нерест. (Однако тунцы нерестятся и в Средиземном море.) В описаниях, данных Аристотелем, есть и более серьезные ошибки: например, он говорит, что тунцы оставляют “мешковидные” кладки икры, хотя они выметывают множество икринок, которые свободно плавают в толще воды. Возможно, здесь он перепутал тунца с морским чертом (Lophius), поведением которого он также интересовался.
(обратно)143
Alcedo atthis, вопреки утверждению Аристотеля, не выводит птенцов зимой в Греции в больших гнездах около моря: он делает это весной в Центральной Европе, в норах, вырытых в береговых склонах рек. Аристотель говорил о двух родах зимородка. Возможно, под одним подразумевалась крачка, но и ее поведение в брачный период не соответствует описанию alkyōn. Дарси Томпсон утверждает, что Аристотель, описывая повадки alkyōn, во многом опирается на астрологические мифы, но Пек это отрицает. Тем не менее, одна из звезд Плеяд действительно известна под именем alkyōn.
(обратно)144
Довольно трудно оценить, насколько точны эти сведения. Отчасти это связано с тем, что определить всех до единой “аристотелевских” рыб так и не удалось, несмотря на усилия ихтиологов, в числе которых Ронделе, Кювье и Дарси Томпсон. Например, все, что мы знаем о korakinos от Аристотеля и из других источников, – то, что она обитает на камнях и нерестится в конце года. Кювье, Геснер и Дарси Томпсон предполагали, что это может быть хромис (Chromis chromis), светлая умбрина (Umbrina cirrosa) или темный горбыль (Sciaena umbra), но все эти рыбы нерестятся в первой половине лета. Кроме приведенного списка из “Истории животных” (VI, 17), периоды нереста рыб указаны и в других частях “Истории животных”, и эти данные не всегда совпадают. Так, Аристотель говорит, что sargos нерестится весной и осенью (“История животных”, 543a7), осенью (“История животных”, 543b8) и через 30 дней после наступления месяца Посейдона – примерно в январе. В действительности Diplodus sargus нерестится с января по март (FishBase). Судя по списку наиболее достоверно определенных рыб, Аристотель, по моим оценкам, говорит правду примерно в половине случаев; однако данные FishBase могут не вполне подходить для водоемов Греции.
(обратно)145
Этому описанию соответствует жизненный цикл arktos (европейский бурый медведь, Ursus arctos arctos). Если элафеболион приходится на март – апрель, а в спячку медведица впадает в декабре, то получается, что беременность длится примерно 9 месяцев, что не слишком отличается от 7,5 месяца – длительности, указанной в базе данных panTHERIA. К сожалению, Аристотель говорит в той же главе, что медведица вынашивает медвежонка всего 30 дней, то есть рождает его в мае. Очень многие редакторы пытались разобраться в этой путанице, но безуспешно.
(обратно)146
Аристотель не имел в виду, что они однодомны. Он просто не знал, что служит половыми органами у цветов. Иногда говорят: Аристотель считал, что растения, пчелы и те животные, у которых не найдены самцы – такие как khannos (каменный окунь-ханос), – размножаются партеногенетически. Но все же, как правило, он говорит, что растения сочетают в себе “мужское и женское начала” – то есть это скорее самоопыляющиеся гермафродиты. У Аристотеля слишком смутное представление о механизмах размножения, чтобы мы могли классифицировать описываемые им процессы в соответствии с современными представлениями.
(обратно)147
То есть минимум с VIII в. до н. э. – Прим. пер.
(обратно)148
По Аристотелю, инжирные осы появляются в результате самозарождения. На самом деле у них необыкновенно сложный жизненный цикл.
(обратно)149
Название вводит в заблуждение. Оно образовано от kentron – “жало”. Но P. caricae откладывает яйца в личинок B. psenes, пронизывая мякоть инжира при помощи впечатляюще длинного яйцеклада. Теофраст же предполагает, что они нападают на взрослых насекомых в момент, когда те заползают в инжир.
(обратно)150
Согласно небесспорным археологическим данным, бесполая линия инжира появилась ок. 11 тыс. лет назад.
(обратно)151
В 1881 г. группа калифорнийских фермеров, в которую входил и сенатор от штата Лиланд Стэнфорд, в результате одной своей ошибки узнала, как происходит опыление инжира. Грезя о фиговых плантациях, которые могли бы заполонить долину Сан-Хоакин, фермеры заказали в Смирне 14 тыс. черенков инжира. Черенки прижились и развились в деревья, но завязавшиеся плоды съежились, высохли и опали. Калифорнийцы обвинили купца из Смирны, неудачливого сирийца, в том, что он прислал им неправильный инжир. Тот все отрицал. Экспертам из Министерства сельского хозяйства США и Управления штата Калифорния по делам сельского хозяйства поручили найти корень проблемы. Вскоре в Калифорнию привезли и дикий инжир, кишащий осами, и так было положено начало калифорнийскому производству инжира.
(обратно)152
Аристотель считает, что пчелы собирают собственно мед, и не знает, что мед образуется уже в улье из нектара в результате ферментативных реакций и испарения воды.
(обратно)153
В Греции произрастает не менее дюжины видов Thymus, а также множество межвидовых гибридов. Поэтому я не могу сказать, какое именно растение Аристотель и Теофраст имели в виду.
(обратно)154
Я спросил у одного коринфского пчеловода, откуда берется медвяная роса. Коринф знаменит своим медом еще с античности, а мой респондент принадлежал к семье, державшей пчел несколько поколений, и довольно много читал о пчелах. Но даже он не знал, что медвяную росу выделяют полужесткокрылые.
(обратно)155
Аристотель описывает шесть “родов” (genē) пчел: 1) маленькая круглая пестрая рабочая пчела, 2) крупный, медлительный трутень, 3) рыжий “вождь”, 4) черная пчела-вор с широким брюшком, 5) длинная пчела, подобная шершню, которая плохо строит соты, 6) пестрый черный “вождь”. Аристотель имеет в виду три пола, или касты (рабочая пчела, трутень, матка), и два или более подвида Apis mellifera, которые встречаются в Греции. Похоже, он упростил картину, решив, что 1–3 связаны друг с другом так же, как 4–6, раз они живут в одних и тех же ульях. Но Аристотель никогда не утверждал прямо, что рабочие пчелы, трутни и матки принадлежат к одному виду – иными словами, обладают одним и тем же eidos, как все другие животные разного пола, но одного вида. У животных разных видов eidos различаются. При этом возникает вопрос, какой именно онтологический статус придает Аристотель понятию genos.
(обратно)156
Гомотипические (от греч. “одинаковый”) реакции – здесь: взаимодействие особей и групп особей одного и того же “типа”, гетеротипические (от греч. “иной”, “разный”) – взаимодействие представителей разных “типов” животных одного вида. – Прим. пер.
(обратно)157
Учитывая, что Аристотелю совершенно неизвестно, кто с кем спаривается и кто может рождаться в результате, он мог предложить множество комбинаций, однако он их не обсуждает. Но это и не имеет для него значения, так как далее, к своему удовольствию, он выводит, что пчелы не спариваются вообще.
(обратно)158
Матки – это размножающиеся самки, трутни – самцы, а рабочие пчелы (как правило) – стерильные самки. Девственные матки производят трутней партеногенетически. Матки, спарившиеся с трутнями, порождают либо рабочих пчел, либо других маток в зависимости от того, как много маточного молочка будет поедать личинка, и некоторых других факторов. Недоумение у читателя может вызвать то утверждение Аристотеля, что рабочие пчелы могут производить трутней в отсутствие матки. На самом деле в каждом улье часть рабочих пчел имеют яичники и способны в случае необходимости производить яйца, из которых вылупляются трутни. Такая сложная схема получается при совмещении гапло-диплоидного определения пола с зависимым от условий среды механизмом формирования каст.
(обратно)159
Также он предполагает, что некоторые ласточки теряют перья и зимуют в норах. В 1862 г. Филип Генри Госсе (“Романтика естественной истории”, т. 2) еще допускал мысль, что это может быть правдой.
(обратно)160
На только что вылупившихся цыплятах изучают регенерацию, поскольку у них могут восстанавливаться хрусталик и сетчатка после экспериментального удаления. Птенцы ласточки вылупляются менее развитыми, чем цыплята. Значит, возможно, что с регенерацией дела у них обстоят еще лучше. Правда, нужно быть очень смелым, если не сказать жестокосердным, чтобы пытаться это выяснить.
(обратно)161
Аристотель утверждает, что новорожденный медвежонок очень мал и плохо развит – настолько, что даже конечности у него слабо выражены. Медведица (как и лисица) помогает детенышу окончательно сформироваться, вылизывая его. Благодаря Плинию, Овидию и Вергилию это высказывание послужило основой для выражения, которым пользовались родители и учителя, ругая ребенка: “Ах ты, комок недолизанный!”
(обратно)162
Зоологи называют это птенцово-выводковой шкалой. Термины “птенцовый” (т. е. “несовершенный”) и “выводковый” (т. е. “совершенный”) ввел в 1835 г. шведский зоолог Карл Якоб Сундеваль. Он разделил птиц на две группы: Aves Altrices (птенцовых) и Aves Praecoces (выводковых). Сундеваль не ссылается на Аристотеля как на автора идеи, хотя в 1863 г. он пишет “Виды животных Аристотеля” (Die Thierarten des Aristoteles). Позаимствовал ли Сундеваль эту мысль, или, напротив, найдя ее у Аристотеля, заинтересовался его работами? Шведский зоолог ссылается на Лоренца Окена, но откуда тот, в свою очередь, взял идею, мне неизвестно. Во всяком случае, Аристотель верно распределяет птиц и млекопитающих по шкале совершенства – несовершенства и птенцовости – выводковости.
(обратно)163
См.: Приложение V.
(обратно)164
Применение простой линейной регрессии на современных данных выявляет довольно хорошо выраженную логарифмическую зависимость следующего вида: log (длительность жизни) = 0,77 log (сроки беременности) + 1,53, r2 = 0,6. Исходя из того, что у благородного оленя, Cervus elaphus, срок вынашивания плода – 235 дней, предположительный срок его жизни – ок. 25 лет; реальный максимальный зафиксированный возраст – 27 лет. Я проверил шесть из взаимозависимостей свойств живых существ, о которых сообщает Аристотель, и оказалось, что все они существуют действительно (см. Приложение VI). На самом деле это неудивительно, поскольку все эти свойства тесно связаны с размером во взрослом состоянии и друг с другом. Однако важно отметить, что он не указывает знак зависимости – из теории он его не вывел.
(обратно)165
Проблема различения причинно-следственных связей от всех остальных все еще актуальна в современной сравнительной биологии. Эволюционные биологи поймут: Аристотель сделал неплохую попытку. Однако он не замечает, что у яйцекладущих рыб существует положительная корреляция между плодовитостью и размером тела. Но, строго говоря, его утверждение верно, потому что он говорит о животных, которые плавают (т. е. обо всех рыбах), и сравнивает акул (Selachii), которые имеют крупные размеры и дают относительно небольшое потомство, и яйцекладущих рыб, по большей части мелких и мечущих много икры.
(обратно)166
Так какова причина? Похоже, Аристотель считает, что оба параметра – длительность жизни и срок вынашивания плода – связаны причинно-следственной связью с размером тела. Так, крупные животные живут дольше, чем мелкие, поскольку они устойчивее к изменениям условий среды; их детеныши тоже относительно крупные, а это требует более длительной беременности – следовательно, между временем вынашивания и сроком жизни существует положительная корреляция. Он уверенно говорит о существовании таких взаимосвязей, но не приводит доказательства целиком и в достаточно ясном виде; зато он склонен подробно останавливаться на исключениях из правила (например, лошади живут меньше, но дольше вынашивают плод по сравнению с людьми).
(обратно)167
Вымершая линия кур-бентамок из Адрии, Венето. В “Орнитологии” (1600) Альдрованди уделяет им много внимания, но не знает точно, кто это.
(обратно)168
Аристотель не знает, что вынашивает мальков в сумке самец морской иглы, а не самка. Опрошенные мной рыбаки в Каллони также этого не знали.
(обратно)169
Ср.: Э. Паунд, “Очерк эстетики” (1916).
(обратно)170
Южный Буг, Керченский пролив, июнь. Как ни удивительно, Аристотель утверждает, что поденка – четвероногое животное. Возможно, это связано с тем, что стоит поденка на четырех лапках, а переднюю пару лапок держит перед собой в сложенном, будто для молитвы, виде.
(обратно)171
Этому соответствует современная идея старения как расплаты за размножение. Доказательства в пользу этой гипотезы приводятся те же, что у Аристотеля: экспериментальные манипуляции, в результате которых снижение затрат на размножение приводит к продлению жизни. Общепринятое объяснение этого эффекта – что ресурсы перенаправляются на поддержание соматических функций (и тем самым на увеличение продолжительности жизни), не расходуясь на размножение, – также представляет собой объяснение Аристотеля, только выраженное в терминах энергии вместо описаний теплоты, влаги и жира. Достоверность такого объяснения остается под вопросом. Но то, что мы все еще рассуждаем о старении в понятиях, введенных Аристотелем, говорит не о том, что он ввел нас в заблуждение, а скорее о том, что мы все еще плохо разбираемся в физиологии.
(обратно)172
Змеи не могут отращивать хвосты. Возможно, Аристотель имел в виду безногую ящерицу Pseudopus apodus, которая действительно способна регенерировать хвост. Такие ящерицы распространены на Лесбосе, и их легко спутать со змеями.
(обратно)173
Здесь Аристотель предвосхищает то, что в XXI в. окажется на острие биомедицинской науки – поиск тотипотентных стволовых клеток, из которых можно вырастить любые новые органы. Он бы наверняка обрадовался, если бы узнал о гидре, напоминающей актинию. Ткани гидры насыщены стволовыми клетками, и она способна восстановить любую из утраченных частей тела. Кроме того, гидра – одно из немногих животных, которые, по всей видимости, не стареют. У гидры “живое начало во всех его проявлениях” совершенно.
(обратно)174
Аристотелевская теория старения земли аналогична его теории старения живых организмов: земля рождается влажной и со временем высыхает.
(обратно)175
У старых животных действительно снижена способность к терморегуляции, но это, безусловно, вносит меньший вклад в процессы старения, чем более глубинные процессы в организме. Однако та аристотелевская идея, что причина старения заключается в нарушении регуляторных сетей, а смерть наступает из-за случайных сбоев, вызванных средой, может оказаться пророческой.
(обратно)176
Аристотелевское утверждение, что губки чувствуют прикосновение и сокращаются, долго было предметом насмешек. Даже Томпсон, издававший его труды в XX в., видел здесь сказку. Но губки родов Suberites и Tethya, встречающиеся в Эгейском море, видимо, сокращаются, когда к ним притрагиваются. (То же и представители родов Chondrosia и Spongia.) Как именно они это делают, не имея истинной нервно-мышечной системы, до сих пор неясно. Было бы интересно экспериментально проверить утверждение Аристотеля о способности губок сопротивляться отрыву.
(обратно)177
Это не было слабостью, однако тезис стал источником противоречий по поводу скорости и характера эволюционных изменений, особенно в 70-х гг., когда Элдридж и Гулд предложили теорию прерывистого равновесия, стремясь объяснить странности в геологической летописи (резко изменяющуюся скорость эволюции видов).
(обратно)178
Адекватных и полных переводов Аристотеля на английский язык до XIX в. не существовало. Более того, и после речь часто шла о переводах с латыни, то есть не с языка оригинала. – Прим. пер.
(обратно)179
По-видимому, автор ошибается: “мягкораковинные”, то есть ракообразные, у Линнея входили в более крупный таксон членистоногие, включавший и Insecta. – Прим. пер.
(обратно)180
А. О. Лавджой в работе “Великая цепь бытия” (1936) прослеживает происхождение и судьбу этих идей параллельно с платоновским “принципом полноты”. Он находит их у св. Августина и Фомы Аквинского, Лейбница и Спинозы, Аддисона, Локка, Поупа, Дидро, Бюффона, Гердера, Шиллера и Канта.
(обратно)181
Годы переоткрытия менделевской генетики и установления структуры ДНК.
(обратно)182
Эпистаз приспособленности (fitess epistasis) – это взаимодействие между разными аллелями разных генов (т. е. между белками, которые с них считываются), в контексте их влияния на приспособленность организма. – Прим. науч. ред.
(обратно)183
Это очень сложный для доказательства или опровержения тезис – досократики и Платон письменных сочинений не оставили, а изложение их слов учениками часто недостаточно полно и последовательно, чтобы сделать настолько далеко идущие выводы. В отношении досократиков часто неясен даже смысл дошедших до нас фраз – в греческом языке VI в. до н. э. не было знаков препинания, без которых длинные предложения по сложным темам трудно интерпретировать. – Прим. пер.
(обратно)184
Известные по цитатам идеи Эмпедокла о самозарождении обычно оцениваются иначе. По его мысли, части тел соединялись, влекомые Любовью, а нежизнеспособные формы, часто получавшиеся от этого случайного процесса, вымирали в силу законов Вражды – начала эмпедокловской философии, противоположного Любви. Данная схема далека от концепции естественного отбора. – Прим. пер.
(обратно)185
Аристотель не определяет таким образом виды: это просто наблюдение, а не современный подход к определению видов.
(обратно)186
Зоологи считают гибридизацию явлением довольно редким. При этом скрещиванию могут подвергаться 10 % видов птиц, и во многих случаях оно дает стабильные виды. Еще в большей степени это верно для растений. Среди указанных Аристотелем гибридов собаки и волки дают способное к размножению потомство. В то же время нет подтвержденных данных о гибридах собаки и лисицы (Аристотель пишет, что лаконская гончая – именно такой гибрид). Есть сообщения о выведенных в неволе гибридах курицы (Gallus domesticus) и куропатки (Alectoris sp.), но этот феномен настолько редок, что данные Аристотеля в этом отношении вряд ли верны.
(обратно)187
Возможно, есть и еще один: биогеография. Аристотель явно не считал все виды животных космополитами, но также ему было неведомо присущее Гумбольдту и Дарвину чувство странной непохожести биот в разных уголках мира. Но это, возможно, проблема скорее креациониста, чем этерналиста, каким был Аристотель. Креационист мог бы поинтересоваться, почему Творец создал все биоты. Этерналист просто воспринял бы их как данность.
(обратно)188
В “Географии” Страбон, подозревавший о тектонической активности, предполагает, что остров Лесбос некогда соединялся с горой Ида (ныне Каздагы). Действительно, в плейстоцене Лесбос был соединен с Малой Азией.
(обратно)189
В “Метеорологике” Аристотель также говорит об ископаемых (ὀρυκτός). Однако у Аристотеля это явно объекты неживой природы (например, комки серы). После этого легко предположить, что он что-то перепутал или предполагал их органическое происхождение. Но ὀρυκτός значит просто “выкопанное”. Лишь сравнительно недавно латинское fossile и английское fossil получили современное значение: окаменевшие остатки вымерших организмов.
(обратно)190
Самотерий назван в честь острова Самос, где его кости открыты гораздо раньше, чем в других местах. – Прим. пер.
(обратно)191
Рассказы о “крылатых змеях” могут относиться к ископаемым амфибиям из кратера Махтеш-Рамон в пустыне Негев, или к спинозаврам из египетской Западной пустыни, или к изображениям на древнеегипетских саркофагах. Геродот также мог перепутать с крыльями капюшон кобры.
(обратно)192
Различие между пшеницей и плевелом становится очевидным лишь тогда, когда из них делают хлеб. Гриб-симбионт пропитывает семена растения “коктейлем” из психотропных алкалоидов и индольных дитерпеновых нейротоксинов, вызывающим головокружение, кому и даже смерть. В Аттике плевел применяли как наркотик в элевсинских мистериях. “Привычка” плевела смешиваться с зерном привела к тому, что он стал метафорой ложных убеждений. См. “плевелы” в Мф. 13:24–30 (“Но он сказал: нет – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою”). В XVII в. плевел сравнивали с влиянием папы римского.
(обратно)193
Обратите внимание, что он объясняет существование полов, а не половое размножение как таковое. Поэтому Аристотелю неинтересен занимающий современных биологов вопрос о связи адаптивного объяснения полового размножения или рекомбинации, а также “стоимости” этих процессов.
(обратно)194
То, что женщины менструируют больше, чем самки иных видов, – правда. Про мужчин Аристотель ошибается: кабаны выбрасывают 250 мл спермы во время каждой эякуляции, мужчины – 2,5 мл. С учетом того, что весят они примерно одинаково, объем эякулята на единицу массы у человека гораздо меньше. Более того, если учесть частоту совокуплений, мужчины производят меньше семени на единицу массы, чем большинство сельскохозяйственных животных.
(обратно)195
Поскольку мозг в представлении Аристотеля не является центром высшей нервной деятельности, а выступает скорее в качестве радиатора, это не так вредно. Из этого следует, что можно буквально досовокупляться до безумия, но половые излишества не способны заставить лишиться чувств.
(обратно)196
Серые журавли координируют усилия во время перелетов специальными звуками, но я не нашел сообщений о том, что им нужен лидер. Биологи считают, что стае не нужны команды; по крайней мере, полет журавлей удовлетворительно моделируется как движение множества взаимодействующих друг с другом агентов.
(обратно)197
Пчелы действительно опыляют только один вид цветков в рамках одного полета. Движения, которые они совершают после возвращения в улей – так называемый виляющий танец, описанный фон Фришем, изучавшим это явление в 1923–1947 гг. Аристотель, тем не менее, не говорит, что танец представляет собой систему сигналов для других пчел. Наконец, рабочие пчелы выполняют множество задач.
(обратно)198
Аристотель не объясняет, зачем нужны трутни. Согласно его модели возникновения пчел, трутни – это репродуктивный тупик, они не участвуют в размножении и не выполняют никакой работы. Они, кажется, опровергают его максиму: природа “не делает ничего напрасного”.
(обратно)199
Ирония в том, что изображение ума как табула раса восходит к аристотелевскому сочинению “О душе” (430a1). Там, впрочем, образ используется для объяснения мышления, а не устройства младенческой психики (переход от знания в потенциальном состоянии к знанию в актуальном состоянии сравнивается с оттиском на воске). Современной трактовкой табула раса мы обязаны Авиценне, Фоме Аквинскому и Джону Локку.
(обратно)200
Один из недавних примеров – концепция происхождения государства Ф. Фукуямы (“Происхождение политического порядка”, 2011), которая не только прямо связана с социобиологией, но и имеет отчетливый “аристотелевский” привкус.
(обратно)201
Холм в Афинах, на котором с 507 г. до н. э. проходили народные собрания. – Прим. пер.
(обратно)202
В 1939 г. Рудольф Виттковер предположил, что сюжет об орле и змее возник в Вавилоне 4 тыс. лет назад и с тех пор распространился настолько широко, что встречается даже у японцев и ацтеков. Когда-то приверженцы культурного диффузионизма высказывали более смелые предположения, чем сейчас.
(обратно)203
Гуманисты эпохи Возрождения сравнивали Аристотеля с каракатицей, прячущейся в облаке собственных чернил. Аналогия забавная, хотя и неверная: Аристотель всегда старался излагать мысли доступно. Увы, это редко у него получалось.
(обратно)204
Автор “гипотезы Геи”, согласно которой Земля функционирует как сверхорганизм. – Прим. пер.
(обратно)205
Это не единственное место, где Аристотель утверждает, будто у хищников могут иметься признаки, облегчающие жизнь их жертвам. В “Истории животных” (563a20) он пишет: “Утверждают, будто” орлы во время гнездования не едят, и поэтому их когти подгибаются. Благодаря этому молодняк диких животных (т. е. их добычи) остается невредимым. Информация неправдоподобна, описание смутно, и никаких выводов Аристотель из этих данных не делает.
(обратно)206
В книге Voles, Mice and Lemmings: Problems in Population Dynamics (1942) Чарльз Элтон отмечает, что данный отрывок указывает на суть проблемы регуляции численности популяции.
(обратно)207
Я не заявляю, что Аристотель представляет себе принцип конкурентного исключения (принцип Гаузе) или модель “хищник – жертва” Лотки и Вольтерра. Ему и не надо было их представлять, поскольку точка зрения, что животные задуманы такими, чтобы поддерживать баланс природы, с большой вероятностью была в античной Греции общепринятой. Так, складывается ощущение, что Геродот заявлял, будто у хищников появляется на свет меньше детенышей, чтобы они не уничтожили всю доступную добычу: “Божественный промысел, как это и естественно, в своей премудрости сотворил всех робких и годных в пищу животных весьма плодовитыми, чтобы у нас не было недостатка в пище, хищных же и вредоносных – малоплодовитыми…” [курсив мой].
(обратно)208
А что если глобальная телеология Аристотеля еще мощнее? Может ли быть так, что, расширяя рамки применения моего сравнения, компании не просто связаны сетью взаимовыгодных взаимоотношений, направленных на получение выгоды, но направлены на это некоей высшей силой для достижения некоей высшей цели? Тогда это было бы похоже на то, что в 80-х гг. сделало Министерство внешней торговли и промышленности Японии. Оно руководило конгломератами кэйрэцу ради благополучия национальной экономики. Возможностей взаимодействий индивидов огромное множество – от крайнего индивидуализма до объединения в сверхорганизм, и очень трудно определить, в какую часть этого спектра помещал свой собственный мир Аристотель.
(обратно)209
Пер. А. Гопко. – Прим. пер.
(обратно)210
Акула у Аристотеля – определенно “рассудительный хищник”. Эту фразу впервые применил Л. Слободкин в книге Growth and Regulation of Animal Populations (1961). В. К. Уинн-Эдвардс в книге Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour (1962) заявил, что “рассудительные хищники” могут эволюционировать путем группового отбора, т. е. что сообщества живых существ следует рассматривать как самоподдерживающиеся системы, и привел множество примеров интерпретации поведения животных в этом ключе. Джордж К. Уильямс в книге Adaptation and Natural Selection (1966) разгромил позиции Уинн-Эдвардса. Он указал на то, что групповой отбор – очень слабая сила и почти все адаптации, включая хищническое поведение, проще интерпретировать как результат индивидуального отбора или генного отбора. Несмотря на то, что в последнее время концепция группового отбора снова становится популярной, его вывод и сейчас звучит вполне правдоподобно.
(обратно)211
Галилей, напротив, поспорил бы, что движущийся объект придет в состояние покоя лишь тогда, когда встретится с воздействием, равным ему по силе, но противоположно направленной. Этот принцип закрепил Ньютон в первом законе механики. Аристотель не был знаком с понятием инерции.
(обратно)212
Аристотель знает о существовании комет и метеоритов, но считает их объектами подлунного мира. Древнегреческие астрономы, очевидно, не наблюдали сверхновых, хотя это делали их китайские коллеги.
(обратно)213
Евдокс, родившись в Книде ок. 390 г. до н. э., юношей предпринял поездку в Афины, чтобы пройти обучение в недавно организованной Академии. Затем он поехал в египетский Гелиополь, чтобы изучать астрономию, и почти сразу же – в Италию, чтобы учиться с другом Платона Архитом Тарентским и с Филистионом из Локри, врачом-философом. Видимо, Евдокс был крайне беден, и держаться на плаву ему помогали друзья и страсть к учению. После путешествий он вернулся в Академию, где встретил Аристотеля. К тому времени у него самого были ученики, среди них – Каллипп, позднее присоединившийся к Аристотелю в Ликее. Евдокс в конечном счете вернулся в Книд, где построил обсерваторию, и провел остаток своих дней, наблюдая за звездами, читая лекции и выполняя законодательную работу для городских властей.
(обратно)214
Аристотель указывает, что окружность Земли 400 тыс. стадиев (чья это оценка, он не сообщает). Длина стадия точно не известна (столько успел пройти Геракл с момента, как первые солнечные лучи появились над холмом Крона в Олимпии, и до того, как солнце поднялось). Оценки варьируют от 150 до 210 м, но, приняв среднее значение (180 м), мы получим 72 тыс. км (в 1,8 раз больше окружности экватора). Через поколение Эратосфен оценил окружность Земли в 250 тыс. стадиев, или 45 тыс. км (всего в 1,2 раза больше реального значения). Аристотель также добавляет биогеографические доказательства шарообразной формы Земли: слоны обитают и в Африке, и в Азии, поэтому те, кто заявляет о существовании на западе непрерывной земной тверди между Геркулесовыми столпами и Индией, правы. Альфред Рассел Уоллес и Альфред Вегенер использовали биогеографию, чтобы доказать существование в прошлом перемычек между континентами.
(обратно)215
Обратное вращение звезд объяснил Коперник, отвергнув представления о геоцентрическом космосе. Если, объяснял Коперник, Земля – это планета, которая, как и прочие планеты, обращается вокруг Солнца, то наше положение относительно других планет будет сдвигаться сложным образом так, что иногда будет казаться, что планеты движутся в обратном по отношению к звездам направлении.
(обратно)216
Это еще одно фундаментальное различие аристотелевской и ньютоновской физики. У Ньютона прямолинейное движение от точки до точки наиболее простое, а круговое движение требует приложения дополнительной силы – центробежной.
(обратно)217
Чтобы объяснить точную настройку, бесконечная Вселенная должна содержать бесконечно много значений физических констант, а не только такие, какие можно наблюдать в доступной нам ее части. Это предполагает существование множества вселенных.
(обратно)218
Физика Аристотеля лишена концепции силы, не зависящей от непосредственного контакта. Описанное здесь – его самая успешная попытка к такой концепции приблизиться. Дельбрюк указал, что концепция неподвижных двигателей противоречит третьему закону Ньютона (действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе – взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны) – то есть небесные сферы должны оказывать равновеликое воздействие на свои двигатели. Другие заявляли, что если рассмотреть физические модели движения небесных тел, изложенные в кн. III “О движениях животных”, станет понятно, что представления Аристотеля напоминали ньютоновские законы движения. Тем не менее, ньютоновская механика неприменима к космологической модели Аристотеля в ее конечном виде, так как неподвижные двигатели нематериальны и не обладают массой.
(обратно)219
Автор упрощает: жители греческих полисов знали, что Александр – военачальник, сыгравший ключевую роль в победе при Херонеях, а восстание фиванцев было вызвано ложными слухами о смерти македонского властителя во время боев в Иллирии. Кроме того, не все Фивы сровняли с землей – в крепости Кадмее, на юге города, македоняне поставили гарнизон; не тронули они и дом-памятник известного уроженца Фив – поэта Пиндара. – Прим. пер.
(обратно)220
Английский перевод: Jaeger, W. Aristotle: Fundamentals of the History of his Development. Oxford: Clarendon Press, 1934.
(обратно)221
Джим Леннокс и Аллан Готтхельф в ряде тщательно аргументированных работ показали, как теория доказательств из “Второй аналитики” просачивается в книгу “О частях животных”. Следуя им, я попытался объяснить, как именно. Но я также поражен тем, что “Вторая аналитика” не содержит ни единого примера силлогистического доказательства на материале, почерпнутом из зоологии. Все там примеры такого рода относятся к геометрии или затмениям, и лишь один упоминает листья. Именно поэтому для иллюстрации его методов мне пришлось обратиться к современным данным о колюшке.
(обратно)222
Установка, согласно которой у вещей и существ есть неизменные и вечные качества, объединенные некоей родовой характеристикой. – Прим. пер.
(обратно)223
Большинство исследователей сходится в том, что “Органон” относится к периоду пребывания в Академии. Например, Гатри считал, что трактат “О небе” относится к раннему периоду. Многие полагают, что работа “О возникновении животных” относится к позднему периоду.
(обратно)224
Люди искусства, читающие “Поэтику” Аристотеля, часто выражают разочарование. Почему, удивляются они, Аристотель не говорит о красоте? Возможно, потому, что “Поэтика” – не трактат об эстетике, написанный поэтом, а написанный биологом трактат о драматургии.
(обратно)225
Один из учеников Аристотеля, тогда управлявший европейской частью империи Александра Македонского. – Прим. пер.
(обратно)226
Она была открыта вновь в I в.
(обратно)227
Хотя археологи считают, что нашли палестру, эти руины вполне могут быть виллой римского времени. Если так, то все, что осталось от Ликея времени Аристотеля, скрыто под жилым кварталом или Военным музеем.
(обратно)228
Фома, подозревая ошибки в арабских переводах, подвиг Вильема из Мербеке перевести Аристотеля с греческих текстов византийского происхождения. Они восходили к редакции Андроника и сейчас служат базисом наших собственных греческих текстов. Древнейшая известная рукопись “Истории животных” – фрагмент кн. VI (IX в.) из Константинополя (Parisinus suppl. gr. 1156, Bib. Nat., Paris). Большая часть остальных сохранившихся списков датируется XII–XV вв.
(обратно)229
Хотя Аристотель считал, что растительная и чувствующая души после смерти человека распадаются, размышляющая его душа бессмертна. – Прим. пер.
(обратно)230
Лектор по натуральной философии окаменелостей, растений и животных. – Прим. пер.
(обратно)231
Аристотель считал, что кровь образуется в печени, оттуда поступает во все ткани, где и разлагается. Гарвей на опытах доказал, что кровь в организме циркулирует, проходя через сердце. – Прим. пер.
(обратно)232
Пер. Н. Федорова. – Прим. пер.
(обратно)233
Пер. Н. Федорова. – Прим. пер.
(обратно)234
Так, первые две книги “Географии” Страбон посвятил оправданию тех, кому он симпатизирует (Гомер), и критике оппонентов (Эратосфена, Гиппарха, Посидония).
(обратно)235
Пер. С. Красильщикова. – Прим. пер.
(обратно)236
То было время, когда антиковеды с интересом к зоологии и зоологи с интересом к антиковедению (К. Я. Сундеваль, Г. Ауберт, Ф. Виммер, У. Огл и др.) изучали аристотелевские работы как зоологию. В XX в. (и сейчас) Аристотеля ценят в основном за проникновение в суть философских вопросов. Могу отметить, что после 1910 г. (перевод “Истории животных” Томпсона) зоологические работы Аристотеля не переиздавались до 2007 г. (когда вышла “О частях животных”). Последняя не только глубоко философская по духу, но и точно информирует о дыхательных путях дельфина.
(обратно)237
Вернер Йегер писал в 1934 г., что Аристотель “должен быть отделен от своих исторических корней и нейтрализован до того, как станет доступным для ознакомления потомству”.
(обратно)238
Пер. Н. Брагинской. – Прим. пер.
(обратно)239
В “Метеорологике” Аристотель описывает “опыты” (наиболее интересные в кн. II, 3). Он желает показать, что морская вода – смесь воды и некоей “примеси… землеобразного вещества”. Стагирит утверждает, что если “слепить из воска сосуд и, заткнув его горлышко так, чтобы вода не проникала внутрь, опустить в море, то влага, просочившаяся в сосуд сквозь восковые стенки, окажется пресной” [пер. Н. Брагинской], поскольку воск задержит соль. Но и эта процедура не была настоящим экспериментом, поскольку не было контрольного опыта. Таким было бы погружение в тех же условиях сосуда из водонепроницаемого материала: стекла или бронзы. Отсутствие контрольного опыта привело к фатальной ошибке. Мы точно знаем, что воск не может удалить соль из воды (иначе пустыни Аравии давно цвели бы). Если Аристотель и ставил такой опыт (я в этом сомневаюсь), то пресная вода в восковом сосуде была бы продуктом конденсации из-за охлаждения воздуха в сосуде, контактировавшим с холодной морской водой. Поставь он контрольный опыт и получи тот же результат для стеклянного сосуда (из-за конденсации), он понял бы, что и пресная вода в первом сосуде – не из моря. То же относится и к вивисекции.
(обратно)240
Вероятно, древнейшим описанием эксперимента можно назвать рассказ Геродота о египетском фараоне Псамметихе. Желая выяснить происхождение людей, тот в VII в. до н. э. якобы велел вырастить двух новорожденных у пастуха, причем запретил издавать в их присутствии человеческие звуки. Контрольной группой были обычные дети. Первые разборчивые звуки детей, воспитанных в козьем стаде, напоминали, казалось, фригийское слово “хлеб”. (Слово это, по Геродоту, – “бекос”.) Псамметих вполне в духе рекапитуляционизма заключил, что фригийцы древнее египтян. Сейчас такие эксперименты с людьми нельзя повторить. Похоже, экспериментальная наука зачата в грехе.
(обратно)241
Герман Дильс утверждает, что описания экспериментов в начале “Пневматики” Герона во многом заимствованы у Стратона Физика, руководившего Ликеем после Теофраста. Если так, очевиден прогресс: всего через несколько десятилетий после смерти Аристотеля правила проведения экспериментов в Ликее стали строже.
(обратно)242
Рассказ, будто Галилей бросал ядро с Пизанской башни, чтобы экспериментально опровергнуть аристотелевскую теорию движения, – миф. Впрочем, другие это делали.
(обратно)243
Теперь мы знаем, что черный окрас обычно обусловлен аутосомно-доминантным типом наследования в локусе MC1-R. Поэтому, по законам Менделя, половина ягнят будет иметь черную и половина – белую шерсть, или все – черную (это обусловлено генотипом черной овцы). В любом случае, окрас не зависит от пола потомства. Это нанесло бы удар по убеждению Аристотеля, что “в большинстве случаев девочки больше похожи на мать, а мальчики на отца”. По всей видимости, он считал, что окрас потомства зависит от воды, которую пили родители – но любой эксперимент по разведению опроверг бы эту гипотезу. Кстати, я расспрашивал двух пастухов с Лесбоса, и первый сообщил, что окрас потомства, как правило, зависит от окраса барана. Второй же отрицал это, говоря, что иногда скрещивание белых и черных овец дает потомство с черной шерстью, а иногда – с белой. (Верное утверждение.) Ни один из них не сослался на Менделя. Кажется, оба исходили из “поп-биологии”, для которой отсутствие единого мнения вполне обычно.
(обратно)244
Morita, K., et al. A Caenorhabditis elegans TGF-beta, DBL-1, controls the expression of LON-1, a PR-related protein, that regulates polyploidization and body length // Embo J. 21 (2002): 1063–1073.
(обратно)245
Система Illumina HiSeq 2500. Этот показатель устарел уже к моменту издания книги.
(обратно)246
Fuchs, S., et al. A metabolic signature of long life in Caenorhabditis elegans // BMC Biology 8 (2010): 2.
(обратно)247
Но кто знает, что за устройства существовали в IV в. до н. э.? Антикитерский механизм, самое изощренное из известных устройств античности (аналоговый компьютер по крайней мере из 13 шестеренок, созданный для расчета движения небесных тел), был сконструирован на Родосе ок. 87 г. до н. э., через несколько веков после смерти Аристотеля. Но пока его не подняли с морского дна, никто не предполагал, что греки могли создать подобное.
(обратно)248
Речь о частично синтетическом штамме бактерий рода Mycoplasma, носящем название Mycoplasma laboratorium. JCVI – сокращение от John Craig Venter Institute, где этот организм был создан. Syn – синтетический. “1.0” указывает на то, что это только первая версия “искусственного организма”. Весной 2016 г. появилась версия 3.0, во время перевода это самовоспроизводящийся организм с самым маленьким геномом (473 гена). – Прим. пер.
(обратно)249
Дарвин, конечно, ставил эксперименты: он разводил голубей, проверял, сколько пресноводные моллюски способны прожить в соленой воде, наблюдал, как пчелы делают соты. Но “Происхождение видов” едва ли построено на этом. В 1860 г. Ричард Оуэн написал анонимную рецензию на “Происхождение”, в которой, страстно желая опровергнуть оригинальность дарвиновских идей, сосредоточился на “новых, оригинальных непосредственных наблюдениях за природой”. Его подход указывал на непонимание дарвиновского метода и достижений, и это могло бы быть забавным, если бы не было злонамеренным.
(обратно)250
Можно высказать еще одно предположение. У ряда грызунов после ранений, а также при простуде или при стрессе из глаз выделяется порфирин. Его цвет очень похож на цвет крови, однако кровь при свертывании изменяет оттенок, а порфирин – нет. Если порфирина много, веки грызуна могут слипнуться. Вероятно, туко-туко Дарвина был болен, либо сказались непривычные условия корабля. – Прим. пер.
(обратно)251
Тогда прилив слабее, и приближаться к подобным местам безопаснее. – Прим. пер.
(обратно)252
Африканский хамелеон (Chamaeleo africanus) встречается у Пилоса, но считается, что его завезли туда римляне. Правда, сложно сказать, зачем римлянам понадобилось развозить хамелеонов по Средиземноморью.
(обратно)253
“История животных”: Creswell and Schneider 1862; Thompson 1910; Peck 1965; Peck 1970; Balme 1991. “О частях животных”: Ogle 1882; Lennox 2001a; Kullmann 2007.
(обратно)254
О млекопитающих и некоторых других животных: Kitchell 2014. О птицах: Thompson 1895; Arnott 2007. О рыбах: Thompson 1947. О насекомых: Davies and Kathirithamby 1986. О головоногих: Scharfenberg 2001. О морских беспозвоночных: Voultsiadou and Vafidis 2007.
(обратно)255
Jones et al. 2009.
(обратно)256
Millar and Zammuto 1983; Derrickson 1992; Starck and Ricklefs 1998; Bielby et al. 2007.
(обратно)257
Пер. Б. Фохта. – Прим. пер.
(обратно)258
Пер. П. Попова, испр. и доп. М. Иткиным. – Прим. пер.
(обратно)259
Самка крупнее и ярче самца. – Прим. пер.
(обратно)260
Пер. П. Первова и В. Розанова. – Прим. пер.
(обратно)261
Пер. Н. Брагинской. – Прим. пер.
(обратно)262
См. PDF.A4 версию книги. – Прим. ред. эл. версии.
(обратно)



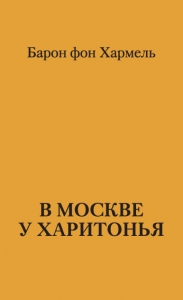
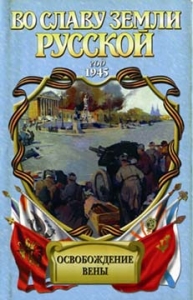
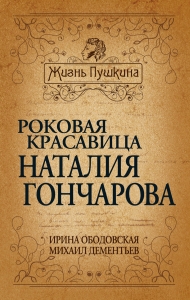
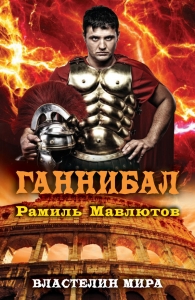

Комментарии к книге «Лагуна. Как Аристотель придумал науку», Арман Мари Леруа
Всего 0 комментариев