Михаил Константинович Дитерихс Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале
© ООО «Издательский дом «Вече», 2007
Генерал Дитерихс и его книга
Генерал Михаил Константинович Дитерихс сыграл важную роль в раскрытии преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. И неудивительно: книга содержит богатый фактический материал и дает возможность иначе взглянуть на одно из самых трагических событий в истории России.
Михаил Константинович Дитерихс родился 5 апреля 1874 года в Санкт-Петербурге. (Его отец, Константин Александрович, – один из талантливых военачальников времен Кавказской войны). После завершения курса Пажеского корпуса служил в Туркестане. В 1900 году окончил Николаевскую Академию Генерального штаба; служил на штабных должностях в частях Московского военного округа. Первой военной кампанией для Дитерихса стала Русско-японская война. За участие в боях под Ляояном Дитерихс был награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (сентябрь 1904 г.). В феврале 1905 года отмечен орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (за «дела» при реке Шахэ, где он постоянно выезжал для связи с соседними частями). За участие в битве под Мукденом (февраль 1905 г.) Дитерихс получил орден Св. Станислава 2-й степени с мечами. Будучи врио начальника штаба 17-го армейского корпуса, Дитерихс, не поддаваясь панике и хаосу, смог организовать планомерный отход частей с мукденских позиций. Война завершилась для него производством в подполковники и награждением орденом Св. Анны 2-й степени с мечами…
Далее Дитерихс служил в Московском, Одесском и Киевском военных округах. Был произведен в полковники; занял должность начальника отделения в Мобилизационном отделе Главного управления Генерального штаба. С началом Первой мировой войны Дитерихс вернулся в Киевский военный округ, став начальником Оперативного отделения штаба Юго-Западного фронта. Этот фронт должен был наносить главный удар по Карпатам и затем по Венгерской равнине; от успеха его операций во многом зависел успех всей войны. С осени 1914 года Дитерихс занимал должности врио генерал-квартирмейстера штаба фронта, и.о. начальника штаба, затем генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии; с марта 1915 г. – и.о. генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта.
Но вместо ожидаемого наступления русских армий по всему фронту последовал страшный контрудар австро-немецких войск – так называемый Горлицкий прорыв. Генерал-квартирмейстерская часть Юго-Западного фронта делала все возможное, чтобы задержать противника. Дитерихс принимал, анализировал донесения от различных воинских частей, стремился наладить оперативное взаимодействие различных частей фронта, провести отступление максимально планомерно. Высочайшим Указом от 28 мая 1915 года «за отличную службу и труды военного времени» Дитерихс был произведен в генерал-майоры. А 8 октября 1915 года «за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий» он был награжден орденом Св. Станислава 1-й степени с мечами.
В декабре 1915 года командование армиями Юго-Западного фронта принял генерал-адъютант А.А. Брусилов. Он поручил Дитерихсу разработку планов контрнаступления Юго-Западного фронта в 1916 году, которое войдет в историю как Брусиловский прорыв. Правда, увидеть результаты своего плана Михаилу Константиновичу не довелось. В мае месяце, в разгар боев, было объявлено, что генерал-майор Дитерихс отправляется к новому месту службы – на Салоникский фронт, где ему предстояло стать начальником 2-й Особой пехотной бригады, входившей в состав межсоюзнических воинских контингентов на Балканах. За бои под городом Монастырь Дитерихс получил орден Св. Владимира 2-й степени с мечами, а также удостоился высшей награды Франции – ордена Почетного легиона.
Летом 1917 года Дитерихс вернулся в Россию. Его встретила уже совершенно другая страна – опьяненная дурманом послефевральской «свободы». Широко разрекламированное июньское наступление окончилось полным провалом. Все разваливалось прямо на глазах, различные политические силы стремились перетянуть военных на свою сторону. Между тем при Временном правительстве Дитерихс успел получить заметное повышение по службе: чин генерал-лейтенанта и должность генерал-квартирмейстера Ставки Верховного главнокомандующего (сентябрь 1917 г.). Из-за развала фронта военные задачи становились весьма отдаленными, важнее было подготовиться к борьбе против «внутренних врагов». После большевистского Октябрьского переворота, бегства Керенского с поста главковерха, коротких переговоров с Совнаркомом Дитерихс, не желая иметь ничего общего с новой властью, приказом по Управлению сложил с себя обязанности генерал-квартирмейстера (8 ноября).
Следующий этап деятельности Дитерихса связан с Чехословацким корпусом. В ноябрьские дни 1917 года части корпуса вели бои в Киеве. Дитерихс тогда принял должность начальника штаба корпуса. После подписания большевиками Брестского мира с Германией началась эвакуация корпуса по Транссибирской магистрали. Следуя с головным эшелоном корпуса, Дитерихс прибыл в начале июня 1918 года во Владивосток. Вскоре город был очищен от сторонников советской власти. Одновременно образовалась специальная Владивостокская группа, командование которой принял Дитерихс. Группа начала продвигаться по линии Транссиба, имея стратегическую задачу – объединиться с частями Чехословацкого корпуса в Сибири и формированиями забайкальских казаков под командованием полковника Г.М. Семенова и Сибирской армии полковника А.Н. Пепеляева. После ряда боев с красными частями к концу августа Владивостокская группа соединилась с Восточной группой, сражавшейся в Забайкалье. Было создано единое командование Дальневосточной группы.
В октябре Дитерихс приехал в Уфу, где начинала свою работу Директория – первое всероссийское правительство антибольшевистских сил. Но век ее оказался недолгим. 18 ноября 1918 года в Омске Совет министров призвал вице-адмирала А.В. Колчака к власти Верховного правителя России. Директория была свергнута, и высшая власть на территории белой России отныне принадлежала одному лицу. После объединения всех имевшихся вооруженных сил был создан Западный фронт в составе Екатеринбургской, Камской и Самарской групп белых армий, а также союзных им чехословацких, сербских и других частей, воевавших на Урале. Михаил Константинович Дитерихс с января до середины февраля 1919 года был начальником штаба фронта, планируя операции на Уфимском направлении, а затем врид командующего фронтом. А в ноябре-декабре 1918 года он возглавлял располагавшуюся в Челябинске генерал-квартирмейстерскую часть.
Специальным предписанием Верховного правителя от 17 января 1919 года на Дитерихса возлагалось «общее руководство по расследованию и следствию по делу об убийстве на Урале Членов Августейшей Семьи и других Членов Дома Романовых». Почему руководить расследованием стал именно Дитерихс? Во-первых, в связи с расформированием Западного фронта и созданием на его основе трех отдельных армий генерал оставил свои фронтовые обязанности. Во-вторых, Колчаку были известны как монархические симпатии Дитерихса, так и его невероятное трудолюбие, стремление скрупулезно вникать во все детали порученного дела. Уже 2 февраля, после предварительного ознакомления с материалами следствия, Дитерихс доложил Колчаку, что расследование необходимо систематизировать, разбить следственные действия на ряд отдельных направлений. В качестве человека, способного профессионально разобраться в обстоятельствах дела, Дитерихсу был представлен недавно перешедший линию фронта судебный следователь по особо важным делам Омского окружного суда Н.А. Соколов. 2 февраля Соколов был представлен Колчаку, и с 6 февраля ему поручалась непосредственная работа по ведению расследования.
Получив новое назначение и отправляясь на фронт, Дитерихс продолжал контролировать ход следствия. При его содействии Соколов получил специальный вагон, в котором жил и работал на станции в Екатеринбурге. К работе периодически подключались офицеры контрразведывательного отделения Восточного фронта. Раскопки в лесу и их охрану выполняли солдаты Сибирской армии. Всего же в следствии принимали участие более тысячи человек. По инициативе Дитерихса в начале июня начались раскопки непосредственно на Коптяковской дороге, в урочище Ганина Яма. Раскопки шли вплоть до сдачи Екатеринбурга красным войскам в июле месяце (почти через год после гибели Царской Семьи!).
В июле – ноябре 1919 года Дитерихс занимал должность Главнокомандующего армиями Восточного фронта (а с августа выполнял также обязанности военного министра). Однако численное превосходство красных не позволяло остановить их продвижение на восток. Колчак не принял план Дитерихса, предлагавшего отвести войска в тыл, за Иртыш (даже ценой потери Омска), чтобы пополнить их, дать им отдохнуть, а затем нанести удар по противнику из глубины одновременно и на широком фронте.
После поражения адмирала Колчака и фактического разгрома Белой Сибири Дитерихс выехал в Харбин. Чувство долга перед памятью Царя-Мученика побудило Дитерихса незамедлительно приступить к работе над книгой, основанной на имевшихся у него копиях материалов следствия. В течение 1920–1921 годов он написал свой труд «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале» (издан в 1922 г. во Владивостоке). Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой «общественности», у «бояр-западников». Все это привело к Февралю и Октябрю 1917 года, а затем и к цареубийству. Но Дитерихс отнюдь не стремился переложить всю вину на деятелей Временного правительства, не искал корни некоего «масонского заговора». Трагедия династии заключалась, по его мнению, в том, что ей отказал в верности сам русский народ, нарушивший крестное целование, данное на Земском соборе 1613 года. Народу заморочили голову демагогией, распространяемой сперва «боярами-западниками», а затем левыми радикалами-большевиками. Если бы русский народ сохранил верность клятве 1613 года и оттолкнул от себя демагогов типа Милюкова, Ленина, Троцкого, то можно было бы избежать революционных потрясений и цареубийства.
Летом 1922 года Южное Приморье оставалось единственной свободной от большевиков территорией России. Правительство братьев Меркуловых решило распустить Народное собрание и предложило найти способы к наибольшему объединению всех национальных сил. Выбор тех, кому можно было передать власть, возлагался на Земский собор – представительный орган, созванный не по партийно-политическому, а по сословно-профессиональному признаку. Необходимо было назначить и нового командующего войсками. Выбор пал на Дитерихса; в Харбин была послана телеграмма, подписанная генералами-белоповстанцами. Михаил Константинович немедленно согласился и 8 июня, прибыв во Владивосток, вступил в должность командующего войсками и флотом.
23 июля открылись заседания Земского собора. Было решено, что национальную государственность должен возглавить «Верховный правитель из членов династии Дома Романовых». Впервые за всю историю Белого движения Дом Романовых был признан царствующим! На протяжении пяти лет, начиная с марта 1917-го, вопрос о форме правления в России откладывался до решения Учредительного Собрания. Все белые правительства, и даже сам Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак, стояли на позициях «непредрешения», главной задачей считая борьбу с большевизмом и прекращение междоусобицы. Ввиду невозможности прибытия представителей Дома Романовых во Владивосток следовало избрать правителя Приамурского края. 8 августа на заседании Земского собора им был провозглашен генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс. В Указе правитель повелел Приамурское государственное образование именовать Приамурским Земским краем. Отдельным приказом все имевшиеся войска переименовывались в Земскую рать, а генерал Дитерихс становился воеводой Земской рати.
Но силы оказались неравными – красные успешно наступали. 26 октября 1922 года Владивосток – последний оплот традиционной русской государственности – был оставлен белыми войсками. В октябре – начале ноября из Владивостока морем и через границу у Посьета на чужбину ушли примерно 20 тыс. человек. Теперь в России уже не осталось ни белых столиц, ни белых правителей. И только Сибирская добровольческая дружина генерал-лейтенанта А.Н. Пепеляева вела безнадежную борьбу в Якутском крае до июня 1923 года.
В эмиграции Михаил Константинович все свои силы продолжал отдавать делу непримиримой борьбы с большевизмом. Наибольшую известность получила деятельность Дитерихса на посту председателя Дальневосточного отдела Русского общевоинского союза (РОВС), а также председателя Урало-Приморской группы Русского общевоинского союза. Скончался Михаил Константинович Дитерихс 8 октября 1937 года. Похороны собрали сотни человек – почти весь «русский Шанхай» пришел проститься с генералом.
Павел Руднев,
зав. редакцией исторической литературы
Часть I
Предисловие
Кошмарное лето пережило население Европейской России в 1918 году. Насилия, расстрелы, массовые зверские убийства, кровавый террор царили повсеместно и заливали кровью обширные районы территории царства пятиконечной звезды советской власти. Власть эта в своей жестокости и кровожадности, казалось, не имела предела, не делала никаких различий: ее насилиям и угнетениям подвергались все классы, все сословия, все возрасты и полы; расстреливались старцы, расстреливались юноши, насиловались женщины, раскраивались головы детей; истреблялись буржуи, истреблялись и разные нежелательные советской власти политические и общественные деятели, но истреблялись массами, семьями и самые обыкновенные обыватели, крестьяне и рабочие, представителями чьей власти выставляли себя большевистские главари.
Эти ужасы, эти потоки крови, залившие города, села и деревни нашей несчастной родины, совпали с тем временем, когда в Центральной России, в Москве, сильно колебалось положение руководителей центральной советской власти и совокупность внешних и внутренних обстоятельств предвещали Ленину и Бронштейну-Троцкому возможность наступления конца их экспериментам и царствованию в России.
На востоке надвигались к Волге и Уралу сибирские и чехословацкие войска; с севера начинал угрожать англо-русский фронт; на юге поднялись Оренбуржцы, Уральцы, Кубанцы, Терцы и Донцы и собирались добровольцы генералов Алексеева и Корнилова. Разочарованное в результатах Брестского договора германское военное командование снова перешло к военным действиям, и, победоносные в то время в Европе, германские войска возобновили наступление с северо-запада, а на Украине утвердили силою своих штыков гетманскую власть генерала Скоропадского.
Внутреннее состояние страны было не менее угрожающим: национализация, насильственные реквизиции, контрибуции и просто беззастенчивый и бесцеремонный грабеж хлеба, скота, продовольствия, товаров, ценностей и имущества советским управлением и организациями возбудили общий ропот и недовольство народных масс. Поднялись, хотя и частичные, но многочисленные восстания «зеленых банд», появились повстанческие движения инородцев, бродили повсюду шайки отчаянных и лихих партизан, нарушая транспорт, подвоз к центрам награбленного в деревнях продовольствия и выработанного на заводах топлива и тем обостряя положение и настроение населения в самих столицах. Общее возмущение нарастало, и работавшие в подпольях противные политические партии всех платформ и направлений получили возможность готовиться к серьезным шагам в своей идейной борьбе против узурпаторов власти и насильников народа.
С другой стороны, немецкая политика, как внешняя, так и внутренняя, подпавшая под влияние легкомысленных генералов, опиравшихся на армию, идя слепо в поводу шовинистского класса, начинала душить своих ставленников в Москве, Ленина и Бронштейна, требуя выполнения экономических условий договора, заключенного с ними Людендорфом и Гофманом и щедро оплаченного золотом императорского Германского банка. Казалось, в Москве наступал тот момент, когда немецкое военное командование устами Мирбаха собиралось сказать главарям своей политической армии, привезенным в Смольный институт из Швейцарии в запломбированном вагоне: «Довольно! Вы исполнили то, за что вам было заплачено: вы посеяли, а пожнем мы теперь уже сами». И так как «привезенные главари» вовсе не разделяли взглядов немецкого командования на самих себя, то к внутренней борьбе с народными восстаниями, к борьбе со своими внутренними и внешними политическими противниками грозила присоединиться еще и внутренняя война с немцами, все еще считавшими себя хозяевами положения и свободными распорядителями судьбою купленных рабов.
На общий взгляд, положение заправил всяких «Циков», «Комов», «Чеков» и прочих многочисленных условных организаций царства пятиконечной звезды близко было к безнадежному. В их тайных совещаниях Ленин высказывался довольно определенно: «Пора уходить». С ним были солидарны и его последователи из российских. В них еще не изжилась неудача июльского выступления 1917 года, с той разницей, что тогда они не успели достигнуть власти и для известной части народной массы сохранили ореол своих ложных лозунгов, а теперь все население в достаточной степени ощутило на себе сущность их власти, и они понимали, что, конечно, им не удалось так легко выйти из положения, как вышли они тогда. Поэтому в своей верховной деятельности Ленин готов был идти на всевозможные уступки требованиям момента, на смягчение общего режима, на сотрудничество с буржуями-специалистами, на эволюционирование коммунистических принципов – словом, на все то, что могло привести или к более благоприятному разрешению вопроса личного спасения, или на все то, от чего впоследствии можно было бы легко отказаться, объяснив ловким политическим маневром.
Но именно в это критическое время Бронштейн-Троцкий выявил себя противником Ленина и его уступчивости. Вместе со своими приверженцами, изуверами своего племени, составлявшими добрых три четверти всех высших административных органов советской власти, подкрепленными интернациональными и карательными бандитскими отрядами, Бронштейн твердо и категорически высказался против каких-либо уступок и послаблений. Его речи этого времени на собраниях коммунистической партии и заседаниях ЦИК дышат ядом и насмешками над положениями Ленина, и весь смысл их сводится к тому, что ни шагу назад ни при какой обстановке делать нельзя, а ответом на текущий момент с их стороны должны быть беспощадный террор, огонь, меч и пытка. Во временных неудачах, в создавшемся катастрофическом положении Бронштейн отнюдь не склонен был видеть окончательного провала своей власти, и если теперь по каким-либо причинам она колебалась, то, по-видимому, он имел в виду, главным образом, использовать время своей власти для того, чтобы подготовить и обеспечить победу в будущем. Свою власть и подготовку окончательной победы он понимал, конечно, так, как вытекали они из существа натуры и мировоззрения Бронштейна, а не Ленина.
Вот в этой идее подготовки положения для будущей победы в связи со всей сложившейся обстановкой, мне думается, заключались главным образом причины тех массовых, невероятных по зверству, с явными отпечатками изуверства убийств, которые были совершены советскими деятелями в лето 1918 года и составили в истории России и всего мира эпоху сплошного кровавого кошмара. Нельзя забывать, нельзя закрывать глаза на то, что особенному гонению и жестокости в этот именно период подвергся православный, духовный мир России: церковь национализировалась; храмы обращались в помещения для митингов; иконы были обложены налогами, преподавание Закона Божьего в школах запрещено, а на дому родителей преследовали за обучение детей молитвам; над святынями кощунственно надругивались, обряды высмеивались, и основы христианского духовного мировоззрения отвергались печатно в брошюрах и на многочисленных митингах. Это не фразы, не голословное обвинение; желающие могут найти документальное подтверждение этих обвинений в обширном труде международной комиссии, создавшейся в Омске в январе 1919 года и произведшей подробное обследование в Перми и уездах Пермской губернии после изгнания из ее пределов большевиков. Сотни лиц духовного звания, монахов, монашек были расстреляны агентами Бронштейна, удушены и утоплены в прорубях реки Камы. Среди погибших известны: архиепископы Гермоген, Андроник и Василий; епископы Феофаний и Матвей; архимандриты Матвей и Варлаам; протоиереи Пьянков, Сабуров, Стамбиков, Киселев, Преображенский, Конюхов, Будрин, Бельтюков и Яхонтов; священники Шерокинский, Горяев, Белозеров, Соколов, Калашников, Плотнев, Ершов, Савелов, Вяткин, Бояршинов, Якимов, Посохин, Наумов, Конюхов, Камакин, Попов, Юганов, Аристов, Малиновский, Накаряков, Онянов, Махетов, Кузнецов, Белов, Осетров, Рождественский, Швецов, Антипин, Мациевский, Алексеев, Луканин, Никифоров, Колчин, Орлов, Денисов, Лавров, Анишкин, Шестаков, Решетников и Тарасов; иеромонахи Вячеслав, Сергий, Иосиф и Иоанн; диаконы Кашин, Воскресенский, Ипатов, Смирнов и Решетников; иеродиаконы Виссарион, Михей, Евфимий – и это все только по Пермской епархии. А сколько еще окажется потом в других районах и епархиях!
Расскажите любому нравственному человеку какого угодно верования об этих гонениях Православной Церкви, покажите ему список перечисленных выше жертв, павших за исповедание православных догматов, и спросите его, какая же это борьба унесла столько служителей Церкви?
Думается, что, не колеблясь, каждый честный человек ответит: борьба религиозная.
Советская власть, приняв лозунги Бронштейна, став на путь подготовки положения для победы в будущем, хорошо сознавала, что одним из устоев русской народной массы является ее Православная Церковь, ее преданность христианскому учению и глубокая, историческая любовь и привязанность к своей религии. Как масса малокультурная, русский народ способен временами, под влиянием случайных обстоятельств, терять критерии добра и нравственности и падать в невероятную бездну саморазрушения и оплевания своего настоящего существа. Однако падение такое в прошлом было всегда сравнительно кратковременным, и небольшой толчок, толчок именно духовного характера, быстро выносил его из бездны и выводил нравственно очищенным снова на арену христианской жизни.
Подорвать эти-то устои, предотвратить на ближайшее время духовное пробуждение – вот идеи, которые руководили советскими главарями в проведении плана обеспечения победы в будущем.
И в ряду злодейств, совершенных в этот период большевиками для достижения указанной цели, особо исключительными по зверству и изуверству, полными великого значения, характера и смысла для будущей истории русского народа, являются убийства в это кошмарное лето:
1) В Екатеринбурге: бывшего Государя Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Государыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ, бывшего наследника Цесаревича АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, Великой княжны ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ, Великой княжны ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ, Великой княжны МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ, Великой княжны АНАСТАСИИ НИКОЛАЕВНЫ;
2) В Алапаевске: Великой княгини ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ, Великого князя СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, князя ИОАННА КОНСТАНТИНОВИЧА, князя КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА, князя ИГОРЯ КОНСТАНТИНОВИЧА, графа ВЛАДИМИРА ПАЛЕЯ (сын Великого князя Павла Александровича);
3) В Перми: Великого князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА и других, о которых до нас не дошли еще сведения.
Вместе с упомянутыми членами Дома Романовых были убиты избранные большевиками ближайшие им лица Свиты, оставшиеся до конца верными своему долгу. Так, погибли: фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, гофлектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер, генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев, гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков, секретарь Джонсон, комнатная девушка Анна Степановна Демидова, сестра Варвара, управляющий Петр Федорович Ремез, дядька Клементий Григорьевич Нагорный, камердинер Иван Дмитриевич Седнев, камердинер Алексей Егорович Трупп, повар Иван Михайлович Харитонов, камердинер Василий Федорович Челышев и, вероятно, много других, о которых тоже до нас не дошли еще сведения.
Из всех перечисленных злодеяний только об убийстве бывшего Государя Императора советскими властями было объявлено официально, причем акт этот был представлен обществу как народная казнь, совершенная над «коронованным палачом» по приговору Уральского областного совдепа. Об остальных же совершенных злодеяниях советской власти не только умолчали и скрыли от народа, но постарались прикрыть их лживыми заявлениями и инсценировкой побегов и похищений. Так, в отношении членов Царской Семьи было объявлено, что «жена и сын» отправлены в надежное место, а о Великих княжнах вовсе ничего не упоминалось. Когда почти через год убийство выплыло наружу, то советские главари использовали его для провоцирования своих политических сотрудников в Москве, левых социалистов-революционеров, и инсценировали целый процесс, стремясь представить дело как попытку левых эсеров дискредитировать советскую власть. В качестве обвиняемых были привлечены какие-то Яхонтов, Грузинов и Малютин – члены Екатеринбургского совдепа, Мария Апроскина и Елизавета Миронова и девять красноармейцев. Все эти лица были признаны виновными, приговорены к расстрелу и расстреляны.
Категорически утверждаю, что перечисленные по фамилиям лица в расстреле Царской Семьи не участвовали.
В отношении убитых в Алапаевске Великой княгини, Великого князя, князей и остальных лиц, содержавшихся в Напольной школе, советские власти объявили, что они все похищены какой-то белогвардейской бандой, напавшей на охрану. Дабы заставить окружавшее население поверить этому вымыслу, большевики уже после совершения убийства разыграли провокационное сражение с мнимым противником, а для большей убедительности пристрелили содержавшегося в арестном доме за пьянство мужичка и, перетащив его тело к школе, выдали труп за одного из убитых ими белогвардейцев.
Такой же провокационный слух о похищении белогвардейцами был распущен большевиками и в отношении Великого князя Михаила Александровича; в действительности же он был уведен и убит тремя членами Мотовилихинской чрезвычайки.
Все это указывает, что убийству Августейшей Семьи и членов Дома Романовых советские власти придавали чрезвычайно важное значение в деле подготовки для себя будущей победы, но, с другой стороны, уже тогда боялись народа и усиленно распускали в нем сведения, что Царская Семья вывезена в Германию. Народ и сейчас во многих местах не верит в расстрел бывшего Государя, и по России ходит легенда о том, как он скрывается, переодетый простым мужиком, в деревнях Сибири и появится снова на своем троне, когда народ очистит Россию от генералов и буржуев, свергнувших его с престола. «Тогда, – говорит мужик, – будут Царь и народ и между ними никого не будет». И вот этого второго устоя русского народа, устоя, созданного самим народом в своей бытовой идеологии, Бронштейн и Ленин боятся не меньше, чем устоя религиозного. Народ до правды доходит больше инстинктом; умственные рассуждения массе еще не доступны. И после свержения Царя народ чувствует, что правое дело не на стороне тех, кто свергал Царя и кто после него стал править землей.
Вот почему главари советской власти так старательно скрывают, что убийство Царя и Царской Семьи было сделано по их приказанию.
С нашей стороны официального правительственного сообщения об убийстве большевиками Августейшей Семьи и других членов Дома Романовых до настоящего времени не последовало. Вероятно, пройдет еще немало времени, когда будущая национальная русская власть, опираясь на результаты следственного производства, сможет оповестить мир о небывалой трагедии, разыгравшейся летом 1918 года на Урале, и особенно о кошмарном злодеянии, совершенном Бронштейном, Лениным, Янкелем Свердловым и Исааком Голощекиным в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, в ночь с 16 на 17 июля по новому стилю.
Появлявшиеся в нашей печати в разное время частные извещения, заметки, статьи и даже отдельные книги трактовали о судьбе, постигшей членов Царской Семьи и других членов Дома Романовых, чрезвычайно различно; некоторые, преимущественно черпавшие сведения из-за границы, отличались полным вымыслом и фантазией; другие – в зависимости от личных впечатлений авторов или степени из знакомства с фактической стороной дела – приближались к истине, но, конечно, не могли возместить отсутствие опубликования официальных следственных данных. Такое положение часто давало пищу для ошибочно-неправильных или даже умышленно ложных заключений по вопросу исключительной важности для русского народа.
В начале февраля 1919 года покойный Верховный правитель адмирал Колчак имел определенное намерение опубликовать официально о всех убийствах членов Дома Романовых, совершенных большевиками на Урале летом 1918 года. Это сообщение, нося совершенно объективный характер и констатируя только факт происшедших злодеяний, должно было быть выпущенным как акт правительства, для ознакомления которого с делом судебным следователем Соколовым по приказанию Министра юстиции Старынкевича была составлена краткая сводка документальных данных с упоминанием в ней только для членов правительства таких материалов, которые по нашим законам до окончания следствия ни в коем случае опубликованию не подлежали. Такого рода справки для генерал-прокуроров (каковым является Министр юстиции) в течение самого следственного производства законом установлены.
К сожалению, некоторые из лиц тогдашних высших сфер Омска, ослепленные узкой партийной борьбой между собой, решили использовать намерение адмирала Колчака для своих целей. Управлявший в то время делами Совета Министров Тельберг без ведома Министра юстиции взял из ящика его письменного стола приготовленную Соколовым секретную справку и передал ее в редакцию газеты «Заря», которая на следующее же утро поместила ее полностью на страницах газеты. Верховный правитель приказал немедленно конфисковать еще не успевшие разойтись в розничной продаже номера; но дело было сорвано, шум поднялся невероятный, и адмирал Колчак был вынужден отказаться от идеи «официального правительственного сообщения».
Тем не менее можно думать, что теперь едва ли кто сомневается в самих фактах совершившихся на Урале убийств и, в частности, в факте убийства в Екатеринбурге именно всех членов Царской Семьи, а не одного только бывшего Государя Императора, как о том сообщали советские власти. Но как раньше, так и теперь, едва ли русское общество в массе, а тем паче – весь мир, имеют определенное сознание и суждение о том, кто были в действительности прямыми вдохновителями и руководителями этих кошмарных преступлений, а кто являлся косвенными виновниками их совершения? Были ли эти убийства случайными злодеяниями исключительно местных властей или инициатива их исполнения исходила свыше, от центра, и, наконец, какими целями и замыслами руководились главари убийств в их ужасных, нечеловеческих деяниях как при совершении самих убийств, так и в отношении сокрытия тел своих жертв?
Покойный верховный правитель, сознавая историческое значение убийства членов Дома Романовых, решил расширить характер исследования этих преступлений, приблизив его по существу к практиковавшимся в особо важных случаях дореволюционного времени сенаторским следствиям; к этому побуждали его и те трения революционного времени, которые следственное производство встречало на месте в различных партийных и классовых распрях общественных, политических и военных деятелей, а равно и вообще неудовлетворительное само по себе первоначальное предварительное следствие, ведшееся следователями Екатеринбургского окружного суда.
17 января 1919 года адмирал Колчак возложил на меня общее руководство по расследованию и следствию по делам об убийстве на Урале членов Августейшей Семьи и других членов Дома Романовых. Я получил приказание расширить рамки производившегося в то время предварительного следствия по этим делам, не ограничиваясь узко только юридической стороной дела, но направляя общее исследование в целях освещения вопроса также с исторической и национальной точек зрения. Специально для ведения предварительного следствия мне был придан судебный следователь по особо важным делам Николай Алексеевич Соколов, а для выполнения требований следственного производства по розыскам и раскопкам моим помощником был назначен начальник Военно-административного управления Екатеринбургского района генерал-майор Сергей Алексеевич Домантович.
Предоставление расследованию широких рамок, в связи с чрезвычайно талантливым и идейным ведением Соколовым самого следственного производства, позволило осветить эту мрачную и кровавую страницу истории русского народа в пределах полноты и ясности, допускавшихся тем временем. Оставление нами в начале июля Екатеринбурга и Пермской губернии не дало возможности довести следствие до тех результатов, когда можно было бы поставить окончательную точку и сказать, что дело кончено. Нет, расследование и само следствие далеко не кончены, а в историческом и национальном отношениях, думается, нельзя было даже и мечтать его кончить, так как разработка этих вопросов до абсолютной полноты и точности требует не месяцев и годов, а целых десятилетий, и иногда очень многих.
За последнее время преимущественно за границей появилось несколько серьезных печатных трудов, основанных частью на воспоминаниях, а частью и на некоторых официальных документах следствия, об убийстве большевиками в Екатеринбурге членов Царской Семьи. В Америке появилась книга упоминавшегося выше Тельберга, бывшего в Омске управляющим делами Совета Министров; в Англии издана книга Вильтона, корреспондента газеты «Таймс», проведшего все время при следственных работах на Урале; во Франции изданы записки Жильяра, бывшего воспитателя наследника Цесаревича Алексея Николаевича; в Пекине издана книга игумена Серафима, сопровождавшего тела убитых в Алапаевске Великой княгини и Великих князей при перевозке их из Алапаевска сначала до Читы, а затем до нашей Духовной миссии в Пекине. Располагая некоторыми официальными документами следствия, авторы имели возможность передать картину самого злодеяния с достаточной полнотою. Но нельзя делать таких вещей, как позволил себе игумен Серафим. В труде, преследовавшем цель дать не только фактическое изложение событий, но и характеристику Августейших мучеников на основании документальных данных, он, без всякой оценки и проверки правдоподобности, выписывает из советских «Известий» помещенное в них письмо, якобы написанное Государем Ленину, и оставляет читателя в убеждении, что это письмо действительно принадлежит перу покойного бывшего Царя. Очевидно, игумен Серафим хотел использовать этот документ как официальное подтверждение тех скверных условий, в каких содержалась Царская Семья в Екатеринбурге; но ведь вся книга игумена Серафима направлена на идейную борьбу с проводниками идей большевизма; как же можно пользоваться для своей борьбы оружием, взятым из противного лагеря, не убедившись в силе этого оружия? Ведь противники игумена Серафима прекрасно знают, что это письмо ими самим изобретено, как и много других документов, о которых будет сказано в своем месте.
Как перечисленные выше авторы, так и большинство остальных авторов вышедших до настоящего времени заметок, воспоминаний и повествований ограничиваются при указании убийц обыкновенным стереотипным наименованием их – «большевики», а само убийство относят к характеру одного из тех, хотя и выдающихся, но многочисленных рядовых убийств, которыми вообще ознаменовали большевики свою власть в России. Кроме того, большинство авторов ограничиваются простым констатированием факта зверского убийства, не выходя из рамок исследования его, как всякого другого зверского преступления, совершенного советскими деятелями в период того лета, с точки зрения установления преступности физиономии той государственной власти, которая возымела дерзость выдавать себя за народную, демократическую власть.
Только в трудах Вильтона и Жильяра впервые в изложении тяжелой кровавой драмы, разыгравшейся в стенах дома Ипатьева, во-первых – зазвучали нотки душевного отношения и внимания к самим жертвам этой исторической драмы и, во-вторых, быть может, только инстинктивно убийство это выдвигается из ряда обычных большевистских злодеяний той эпохи на степень события национального значения для русского народа.
Вильтон и Жильяр, хоть и иностранцы, но, проживая подолгу в России и среди русского народа, как люди чистые и чуткие сердцем, как люди, глубоко и искренно любившие русского человека, наконец, как люди наблюдательные и искренние по натуре, – переживая с русским народом трагедию его разложения, революции и бездны, – почуяли инстинктом и сердцем правду: эти убийства совершенно исключительны, и не только для русского народа, но и для всего мира.
Мир часто не видит правды, не хочет правды и не любит правды; по некоторым вопросам он настолько боится правды, что напоминает страуса, прячущего в маленькую ямку голову и думающего, что если он не видит, то и его никто не видит; иногда ложный страх перед правдой так велик, так безумно страшен, что мир сам начинает разрушать свое, близкое, дорогое, сознательно идет по линии разрушения, только чтобы не подумал кто-то, что он видит правду, понимает ее и ненавидит источник этой правды. Заставить мир убедиться в правде – это задача, кажется, бесцельная.
Но, к счастью, мир наполнен неодинаково мыслящими людьми: есть люди, и особенно богата ими Россия, где христианская вера научила сердцем воспринимать правду и идти к ее свету и свободе не ветхозаветным законом еврейства – «Око за око и зуб за зуб», а великой заповедью Христа – проповедью Евангелия любви. Этим людям посвящаю я и мои записки.
Убийства членов Царской Семьи и других членов Дома Романовых представляются убийствами совершенно исключительными.
Это не были зверские убийства возмущенной толпы, разъяренной черни, ибо русский народ участия в них не принимал.
Это не казнь коронованных особ, которую знает история революций, ибо все совершилось без всякого суда и без участия народа.
Это даже не изуверское истребление, как в былые времена, язычником Нероном первых мучеников христианства, ибо Нерон из своих зверств устраивал зрелища для народа, а не скрывал от него и не боялся его.
Это было уничтожение советской властью намеченных жертв в определенный, по особым обстоятельствам, период времени: июнь – июль 1918 года.
Это были преступления идейные, фанатичные, изуверские, но совершавшиеся скрытно, в тайне, во лжи и обмане от христианского русского народа.
Это было планомерное, заранее обдуманное и подготовленное истребление членов Дома Романовых и исключительно близких им по духу и верованию лиц.
Прямая линия династии Романовых кончилась: она началась в Ипатьевском монастыре Костромской губернии и кончилась – в Ипатьевском доме города Екатеринбурга. Новое восшествие на российский престол кого-либо из оставшихся в живых членов боковых линий Дома Романовых, конечно, может случиться, но не как выдвижение кандидата какой-либо политической партией, группой или отдельными лицами, а только постановлением будущего Всероссийского земского собора. Во всяком случае, убийство бывшего Императора Николая II и Его Августейшей Семьи в связи с убийством и других членов Дома Романовых составляет историческую эру. Из этого одного уже вытекает, что убийства эти не могут быть отнесены к характеру обыденных, зверских, очередных убийств, совершенных теми или другими «случайными» большевистскими деятелями, а имеют свою великую, глубокую, национальную и духовную историю в прошлой жизни русского народа и будут иметь и великое воспитательное, созидательное и государственное будущее для всей России, а возможно, и для всего мира.
Мы знаем, что активным выступлением русской интеллигенции, при пассивном отношении народной массы, Дом Романовых был свергнут с российского престола в феврале 1917 года, но на жизнь его членов рука наша не поднялась.
Мы знаем, что Германия не смогла одолеть своих противников в честном, открытом бою; тогда, не брезгая средствами борьбы, она бросила на наш фронт и тыл подлейшее из орудий борьбы, ужаснейший из ядов – яд политический, яд большевизма, заразу анархии. Но сама стала жертвой нанятых ею для этой борьбы рабов.
Мы знаем, что народ советской России и до сих пор не знает, что совершили его властелины; какие кровавые, зверские преступления навязаны ему ныне историей и волей его теперешних вождей. Но мы знаем и то, что над Романовыми не было народного суда, и вожди не посмели прибегнуть к нему для своих целей.
Кто же были эти большевики, которых называют убийцами членов Дома Романовых? Кто были эти холопы и наймиты, которые не только ослушались своих хозяев – немецкого Генерального штаба, но оказались и хитрее его, и подлее его, и сильнее немецкого народа, и уж конечно беспринципнее и безнравственнее его?
Дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы составляло задачу следствия. Н. А. Соколов имел в своем распоряжении всего пять месяцев работы, то есть с 7 февраля, дня его назначения, до 10 июля, когда следствие пришлось прервать ввиду приближения к Екатеринбургу большевиков и оставления нами этого района. Тем не менее собранный им материал дает основание неоспоримо установить факт совершенных убийств в Екатеринбурге, Алапаевске и Перми всех упомянутых выше членов Дома Романовых и осветить в достаточной мере те предположения, на которые наткнулось следствие в отношении того, что предприняли руководители преступления, чтобы скрыть тела убитых в Екатеринбурге бывшего Государя Императора и его Августейшей Семьи, и какой способ сокрытия тел был ими применен. Далее следствию с достаточной доказательностью удалось установить данные для суждения о том, кто были руководителями и прямыми исполнителями всех этих преступлений, и собрать некоторый материал для выводов о косвенных виновниках трагической гибели членов Дома Романовых.
Попытка свести материал по расследованию и некоторые мысли, возникавшие во время хода работ по изучению истории и характера преступления и преступников, составляет предмет 1-й и 2-й частей этой книги, а в 3-й части будет сделан опыт исторического и национального исследования причин, цели и следствия этой трагической страницы в истории русского народа.
Исследование отнюдь не предполагает касаться критики деятельности покойного бывшего Государя Императора как правителя и как Царя. Моральное право суждения династических правителей принадлежит только Всемогущему Богу, бесстрастной истории и суду народной совести в лице таких учреждений, как Земский собор.
С политически-гражданской точки зрения в мире бывают цари, которые по своей натуре призваны царствовать, но бывают цари, которые по своей натуре призваны быть мучениками царствования. Ко вторым относится и покойный бывший Император.
Но, с точки зрения идеологии русского народа, есть еще и другая сторона – духовный символ, олицетворяемый в фигуре Царя, Помазанника Божия. Осветить, по мере сил и возможности, убитых Царя и Царицу с этой стороны расследование считало себя обязанным, исходя из таких соображений: свержение Царя, который в мировоззрении народа является только правителем, представляется преступлением по «форме», преступлением политически-гражданским; свержение же Царя, который в мировоззрении народа является еще и Помазанником Божьим, представляется преступлением по «духу», затрагивающим в корне все историческое, национальное и религиозное мировоззрение народа и выбивающим из-под его ног нравственные устои его жизни и быта. После этого он, естественно, легко впадает в крайности. Мы все повинны в бедствиях, постигших нашу Родину; мы все повинны в том, что еще до революции между нами, интеллигентами, и народом оказалась пропасть; мы все повинны в том, что народ оказался не с нами, а с пришлыми, ему совершенно чужими нехристями; наконец, мы все повинны в трагической судьбе, постигшей Дом Романовых, хотя и не участвовали фактически в ужасных кровавых злодеяниях.
Но все это создалось не сейчас, не в ближайшее только время, а подходило исподволь, нарастало издалека – из далекого прошлого нашей истории и, медленно катясь клубком, все нарастало и нарастало, пока, наконец, не порвало последней нити между Царем и народом, связывавшей их духовной идеологией. В этом окончательном разрыве повинно исключительно наше время, и последнюю ступень исторической нисходящей лестницы к большевизму перешагнули мы, бросив народ в рабство правителям религии лжи.
Но твердо верится, что русский народ, даже придушенный гнетом, голодом, разорением и террором теперешних его «диавола милостью» вождей, сознав свое роковое заблуждение в путях истинного Христова учения, снова найдет в себе ту, Богом данную ему, святую искру веры и любви для начала своего будущего возрождения, которая во все серьезные времена его исторического прошлого являлась путеводной звездой для новой, светлой жизни во Христе под стягом «Божьей милостью».
Не ради возбуждения чувства мести, не ради новых жертв, крови и проявления низкой, жестокой и бесцельной злобы хочу я поделиться мыслями, выводами и чувствами, вызванными во мне изучением и исследованием обстоятельств этой трагической страницы нашей истории. Пусть каждый, читая мои заметки, помнит великие слова Иисуса Христа: «Милости хочу, а не жертвы». И как величественна в царстве Православной Церкви была смерть членов Царской Семьи, так пусть и народ русский, руководимый и просвещенный Божьим Промыслом, найдет в себе мудрость и величественное решение не для осуждения и мщения, а для приведения к Великому Воскресению тех, кто был прямым виновником, вдохновителем и руководителем страшных преступлений против народа, веры и заповедей Христа.
Михаил Дитерихс.
В моей книге я вынужден был, упоминая о различных деятелях трагической эпохи, добавлять к фамилиям их имена. Произошло это потому, что среди советских главарей многие – нерусской национальности и предпочитают жить и действовать под вымышленными русскими фамилиями. Так как, к сожалению, мне не удалось узнать их настоящих фамилий, а, с другой стороны, я вовсе не хочу вводить читателя в заблуждение, что главные деятели по делу: Свердлов в Москве, Голощекин в Екатеринбурге – люди русской национальности, то мне и пришлось отмечать это хотя бы именами их. Тех же, которых имена остаются неизвестными, я называю по фамилиям с добавлением указания на национальность. Эти детали исключительно важны для будущей истории советской власти в России, почему не отметить их – нельзя.
М. Д.
Глава I
Освобождение Екатеринбурга
В ночь с 24 на 25 июля 1918 года наши войска под начальством тогда полковника Войцеховского, рассеяв красную армию товарища латыша Берзина, заняли Екатеринбург. Советские власти и деятели в большой растерянности, спешности и тревоге бежали в Пермь, побросав и позабыв в городе много своих бумаг и документов, но увозя под сильной и надежной охраной, специальным поездом, награбленное у жителей имущество и в особенности ценности и документы, принадлежавшие Царской Семье.
Некоторые из комиссаров начали покидать город еще с 19-го числа, но тем не менее все они проявляли какое-то особое волнение, нервность и растерянность, доводившие их до панического состояния. Янкель Юровский, житель города Екатеринбурга, секретный председатель Чрезвычайной следственной комиссии и комиссар «дома особого назначения» (так назывался у большевиков дом Ипатьева, где содержалась Царская Семья), был в таком состоянии, что, уезжая из этого дома поздно вечером 19-го числа и увозя семь чемоданов, наполненных царскими вещами, забыл на столе в его комнате в этом доме свой бумажник с 2000 рублями в нем.
Город встретил вступление наших войск, как Светлый праздник: флаги, музыка, цветы, толпы ликующего народа, приветствия, церковный звон, и смех, и радостные слезы – все создавало картину ликующего начала весны в новой жизни и настроение великого праздника Воскресения Христова.
А в природе было лето, и город едва очнулся от давившей его последние дни какой-то ужасной, мрачной обстановки смерти, похорон, погребального стона, как бы нависшего черной тучей над всем городом и его окрестностями. Так бывает в зачумленных городах: не видно этих несчастных чумных, не слышно их, не известно даже, что и где происходит, но чувствуется, что что-то совершается ужасное, что что-то совершилось уже; чувствуется веяние смерти вокруг. И страшно, и мрачно, и жутко на душе.
Таково было настроение в Екатеринбурге перед освобождением его нашими войсками. И потому весной и Светлым праздником показался его обывателям день 25 июля.
* * *
Только на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка, за двумя рядами высоких сплошных заборов, скрывавших окна от глаз улицы, в небольшом, но хорошеньком, беленьком домике продолжали царить мрак, мертвая тишина и тени преступления.
Это дом Ипатьева, или, по-большевистски, «дом особого назначения», в котором содержалась в Екатеринбурге с 30 апреля 1918 года Августейшая Семья.
В этом доме еще 14 июля священник отец Сторожев с диаконом Василием Буймировым совершал обедницу для всей собравшейся в зале Царской Семьи; бедный наследник Цесаревич Алексей Николаевич страдал своей наследственной болезнью и сидел в кресле. Тут же присутствовали тогда доктор Боткин, девушка Демидова, повар Харитонов, камердинер Трупп и мальчик Седнев; поодаль у окна стоял комиссар Янкель Юровский и не спускал глаз с молившихся впереди русских христианских людей.
Все члены Царской Семьи имели вид утомленный и, против обыкновения, никто из них не пел во время службы, как было на предшествовавших пяти службах до появления в доме Янкеля Юровского. А когда во время этой службы 14 июля, по чину обедницы, отец диакон, вместо того чтобы прочесть, по ошибке запел «со святыми упокой», все члены Семьи бывшего Императора Николая II опустились на колени.
«Знаете, отец протоиерей, – сказал диякон Буймиров, выйдя из дома, – у них там что-то случилось: они все какие-то другие точно, да и не поет никто».
Где же были теперь обитатели этого дома?
* * *
В доме царил невероятный хаос. Начиная от комнат нижнего полуподвального этажа, где при Янкеле Юровском жил внутренний караул из десяти человек, приведенных им с собой из Чрезвычайки, до угольной комнаты верхнего этажа, служившей спальней бывшему Государю Императору, Государыне Императрице и наследнику Цесаревичу, почти во всех комнатах были разбросаны по полу, на столах, диванах, за шкафами и ящиками различные цельные, разломанные, помятые и скомканные вещи и вещицы, принадлежавшие Августейшей Семье и содержавшимся с ними в доме придворным людям. Больше всего валялось их в комнате комиссара Янкеля Юровского – первой налево из передней. Валялись порванные, смятые и обгорелые записки, обрывки писем, фотографий, картинок; валялись книжки, молитвенники, Евангелия; валялись образа, образки, крестики, четки, обрывки цепочек и ленточек, на которых они подвешивались, а икона Федоровской Божьей Матери, икона, с которой Государыня Императрица никогда, ни при каких обстоятельствах путешествия не расставалась, валялась в помойке во дворе со срезанным с нее, ее украшавшим, очень ценным венчиком из крупных бриллиантов.
Брошенными валялись пузырьки и флакончики со святой водой и миром, вывезенные, как значилось по надписям на них, еще из Ливадии, Царского Села и костромских монастырей; разбросанными, изломанными и разломанными валялись повсюду шкатулки, узорные коробки, рабочие ящички для рукоделий, дорожные сумки, саквояжи, сундучки, чемоданы, корзины и ящики и вокруг них вывороченные оттуда вещи, предметы домашнего обихода и туалета. Но… ничего ценного в смысле рыночной ценности и, наоборот, почти все только ценное и необходимое для бывших обитателей этого дома.
В спальне бывшего Государя Императора и Государыни Императрицы валялись на полу: «Молитвослов», с юношеского возраста не покидавшийся Императором, с тисненым на обложке сложным вензелем из двух монограмм: «Н. А.» и «А. Ф.» – и датой на оборотной стороне книжечки «6-го мая 1883 г.»; вблизи «Молитвослова» брошена разломанная двойная рамка, где у Государя были всегда портреты Государыни-невесты и наследника Цесаревича, а от самих портретов валялись лишь порванные, совершенно обгоревшие кусочки.
Неподалеку лежали неразлучные спутницы Государыни Императрицы: книги «Лествица», «О терпении скорби» и «Библия», – все с инициалами «А.Ф.» и датой: «1906 год», с повседневными пометками в текстах и на полях, сделанными рукой Ее Величества; тут же валялись и остатки ее любимых четок; тут же – и необходимая для наследника Цесаревича, болевшего с апреля месяца, машинка для электризации и его лекарства, его игрушки, его доска, которую клали ему на постель для игры на ней и занятий. И флаконы с одеколоном и туалетной водой, туалетные стаканчики, мыльницы, скляночки и коробочки от разных лекарств и масса пепла от обгорелых чулок, подвязок, материй, бумаги, карточек, шкатулочек, коробочек от различных рукоделий, иконок и образков.
Этого пепла и обгорелых вещиц домашнего обихода и туалетного характера было еще больше в следующей комнате, служившей спальней для Великих княжон. Сразу получалось впечатление, что все служившее раньше для туалета, что составляло одежду, белье, работу, рукоделие, развлечение, что хранилось дорогой памятью о высших близких людях и друзьях, – все было собрано в беспорядке, в спехе, скомкано, сломано, порвано и сожжено в двух печах, находившихся в этой комнате. Срезанные же во время болезни волосы Великих княжон валялись перепутанные и в мусоре, в передней, близ комнаты Янкеля Юровского, а некоторые порванные письма к ним, фотографии и карточки, им принадлежавшие, оказались засунутыми за шкаф в одной из комнат нижнего этажа, где жили палачи внутренней охраны.
Не видно было лишь одного – кроватей в комнате Великих княжон… Они жили в этой комнате без кроватей и не имели матрасов.
В буфетной комнате с окном, выходившим в садик, неподалеку от крана, на столе и под ним валялось много грязного столового белья, и на некоторых полотенцах и салфетках виднелись большие, густые кровавые пятна. А наружная сторона дома, если выглянуть из окна в садик, сверху донизу была обрызгана тоже кровяными пятнами: видно, кто-то мыл под краном окровавленные руки и отряс их за окно, а другой – просто взял и, не мывши, отер свои руки о столовое белье.
В каретнике во дворе дома Ипатьева оказалось несколько кухонных железных ящиков и два-три разломанных сундучка попроще, перевезенных комиссаром Хохряковым из Тобольска вместе с Царскими детьми. Сундуков, чемоданов и ящиков собственно Царской Семьи – не было. На земле валялись разбросанными, перепутанными, побитыми кое-какие остатки кухонной посуды, посуды столовой, чайной, громоздкие баки, кубы, лоханки. Остались несколько разрозненных частей костюмов, разодранный корсаж, отдельная юбка, большой ящик с игрушками и играми наследника Цесаревича, ширмы Государыни, весы для взвешивания людей, чехол от походной кровати Великих княжон. Ничего не было из белья, платьев, одежды, меховых вещей, обуви, шляп и зонтиков.
Совершенно отдельно стоял раскрытый тяжелый ящик-сундук с частью книг, принадлежавших Августейшим детям; в ящике рылись, большую часть книг разбросали тут же вокруг него. Книги исключительно русские, английские и французские; ни одной на немецком языке. Книги определенного выбора: сочинения для религиозного, нравственного воспитания и произведения лучших русских классиков. Книги определенных владельцев; в них собственноручные Их Высочеств пометки, закладки домашней работы, засушенные цветы и листочки. Почти на всех – посвящения или просто пометки от отца или матери или обоих вместе: «Елка. 1911 г. 24 декабря, Царское Село, от Папа и Мама, Ольге»; «В. К. Ольге, Мама, Тобольск, 1917 г.»; «Моей маленькой Татьяне от Мама. 9 февраля, 1912 г. Царское Село»; «Дорогой Татьяне от Папа и Мама. Янв. 1908»; «М.Н. Елка. 1913»; «Тетрадь для французского. Алексис» и т. д.
Из одной английской книжки Великой княжны Ольги Николаевны высунулись два листочка почтовой бумажки, на которых рукой Ее Высочества записаны стихотворения, сочиненные в Тобольске или Государыней Императрицей, или графиней Анастасией Васильевной Гендриковой.
На одном листке:
ПЕРЕД ИКОНОЙ БОГОМАТЕРИ
Царица неба и земли, Скорбящих утешение, Молитве грешников внемли. В Тебе надежда и спасение. Погрязли мы во зле страстей, Блуждаем в тьме порока… Но… наша Родина… О, к ней Склони всевидящее око. Святая Русь, твой светлый дом Почти что погибает. К Тебе, Заступница, зовем — Иной никто из нас не знает. О, не оставь своих детей, Скорбящих упование, Не отврати своих очей От нашей скорби и страдания.На другом листке:
МОЛИТВА
Пошли нам, Господи, терпенья В годину буйных, мрачных дней Сносить народное гоненье И пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, Злодейства ближнего прощать И крест тяжелый и кровавый С Твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, Когда ограбят нас враги, Терпеть позор и оскорбления, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог Всесильный, Благослови молитвой нас И дай покой душе смиренной В невыносимый страшный час. И у преддверия могилы Вдохни в уста твоих рабов — Нечеловеческие силы Молиться кротко за врагов.* * *
В нижнем этаже дома Ипатьева, в самом отдаленном и глухом его углу, есть полуподвальная комната с одним заделанным решеткой окном, выходящим на Вознесенский переулок. Комната полутемная, потому что два ряда высоких деревянных заборов, доходивших до самой крыши, не допускали дневного света до окна.
В отличие от всех прочих комнат дома здесь не было ни мусора, ни разбросанных вещей и вещиц, не было даже пылинки: видно было, что комнату недавно мыли, и мыли даже обои. Но все же на полу, особенно вдоль карнизов, ясно виднелись следы бывшей здесь крови, а на обоях сохранились многочисленные мелкие брызги крови. В стенах и в полу, в косяке двери и верхних карнизах – много пулевых пробоин, с застрявшими в некоторых из них пулями. В правом углу комнаты заметны были царапины – следы какого-то плоского, узкого оружия.
Крови, видимо, было много, очень много; ее вымывали, затирали опилками, глиной, песком, но она, растекаясь, омочила и карниз внизу левой стены, и карниз стены, находившейся прямо против входной двери. В этой же стене было особенно много пулевых пробоин.
Каждый человек, вошедший в эту комнату, ощущал гнет не только от мрака внешнего – происходившего от слабого проникновения дневного света, – но больше от внутреннего мрака, от слишком ярких следов, оставленных здесь смертью, смертью многих людей, смертью неестественной, кровавой. Чувствовалось каждым, что здесь произошла какая-то ужасная трагедия, трагедия не одного живого существа, а нескольких, многих. Представлялось: как в бесцельной борьбе за жизнь или, вернее, в агонии жизни люди, загнанные в эту маленькую комнату-ловушку, расстреливаемые в упор от входной двери, метались по ней, кидались из стороны в сторону, так как пули и пулевые следы группировались не только в полу и стене, противоположной входной двери, но по отдельности виднелись во всех стенах, и внизу, и вверху, и даже в левом косяке входной двери, причем пуля пробила и саму дверь, открытую в прихожую во время трагедии.
Безобразен и отвратителен был вид стен этой комнаты. Чьи-то грязные и развратные натуры безграмотными и грубыми руками испещрили обои циничными, похабными, бессмысленными надписями и рисунками, хулиганскими стишками, бранными словами и особо, видно, смачно расписывавшимися фамилиями творцов хитровской живописи и литературы. И тем более резко и показательно из всей этой массы безграмотности, воспроизведенной подонками людской среды, выделялось в правом, ближайшем к двери углу комнаты, двустишье, написанное карандашом полуинтеллигентной рукой, на еврейско-немецком жаргоне:
Валтасар был в эту ночь Убит своими подданными[1].В здании Волжско-Камского банка, где помещался при большевиках Уральский областной совет рабочих, крестьянских и армейских депутатов, в день вступления в Екатеринбург войск полковника Войцеховского царил не меньший хаос и беспорядок раскиданных и разбросанных повсюду бумаг, вещей, женского белья, платьев и одежды.
Здесь, и особенно в так называемых кладовых банка, были брошены взломанные сундуки, чемоданы, саквояжи, валялись вывороченные из них вещи, костюмы, чулки, белье, обувь, бумаги, тетради, книги, обрывки записок, открыток. И повсюду – на сундуках и чемоданах, на портфелях и бюварах, на конвертах от писем и бумагах виднелись надписи фамилий владельцев: «А. В. Гендрикова», «Е. А. Шнейдер», или «В. А. Долгоруков», или «И. Л. Татищев».
Не было только самих владельцев всех этих брошенных и разбросанных вещей.
В сундуке А. В. Гендриковой среди перерытой, смятой и скомканной одежды лежал оброненный туда документ, адресованный Сафарову; он, видимо, увлекся разборкой вещей графини и обронил туда свою бумагу. Сафаров – еврей, приехал в Россию с Бронштейном в запломбированном вагоне; в Екатеринбурге был членом президиума; сносился непосредственно с главарями ЦИК в Москве; им была подписана телеграмма Алапаевскому совдепу с приказаниями уничтожить содержавшихся там членов Дома Романовых.
В помещении верхнего этажа банка, в комнатах, занимавшихся присутствиями совета и президиума, на столах, в ящиках столов, в раскрытых канцелярских шкафах и среди забытых дел валялись брошенными в спешке сборов черновики бумаг, телеграммы, газеты, объявления и записи телеграфных разговоров по прямому проводу. Их много было здесь, бюрократический строй советской власти плодил переписку еще большую, чем было в дореволюционное время. Среди этих брошенных бумаг много хлама, но вот и интересные:
«Москва. Председателю ЦИК Свердлову для Голощекина.
Сыромолотов как раз поехал для организации дела согласно указаний центра. Опасения напрасны. Авдеев сменен, его помощник Мошкин арестован. Вместо Авдеева – Юровский, внутренний караул весь сменен, заменяется другим. 4 июля, № 4558. Белобородов».
Другой документ:
«Москва, два адреса, Совнарком. Председателю ЦИК Свердлову.
Петроград, два адреса, Зиновьеву, Урицкому.
Алапаевский Исполком сообщил нападении утром восемнадцатого неизвестной банды помещение где содержались под стражей бывшие великие князья Игорь Константинович, Константин Константинович, Иван Константинович, Сергей Михайлович и Палей. Несмотря сопротивление стражи князья были похищены. Есть жертвы обеих сторон. Поиски ведутся. № 4853, 18 июля, 18 ч. 30 м. Предобласовета Белобородов».
Из записи на телеграфных бланках разговора по прямому проводу Янкеля Свердлова из Москвы, по-видимому, с Белобородовым читаем:
Расстрел Николая Романова
«На состоявшемся 18 июля первом заседании Президиума ЦИК Советов Председатель тов. Свердлов сообщает получено по прямому проводу сообщение от областного Ур. Совета о расстреле бывшего Царя Николая Романова. Последние дни столице красного Урала Екатеринбургу серьезно угрожала опасность приближения чехослов. банд; в то же время был раскрыт новый заговор контр. рев. имевший целью вырвать из рук советской власти коронованного палача. Ввиду всех этих обстоятельств президиум Ур. Обл. Сов. постановил расстрелять Ник. Романова, что и было приведено в исполнение 16-го июля; жена и сын Ник. Ром. отправлены в надежное место; документы о раскрытом заговоре высланы в Москву со специальным курьером.
Сделав это сообщение тов. Свердлов напоминает историю перевода Ник. Роман. из Тобольска в Екатеринбург когда была раскрыта такая же организация белогвардейцев в целях устройства побега Николая Романова. В последнее время предполагалось предать бывшего царя суду за все его преступления против народа и только развернувшиеся сейчас события помешали этого суда. Президиум ЦИК обсудив все обстоятельства заставившие Ур. Обл. Совет принять решение о расстреле Ник. Ром. постановил: Всерос. ЦИК в лице своего президиума признает решение Ур. Обл. Сов. правильным; затем председатель сообщает, что в распоряжении ЦИК находятся сейчас чрезвычайно важный материал и документы Ник. Роман., его собственноручные дневники которые он вел от юности до последнего времени; дневники его жены и детей; переписка Ром. и т. д. Имеются между прочим письма Григ. Распутина к Романову и его семье. Все эти материалы будут разобраны и опубликованы в ближайшее время».
Черновик, писанный карандашом и пером, с поправками в числах:
Российская
Федеративная Республика
Советов
Уральский Областной Совет
Рабочих, Крестьянских
и Армейских Депутатов.
ПРЕЗИДИУМ
«Ввиду приближения контрреволюционных банд к красной столице Урала Екатеринбургу и ввиду возможности того, что коронованному палачу удастся избежать народного суда (раскрыт заговор белогвардейцев с целью похищения бывшего царя и его семьи) Президиум Ур. Обласовета, исполняя волю революции, постановил расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях над русским народом.
В ночь с 16 на 17 июля приговор этот приведен в исполнение.
Семья Романова, содержавшаяся вместе с ним, эвакуирована из Екатеринбурга в интересах обеспечения общественного спокойствия. Президиум Обласовета».
Такое объявление виднелось еще 25 июля на заборах, столбах и стенах домов города Екатеринбурга, и веселые, ожившие толпы народа, уничтожая всякие следы ненавистной былой советской власти, срывали и эти объявления, не думая худого, в радости давно желанного освобождения.
* * *
Общего ликования и чувств свободы и возрождения не разделяло в этот день, вероятно, лишь несколько лиц из жителей города и расположенных неподалеку Сысертского и Верх-Исетского заводов. Думается, что разные чувства обуревали этими людьми, разные причины влияли на особый уклад их мыслей и дум, и разно проявили они себя в этот и последующие дни по создании на Урале нового положения.
Н. А. Сакович.
Мрачно, беспокойно было, вероятно, на душе у доктора Николая Арсеньевича Саковича, проживавшего на Госпитальной улице в доме № 6. Верно, торопился он сжечь некоторые из своих бумаг; верно, со страхом и трепетом подбегал к окну смотреть на улицу; не идет ли кто-нибудь из новых властей к нему? Может, как Иуда, дрожал он, чувствуя неизбежность если не человеческого, то Божьего суда.
«Славным малым», «ухажером за сестрами», ловким и ласковым с начальством, любимцем самых младших офицеров, с кличкой «гусар», он во время немецкой войны был старшим врачом 5-й артиллерийской бригады. Всегда франтовато одетый, в галифе и со стеком, счастливый игрок в карты, первый во всех пирушках и пикниках и громче всех оравший «Боже, Царя храни!» – таков он был и таковым его застала в Москве, в отпуске, Февральская революция 1917 года.
«Еще в студенческие годы, – заявил он, вернувшись из отпуска в бригаду, – я был видным партийным работником партии социал-демократов». И каялся, что отсталое и реакционное общество офицеров дурно влияло на него. Он стал первым на митингах, первым по «углублению революции», первым в работе разрыва офицера с солдатом и говорил, что только он один в бригаде разбирается в моменте и может вести за собой солдат бригады.
Спустя год от Саковича услышали: «Я не принадлежу ни к какой партии и не принадлежал, но был записан в Екатеринбурге, в декабре, как сочувствующий в партию социалистов-революционеров». В январе 1918 года, по его словам, он отказывается принять звание областного комиссара здравоохранения и считает себя областным санитарным врачом, но принимает от Областного исполнительного комитета печать областного комиссара здравоохранения и на всех исходящих от него бумагах и распоряжениях ставит эту печать.
«Областного совета депутатов и исполнительного комитета я не знаю, – говорит он, – но знал только председателя Белобородова и комиссаров: Сафарова, Войкова, Голощекина, Юровского, Полякова, Краснова, Хотимского (все евреи), Тупетула (латыш), Сыромолотова, Анучина и Меньшикова (русские)».
Так было во всю службу его, всегда: чем он не был – его считали, что он был; чего он не хотел – его заставляли делать; чему он не сочувствовал – ему приходилось подчиняться. Всюду, по его рассказу, было или влияние среды, или принуждение обстоятельствами, или волей и силой других. Всюду было – но. Всюду в его жизни оно следовало за ним помимо его желания, помимо его добрых намерений.
Что же теперь, в этот день, могло бы заботить, омрачать и пугать его? Почему мог он пугаться прихода к нему новых властей? Казалось, свет свободы, проникший в город с нашими войсками, должен был бы больше всего обрадовать, осветить его душу, столь, вероятно, истомившуюся, исстрадавшуюся в этом ужасном, гнетущем подчинении воли и поступков, как повествует он сам… Теперь-то он мог стать тем, что есть, стать снова человеком…
Но мог ли?
Вероятно, в эти минуты воскресали в его памяти еще и другие картины из его жизни и деятельности, о которых он говорит так, между прочим, вскользь, как о виденном, но его будто не касавшемся и проходившем помимо его какого-нибудь участия.
Встает в его памяти полуосвещенная, в клубах накуренного табачного дыма, давно не убиравшаяся маленькая комната тайных заседаний президиума. Видит сидящих в ней за столом с диавольскими жестокими и иезуитскими лицами Сафарова, Голощекина, Войкова, Тупетула, Белобородова, их он запомнил хорошо; отчего? А, кажется, был и Юровский и, наверное, другие. Видит и себя самого среди них будто сидящим в стороне, на диване, за газетой: «Так как разбирался вопрос, не касавшийся здравоохранения».
И вспоминает, как дебатируются, а затем баллотируются вопросы: «устроить ли при перевозке бывшего Царя из Тобольска в Екатеринбург крушение поезда, или устроить “охрану” от провокационного покушения на крушение, или, наконец, привезти их в Екатеринбург». Помнит даже, что по этим вопросам были и какие-то сношения с центром, с Москвой…
Вышло последнее: перевезти в Екатеринбург – оно вернее.
А может быть, в эти переживаемые тревожные минуты видит он еще и другую картину, о которой он сам уже ничего не говорит, но которая слишком ужасно вырисовывается как предположение из данных следственного производства.
Лес густой, старая шахта, полянка; на ней пень от спиленной вековой сосны; какой-то врач сидит на пне, спиной к шахте, нервно теребит случайно оказавшийся в кармане медицинский справочник и роняет из него кругом листки; взялся за советскую газету, оторвал от нее кусок и бросил; нервно достал из другого кармана пакет с вареными яйцами, чистит их и разбрасывает кругом пенька шелуху. И откуда у него эти яйца? Не из тех ли это 50 яиц, которые Юровский велел принести на 16 июля монахиням из монастыря?
А там, у шахты, где толпятся 6–7 красноармейцев, свалены чьи-то хорошо одетые трупы, обрызганные, перепачканные теперь кровью и глиной. Слышится, быть может, знакомый голос: «Доктор, будьте добры, отделите палец, кольца не снять»… И палец отделен, хорошо, чисто, хирургически, и брошен в шахту.
Мог ли Сакович, даже если последнее не касалось его, стать тем, чем он был? Могло ли Божье правосудие не тяготеть над ним в этот светлый для других день, день освобождения Екатеринбурга от советской власти?[2]
* * *
М. И. Летемин.
На окраине города, на одной из грязнейших уличек – Васнецовской, во дворе дома № 71, в отдельном флигельке из одной комнаты и кухни, съежившись и прижавшись к темному углу сеней, жалобно и тихо стонала небольшая, длинной каштановой шерсти собачка. Слезились глаза от старости, и, казалось, так был грустен общий ее вид, что плачет она и стонет по какому-то большому, ей одной ведомому горю.
А собака явно была не ко двору в этом флигеле: порода иностранная и порода хорошая, редкая; шерсть длинная, пушистая, шелковистая, часто видавшая на себе мыло и гребенку; собака знала и разные фокусы: лапку давала, служила, но ни на какую русскую кличку не отзывалась.
Жильцы флигеля сидели тут же, в комнате. Жена, вероятно, плаксивым голосом, хныча, приставала к мужу:
– Что же теперь будет? Что же делать?…
Он, тупо уставившись взором в стол, с осовевшими от перепоя глазами, встрепанной бородой, неумытый, в чужих, слишком хорошего материала, частях костюма, тяжело, пьяно дышал и дымил одной папиросой за другой.
– Прячь пока что, – верно, только и был его ответ.
И вот из большого узла, сваленного при приходе в угол, спешно полетели куда попало: под кровать, в сундук, в ящик швейной машины, в темный чулан, за печку, под половицы – хорошие вещи, совершенно не отвечавшие обстановке и жителям флигеля, вещи, вещицы, принадлежности одежды, бумаги, книжки. Чего-чего не было среди них: четки из ракушек; образок овальный фарфоровый святителя Алексея, Митрополита Московского, оправленный в серебряный позолоченный ларец с мощами святителя внутри, золотой крест-ковчежец с изображением святителя Алексея и тоже с мощами внутри; книжка – собственноручный дневник наследника Цесаревича, приходо-расходная книжка денег из Канцелярии Ее Величества в красивом красном сафьяновом переплете; медный простой колокольчик, у которого язык был заменен медной подвешенной гайкой; фотографический панорамный аппарат Кодака; дорожный погребец, обтянутый черной кожей; коробка с электрическими лампочками; щеточка для обмахивания пыли с башмаков; черепаховый дамский гребешок; ногтевая заграничная щетка; обломок от хорошего зеркала; флакон с водой «Вербена»; рукоять от сломанного серебряного столового ножа; пакет с персидским порошком; градусник наружный Реомюра; четыре пуговки с бриллиантами и пять военных с гербами; черный шелковый зонтик; свечи белого воска, обвитые и разукрашенные золотом; маленькая подушка для втыкания булавок; два больших висячих зеленых замка; стекла волшебного фонаря; солдатики, лошадки и пушки оловянные, хорошие, специального заказа, наших гвардейских форм; белые тонкие глубокие фарфоровые тарелки с Императорскими гербами; банка белая фаянсовая; красный отточенный карандаш; накидки для подушек, наволочки, простыни, подушка пуховая, салфетки, скатерти, рубашки мужские, денные – и все с метками, Императорскими вензелями и коронами; скатерти вязаные белые, такие же малиновые; скатерти ковровые; покрышки шелковые на кровати; ботинки мужские; туфли дамские коричневые лайковые; ремень желтой кожи и много-много столь же разнообразного, разнородного чужого имущества, откуда-то набранного второпях.
Оставалось решить, что делать с собакой… Но не успели договориться.
25 июля, под вечер, в их комнате внезапно появились чины военно-уголовного розыска.
– Имя?
– Михаил.
– Отчество?
– Иванович.
– Фамилия?
– Летемин.
– Служили в охране дома особого назначения?
– Попался, – только и могло родиться в голове этого тупого, глупого исполнителя и подлого человека.
* * *
П. И. Лылов и Ф. И. Балмышева.
«Вот что, – говорил в этот день Петр Илларионович Лылов, бывший сторож при областном совдепе, Федосье Илларионовне Балмышевой, его гражданской жене и жительнице Верх-Исетского завода, – коль будут тебя спрашивать – так и говори, не таись и, что есть, покажи. Нам ничего не может быть. Что ж, что служили мы при Совете сторожами; а взять нам вещи разрешил сам Белобородов, да еврей этот, товарищ его, Сафаров, да братья Толмачевы и секретарь, прапорщик Мутных. Они ж тогда и увезли все самое ценное их тех вещей».
Жаль было Балмышевой расставаться с вещами; успела она уже кое-что раскроить и перекроить: уже почти готов был ее капот из раскроенного фисташкового, шелкового полотна, платья; ребенку перекроила платьице из бледно-розового, плотного шелка, платья и обшила его кружевцами, купленными на заводском базаре.
Но предъявила, все предъявила, до последней ниточки: и платья, и костюмы, и пуховые подушки, и скатерти, и салфетки, и жакеты, и блузочки, и отдельные юбки, верхние и нижние, лифчики, и белье дамское, и зимние меховые вещи, и шелковые каш-корсеты, и шали разные, и чулки дамские, и кусок канны, и детское вязаное одеяло, и зонтики шелковые муаровые, и четыре флакона косметики, и пульверизатор, и белое фарфоровое яйцо, и лампадку в виде чаши, и образок святого Иоанна Крестителя, и много-много иных вещей, то с вензелями членов Императорской Семьи, то с инициалами Гендриковой, Шнейдер и Татищева.
Но так и остались Лылов с Балмышевой в убеждении, что «начальство позволило – значит, можно» и «мы не виноваты».
* * *
М. Д. Медведева.
На Сысертском заводе в этот светлый для большинства жителей день сидела с тремя малыми ребятишками Мария Даниловна Медведева. Муж ее, Павел Спиридонович Медведев, пропал без вести.
Десять лет прожила она с ним в тихом, мирном и дружном сожительстве. Муж не пил, не буянил, был грамотный. Честно работал он в сварочном цехе завода, а приходя домой, сапожничал и зарабатывал достаточно семье на пропитание.
Жили очень дружно, очень хорошо.
Наступила революция. Муж продолжал работать на заводе, а занимался ли политикой? – «не расспрашивала, не моего ума дело».
Но вот незадолго перед Масленой записался он в красную гвардию и уехал на фронт в Троицк. Там начальником у него был комиссар Мрачковский. «А кто такой Дутов, с которым воевал он, – не знаю, не моего ума дело».
На Страстной муж вернулся и в середине мая записался в команду для охраны дома, в котором жила в Екатеринбурге Царская Семья. Нанимал тогда тот же Мрачковский, а недели через две муж вернулся для набора пополнения команды. Поручение это было дано ему комиссаром евреем Голощекиным. Так муж говорил.
Потом ездила и она сама четыре раза к мужу в город; жил он в доме Попова, напротив Ипатьевского дома по Вознесенскому переулку, где жила, как в казарме, и вся охрана, а мужу отведена была отдельная комната. Но за это время «он стал непослушный, никого не признавал и как будто свою семью перестал жалеть».
Стал и пить.
Последний раз, что ездила она к мужу, вернулся на завод с ней и муж, и тут, дома, рассказал, как убили всю Царскую Семью и как он сам стрелял. И рассказал все это совершенно спокойно. Но куда бросили убитых, не рассказывал, а «я не расспрашивала его о служебных делах, да это и дело не моего ума».
Дня через два уехал муж в город и с тех пор никаких сведений о нем не было. На прощание оставил сумочку кожаную ручную, а в ней: красный сафьяновый бумажник; две золотые запонки; марлевый бинт; медный циркуль; прямые, узкие докторские ножницы; три мельхиоровые вилки; два серебряных монастырских колечка, крытых эмалью.
И сидит Мария Медведева, и смотрит на возню детишек да на оставленные чужие вещи. Спросят ее про мужа, то верно все, все расскажет, спокойно расскажет, как муж рассказывал: и как жили хорошо они, и как стрелял муж в Царя и его детей, и все, что слыхала от него.
А если спросят: «А вещи чьи он принес?» – то верно ответит: «Не знаю, не моего ума дело» – потому что муж не говорил, чьи, а сказал, что «комендант дал».
* * *
Т. И. Чемадуров.
Из ворот Екатеринбургской городской тюрьмы, после того как ворвались туда наши добровольцы и освободили заключенных, одним из последних, широко крестясь и блаженно улыбаясь, вышел высокий, сухой, болезненный на вид и сгорбленный старик. Это был Терентий Иванович Чемадуров, камердинер бывшего Государя Императора.
Не такой старый годами, 69 лет, он сильно состарился за последние месяцы от болезни и тюрьмы, где был совершенно забыт большевиками. Выйдя 24 мая больным из дома Ипатьева, куда он попал, сопровождая Государя, Государыню и Великую княжну Марию Николаевну, привезенных в Екатеринбург 28 апреля, он вместо госпиталя или отправления на родину, как обещали комиссары, был заключен в тюрьму. И тут его все забыли. Совсем забыли.
Он знал, что за время его сидения в тюрьме большевики вывели куда-то содержавшихся там же Нагорного и Седнева, а потом Татищева и Долгорукова и, наконец, Гендрикову, Шнейдер, Волкова и сидевшую с ними княгиню Елену Петровну Сербскую, супругу князя Иоанна Константиновича.
Десять лет пробыл он камердинером у бывшего Государя Императора, а перед этим в той же должности 19 лет при Великом князе Алексее Александровиче. Вся домашняя жизнь Царя и его Семьи протекла на его глазах; видел их и на парадных приемах, и в семейном быту; видел их в величии царствования на троне и в величии страдания – в доме Ипатьева, и все существо его прониклось своим хозяином: «прекрасным семьянином, громадным, неутомимым работником, глубоко религиозным христианином и горячо любившим своего простого русского человека».
И теперь, по выходе из тюрьмы, шаги его, естественно, направились туда, где он оставил их в последний раз, – на Вознесенский проспект, к дому Ипатьева.
Пришел. Вошел с другими, тоже стремившимися туда; увидел разгром, хаос, пустоту разрушения; увидел кровь, пули и еще кровь, и… задумался.
«А сколько привезли вы сюда с собой вещей Государя?» – спросили его.
«Одну дюжину ночных, одну дюжину денных, одну дюжину тельных шелковых рубашек; три дюжины носков, 200 носовых платков, одну дюжину простынь, две дюжины наволочек, три мохнатых простыни, двенадцать полотенец ярославского холста, четыре рубахи защитные, три кителя, пальто офицерское, пальто солдатского сукна, короткую шубу из романовских овчин, пять пар шаровар, серую накидку, шесть фуражек, шапку зимнюю, семь пар сапог шевровых и хромовых».
«Куда же это все делось теперь?»
Молчал старик и думал…
«Ничего не знаю, – сказал наконец, – ничего не знаю, что постигло моего Государя и его Семью»…
А через десять дней, едучи к своей семье в Тобольск и встретив в Тюмени Жильяра, воспитателя наследника Цесаревича, крестясь, радостно говорил ему: «Слава Богу, Государь, Ее Величество и дети живы. Расстреляны Боткин и все другие».
«Трудно было понимать Чемадурова, – рассказывал Жильяр, – потому что он говорил без всякой связи».
Через три месяца старик умер в Тобольске, унося особой в могилу тайну своего заявления Жильяру. Было ли то внушение за время пребывания в Екатеринбурге? Было ли то самовнушение, как убеждение в невозможности допустить такое бесчеловечное злодеяние? Был ли это результат веры, что коронованные родственники не могли спасти их?
* * *
В. Н. Деревенько
Одним из первых, встретивших вступление наших войск в Екатеринбурге, был доктор Владимир Николаевич Деревенько; это бывший врач наследника Цесаревича.
Когда 8 марта 1917 года в Царском Селе генерал Корнилов объявил об аресте Государыни Императрицы и предупредил придворных чинов, что «кто хочет остаться и разделить участь арестованной, пусть остается, но решайте это сейчас же: потом во дворец уже не впущу», – доктор Деревенько остался в числе добровольно арестованных при больном в то время корью наследнике Цесаревиче.
В ночь с 31 июля на 1 августа Царская Семья, по постановлению Совета министров Временного правительства, покинула Царское Село и выехала для следования в Тобольск. Доктору Деревенько, как исключение, Керенским был дан отпуск и он приехал в Тобольск позже, вместе со своей семьей. Отдельно от Царской Семьи, но для присоединения к ней, приехали, также позже, в Тобольск фрейлина Ее Величества баронесса Буксгевден, камер-юнгфера Занотти, комнатные девушки Романова и Уткина и дети лейб-медика Боткина, но разрешили посещение Царской Семьи только доктору Деревенько.
23 мая 1918 года Царских детей в сопровождении оставшихся в Тобольске придворных комиссары Родионов и Хохряков привезли в Екатеринбург. Наследника Цесаревича и Великих княжон Ольгу, Татьяну и Анастасию Николаевен с Нагорным, Харитоновым, Труппом и мальчиком Седневым советские власти помещают в Ипатьевский дом, где уже живут в заключении раньше привезенные Государь, Государыня и Великая княжна Мария Николаевна, доктор Боткин, Демидова, Чемадуров и Седнев. Затем Татищева, Гендрикову, Шнейдер и Волкова увозят с вокзала в тюрьму, где уже содержался приехавший в Екатеринбург с Государем Долгоруков. Остальным комиссары объявляют: «Вы нам не нужны» – и приказывают покинуть пределы Пермской губернии.
Доктору Деревенько и здесь оказывается возможным составить исключение: он берет свои вещи, оставляет вагон, и в то время, как остальных прицепляют к поезду и отправляют в Тюмень, он нанимает в городе комнату на частной квартире, живет спокойно все время здесь, и 25 июля застает его в Екатеринбурге.
Исключение не ограничивается только жизнью в городе: доктор Деревенько посещает, вначале довольно часто, заключенных в доме Ипатьева и пользует больного наследника Цесаревича.
Одновременно он работает в городе на частной практике и приобретает обширную клиентуру почти исключительно среди многочисленного еврейского населения города.
Когда в Екатеринбург приехал некий Иван Иванович Сидоров и стал искать возможности установить сношения с заключенными в Ипатьевском доме, его направили к доктору Деревенько. Последний сговаривается с бывшим в то время комендантом дома особого назначения Авдеевым и лично дает распоряжение о ежедневной доставке Царской Семье молока, яиц, масла и пр.
Но вот 5 июля вместо Авдеева комендантом назначается Янкель Юровский. Принесших в этот день молоко и прочее женщин задерживает охрана; выходит Янкель Юровский: «Кто носить дозволил?»
«Авдеев приказал по распоряжению доктора Деревенько».
«Ах, доктор Деревенько. Значит, тут и доктор Деревенько», – отмечает Янкель Юровский.
Числа 6–7 июля Деревенько был приглашен Янкелем Юровским в дом Ипатьева и после этого посещения прекратил навещать заключенного больного наследника Цесаревича, а поступил на службу в советский военный госпиталь.
Янкель Юровский не простой еврей – житель Екатеринбурга; он не только комендант дома особого назначения, он вместе с областным военным комиссаром евреем Исааком Голощекиным – секретные главари местной областной чрезвычайки.
Наступают ужасные дни 8 – 18 июля: пристреливают Татищева, Долгорукова, Нагорного, Седнева, Боткина, Демидову, Харитонова, Труппа; выполняются кровавые трагедии в Ипатьевском доме, в Алапаевске; перевозятся в Пермь для расстрела позже Гендрикова, Шнейдер, Волков…
Доктор Деревенько 25 июля участвует в торжественных встречах и чествованиях наших войск в Екатеринбурге.
Когда 17 июля по обыкновению женщины принесли в дом Ипатьева молоко, им объявили: «Идите и больше не носите». Узнав потом о расстреле бывшего Царя и о вывозе Семьи, они бросились к доктору Деревенько… «Доктор ничего не знал, сильно смущен был и в лице изменился».
Он приглашен офицерами на розыски тел у шахты в Коптяковском лесу; он участвует в протоколах осмотра дома Ипатьева следственной властью. Когда на дне шахты находят хирургически отделенный чей-то палец и вставную верхнюю челюсть доктора Боткина, доктор Деревенько авторитетно и категорически заявил: «Палец – это доктора Боткина». «Палец, – говорит экспертиза в Омске, – тонкий, длинный; палец принадлежит человеку, привыкшему к маникюру; палец – выхоленный; палец можно скорее признать принадлежащим женщине».
Странно, что Чемадуров, в бессвязном повествовании Жильяру еще до находки пальца, но видавшись в Екатеринбурге с доктором Деревенько, говорит, что убиты Боткин и все другие, а Государь и вся его Семья живы.
Когда исполняющим дело прокурором Кутузовым через газетные объявления приглашались для показания все что-либо знавшие по Царскому делу, доктор Деревенько не пришел дать своих показаний. Он не был допрошен никем: ни следователем Наметкиным, ни членом суда Сергеевым, ни прокуратурой – никем. А когда дело перешло в руки следователя Н. А. Соколова, горячо взявшегося за допросы всех состоявших при Царской Семье придворных, доктора Деревенько в Екатеринбурге не оказалось: он перевелся куда-то в глубь Сибири, а ныне остался в Томске у большевиков.
Странный характер имел доктор Деревенько, странный был человек.
Если для жителей города Екатеринбурга, истомленных гнетом советского режима, день 25 июля был светлым, радостным праздником, то для вступивших в город русских людей этот день был полон самых тяжелых, ужасных новостей. Никто не хотел верить в возможность убийства всей Царской Семьи; никто не мог допустить существования в человеке, в людях зверства такого небывалого размера. Слухи, одни фантастичнее других, одни невероятнее других, быстро распространялись по городу, и все цеплялись за малейшие лучи надежды, отталкивая от себя кошмарную картину, которую поневоле выставляли комнаты дома Ипатьева.
При таком тяжелом настроении люди приступили к розыскам правды.
Белогвардейские заговоры
И в объявлении Президиума Уральского обласовета, и в сообщении Президиума ЦИК в Москве советские власти в объяснении причин, вынудивших их прибегнуть к расстрелу бывшего Царя Николая II без суда и в спешном порядке, как на один из главнейших аргументов ссылаются на открытые ими белогвардейские заговоры, имевшие будто бы целью вырвать из их рук отрекшегося Государя и его Семью. Председатель ЦИК Янкель Свердлов, как видно из «публикации» центральной власти, счел нужным напомнить своим коллегам о раскрытии в свое время такого же белогвардейского заговора в Тобольске, побудившего тогда советскую власть перевезти Царскую Семью в Екатеринбург – пункт, считавшийся, по-видимому, более обеспеченным как центр их силы и власти на красном Урале. Документы о раскрытом заговоре, имевшем целью похитить бывшего Царя в Екатеринбурге, Янкель Свердлов обещал разобрать и опубликовать в ближайшие дни.
Могли ли быть у советской власти фактические основания опираться в своих объяснениях на опасность таких белогвардейских заговоров? Существовали ли вообще заговоры для похищения Царской Семьи в Тобольске или Екатеринбурге, и какова была их реальная сила и вытекавшая отсюда степень опасности для «правосудия» советской власти? Какие, наконец, документы обещал опубликовать для всеобщего сведения Янкель Свердлов как доказательство заговоров офицеров и вообще белогвардейцев?
Эти вопросы, независимо от их значения для самого дела, чрезвычайно существенны в интересах исторических и национальных. Естественно, что конспиративность как самих заговоров, так и еще более истинной работы главарей советской власти значительно затрудняет всестороннее освещение этих вопросов и безусловное установление фактической правды, но сделать попытки в этом направлении необходимо.
В июне 1918 года в Москве, в обществе и среди некоторых кругов советских деятелей, распространились упорные и тревожные сведения и слухи, что где-то и кем-то совершено убийство Царя. Переполох в определенных советских сферах, вызванный распространением этих сведений, по-видимому, был большой. Слухи, все нарастая и нарастая, достигли такой степени реальности, что 20 июня председатель Екатеринбургского совдепа получил из Москвы такой официальный запрос:
«В Москве распространились сведения что будто бы убит бывший Император Николай Второй сообщите имеющиеся у вас сведения. Управляющий делами совета народных комиссаров Владимир Бонч-Бруевич. 499».
Кажется, особенного беспокойства этот запрос в екатеринбургских деятелях не вызвал; на запрос была положена своеобразная для существа запроса резолюция: «копию телеграммы сообщить Известиям и Уральскому Рабочему, а затем, разными почерками, о жильцах дома Ипатьева», «В дело Цар.» и снова – «к делу о жильцах в д. Ипатьева».
Но волнение в Москве, видимо, серьезно охватило официальные общественные советские сферы: вслед за указанным запросом Бонч-Бруевича 21 июня шлет телеграмму Екатеринбургскому президенту Совдепа комиссар ПТА товарищ Старк:
«Срочно сообщите достоверности слухов убийстве Николая Романова вестнику точка 887».
Резолюция: «Ответ посл.» и «к делу о жильцах д. Ипатьева».
Но или ответа не было, или таковой задержался, и 24 июня тот же Старк шлет в Екатеринбург комиссару советского органа «Известия» товарищу Воробьеву новую телеграмму:
«Прошу срочно сообщить достоверности слухов убийстве Николая Романова очень важно».
Однако нельзя не обратить внимания, что интересуются правдивостью слухов об убийстве бывшего Императора не Янкель Свердлов, с которым, как видно из брошенных бумаг и дел, почти исключительно сносились главари Екатеринбургского президиума по всяким политическим делам, а или российский полоумный негодяй Бонч-Бруевич, или немецко-шведский сотрудник советов Старк.
При расследовании дела были косвенные указания на то, что именно в этот период произошел разговор по прямому проводу между Лениным и командующим армией Берзиным, сущность которого будто бы сводилась к тому, что Ленин возлагал ответственность за безопасность бывшего Царя на Берзина. Происходил ли такой разговор в действительности – неизвестно, но нижеприводимый документ позволяет думать, что что-нибудь подобное было. Мало того, документ этот, во-первых, объясняет, почему Ленин мог иметь разговор именно с командующим армией, а во-вторых, дает определенный ответ: какого убийства опасались и ожидали в Москве? Откуда, по московской молве, скорее всего можно было ожидать опасности? И наконец, кто распускал в Москве сведения об убийстве?
Вот этот документ:
«Три адреса. Москва, Совнаркому, Нарком. воен., бюро печати, ЦИК.
Мною полученных Московских газетах отпечатано сообщение об убийстве Николая Романова на каком-то разъезде от Екатеринбурга красноармейцами. Официально сообщаю что 21 июня мною с участием членов В. военной инспекции и военного комиссара Ур. военного округа и члена всерос. след. комиссии был произведен осмотр помещений как содержится Николай Романов с семьей и проверка караула и охраны все члены семьи и сам Николай жив и все сведения об его убийстве и т. д. провокация. 198. 27 июня 1918 года, 0 часов 5 минут. Главнокомандующий Североуралосибирским фронтом Берзин».
Так вот откуда в некоторых московских сферах и в массе населения, вероятнее всего, допускался заговор, ожидалась возможность опасности: не о белогвардейском освобождении думала масса, не на нем строилась молва, а росли слухи, вытекая из хорошего знания своих сотрудников, своих деятелей – советского воинства, красноармейцев. Это – глас народа, а не «публикации» Янкеля Свердлова. Вот почему мог иметь место и разговор Ленина с Берзиным, с командующим этими красноармейцами; а возлагал ли Ленин при этом ответственность за жизнь бывшего Царя на Берзина – не все ли равно. Склонность Ленина к тактическим маневрам слишком хорошо известна, чтобы можно было придавать серьезное значение такому обязательству Берзина.
Тем не менее не бывает дыма без огня: волнениям и беспокойствам народных масс Москвы, к сожалению, причины были. В это именно время в Перми был убит тремя членами Мотовилихинской чрезвычайки Великий князь Михаил Александрович. Скрыть убийство, как ни старались советские власти, очевидно, не удалось: сами убийцы рассказывали приятелям о нем. Вероятно, передаваясь из уст в уста, это убийство, докатившись до Москвы, и послужило основанием для создавшихся слухов об убийстве бывшего Государя. Может быть, Янкель Свердлов понимал это, почему и не проявлял интереса к слухам, волновавшим Бонч-Бруевича.
Но если Янкель Свердлов был индифферентен к слухам, то по каким-то иным причинам он в это же примерно время был сильно озабочен также судьбою бывшего Царя и Его Семьи, но, по-видимому, совершенно в другом отношении. В эти знаменательные дни убийств на Урале членов Дома Романовых у Янкеля Свердлова жил вызванный или приехавший самостоятельно – неизвестно – один из виднейших екатеринбургских советских деятелей областной военный комиссар Исаак Голощекин. Пребывание его в Москве связывалось с вопросами, обсуждавшимися и разрешавшимися в отношении именно судьбы Царской Семьи. По поводу ее Екатеринбургу были даны указания центральной властью.
Какие это могли быть указания, какие особые обстоятельства могли влиять на них, рассматриваться будет в своем месте. Здесь же, в отделе о заговорах, необходимо отметить лишь то, что если допустить, что советские власти были вынуждены расстрелять бывшего Царя без суда и в срочном порядке, побуждаемые какими-то насильственными намерениями людей противного лагеря, то безусловно устанавливается, что о таковых намерениях советские власти знали задолго до совершения «казни», почему имели время не только произвести суд, но и вывезти для суда в другое место. Вот этот документ, который уже был приведен выше: «Сыромолотов как раз поехал для организации дела согласно указаний центра», – телеграфирует 4 июля Белобородов через Сыромолотова Голощекину, – «опасения напрасны точка Авдеев сменен, его помощник Мошкин арестован точка вместо Авдеева – Юровский, внутренний караул весь сменен, заменяется другим точка № 4558».
С 4 до 16 июля времени было достаточно, чтобы судить, вывезти и вообще принять при желании много иных мер. Следовательно, первая ложь, допущенная советской властью в своем официальном оповещении, это – необходимость спешной казни.
Но вот на какие мысли наводит еще эта телеграмма Белобородова: чего опасались Янкель Свердлов и Исаак Голощекин?
Телеграмма Белобородова является ответной на неизвестный запрос Голощекина; в Ипатьевском доме в охране заключенных произошло какое-то чрезвычайно серьезное событие. Произошло оно после 27 июня, так как Берзин все проверял, осматривал, ничего опасного не нашел и, будучи достаточно крупным советским деятелем, ничего о нем не знал, посылая в Москву свое донесение. Произошло оно не позже чем за один-два дня до 4 июля, так как Голощекин, посылая свой запрос, должен был, в свою очередь, получить из Екатеринбурга извещение о происшедшем событии. Получается такая картина: в то время когда Берзин доносил, что в доме Ипатьева все обстоит благополучно, в действительности в доме оказывалось так неблагополучно, что пришлось сместить коменданта, арестовать его помощника и заменить всю внутреннюю охрану.
Теперь уже известно, что советские власти объяснили внезапную смену 4 июля Авдеева, Мошкина и охраны тем обстоятельством, что у Мошкина был найден золотой крестик, украденный им у Царской Семьи. Неужели этой покражи так испугались Янкель Свердлов и Исаак Голощекин? Ясно и определенно одно, что, во всяком случае, не офицерского или белогвардейского заговора в Екатеринбурге испугались главари советской власти, ибо не стали бы они покрывать его ложью об украденном крестике, а, вероятно, постарались бы использовать в полной мере обнаруженный заговор, чтобы расправиться с виновными и нежелательными им невиновными.
Между тем время шло, убили в Москве Мирбаха, подавлено эсеровское восстание, немцы отказались от ввода своих войск в Москву, возможность войны с ними миновала, совершились «казнь Николая Романова» в Екатеринбурге, «похищение Великих князей» в Алапаевске, «бегство» Великого князя Михаила Александровича в Перми, прошел июль, август, сентябрь, миновал весь 1918 год, а обещанного Янкелем Свердловым опубликования документов о белогвардейском заговоре все не появлялось.
Наступила весна 1919 года. На горизонтах царства пятиконечной звезды снова начали сгущаться грозовые тучи, напоминавшие главарям советской власти начало лета 1918 года.
С востока быстрым потоком снова устремились к берегам матушки-Волги молодые войска омского правительства; с юга двинулась объединенная добровольческо-казачья рать генерала Деникина; с юго-запада зашевелились снова гайдамаки Петлюры; с севера, усилившись союзниками, угрожал Архангельск; с северо-запада приближался Юденич и что-то там около него и за ним зашевелилось опять немецкое, эти былые хозяева октябрьских дней 17-го года и счастливой эпохи расцвета смольного могущества «русского пролетариата».
Гроза надвигалась серьезная, сильная. Можно было ждать, что немцы подкрепят «белогвардейские банды» и, чего доброго, соединятся с союзниками против своих же былых холопов, отказавшихся платить по договорам.
Цель оправдывает средства, не надо брезговать ничем; это так легко и привычно совдеповским заправилам. К их услугам агенты повсюду, агенты их же племени, или примыкающие к ним из народов всех стран мира. Вспомнили при этом и о Царском деле – деле «А», как именуется оно в советских канцеляриях; снова подумали о необходимости подготовить тыловые пути и почву для будущей деятельности и будущей победы окончательной.
И вот в марте месяце в «их» иностранной прессе появляются статьи, заметки, интервью, явно представляющие минувшие события в благоприятном для советских главарей свете.
Длинно перепечатывать их, но некоторые носят настолько характерный отпечаток своего происхождения, что в интересах исторических необходимо примириться с некоторой длиннотой повествования.
Вот статья из газеты «Майничи Хроникл»:
«Друг одного из корреспондентов английской газеты «Морнинг пост», только что прибывший из Петербурга, рассказывает, что Великий князь Кирилл получил 18 ноября письмо от Великой княжны Татьяны, в котором говорится, что Царица и Великие княжны находятся в безопасности и что Царь расстрелян не был. Согласно этого письма, один большевистский офицер вошел к Царю и объявил ему, что он назначен для приведения в исполнение смертного приговора. На вопрос – нет ли способа избежать этого, он ответил, что сам он относится к этому индифферентно, но что ему надо иметь обезображенное тело, как доказательство приведения в исполнение данного ему приказания. Какой-то граф, имя которого в письме не упоминается, предложил себя на место Царя. Царь настойчиво протестовал. Но граф настаивал, и большевистский офицер кончил спор тем, что застрелил графа, согласно его желания. В это время Царь воспользовался моментом и скрылся неизвестно куда».
В этой заметке интересны намеки на якобы существовавшие дружественные отношения между Великой княжной Татьяной Николаевной и Великим князем Кириллом Владимировичем и на убийство какого-то графа вместо Государя. Это последнее, по существу, является удивительно похожим на сумасшедший бред Чемадурова, который утверждал, что убиты Боткин и другие, а Государь и Царская Семья спаслись. С другой стороны, бесследное исчезновение всей Царской Семьи снова является попыткой провести идею якобы существовавшего заговора для похищения.
А вот другая, более длинная, но чрезвычайно фантастическая статья. Представлена она в виде интервью корреспондента «Нью-Йорк таймс» господина Аккермана с каким-то мифическим камердинером покойного Государя Парфеном Алексеевичем Домниным:
«Начиная с первых дней июля, над городом появились аэропланы и летали довольно низко, бросая иногда бомбы, в большинстве не приносящие вреда. В то же время появились слухи, что чехословаки приготовляются занять город. В один из таких вечеров Николай вернулся со своей обычной прогулки по саду в необычайном возбуждении; помолившись перед иконою Николая Чудотворца, он бросился на кровать не раздеваясь; никогда раньше он так не делал.
– Позвольте мне вас раздеть, – сказал я.
– Не беспокойся, старина, – ответил Николай. – У меня тяжело на сердце, и я чувствую, что уже недолго проживу. Может быть, сегодня… – И бывший Царь не кончил фразы.
– Бог с Вами, что Вы говорите, – возразил я. И он рассказал мне, что во время прогулки в саду он получил известия о заседании специального комитета Совдепа казачьих и красноармейских депутатов Урала, которое должно вырешить его судьбу ввиду слухов, что он собирается бежать к чехословакам, в свою очередь обязавшимся будто бы вырвать его из рук Советов. “Я не знаю, что может случиться”, – сказал Николай в заключение.
Царь содержался под строжайшим надзором: ему не позволялось ни покупать газет, ни даже выходить сверх краткого времени для прогулок; прислуга постоянно обыскивалась, и меня один раз, например, заставили снять решительно все с себя, подозревая, что я проношу письма. Еду давали скудно, да и то она состояла, главным образом, из картофеля и селедок. Хлеба же давали по полфунта в день на каждого члена семьи. Царевич все это время болел. Раз он вбежал в комнату отца в слезах, и совершенно вне себя бросился на руки к отцу, и сквозь рыдания едва выговорил:
– Милый папа, они хотят тебя застрелить.
– Воля Божья во всем, – ответил Царь, – но, милый мальчик, будь спокоен, будь спокоен. Где мама?
– Мама плачет.
– Поди попроси маму перестать плакать. Божья воля должна свершиться.
– Папа, папа, – плакал Царевич, – ты и так уже много страдал, за что же они хотят тебя убить?
– Алексей, – сказал Царь, – я прошу тебя об одном – пойди и успокой маму.
Царевич вышел, а Николай стал на колени перед иконой и долго молился. Он вообще проводил за молитвой много времени; и если пробуждался по ночам, то уже больше не засыпал, а все время молился.
Лишь иногда ему разрешалось видеть Царицу “Алису”, так он звал ее. Раз и она пришла в слезах и сказала:
– Ты должен привести все свои письма и документы в порядок, дай свои последние распоряжения и завещание.
После этого Николай проводил ночи за письмами.
Он написал много; среди писем были: к дочерям, к брату Михаилу Александровичу, к дяде Николаю Николаевичу, к генералу Догерту, князю Гендрикову, графу Олсуфьеву, принцу Ольденбургскому, графу Сумарокову-Эльстону и многим другим. Он не запечатывал письма, потому что их тщательно цензуровали в Советах, и случалось нередко, что письма возвращались с пометкой: “Не отправлять”. Часто Николай целыми днями ничего не ел и все молился; было ясно, что он сильно беспокоился и болел сердцем. Поздним вечером 15 июля в комнату Царя вошел комиссар охраны и объявил:
– Гражданин Николай Александрович Романов, вы должны отправиться со мною в заседание Совета рабочих, казачьих и красноармейских депутатов Уральского округа.
– Скажите откровенно, – возразил Николай, – что вы желаете увести меня для расстрела.
– Нет, не опасайтесь, – ответил комиссар, улыбаясь, – вас требуют на заседание.
Николай поднялся с кровати, надел свою серую солдатскую рубаху, сапоги, опоясался и вышел с комиссаром. Два солдата стояли у дверей, а три других окружили и стали обыскивать бывшего Царя. После этого один из латышей пошел впереди, Царя поставили за ним, потом стал комиссар, в хвосте – остальные солдаты. Николай Александрович не возвращался долго, почти два с половиной часа. Он был очень бледен, и подбородок его нервно дрожал.
– Дай мне, старина, воды, – сказал он мне.
Я принес, и он залпом выпил большой стакан.
– Что случилось? – спросил я.
– Они мне объявили, что через три часа я буду расстрелян, – ответил мне Царь.
На заседании в присутствии Николая II были прочитаны все детали контрреволюционного заговора тайной организации “защиты родины и свободы”. Там указывалось, что организация стремилась подавить “рабоче-крестьянскую революцию, подстрекая массы против советской власти, обвиняя советы во всех злодействах и несчастиях, постигших страну, которые были причинены всему свету империализмом, войною, кровопролитиями, голодом, недостачей работы, расстройством транспорта, продвижением немцев и т. д.”. Организация намерена была объединить все несоветские фракции и социалистов наравне с монархистами.
Документы указывали, что всех своих намерений организация не смогла осуществить из-за несогласия правого крыла с левым и что во главе заговора стоял личный друг Царя – генерал Догерт. В организацию входили и представители рабочих кругов, как-то: князь Кропоткин, генерального штаба полковник Сукарт, инженер Ильинский, и были также причины думать, что Савинков был в непосредственных отношениях с этой организацией и что именно Савинков предполагался во главе нового Правительства как военный диктатор. Все эти лица соблюдали очень строгую конспирацию. Боевую группу в Москве составило около 700 офицеров; но после их переправили в Самару, где и ожидались подкрепления от союзников для восстановления Уральского фронта, которым отделялась бы Великороссия от Сибири. Затем, когда дело уже началось бы, предполагалось мобилизовать всех сочувствующих, свергнуть Советы и вновь выступить против Германии.
Документально указывалось, что в заговоре участвовали такие социалистические партии, как народные социалисты, правые социал-революционеры, отчасти меньшевики в согласии с кадетами. Главный штаб организации находился в сношениях с генералами Дутовым и Деникиным. За самые же последние дни был обнаружен и еще новый заговор, которым, при содействии генерала Дутова, предполагалось вырвать Николая II из советских рук. Кроме того, там же, на заседании, указывалось, что Царь поддерживал секретную переписку с личными друзьями, с генералом Догертом, который якобы в одном из писем советовал Царю приготовиться к возможности освобождения.
Ввиду такого положения вещей и решения эвакуировать в Екатеринбург, совещание решило предать Царя Николая Александровича смертной казни без дальнейшего промедления.
– Гражданин Николай Романов, – объявил председатель совета, – объявляю вам, что вы располагаете тремя часами для устройства своих дел. Стража, я предупреждаю вас, иметь строжайшее наблюдение за Николаем Романовым и не спускать с него глаз.
Вскоре после возвращения Николая II с заседания к нему вошла Александра Федоровна с Царевичем; оба плакали. Царица упала в обморок, и был призван доктор. Когда она оправилась, она упала на колени перед солдатами и молила о пощаде. Но солдаты отозвались, что это не в их власти.
– Ради Христа, Алиса, успокойся, – сказал Николай II несколько раз тихим голосом.
Он перекрестил жену и сына, подозвал меня и сказал, поцеловав:
– Старина, не покидай Александры Федоровны и Алексея; ты знаешь, у меня никого больше нет, и не останется никого помочь им, когда меня уведут.
Впоследствии выяснилось, что кроме жены и сына, никого не допустили попрощаться с Николаем II. Царь, его жена и сын оставались вместе, пока не прибыл председатель совета с пятью другими солдатами и еще двумя рабочими, членами совета.
– Наденьте пальто, – сказал председатель Царю. Николай II не потерял самообладания и стал одеваться. Он еще раз затем поцеловал и перекрестил жену, сына и слугу и, обратившись к прибывшим, сказал:
– Теперь я в вашем распоряжении.
Царица и Царевич забились в истерике, и когда я бросился помочь, председатель сказал мне:
– Это вы можете сделать потом; теперь же не должно быть никакого промедления.
– Позвольте мне идти за моим господином, – просил я.
– Никто не должен сопровождать его, – ответил председатель.
Царя взяли и увезли, никому не известно – куда, и тою же ночью он был расстрелян двадцатью красноармейцами.
Еще до рассвета, тою же ночью, 15 июня, председатель совета пришел опять. С ним были несколько красноармейцев, доктор и комиссар охраны. Они вошли в ту же комнату, где содержался Царь, и доктор оказал помощь потерявшим чувства Александре Федоровне и Царевичу. После того председатель совета спросил доктора:
– Можно ли взять их немедленно?
– Да, – ответил тот.
– Граждане Александра Федоровна Романова и Алексей Романов, – объявил председатель, – вы будете увезены отсюда; вам разрешается взять только самое необходимое не свыше 30 или 40 фунтов.
Стараясь овладеть собою, мать и сын бросались из стороны в сторону и были скоро готовы. Председатель не разрешил им попрощаться со своими близкими и все время торопил их.
– И вы, старик, – сказал он мне, – уходите прочь отсюда. Теперь никого не останется, кому бы вы могли служить.
И, обращаясь к комиссару, он прибавил:
– Завтра же вы должны убрать его отсюда.
Царицу и ее сына взяли в автомобиль и куда увезли – неизвестно. Наутро комиссар велел мне уйти и позволил взять несколько вещей бывшего Царя; все же документы и письма были взяты стражею. Мне было очень трудно раздобыть даже железнодорожный билет, потому что вокзал и все районы занимались красноармейцами, увозившими ценные вещи из города».
Казалось бы, что всю эту лживую и пошлую по форме статью можно было бы не воспроизводить. Кто из русских когда-нибудь слышал о существовании у бывшего Государя друга – генерала Догерта, – или «князя» Гендрикова, или кто слышал о существовании генерального штаба полковника Сукарта, да и самого камердинера Домнина? – все это сплошная ложь, а форма разговора между Царем и камердинером – просто пошлость. Ни для кого не может быть сомнения, что все это интервью полная выдумка.
Но тем не менее статья имеет и много существенного для дела. Разве, по соответствию со всеми заявлениями советских властей, эти документы о раскрытом заговоре не представляются именно теми измышленными в Москве документами, которые хотелось бы иметь Янкелю Свердлову, чтобы опубликовать как подтверждение принятого решения для казни Николая Романова? В свое время Янкель Свердлов этого не сделал; не сделал потому, что обстановка сложилась благоприятно для Москвы, а потому советская власть и не сочла нужным трудиться над изобретением документов. Теперь же обстановка опять ухудшилась, надо было расположить мир в свою пользу, и вот создается не существовавший верный слуга бывшего Императора и его устами оповещает всю заграницу в желательном для советской власти смысле.
Суть приведенного интервью преследовала три цели:
1) представить миру картину якобы произведенного над отрекшимся Императором народного суда с подробной мотивировкой причин, побудивших власть к принятию спешного решения;
2) надо было, по обстоятельствам тогдашнего времени, припугнуть немцев возможностью создания на Урале Сибиро-союзного фронта и коалиции всех противных Советам партий против Германии;
3) подготовить почву для благоприятного принятия запоздалого опубликования тех документов, которые советская власть все же считала необходимым выпустить главным образом уже для российского общественного мнения.
Но раньше чем перейти к этим последним документам, необходимо отметить еще одну черту, проскальзывающую в приведенном интервью, служащую подтверждением предположения, что инспираторами этой статьи могли быть только сами советские деятели. В статье, при всей общей ее фальшивости, проскальзывают некоторые верные детали совершенного преступления.
Так, например: в составе ближней охраны был латыш; приехали поздно ночью в дом, чтобы вести на расстрел, председатель и два члена из совдепа. Эти детали вполне совпадают с тем, что было фактически, и легче всего проскальзывают в лживых повествованиях тогда, когда их рассказывает сам участник факта.
3 апреля 1919 года радио Москва – Будапешт разнесло по всей России и по всему миру следующее сообщение из «Вечерних Советских Известий».
«Продолжение начатого 2 апреля опубликования документов по делу о попытке к побегу Николая II.
Анонимный корреспондент, обменивавшийся письмами с Романовыми, пишет:
“С Божьей помощью и с Вашим хладнокровием надеемся достичь нашей цели, не рискуя ничем. Необходимо расклеить одно из Ваших окон, чтобы Вы могли его открыть, я прошу точно указать мне окно. В случае если маленький Царевич не может идти, дело сильно усложнится, но мы и это уже взвесили, и я не считаю это непреодолимым препятствием. Напишите точно, нужны ли два человека, чтобы его нести, и не возьмет ли это на себя кто-нибудь из вас. Нельзя ли было бы на 1 или 2 часа на это время усыпить “маленького” каким-нибудь наркотиком. Пусть решит это доктор, только надо Вам точно предвидеть время. Мы доставим все нужное. Будьте спокойны. Мы не предпримем ничего, не будучи совершенно уверены в удаче заранее. Даем Вам в этом торжественное обещание перед лицом Бога, истории, пред собственною совестью. Офицер”.
«Несмотря на обещание, эта попытка окончилась расстрелом Николая II.
Ответ Романова на письмо «офицера» еще длиннее самого письма:
“Второе окно от угла, выходящее на площадь, стоит открыто уже два дня и даже по ночам. Окна 7-е и 8-е около главного входа, тоже выходящие на площадь, точно так же всегда открыты. Комната занята комендантом и его помощниками, которые составляют в данный момент внутреннюю охрану. Их 13 человек, вооруженных ружьями, револьверами и бомбами. Ни в одной двери, за исключением нашей, нет ключей. Комендант и его помощники входят к нам, когда хотят. Дежурный делает обход дома ночью 2 раза в час, и мы слышим, как он под нашими окнами бряцает оружием. На балконе стоит один пулемет, а под балконом другой на случай тревоги. Не забудьте, что с нами будет доктор, горничная и маленький кухонный мальчик. Было бы низко с нашей стороны (хотя они ни в коем случае нас не затруднят) оставить их тут после того, как они добровольно последовали за нами в изгнание. Напротив наших окон по той стороне улицы помещается стража в маленьком домике. Она состоит из 50 человек. Все ключи и ключ № 9 находятся у коменданта, который с нами обращается хорошо. Во всяком случае известите нас, когда представится возможность, и ответьте, можем ли мы взять с собой наших людей. Перед входом всегда стоит автомобиль. От каждого сторожевого поста проведен звонок к коменданту и провода в помещение охраны и другие пункты. Если наши люди останутся, то можно ли быть уверенным, что с ними ничего не случится?”
К нам попал в руки дневник Николая Романова за 1917 и 1918 г. Под 10 июня 1918 г. записано: “Сегодня утром у нас открыли окно”; 14/6: “Мы провели неспокойную ночь и, не раздеваясь, бодрствовали”. Дальше, под 28/6: “Около половины 11-го утра подошли к открытому окну 3 рабочих, подняли тяжелую решетку и укрепили ее снаружи в окне». 30/6 кончается дневник Николая Романова”».
Эта заметка «Вечерних Известий», по заявлению советских властей, представляла те «документы о заговоре» и «материалы и документы Николая Романова», в которых Янкель Свердлов оповестил своих коллег в заседании президиума 18 июля 1918 года и которые обещал разобрать и опубликовать «в ближайшее время».
Он исполнил обещание в апреле 1919 года.
Какова же ценность этих документов?
Прежде всего с точки зрения формы, слога и выражений, приведенных в этих документах.
Отчего о них так отзывается Олендорфом или каким-нибудь другим распространенным пособием для изучения какого-либо иностранного языка, составленным иностранным автором на русском языке? Отчего «офицер», желающий спасти бывшего Государя Императора и, значит, оставшийся в душе верноподданным, обращаясь к нему, называет его только «Вы», «Вам», а не «Государь», «Ваше Величество» – ему более привычным и допустимым титулованием? Отчего он же называет наследника Цесаревича – Царевичем, что на русском языке не одно и то же; а в одном месте он просто называет наследника Цесаревича «маленький», как будто имел возможность, как и советские деятели, читать дневники Государя Императора и видеть там интимное ласкательное наименование, данное Государем нежно любимому сыну. Отчего, наконец, в этих документах как бы опять подсказывается до конца недоговоренная идея совершившегося в Екатеринбурге преступления, по сумасшедшей версии Чемадурова: Царь и его Семья вывезены; Боткин и все остальные брошены и погибли? – ведь такой план спасения вытекает из смысла обоих писем.
Какова же суть этих документов, фактическая сторона в них?
Окна дома, где содержалась Царская Семья, и вид из окон на улицы были загорожены двумя рядами сплошных заборов, высота коих доходила до верхних косяков окон, а местами даже до крыши. Внутренний забор отстоял от стены дома аршина на полтора, охватывая дом от окна комнаты коменданта у парадного крыльца до начала сада, выходившего в Вознесенский переулок. Этот забор образовывал со стеной дома узенький, глухой коридор со входом только от парадного крыльца. При таких условиях, чтобы похитить через окно, надо было предварительно проломать заборы.
Из окон комнат через забор можно было видеть только узенькую полоску неба. О том, что дом, где жила наружная охрана, был маленький, могли знать видевшие его, но не Государь, который за заборами ничего не видел. О том, что от сторожевых постов, кроме звонков к коменданту, были проведены провода в помещение охраны и «другие пункты», могли знать их проводившие и дежурившие на постах, но не Государь, которому даже постов не было видно. Никакой сигнализации с проводами для сторожевых постов в действительности и не было, а был проведен только один звонок от часового у парадного входа в переднюю дома Ипатьева.
Вокруг дома Ипатьева стояли часовые от караула и, как отличный службист, Государь никогда не назвал бы их сторожевыми постами, что по уставу имеет совершенно другое значение. Внутренняя охрана помещалась в нижнем этаже, а не в комнате коменданта; в комнате коменданта ночевал только помощник, а Авдеев и Юровский утром приходили, а вечером уходили на свои квартиры. Дежурные два раза в час по ночам не обходили, да специальных дежурных и не было. Были разводящие, дежурившие по неделям, разводившие смены каждые четыре часа.
О каких ключах и для какой цели говорит Государь и что это за ключ № 9? Сам же Государь говорит, что двери не запираются.
А мог ли Государь забыть, что спасению с ними подлежали не только Боткин, Демидов и Седнев, а еще Харитонов и Трупп? Забыли о них, вероятно, те, кто в Москве сочинял эти документы.
Особенно чувствуется фальшивость документов в тех фразах, которыми обрисовывается корреспондент: «офицер», русский офицер из состава организации белогвардейцев, для чего-то особенно подчеркивает в своем письме и старается убедить ожидающего спасения Государя, что «надеемся достичь нашей цели, не рискуя ничем», «я не считаю это непреодолимым препятствием», «будьте спокойны», «мы не предпримем ничего, не будучи совершенно уверены в удаче заранее» и подтверждает это торжественным обещанием «перед лицом Бога, истории». Разве, кроме того, вся эта фраза с «заранее» на конце и патетической клятвой похожи на русский слог, на русский дух и в особенности на дух офицера из организации?
Ну, а эта фраза в ответе Царя: «было бы низко с нашей стороны (хотя они ни в коем случае нас не затруднят) оставить их тут…» Чья она? Могла ли быть, при каких бы то ни было обстоятельствах, сказана устами Государя, русского человека, да при всем том прекрасно владевшего родным языком?
Но в то же время, косвенно упрекая «офицера» в низости за то, что он не предусмотрел необходимости спасать приближенных и преданных людей, письмо-ответ не забывает сказать про коменданта доброе слово, который «с нами обращается хорошо», поместить эту аттестацию, как придаточное предложение к указанию о месте нахождения ключей.
Таковыми представляются содержание и характер советских документов о раскрытых белогвардейских заговорах, имевших целью похищение Царской Семьи. Эти же документы, по заявлению Янкеля Свердлова, послужили для советской власти толчком и дали право покончить с бывшим Государем Императором, не дожидаясь предполагавшегося над ним народного суда. «Хотя, – говорит еврей Сафаров в своей статье, посвященной расстрелу бывшего Царя, на страницах газеты «Уральский рабочий» от 23 июля 1918 года, – при этом и были нарушены многие формальные стороны буржуазного судопроизводства и не был соблюден традиционно-исторический церемониал казни «коронованных особ»… но рабоче-крестьянская власть и в этом случае проявила крайний демократизм: она не сделала исключения для всероссийского убийцы и расстреляла его наравне с обыкновенным разбойником»…
Это заявление еврея Сафарова цинично, но, по крайней мере, откровенно. Из уст одного из главнейших исполнителей казни узнаем, что никакого суда над «Николаем Романовым» и не предполагалось: Янкель Свердлов просто соврал своим коллегам, побоявшись сказать правду. Еврей Сафаров оказался храбрее и наглее; он объясняет и причину, почему не предполагалось прибегать к суду: это не демократично, а «рабоче-крестьянская власть и в этом случае проявила крайний демократизм».
* * *
Так ли это? Действительно ли рабоче-крестьянская власть не сделала исключения для бывшего Государя Императора? Действительно ли она «расстреляла его наравне с обыкновенным разбойником?» На эти вопросы отвечает вся настоящая книга устами тех подлых еврейских и русских руководителей и тех несчастных и тупых злодеев, которые участвовали или видели «этот расстрел». Во всяком случае, приведенные официальные документы не являются правдивым материалом для русского судьи и историка, как хотел бы того Янкель Свердлов, и ни в коем случае не оправдывают главарей советской власти в их злых и гнусных деяниях. Совершенно обратно: документы эти наводят на мысль искать другие причины кровавым преступлениям лета 1918 года, независимо от того, существовали ли белогвардейские организации офицеров для спасения бывшего Царя и его Семьи или нет. Что офицерские организации вообще существовали, в этом, пожалуй, советские власти могли не сомневаться. Но чтобы деятельность их в отношении спасения заключенных могла потребовать от исчадия еврейского народа – Свердловых, Сафаровых, Войковых, Голощекиных, Юровских и российских себялюбцев – Лениных, Саковичей, Белобородовых – проявления от имени русского народа «демократизма», для этого документы советских властей «о заговорах» не дают никаких оснований. Документы Янкеля Свердлова в юридическом отношении лишь нагло-ложны и низко-подлы, как приписанные бывшему русскому Государю и русскому офицеру.
Что же дают документы «о заговорах» с нашей стороны? Существовали ли действительно организации для спасения Царской Семьи в Екатеринбурге, Тобольске или иных городах и пунктах и чем проявили тогда они себя?
Сложно и трудно было работать немногому остававшемуся в живых честному офицерству в этом направлении.
Участие высшего генералитета армии, руководителей и авторитетов офицерства почти в первых рядах Февральской революции, в отречении Царя от престола, в политическом развале армии и страны керенщиной сильно расшатало единство мыслей, чувств и мировоззрений этой сильной и относительно единодушной в былое время организованной корпорации. Революция нарушила, смяла и осмеяла ее прежние основные принципы дисциплины, иерархии, взаимоотношения и законов сплоченности, ее национальные и духовные лозунги, и взамен прежнего ничего нового – морально и нравственно здорового – офицерство не получило.
Война влила в ряды офицерства много постороннего элемента – элемента, зачастую совершенно негодного в нравственном отношении, а демократические приемы Гучковых, Керенских и компании по углублению революции и реорганизации армии на революционных началах, с выдвижением в верхи офицеров, начальников по натуре каторжного, ссыльного и тюремного стажей способствовали еще более развалу офицерства. Трудность какого-либо морального, более или менее солидного объединения массы вне царивших разнообразных и шатких политических течений становилась почти непреодолимой.
Отсюда, среди оставшегося честного офицерства, развились, как основные черты, недоверие, замкнутость, осторожность в общении с другими офицерами и между собой и острая подозрительность ко всякого сорта и характера политическим деятелям, выбрасывавшимся революционной волной на арену деятельности из среды общей массы. С другой стороны, частью для так называемых временных джентльменов, а к ужасу, в большинстве для коренных генералов и офицеров создались чрезвычайно благоприятные почва и обстановка для достижения власти и значения легкими путями: лицедеянием слова и провокацией положения. Достигнутые власть и влияние предоставляли таким военным элементам безответственно и часто безнаказанно творить свои собственные делишки под прикрытием громких, фальшивых принципов и лженациональных лозунгов.
После Октябрьского переворота офицерство, ушедшее из советской России, легко объединялось под флагом борьбы с Советами и большевиками, и, вероятно, в то время не существовало города в России, где бы не было тайной или явной такой, чисто боевой, офицерской организации. В эти организации офицерство шло охотно, мало думая о тех будущих политических принципах строительства государства, которые выдвигались разными создававшимися антисоветскими временными правительствами и правителями. Здесь этот вопрос отодвигался на второе место; импульсом движения была простая ненависть к чуждым русскому офицеру узурпаторам власти, носителям пятиконечной звезды; офицер вступал в привычную ему по понятиям, форме и духу зону, зону бойца, а не политического деятеля.
Совершенно, по-видимому, иная обстановка создавалась в деле организации офицерства для помощи или спасения бывшего Царя и Царской Семьи. Мало кто подходил к разрешению вопроса чисто только с человеколюбивой точки зрения. Почти каждый из числа помышлявших о спасении или похищении Царской Семьи носил в себе свои, лично им лелеемые политические принципы, клавшиеся в основу цели спасения и дальнейшего развития государственного строительства будущей, освобожденной России. Здесь каждый отдельный элемент организации являлся прежде всего носителем политических определенных идей, и они являлись для него доминирующими над всякими другими обстоятельствами и соображениями. Раскол, существовавший в монархической партии в дореволюционный период, пройдя через стадию двух революций, настолько развился среди интеллигентного класса, что белогвардейские организации рассматриваемых целей прежде всего натыкались на затруднения в своем развитии из-за своих собственных монархических принципов. Как ни грустно и ужасно, но в будущем изложении, кажется, придется коснуться дела, когда одна организация, случайно подошедшая близко к разрешению вопроса спасения Царской Семьи, не выполнила такого по несочувствию в принципах среди части офицеров, с которой предполагалось работать. Среди молодежи искажение понятий и высоких принципов монархизма под влиянием революции дошло даже до уродства: один молодой офицер, например, утверждал, что если Бронштейна-Троцкого помазать на русское Царство миром, то он станет уже законным помазанником Божьим, и добавлял, что, хотя сам он не призна́ет тогда Бронштейна русским царем, но бороться с ним перестанет.
Таковыми представляются политические условия группировки офицерства в организации для спасения Царской Семьи. К этому необходимо добавить, что недоверчивость и подозрительность честного офицерства вели к чрезвычайно осмотрительному, осторожному и тщательному выбору лиц для указанной цели. Обстоятельства требовали большой конспиративности и предусмотрительности как в самой организации, так и в деятельности ее членов, дабы не нарываться на провокации, измены, обманы, от последствий которых могла страдать не только сама организация, но главным образом те, которых хотели спасти. Эти условия приводили к чрезвычайной медлительности работы, требовали много времени для осуществления цели, а между тем события не ждали, быстро назревали и, наконец, разрешались раньше, чем организация могла предпринять что-либо серьезное для спасения Царской Семьи.
Указанные трения, затруднения и общие положения привели к тому, что за весь период революции среди честного офицерства Екатеринбурга создались всего две маленькие организации: одна – в период пребывания Царской Семьи еще в Тобольске, задавшаяся целью оказать Семье возможную помощь для облегчения условий жизни, и другая – уже во время пребывания Царской Семьи в Екатеринбурге, мечтавшая спасти Царскую Семью.
Вот что рассказывает о деятельности первой из названных групп один из ее участников, штабс-ротмистр С.
«Почти всю зиму 1918 года я провел в Тюмени, а в апреле, на 6-й неделе поста, поехал в Тобольск. На пути, в деревне Дубровно, верстах в 50–60 от Тобольска, мне повстречался поезд с Государем, Государыней и Великой княжной Марией Николаевной, которых комиссар Яковлев вез на Тюмень. Государыня узнала меня, узнала, как офицера Ее Крымского конного полка, и издали осенила крестом. Проводив глазами поезд, я поехал дальше на Тобольск. В Тобольске мне никого из Августейшей Семьи видеть не пришлось; я узнал, что делом помощи заключенным занимается местный священник о. Васильев и дня через три поехал обратно на Тюмень. Материальных средств у нас никаких не было, но мы думали, что найдем поддержку у частных людей».
Вот и все, что успела сделать горсточка безусловно честных офицеров в этот промежуток времени.
Представитель другой организации подполковник И. К. Л. рассказывает следующее:
«В мае 1918 года я был командирован из Петрограда в Екатеринбург от монархической организации “Союз тяжелой кавалерии”, имевшей целью спасение жизни Августейшей Семьи. В Екатеринбурге я поступил в слушатели 2-го курса Академии Генерального штаба и, имея в виду осуществление вышеуказанной цели, осторожно и постепенно сошелся с некоторыми офицерами-курсантами: М-им, Я-им, С-им, П-им, С-им. Однако сделать что-либо реальное нам не пришлось, так как события совершались весьма неожиданно и быстро. За несколько дней до взятия Екатеринбурга чехами я ушел к ним в состав офицерской роты полковника Румши и участвовал во взятии Екатеринбурга.
После этого в офицерской среде возникла мысль сделать все возможное для установления истины: действительно ли убит Государь Император».
Вот и все, что было по части частных офицерских организаций, руководившихся принципами национального характера и добрыми намерениями искренно помочь или спасти Царскую Семью. После расстрела бывшего Царя в городе говорили, что была раскрыта какая-то тайная монархическая организация, но никто из вышеназванных офицеров о ней ничего не знал, никто из них сам не пострадал и никто из них не слыхал, чтобы вообще пострадал какой-либо другой офицер в городе за попытку спасти Царскую Семью.
Офицеры этих организаций, стремившиеся честно сделать доброе дело и действительно помочь заключенной Царской Семье, не кричали о своей деятельности, не шумели, не кичились своими связями в прошлом, не бахвалились своими намерениями и работой, и, кто знает, если бы Богу угодно было дать больше времени в их распоряжение – может быть, им и удалось бы серьезно помочь несчастным узникам. Таких офицеров было мало, офицеров долга и чести; революция их слишком разбросала, обессилила и забила.
Но зато более многочисленными были группы иных офицеров-спасителей – продуктов и сынов революции. Быть может, в действительности ни в какие организации они не входили и никаких организаций у них не было, а существовали они только у них на словах. Эти офицеры отличались бахвальством и чванством; шумели о своей деятельности где только могли; кричали чуть что не на всех перекрестках, входя во все откровенности с первыми встречными и не смущаясь того, что могли быть услышаны советскими агентами и властями. Последние, однако, как ни странно, совершенно игнорировали деятельность подобных типов, не преследовали крикливых заговорщиков, а иногда были даже в явных с ними сношениях.
Татьяна Евгениевна Мельник, дочь убитого доктора Боткина, проживавшая у отца в Тобольске, рассказывает об одной из таких организаций, на которую ей пришлось натолкнуться в Тобольске.
«Это было в семье одного купца-мясника, пасынок которого тоже мнил себя организатором и был явным противником отца Алексея (Васильева). Он очень много говорил о своей организации, состоявшей якобы из офицеров и союза фронтовиков…
Однажды мы были в гостях у этого организатора, где, кроме нас, его родителей и жены, был еще его зять, член совдепа…
Вдруг звонок; организатор сам бежит открыть двери, и возвращается с каким-то растерянным видом, и представляет нам господина I, открывающего в Тобольске кинематограф. При первом взгляде на него мы поняли, что кинематограф здесь ни при чем. Это был человек среднего роста, с маленькими холеными руками, с правильными чертами интеллигентного лица, с великолепным пробором и тщательно подстриженной бородкой. Его слегка картавое произношение обличало человека, привыкшего говорить на иностранных языках. Мы не знали, кто он, но сразу догадались об его петроградском происхождении, а он, очевидно, предупрежденный организатором, сел около нас с братом, начал разговор, сначала общий, потом постепенно переходя на рассказы из петроградской жизни: “Моя кузина княгиня Урусова”, “Вы знаете князя Кочубея?”, “Когда мы были на Высочайшем обеде”, “У нас в первой гвардейской дивизии” и т. д., без конца и без удержу, не замечая ужасных гримас организатора и насторожившегося члена совдепа. При второй встрече повторилось то же самое, так что бывшие у организатора гости предупреждали его: “Берегитесь, он не похож на варшавского мещанина”.
Понятно, что комиссары все его отлично знали, о чем, к его великому изумлению, ему и говорили, но тем не менее дали беспрепятственно выехать из Тобольска…
Когда Их Величество увезли из Тобольска, мы осведомились (у организатора), почему, собственно говоря, его организация не предприняла чего-либо против этого. “Вы не знаете, – сказал он нам, – мы ведь сорганизовались для спасения Алексея Николаевича”. Подошло время отъезда Великих княжон и Алексея Николаевича, и мы опять обратились с тем же вопросом к организатору. “Помилуйте, ведь не могли же мы себя обнаружить, ведь нас бы всех красноармейцы переловили…”»
К сожалению, таких организаторов-офицеров из той категории, которая во время войны получила определение «временные джентльмены», было в это время несравненно больше, чем былых скромных и честных тружеников военного дела и долга. Большинство этих последних покоились смертью храбрых на полях Галиции, Польши и Пруссии, а немногие оставшиеся замкнулись под гнетом новых политических веяний и новых выскочек-нахалов.
Были и еще другого направления организаторы-офицеры, связывавшие также свою деятельность с именем Царской Семьи. Совершенно своеобразный и загадочный характер работы представителей этих организаций сильно походил на какую-то очень крупную и преступную провокацию и даже предательство по отношению к Их Величествам, и были они неуязвимы в пределах советской России, пользуясь какой-то особой властью для выполнения своих тайных целей.
Проявила себя эта категория организаций вскоре после перевозки Царской Семьи в Тобольск и продолжала свою работу долго после разразившейся Екатеринбургской драмы, перенеся район своей темной деятельности на нашу территорию. Раскрыть в полной мере те явно преступные цели, к которым стремились эти загадочные организации, к сожалению, не удалось: оказалось, они пользовались значительной силой влияния и в наших пределах. Но добытый материал тем не менее достаточен, чтобы до известной степени осветить одну из мрачнейших сторон нашей общественной жизни последних лет, много помогшей воцарению в России иудо-русской власти.
Эта организация имела и сейчас еще имеет обширные связи как в рядах советской и антисоветской среды России, так и за границей. Руководящий центр ее был первоначально, после Февральской революции, в Петрограде и был представлен, главным образом, людьми той категории высокого света, которые, в сущности, не принимались в интимный круг Императорской Семьи, но образовывали класс придворных 2-й категории и наполняли Петроград многочисленными безответственными светско-политическими кружками, стремившимися закулисно влиять на всю историческую жизнь России. После Октябрьского переворота этот центр перекочевал в Берлин и продолжал оттуда руководство своими агентами в России.
На Урале центральной фигурой этой организации явился капитан Борис Николаевич Соловьев, женившийся на дочери Григория Распутина уже после убийства отца. Кто он был и откуда появился – неизвестно; никто не знал его ни в Тобольске, ни в среде Царской Семьи, ни среди придворных, оставшихся при ней, как самых ей близких людей по всей предыдущей жизни.
В то время когда Царская Семья проживала в Тобольске, Соловьев устроился в Тюмени, откуда до Тобольска зимой ездили на лошадях, а летом на пароходах. Таким образом, Тюмень перехватывала пути из Европейской России на Тобольск. Здесь, в Тюмени, Соловьев установил как бы заставу для всех лиц, пытавшихся пробраться в Тобольск в целях повидаться там с заключенными членами Августейшей Семьи. Соловьев говорил, что находится во главе организации, поставившей целью своей деятельности охранение интересов заключенной в Тобольске Царской Семьи путем наблюдения за условиями жизни Государя, Государыни, Наследника и Великих княжон, снабжения их различными необходимыми для улучшения стола и домашней обстановки продуктами и вещами и, наконец, принятия мер к устранению вредных для Царской Семьи людей.
Все сочувствовавшие задачам и целям указанной организации должны были являться к нему, прежде чем приступить к оказанию в той или иной форме помощи Царской Семье; в противном случае, говорил Соловьев, «я налагаю вето» на распоряжение и деятельность лиц, «работающих без моего ведома, и ослушников предаю советским властям». Так, по его собственным словам, им были преданы большевикам два офицера гвардейской кавалерии и одна дама, которые и были будто бы расстреляны.
Действительно ли имело место это подлое предательство Соловьева или врал он ради запугивания новичков и личных выгод – дело совести этой темной личности, но почему Соловьев, не известный никому из заключенных в Тобольске, считал себя вправе быть чуть что не вершителем судьбы несчастных узников – остается всецело на совести тех лиц руководившего центра, которые его послали с такими задачами, руководили им и вовремя укрылись в Берлине.
Правой рукой Соловьева в Тобольске и ближайшим выполнителем поставленных центральной организацией целей являлся настоятель церкви Благовещения в Тобольске отец Алексей Васильев.
Провидению угодно было и здесь, в Тобольске, приблизить к людям великой и чистой христианской веры пастыря, недостойного носившегося им сана и сыгравшего роковую роль в последовавших несчастиях Царской Семьи во время заключения в Тобольске.
Алексей Васильев принадлежал тоже к тому типу организаторов, на которых указывает Татьяна Мельник. Он любил рассказывать о своей организации всем, если думал, что это может составить выгоду для него самого. Он довел об этом даже до сведения Государя и Государыни, которым хотелось ему верить. В отношении Соловьева сначала, когда от Соловьева поступали деньги, Алексей Васильев проявлял корректность. Но потом, по-видимому, ему захотелось играть первенствующую роль, и тогда он стал лить на Соловьева ушаты помоев, получая от него в ответ таковые же. В общем, по нравственному и моральному облику Соловьев и Алексей Васильев были работниками парными.
Положение Царской Семьи в Тобольске в первые месяцы в общем было довольно сносным. Им разрешалось ходить каждую обедню в церковь, а всенощные всегда служили дома, и служил причт Благовещенской церкви с певчими; свите не делалось никакого стеснения, и она свободно входила и выходила, когда хотела; отношение жителей города было более чем благожелательное, и Царская Семья получала постоянно к столу различные посылки из съестного и сладкого, присылавшиеся разными доброжелателями из местного населения. Солдаты охраны того времени не обращали на все это никакого внимания, и многие из них высказывали свою любовь и верные чувства Государю и членам его Семьи.
В этот период – август, сентябрь – центр упомянутой организации ничем себя не проявил. Если он имел действительные намерения спасти Царскую Семью, то именно это время было наиболее благоприятным: в составе самой охраны и особенно среди солдат бывшего 4-го Императорской Фамилии стрелкового полка большая часть людей сама предлагала Государю воспользоваться днями их дежурства для совершения побега. Император ответил им, что он никуда из России не уедет и разлучаться с Семьей не будет. Однако безусловно в этот период проявляются признаки заинтересованности настроением бывшего Императора и Государыни Императрицы со стороны императора Вильгельма: в Тобольске появляются русские офицеры типа лиц той же среды, из которой состоял центр организации, и передают Царской Семье предложение Вильгельма принять его помощь. Ответы Государя и Государыни были отрицательными.
В начале октября направление мыслей солдат охраны стало ухудшаться: приехавший от Керенского новый комиссар Панкратов со своим помощником Никольским затеяли политическую борьбу с местными большевиками, во главе которых был некий Писаревский, и объектом своих политических экспериментов сделали солдат охраны.
Солдаты стали нервничать, разлагаться, хулиганить. Цель у них была иногда вовсе не причинить неприятность Августейшей Семье, но выходило так, что страдала всегда она. Стали придираться ко всяким мелочам распорядка жизни Семьи, до тех пор не вызывавшим никаких недоразумений; обратили внимание, что Государь и Наследник продолжают носить погоны; заметили кинжал на черкеске у Государя; поднялись разговоры о слишком большой свободе приближенных к арестованным; словом, как говорят, атмосфера начала наэлектризовываться.
К этому времени между Людендорфом и Гофманом, с одной стороны, и Лениным и Троцким – с другой, т. е. между крайней правой партией Германии и крайней левой России, уже состоялся известный договор. Не секрет теперь, что в рядах деятелей и сотрудников Ленина и Троцкого-Бронштейна оказались также многие из нашей крайней правой или, вернее, причислявшие себя к таковой: Красин, Гутер, Бонч-Бруевич, Шнеур, Муравьев и почти вся былая тайная охранка и много других, выявившихся своей активной деятельностью и еще больше – действовавших скрытно, за спиной. Такое содружество было понятно: на Ленина и Бронштейна крайняя германская партия смотрела как на временное оружие, которое в нужный момент будет убрано, а на вспаханное поле посеют семена объединившиеся крайние правые Германии и России. Теоретически расчет был правилен, но практически его составили люди вовсе не духовно-национальных принципов монархизма, а люди полицейско-личного режима.
За последнее время излюбленным способом этого режима для достижения намеченных целей явилась провокация самого разнообразного вида и самого широкого размера.
Та же провокация нашла себе место и в Тобольске в отношении несчастной Царской Семьи.
Выше уже было сказано, что вывести определенно-цельное заключение из деятельности организации, к которой принадлежали люди типа Соловьева и Васильева, не представилось возможным. Здесь история ограничивается лишь изложением тех фактов, которые определялись расследованием, и тех мыслей, которые зарождались как следствие совокупности всех фактов и обстоятельств, прошедших в период работ по исследованию трагической кончины бывшего Государя Императора и Его Семьи.
Как раз в это время, когда атмосфера вокруг Царской Семьи начала сгущаться и настроение охраны обострялось, в лице Алексея Васильева и Соловьева начинает проявлять свою деятельность по «охранению интересов заключенных» рассматриваемая Петроградская организация.
Чтобы попасть в церковь, Царской Семье приходилось пройти садом, перейти улицу и тогда уже был вход на паперть. При каждом выходе в церковь арестованных по обеим сторонам этого пути ставились шпалерами солдаты охраны. Был день 3 ноября (21 октября по старому стилю, день восшествия на престол бывшего Государя Императора); вся Семья приобщалась у ранней обедни; народу в церкви было совсем мало; никто решительно ни в городе, ни в охране не обратил внимания на службу именно в этот день. Кончилась служба, Августейшая Семья направилась домой. И вот в тот момент, когда бывший Государь и Государыня появились на паперти, по распоряжению Алексея Васильева совершенно неожиданно раздался звон всех колоколов собора и продолжался все время, пока Царская Семья шла между рядами насторожившихся солдат охраны и не скрылась в подъезде губернаторского дома, который она занимала. В глазах солдат, привезенных из Царского Села, Алексей Васильев воспроизвел полностью картину выхода Их Величеств из церкви в период, когда они были на престоле.
На счастье, семена развала, сеявшиеся в охране распрей Панкратова с Писаревским, еще не успели достаточно взрасти, и начальнику охраны полковнику Кобылинскому удалось на этот раз еще овладеть настроением массы, и инцидент ознаменовался только шумом, криками возмущения и негодования в среде охраны, не причинив реальных последствий для Августейшей Семьи. Но отношение солдат охраны резко изменилось, они потребовали удаления Панкратова и присылки из Петрограда или Москвы большевистского комиссара, и с этого времени Писаревский приобретал себе все более и более сторонников в рядах охраны.
Наступило Рождество. 25 декабря вся Царская Семья была у ранней обедни. После обедни начался молебен. Церковь была битком набита народом; солдаты охраны, в то время уже довольно демократизованные, обыкновенно церкви не посещали, а те, кто бывал в наряде в шпалерах, пока шла служба, разбредались повсюду коротать время по-своему. Но на этот раз почему-то в церковь явилась чуть не вся охрана и в особенности элементы уже совершенно обольшевичившиеся. Молебен шел своим порядком, подходил к концу. И вот опять, снова по распоряжению Алексея Васильева, неожиданно для всех диакон провозгласил многолетие всей Царской Семье, именуя при этом полными былыми титулами: Его Императорскому Величеству, Ее Императорскому Величеству, Их Императорским Высочествам…
Бунт среди охраны и городского пролетариата разразился невероятный; солдаты рвали и метали, подстрекаемые еще большевистскими руководителями, и с громадным трудом удалось их удержать от проявления крайних, насильственных действий над членами безвинно пострадавшей Царской Семьи. В конце концов на состоявшемся шумном, буйно настроенном митинге более умеренным элементам удалось провести резолюцию: в церковь совсем Семью не пускать; пусть молятся дома, но каждый раз на богослужении должен присутствовать солдат.
Так Алексей Васильев, исполняя волю поставивших его, «охранил интересы заключенных»; только случайно в Тобольске не свершилось самосуда разъяренной Алексеем Васильевым толпы над бывшим Государем и его Семьей. Во всяком случае, Царская Семья была лишена свободы посещения церкви, а следовательно, лишена возможности общаться с приезжавшими к ним в Тобольск друзьями. Быть может, это тоже входило в планы Петроградской организации.
В свой центр, в Петроград, Васильев и Соловьев доносили, что ими организована сильная организация в 300 человек, а следовательно, нет надобности присылать новых офицеров и увеличивать численно организацию, но требовали все новых и новых присылок денег, как для Царской Семьи, так и для содержания организации. Действительно, через писца, исполнявшего в Тобольске обязанности дворника и ставшего, как оказалось впоследствии, большевиком, Алексей Васильев передал бывшему Государю незначительную сумму денег, которая потом, при сличении с суммами, присылавшимися Васильеву и Соловьеву, оказалась совершенно ничтожной. Все же остальные деньги оставались у этих местных исполнителей распоряжений центрального органа.
По-видимому, и в отношении численности организации Соловьев и Васильев были также далеки от истины или же организация эта имела какие-нибудь особые цели, так как на последовавшие события организация не реагировала: провезли из Тобольска в Екатеринбург с маленьким конвоем бывшего Государя, Государыню и Великую княжну Марию Николаевну; провезли туда же спустя три недели остальных членов Царской Семьи; свершили в Екатеринбурге Исаак Голощекин и Янкель Юровский свое злое дело – ни Соловьев, ни Васильев, ни их организация не проявляют никаких мер по «охране интересов Царской Семьи».
Когда был взят Екатеринбург, то из разбитой, отступавшей армии Берзина к нам перебежало много наших офицеров. В числе их был и генерального штаба капитан Симонов, начальник штаба армии Берзина. Хотя это был офицер, перечисленный в генеральный штаб уже приказом Бронштейна-Троцкого, но, занимая видную должность у Берзина, он много помогал нашему офицерству перебраться на белогвардейскую сторону и в конце концов сам последовал за ними. В Омске он нашел своего начальника Академии генерала Андогского; последний, покровительствуя Симонову, взял его в Ставку на ответственную должность начальника разведывательного и контрразведывательного отдела.
В Омске Симонов всем говорил и докладывал официально Верховному правителю, что, служа в рядах большевиков, он слышал от комиссаров, что наследник Цесаревич и Великие княжны живы, но неизвестно, где находятся. Лично Симонов твердо верил в это, решительно отстаивал эту версию, но никаких реальных доказательств представить не мог.
В феврале 1919 года Соловьев оказался во Владивостоке. Проживал он в гостинице, сохраняя большое инкогнито, но открылся начальнику паспортного пункта полковнику Макарову и просил у него четыре незаполненных бланка заграничных паспортов. Макарову он рассказал, что наследник Цесаревич и Великие княжны живы и невредимы, что он ждет условной телеграммы об их выезде и просит заграничные бланки, которые заполнит сам, будто бы для отправки Августейших детей за границу.
Примерно в это же время во Владивосток по делам службы приезжал и новый начальник полковника Макарова капитан Симонов. Оказалось, что с Соловьевым они знакомы и солидарны в вопросе спасения Царских детей.
Фантазия, походившая по абсурдности на умышленно злостное распространение сведений с преднамеренной целью, быстро распространялась по всей Сибири; передавалась она из уст в уста, как непреложная истина, и верили ей гораздо больше и легче, чем обоснованным на фактах докладам следователя Соколова. При этом, как ни грустно, большинство утверждало, что спасены дети при посредстве немцев и увезены в Германию.
Германия, Германия – вот клич, который проходит красной нитью по деятельности тайной монархической Петроградской организации.
Несколько позже из Берлина в Сибирь приехала княгиня Вяземская. Кажется, ее приезд был связан с исключительным интересом к судьбе Царской Семьи и особенно Великого князя Михаила Александровича. Она называла себя близким другом Брасовой – супруги Великого князя Михаила Александровича. Она всюду бывала, познакомилась со всеми, не побрезговала близко сойтись и с известной, роковой в Забайкалье, Марией Михайловной (это по-русски, а по-настоящему – Розенцвейг). Она настойчиво утверждала, что Царские дети живы и особенно отстаивала, что жив Великий князь Михаил Александрович. Она обращалась ко всем… кроме тех, кто располагал фактическими материалами по следственному производству. Знала ли она Соловьева – неизвестно, но какая-то неуловимая связь в деятельности всех этих лиц была.
Когда, наконец, Соловьев был арестован и доставлен в Читинскую тюрьму (это было уже в феврале 1920 года), в камеру к следователю Соколову с криком ворвалась Мария Михайловна и потребовала немедленного освобождения четы Соловьевых как ее ближайших друзей… Удивление Соколова было полное, но выпустить он был принужден.
Отобранные при аресте у Соловьева бумаги остались при следствии. Из них выяснялись его связи с Петроградским центром и… с немцами.
В чем именно заключались связи, мог выяснить только допрос, но Соловьев, освобожденный из тюрьмы, поспешил скрыться и, надо полагать, далеко. Вот почему окончательных выводов о роли и деятельности этой Петроградско-Берлинской организации сделать нельзя.
* * *
Всеми этими перечисленными организациями еще не исчерпывается весь вопрос «о заговорах» с нашей стороны. Был еще целый ряд отдельно приезжавших офицеров, работавших, по их словам, будто бы тоже от каких-то организаций. Но каких? Можно только предполагать, т. е. нити, как-то сами по себе, продолжали все протягиваться между Уралом и Берлином.
Весной 1918 года в Тобольск приезжал некто, именовавший себя корнетом Крымского конного полка Марковым, пасынком генерал-губернатора Ялты Думбадзе. О том, для чего он приезжал и что он делал в Тобольске, можно судить по его словам в декабре 1918 года. Будучи в это время в Киеве, он рассказывал, что император Вильгельм, под влиянием принца Гессенского, предлагал Государыне Императрице Александре Федоровне с дочерьми приехать в Германию, но она это предложение отклонила. Он показывал письмо Государыни к ее брату, принцу Гессенскому, которое он получил от Ее Величества для доставки по назначению, в Тобольске. Он говорил, что, уехав из Тобольска, он уже в Москве узнал, что их перевозят в Екатеринбург, и настойчиво отрицал убийство Царской Семьи. Он уверял, что все живы, но скрываются, и что он знает, где они все находятся, но не желает указать.
В Киеве Марков был на совершенно особом положении у немцев: он сносился телеграммами с немецким командованием в Берлине. Немцы за ним очень ухаживали: если он выходил в Киеве в город, его сопровождали два немецких капрала; в Берлин он выехал не с эшелонами других русских офицеров, эвакуированных немцами при оставлении Украины, а с германским командованием. Он говорил, что бывал везде и в советской России имел повсюду доступ у большевиков через немцев.
Быть может, в рассказе Маркова было слишком много юношеской хвастливости о своем значении у немцев, но факты видели другие офицеры, и таково было их впечатление. В такой исторической странице, как излагаемая книга, ценно каждое маленькое указание, которое может проливать истинный свет на минувшие тяжелые события. Письмо, которое вез Марков, существовало, его видели другие и видели такие лица, которые могли знать почерк Императрицы. Отсюда вытекают очень существенные подробности, если только Марков передавал точно: Царскую Семью звал в Германию Вильгельм по настоянию принца Гессенского, брата Императрицы. Это обстоятельство не служит на пользу тем, кто в последние годы царствования Императора Николая II усиленно обвинял Императрицу Александру Федоровну в германофильских чувствах. Далее, из того же рассказа определенно германофильского русского офицера, те же клеветники получают и второе, еще более реальное опровержение их умышленно-ложного обвинения: брат, несмотря на весь ужас, окружавший сестру, получил от нее отказ. Императрица Александра Федоровна, урожденная принцесса Гессенская, оказалась более русской, чем те несколько тысяч представителей русской интеллигенции и военных, которых немцы вывезли к себе, в том числе и автора рассказа корнета Маркова.
Наконец, повторяем опять: если Марков передает события точно, то из его рассказа становится известным, что предложение приезда в Германию было сделано только Государыне с дочерьми, а о Государе и Наследнике Марков не упоминает, и, пожалуй, судя по всему рассказу, нельзя заподозрить, что Марков обмолвился или забыл. А тогда приходится согласиться с Бурцевым: Вильгельм, оставляя бывшего Государя Императора и наследника Цесаревича в распоряжении Ленина и Бронштейна-Троцкого, определенно и сознательно причислял себя заранее к их убийцам.
И, слушая рассказ Маркова, невольно задумываешься: работа Петроградско-Берлинской организации, деятельность Соловьева и Васильева, сведения Симонова, убеждения княгини Вяземской – не связано ли это все в один круг, не исходит ли это все из одного центра, не является ли все это какой-то мрачной политической игрой прогоревшей в России партии полицейско-личного режима, объединившегося с прогоревшей в Германии военно-политической, людендорф-гофмановской, партией. Что такая мысль не вполне фантастична – можно видеть из следующего рассказа.
В сентябре 1918 года в Екатеринбурге, не служа в частях нашей армии, проживал именовавший себя корнетом Петр Николаевич Попов-Шабельский. Он говорил, что приехал в Екатеринбург по поручению высоких особ, и в чем именно заключалось его поручение, он не высказывал. Рассказывал также, между прочим, что был вместе с полковником Винбергом, автором «Записок контрреволюционера», участником процесса Пуришкевича.
Он очень интересовался Царским делом, говорил со многими, расспрашивал всех, посещал исторические места, и хотя говорил, что ему тяжело верить в убийство Августейшей Семьи, но тем не менее там, в Екатеринбурге, утверждал, что в факте ее убийства он не сомневается.
В конце сентября он исчез из Екатеринбурга.
Прошло два месяца. Когда немцы, после украинской авантюры, спасая русских офицеров от большевиков, вывозили их с Украины эшелонами, на станции Белосток в один из эшелонов вошел Попов-Шабельский и поехал в Берлин.
В Берлине Попов-Шабельский совершенно изменил свое мнение о судьбе Царской Семьи: он со многими другими русскими офицерами говорил совершенно открыто, что Царская Семья жива, что Великий князь Михаил Александрович был похищен белогвардейцами, и такие же утверждения можно было слышать от всех русских людей, проживавших в Германии.
Чем же другим, как не работой какого-то центра в Берлине, можно объяснить такое единодушие в мнениях различных лиц, прямо или косвенно соприкасавшихся с Германией. Какие цели преследовал на самом деле этот центр, пока окончательно еще нельзя заключить, но безусловно, что надо было кого-то убедить в несуществовании тех фактов, которые в действительности имели место. Во всяком случае, с полной уверенностью можно сказать, что в основе работы такого тайного центра лежали сугубо узкие политические цели, чуждые побуждениям сердца и совести. При той свободе действий, которой пользовались агенты этой организации в советской России, при тех средствах, которыми она, по-видимому, располагала, – спасти Царскую Семью почти не составляло труда.
Мало того, организация, объединившись с временной политической германской партией, поставившая себя в тесную зависимость от победы Людендорфа и Гофмана над Россией, не могла считаться национально-русской организацией, ее цели не могли быть русскими целями, ее идеология не могла быть идеологией русского народа и бывшего русского Царя. Естественно, что Марков встретил решительный отказ Государыни Императрицы; естественно, что бывший Царь предпочел погибнуть со всей своей Семьей в России, чем принять руку помощи людей, обагривших свои руки в крови русского народа.
Вместе с тем, став на путь совместной работы с немцами, эти узкие и слепые русские люди сделали Царскую Семью объектом борьбы между центральной советской властью и германским генеральным штабом. И кто знает, быть может, эти темные политические происки немецко-русской организации послужили последним толчком к кровавой драме на Урале и дали основание Янкелю Свердлову сослаться на существование офицерского заговора.
Но эти заговорщики были не русские офицеры.
Работа офицеров
Утро 25 июля дало новое направление работе части офицерства в Екатеринбурге: выяснить во что бы то ни стало, что случилось с Царской Семьей.
Сильное волнение распространилось среди офицерства, вступившего в город, когда стало известным, в каком состоянии находится дом Ипатьева, где содержалась Царская Семья. Все, кто только был свободен от службы и боевых нарядов, все потянулись к дому. Каждому хотелось повидать это последнее пристанище Августейшей Семьи; каждому хотелось принять самое деятельное участие в выяснении мучившего всех вопроса: где же они?
Кто осматривал дом, взламывал некоторые заколоченные двери; кто набросился на разбор валявшихся вещей, вещиц, бумаг, обрывков бумаг; кто выгребал пепел из печей и ворошил его; кто бегал по саду, двору, заглядывал во все клети, подвалы, и каждый действовал сам за себя, не доверяя другому, опасаясь друг друга и стремясь скорее найти какие-нибудь указания – ответ на волновавший всех вопрос.
Каждый почувствовал, что здесь что-то произошло, что-то большое, мрачное и трагичное… Но что?
Убили?..
Да, кровь здесь была.
Не может быть, думал почти каждый. И зверству есть предел.
Куда же делись те, которых не убили?
И, перебирая бесчисленное количество простых вещей домашнего обихода: брошенные вещицы туалета, шпильки, булавки, пряжки, кнопки, крючки, ленточки, тряпки, завязки, куски чулок, корсетов, – никто не допускал, что зверство может и не иметь предела.
Кроме офицерства, в доме Ипатьева в значительно большем количестве набралось много разного народа. Тут были и дамы, и буржуа города, и мальчишки с улицы, и торговки с базара, и просто праздношатающийся обыватель. Кого привели серьезные цели, серьезный интерес, кто пришел просто из любопытства или по привычке ходить туда, где собралась толпа, а кто пришел и с определенной мыслью: нельзя ли чем поживиться, стащить и продать. И пока офицерство и положительный посетитель обходили дом, осматривали комнаты, строили предположения, делились впечатлениями и разными слухами, – люди, пришедшие в дом «так себе», и люди, забравшиеся с определенным намерением поживиться, – набрали и унесли много всякого брошенного имущества, и многое потом находилось на базаре и барахолках.
Много было унесено некоторыми и на память.
Во второй половине дня начальник гарнизона прислал воинский наряд. Всех удалили из дома, дом и ворота заперли и поставили для охраны караул. Было приказано никого не пускать без особого разрешения военных властей.
Военные власти города решили упорядочить и организовать дело розыска. Начальник гарнизона генерал-майор Голицын назначил особую комиссию из состава офицеров, преимущественно курсантов Академии Генерального штаба, под председательством полковника Шереховского, а дабы работа комиссии протекала при более нормальных технических условиях, в состав ее был приглашен из начавшего формироваться Екатеринбургского окружного суда судебный следователь Наметкин.
Офицерство комиссии взялось за дело горячо, рьяно, но как дилетанты. Плана, системы не было. В то время в городе были распространены самые разнообразные версии и слухи о том, что сделали большевики с Царской Семьей: кто говорил, что бывшего Царя закопали в саду, и офицерство перекопало весь садик; кто утверждал, что его расстреляли где-то за вторым Екатеринбургом, и офицерство в поисках тела Царя раскапывало почти каждый бугорок, натыкаясь на трупы многих жертв советского режима, но нужного тела не находило; кто говорил, что тело ночью, с привязанными к голове и ногам камнями, бросили в городской пруд, и добровольные рыбаки-офицеры целый день багрили и неводили обширный по размерам Верх-Исетский пруд. Было разрыто и несколько могил на городском кладбище, куда особый подрядчик свозил трупы, сдававшиеся ему советскими палачами после расстрелов. Но тела Царя нигде не находилось.
Тогда было приступлено к пересмотру заново Ипатьевского дома. Для участия в осмотре и для опознания вещей пригласили доктора Деревенько и старика Чемадурова; в качестве эксперта-историка в осмотре принял участие профессор Академии Генерального штаба генерал-лейтенант Медведев, а специально для техническо-юридического руководства осмотром – упомянутый судебный следователь Наметкин.
Конечно, вся ответственность за характер, всесторонность и полноту осмотра ложилась на последнего, и в этом отношении, по не зависившим от военных властей причинам, выбор Наметкина был крайне неудачен. Человек исключительно сухого формального начала, ленивый по натуре, небрежный в осмотрах, невнимательный к показаниям, без инициативы и какой бы то ни было идеи в работе – он отнесся к своему участию в осмотре дома Ипатьева спустя рукава, лишь бы отбыть известный номер.
Первый технически-юридический осмотр дома Ипатьева, почти тотчас по свежим следам орудовавших и распоряжавшихся в нем преступников, должен был дать исключительной ценности данные для всего последующего следственного производства. Только полное запечатление протокольным постановлением точно виденного, найденного и замеченного могло впоследствии заменить следственной работе стертые временем, посещением многочисленных посетителей первоначальный вид и следы преступления, оставшиеся после бегства преступников из Екатеринбурга.
Судя по составленному Наметкиным протоколу, осмотр дома Ипатьева с его стороны ограничился простым обходом комнат верхнего этажа дома и посещением одной комнаты в нижнем этаже, той самой, где имелись следы крови и пуль, с обозначением размера комнат, количества в них окон и дверей, предметов меблировки при самом поверхностном упоминании о характере найденных в доме вещей. Наружного осмотра дома Наметкин не произвел вовсе, не осмотрел стен, не отметил положения заборов, не запечатлел первоначальной картины фотографированием дома, сада, комнат, надворных построек. Внутри дома – не разобрался основательно в брошенных вещах, не собрал их, не составил описей; не собрал осторожно пепла из печей с остатками обгоревших клочков бумаг, писем, записок; не осмотрел внутренних стен, косяков дверей и окон, не отметил надписей на них, отметок и подписей каких-то посторонних лиц, не принадлежавших к числу арестованных, а в комнате со следами крови нижнего этажа, наткнувшись на порнографические рисунки и надписи на обоях, допустил участвовавших в осмотре заскоблить, а частью и совершенно сорвать произведения рук преступников, попортив и уничтожив этим почерки – вещественные следы преступления и личностей преступников.
Что в нижней комнате было совершено какое-то убийство, в этом никто из осматривавших дом не сомневался. Так как трупа или трупов в комнате со следами крови не оказалось, то, значит, их куда-то выносили. Нетрудно было видеть, что, чтобы попасть на улицу, надо было пройти через всю анфиладу комнат нижнего этажа к выходу в передний двор у выездных ворот, так как другой выход был загорожен забором. Наметкин не проследил этого пути, не осмотрел полов комнат нижнего этажа, где не могло не быть кровяных следов от проносившихся по ним убитых людей, а может быть, и кое-каких вещей и вещиц, выпавших с покойников и необходимых в установлении личностей убитых.
Потом комиссия пошла напротив Ипатьевского дома по Вознесенскому переулку в дом Попова, где помещались люди охранной команды, и осмотрела его. И там тоже среди разбросанного, ненужного хлама, лоскутов и предметов солдатского обихода казарменного расположения оказались вещи, принадлежавшие Царской Семье: коробка с десятью стеклами волшебного фонаря; овальная деревянная иконка ангела-хранителя с надписью на оборотной стороне рукой Государыни Императрицы: «Христос Воскресе, 25 марта 1912 г. Ливадия»; три катушки с пленками Кодака; овальная медная бляха с вензелем «А. Ф.» и Императорской короной, сорванная с какого-то сундука; металлический вензель «А. Ф.», тоже, видно, сорванный с какого-нибудь кожаного чемодана или саквояжа, и, наконец, опять-таки масса пепла в печах с перегоревшими остатками разных вещиц: бус, игрушек и бумаги. Но осмотр дома Попова даже не попал в протокол Наметкина, а определился уже позднее из допросов участников осмотра.
Из дома Попова комиссия пошла во двор дома Ипатьева, осмотрела каретник и брошенные там вещи Царской Семьи, заглянула в помойку. Из нее, замаранными грязью, вытащили: большой образ Федоровской Божьей Матери в золотой, потускневшей от времени ризе, но со срезанным очень ценным бриллиантовым венчиком. Эта находка произвела сильное впечатление на присутствовавшего здесь же Чемадурова; он заявил, что с этой иконой Государыня Императрица никогда не расставалась и никогда бы не рассталась ни при каких условиях путешествия.
Далее среди извлеченных вещей оказались: деревянная дощечка с остатками иконы на ней и надписью на обороте «Спаси и сохрани. Мама. 1917 г. Тобольск»; еще остаток иконы на деревянной дощечке; дамский батистовый белый носовой платок, обшитый кружевом; черный шелковый дамский мешочек-сумка; белая женская блузочка; черный военный галстук с пришитой к нему лентой ордена Святого Владимира 3-й степени, какой носил доктор Боткин; кусок георгиевской ленточки, сорванной, по-видимому, с военной шинели.
Как ни поверхностно и бегло был произведен осмотр дома Ипатьева в этот раз, тем не менее он оставил сильное впечатление среди участвовавших в нем офицеров.
«Убиты, и убиты все», – говорили одни, выходя после осмотра из дома.
«Не может быть; этого нельзя допустить… этому невозможно поверить», – говорили другие, стараясь освободиться от тяжело давившего на душу впечатления.
Доктор Деревенько, участвовавший в осмотре, был спокоен. Он разделял мнение, что убиты не все. На присутствовавшего товарища прокурора Екатеринбургского окружного суда Кутузова доктор Деревенько произвел впечатление человека, знавшего, что преступление должно было совершиться.
Старик Чемадуров после находки иконы Федоровской Божьей Матери впал в мрачное, угрюмое состояние. Почти злобным тоном он отвечал на предлагавшиеся ему вопросы и все твердил, как бы про себя: «Не знаю, ничего не знаю, что постигло моего Государя и его Семью».
* * *
Убиты все – было внутренним чувством людей.
Убиты, но не все – говорили те, кто не хотел верить в возможность такого ужасного злодейства, или те, кто был побуждаем особыми причинами, им одним известными.
Вот общие решения и мнения населения города Екатеринбурга в первые два-три дня по освобождении его от советской власти.
* * *
27 июля утром к военному коменданту восьмого городского района капитану Гиршу явился поручик Андрей Андреевич Шереметьевский и, предъявив целый ряд обгорелых вещей и предметов от различных частей одежды, белья и обуви, рассказал следующее.
Скрываясь от большевиков в период их власти в Екатеринбурге, он проживал в деревне Коптяках, в 18 верстах к северо-западу от города. 17 июля несколько крестьян этой деревни, направляясь утром по своим делам в город, были неожиданно задержаны на дороге в лесу, недалеко от так называемого урочища Четырех Братьев, вооруженными конными красноармейцами и возвращены обратно в деревню. При этом красноармейцы им объясняли, что лес оцеплен и туда не пускают по той причине, что у них происходят маневры и будут стрелять. И действительно, уже удалившись назад к деревне, крестьяне слышали вдалеке, со стороны так называемой Ганиной ямы, глухие разрывы, как бы от двух-трех ручных гранат.
Однако крестьяне не поверили объяснениям красноармейцев и, зная о приближении белогвардейцев, заподозрили большевиков в укрывательстве в этом глухом районе оружия. Поэтому, когда большевики вскоре покинули Екатеринбург и ушли в направлении на Пермь, а это произошло уже после того, как стало известно о расстреле ими бывшего Государя, крестьяне, собравшись человек восемь, снова отправились в тот же район Ганиной ямы. Здесь они наткнулись на следы двух свежих кострищ: одного – у старой открытой шахты, а другого – неподалеку, на лесной дорожке, под большой березой. Трава кругом кострищ и шахты была сильно помята. В старой шахте на поверхности наполнявшей ее воды плавали свежие сосновые ветки, палки и обгорелые головешки.
Порывшись в кострищах, крестьяне нашли: обгорелый изумрудный крест, топазовые бусинки от ожерелий, пряжки от туфель с мелкими бриллиантиками, военную пряжку детского размера от кожаного пояса, 6 пар передних корсетных планшетов-застежек, 17 костей корсетных металлических, 17 мужских пряжек от подтяжек, 17 застежек от женских подвязок, стекло от медальона, стекло от очков, 6 военных гербовых пуговиц и много разных больших и малых, мужских и женских, металлических и костяных пуговиц, крючков, петель, гвоздиков и винтиков и куски сгоревшей кожи от обуви и каблуков. Все найденные вещи были сильно обгоревшими и попорченными.
Крестьяне сообразили, что большевики здесь не оружие прятали, а что-то жгли и укрывали и, вернувшись в деревню, передали все найденные вещи ему, Шереметьевскому.
Эти новые сведения вызвали большое смущение в комиссии офицеров, назначенных для розыска. Осмотр вещей, принесенных Шереметьевским, и сличение их с вещами, найденными в доме Ипатьева, не оставляли никакого сомнения в тождественности вещей и принадлежности их Царской Семье: такие же пряжечки от туфель с бриллиантиками, те же пуговицы, петли и крючки, такие же пряжки от подвязок и подтяжек и т. п. Всем стало ясно, что большевики жгли в Коптяковском лесу одежду членов Царской Семьи. Отсюда, как логическое последствие впечатления, вынесенного от осмотра дома Ипатьева, родилось страшное и определенное убеждение; Августейшая Семья убита; тела вывезены преступниками в лес, там их обыскали, раздели и бросили в шахту, а одежду, белье и прочее сожгли, дабы скрыть следы. Все, кто по нравственному побуждению сомневался до сих пор в возможности такого зверского преступления, теперь отказывались от своих сомнений. Для всех факт убийства всех членов Царской Семьи стал истиной, которая для своей окончательной реальности требовала только найти тела убитых.
Найти тела казалось так просто и легко. Где же им и быть, как не там, в шахте, где сжигали одежду, или зарытыми поблизости шахты, что разыскать нетрудно. Но, естественнее, они просто брошены в старую шахту. Так думали и рассчитывали все офицеры комиссии, и мыслями их всецело овладела эта теперь страшная шахта.
Тотчас было приступлено к организации поездки в район шахты. Офицеры торопились: хотелось скорее найти и извлечь дорогие тела и хоть мертвыми вырвать их из рук советской власти. Эта власть, в представлении офицерства, определилась уже вполне ясно: все знали, что во главе палачей в Ипатьевском доме стоял Янкель Юровский; все знали, что распоряжался судьбой Царской Семьи в местном совдепе Исаак Голощекин; все знали состав президиума местного совдепа, где из 12 его членов – 7 было евреев, 1 латыш и 4 русских. Все понимали, из чьих рук будут вырваны тела…
Поездка была намечена на 29 июля, но не смогли уговориться с Наметкиным, и пришлось отложить на утро 30 июля.
Между тем 20 июля офицерская комиссия узнала, что к временно исполняющему дела прокурора суда Кутузову явился добровольно житель города Екатеринбурга Федор Никитич Горшков и заявил, что от своего знакомого, бывшего следователя Михаила Владимировича Томашевского, проживавшего при большевиках в квартире комиссара Старкова, он слышал, что вся Царская Семья расстреляна. При этом Томашевский говорил, что он слышал от лица, как бы бывшего очевидцем или близко стоявшего к советской власти, подробности совершения этого убийства. Куда были увезены трупы – он ничего не говорил.
Это показание дало основание временно исполняющему дела прокурора Кутузову предложить следователю Наметкину приступить к производству предварительного следствия, и, таким образом, 30 июля Наметкин ехал в район шахты уже не только как приглашенное техническое лицо, но и как следователь по прямой возложенной на него служебной задаче. Однако это изменение его положения не улучшило дела, и в районе шахты Наметкин проявил те же индифферентность и поверхностность в исполнении своих обязанностей, как и при осмотре дома Ипатьева.
30 июля утром, захватив также доктора Деревенько и старика Чемадурова, партия офицеров отправилась в район шахты. Сразу, по непростительной вине Наметкина, сделали непоправимую ошибку: поехали не по той дороге на деревню Коптяки, по которой убийцы должны были везти трупы, если они действительно возили туда, а выбрали более удобный путь – по железной дороге до станции Исеть, оттуда на дачных извозчиках на деревню Коптяки и от нее уже проехали в район Ганиной ямы, т. е. подъехали к шахте как раз с обратной стороны. Таким образом, Наметкин, не подсказав офицерам необходимости приступать к изысканию с выяснения следов преступников, сам толкнул их на сосредоточение внимания исключительно на шахте, что впоследствии оказалось роковым в работе офицеров и уничтожило почти все следы при розысках следователем Соколовым.
Вот описание посещения и осмотра района шахты, сделанное самим Наметкиным. Пусть юристы сами оценят, помог ли Наметкин горячему желанию офицеров отыскать тела и добраться до истины.
«По дороге из деревни Коптяки, Верх-Исетской волости, в г. Екатеринбург, приблизительно в 4 верстах от этой деревни, в 16 – от Екатеринбурга, в 150 саженях вправо от дороги, в большом лесу расположен Исетский рудник, под названием «Ганина яма» (рудник брошен более 12 лет назад)[3]. Сама яма представляет из себя маленькое озеро. Саженях в 50 от озера имеется шахта в виде двух смежных колодцев почти квадратной формы (в этом районе было 23 шахты и шурфа). Стенки их выложены мелкими бревнами, длина их в 1-м колодце около 11/2 аршина и во втором около 21/2 аршина. Саженях в трех от поверхности – вода, на которой видны свежие сосновые ветки и древесная кора. Спущенный на веревке в шахту камень показал большую ее глубину и присутствие льда под водой (глубина оказалась всего 5 саженей 7 вершков). Саженях в трех от шахты к «Ганиной Яме» расположена небольшая глиняная площадка, на которой разбросано немного мелких углей и найдена обгорелая старая дамская сумочка (размер следа кострища оказался впоследствии около 4 аршин в диаметре). В соседней конусообразной яме (это был обвалившийся или обваленный шурф глубиной 12 аршин) валяются мелкие обгорелые сосновые палки (толщина их оказалась до 2–3 вершков). К югу, саженях в 12 от шахты, на лесной тропинке (колесная дорога) обнаружены признаки небольшого горелого места (размер 3 аршина в диаметре), на котором найдены обгорелые тряпки (сукно), пуговки, пряжки, обрывок кружева и какие-то черные блестящие обломки (куски костей и перегоревшей кожи, обуви). Тут же присутствовавшим при осмотре капитаном Ростиславом Михайловичем Политковским найден сильно загрязненный водянистого цвета и значительной величины камень, граненый, с плоской серединой в белой, с мельчайшими блестками, оправе. Очищенный от грязи, он проявил большую и безукоризненную игру бриллианта (12 карат). Недалеко от этого места и ближе к шахте найдены два небольших загрязненных осколка изумруда и жемчуга. В этом же месте обнаружен небольшой обрывок полосатой материи с сильным запахом керосина. У самого края широкой шахты найден в глине небольшой осколок нарезной ручной бомбы.
Спустившийся на веревке в широкую шахту присутствовавший при обыске капитан Игорь Адамович Бефталовский обнаружил на деревянных стенках ее осколки и следы от разрыва ручной бомбы и извлек из воды лист бумаги, на котором на машинке написан список советских телефонных абонентов, а из узкой шахты извлечен небольшой кусок материи защитного цвета, по-видимому, палатки или брезента.
Против обгорелого места, на лесной тропинке, на выскобленном от коры стволе большой березы написано химическим карандашом: «Горный техник И. А. Фесенко, 11 июля 1918 г.»
Вот и все. Наметкин не обратил внимания офицеров на необходимость обследовать большой район и по следам преступников искать возможности подойти к месту, где они скрывали тела. Он не обратил внимания их на изучение помятости травы, степени свежести засыпки многочисленных окружавших шахту шурфов, обрывов котлованов, ям, которые могли бы дать им основание искать тела не только в шахте. Совершенно естественно, что шахта приковала все внимание офицеров: они ехали сюда уже с предвзятой мыслью, что тела в шахте или в свежевырытой неподалеку от шахты могиле. И так как поблизости ничего похожего не оказалось, то шахта и осталась единственным центром, приковавшим все внимание офицеров.
Мало того, не говоря про слабость розыска предметов и вещей вокруг шахты, Наметкин не отметил в своем протоколе и даже всего того, что было тогда найдено. Таким образом, были пропущены найденные там же, вокруг шахты: карманная складная рамочка Государя Императора; разломанные и побитые шейные иконы Спасителя, святых Гурия, Самона и Авива, Николая Чудотворца и 28 кусков эмали от разбитых нательных икон; часть золотого украшения с тремя бриллиантами и ясным следом отруба ее каким-то рубящим оружием; осколки от зеленого флакона Государыни, с пробкой в виде короны.
Отыскать тела оказалось не так просто, как представлялось офицерам по первому впечатлению: Наметкин не дал им правильных путей к простейшему и легчайшему способу напасть на верные следы, а чтобы проникнуть в шахту, надо было сначала удалить из нее воду. Первое упущение нанесло особо непоправимый вред для будущего, ибо все следы, оставленные здесь советскими деятелями, следы их работы здесь, следы людей, лошадей, экипажей и автомобилей были в ближайшие дни затерты самими офицерами, работавшими по откачке воды из шахты.
Офицеры сами почувствовали неудовлетворительность работы Наметкина. Они отлично понимали, что в деле расследования сами могут быть или черной рабочей силой, или только наблюдающими. Но тонкость розыска, техника его, которые только и могли привести к правильным выводам и положительным результатам, – были не в их средствах и знаниях, а в руководстве Наметкина. Против него появилось озлобление и, как общее свойство этого периода, – недоверие, подозрительность. Офицеры стали на путь самостоятельных розысков, самостоятельных действий, опасаясь, что Наметкин умышленно ведет дело к затемнению его, а не к выяснению истины. А это, в свою очередь, при отсутствии технических знаний и знакомства с шахтенной работой, не обещало успеха.
2 августа, не приглашая Наметкина и никаких специалистов, офицеры самостоятельно приступили к откачиванию воды из шахты. Дело это было поручено штабс-капитану Александру Андреевичу Шереметьевскому, как офицеру, жившему в районе уральского горного округа и кое-что понимавшему в горном деле. В качестве рабочей силы были отряжены военнопленные австрийцы, ничего в этом деле не понимавшие. Несмотря на энергию, неутомимость, а порой и самоотверженность, выказанные Шереметьевским, работа шла совсем плохо; в распоряжении Шереметьевского были только слабые ручные водоотливные средства, не дававшие никаких результатов при откачивании из шахты воды. Работая круглые сутки, Шереметьевскому не удавалось понизить уровень ни на вершок; становилось ясным, что шахта имеет какой-то подземный источник пополнения, более мощный, чем водоотливные средства Шереметьевского. Сколько бы ни откачивали – вода все время оставалась на одном уровне. Погода была скверная, шли непрерывные дожди и усугубляли условия работы. Вдобавок ко всему этому 11 августа работу пришлось прекратить совершенно и снять рабочих, так как район шахты стал районом боевых действий, вызванных переходом красных в частичное контрнаступление.
Чтобы помочь офицерам и улучшить постановку дела, по соглашению между начальником гарнизона генералом Голицыным и прокурором суда общее наблюдение за розыском тел в районе Ганиной ямы было возложено на товарища прокурора Н. Магницкого. Последний, ознакомившись с положением, создавшимся у Шереметьевского, пригласил для выяснения технических причин неудовлетворительности откачки воды из шахты горного инженера Валериана Сергеевича Котенева, который сразу определил, что шахта через подземные расщелины все время питается водой из Ганиной ямы. Следовательно, чтобы обезводить шахту, надо выкачать воду из Ганиной ямы.
Работа оказалась значительно серьезнее, чем предполагали офицеры, но Котеневу удалось добыть на Верх-Исетском заводе паровую машину, привести ее в порядок, и 15 августа началась выкачка воды из Ганиной ямы и одновременно из шахты. Вода в шахте быстро пошла на убыль.
Напряженное, тревожное ожидание охватило всех офицеров; с каждым часом вода в шахте уходила все ниже и ниже, росло нетерпение, а с ним усиливалось нервное возбуждение от острого желания и вместе с тем ужаса стать лицом перед величием тайны мученической смерти.
19 августа открылось дно шахты – тел Августейшей Семьи в шахте не оказалось. Не было и в Ганиной яме.
Ил со дна шахты собрали, промыли и в нем нашли: человеческий отрезанный палец и два кусочка человеческой кожи; жемчужную серьгу Государыни Императрицы; верхнюю вставную челюсть доктора Боткина; еще кусочек жемчужины – по-видимому, от парной, но разбитой серьги Государыни; застежку для галстука; шанцевую лопатку и несколько мелких предметов, таких как пряжки, пуговки, крючки и т. п.
Удар для офицеров был страшный, все были уверены, что тела должны быть непременно в шахте. И вот их нет.
Тогда бросились искать всюду, где только указывалось разными слухами, мнениями, предположениями, досужими сведениями, не считаясь ни с какими другими обстоятельствами и данными обстановки. Это были просто уже метание из стороны в сторону, переброска от одного предположения к другому, вызванные скорее жаждой усиленной деятельности, желанием заглушить боль обманутого ожидания и бессилием в разрешении тайны. Были осмотрены и перерыты разные пункты: Мокрый луг, Березовая избушка, Старые шахты, Красная казарма и другие, называвшиеся другими случайными людьми; прошли облавами добровольцев и бойскаутов всю эту глухую, заброшенную местность, истоптали рудник вдоль и поперек – и ничего не нашли.
Тел членов Царской Семьи не оказалось нигде, хотя товарищ прокурора Магницкий, резюмируя работу, произведенную им с офицерами, чистосердечно признался, «что обследованная нами местность – не обследована, ибо если мне зададут вопрос, где царские трупы – я прямо скажу: я их не нашел, но они в урочище Четырех братьев»; на офицеров эта неудача произвела удручающее впечатление.
Дух упал, явилось сомнение.
Явилось сомнение, легче стали восприниматься разные версии.
Ошибались в версиях – теряли окончательно почву, недоверие возрастало до страшных размеров. Много времени спустя это недоверие еще продолжало чувствоваться. Были случаи, когда дело уже перешло в руки Соколова; вызовет он кого-либо из офицеров из числа тех, которые участвовали в расследовании или близко соприкасались с ним в Екатеринбурге – слышно, как перед дачей показаний они перешептываются между собой: «можно ли ему говорить все, что мы видели».
Неудача, постигшая офицеров в розыске по Царскому делу, породила неустойчивость в них мыслей, мнений. Явилась какая-то растерянность, разбитость, которую использовали те, кому было надо или выгодно затемнять дело, затруднять истине выйти наружу. Офицерство раскололось и стало на путь воспринимания различных версий, лишь бы выйти из того тупика неразгаданной тайны, куда привело их исчезновение тел Августейшей Семьи. Те, кто продолжал твердо верить в совершившееся злое дело, молчали, скрывались от разговоров и расспросов. Другие, не сознавая, ухватились за легенду, подсказанную Янкелем Свердловым: погиб Царь, а вся Семья пощажена и вывезена самими большевиками в надежное место. Третьи, вернувшись в отчаянии к германофильским симпатиям, носились с идеей спасения Царской Семьи немцами и даже называли людей, будто видевших того или другого из членов Царской Семьи в том или другом пункте того или другого иностранного государства.
Во всяком случае, непосредственное и исключительное участие строевого офицерства в самостоятельных розысках по Царскому делу кончилось почти одновременно с неудачей, постигшей их в урочище Ганиной ямы, и в дальнейшем строевой офицер ушел весь в свою прямую, боевую работу против тех, кто нанес ему новое национальное оскорбление в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Военно-уголовный розыск
Одновременно с образованием офицерской комиссии полковника Шереховского начальник гарнизона генерал-майор Голицын приказал Екатеринбургскому военно-уголовному розыску приступить к обследованию вопроса об исчезновении из Ипатьевского дома Царской Семьи агентурным путем.
Военно-уголовный розыск был, в сущности, тем же военно-контрольным аппаратом, каковые установлены нормальной организацией армии при высших штабах и войсковых частях для борьбы со шпионажем в широком значении этого оружия войны. Но особые условия Гражданской войны и необходимость, кроме подвижных органов военного контроля, следующих при войсках, иметь и неподвижные аппараты такой работы в районах, очищавшихся от Красной армии и остававшихся в тылу войск, привели к созданию при военно-административных управлениях тыловых районов и в крупных центрах также военно-контрольных органов, но соответственно преобразованных и примененных к условиям гражданской борьбы. Эти органы, в отличие от военно-контрольных органов, состоявших при войсках армии, получили название военно-уголовных розысков.
Основные должности в военно-уголовных розысках заполнялись обыкновенно из состава чинов военных контролей штабов армий, корпусов и дивизий, а второстепенные и главным образом так называемые агентурные должности пополнялись преимущественно из местных жителей, благоприятно настроенных к нам, и обыкновенно из числа лиц, имевших по своей прежней службе или деятельности какое-либо отношение к различным полицейским, охранным и сыскным управлениям и учреждениям губернских и уездных органов Министерства внутренних дел.
Такая постановка организации военно-уголовных розысков имела свои положительные и отрицательные стороны: благодаря привлечению в свои ряды лиц местного происхождения военно-уголовные розыски получали почти всегда готовые агентурные сети на местах, что позволяло им довольно скоро и легко нападать на следы скрывавшихся различных местных советских деятелей и извлекать таковых из обслуживаемого района. Но зато эти органы восприняли полностью все отрицательные стороны былых полицейских и сыскных учреждений МВД с тем большим показателем, что лучших и опытнейших былых работников сыска и агентуры на местах уже почти не оставалось, так как они были или изъяты еще в период керенщины, а затем и при большевиках, или бежали куда-нибудь очень далеко от мест своей прежней деятельности. На месте в большинстве удерживался элемент низшего разряда.
Большой недостаток лиц чувствовался и для соответственного руководительства розыскным делом: ограниченность количества специалистов этой трудной работы, требовавшей не только исключительной опытности и талантливости, но и положительной честности, ощущалась еще и в мирное время, и в период германской войны; а теперь, после годовалой разрушительной и развращающей работы нашей революции, при спешности организации тыла сибирских войск, военным властям приходилось пользоваться или простым бывшим строевым офицером, или теми, кто сами себя предлагали как бывших опытных работников по этой части.
Характернейшей чертой военно-уголовных розысков являлась их нетерпимость к какой-либо розыскной работе другого органа или учреждения и громадная самоуверенность как в личных талантах по сыску, так и в том, что только то истинно, что добывают и исследуют их управления. Это приводило прежде всего к отсутствию координации в работе между уголовным розыском и обслуживавшимся им следственным производством прокуратуры; в то время как следствие пытается направить исследование дела по одному наметившемуся руслу, по одному разработанному плану, уголовный розыск кидается самостоятельно совершенно в другую сторону, по другим путям, не помогая следствию, а загромождая его различными агентурными версиями, зачастую до абсурдности фантастичными.
Уголовный розыск задерживает массу лиц, допрашивает их, производит обыски, выемки, но весь этот обширный материал поступает к следственной власти только через один, два, а то и три месяца, в течение коих некоторые из свидетелей успевают или умереть, или исчезнуть, миновав рук прокуратуры и следователей.
Черпая данные из различных, зачастую и неизвестных даже агентурных сведений, уголовный розыск сплошь да рядом берется за разработку тех данных, тех версий, в том направлении и той окраске, которые желательны творцам преступлений, ими создаются и ими внушаются розыску через своих контрагентов. Не проверив первоисточника, не установив, можно ли доверять данному агентурному сведению, кто такой давший сведения, откуда он и кем был прежде, уголовный розыск только потому, что данные добыты им, ухватывается за эти новые данные, как за базу своей работы и прежде всего направляет свою деятельность так, чтобы доказать другим истину полученных указаний. На этом пути натыкается, конечно, и на подосланных свидетелей, и на подброшенные теми же агентами «вещественные доказательства», и весь розыск его идет по ложным путям, желательным для преступной стороны и вносящим страшную запутанность, затемнение и сумбур в следственное производство судебного следователя.
Таков был общий характер работы военно-уголовных розысков первого периода следственного производства по делу об убийстве Царской Семьи, и от такого общего характера не отличалась деятельность и Екатеринбургского военно-уголовного розыска.
Не ради критики приведена здесь общая характеристика деятельности органов военно-уголовного розыска – по тогдашнему времени лучшие все равно создать было не из чего, – но ради того, чтобы ярче обрисовались картина постановки следствия и условия, сопровождавшие его ход в этот важнейший период работы. С момента совершения убийства времени протекло немного; идя по свежим реальным следам преступления, уголовный розыск имел возможность очень скоро привести следствие к вполне определенным данным, если бы не страдал, как и другие подобные ему организации, указанными выше общими недостатками сыска, чересчур большим самомнением и легким увлечением отрицательными влияниями.
К этому необходимо добавить, что военно-уголовный розыск состоял в подчинении военным властям, почему имел возможность обособляться в своей деятельности от прокурорского надзора, находя заступничество в военном начальстве. А так как военное положение на театре военных действий подчиняло военному начальству и все гражданские учреждения, к которым, по политическим причинам революционного периода, военные власти относились вообще с предубеждением, то сплошь да рядом органы военно-уголовного розыска получали от своего начальства указания действовать втайне от прокурорского надзора.
Эти положения и создали ту сложную и запутанную обстановку для следственного производства по Царскому делу, распутать которую оказалось возможным только постановкой следствия и расследования в совершенно исключительные условия, обусловленные положением о сенаторских расследованиях.
* * *
В первое время по взятии Екатеринбурга работа Екатеринбургского военно-уголовного розыска протекала по совершенно нормальным и естественным путям, соответствовавшим вполне всей совокупности обстоятельств, обнаруженных из осмотра дома Ипатьева и района шахт.
В один из первых же дней был задержан и допрошен доктор Николай Арсеньевич Сакович, служивший при большевиках областным комиссаром здравоохранения и входивший в состав президиума областного совдепа. Несмотря на крайне поверхностный и краткий допрос этого крупного представителя советской власти, тем не менее его рассказ дал весьма существенные первоначальные данные как исходные для правильного выбора путей дальнейшего направления розыскного дела.
Сакович показал:
во-первых, что еще при перевозке Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург членами президиума обсуждался вопрос об уничтожении Царской Семьи путем устройства или крушения поезда, или провокационной охраны поезда;
во-вторых, что по этому вопросу были указания из центра, из Москвы;
в-третьих, что наибольшим значением в президиуме пользовались евреи Сафаров, Войков, Исаак Голощекин, Краснов, Поляков, Хотимский, латыш Тупетул и русские Белобородов и Сыромолотов;
в-четвертых, что Исаак Голощекин и Янкель Юровский, будучи «циниками до мозга костей, могли, не считаясь ни с чем, совершить любую гнусность»;
в-пятых, что «по отношению к бывшему Царю и его Семье у большевиков-руководителей было заметно какое-то беспокойство», характер которого он не брался определить. Сакович полагал, что расстрел бывшего Царя – ложь, «потому что на объявлениях об убийстве бывшего Государя была подпись Свердлова, а ее не могло быть, потому что сношений с Москвой до 16–17 июля уже задолго не было».
Но это последнее была уже двойная ложь самого Саковича, потому что в руках уголовного розыска находились эти самые объявления, и подписаны они были вовсе не Янкелем Свердловым, а президиумом обласовета, а также в помещении бывшего совдепа и на телеграфе были захвачены телеграммы, даты на которых указывали, что никакого перерыва связи с Москвой ни в эти дни, ни в последующие дни не было.
К сожалению, Сакович как один из участников преступления, ибо он участвовал в заседаниях президиума, решавшего вопросы о судьбе Царской Семьи, не был использован в полной мере, и уголовный розыск не поинтересовался выяснить, какие основания понудили Саковича связать объявления о расстреле с именем Янкеля Свердлова. Янкель Свердлов – это крупная фигура центральной советской власти – председатель Президиума ЦИК, и Сакович, называя его, как бы определенно свидетельствовал, что такое дело, как расстрел бывшего Царя, не могло быть исполнено без участия центральной власти или, во всяком случае, без участия всесильных главарей этой власти в Москве. Промах военно-уголовного розыска очень серьезный, исправить который удалось только много времени спустя, подойдя к разрешению его новыми изысканиями в области документальных данных, ибо Сакович умер, не допрошенный следователями.
Затем уголовному розыску удалось установить почти полностью список лиц, состоявших в охране дома особого назначения, равно и данные о том, из кого именно состояла охрана и каким порядком она формировалась. Распоряжения по этой части исходили от Исаака Голощекина, областного военного комиссара, а приводились в исполнение комиссарами Сергеем Витальевичем Мрачковским и Александром Дмитриевичем Авдеевым. Первый набирал добровольцев на Сысертском заводе, а второй – на фабрике Злоказова; оба эти завода считались наиболее большевистскими.
Выяснилось, что охрана разделялась на внешнюю и внутреннюю: внутреннюю первоначально составляли 10 добровольцев с Злоказовской фабрики во главе с помощником коменданта дома, рабочим той же фабрики, Александром Мошкиным, но позже, 4–5 июля, всю эту внутреннюю охрану уволили, а Мошкина даже арестовали и заменили какими-то не Екатеринбургскими, а прибывшими из Петрограда или Москвы «латышами». Мошкина и злоказовских рабочих уволили будто бы за кражу золотого крестика у Царской Семьи.
Тогда же и комендант дома, упомянутый выше Александр Авдеев, был заменен комиссаром чрезвычайной следственной комиссии Янкелем Хаимовичем Юровским (по-сибирски – Юровских).
Вместе с тем уголовному розыску в первые же дни работы удалось разыскать и задержать целый ряд лиц, имевших родственные или дружеские отношения с рабочими, служившими в охране. Были задержаны: Мария Медведева, жена начальника охраны Павла Медведева; Евдокия Старкова – мать Ивана Старкова, одного из охранников; Анна Тимофеева – знакомая охранника Леонида Лабушева; Феликс Якубцев – приятель охранника Ивана Колотова; наконец, Михаил Летемин – охранник команды, пробывший в ее составе от начала ее сформирования до последнего дня ее существования, 22-го июля, когда она была распущена Павлом Медведевым.
У всех этих лиц и еще у родственников охранников Поповых и Сафоновых были произведены обыски и найдены разные вещи, принадлежавшие бывшему Государю и членам его Семьи. Большая часть вещей оказалась у Летемина и Медведевой; перечень этих вещей был помещен выше. У Тимофеевой нашли брюки Государя Императора, военные, гвардейского стрелкового полка, с надписью рукой Царя внутри левого кармана: «4 августа 1900 года, возоб. 8 октября 1916 года». Брюки эти были принесены к Тимофеевой для сохранения Леонидом Лабушевым. У Стрекотиных нашлось пасхальное яйцо с Императорским гербом и золотое кольцо с вынутым камнем; у Поповых – бинокль хороший; у Старковых – деревянный полированный ящик, 3 вилки, 2 пасхальные свечи, термометр, полфлакона духов, 4 больших батистовых носовых платка, 1 чулок, овальный подпилок, 5 рамочек для фотографических карточек, металлический брелок и серебряный брелок-свисток.
Все найденные и отобранные вещи были предъявлены уголовным розыском Чемадурову, который и признал следующее.
Найденная у Летемина собачка принадлежала наследнику Цесаревичу, ее звали Джой, образ и кресты-ковчежцы с мощами святителей тоже принадлежали наследнику Цесаревичу, у которого они висели всегда в изголовье кровати. Ему же принадлежали игрушки и стекла волшебного фонаря. Зонтик и фотографический панорамный аппарат принадлежали Государыне Императрице, причем зонтик Ее Величество хранила как подарок ее матери еще в юношеские годы Государыни. Ей же и Великим княжнам принадлежали собственноручной работы вязаные скатерти и салфетки, а пуговки с бриллиантиками были Великих княжон.
Вещи, найденные у Медведевой, кроме серебряных колечек, принадлежали доктору Боткину, а колечки – Великим княжнам, хранившиеся как память о посещении Костромских монастырей во время празднования 300-летия Дома Романовых.
Отобранные у Старковых носовые платки с вырезанными метками принадлежали Великим княжнам, а все прочие вещи – наследнику Цесаревичу.
Относительно найденных у Тимофеевой брюк Чемадуров заметил, что в отношении одежды Государь Император отличался особой аккуратностью и бережливостью, носил вещи подолгу и сам отмечал где-либо на подкладке или внутри, когда предметы одежды обновлялись.
При расспросах упомянутых лиц, задержанных в разных местах и в разное время, Поповы отозвались незнанием чего-либо о судьбе Царской Семьи, а мать Ивана Старкова добавила, что, по словам ее сына, их, охранников из рабочих, в ночь с 16 на 17 июля не пустили в караул, но что ночью ее сын видел, как из ворот дома Ипатьева выехали два очень больших автомобиля и ушли куда-то по Вознесенскому проспекту в сторону Главной улицы (это могло быть направление на деревню Коптяки). Рассказы прочих задержанных совпадали в основном, что расстреляны вся Царская Семья и жившие с ней в Ипатьевском доме придворные и слуги, кроме мальчика Седнева. При этом Якубцев, со слов своего приятеля – охранника Колотова, добавлял, что тела после расстрела были зарыты там же, в саду дома Ипатьева.
Но особой тождественностью описания событий, происшедших в ночь с 16 на 17 июля, отличались показания Марии Медведевой и Михаила Летемина. Первая рассказывала со слов своего мужа, начальника охраны, просто, откровенно и ясно то, что он рассказал ей, когда 18 июля она приехала к нему в дом Попова, по его телефонному вызову, а Летемин, утверждавший, что он жил с женой на частной квартире и пришел на службу только утром 17 июля, передавал о событиях ночи со слов охранника Андрея Стрекотина, стоявшего в ту ночь на посту у окна комнаты нижнего этажа, где был пулемет, и откуда видел, что делалось в комнате, где были обнаружены следы крови и пуль.
Вот что рассказала Мария Медведева.
«Оставшись наедине со мной, муж объяснил мне, что несколько дней тому назад Царь, Царица, Наследник, все Княжны и слуги Царской Семьи, всего 12 человек, убиты. Подробности убийства в этот раз мой муж не передавал. Вечером муж мой отправил команду на вокзал, а на другой день мы с ним уехали домой, так как начальство уволило его в отпуск на два дня для раздачи денег семьям красногвардейцев.
Уже дома Павел Медведев рассказал мне несколько подробнее о том, как было совершено убийство Царя и его Семьи. По словам Павла, ночью, часа в два, ему велено было разбудить Государя, Государыню, всех Царских детей, приближенных и слуг; Павел послал для этого Константина Степановича Добрынина. Все разбуженные встали, умылись, оделись и были сведены в нижний этаж, где их поместили в одну комнату; здесь вычитали им бумагу, в которой было сказано, что “революция погибает, должны погибнуть и вы”. После этого в них начали стрелять и всех до одного убили; стрелял и мой муж; он говорил, что из Сысертских принимал участие в расстреле только он один, остальные же были не “наши”, т. е. не нашего завода, а русские или не русские, этого мне объяснено не было. Стрелявших было тоже 12 человек; стреляли не из револьверов, так по крайней мере объяснял мне муж. Убитых увезли далеко в лес и бросили в ямы какие-то, но в какой местности, ничего этого муж мне не объяснил, а я не спросила».
Так просто говорила Медведева. Из тона, которым она рассказывала, было совершенно ясно, что она передает только то, что ей счел нужным рассказать муж; чего он ей не говорил, она не знает, и ни о чем сама его не спрашивала. Так же просто предъявила она и вещи, оставленные ей мужем, когда он через два дня уехал в город и с тех пор о нем никаких сведений не было. Она знала многих из Сысертских рабочих, участвовавших вместе с мужем в охране дома особого назначения, и всех, кого вспомнила, так же спокойно назвала. И делала, и рассказывала все так откровенно и охотно не потому, что боялась за свою участь и выдачей других хотела облегчить свое собственное положение; этого совершенно не чувствовалось. Говорила так – просто потому, что знала; совершенно так же она себя держала и впоследствии, когда ее допрашивали следственные власти. Не потеряла она этого свойства и тогда, когда семь месяцев спустя, после занятия Перми, был задержан и допрашиваем ее муж; она и тогда, ему в глаза, подтвердила, что он сам ей сказал, что тоже стрелял, а чего не говорил, того она и не знает, и никогда сама не спрашивает мужа «о служебных делах».
Рассказ Летемина, подтверждая общий характер совершившегося злодеяния, дает некоторые детали, которые могли иметь место и в действительности, но могли создаться и в разговорах о событии охранников между собой. Со слов Андрея Стрекотина, смотревшего, по словам Летемина, в окно, он, Стрекотин: «В ту ночь находился на пулеметном посту в большой комнате нижнего этажа и видел, как в его смену (а он должен был дежурить с 12 часов ночи до 4 часов утра) сверху привели вниз Царя, Царицу, всех Царских детей, доктора, двоих служителей и женщину и всех их доставили в ту комнату, которая сообщается с кладовой; дверь, ведущая из этой комнаты в кладовую, всегда оставалась запечатанной, и охране строго было приказано не открывать этой двери, так как в ней хранились вещи, принадлежавшие домовладельцу Ипатьеву. В каком порядке следовали Царь, его Семья, доктор и слуги, как доставлен был вниз Наследник – ничего этого я не знаю и никого об этом не спрашивал. Стрекотин мне только объяснил, что на его глазах комендант Юровский вычитал бумагу и сказал: “жизнь Ваша покончена”; Царь не расслышал и переспросил Юровского, а Царица и одна из дочерей перекрестились. В это время Юровский выстрелил в Царя и убил его на месте, а затем стали стрелять латыши и разводящий Павел Медведев.
…Выслушав рассказ, я сказал: столько народу перестреляли, так ведь крови на полу должно быть много. На это мое замечание кто-то из товарищей (кто именно, не помню) объяснил, что к ним в команду присылали за людьми и вся кровь была смыта, трупы вынесли на грузовой автомобиль и следы засыпали песком… Не доверяя всему этому, я спросил шофера грузовика Люханова, который мне подтвердил, что трупы он вывозил в лес и там было застряли в трясине… В какую сторону были увезены убитые и куда девали их трупы – ничего этого Люханов не объяснил, а я сам не спросил…»
По поводу найденных у него царских вещей Летемин показал:
«В течение 18, 19, 20 и 21 чисел июля как из помещений, занимаемых Царской Семьей, так и из кладовых и амбаров увозили на автомобилях царские вещи. Увозом вещей распоряжались два молодых человека, помощники Юровского; вещи увозили на вокзал, так как уже советское начальство решило покинуть Екатеринбург ввиду приближения чехословаков. Часть вещей, представлявших небольшую ценность, просто валялась в разных местах без всякого призора на дворе, на полу в комнатах и в амбаре. Из вещей, найденных у меня, часть мною подобрана как брошенная, а часть мне разрешил взять комиссар Жилинский, приехавший в дом Ипатьева 23 июля (в этот день дом был возвращен владельцу), белье мне выдал из кладовой один из помощников коменданта… Собачку, принадлежавшую Царской Семье, по кличке Джек, я взял к себе, потому что она уже ранее привыкла ко мне и я просто пожалел ее, что она пропадет с голода».
Летемин – это не простой охранник-рабочий; это бывший каторжник, каторжник гнусный: в 1911 году приговором Екатеринбургского окружного суда был присужден к лишению всех особенных прав и преимуществ с отдачей на четыре года в исправительные арестантские отделения за покушение на растление. От военной службы освобожден по болезни. Живет после отбытия наказания на родине, на Сысертском заводе.
В мае приезжает на завод комиссар Мрачковский для найма людей «на охрану бывшего Царя». Летемин узнает, что за эту службу будут платить 400 рублей в месяц жалованья. Он идет к Мрачковскому и предлагает ему свои услуги. «Мрачковский тут же справился о моем поведении и зачислил меня на службу с 20 мая 1918 года вместе с 30 другими рабочими завода».
Летемин – характерный тип сотрудников, которые нужны были советским главарям и которыми они пользовались не только для совершения изуверского преступления над бывшим Царем и его Семьей, но и во всей остальной их деятельности по водворению в России якобы народной власти. Летемин – яркий представитель именно советской народной власти. Собаку пожалеть он может, потому что по существу, по натуре он сам зверь. И комиссар Мрачковский, выбиравший добровольцев, а не бравший всех желавших, тут же, наведя справку о его поведении, которая, конечно, не дала о Летемине положительных отзывов, немедленно признал его таким, какие нужны были советской власти.
Летемина не интересует, ни как вели людей на убийство, ни как и кто совершал самое убийство, ни куда увезли убитых… Его интересует кровь: много, верно, было крови. Человеческие понятия, человеческие чувства в нем не находят себе места. Не потому, что он туп, туп до предела тупости – собрав у себя дома массу вещественных улик и приведя туда еще и собаку, – но потому, что случайно в нем сохранилось только физическое подобие человека, тогда как в юности это был уже только кровожадный зверь.
Если бы Летемин был немного лучше, вероятно, Мрачковский не взял бы его в охранную команду, ибо высшим начальникам ее, Исааку Голощекину и Янкелю Юровскому, способным, по характеристике Саковича, совершить какую угодно гнусность, нужны были именно Летемины – звери-охранники, а не охранники безопасности заключенной Царской Семьи. Семья охранялась не от попыток похищения белогвардейскими бандами, а дабы не избежать участи, предначертанной ей еще при перевозке из Тобольска в Екатеринбург, о чем поведал уголовному розыску тот же доктор Сакович.
* * *
Летемин, со слов Стрекотина и Люханова, указывает, что трупы были вывезены из Ипатьевского дома на автомобиле, и Старков рассказывал матери, что видел из дома Попова, как в эту ночь вышли из ворот два больших автомобиля и пошли куда-то по Вознесенскому проспекту. Таким образом, военно-уголовный розыск уже от двух лиц из состава охранной команды имел сведения об использовании для вывоза тел автомобиля или автомобилей.
Охранная команда занимала в доме Попова верхний этаж, а в нижнем продолжали жить частные жильцы. Усадьба Попова – угловая, и по Вознесенскому проспекту дежурил всегда ночной сторож Петр Цецегов. Как этот сторож, так и один из жителей нижнего этажа дома Попова подтвердили уголовному розыску, что действительно в эту ночь из дома Ипатьева проходил грузовой автомобиль, причем упомянутый житель, Виктор Буйвид, рассказал, что в эту ночь он не спал и, выйдя во двор после 2 часов, услышал из дома Ипатьева глухие, рваные залпы, их было около 15, а затем отдельных 3 или 4 выстрела; стреляли, по его мнению, не из винтовок и как бы в подвале. Вот после этих выстрелов, минут 20 спустя, отворились ворота загородки Ипатьевского дома и тихо, мало шумя, ушел на улицу автомобиль, свернув на Вознесенский проспект. Кроме того, он показал, что дня за два до этого из дома Ипатьева был выведен мальчик-поваренок; поселили его наверху у красноармейцев, и он часто плакал.
Бывший начальник советского гаража в Екатеринбурге, военный чиновник Петр Алексеевич Леонов, не ушел с Красной армией, а продолжал служить у нас. Он был разыскан уголовным розыском, допрошен и рассказал, что 17 июля комиссаром снабжения фронта Горбуновым было вообще потребовано 5 грузовых автомобилей, причем с одним, большим, произошла такая история: автомобиль этот, по указанию Горбунова, был подан к Американской гостинице, где квартировала Чрезвычайная следственная комиссия. Там шофера этого грузовика сняли и заменили его своим, из Чрезвычайки, а шоферу советского гаража приказали идти домой. Где побывал этот грузовик в ночь с 16 на 17 июля – неизвестно, но 19 июля, около 6 часов утра, грузовик был возвращен обратно тем шофером, что заменил возле Американской гостиницы советского шофера. Грузовик этот был в крови и грязи, но заметно было, что его мыли; пол платформы грузовика был в трех местах пробит.
Эти данные, конечно, не устанавливали еще окончательно факта, но давали определенную, естественную мысль уголовному сыску при нормальных условиях работы лиц, призванных к нему, искать сопоставления всех полученных сведений в отношении использования в эту ночь советскими деятелями автомобилей. Смена шофера, следы крови на автомобиле, поломка его – все это указания на то, что какой-то автомобиль был использован для совершенно особых и секретных целей, каковыми могли быть тайный вывоз из дома Ипатьева тел убитых членов Царской Семьи.
Две женщины из профессионального строительного союза, Мария Стародумова и Васса Дрогина, 15 июля «мыли полы и окна в доме Ипатьева». Они рассказывали уголовному розыску, что видели в этот день в столовой комнате всю Царскую Семью. Наследник Цесаревич был болен, сидел в кресле-каталке и не ходил; с ними же в столовой был и комендант Янкель Юровский, который запретил женщинам разговаривать с кем-либо из Царской Семьи. Люди внутренней охраны были какие-то нерусские и жили в комнатах нижнего этажа, сообщавшегося с верхним этажом, где жила Семья, внутренней лестницей. Денег за работу в этот день не заплатили, а когда они пришли за платой в субботу, 21 июля, то видели, как начальник охраны Павел Медведев приехал откуда-то на тройке пьяный. Все красноармейцы очень торопились, собирали вещи и отправлялись в Пермь. Медведев хотел идти в дом к Янкелю Юровскому за деньгами, но красноармейцы ему заявили, что дом закупорен и там никого нет. «А они?» – спросил Медведев. «Они все уехали в Пермь», – ответили охранники. Женщинам Медведев сказал, что деньги получат, когда вернутся обратно.
Наконец уголовный розыск задержал бывших сторожей совдепа Петра Лылова и Назара Новоселова и служившую там же при буфете Федосью Балмышеву. Эти предъявили набранные ими при уходе из помещения совдепа вещи, из числа принадлежавших Гендриковой, Шнейдер, Татищеву и Долгорукову, и рассказали, что взять вещи им разрешили «сам Белобородов, товарищ его еврей Сафаров, два брата Толмачевых и секретарь прапорщик Мутных», которые сами выбрали из сундуков и ящиков все самое ценное, а в опорожненные чемоданы напихали драгоценности, принадлежавшие названным придворным, и деньги из своей кассы и все это тоже увезли.
Таковы были данные, добытые уголовным розыском в порядке дознания, обысков и выемок. Но, кроме того, уголовному розыску было известно о находках крестьян деревни Коптяки в лесу, у шахты и в кострищах обгорелых вещей, принадлежавших Царской Семье, и о находках, сделанных офицерами при посещении ими с Наметкиным района Ганиной ямы; к этому добавилось еще показание жены бывшего казначея исполнительного комитета Екатеринбургского городского совета СРД, Евдокии Тимофеевны Лобановой, в котором она рассказала следующее.
Числа 18 июля, вечером, она хотела проехать из города к себе на дачу в деревню Коптяки. Едва миновав железнодорожную будку у переезда на горнозаводской линии при выезде в Коптяковский лес, она была остановлена двумя красноармейцами, заявившими ей, что дальше ехать нельзя; хотя у ее кучера был советский пропуск, но ее все же не пропустили. Тут же она заметила стоявший большой грузовой автомобиль. Она вернулась к будке, где и осталась ожидать.
Ночью со стороны города проехал в лес легковой автомобиль с 6–7 мужчинами, из коих один походил на еврея. Автомобиль, видимо, доезжал тоже только до красноармейской заставы, где его пассажиры слезли и ушли куда-то пешком, а автомобиль с двумя людьми вернулся к будке. Очень поздно ночью с той стороны, где была красноармейская застава, проехало 5–6 телег в направлении на город, и за ними шел грузовик, а вслед затем вернулись к легковому автомобилю его пассажиры, но без того, который был похож на еврея. Уезжая, они сказали, что теперь путь на деревню Коптяки свободен.
Казалось, что все эти перечисленные материалы, которые были добыты военно-уголовным розыском в первые две недели его работы, давали достаточно ясное и определенное указание на то, каких путей надлежало придерживаться розыску в дальнейшей работе его, дабы всемерно помочь следствию раскрыть истину. Возможно, что уголовный розыск и продолжал бы идти по уже наметившейся естественно дороге, если бы, с одной стороны, он не страдал указанными вначале общими свойствами военно-уголовных розысков и, во-вторых, если бы не имела места неудача, постигшая офицеров в районе Ганиной ямы. Если эта последняя, в отношении офицеров, сказалась, главным образом, в упадке духа, то для уголовного розыска она открыла широкое поле развитию сыска во всех допустимых и совершенно недопустимых предположениях и просто фантазиях.
Оставляя в стороне случайности благоприятного характера, которые всегда могут иметь место при стремлении раскрыть любое преступление, нормальный путь выяснения истины розыском или следствием требует прежде всего установления дознанием фактов и логических из них выводов. Это создает почву для первоначальных, допустимых фактами, предположений о возможности наличия тех или других обстоятельств и условий, из которых складывалось данное преступление или вообще событие.
Если бы военно-уголовный розыск следовал этому нормальному пути розыскной работы, то из добытых им в краткий двухнедельный срок сведений он мог бы прийти к следующим выводам как исходным этапам для своей дальнейшей работы.
Деревенько, Чемадуров, Летемин, Стародумова и Дрогина дали точный перечень лиц, содержавшихся в доме Ипатьева, а последние две, кроме того, указали, что 15 июля все члены Царской Семьи, доктор Боткин, девушка Демидова и два служителя были налицо в доме. 17 июля, рано утром, Летемин уже не находит в доме Ипатьева никого из перечисленных выше лиц. Следовательно, первым логическим этапом для дальнейшего розыска должно было бы послужить, во-первых, установление фактов, приводимых Стародумовой, Дрогиной и Летеминым и, во-вторых, выяснение того, что делалось в Ипатьевском доме в промежуток времени между днем 15 и ранним утром 17 июля.
Далее Медведева, Летемин и Якубцев говорят, что в ночь с 16 на 17 июля все члены Августейшей Семьи и состоявшие при них придворные и слуги были расстреляны, а Буйвид, один из окрестных жителей дома Ипатьева, свидетельствует, что слышал глухие залпы и отдельные выстрелы, происходившие как бы из подвального этажа этого дома. Это может составить второй этап дальнейшей сыскной работы, но установление фактов требовало серьезного, настойчивого подтверждения их путем опроса других окрестных жителей, которых было немало, ибо с трех сторон Ипатьевский дом окружен частновладельческими усадьбами.
Затем Летемин, Цецегов и Буйвид указывают на грузовой автомобиль, вышедший этой ночью со двора дома Ипатьева; Старкова, со слов сына, говорит, что было два автомобиля, а Леонов рассказывает историю о долгом и таинственном отсутствии одного из грузовых автомобилей, потребованного к чрезвычайке, и возвращении его только утром 19 июля окровавленным и поломанным. Вот третья данная для дальнейшей разработки: автомобиль пошел на Вознесенский проспект, его могли если не видеть, то слышать другие жители этой улицы и улиц дальнейшего пути следования грузовика. Уголовный розыск мог получить не только установление факта выхода этой ночью грузовика из дома Ипатьева, но и путь его следования.
Медведева, Летемин, Люханов говорят, что тела убитых увезли на грузовике куда-то в лес; крестьяне деревни Коптяки отмечают, что проезд по дороге в город мимо Ганиной ямы и урочища Четырех Братьев был закрыт большевиками рано утром 17 июля. Позже эти же крестьяне находят в кострищах в районе Ганиной ямы пожженные вещи, принадлежавшие лицам, можно даже сказать, телам Царской Семьи. Лобанова видит поздно ночью 19 июля грузовик, идущий из Коптяковского леса в город, после чего путь на Коптяки был объявлен свободным. Вот, наконец, четвертый, достаточно реальный этап для дальнейшего розыскного дела, вытекавший из первоначально собранных материалов по деятельности Исаака Голощекина и Янкеля Юровского в связи с исчезновением из дома Ипатьева всей Царской Семьи и состоявших при ней придворных и слуг.
Но уголовный розыск со второй половины августа, т. е. когда офицеры не нашли в шахте тел Царской Семьи, стал на совершенно обратный и исключительный путь работы. В разные периоды своей последующей деятельности за основание работы он брал какую-нибудь из циркулировавших и создававшихся версий и затем искал разными агентурными путями факты, которые могли бы служить подтверждением данной версии. Он отказался от фактов, уже намечавшихся материалами и жизненными событиями, и стал подыскивать материалы для предвзятых, заранее оформленных идей.
Таким путем, конечно, можно наткнуться на истину, но только случайно: это путь слишком шаткий, не специальный, не технический и не научный. Чаще всего на таком пути работающий попадает в сети, расставляемые противной стороной для маскировки своего преступления. Эта участь и постигла военно-уголовный розыск: он пошел по дороге, подсказанной самой советской властью, – убит только бывший Царь, а вся его Семья жива.
Между тем уже с первых шагов розыска стало известно, что в деле охраны Царской Семьи, условиях ее содержания и, наконец, в таинственном исчезновении их всех из дома Ипатьева – главная роль принадлежала Исааку Голощекину и Янкелю Юровскому, что одно уже должно было бы служить предупреждением уголовному розыску в сомнительности такого заявления советской власти, тем более что в самих официальных объявлениях центральной власти в Москве и Уральского облсовета в Екатеринбурге имелись странные несоответствия: Москва упоминает об отправлении в надежное место только «жены и сына», а Екатеринбург заявляет в объявлении, что в интересах обеспечения общественного спокойствия эвакуирована «Семья Романова», содержавшаяся вместе с ним.
Кроме того, когда главарями какого-либо преступного деяния являются российские, по натуре и профессии, уголовники, вроде Медведева, Летемина, Лылова и т. п., или российские лицедеи, как Саковичи, то раскрыть их работу, их поступки, их роль, установить даже их цели и причины, руководившие ими в совершенных преступлениях, не составляет особо сложного труда, и зачастую они сами помогают интересующимся добраться скорее до истины. Один не удержится и все поведает своей глупой, ограниченной и слишком простой подруге жизни и подкрепит еще оставлением на памяти ни к чему не нужных вещественных доказательств; другой – похвастается перед своим приятелем; третий, участвуя косвенно в преступлении своего «начальства», не скрывает награбленного у убитых имущества, убежденный, что все, что от «начальства», то можно; четвертый – убьет, зарежет, задушит человека, это ему безразлично, все равно, что вошь раздавить, и уводит собаку своей жертвы к себе же в дом, думая… да, вернее, ничего не думая, ибо думать он вообще не способен; пятый – он в одной компании с главарями, он среди них при обсуждении плана преступления, он не принимает мер к предупреждению преступления, но потом рассказывает о нем в пределах допустимого для себя, лицедейно полагая, что он может убедить других в своей непричастности к творившемуся злодеянию.
Но когда главарями являются изуверы и исчадия еврейского племени, вроде указанных выше, или когда хотя бы один из них был причастен к преступлению против христианской веры, то истина не дается так легко людям. Здесь будут пущены в ход и золото, и нож, и искусство, и провокация, и честь нации, и фальшивый патриотизм. Все можно, все допустимо, все оправдывается миром… если надо скрыть истинное лицо и цели Янкеля Юровского, Исаака Голощекина, Янкеля Свердлова, евреев Сафарова и Войкова, Бронштейна-Троцкого, Нахамкера-Стеклова, Розенфельда-Каменева, Апфельбаума-Зиновьева, Гиммера-Суханова, Цедербаума-Мартова, Крохмаля-Загорского, Гольдмана-Горева, Сабельсона-Радека, Гельванта-Парвуса, Гольденберга-Мешковского; Лурье-Ларина, Бебензона-Харитонова, Блейхмана-Солнцева, Щупака-Владимирова, Тобельсона-Краснощекова и многих прочих вершителей советской власти, исчадий несчастного Израильского племени, потомков виновников распятия Христа на Голгофе. И тогда уже они, «собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали…»
В деле убийства бывшего Государя Императора и всей его Семьи от современных исчадий Израильского племени надо было ожидать такой же лжи.
* * *
Ухватившись за идею, подсказанную самими главарями советской власти и преступления, уголовный розыск настолько ею увлекся, что довольно скоро и легко отказался от живых следов, предоставлявшихся ему материалами первых дней розыска. Его работа направилась исключительно на бесплодную разработку различных появлявшихся вариантов основной большевистской идеи и только запутывала и очень серьезно осложняла следственное производство Екатеринбургского прокурорского надзора. С другой стороны, указанная в общих положениях обособленность военно-уголовного розыска дала возможность через представителей военного начальства проникнуть в общество и даже в высшие правительственные сферы массе разнообразных слухов, версий и предположений, опиравшихся якобы на какие-то официальные розыскные данные, которые поддерживали определенно сомнения в самих фактах убийства в Екатеринбурге Царской Семьи и в Перми Великого князя Михаила Александровича, а порой давали пищу для умышленного продолжения дискредитации бывшего Государя Императора, Государыни Императрицы и их Детей обвинением в германофильских тенденциях.
Оставление уголовным розыском без разработки следов преступления, устанавливавшихся первоначальными фактическими данными, повело за собой, ко времени принятия следственного производства Соколовым, исчезновение от времени почти всех вещественных следов преступников и особенно их деятельности в районе Ганиной ямы. С другой стороны, слишком сильное увлечение уголовного розыска различными версиями и слухами страшно увеличило работу следователя Соколова, так как для полноты и точности основного следственного производства ему приходилось считаться и разбираться со всем розыскным материалом по этим версиям и слухам, дабы покончить с ними, доводя их или до стены, или до первоисточника появления слуха или версии, или до установления полной абсурдности положения, принимавшегося уголовным розыском за основание своей разработки. В большинстве случаев это вызывало совершенно непроизводительную трату времени.
Став на новый путь работы, военно-уголовный розыск прежде всего ухватился за слухи, сильно циркулировавшие тогда по всей Сибири и теперь еще многими не оставленные, что Царская Семья спасена Вильгельмом и вывезена куда-то за границу.
Уже 15 августа в уголовный розыск поступили откуда-то «агентурные сведения», что Семья бывшего Государя скрылась из Ипатьевского дома, переодевшись в костюмы германских авиаторов, пробравшись через фронт по подложным документам. (По поводу этой версии любопытно вспомнить интервью американского корреспондента господина Аккермана с фантастическим камердинером Домниным, где Домнин начинает свой рассказ с аэропланов, летавших над Екатеринбургом. В действительности в то время ни у чехов, ни тем паче у сибиряков ни одного аэроплана не было.)
Фантастичность именно такого похищения не останавливает уголовного розыска, и 17 августа им рассылаются телеграфные запросы начальнику уголовного розыска в Самару и железнодорожным комендантам Самаро-Златоустовской дороги, в целях обследования вопроса о проезде германских авиаторов. Конечно, долго такая фантастическая версия продержаться не могла, но достаточно сказать, что изучалась она, как предположение совершенно серьезное, и, например, нахождение в Ипатьевском доме волос Великих княжон принималось как факт, подтверждающий, что Их Высочества срезали свои волосы при переодевании в мужскую форму германских офицеров для побега. В действительности Великие княжны были вынуждены не только остричься, но даже обриться еще в Царском Селе после болезни корью.
Версия эта была окончательно оставлена, когда с падением германского могущества стало известно, что Царской Семьи в Германии нет и не было.
Исчезла эта версия; вместо нее, все в той же основной идее, уголовный розыск увлекся другой: Царская Семья спасена и вывезена самими большевиками. Эта версия была уже всецело указана советской властью в ее объявлениях о расстреле бывшего Царя.
В одном из приведенных выше рассказов, а именно, в рассказе Стародумовой и Дрогиной, есть фраза: «А они?» – спросил Медведев. «Они все уехали в Пермь», – ответили охранники. Уголовному розыску, принявшему в основание своей работы, что Царская Семья вывезена, – приведенной фразы было достаточно: «они» – это Царская Семья, и новая версия получила начало своего якобы свидетельского, документального существования. Весь положительный материал первоначальных дней розыска был как бы отброшен, забыт под впечатлением этого местоимения «они», в том, конечно, значении, какое нужно для этой версии. Уголовный розыск не обратил даже внимания, что сами Стародумова и Дрогина ставят эти переговоры Медведева с охранниками в связь с уплатой денег. И Медведев им говорит: «Получите, когда вернутся из Перми»; слишком ясно, что «они» не могли быть члены Царской Семьи, а касалось это Янкеля Юровского и других советских деятелей, связанных с вопросом уплаты денег женщинам за мытье полов.
Первоначально работа уголовного розыска при этой новой версии направилась к разработке материалов двух вариантов: Царская Семья вывезена грунтовым путем, другой – Царская Семья вывезена по железной дороге.
Данными, осветившими версию в направлении первого варианта, послужили сообщения «секретного сотрудника», командированного в расположение большевиков, который показал, что, во-первых, пробравшись «в тыл и середину» большевиков и в деревню Еловку, в 40 верстах от Ирбита, в стороне между станциями Егоршино и Ирбит, от караульного села Еловка Артемия Макарова он узнал, что перед уходом большевиков из Екатеринбурга ночью он видел, как проезжали три крытых автомобиля и две тройки; Макаров проследил их до конной почтовой станции и узнал, что лошадей не меняли и что в автомобилях увезли бывшего Государя и его Семью по направлению Верхотурья. Во-вторых, в Ирбите барахольщик Липатников говорил, что ему известно, что бывший Государь и его Семья увезены в Верхотурье.
Сведения «секретного сотрудника» были неудачны: прямой, большой тракт из Екатеринбурга в Верхотурье идет через Кувшу, а не Егоршино и проходит в 200 верстах в стороне от Ирбита. Кроме того, очень уж сомнительным показалось, что везли Царскую Семью без охраны и почему вдруг барахольщик знал, где Царская Семья, а никто другой в Ирбите ничего «секретному сотруднику» не говорил. Вариант вывоза Царской Семьи грунтовым путем оказался необоснованным, и от него отказались.
Но зато вариант о вывозе по железной дороге увлек уголовный розыск в полной мере и приковал к себе его работу до самого конца существования чинов этого розыска, т. е. до оставления нами города Перми. Не считаясь ни с чем, несмотря ни на какие фактические обстоятельства убийства всей Царской Семьи в Екатеринбурге, уголовный розыск оставался упорно и упрямо на своем пути, варьируя в деталях и духе в зависимости от устанавливавшихся следствием Соколова фактов, опровергавших положение розыска, но сохраняя неизменно в основе ложь большевиков: Царская Семья была вывезена из Екатеринбурга самими советскими властями.
В упорстве отстаивать эту версию уголовный розыск близко подошел к упоминавшимся выше Соловьеву, Симонову, Вяземской, Маркову, Попову и всем русским элементам в Германии, с той разницей, что все те не полагали, что Царская Семья, покинув Екатеринбург, оставалась во власти господ Исааков Голощекиных и Янкелей Юровских, и при этом могли ограничиваться простыми голословными утверждениями, так как доказательств от них никто потребовать не мог. Уголовный розыск был в другом положении: ему необходимо было искать доказательства версии вызова Царской Семьи из Екатеринбурга, так как таковые могли быть потребованы начальством, и на это уголовный розыск затратил все свое время существования и свой труд.
Первоначальными поводами, обратившими внимание уголовного розыска на возможность вывоза Царской Семьи по железной дороге, послужили опять-таки слухи, распространявшиеся по городу и в сущности вытекавшие все из того же официального объявления советских властей об эвакуации ими Семьи Романова. Со слов различных исчезнувших красноармейцев и рабочих передавались самые разнообразные детали этого вывоза: кто говорил, что бывшего Царя и Царицу вывезли из Ипатьевского дома на вокзал «закованными в кандалы и в автомобиле красного креста»; другие, наоборот, утверждали, что для перевозки в Пермь Царя и его Семьи был образован поезд из роскошных вагонов; третьи передавали, что один из рабочих «видел своими глазами», как Государя, «бывшего в старой потрепанной шинели», грубо втолкнули при посадке в вагон, но сам поезд «был роскошный». При этом передававшие высказывали догадку, «что Государя увезли в Ригу на основании одного из пунктов Брестского договора». Четвертые видели предназначавшиеся для перевозки Царской Семьи вагоны, у которых окна были замазаны чем-то черным. Пятые слышали от своих знакомых красноармейцев из бывшей охраны Царя, что его, «наверное, отправят в Германию, так как большевики за него взяли у немецкого короля много денег, и король взял его к себе на поруки», а охранник Лавушев или Корякин, кто-то из них, говорил, что «ему никто не может ничего сделать, потому что от германского царя строго приказано Ленину, чтобы ни один волос не был тронут у нашего Царя».
Сколько в этих слухах чисто русского, простонародного: и Царь, и Царица в кандалах, и поезд из роскошных вагонов, и окна, замазанные чем-то черным, и выкуп, взятый за Царя, и это «строго приказано Ленину», а рядом «у нашего Царя», так и сказал он «у нашего Царя», хотя сам служил у большевиков и до этого, вероятно, сам участвовал в углублении революции Керенским и развале армии Гучковым. И все-таки остался в твердом убеждении: «наш Царь», а Ленин что? – ему, конечно, Вильгельм мог приказать…
Но, с другой стороны, сколько в этих слухах чувствуется влияния и теоретически привитого в сознании и воспитании убеждения, что немец – все, немец – сила, сила страшная, немец каждому может приказать, и не может быть речи – не повиноваться; наш Царь – это, прежде всего, брат немецкого Царя; русский народ можно унизить, раздавить, истребить, а русский Царь уйдет к немцу…
Какой ужас, какой позор таятся в сути всех этих вышеуказанных слухов; какой позор для всех нас, допускавших и распространявших такие низкие мысли… Как мы не знали духовной и национальной мощи нашего Царя!
Принявшись за разработку версии о вывозе Царской Семьи по железной дороге, кроме как на указанные слухи и разговоры, уголовный розыск наткнулся и на документальную данную о том, что 20 июля из Екатеринбурга в Пермь под сильным конвоем был отправлен вагон с какими-то важными преступниками. В то же время парикмахер со станции Екатеринбург-1 Федор Иванович Иванов показал уголовному розыску, что за день или два до того, как большевики объявили о расстреле бывшего Царя, комиссар станции Гуляев сказал ему: «Сегодня отправляем Николая». Когда вечером не видя, чтобы привозили Царя, он переспросил Гуляева, тот ответил, что Царя увезли на Екатеринбург-2. Те же сведения об увозе Царя подтвердил ему, Иванову, на следующий день комиссар 4-го штаба резерва Красной армии Кучеров, а когда через два дня большевики объявили о расстреле Николая II, он, встретив обоих вместе, Гуляева и Кучерова, спросил их: «Как же это так, что верно?» На что комиссары ему ответили: «Мало что пишут».
Сопоставляя отправленный вагон с какими-то важными преступниками со сведениями, данными парикмахером Ивановым, уголовный розыск утвердился окончательно в своей версии о вывозе Царской Семьи и не пытался больше устанавливать факт отправки из Екатеринбурга, приняв то, что имели, как достаточное основание для всей работы только в направлении этой идеи…
Не менее 75 % служащих Екатеринбургского железнодорожного узла, восстановленные советским режимом, не пожелали уходить с большевиками и остались у нас на своих прежних должностях. В частности, остался на своей должности и начальник станции Екатеринбург-2. Если бы уголовный розыск, в отношении железнодорожных отправок, обратился к железнодорожным служащим и, в частности, к начальнику станции Екатеринбург-2, а не к парикмахеру Иванову, то узнал бы от них своевременно, что многие из них следили именно за тем, отправят ли большевики Царскую Семью из города или нет, и незаметно для них такой отправки сделать нельзя было. И так как отправки Царской Семьи не было, не было ее и с промежуточных станций, то стоявшие близко к делу отправки железнодорожники не поверили советскому объявлению о расстреле только одного Царя.
Мало того, 30 октября от спасшегося из Перми из-под расстрела камердинера Алексея Андреевича Волкова уголовный розыск узнал, что в вагоне под сильной охраной 20 июля советские власти вывезли из Екатеринбурга в Пермь содержавшихся все время в тюрьме графиню А. В. Гендрикову, Е. А. Шнейдер, его – камердинера Волкова, княгиню Елену Петровну Сербскую и состоявших при ней членов Сербской миссии.
Тем не менее уголовный розыск продолжает настойчиво отстаивать свою версию и, до взятия генералом Пепеляевым Перми (25 декабря 1918 г.) продолжая свою розыскную работу в этом направлении, основывает ее исключительно на агентурных сведениях. Первые полученные этим путем сведения приводили к тому, что Царскую Семью повезли из Екатеринбурга на Пермь и далее через Москву за границу. Но когда выяснилось, что в Германии Царской Семьи нет, то и в агентурных сведениях изменился маршрут следования, и некоторые указывали на направление Царской Семьи из Москвы на Казань, а другие, не называя пунктов, говорили, что вообще в глубь России. Искусственность этих агентурных сведений не могла оставлять сомнений в их недоброкачественности, но в свое время в разных кругах общества они оставляли нужное впечатление, и до сих пор еще приходится слышать сплошь да рядом, что некоторых членов Семьи видели там-то, а других там-то. Цель их была определенная – заметать следы правды, основываясь на том, что массы вообще охочи до всевозможных слухов и сплетен.
Так как эти агентурные сведения не могли быть проверены и подтверждены фактами, то все же версия уголовного розыска не получила в серьезных кругах необходимой реальности и не выходила из области предположений и гаданий. Кроме того, в последнее время работы по этой версии в Екатеринбурге осложнились тем, что руководивший розыском чиновник Кирста подвергся обвинению в некоторых проступках по службе, не связанных с Царским делом, был арестован начальником гарнизона и отчислен от должности. Только после ухода генерала Голицына на фронт генерал Гайда освободил Кирсту, и он снова занялся работой по розыскам, но, по приказанию генерала Гайды, тайно от судебных властей Екатеринбурга.
25 декабря была взята Пермь, и при сформировании местного военно-контрольного аппарата многие должности в нем были замещены чинами из состава Екатеринбургского уголовного розыска. Ушел туда и Кирста вместе с ближайшими своими сотрудниками по уголовному розыску. Тайное расследование Царского дела продолжалось ими в Перми, причем участие в нем принял самостоятельно товарищ прокурора пермского суда Тихомиров, которого прокурор суда неоднократно предупреждал о необходимости осторожно относиться к тому направлению работы, какое проводилось сыском уголовного розыска.
В Перми работа бывших чинов уголовного розыска получила быстрое развитие, не выходя из рамок все той же основной версии, что Царская Семья была вывезена из Екатеринбурга самими большевиками: появились свидетели, вещественные доказательства. Вместе с тем в связи со все более устанавливавшимся следственной властью в Екатеринбурге фактом убийства всех членов Царской Семьи, в версии уголовного розыска стали появляться новые варианты в дальнейшей судьбе членов Царской Семьи после вывоза ее из Екатеринбурга.
В общем, к моменту воспрещения уголовному розыску заниматься Царским делом версия, по данным уголовного розыска, вылилась в следующую фабулу.
Некоторое время Царская Семья будто бы проживала в Перми, сначала в бельэтаже одного дома, а затем – в подвальном помещении другого дома. В розыскном деле указывались свидетели, которые якобы видели Семью именно в этом втором помещении, и в качестве вещественного доказательства к делу была приобщена салфетка дворцового ведомства, поднятая будто бы в комнате, где свидетель видел Великих княжон. Затем Царская Семья была вывезена в направлении на Вятку и поселена в одной деревне, в 12 верстах от Глазова.
В этот период Великая княжна Анастасия Николаевна с наследником Цесаревичем будто бы отделились от Семьи и некоторое время где-то скрывались. Но однажды, неподалеку от Перми, на правом берегу Камы, в лесу близ железной дороги на Глазов, Великая княжна наткнулась на красноармейцев, которые, приняв ее за воровку, сильно избили и доставили в Пермь в помещение Чрезвычайки. Здесь был вызван доктор Уткин (еврей), который ее осматривал и прописал лекарства. Великая княжна тайно сообщила ему, что она дочь Государя – Анастасия. В своем показании доктор подробно описал наружность виденной девушки. На следующий день, когда доктор Уткин хотел снова навестить больную, ему было заявлено, что она умерла. Какой-то еврей показал товарищу прокурора Тихомирову могилу, в которой будто бы большевики похоронили Великую княжну.
По делу имелся свидетель доктор Уткин и в качестве вещественных доказательств – могила и рецепты на лекарства.
Вся эта история, скрывавшаяся от екатеринбургских следственных властей, рассказывалась с детальными подробностями всем высоким лицам, приезжавшим из тыла и Омска; рассказывалась как факт установленный, опирающийся на живых свидетелей и вещественные доказательства. Благодаря этому в Омске этой версии если не верили в полной мере, то все же допускали некоторое вероятие, тем более что данные официального следственного производства, которое вел в это время член екатеринбургского суда И. Сергеев, по причинам, о которых будет сказано ниже, не доходили до кого нужно, а если и представлялись, то в общих чертах, как предположения.
Весной 1919 года могила, которую указал какой-то еврей Тихомирову как место погребения Великой княжны Анастасии Николаевны, была вскрыта: в ней оказалось 7 мужских трупов и ни одного женского. Рецепты доктора Уткина оказались написанными на старых использованных бланках доктора Иванова с требованием об отпуске спирта для комиссаров, почему на них и были пометки комиссаров – отпустить немедленно под угрозой расстрела. Обыкновенная салфетка гофмаршальской части, по расследовании, оказалась происхождением из одной конспиративной большевистской квартиры в Перми, которая подвергалась обыску уже при нашей власти.
Свидетель по делу доктор Уткин был допрошен судебным следователем Соколовым. Сильно нервничая, сбиваясь, он в общем подтвердил свое первоначальное показание, имевшееся в деле уголовного розыска. Тогда ему были предъявлены для опознания три самые позднейшие фотографические группы Великих княжон. На первой были сняты Великие княжны Ольга, Мария и Анастасия Николаевны; он, всмотревшись, указал на Ольгу Николаевну. Следующая изображала Великих княжон Ольгу, Татьяну и Марию Николаевен – он указал на Татьяну Николаевну. Наконец, последняя фотография Великих княжон Татьяны, Марии и Анастасии Николаевен – он указал на Марию Николаевну.
Доктор Уткин – еврей, и производил впечатление или действительно ненормального человека, или, на всякий случай, симулировавшего ненормального человека.
На этом работа уголовного розыска была прервана. Ему было воспрещено заниматься розысками по Царскому делу, и все произведенное им расследование по этому делу было отобрано и поступило в дело следователя Соколова.
Начало следствия
С освобождением 25 июля войсками Войцеховского города Екатеринбурга в нем создавалось правительство, принявшее название Областного Уральского. Во главе его стал почтенный, уважаемый уральский старожил и делец Павел Васильевич Иванов, бывший председатель Биржевого комитета в Екатеринбурге, человек умеренно демократических принципов и глубоко честный. Но таких людей уже тогда оставалось немного, и правительственные аппараты, какие и создавались в то время, волей или неволей слагались из тех, которые или прошли через разврат разложения страны керенской эпохи, или были специальными продуктами ее воспитания. Кроме того, сами условия нарождения тогда власти обеспечивали проникновение, даже в ее центральные органы, лиц совершенно низких моральных качеств, но умевших повсюду шуметь и кричать своими якобы высокогуманными политическими лозунгами и популярными демократическими принципами. В частности, для Уральской правительственной власти положение серьезно осложнялось сильным закулисным влиянием на исполнительную часть работы правительственных органов, собравшихся в Екатеринбурге, крайних левых элементов из бывших членов Учредительного собрания с Черновым, Минором и Вольским во главе, нашедших себе покровительство и заступничество в среде влиятельного тогда Чехословацкого национального совета в Екатеринбурге.
При таких условиях воспринятый по наследству от 1917 года общий характер правительственной организации отражался на деятельности и взглядах всех правительственных учреждений, в том числе и на возобновлявшем свою работу Екатеринбургском окружном суде. Прежде всего, в каждом мало-мальски серьезном деле обращалось внимание на политическую сторону вопроса: нет ли данных для реакционных начал? не опасно ли для «завоеваний революции»? не пища ли для монархических заговоров? И почти все, как в несчастном 1917 году, больше всего боялись показаться ретроградами, реакционерами и особенно монархистами. Это приводило ко взаимному недоверию между служащими одного и того же учреждения, подозрительности друг к другу, к массе, к былым корпорациям, как офицерским, так и к отдельным лицам и деятелям. Одни – скрытностью и замкнутостью, другие – ложной демократичностью, третьи – различными масками всех социально-политических платформ стремились прикрыть свое действительное лицо, свои взгляды, мнения, убеждения и деятельность. Это можно отметить как в отношении отдельных лиц и служащих, так и в отношении целых правительственных учреждений в общем. Так глубоко въелся за год общественно-политический разврат керенщины, и так напуганы были руководившие развратом интеллигентные круги общественности террором черни в 1917 году по отношению ко всем тем, кого принимали за реакционеров.
Безусловно, и тогда у власти были отдельные люди, не разделявшие этого наследия 1917 года и понимавшие пагубность и узкую односторонность деятелей нашей социальной революции; уже и тогда вся плеяда наших социалистов достаточно ясно показывала всю свою политическую несостоятельность и неспособность к созидательной работе, а главное, свое полное незнание, непонимание и отчужденность от народной массы. Но общая болезнь была все еще сильна, и отдельные элементы, по крайней мере на первых порах освобождения от Советов, не в силах были бороться с общим развалом и болезнью интеллигентно-общественной мысли. Этим отдельным правительственным и общественным лицам приходилось действовать очень осторожно и осмотрительно в проведении каких-либо вопросов, дабы окончательно не провалить дела, если оно носило в глазах правительственной и общественной интеллигенции почему-либо признаки реакционности, политической опасности.
К числу таких дел на Урале было отнесено и дело об убийстве большевиками бывшего Государя Императора. Особая заинтересованность этим событием военного начальства, с непосредственным горячим участием в розысках офицерства, внушила черновско-минорским кругам серьезные опасения возможности создания, на почве этого дела, поводов для укрепления среди народных масс и в рядах нарождавшейся молодой армии монархических принципов и тенденций. Через прямых, скрытных или ложных адептов – этих печальных для России и народа политических деятелей – взгляд на значение Царского дела передался и в недра Екатеринбургского окружного суда. Первые исполнители его: следователь Наметкин и член суда Сергеев – независимо от их личных качеств, характеров и политических физиономий в своей следственной деятельности, безусловно, были под влиянием указанного выше больного политического течения мысли тогдашней гражданской власти и влиявших на нее политических партий бывших учредиловцев.
Временно исполнявший должность прокурора Екатеринбургского окружного суда Кутузов, человек прежнего воспитания и режима, не поддавшийся моральному и умственному разврату революционных принципов 1917 года и не разделявший мнений большинства сослуживцев вновь создавшегося аппарата судебной власти на Урале, посетил лично дом Ипатьева, видел то состояние, в котором он был найден 25 июля, и как опытный, видавший виды юрист сразу понял, что помещение, где содержалась Исааком Голощекиным и Янкелем Юровским Царская Семья, носило все признаки преступления, определяемого законом «разграбления после совершенного шайкой убийства хозяев или жителей помещения». Во всяком случае, для Кутузова не было сомнений, что события в Ипатьевском доме протекли совершенно не так, как их представили советские власти в своем объявлении о расстреле бывшего Царя.
Однако при тогдашнем общем политическом направлении Кутузов не имел еще достаточных данных, кроме личного впечатления, для самостоятельного возбуждения предварительного следственного производства; надо было или ждать появления более реальных поводов, или каким-нибудь путем помочь другим, не гражданско-правительственным деятелям, скорее отыскать такие поводы. Руководясь этим, Кутузов вошел в контакт с начальником гарнизона генералом Голицыным и, узнав о предположении последнего образовать для расследования специальную офицерскую комиссию полковника Шереховского, предложил пригласить в состав комиссии для технически-юридического руководства следователя по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда Наметкина. Последнего Кутузов знал мало, и особенно как деятеля при тогдашней общей политической обстановке, а выбрал его, руководствуясь тем званием следователя по важнейшим делам, которое носил Наметкин. Во всяком случае, Кутузов через Наметкина мог рассчитывать быть всегда в курсе событий по делу, в котором для него крылось несомненно преступление.
Но Провидению, видимо, Самому угодно было помочь людям начать приподымать завесу над мрачной тайной, скрывавшейся в стенах дома Ипатьева. Уже 29 июля к Кутузову явился добровольно житель города Екатеринбурга Федор Никитич Горшков, который, со слов своего знакомого, бывшего следователя Михаила Владимировича Томашевского, рассказал историю, помещенную уже выше, о том, что в Ипатьевском доме был расстрелян вовсе не только бывший Государь Император, как объявили о сем советские власти, а была уничтожена вся Царская Семья и содержавшиеся с ней доктор Боткин и слуги. Это показание дало повод Кутузову на следующий же день, 30 июля, предложить следователю Наметкину приступить к производству официального предварительного следствия по делу убийства бывшего Государя Императора Николая II, по признакам преступления, предусмотренного статьей 1453 Уложения о наказаниях.
Но и такой осторожный и скромный шаг прокурора Кутузова в этом деле, ограничившегося, дабы не повредить правосудию, возбуждением дела только по статье 1453, т. е. отнесением преступления к разряду подсудных общим судебным учреждениям, был встречен в тогдашних политических группировках и настроениях правительственных учреждений недоброжелательно, с большим несочувствием и подозрительностью к следственному делу «тенденциозного» характера. Политические группы не ограничились только выражением несочувственного отношения, проявившегося в том, что за все время существования Областного Уральского правительства никто из его членов ни разу не поинтересовался этим делом, но и не замедлили оказать свое непосредственное влияние на самое производство предварительного следствия, дабы, хотя этим путем, ограничить, по их мнению, вредное влияние, которое Царское дело могло оказать на настроение масс и армии. Это вмешательство проявилось по следующему поводу.
С первых дней работы следователя Наметкина прокурор Кутузов увидел полную непригодность его для ведения такого сложного и ответственного дела; Наметкин отличался не только леностью и небрежностью в работе, но просто игнорировал свои прямые обязанности как следователь. Так как других подходящих следователей не было, то Кутузов возбудил вопрос о возложении следственного производства, согласно закону, на одного из членов суда, причем его выбор останавливался на членах суда Михновиче или Плюскове. При предварительных переговорах с председателем суда Глассоном предполагалось окончательно назначить Михновича, опытного бывшего следователя, человека честного и стоявшего вне тогда господствовавших политических течений. Так как по положению избрание для следствия члена суда производится «общим собранием отделений Окружного суда», то этим и воспользовались соответственные политические группы для проведения более благоприятного для них третьего из кандидатов для следствия – Ивана Сергеева, тоже члена суда. 7 августа, неожиданно для прокурора Кутузова и вопреки предварительному соглашению с председателем суда Глассоном, И. А. Сергеев получил наибольшее число голосов, и на него было возложено ведение предварительного следствия по делу об убийстве бывшего Царя.
Вскоре прибыл в Екатеринбург настоящий прокурор суда В. Иорданский, которого Кутузов только замещал, и следственное производство гражданской власти совершенно отделилось от работы по исследованию, проводимой военными властями. Последние отнеслись почти враждебно к возложению следственного производства на И. А. Сергеева, избранного под влиянием определенных политических течений Черновского направления, и относились с большим предубеждением вообще к личности самого И. А. Сергеева.
Хотя Сергеев в своем прошлом проходил через стаж судебного следователя, но, судя по тому, как он вел порученное ему Царское дело, можно думать, что он никогда в жизни к этой специальной профессии никакого отношения не имел. Остается только предположить, что Сергеев – ставленник известных политических течений, противник вообще Царского дела, относился к нему как к простому исполнению канцелярской работы. Говорят, что теперь он расстрелян большевиками; если это верно, то во всяком случае он расстрелян не за участие в расследовании злодейства Исаака Голощекина, Янкеля Свердлова, Янкеля Юровского и многих иных, перечисленных выше еврейских изуверов по делу убийства Царской Семьи.
Если Наметкин отличался леностью и апатичностью к своим обязанностям, то Сергеев в произведенной работе выказал полное отсутствие самого скромного таланта следователя и абсолютное непонимание следственной прфессиональности. Его допросы свидетелей – это запись того, что хотел показать только сам свидетель или преступник; попытки вести допрос по определенной идее, определенному плану, система дополнительных вопросов – у Сергеева отсутствовали совершенно или отмечаются в протоколе только постольку, поскольку случайно сам свидетель или преступник давал для этого материал в своем показании. Он совершенно игнорирует методы установления фактов путем исследования, тщательного изучения вещественных доказательств, он просто коллекционирует их, и сами по себе у Сергеева вещественные доказательства не говорят ничего, не помогают установлению фактов преступления, не создают путей для новых следственных изысканий, а являются просто приложениями в узком понимании статьи закона.
Сергеев мог бы допрашивать самого Янкеля Юровского и, возможно, выслушав от него всю его биографию, не спросил бы его: а какое ваше отношение было к Екатеринбургской чрезвычайке, и откуда были люди, приведенные вами для внутренней охраны Царской Семьи? Сергеев не ищет раскрыть преступление путем следствия, а только создает следственное «дело»; он ждет, что преступление раскроется когда-нибудь само по себе из материалов, которые будут подшиваться к следственному «делу», узко придерживаясь буквы закона и своеобразно толкуя обязанности и права следователя по закону. Чтобы составить представление об отношении Сергеева к возложенному на него следствию, о степени стремления Сергеева раскрыть, установить какие-либо факты преступления, достаточно сравнить его работу, пользуясь хотя бы внешними ее данными, с работой Соколова. Допрос камердинера Волкова: у Сергеева 2 отпечатанные на машинке страницы, у Соколова – 27 страниц. Протокол осмотра черновика объявлений о расстреле: у Сергеева – 32 строчки, у Соколова – более 4 страниц и т. п.
Сергеев – сын крещеного еврея. Он не сочувствует изуверской политике и поступкам Бронштейна, Янкеля Свердлова, Исаака Голощекина, евреев Сафарова, Войкова и прочих их единомышленников. Сергеев – сторонник евреев Керенских, более умеренных в способах достижения целей, не таких кровожадных. Он выдвинулся в Екатеринбурге именно в период керенщины, когда уже не работоспособность, трудолюбие и знания имели значение в судебном мире, а слова, речи, политика, митинги, демократические принципы и прочий яд развала минувшего 1917 года. Сергеев и теперь примкнул, по-видимому, опять к тому же лагерю, почему и оказался выбранным для ведения исторического, национального дела. Так характерен этот тип людей нашей революции и так постоянны они в способах проявления демократических принципов, что, будучи назначен для ведения предварительного следствия по делу об убийстве бывшего Государя Императора, Сергеев и здесь не мог отказаться от проявления тех же способов; через прокурора он объявил в газетах, что ведение Царского дела возложено на него – Сергеева, и приглашал всех, знающих что-либо по этому делу, идти к нему для дачи показаний.
Шесть месяцев спустя Сергеев жаловался, что на его газетный вызов никто добровольно не пришел к нему дать свои показания. Он объяснил этим медленность следственного производства и был того мнения, что отсутствие добровольных свидетелей есть следствие общественной косности, с одной стороны, и реакционности военных сфер – с другой. Но в действительности оказались не эти причины, равно как и целью газетной публикации оказался вовсе не вызов добровольцев-свидетелей…
Совершенно верно, что Сергеев не сочувствовал тактике политических целей Бронштейнов, Апфельбаумов, Нахамкесов и прочей плеяды изуверов еврейского племени исключительного направления. Но Сергеев, хотя и крещеный, а все же был еврей, еврей по крови, плоти и духу, а потому отказаться от своих соплеменников никак не мог. Он отлично видел, что главарями советской деятельности в Екатеринбурге были евреи: Сафаров, Войков, Поляков, Хотимский, Чуцкаев, Голощекин, Краснов; он знал, что главарями Ипатьевской трагедии являлись Янкель Юровский, Исаак Голощекин, Янкель Свердлов, и целью его газетного объявления могло быть только одно – предупредить через печать: следствие начато, хотя и он избран вести его, и в его руках оно будет, но все-таки оно начато, а потому принимайте меры… А дальше? Конечно, никто из свидетелей не пойдет добровольно показывать. Да и кто мог быть этим свидетелем? Участники преступления, рабочие-охранники, скрылись, их надо было разыскивать, а в числе добровольцев они, конечно, не могли быть; Исаак Голощекин и Янкель Юровский отправились в вагоне-салоне в Москву, и на них, конечно, Сергеев рассчитывать не мог. Оставался один какой-нибудь забитый, запуганный террором большевиков случайный обыватель, почуявший в новой власти, и даже в объявлении Сергеева, запах знакомой ему возвратившейся керенщины. Естественно, никто из них пойти не мог и не пошел: еще, чего доброго, новое начальство за реакционера примет!
А Сергееву только это и надо было – деятельность показана; если не идут – виноваты косные и реакционеры; а пока не будем торопиться, затянем дело.
Конечно, это все мысли, а не материалы. Но мысли, вытекающие из всех бесед с Сергеевым, из всего его безделья и преступного небрежения к важному порученному следственному производству, которыми пропитано его следственное «Дело». Шесть месяцев Сергеев тянет следствие, почти не сделав шагу вперед против того, что ему дал военно-уголовный розыск за первые две недели своей полезной работы. Все, что он сделал от себя, – это осмотрел только более тщательно дом Ипатьева, снял фотографии комнат, вынул из стен и пола куски дерева со следами пуль, допросил поверхностно около шести новых, случайных лиц, получил кое-какие документы с телеграфа, и все. Он не углубляется в следствие, не развивает его, не изучает. Вещественные доказательства и вещи Царской Семьи, собранные в Ипатьевском доме, в районе шахты и отобранные у разных лиц, остаются не разобранными, не исследованными и даже не описанными. Он не интересуется сам съездить в Коптяковскпй лес, увидеть следы, посмотреть, что делается у Ганиной ямы. Он не вызывает свидетелей, которые указываются материалами уголовного розыска, хотя они тут же, в городе. Он ждет и не торопится, главным образом, не торопится. Это так ясно режет глаза из всего его «Дела».
И чтобы тянуть, у него есть всегда уважительные причины: никто не идет давать показания; средств на организацию розыска нет, а высшее начальство индифферентно и никаких указаний о рамках следствия не дает. Такое отношение было при Областном уральском правительстве, такое стало при Директории и такое же осталось при Омском правительстве.
22 января 1919 года от Сергеева был потребован отчет в его работе. Он сильно заволновался, и главным образом потому, что, по существу собственной натуры, он прежде всего хотел себе уяснить, чем руководилась незнакомая ему новая власть, предъявляя это требование: монархическими ли тенденциями или более левыми побуждениями? И как себя держать по отношению к ней? Маленький, худой, с продолговатым, нечистым лицом, торчащими ушами, бегающими бледно-серыми глазами, он старался рассказать как можно больше о своих шагах, работе, затруднениях, местных трениях и, торопясь, пытался ответами предупредить возможные вопросы в духе тех же политических течений, которыми, ему казалось, руководилась новая омская власть. Он производил впечатление умного, но очень себе на уме человека.
На основании имевшихся в его распоряжении следственных материалов Сергеев дал совершенно определенный ответ: убиты все члены Царской Семьи, а не только бывший Государь Император, как оповестили большевики. В этом у него никакого сомнения не было, и оставался только совершенно невыясненным вопрос, что сделали убийцы с телами своих жертв, так как при произведенных розысках тела найдены не были. Он сам указал на то, что главными руководителями преступления считает местных большевистских деятелей – евреев Сафарова, Войкова, Голощекина и Юровского, причем в отношении евреев Сафарова и Войкова добавил, что они из числа тех 30 большевистских главарей, которые были привезены в Смольный институт в запломбированном вагоне. Он категорически стоял только на том, что убийство Царской Семьи является делом исключительно Екатеринбургским и Москва тут ни при чем. «Смешно даже думать иначе», – говорил он, улыбаясь, не подымая опущенных глаз.
Когда же Сергееву был задан вопрос: почему же омские власти совершенно не имеют такого твердого убеждения в факте убийства всей Царской Семьи, как определенно докладывает он, следователь, на основании следственных данных, – Сергеев заявил, что о причинах такого положения он подаст письменную докладную записку.
Присутствовавший здесь же прокурор Екатеринбургского окружного суда В. Иорданский по уходе Сергеева пояснил, что он, прокурор, по этому делу не видит сочувствия со стороны министра юстиции, так как дважды обращался к нему и ни одного ответа не получил.
Прокурор Омской судебной палаты на основании подробных представлений Иорданского сделал министру юстиции Старынкевичу обстоятельный доклад о результатах предварительного следствия. Старынкевич, взглянув на доклад, заявил, что он не имеет времени прочесть такой обширный доклад, и просил составить ему что-нибудь покороче, чтобы он мог прочесть «перед сном».
Что же касается убийства Царской Семьи, то он, прокурор Иорданский, вполне разделяет взгляд, что преступление было инспирировано по замыслу и руководимо в исполнении нерусскими членами советской власти, что слишком видима в нем посторонняя русскому человеку рука, и особенно рука евреев. «Между тем, – добавил Иорданский, – Сергеев – сын крещеного еврея, вследствие чего, оставляя в стороне предъявление ему каких-либо обвинений в ведении следствия, я не могу не отметить, что еврейское происхождение Сергеева неблагоприятно в смысле отношения к нему значительной части Екатеринбургского общества».
Это заключение прокурора Иорданского служит только подтверждением тех мыслей, которые были высказаны в отношении точки зрения Сергеева на его роль как еврея в порученном ему следственном производстве. В отношении продуктивности ведения следствия прокурор Иорданский, конечно, ничего не мог предъявить Сергееву, так как прокурор он являлся сам ответственным за то, что своевременно не проявил должного наблюдения за работой Сергеева.
Вот что писал Сергеев в своей докладной записке.
«Об учиненном в ночь с 16 на 17 июля 1918 года (нов. ст.) убийстве бывшего Императора Николая II население города Екатеринбурга было осведомлено словесным заявлением бывшего военного комиссара Уральской области Голощекина, сделанным в помещении городского театра на устроенном для этой цели митинге.
21 июля о том же событии были расклеены по городу печатные объявления, извещавшие, что казнь бывшего Императора совершена по постановлению бывшего Президиума областного совета и что это постановление одобрено в состоявшемся 18 июля заседании Президиума ВЦИК; в том же объявлении было сообщено, что жена и сын бывшего Императора отправлены в надежное место.
Дом Ипатьева, в котором содержался бывший Император со своей Семьей, был передан в распоряжение владельца лишь 22 июля; таким образом, в течение пяти дней после совершения злодеяния дом Ипатьева находился в ведении советской власти, и за этот период времени ее агентами были приняты все меры к возможно полному уничтожению и сокрытию следов преступления.
25 июля 1918 года в г. Екатеринбург вступили передовые отряды сибирских, чехословацких и казачьих войск, и на третий день после занятия города офицерами, состоявшими при штабе начальника гарнизона полковника Шереховского, было приступлено к расследованию дела об убийстве бывшего Императора. Внимание и труд господ офицеров были направлены на обследование той местности близ деревни Коптяки, где случайно были обнаружены следы сожженных костров и найдены в пепле драгоценные вещи и мелкие несгораемые части от принадлежностей одежды и обуви (пуговицы, крючки, планшеты и т. д.).
29 июля расследованию был придан официальный характер путем поручения следствия судебному следователю по важнейшим делам Наметкину, уже ранее приглашенному военными властями для содействия при расследовании.
Судебный следователь, приступив к следствию, продолжал осмотр и обследование вышеупомянутой местности, допросив свидетелей, установивших некоторые обстоятельства, относящиеся к разъяснению факта сожжения костров, и затем приступил к осмотру дома Ипатьева.
По определению общего собрания отделений окружного суда от 7 августа дальнейшее производство следствия было возложено на меня.
Ознакомившись с данными дела, я признал важнейшей очередной задачей выяснить, насколько возможно, действительно ли совершилось самое событие преступления, и в этих целях, продолжая через особую экспедицию, под наблюдением лиц прокурорского надзора, обследование местности близ деревни Коптяки и откачивание шахты, находившейся там же, приступил к тщательному осмотру всех помещений дома Ипатьева. Результаты осмотра во всей их совокупности дали мне основание признать событие преступления достаточно установленным, и в дальнейшем необходимо было принять все доступные меры к обнаружению тел убитых и уже затем к выяснению обстоятельств совершения преступления, его вдохновителей и участников.
…Ввиду исключительной сложности обстановки исследуемого преступления, успех следствия в значительной мере обусловлен возможно наилучшей постановкой дознания и розыска, ибо результаты работы органов дознания являются основой предварительного следствия. Устав уголовного судопроизводства возлагает на судебного следователя собрание доказательств события преступления, обстоятельств его совершения и виновности или невиновности подозреваемых в нем лиц, причем это собрание доказательств должно быть выполнено указанными в законе приемами и облечено в предписанные законом формы. Указанные в законе приемы и способы собрания доказательств сводятся к следующим действиям: осмотры, освидетельствования через сведущих лиц, обыски, выемки, истребование письменных сведений и документов и допрос свидетелей и обвиняемых. Каждое следственное действие должно быть составлено в форме протокола, подписано участвующими при составлении его лицами, каждое распоряжение следователя, затрагивающее права и интересы участвующих в деле лиц, должно быть обосновано особым мотивированным постановлением. Вследствие указанной сложности форм и приемов, следственная власть не может действовать с такой быстротой и подвижностью, как органы дознания и розыска, не связанные в своей работе никакими формальностями.
…Помимо особой сложности и ответственности задач, подлежащих выполнению органами дознания и розыска, следует принять во внимание и высокое государственное и историческое значение работ по исследованию настоящего дела, и поэтому, кроме опытности и знаний, к агентам розыска должны быть предъявлены особые требования, необходимы люди безупречно честные, с известными принципами и нравственными устоями, способные работать не только “за страх, но и за совесть”. К сожалению, в первые три месяца работ круг лиц, коим можно было бы доверить дело розыска, был крайне ограничен; милиция находилась в стадии сформирования и по своему составу была совершенно неудовлетворительной; в силу этого пришлось пользоваться услугами Екатеринбургского управления уголовного розыска, во главе которого стоял достаточно способный и образованный начальник А. Ф. Кирста, но, к сожалению, не обладавший качествами, о которых сказано выше. Еще до принятия мною дела к своему производству, А. Ф. Кирсте от бывшего начальника гарнизона генерал-майора Голицына были переданы на расходы по розыску 4000 рублей, быстро и в значительной мере непроизводительно им израсходованные. Названный начальник розыска, увлекаясь своей ролью, пытался действовать независимо от судебной власти, что, конечно, отражалось на ходе и успешности работ; состав остальных чинов розыска, хорошо мне известный по моей прежней службе в прокурорском надзоре, также был далеко не на высоте своих задач. Независимо от этого, чины уголовного розыска были обременены исполнением своих прямых обязанностей по раскрытию общеуголовных преступлений, а по отсутствию средств и сил не представлялось возможным освободить их от несения этих обязанностей. Трудность работы усугублялась еще рядом следующих неблагоприятных условий: отсутствием денежных средств, потребных на расходы по розыску (только в начале октября в мое распоряжение поступило от генерала Голицына 3000 рублей и затем в начале января сего года 6000 рублей), ограниченностью территории, отсутствием налаженных аппаратов власти на местах, затруднительностью сообщений, близостью фронта и разрозненностью действий отдельных представителей власти (по преимуществу военной), имевших то или иное отношение к делу. Местная высшая гражданская власть в лице коалиционного Уральского областного правительства стояла совершенно в стороне от дела, проявляя к нему полное безразличие. Бывали случаи, когда действиями представителей власти причинялся серьезный ущерб интересам дела (истреблялись свидетели, от которых можно было ожидать полезных для дела сведений, захватывались вещи и документы, имевшие для дела значение доказательств и тому подобное).
…К числу неблагоприятных факторов надлежит отнести косность, запуганность не только широких слоев населения, но и его интеллигентных кругов; свойственное и ранее русскому народу чувство опасения “попасть в свидетели” по судебному делу проявилось в данном случае с особой силой, обусловленное, с одной стороны, боязнью возвращения большевиков, и с другой – опасением ответственности перед новой властью.
…Показателем такого настроения является следующий факт: в начале октября минувшего года мною через прокурора суда были произведены троекратные публикации в местных газетах, извещавшие население о том, что на меня возложено производство следствия по делу об убийстве бывшего Императора Николая II, и приглашавшие всех граждан, могущих сообщить относящиеся к делу сведения, явиться ко мне для дачи показания, но до сего времени ни один гражданин не явился ко мне добровольно для дачи показаний. Вредно отражалось на ходе расследования также и то распространение в населении на основании различных слухов убеждения, что бывший Император и его Семья живы и увезены из Екатеринбурга и что все опубликованные советской властью сведения по этому поводу – провокация и ложь; это убеждение было усвоено и большей частью представителей военной власти, и под влиянием этого создавалось отношение к производимому следствию, как к делу, в лучшем случае, бесполезному.
В заключение следует отметить, что работа по исследованию преступления осложняется необходимостью уделять массу времени и труда собиранию и осмотру такого материала (вещи, документы), который не имеет значения вещественных или письменных доказательств в законном смысле этого понятия, но тем не менее требует принятия целого ряда мер в интересах государственных, исторических и культурных. По этому поводу позволяю себе обратить внимание на то, что следствие ведется в условиях полной оторванности от центра и без руководящих указаний в отношении его объема, задач и пределов, тогда как по данному делу, ввиду его исключительности и важности, эти границы должны бы быть строго и точно очерчены. 31 января 1919 года. Член Ек. окр. суда Ив. Сергеев».
Докладная записка Сергеева не дала ответа на основной поставленный ему вопрос: почему Омск не ориентирован в истине совершенного в Екатеринбурге преступления? В письменном собственноручном документе он даже сам не определяет, какое же именно преступление совершено в Екатеринбурге – убийство всей Царской Семьи или только бывшего Царя. Своей докладной запиской Сергеев просто старается оправдать свою бездеятельность и слишком сугубую «законность» в ведении порученного следственного производства. В последнем отношении его ссылки на узость рамок, предоставляемых законом для деятельности судебных следователей, натянуты и искусственно подобраны для объяснения своей пассивности, а толкование употребленного законом слова «собирать» – умышленно узкое, но для него, задавшегося целью тянуть дело, необходимое. Программа, составленная Сергеевым для своей работы, определенно преднамечала затяжку дела до бесконечности: сначала выяснить, «действительно ли совершилось самое событие преступления», «в дальнейшем принять все доступные меры к обнаружению тел убитых» «и уже затем выяснить обстоятельства совершения преступления, его вдохновителей и участников». А если тела убитых не будут найдены, что и случилось в действительности, последнее, важнейшее во всем деле в историческом и национальном отношениях, должно было бы до бесконечности дожидаться своего освещения перед правосудием и историей по программе работы Сергеева. Он этими вопросами и не занимался, а тянул следствие, собирая все те материалы, которые случайно попадали к нему по первым двум пунктам намеченной программы. Только после объявления ему о передаче следственного производства для дальнейшего ведения его следователю Соколову 20 февраля 1919 года Сергеев решился и впервые в постановлении о привлечении к следствию Павла Медведева в качестве обвиняемого указал, что убита была вся Царская Семья, что преступление совершено «по предварительному уговору с другими лицами» и выполнено по заранее выработанному плану. Однако и здесь Сергеев в числе «других лиц» упомянул только Янкеля Юровского, не касаясь совершенно «вдохновителей», о которых он докладывал на словах.
Сергеев говорит, что, по ознакомлении с данными дела Наметкина, он признал «важнейшей очередной задачей выяснить, насколько возможно, действительно ли совершилось самое событие преступления». Это он признал 8 августа, а допрашивает Летемина 18 октября, а Марию Медведеву – 9 ноября. Что же он делает за это время, дабы установить факт убийства? Осматривает дом Ипатьева, но устанавливает и отмечает в протоколе все то, что отмечал в свое время Наметкин, что делали неопытные офицеры, что делал уголовный розыск. Для установления факта преступления Сергеев не замечает ни окровавленных салфеток и полотенец, ни обрызганной кровью стены, не разыскивает окровавленные опилки, которыми замывали пол, не интересуется, от каких револьверов пули, засевшие в стенах и полу подвальной комнаты нижнего этажа дома. Он дополняет осмотр лишь тем, что выпиливает из стен и пола куски досок с пулевыми следами и снимает фотографии комнат. Однако с комнаты, где был произведен расстрел, он снял фотографию не до вырезки кусков досок из стен и пола, а уже после изъятия их со следами произведенного здесь преступления. Таким образом, если уничтожить эти вынутые куски досок, то никаких следов совершенного в этой комнате действительного злодеяния нигде зафиксировано не останется.
Этот акт следственного производства Сергеева, может быть, случайно сопоставляемый с показаниями Летемина, данными 18 октября Сергееву, опять-таки наводит на мысль об умышленности некоторых действий Сергеева. Летемин, который на допросе 7 августа уголовным розыском проявил свой интерес к совершившемуся преступлению только вопросом, много ли было крови, просидев, числясь за уголовным розыском, два с половиною месяца в тюрьме, на допросе Сергеева неожиданно оказывается значительно более словоохотливым без понуждения со стороны Сергеева, а главное, значительно более интересовавшимся деталями преступления. Повторив в общем все то, что он рассказывал уголовному розыску, Летемин в конце вдруг заявил: «Все то, что я узнал об убийстве Царя и его Семьи, меня очень заинтересовало, и я решил, насколько возможно, проверить полученные мною сведения. С этой целью 18 июля я зашел в ту комнату, где был произведен расстрел, и увидел, что пол был чист, на стенах также никаких пятен я не обнаружил. В задней стене, на левой руке от входа, я заметил три дырочки глубиной с сантиметр каждая; больше никаких следов стрельбы я не видел. Вообще следов крови я нигде не обнаружил».
Правда, что Летемин оговаривался и пояснял, что осмотр он производил уже вечером и торопился, боясь, чтобы начальство не застало его за этим делом, но этого было достаточно, и в Екатеринбурге заговорили: видите, уголовный розыск прав, Семья вывезена; самое большее, что был расстрелян только бывший Царь, как и говорили советские власти. Позвольте, возражали другие, ведь кровь, много пулевых следов видели Кутузов, Деревенько, Чемадуров, Наметкин, все офицеры, масса народа, перебывавшего в доме? – Ну, это все могло появиться и потом, провокация…
Выпилить доски со следами пуль и крови Сергеев, конечно, должен был, но надо было, во-первых, снять фотографии стен комнаты, где был произведен расстрел, раньше их искажения, а во-вторых, надо было хранить выпиленные куски до экспертизы кровяных следов и пуль в порядке, установленном законом, опечатанными и с гарантией, что они не пропадут. Между тем хранение их было так небрежно, что при сдаче вещественных доказательств Сергеев не мог разыскать сразу одного из выпиленных кусков из пола.
Сергеев резко отзывается в своей докладной записке о моральных качествах чинов Екатеринбургского уголовного розыска и указывает на то, что они не стояли на должной высоте. Сергеев, оправдывая себя, отмечает, что «успех следствия в значительной мере обусловлен возможно наилучшей и широкой постановкой дознания и розыска, ибо результаты работы органов дознания являются основой предварительного следствия». Последнее Сергеев должен был добавить – при условии, когда розыск руководится следствием и следователем. При всем том делал ли Сергеев что-либо со своей стороны, чтобы улучшить дело, ускорить его ход? Давались ли им какие-либо указания чинам уголовного розыска? Использовал ли он хотя бы весь тот материал, который доставлял ему уголовный розыск, и наблюдал ли он за своевременностью поступления к нему материалов от розыска? Вот для примера сравнительная таблица посланных 13 октября 1918 года уголовным розыском оптом своих материалов следователю с отметками, что и когда сделано по ним Сергеевым.
Из 24 допрошенных уголовным розыском к январю 1919 года Сергеевым было передопрошено только 4 свидетеля. Все прочие лица были оставлены Сергеевым без внимания, хотя показания некоторых, при более опытном и детальном их расспросе, могли бы дать, вероятно, чрезвычайно существенные указания. Особенно досадно – это упущение Сергеева своевременно допросить доктора Саковича, занимавшего при большевиках должность областного комиссара здравоохранения. По свидетельству бывшего комиссара счетного отдела управления Северо-Восточной Уральской железной дороги Николая Дубовика, Сакович вместе с городским комиссаром здравоохранения, евреем Красновым, были одними из активнейших работников в областном совете, а жена Краснова, Фани Янкелевна, состояла секретарем. Между тем Сергеев, не поддерживавший, по-видимому, никаких сношений с другими лицами и организациями, работавшими вообще по политическим розыскам, выпустил Саковича из своих рук, и тот был отправлен в Омск. Значительно позже прокурор Иорданский обращался в Омск с просьбой вернуть Саковича, указывая на его отношение к Царскому делу, но 25 декабря 1918 года получил из Омска от следственной комиссии по рассмотрению дел о лицах, арестованных «в дни настоящего переворота», уведомление, что по распоряжению министра внутренних дел Сакович и его дело переданы в названную комиссию и потому обратно в Екатеринбург выслан быть не может. Сакович был настолько важным свидетелем, если не преступником, по Царскому делу, что Сергеев мог сам съездить в Омск для допроса, раз что выпустил по своей вине из своих рук. Этого, конечно, Сергеев не сделал и причинил следственному производству неисправимую ошибку.
После бывших разговоров с Сергеевым 22 января он в своей докладной записке отмечает неоднократно важность порученного ему следственного производства по раскрытию убийства Царской Семьи в государственном, историческом и культурном значениях. Жаль, что к этому сознанию он, по-видимому, пришел только под впечатлением бывших разговоров, но и то несколько исказив их, так как говорилось о значении этого дела, вещей, оставшихся после убийства Царской Семьи, и вещественных доказательств преступления в государственном, историческом и национальном отношении, а не в культурном, каковым словом Сергеев заменил определение национального значения. В течение же своей работы он совершенно не подходит к освещению дела в указанных отношениях. 8 октября он допрашивает протоиерея Сторожева. Сторожев – свидетель интеллигентный, образованный, свидетель важный, он 14 июля служил обедницу в доме Ипатьева и видел там всю Семью и всех состоявших при ней придворных и слуг. Это показание служит как бы подтверждением показаний Стародумовой и Дрогиной, видевших Семью в доме Ипатьева 15 июля. Следовательно, теперь уже, безусловно, верно, что до этого числа она никуда не исчезала из дома.
Но Сторожев и не простой интеллигентный свидетель, он сам бывший товарищ прокурора; понимает, насколько важна в этом деле каждая мелочь, деталь, не только с юридической точки зрения, но и в указанных выше отношениях. Он старается говорить как может подробнее, длинно, старается припомнить все, что видел, старается дать показание всестороннее. Что же, Сергеев пользуется этим опытным и серьезным свидетелем в целях хотя бы юридического характера для своего следствия или даже в целях просто помочь Сторожеву в его желании дать возможно исчерпывающее показание? Нисколько. Сам Сторожев в конце своего показания как бы подсказывает Сергееву: «Лично ничего более сказать не могу», – но спроси! Но Сергеев ни одного дополнительного вопроса Сторожеву не ставит; он предъявляет ему только три одинаковые иконы, найденные в доме Ипатьева: «Те же ли это иконы, что стояли на столике во время службы?..» – «Я не могу утверждать, но почти убежден, что это была одна из тех двух одинакового размера икон Нерукотворенного Спаса, которые вы мне предъявляете», – отвечает Сторожев. Таких икон из числа принадлежавших Царской Семье в доме Ипатьева было найдено четыре; как же можно утверждать про одну из них, что это была именно она? Почему же вместо этого, по меньшей мере, бесцельного предъявления иконы Сергеев не предъявил Сторожеву серьги Государыни, найденные в шахте, которые 14 июля могли быть в ушах Ее Величества, пряжку от пояса наследника Цесаревича, найденную там же, пряжечки от обуви Великих княжон, куски материи от костюмов, юбок и платьев, найденные в кострищах? Сторожев, входя в дом, видел у подъезда легковой автомобиль; почему Сергеев не расспросил его, каков был этот автомобиль, какого цвета? Ведь он уже знал показание Евдокии Лобановой об автомобиле, на котором приехали в лес в ночь с 18 на 19 июля каких-то пять человек, из коих один был похож на еврея. Отчего он не расспросил Сторожева о наружности Янкеля Юровского, его помощника, который спал на постели, о наружности красноармейцев внутренней охраны? Отчего он не поинтересовался более подробно меблировкой и вещами, бывшими тогда в комнате Янкеля Юровского, для сравнения с тем видом комнаты, в котором она оказалась 25 июля? Сторожев рассказывал, что 14 июля должен был служить отец Меледин, который перед этим уже три раза служил в доме Ипатьева, но Янкель Юровский неожиданно ему отказал и срочно потребовал Сторожева. Почему Сергеев не вызвал сейчас же отца Меледина и не попытался допросом его выяснить причины этой внезапной замены? Почему, наконец, он не допросил диакона Буймирова, который пять раз служил в доме Ипатьева и с отцом Мелединым, и с отцом Сторожевым?
Сергеев отпустил Сторожева, совершенно не использовав ни его самого, ни его показания, ни тех лиц, которые могли существенно, помимо новых данных юридического характера, обрисовать действительную картину жизни и содержания Царской Семьи в доме Ипатьева.
5 сентября был задержан Афанасий Елкин, содержавшийся при большевиках в тюрьме, но исполнявший обязанности кучера при казенных экипажах, обслуживавших комиссаров. Он показал, что 17 июля он возил до середины дня Янкеля Юровского по городу: в Американскую гостиницу, где была чрезвычайка, на частную квартиру Янкеля Юровского по 1-й Береговой улице, № 6 и днем привез его в дом Ипатьева, откуда был отпущен в тюрьму. Через день, т. е. 19 июля, он снова был потребован утром к дому Ипатьева и опять полдня возил Янкеля Юровского по городу, по разным советским учреждениям и частным квартирам. В середине дня вернулись к дому Ипатьева, и Янкель Юровский, сказав, что вечером ему нужно будет опять ехать, приказал Елкину переждать во дворе дома Попова, где жили охранники. Вечером часов в 11 Елкина послали в Американскую гостиницу, откуда он привез в дом Ипатьева каких-то двух молодых людей, из коих один был похож на еврея. В половине 12-го ночи Елкину велели подать к самым воротам дома Ипатьева; ему положили в экипаж семь мест багажа, из коих два были кожаные саквояжи, и вышел сам Янкель Юровский. Сидя в экипаже, Янкель Юровский отдал приказание молодым людям, привезенным Елкиным из чрезвычайки, «привести все в порядок, охраны оставить 12 человек, а остальных отправить на вокзал». Затем Елкин повез Янкеля Юровского с вещами в дом главного начальника, где комиссары спешно собирались тоже в путь, потом заехали в чрезвычайку, на собственную квартиру Янкеля Юровского и к кому-то в Вознесенский переулок, в дом рядом с лабораторией, а оттуда на вокзал, где Янкель Юровский с вещами ушел в поезд. Елкин в эти дни обратил внимание, что в доме Ипатьева как-то тихо, и производило впечатление, что Царской Семьи там уже нет.
Подобно показанию Сторожева, показание Елкина было тоже очень важным для следствия, так как давало косвенное подтверждение показаний Летемина. Во-первых, Летемин 17 июля утром уже не нашел Царской Семьи в доме Ипатьева, а Елкин с утра 17 июля возил полдня по городу Янкеля Юровского, который должен был бы охранять Семью в комендантской комнате, если бы она была еще в доме. А во-вторых, Летемин говорил, что уборкой и отправлением царских вещей распоряжались два помощника Янкеля Юровского, а Елкин слышал, что Янкель Юровский приказывает своим помощникам из чрезвычайки «привести все в порядок». Следовательно, период времени возможного исчезновения Царской Семьи из дома Ипатьева – от вечера 15 июля до 17 июля – для следствия подтверждался и приближался к характеру факта установленного. Но работа Сергеева в отношении планомерности, последовательности ни в чем не отличалась от работы уголовного розыска; он просто, опираясь на свое собственное толкование закона, собирает документы, не ищет из них выводов и не ищет раскрытия преступления, а обыкновенно подшивает их к делу и ждет следующего документа. Он не поинтересовался даже узнать, к кому Янкель Юровский в последние минуты своего пребывания в Екатеринбурге заезжал на Вознесенский переулок, в непосредственной близости с домом Ипатьева.
18 октября Летемин, давая показание, еще более облегчает задачу Сергеева: «16 июля, – говорит Летемин, – я дежурил на посту № 3 с 4 часов дня до 8 часов вечера и помню, что, как только я вышел на дежурство, бывший Царь и его Семья возвращались с прогулки». Следовательно, для исчезновения Семьи оставалась только ночь с 16 на 17 июля, т. е. та самая ночь, в течение которой, согласно объявлению советских властей, был расстрелян бывший Государь Император; та самая ночь, в течение которой, по показаниям Медведевой, Летемина и Якубцева, была расстреляна вся Царская Семья, а не только один бывший Царь; та самая ночь, в течение которой Буйвид и Цецегов видят грузовой автомобиль, выезжающий из ворот дома Ипатьева и направляющийся по Вознесенскому проспекту в сторону, обратную от вокзала.
Что же увозят на автомобиле? Живых или мертвых? Три года войны и особенно пережитая революция с кровавыми кронштадтскими, выборгскими и севастопольскими событиями сильно зачерствили сердца людей, нервы притупились, и общество стало индифферентно ко всякого рода ужасам и злодеяниям, творившимся вокруг него. Утвердилось мнение, что все может быть, все возможно. Поэтому и тогда, когда стало известно, что в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля было, безусловно, совершено какое-то убийство, а вслед за ним из ворот дома в сторону Коптяковского леса ушел с кем-то какой-то автомобиль, в Екатеринбургском обществе распространилась даже такая молва: расстреляны Царь, Боткин и прислуга, а Государыня с Наследником и Дочерьми, после симулирования в доме убийства всей Семьи, были вывезены к шахте в район Ганиной ямы. Там на кострищах была подстроена новая симуляция, как бы сожжение тел всей Царской Семьи, одежды и вещей, а в действительности будто бы у Ганиной ямы Семья переоделась с ног до головы и благополучно скрылась. Что это не случайная выдумка, не простой бред, тому подтверждением служит приведенная выше корреспонденция из газеты «Майничи Хроникл», появившаяся в марте 1919 года, где прямо говорилось, что какой-то граф предложил себя расстрелять вместо Царя, что и было исполнено, а Царь, воспользовавшись моментом, скрылся. Разве это не из одного источника с версией о переодевании в районе Ганиной ямы?
Казалось бы, что уже 18 октября 1918 года следствие располагало достаточными данными, чтобы донести властям в Омск и оповестить мир, что «в ночь с 16 на 17 июля в доме Ипатьева была расстреляна вся Царская Семья, со всеми состоявшими при ней лицами, а не один только бывший Государь Император, как сообщали в своем объявлении советские власти».
Но следствие было в руках соплеменника убийц – еврея.
Сергеев в разговоре категорически отрицал причастность к убийству в Екатеринбурге Царской Семьи центральной советской власти в Москве и говорил, улыбаясь, что даже смешно об этом думать. На митингах и перед собранием толпы, где, по-видимому, Сергеев привык говорить во времена керенщины, такие голословные заявления с улыбочками иногда оказывают желательное для оратора впечатление. Но в судебном следствии думают или на основании установленных фактов, или опираясь на обстоятельства и положения, выдвигаемые жизнью и событиями. Сергеев, как и уголовный розыск, на некоторые обстоятельства, выдвигавшиеся показаниями свидетелей, документами, попадавшими в следствие, закрывал глаза и не считался с ними. Уголовный розыск руководствовался стремлением использовать только то, что согласовалось с принимавшейся им в основание работы версией, а Сергеев – стремлением умалить значение совершившегося в Ипатьевском доме злодеяния.
Между тем данные, которые были подшиты у него в деле, совершенно не позволяли так убедительно отстранять руководительство центральной власти и во всяком случае были далеки от того, чтобы можно было позволить себе улыбаться перед этим вопросом.
Само объявление советской власти о расстреле бывшего Царя гласило, что постановление Уральского областного совдепа было 18 июля утверждено Президиумом ЦИК. Следовательно, сама центральная власть причисляла себя к преступникам, «расстрелявшим Николая II». Далее Сакович в своем кратком показании говорит, что по вопросу перевозки Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург, когда дебатировался вопрос, каким способом покончить с Семьей, были какие-то сношения с центром и указания из центра. У Сергеева была подшита к «Делу» телеграмма Белобородова от 4 июля в Москву Исааку Голощекину: «Сыромолотов как раз поехал организовать дело согласно указаний центра…» Наконец, Сергееву был известен ответ Пермской чрезвычайки Волкову, интересовавшемуся своей судьбой: «Мы запросим Москву».
Все это данные, которые при желании должны были заставить Сергеева очень задуматься над вопросом причастности центра к преступлению, и если он не думал и не изучал этих материалов, то, значит, не хотел. Конечно, они еще не есть доказательство участия в преступлении центральной власти, но ставят вопрос в плоскость возможного, и, значит, думать об этом было не только не смешно, а не думать об этом было преступлением…
Сергеев только 20 февраля, после того как над ним повис дамоклов меч ответственности, впервые отмечает, что убийство Царской Семьи было совершено по предварительно разработанному плану. Между тем опять-таки он располагал в своем «Деле» материалами, которые давали ему полную возможность прийти к такому выводу, и даже в более широком размере, несравненно раньше.
Когда старик Чемадуров давал 16 августа свои показания, он был совершенно больной, утомленный, расслабленный, и Сергеев предоставил ему рассказать столько, сколько он хотел и что хотел, не утомляя его долгими расспросами. Тем не менее выяснилось, что Царская Семья и состоявшие при ней в Тобольске лица были перевезены в Екатеринбург по частям: сначала, 30 апреля, с комиссаром Яковлевым приехали в Екатеринбург и были заключены в Ипатьевский дом Государь, Государыня, Великая княжна Мария Николаевна, профессор Боткин, он – Чемадуров, Седнев – детский лакей и комнатная девушка Демидова. Ехавший с ними генерал Долгоруков был по приезде в Екатеринбург отвезен прямо с вокзала в тюрьму. 23 мая комиссаром Родионовым были привезены в дом Ипатьева наследник Цесаревич, Великие княжны Ольга, Татьяна и Анастасия Николаевны, повар Харитонов, лакей Трупп и мальчик Сиднев. Так как Чемадуров чувствовал себя совершенно больным, то Государь разрешил ему ехать на родину, на что согласился и бывший тогда комендантом дома Ипатьева Авдеев, но утром 24 мая Чемадурова из дома Ипатьева доставили не на вокзал, а в тюрьму, где он и просидел до 25 июля.
Приблизительно в это же время бывший воспитатель наследника Цесаревича швейцарец Петр Жильяр дал Сергееву такие дополнительные сведения: после того как Родионов увез с вокзала наследника Цесаревича, трех Великих княжон, Харитонова, Труппа, Нагорного и мальчика Седнева, а вслед за ними другой какой-то комиссар увез графиню Гендрикову, Шнейдер, генерала Татищева и Волкова, всем остальным, приехавшим с Царской Семьей из Тобольска, было объявлено: «Вы нам не нужны» – и вместе с тем приказано немедленно оставить пределы Пермской губернии. Так как поезда в то время не ходили вследствие каких-то военных перевозок, то всем оставшимся пришлось еще несколько дней прожить в вагоне на вокзале. Доктор Деревенько через 2–3 дня нашел себе квартиру в городе и переехал туда. В один из этих дней ожидания отправки он, Жильяр, вместе с учителем английского языка г. Гибсом и доктором Деревенько шли по Вознесенскому проспекту, и в то время, когда они проходили мимо дома Ипатьева, они увидели, как из дома под конвоем вооруженных красноармейцев вывели Нагорного и Сиднева, усадили на двух извозчиков и увезли по направлению к тюрьме. При этом Нагорный, садясь на извозчика, обернулся, увидел их, узнал, долгим-долгим взглядом посмотрел на них, но ничем не выдав, что он их знает, сел, и экипаж скрылся.
Наконец, 20 октября в Екатеринбург прибыл бежавший из Перми из-под расстрела камердинер Государыни Александр Андреевич Волков и дополнил материалы Сергеевского «Дела» следующим рассказом. По его словам, после того как Родионов увез с вокзала наследника Цесаревича и Великих княжон, часа через два на вокзал прибыл комиссар Мрачковский и, вызвав И. Л. Татищева, А. В. Гендрикову, Е. А. Шнейдер и его, Волкова, увез их в тюрьму, где их продержали до 20 июля. В этот день Гендрикову, Шнейдер и Волкова посадили в вагон с 38 другими арестованными и перевезли в Пермь, где опять-таки заключили в тюрьму. 5 сентября ночью Гендрикова, Шнейдер и Волков были доставлены в арестный дом и отсюда вместе с другими заключенными, всего в числе 11 человек, были отведены за город в лес для расстрела. Сообразив, куда и на что их ведут, Волков, улучив удобный момент, бросился в сторону и побежал в лес. По нему было сделано три выстрела, но неудачных, и ему после полуторамесячного скитания удалось выйти на фронт наших войск.
Эти три свидетеля своими показаниями вполне точно устанавливают, кто к 16 июля мог находиться в доме Ипатьева. Это были: бывший Государь Император, Государыня Императрица, наследник Цесаревич, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Николаевны, профессор Евгений Сергеевич Боткин, комнатная девушка Анна Степановна Демидова, камердинер Алексей Егорович Трупп, повар Иван Михайлович Харитонов и мальчик Леонид Иванович Сиднев. Эти указания вполне совпадали с данными показаний Летемина, Медведевой, Сторожева, Стародумовой и Дрогиной и не могли вызвать сомнений. Мальчик Сиднев 16 июля утром был переведен в казарму охранников дома Попова, где многие его видели сидящим на окне и плачущим. Охранники говорили, что его предполагали отправить на родину, но никто не мог сказать, что с ним сталось в действительности.
С другой стороны, сведения, данные Чемадуровым, Жильяром и Волковым, уже тогда должны были дать следствию вполне определенные указания на то, что самую перевозку Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург советские власти проводят уже по какому-то плану, руководясь обдуманной заранее идеей. В то время эта идея выражается в том, что всю Царскую Семью и некоторых из приближенных собирают в Ипатьевском доме, где и содержат под строгой охраной; часть других приближенных и слуг заключают в тюрьму в Екатеринбурге; остальной части приближенных и слуг объявляют: «Вы нам не нужны» – и высылают за пределы Пермской губернии. Значит, те заключенные и арестованные «нужны» для какой-то цели по какой-то уже тогда обдуманной идее.
Если же опять-таки вспомнить поверхностные показания Саковича о том, что при обсуждении вопроса о перевозке Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург в Президиуме областного совета был поднят разговор о способах уничтожения ее и что были какие-то указания центра, то нельзя не предположить, что выяснившееся распределение перевозившихся на «нужных» и «ненужных» могло быть в связи как с дебатами Уральского президиума, так и с указаниями центральной советской власти в Москве. Это должно было бы навести Сергеева на мысль, что преступление в Ипатьевском доме могло не быть результатом самочинства местной советской власти, как он старался представить его таковым, а явиться не только руководимым из центра, но и выполненным по плану, заранее обдуманному и подготовленному согласно указаниям из Москвы.
Но этими данными материалов следственного «Дела» Сергеева еще не исчерпываются указания на вполне возможную допустимость существования планомерности в преступлениях, совершенных советскими властями в отношении вообще членов Дома Романовых и приближенных им лиц. Еще 5 сентября Сергеев получил найденные в бывшем помещении областного совета некоторые телеграммы, брошенные там бежавшими в спехе комиссарами. Из этих телеграмм одна говорила о будто бы совершившемся побеге 21 июня из Перми Великого князя Михаила Александровича, а другая – о нападении 18 июля в Алапаевске будто бы белогвардейской банды и похищении ею содержавшихся там под стражей Великой княгини Елизаветы Федоровны, Великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна, Игоря и Константина Константиновичей, графа В. Палея, П. Ремеза и сестры Варвары.
Между тем расследованием и дознанием, произведенными распоряжением военных властей, было установлено, что все перечисленные Высочайшие Лица пали жертвами советской власти, и в ночь с 17 на 18 июля, т. е. в следующую ночь после убийства Царской Семьи в Екатеринбурге, были живыми сброшены в старую глубокую шахту в 12 верстах от Алапаевска. 10 октября, после недельной работы, тела перечисленных Высочайших Особ и состоявших при них людей были извлечены из шахты, и дело было передано тому же Сергееву для начала предварительного следствия. Раскрытием этого преступления, с обнаружением тел мученически погибших жертв советской власти, ясно определилась вся лживость официальных советских сообщений в отношении фактов, касавшихся членов Дома Романовых вообще. Для Сергеева, располагавшего вышеприведенными материалами, обрисовывавшими планомерность в зверском убийстве тою же советской властью Царской Семьи в Екатеринбурге, эта вторая алапаевская ложь не могла не открыть глаз, если бы он не имел предначертанной себе цели затягивать дело и не торопиться с раскрытием истинной картины, характера и смысла совершенного советскими главарями преступления.
К концу октября следственное производство располагало вполне достаточным материалом для установления не только факта убийства в доме Ипатьева всей Царской Семьи, но и логически вытекавшего из определившихся событий предположения о существовании в замыслах советской власти преднамеренного, планомерного и идейного истребления вообще членов Дома Романовых и близких ему лиц. При этом выяснилось, что для приведения в исполнение своего замысла советские главари были вынуждены стать на путь совершения убийств в тайне, не отказываясь от самых изуверских способов их совершения, но усиленно скрывая свои действия от народных масс, прибегая к различным симуляциям и провокаторскому распространению заведомо ложных сведений.
Таким образом, уже с конца того же октября расследование и изучение обстоятельств зверского уничтожения Царской Семьи в доме Ипатьева должно было, независимо от нахождения или ненахождения тел убитых, естественно понудить Сергеева приняться за разработку данных следственного производства по третьему пункту намеченной им себе программы. А это ставило Сергеева лицом к лицу перед совершенно новыми горизонтами значения Царского дела. Если установление факта убийства в доме Ипатьева всей Царской Семьи было следствием изучения судебного материала после предварительной разработки его следственным производством в интересах юридической законченности расследования преступления, то допустимость предположения о наличии у советских деятелей преднамеренностей, планомерности и идейности в убийстве Царской Семьи, в связи с выяснившимися убийствами других членов Дома Романовых, выдвигала на степень «важнейшей очередной задачи» разработку данных по установлению причин, которыми руководились Исаак Голощекин, Янкель Юровский и прочие руководители этого преступления, целей, которые преследовались этими злодеяниями, и наконец вдохновителей планомерного истребления членов Дома Романовых. Уже с этого времени ведение «дела об убийстве бывшего Государя Императора Николая II» не столько сохраняло интерес юридического установления факта преступления, сколько определенно приобретало исключительное историческое и национальное значение. Действительно ли Сергеев не заметил своевременно этих исключительных обстоятельств в порученном ему следственном производстве, сказать трудно, но вся его дальнейшая работа продолжала сохранять все ту же узкую юридическую форму в пределах толкования им закона, о которой он говорит в своей докладной записке, оправдывая себя стеснительностью закона. Это был слишком умный человек, чтобы не мочь самостоятельно постигнуть широкого значения развернувшейся перед ним картины преступления и роли в нем определенных советских деятелей как центральной, так и местной власти. Если же он сознавал, но ничем не проявил этого в своей работе, то поведение Сергеева может быть определено только как предумышленное игнорирование, граничащее с соучастием в преступлении, близкое к умышленному укрывательству.
Прокурор Иорданский при обсуждении докладывал, что он всегда сознавал исключительное значение дела об убийстве бывшего Императора и выяснившихся убийств: в Алапаевске – Великих князей и Великой княгини и в Перми – Великого князя Михаила Александровича. Руководясь этим сознанием, дабы производившиеся следствия и расследования согласовывались в исходных данных, протекали по правильным путям и имели должную полноту, определил он для наблюдения ко всем отдельно работавшим группам товарищей прокуроров. Но… ничто не помогало.
Может быть, действительно закон в этом отношении немного узок и воспрещает оказывать, как общее положение, давление на следователя в том или другом направлении его работы по духу и психологии, раз что им соблюдаются основные указания следственного производства по закону, по форме. Прокурор может посоветовать, указать, но не предписать, приказать. Даже само возложение производства предварительного следствия определяется законом словом «предложил», а не «предписал». Отсюда следователь может «принимать» от прокурора указания и советы постольку, поскольку это ему хочется и нужно, легко руководясь в последнем случае только принципом не испортить служебных отношений с прокурором. Поэтому Сергеев продолжал свою деятельность в раз определенном им себе направлении – глубоко не вдаваться и, главное, не торопиться.
Еще в самом начале августа в поселке Верх-Исетского завода жители и рабочие опознали бежавшего от красных и теперь скрывавшегося жителя того же Верх-Исетского поселка Прокопия Кухтенкова, 51 года. В ноябре 1917 года он был комиссаром в Верх-Исетске, затем пошел в Красную армию и воевал на Дутовском фронте, а затем, вернувшись в Екатеринбург, был выбран на должность заведующего хозяйственной частью рабочего коммунистического клуба, где и пробыл до эвакуации Екатеринбурга. Когда большевики уходили из города, ушел и он вместе с ними, но выйдя как-то из поезда во время одной остановки, он уже не попал в него, так как поезд, ввиду приближения наших войск, внезапно ушел. Тогда Кухтенков пробрался через наши линии и вернулся в Верх-Исетск. Здесь жители его узнали, страшно избили и за его прежнее отношение к ним хотели убить. Полиция вырвала его из рук толпы и арестовала.
Кухтенков – хитренькая и подленькая личность, дрожавшая за свою жизнь. Попав в тюрьму, он стал выдавать всех известных ему большевистских деятелей, скрывавшихся, как и он, в городе, и выкладывать все, что ему было известно о былой работе их в Екатеринбурге. Очень скоро по городу распространился слух, что арестовано и содержится в тюрьме лицо, знающее, где большевики скрыли тела членов Царской Семьи, и чуть ли не участвовавшее само в этом убийстве. Рассказывали с его слов и разные подробности совершившегося преступления, называли участников, исполнителей и руководителей.
Только 13 ноября Сергеев вызвал к себе Прокопия Кухтенкова и предоставил ему рассказать о себе то, что нашел нужным показать сам Кухтенков.
«Числа 18–19 июля, – рассказывал он, – часа в четыре утра в клуб пришли председатель Верх-Исетского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Сергей Павлович Малышкин, военный комиссар Верх-Исетска Петр Ермаков и видные члены партии коммунистов: Александр Егорович Костоусов, Василий Иванович Леватных, Николай Сергеевич Партин и Александр Иванович Кривцов. Все они прошли в так называемую партийную комнату; когда я зашел было к ним в комнату, чтобы погасить электрические лампочки, кто-то из собравшейся компании сказал мне: “Товарищ Кухтенков, уходи, у нас деловой разговор”, – и я вышел из комнаты, а затем вскоре уехал на рынок за покупками; вернувшись с рынка, я уже никого из них в клубе не застал. В следующую ночь, также часа в четыре, те же самые лица, за исключением Малышкина, пришли в клуб; вид у них, как и в прошлый раз, был “воинственный”. Любопытство мое было сильно затронуто, и я решил, насколько возможно, узнать, о чем они совещаются. Было уже светло, и я подошел к партийной комнате, чтобы погасить электричество. Дверь в комнату была не притворена, и, подходя, я услышал сказанную кем-то отрывочную фразу: «Всех их было 13 человек, тринадцатый – доктор». Сказал это не то Партин, не то Леватных. Увидав меня, они сказали: “Уходи”, – а потом один из них (кто именно, не помню) сказал: “Ну ладно, старик, прибирайся, мы в сад пойдем”; я сделал вид, что занимаюсь уборкой помещения и унес в ванную комнату драпировки, а затем вслед за ними потихоньку пробрался в курятник; из курятника я вышел к огороду и через огородную дверь – в огород, смежный с клубным садом. В огороде я подполз к земляничной грядке и стал подслушивать разговор упомянутых в моем показании лиц; они сидели на скамейке на расстоянии нескольких сажен от меня. Прежде всего я услышал следующую сказанную Александром Костоусовым фразу: “Второй день приходится возиться; вчера хоронили, а сегодня перехоранивали…” Восстановить полностью и в связной форме весь происходивший в саду разговор я не могу, так как до меня доходили только отдельные фразы. Из всего мною слышанного я понял, что Леватных, Партин и Костоусов принимали участие в погребении тел убитого Государя и членов его Семьи и своими впечатлениями делились с Александром Кривцовым и комиссаром Ермаковым. Вопросы больше предлагал Кривцов, а объяснения давали и хвастались своими поступками Леватных и Партин… Про Царя говорили, “что пальтишко у него было некорыстное и сам он оброс бородой”. Про Наследника также был разговор; кто-то из собеседников сказал: “Про Наследника говорили, что он умер в Тобольске, ан и он тут”… Кто-то из собеседников начал перечислять убитых; до моего слуха дошли следующие имена: “Никола, Сашка, Татьяна, Наследник, Вырубова, доктор”; называли еще другие имена, но я их не слышал… Далее кто-то говорил, что в одежде были зашиты драгоценные камни: “Пояс подобрал – глядеть не на что, а в нем тоже камни были зашиты”».
Сергеев, оценивая это показание, говорил, что он придал этим сведениям такое важное значение, что даже для проверки Кухтенкова ходил на огород и садился в грядках по указанию Кухтенкова, чтобы установить, мог ли он с того места слышать разговор людей, сидевших на скамейке, и убедился, что мог.
Но далее этого рассказ Кухтенкова развития у Сергеева не получил и был так же, как и все остальное, подшит к «Делу». Пожалуй, что даже проверка Кухтенкова была приведена Сергеевым уже так, в разговоре, или если он действительно и проделал ее, то уже как частный человек, а не как следователь, так как в последнем случае по закону, на который все опирался Сергеев, он должен был бы составить соответственный протокол, какового в «Деле» не было.
А между тем показание Кухтенкова могло быть очень важным; оно первое называло имена некоторых из тех работников советской власти, которые непосредственно участвовали в акте сокрытия тел убитых в Ипатьевском доме. Показание Кухтенкова снова вызывало к жизни вопрос о розысках тел в районе Ганиной ямы, совершенно заглохший после неудачи, постигшей офицеров. Особенно в этом смысле оно было важно для Сергеева, который, согласно своей программе, ставил следственное производство в теснейшую связь с нахождением тел.
Но Сергеев ничего не сделал.
Простым опросом жителей Верх-Исетска выяснилось бы, что представляют собой фигуры Ермакова, Костоусова, Партина и др.: каково их прошлое и какова была их деятельность при большевиках; были ли какие-нибудь связи между этой компанией и Ганиной ямой; и немного труда стоило бы Сергееву узнать, что Ермаков и его помощник Ваганов были «в близких отношениях» с Исааком Голощекиным, который и поставил Ермакова военным комиссаром Верх-Исетска и при помощи «особого отряда» Ермакова приводил в исполнение все свои кровавые деяния по искоренению контрреволюции и упрочению советской власти в районе Верх-Исетского завода. Сергеев хотя бы из простого любопытства поинтересовался бы спросить Кухтенкова, что он понимает под определением вида совещавшихся деятелей – «воинственный», хотя сам в протоколе поставил это слово в кавычки. Значительно позже жена Леватных определила вид своего мужа в это утро, как и бывших с ним Ермакова, Костоусова и прочей компании, словом «грязный» и пояснила, что они все были перепачканы в глине и пыли. Ведь для Сергеева ясное определение вида людей, работавших по сокрытию тел убитых, имело большое значение. Но его ничего не интересовало.
Все эти дефекты, упущения, преступные игнорирования фактов и сведений, получившихся следственным производством, приходится отмечать теперь не ради придачи настоящим запискам критической тенденции, а дабы подчеркнуть более рельефно те причины, которые долго держали истинный характер всех уральских преступлений советской власти против членов Дома Романовых под флером тайны и позволили развиваться в обществе всевозможным версиям и легендам, благоприятным советским главарям и каким-то тайным, мрачным политическим деятелям за границей, преимущественно в Германии. Теперь, когда с падением Омска исчезла серьезная угроза прочности советского режима в России и ненациональные монархические тенденции германофильских российских кружков отошли в далекое будущее, работа агентов того или другого лагеря вокруг Царского дела почти совершенно затихла. Но в то время, когда еще была надежда на возможность победы Омска, оба указанных противника проявляли кипучую деятельность, каждый со своей точки зрения и в своих интересах, в целях затемнить и исказить истину совершившихся злодеяний, оказывая такое сильное влияние на мысль правительственных и общественных кругов, что истина событий подвергалась опасности потеряться для будущей беспристрастной истории переживаемой эпохи.
Выше уже указывалось, как отразилась неудача в поисках тел убитых на офицерах и на уголовном розыске. В следственном производстве согласно программе, намеченной себе Сергеевым, неудача остановила его деятельность в плоскости установления факта – было ли совершено убийство в действительности или нет? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь – следственное производство стоит перед этим вопросом, считая недостаточными все те данные, которые разбирались выше, но не предпринимая никаких самостоятельных по своей инициативе шагов для розыска новых свидетелей, новых данных.
Еще первый свидетель Федор Никитич Горшков, рассказывавший свою историю прокурору 29 июля, указал и на источник его сведений, назвал лиц, которые знали детали ужасного зверства, совершенного в доме Ипатьева. Эти лица живут тут же, в городе Екатеринбурге; вызвать их – дело минуты. Но только 6 декабря этот первоисточник данных, послуживших поводом для предварительного следствия, допрашивается Сергеевым. Это Капитолина Агафонова, сестра разводящего охранной команды Анатолия Якимова, скрывшегося из города вместе с большевиками.
«По словам брата, присутствовавшего при казни, – рассказывает Агафонова, – злодеяние было выполнено таким образом: часу в третьем ночи всех заключенных в доме лиц разбудили и попросили сойти вниз. Здесь им сообщили, что скоро в Екатеринбург придет враг и что поэтому они должны быть убиты. Вслед за этими словами последовали залпы, и Государь и Наследник были убиты сразу, все же остальные были только ранены, и потому их пришлось пристреливать, прикалывать штыками и добивать прикладами. Особенно много возни было с фрейлиной: она все бегала и защищалась подушками, на теле ее оказалось 32 раны. Княжна Анастасия притворилась мертвой, и ее также добили штыками и прикладами. Сцена расстрела была так ужасна, что брат, по его словам, несколько раз выходил на улицу, чтобы освежаться. Кто именно участвовал в расстреле и сколько человек, брат не говорил; помню, что он упоминал о каких-то латышах и говорил, что стреляли не красноармейцы, а какие-то главные, приехавшие из Совета. Этих главных было пять человек. После убийства тела убитых перенесли в автомобиль и увезли в лес».
После этого описания ужасной картины расстрела, казалось бы, не могло быть сомнений в факте совершившегося в доме Ипатьева преступления. Агафонова, подтвердив в общем показания Якубцева, Летемина, Старковой, Марии Медведевой, дала новые существенные для дела указания, что в расстреле участвовали латыши и пять каких-то главных, приехавших из Совета. Данная эта была существенной не только в юридическом отношении: она указывала, что для расстрела руководители преступления почему-то не воспользовались людьми охраны, состоявшей, как известно, из русских рабочих, а прибегли к «латышам» и каким-то «главным» из Совета. То же говорил и Старков своей матери, что их, рабочих, в эту ночь не пустили в дом; то же говорила и Мария Медведева со слов своего мужа, что кроме него никто из охранников участия в расстреле не принимал.
Если бы в Екатеринбурге между военными властями, занимавшимися расследованием, с одной стороны, уголовным розыском – с другой и гражданским следствием – с третьей, существовали нормальные взаимоотношения, сотрудничество и доверие в достижении одной цели, то, вероятно, даже при наличии рассмотренных выше материалов дело о расстреле бывшего Государя Императора было бы уже значительно более освещено и раскрыто, чем это оказалось в действительности к 22 января. Много времени для раскрытия истины было потеряно; много следов преступления успело сгладиться и исчезнуть безвозвратно, а Исааки Голощекины, Янкели Свердловы – из одного лагеря и Соловьевы и Марковы – из другого продолжали успешно творить свое дело, злое дело на Руси и для России. Выше уже говорилось, что прокурор Иорданский, по его словам, стремясь улучшить положение дела, определял для наблюдения к отдельно работавшим организациям товарищей прокурора, но указанные уже причины внутреннего характера, а часто и личного свойства не помогали объединению работы в одном направлении и дружном усилии. Мало того, товарищ прокурора Пермского окружного суда Тихомиров не только не содействовал своему прокурору Шамарину в деле собственного направления работы уголовного розыска, но, опять в тайне, всецело, несмотря на предупреждения прокурора, поддерживал ложность путей, избранных уголовным розыском в работах по Царскому делу. Уже после передачи дела следователю Соколову и ликвидации деятельности военно-уголовного розыска прокурору Шамарину было предъявлено на заключение дознание, изъятое от бывших чинов уголовного розыска. Шамарин, ознакомившись с ним и с определявшейся в нем деятельностью Тихомирова, был вынужден высказать в заключение: «Я теперь ясно вижу, что моих советов Тихомиров не послушался и свою деятельность, направленную на рекламирование и восхваление деятельности Кирсты, от меня скрыл».
Могло ли что-нибудь подобное быть в прежнее время, чтобы товарищ прокурора тайно от своего патрона входил в соглашение и поддерживал лицо уголовного розыска, с деятельностью которого не был согласен прокурор? Такое положение могло создаться только как результат разврата, внесенного керенскими судебными реформами и общей расшатанностью моральных начал, как наследие революции 1917 года. Можно ли было при таких условиях ожидать, чтобы правда о злодеянии, совершенном Исааком Голощекиным и Янкелем Юровским в Ипатьевском доме, вышла бы когда-нибудь наружу?
Когда в Омске обсуждался вопрос о рамках, которые должны быть определены для расследования и следствия по Царскому делу и Верховному правителю доложено было о размерах и характере злодеяния, совершенного советскими властями в Ипатьевском доме, то адмирал Колчак возмущенно заметил: «Как же мне докладывал министр юстиции, что Царская Семья была в Перми и что даже Великой княжне Анастасии Николаевне удалось бежать?»
Очевидно, и в Омске министру юстиции Старынкевичу версия, распущенная Кирстой и Тихомировым, была почему-то более по сердцу, чем данные официального следствия. Старынкевич – социалист-революционер; будучи при царском режиме присяжным поверенным, за какие-то политические провинности был сослан в Сибирь. По воцарении Керенского Старынкевич самовольно покинул место ссылки, прибыл в Иркутск и здесь, пользуясь различными революционными путями и приемами, самолично сделался прокурором Иркутской судебной палаты, донеся, конечно, о сем Керенскому. Керенский, будучи в то время министром юстиции Временного правительства, утвердил Старынкевича в должности. При формировании министерств в Омске, при общем недостатке людей, Старынкевич явился кандидатом с высоким цензом «бывшего прокурора судебной палаты» и был назначен министром юстиции. Едва ли будет ошибкой предположить, что, вероятно, в этих чертах краткой биографии Старынкевича кроются основания причин, почему прокурор Иорданский не получал ответов на свои запросы о руководящих указаниях для следственного производства по делу об убийстве бывшего Государя Императора. Старынкевич интересовался истиной о злодеянии, совершенном советскими властями в Ипатьевском доме постольку, поскольку ее мог объять «кратенький доклад для прочтения его перед сном».
Верховный правитель, ознакомившись с общими условиями производства следствия и расследования по делу об убийстве бывшего Государя Императора и его Семьи и с условиями взаимоотношений между отдельными ведомствами в Екатеринбурге, дабы поставить дело исследования на новых началах, принял решение без министра юстиции, на свою личную ответственность. Предписание об изъятии следственного производства от члена суда Сергеева и расследования от военных властей Екатеринбурга и Перми с передачей всего материала, вещей и вещественных доказательств по делу, впредь до назначения нового следователя, в особую комиссию было подписано Верховным правителем и скреплено подписью правителя в его собственной канцелярии.
23 января 1919 года в присутствии прокурора Екатеринбургского окружного суда Иорданского предписание было предъявлено члену суда Сергееву, и приступлено к составлению описей и приему по ним всего следственного производства, относящихся к нему вещественных доказательств и вещей, не причисленных следствием к категории вещественных доказательств, но собранных в доме Ипатьева, отобранных от разных семей красноармейцев и у других жителей города Екатеринбурга. Эта приемка дел и вещей потребовала целой недели времени, так как описей вещей раньше составлено не было. Вещей же в общем было довольно много, почему Сергеев был в состоянии по данному ему времени составить лишь краткие описи, не разбирая сундуков и ящиков, а опечатывая их печатями Екатеринбургского суда.
Вместе с тем до прибытия нового судебного следователя Сергееву было разрешено продолжать следственное производство, дабы перерыв работы не отразился неблагоприятно на самом деле. Почувствовав, что ему могут угрожать крупные неприятности за его бездействие, и дабы избежать вполне определенных обвинений, Сергеев неожиданно проявил чрезвычайную энергию и распорядительность и в течение дополнительного одного месяца работы сделал гораздо больше, чем за все предыдущие семь месяцев. Дело в том, что в его распоряжении для розыскного дела состоял способнейший и, пожалуй, единственный в то время в Сибири вполне честный агент сыска С. Алексеев, работавший не из-за средств, а по врожденной любви и ревности к этому делу. Бывший исправник, он имел громадный опыт сыщика и большое знание души преступника, и где даже старым прокурорам не удавалось добиваться правды, он легко беседой подводил преступника или свидетеля почти к полной откровенности.
Сергеев теперь решил использовать Алексеева и двумя предписаниями – от 28 января и 6 февраля – дал ему для обследования вполне определенные указания для розыска по Царскому делу. Результаты не замедлили сказаться.
30 января Алексеев находит машиниста паровоза Павла Логинова, который вел эшелон с комиссарами из Екатеринбурга, и от них много слышал про убийство Царской Семьи.
4 февраля – задерживает помощника шофера автомобиля Иосифа Мельникова, возившего 18 июля Исаака Голощекина в Коптяковский лес.
11 февраля Алексеев находит в Перми и арестует Павла Медведева, начальника охранников, участвовавшего непосредственно в расстреле Царской Семьи.
21 февраля – задерживает охранника Филиппа Проскурякова, хорошо знавшего все подробности убийства.
16 марта – находит Привалову и Ускова, свидетелей, видевших проход грузовика с телами в Коптяковский лес.
Наконец, 2 апреля Алексеев находит и арестует разводящего охранной команды Анатолия Якимова, брата Агафоновой, присутствовавшего при расстреле.
Если бы Сергеев в свое время проявил то же рвение к делу, какое показал теперь, то, вероятно, Алексеев за минувшие семь месяцев по свежим следам доставил бы ему богатейший материал для дела и не выпустил бы из своих рук такого свидетеля, каковым был Сакович. Но теперь и для Алексеева работа сильно усложнилась, так как слишком много времени было потеряно и многие из исполнителей преступления успели рассеяться по всей Сибири, скрываясь в глухих местах.
Во всяком случае, Сергееву уже не пришлось пользоваться всеми этими лицами, и они попали на изучение к новому следователю.
По рекомендации бывшего Пензенского губернатора князя Голицына для дальнейшего ведения следствия был избран бывший судебный следователь по особо важным делам при Пензенском окружном суде Николай Алексеевич Соколов, бежавший из советской России и пешком пришедший к нам, пройдя через линии расположения красных войск. Назначение Соколова состоялось 7 февраля 1919 года.
Выводы первого периода расследования и следствия
На этом кончился первый период попыток частных лиц, военных организаций и официальной судебной власти города Екатеринбурга раскрыть преступление, совершенное советскими властями в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме, и пролить свет на действительную судьбу, постигшую Августейшую Семью.
Оставляя в стороне нескольких отдельных охотников, пытавшихся самостоятельно вести поиски, но не оставивших по себе никаких документальных следов, можно заключить, что за этот период работы по раскрытию преступления велись одновременно, но мало объединенными тремя разнородными по характеру, духу и технической способности группами: офицерской, уголовного розыска и официальной следственной. Каждая из этих групп избрала для своей работы какую-нибудь одну из областей исследования и, ведя свою деятельность почти без всякой связи с данными, получавшимися другими группами, оставила по своим трудам в «Деле» материалы, позволившие при последовавшем исследовании судить как о целях, преследовавшихся данной группой работников, так равно и о том, что, в какой мере и в какой степени целесообразно было выполнено в избранной области исследования этой группой.
Офицерская группа избрала своей деятельностью область отыскания тел убитых членов Царской Семьи. Официальная следственная группа – область установления факта, было ли совершено в доме Ипатьева убийство всей Царской Семьи или нет. Уголовный розыск, стоя между этими двумя группами и критически относясь к деятельности как одной, так и другой указанной группы, избрал для своих изысканий область установления различных версий вообще об исчезновении Царской Семьи из дома Ипатьева.
Цель, характер и направление работ первой группы, в связи с достигнутыми результатами, определяются докладом товарища прокурора Н. Магницкого от 20 декабря 1918 года, состоявшего для наблюдения за работой офицеров по розыску тел в районе Ганиной ямы.
«К моменту моего вступления в дело, – говорит Магницкий, – уже было предположение, что трупы Царской Семьи и самого Государя Императора находятся в 14 верстах от города Екатеринбурга в лесу, в шахтах, расположенных неподалеку от дороги на деревню Коптяки… На эту шахту и было обращено главное внимание… Еще до моего вступления в дело там уже начаты были работы под наблюдением штабс-капитана Андрея Андреевича Шереметьевского, который затем, вследствие ухода на фронт, был заменен его братом, Александром Андреевичем Шереметьевским. Должен сказать, что в то время в городе, со стороны как должностных, так и частных лиц сочувствия к этому делу не встречалось, и только благодаря энергии начальника гарнизона генерала Голицына, любезности Верх-Исетского заводоуправления и труду добровольцев, я позволю себе так выразиться, удалось кое-что сделать». Были получены сильные водоотливные средства, приняли участие горные техники и специалисты, и за шесть дней шахта была освобождена от воды.
Тел в шахте не оказалось.
Магницкий отмечает особенно деятельность Шереметьевского, «который, работая в невозможных условиях, был единственным человеком, относящимся к делу серьезно и с любовью. В то время около 10 дней шли дожди. Ночевка в лесу под дождем в местности, находящейся невдалеке от происходящих боев (верст 20), подчас совершенно без горячей пищи, не ослабляла энергии этого человека, а я скажу – усиливала. В особенности это ярко бросалось в глаза, когда человек, работающий безвозмездно, переносит лишения и не ропщет, и с другой стороны, я приведу пример: должностное лицо, ныне уже уволенный начальник уголовного розыска Кирста, которому специально поручено было это дело, которому отпускались средства на ведение его, совершенно игнорировал эту часть дознания, и лишь с трудом пришлось привести его на место работ, и он тут же в разговоре со штабс-капитаном Шереметьевским позволил себе возмущаться добровольцами, работающими по этому делу».
Из разговора с Магницким выяснилось, что тогда был осмотрен и промыт ил только со дна большого колодца шахты, в котором и были найдены чей-то отрезанный палец, вставная челюсть доктора Боткина и прочие предметы, упоминавшиеся раньше. Грунт малого колодца шахты почему-то обследован не был. «Итак, шахта нового, кроме вышесказанного, ничего не дала. По всему же ходу дознания видно было, что именно тут же, где-нибудь около шахты, и закончилась та кровавая трагедия, расследованием которой мы занимались. Поэтому, посоветовавшись с прокурором, я решил обследовать всю близлежащую местность. Показаниями свидетелей удалось установить, что с 17 по 19 июля 1918 года так называемым “отрядом особого назначения” охранялось как раз то место, где находилась обследуемая нами шахта, охранялась местность эта на протяжении около двух квадратных верст. Никого туда не пропускали, ездили туда автомобили-грузовики и красноармейцы, но что они там делали, не было известно.
…Границы охраняемого места удалось установить точно, а потому и было решено обследовать всю эту местность, именуемую урочище Четырех Братьев. В этом урочище когда-то, лет 10–12 тому назад, производилась добыча железной руды при помощи шахт. Когда разработку бросили, то шахты от времени частью обвалились, частью сохранились, как, например, та, которую мы обследовали, а частью остались в полуобрушенном состоянии. Всех старых шахт в этом урочище имеется до 60. Благодаря дождям, которые были в конце июля и августе, все следы, которые могли бы остаться, конечно, оказались замытыми, ибо все шахты окружает глина, легко расплывающаяся при дождливой погоде. Таким образом, каких-либо следов около шахт не было вероятия найти, могли лишь оказаться какие-нибудь случайные, на которые мы главным образом и рассчитывали. Исследование таких полуразрушенных шахт сопряжено с большой опасностью, и поэтому для исследования пришлось организовать небольшой отряд, состоящий из специалистов горных работ – штейгеров и местных уроженцев Урала, по преимуществу охотников, привыкших ходить по такого рода местам и сознающих опасность такого хождения. В конце августа этот отряд обошел все шахты, обследуя их по мере сил и возможности, но существенных результатов достигнуто не было. Это объясняется тем, что обследовать полузасыпанную шахту можно только при помощи крепей, а на таковые у нас не было ни сил, ни средств. Отряд этот мог только сказать по наружному виду, что ничего указывающего на то, что в эти шахты бросили трупы, не найдено, а есть ли внутри их что-либо – сказать нельзя. Не надо упускать из виду дождей, которые, конечно, наружные-то следы и смыли. Предположение, что из шахты, если там находятся трупы, будет запах, – неосновательно, так как в большинстве шахт все лето есть лед, и разложение трупов произойдет не скоро, а тем более в глинистой почве.
Признавая, что так или иначе место это все-таки обследовать надо, я решил сделать еще попытку, прибегнув к помощи имевшейся в городе Екатеринбурге организации бойскаутов и охотников-добровольцев. Тогда же по приказанию генерала Голицына в мое распоряжение было откомандировано 50 бойскаутов под начальством капитана Березовского. В помощь им пошел летучий отряд уголовного розыска и любители-охотники. Пройдя цепью всю местность, которая охранялась “отрядом особого назначения”, удалось лишь найти одну винтовку и шинель. В этот день я повторил обследование шахты, и опять безрезультатно. Надо сказать, что все производимые нами обследования могли только при счастливой случайности дать хорошие результаты, но мы не отчаивались и искали, ибо другого выхода не было. Как я уже излагал, средств у нас не было, кругом инертность, а подчас даже и недовольство. При этих условиях производить обследование старых шахт – это значит иметь 3 % на успех… Часто получались сведения, что там-то и там-то должны находиться трупы Царя и его Семьи. Все эти сведения проверялись опять-таки по мере сил и средств. И нигде ничего найдено не было. Правда, в старых шахтах нашли пять трупов, но все они принадлежали австрийцам. Чистосердечно скажу, что обследованная нами местность не обследована, ибо если мне зададут вопрос: “Где царские трупы?” – я прямо скажу: я их не нашел, но они в урочище Четырех Братьев. Что могли сделать – сделали. Ведь это место сплошь покрыто лесом и болотами с топкой почвой; его надо обследовать не через мальчиков-бойскаутов – к ним мы прибегли по нужде, – а людьми взрослыми, и подчас даже специалистами. Ведь если сравнить картину убийства Великих князей в городе Алапаевске с убийством Императора и его Семьи, то, невольно надо сказать, картина совершенно тождественна. Такие же шахты, такие же костры и такая же охрана местности. А разве найденный отрубленный палец и челюсть доктора Боткина, который был убит вместе с Царской Семьей, не указывают на нахождение где-нибудь вблизи трупов? А серьги Государыни, а зашитый у нее в корсете бриллиант, а следы от сожженных в костре корсетов и прочей одежды? Вот все эти и еще масса других данных приводят меня к выводу, что искали мы именно там, где надо искать и, ничего не находя, все-таки работали, ибо надеялись хотя бы на те 3 %».
Цель работ, поставленная себе этой первой группой работников по исследованию, вполне определена в докладе Магницкого: найти тела. Характер и результаты работ в этом направлении также совершенно точно оцениваются самим Магницким: «обследованная нами местность не обследована». Для последующих исследований определялось совершенно ясно, что в этой области изучения преступления, совершенного советской властью, работы надо начинать сначала. Это распространялось и на саму шахту, обследование которой не было доведено до конца. Магницкий не прав лишь в том отношении, что ссылается на дожди, замывшие следы преступников; год спустя остатки былых следов преступников на месте еще были найдены, а в период работ Магницкого, вероятно, их было гораздо больше, и они могли бы дать Магницкому несравненно большие результаты, чем обследование бойскаутами примитивным способом лесов и болот урочища Четырех Братьев.
Не прав Магницкий и в отношении сопоставления обстановки сокрытия тел Великих князей в Алапаевске с обстановкой сокрытия тел Царской Семьи в Екатеринбурге. Во-первых, в то время, когда производились розыски тел офицерами и Магницким в урочище Четырех Братьев, еще ничего не было известно о месте нахождения тел Высочайших алапаевских узников, почему наличие шахты в районе Ганиной ямы не могло вызывать в мыслях аналогичности в способах сокрытия тел. Во-вторых, никаких костров и никакой охраны у Ново-Семичевской шахты, куда были брошены Великие князья, не существовало. А в-третьих, и что самое главное, Магницкий упустил из виду обстоятельства, ему известные, что в Алапаевске исполнителем распоряжения еврея Сафарова был хотя и зверь, но русский рабочий Абрамов, а в Екатеринбурге непосредственно руководил сокрытием тел Исаак Голощекин.
Что касается материалов, оставленных в «Деле» уголовным розыском, то таковые скорее указывали на то, что целью его работы было доказать, что никакого преступления советской властью совершено не было. Однако, с другой стороны, материалы уголовного розыска не давали возможности определенно заключить, что же сделали в таком случае советские власти с Царской Семьей, так как эти материалы изобиловали разнообразными версиями и предположениями, циркулировавшими в то время в различных кругах нашего общества, не устанавливая ни одной версии с мало-мальски основательными фактами.
Характер же и способ руководительства розыском по Царскому делу обрисовываются в достаточной мере докладом прокурора Пермского окружного суда Намарина от 3 октября 1919 года, имевшего общее наблюдение за следственными и уголовными розысками в районе Перми.
«В особую команду пришел ко мне Кирста, которого я раньше никогда не видал. Он принес с собой дознание, которое я сейчас читал. Я ожидал услышать строго деловой доклад, т. е. изложение установленных дознанием фактов и логических из них выводов. Оказалось совсем иное. Я, признаться, был изумлен тем, что произошло. Кирста стал рисовать мне круги, которые должны были графически изобразить логический ход его мыслей при расследовании дела. Я внимательно, серьезно старался отнестись к тому, что мне говорил Кирста, желая понять, каким путем он идет, отыскивая истину, – путем анализа или путем синтеза; от каких основных положений он исходит. Никаких указаний, однако, на что-либо подобное и в помине не было. Были одни общие фразы и общие идеи, какие существуют в каждом уголовном деле. И вдруг совершенно неожиданно для меня, без всяких ссылок на какие-либо факты, Кирста мне заявил: “Таким образом, Августейшая Семья жива и надо ее спасать”. Было что-то совершенно сумбурное.
После такого вступления Кирста перешел к самовосхвалению и стал говорить, что есть только три знаменитых сыщика в России, и один из них он, Кирста.
После этого длинного и совершенно неуместного вступления Кирста перешел к докладу, т. е. к изложению фактов. Однако весь доклад сводился к тому, что он, Кирста, отыскал в Перми какую-то Наталью Мутных, которая ему откроет местонахождение Августейшей Семьи, и он, Кирста, ее спасет. Он говорил при этом, что он сам рискует местью со стороны Мутных и ее единомышленников; что он получил от Мутных письмо с угрозами. При этом Кирста делал жесты, как будто бы письмо было у него в кармане, но он мне его не показывал. Кончил он в отношении этой Мутных уверением, что она все-таки в его руках. Затем он прочел мне показания Мутных и Уткина.
У меня, в конце концов, получилось неприятное чувство от этого “доклада”, и я, увидев Тихомирова, опять предупредил его, чтобы он был осторожен».
Из всего этого вытекало, что последующему исследованию предстояло разобраться во всем материале, собранном уголовным розыском, дабы выяснить, что в нем есть серьезного для раскрытия преступления, а что относится только к области слухов и фантазии. Для дальнейших работ пользоваться настоящими агентами уголовного розыска не представлялось возможным.
Что касается до работы третьей группы – следственной, то ее материалы к 20 февраля 1919 года обрисовывали картину совершившихся событий в Екатеринбурге, как то видно из постановления члена суда Сергеева, в следующем виде.
«21 июля 1918 года расклеенными по городу печатными объявлениями население города Екатеринбурга было извещено о состоявшейся в ночь с 16 на 17 июля по постановлению президиума областного совета казни бывшего Императора; в тех же объявлениях было сообщено, что жена и сын бывшего Императора отправлены в надежное место.
На возникшем по этому поводу 29 июля 1918 года, по освобождении города Екатеринбурга от советской власти, предварительном следствии установлены между прочим следующие данные: 30 апреля 1918 года по распоряжению Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и крестьянских депутатов доставлены были в город Екатеринбург бывший Император Николай Александрович, супруга его Александра Федоровна и дочь Мария Николаевна.
24 мая того же года были доставлены и остальные члены бывшей Царской Семьи: наследник Цесаревич Алексей Николаевич и Великие княжны Ольга, Татьяна и Анастасия Николаевны. Для жительства Царской Семьи и состоявших при ней лиц был отведен реквизированный для этой цели двухэтажный дом Ипатьева, находящийся на углу Вознесенской улицы и Вознесенского переулка. Из семи комнат верхнего этажа (не считая кухни и проходных комнат) шесть были предоставлены в пользование Семьи, назначенные Уральским областным советом рабочих и крестьянских депутатов. Коменданту была вверена охрана Царской Семьи; ему же принадлежало заведование условиями ее содержания согласно указаниям областного совета.
Первое время охрана дома Ипатьева выполнялась нарядами красноармейцев, а затем, во второй половине мая месяца, для несения службы по охране дома была сформирована особая команда из рабочих Сысертского завода Екатеринбургского уезда в числе 30 человек; состав команды впоследствии был дополнен еще 15 рабочими екатеринбургской фабрики Злоказовых и 10 латышами.
До конца июня 1918 года комендантом дома Ипатьева состоял рабочий Злоказовской фабрики Александр Авдеев, а помощником его – рабочий той же фабрики Мошкин, а затем означенные лица были уволены и в должность коменданта вступил один из видных агентов советской власти, бывший фельдшер местного военного лазарета, Яков Михайлович Юровский. Ко времени вступления Юровского в должность коменданта в доме находились: бывший Император, Императрица, Наследник, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а из приближенных и слуг – лейб-медик Е. С. Боткин, комнатная девушка Анна Демидова, повар Харитонов, лакей Трупп и 14-летний мальчик Седнев. Охранная команда из рабочих помещалась в доме Попова, расположенном против дома Ипатьева, а отряд красноармейцев находился в нижнем этаже дома Ипатьева и нес караульную службу на постах внутри дома. Всего было учреждено одиннадцать караульных постов, из них два пулеметных. Один из пулеметных постов был установлен в нижнем этаже дома Ипатьева на окне, выходящем в сад.
Дом Ипатьева охранялся до 21 июля, когда охрана была снята, и 22 июля дом был передан в распоряжение владельца.
Произведенным при следствии осмотром дома Ипатьева добыты следующие данные: в помещениях, занимаемых Царской Семьей, в беспорядке разбросаны остатки малоценных вещей, принадлежавших членам Семьи; в топках печей обнаружено присутствие большого количества пепла и обгорелых остатков от различных сожженных бумаг, документов и вещей. В одной из комнат нижнего этажа, выходящей окном на Вознесенский переулок, смежной с кладовой, обнаружены в стене следы проникновения пуль; такие же следы выстрелов обнаружены и в толще пола, с явственными признаками крови, пропитавшей ткань дерева по ходу пулевых каналов; найдены и застрявшие в стене, в полу револьверные пули. На полу комнаты и на стене обнаружены явственные следы замывки.
Все имущество, принадлежавшее Царской Семье, за исключением немногих оставшихся вещей, расхищено.
При осмотре местности, расположенной верстах в 15 от города, близ деревни Коптяки, найдены следы сожженных костров, и в пепле обнаружены: бриллиант весом около 12 каратов, признанный свидетелями за принадлежавший бывшей Императрице; осыпанный изумрудами крест, признанный за принадлежавший одной из дочерей Государя, и разные остатки от сожженных принадлежностей обуви и одежды. В одной из находящихся в той местности шахт обнаружены осколки разорвавшейся бомбы, оторванный человеческий палец, вставная челюсть, признанная за принадлежавшую лейб-медику Боткину, и жемчужные серьги, признанные за принадлежавшие бывшей Императрице.
Показаниями свидетелей Михаила Летемина и Марии Медведевой установлено, что старшим в охранной команде (разводящим) был Павел Спиридонович Медведев, принимавший непосредственное участие в расстреле.
Те же свидетели удостоверили, что накануне убийства Царской Семьи мальчик Седнев был переведен в помещение команды. Свидетель Владимир Кухтенков удостоверил подслушанный разговор Верх-Исетского комиссара Петра Ермакова и деятелей партии коммунистов-большевиков: Александра Костоусова, Алексея Партина и Василия Леватных. Содержание разговора сводилось к тому, что эти лица принимали участие в сокрытии трупов убитых Царя, Царицы, Наследника, Великих княжон, доктора Боткина и некоторых царских слуг.
Тела убитых до сего времени обнаружить не удалось.
Задержанный 11 февраля сего года в городе Перми Павел Спиридонович Медведев объяснил при дознании, что в ночь на 17 июля действительно были расстреляны бывший Император, его Супруга, Наследник, четыре Царские дочери, доктор, служанка, повар и лакей. Расстрелом руководил комендант Юровский, а он, Медведев, доставил для этой цели оружие и распоряжался переноской трупов убитых на грузовой автомобиль и уничтожением следов преступления путем смывания и стирания крови как в месте расстрела, так и во дворе. Объяснение Медведева вполне совпадает с установленными следствием объективными данными и показаниями свидетелей».
На основании всего имевшегося материала Сергеев приходил к заключениям:
«1) по собранным следствием данным, событие преступления представляется доказанным;
2) бывший Император Николай II, бывшая Императрица Александра Федоровна, наследник Цесаревич, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Николаевны убиты одновременно в одном помещении многократными выстрелами из револьверов;
3) тогда же и при тех же обстоятельствах убиты состоявшие при Царской Семье: лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, комнатная служанка Анна Демидова и слуги Харитонов и Трупп;
4) убийство задумано заранее и выполнено по выработанному плану, сопровождалось оно такими действиями, которые носили характер жестокости и особенных мучений для жертв преступления, причем убийцы завладели имуществом убитых».
Таким образом, для последующих исследований убийство всей Царской Семьи предварительным следствием устанавливалось как факт доказанный. В этом отношении дальнейшие работы должны были дать лишь дополнительные данные в целях достижения полноты картины совершенного большевиками исключительного по зверству злодеяния. В равной мере при дальнейшей разработке требовалось более тщательное освещение и некоторых положений Сергеева, им установленных, ввиду существования разноречия в указанных материалах следственного производства. В ряду таковых обращают на себя внимание следующие положения, указанные в приведенном выше постановлении Сергеева:
1) Как было объявлено: жена и сын бывшего Царя отправлены в надежное место или вся Семья?
2) Чем вызывалось распоряжение ЦИКа о переводе Царской Семьи «на жительство», как говорит Сергеев, в Екатеринбург?
3) Почему Царская Семья перевозилась по частям и кто именно перевозил?
4) Чем была вызвана смена комендантов в доме Ипатьева и что это за латыши, которые несли внутреннюю охрану?
5) Оторван был найденный в шахте палец или отрезан?
6) Кем был Павел Медведев: разводящим или начальником охраны?
7) Кому и откуда было доставлено Медведевым оружие для совершения расстрела?
8) Кем именно был произведен расстрел?
Совершенно неразрешенными, неосвещенными и незатронутыми в следственной работе оставались два кардинальных вопроса, вытекавших из установления факта совершенного преступления:
1) Что сделали убийцы с телами своих жертв?
2) Кто же были вдохновители, руководители и исполнители этого заранее обдуманного и подготовленного преступления?
Исследование этих вопросов должно было войти в круг деятельности последующих изысканий и дальнейшего следственного производства судебного следователя Соколова.
Глава II
Н. А. Соколов и план работы
«1919 года, февраля 7-го дня, судебный следователь по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов, прибыв лично к бывшему главнокомандующему Западным фронтом генерал-лейтенанту Дитерихсу, предъявил ему ордер господина министра юстиции от 7-го сего февраля за № 2437 и просил его выдать находящееся у него дело об убийстве бывшего Императора Николая Александровича и членов его Семьи. Генерал-лейтенант Дитерихс предъявил подлинное следственное производство члена Екатеринбургского окружного суда Сергеева, озаглавленное: “Дело об убийстве бывшего Императора Николая II и членов его Семьи”. В деле этом оказалось двести шестьдесят шесть пронумерованных, прошнурованных, припечатанных сургучной печатью Екатеринбургского окружного суда и скрепленных подписью Сергеева листов. Все листы дела, шнур и печать оказались целыми. В деле, кроме того, оказалось вшитым и непронумерованным отношение начальника Екатеринбургской почтово-телеграфной конторы от 20 января 1919 года за № 374 на имя Сергеева.
На нахождение у себя дела генерал-лейтенант Дитерихс предъявил предписание Верховного правителя от 17 января 1919 года за № 36.
Судебный следователь Н. Соколов».
Этим актом вновь назначенный судебный следователь Николай Алексеевич Соколов вступил в дело, составляющее эру в истории России и русского народа. В ту минуту по побледневшему, серьезному выражению его лица, по нервно дрожавшим рукам было видно, что он глубоко и убежденно сознавал ответственность, принимавшуюся им на себя перед своим народом и историей. Он понимал, что впредь вся его дальнейшая жизнь должна быть посвящена исключительно работе по раскрытию этого кошмарного преступления и оставлению будущей России всестороннего, обоснованного и, главное, правдивого материала для истинного понимания русским человеком истории трагической кончины прямой линии Дома Романовых и правильной оценки национально чистых и верных вере своего народа Главы и членов Августейшей Семьи.
* * *
Среднего роста, худощавый, даже просто худой, несколько сутулый, с нервно двигавшимися руками и нервным, постоянным прикусыванием усов; редкие темно-шатеновые волосы на голове, большой рот, черные, как уголь, глаза, большие губы, землистый цвет лица – вот внешний облик Соколова. Отличительной приметой его был вставной стеклянный глаз и некоторое кошение другого, что производило впечатление, что он всегда смотрит несколько в сторону.
Первое впечатление неприятное.
Когда, бежав от большевиков из Пензы, он переоделся простым, бедным крестьянином, из него создался характернейший тип бродяги, босяка, хитровца из повестей Максима Горького. Многие в то время, сталкиваясь с ним, выносили по внешнему его облику сомнение в благонадежности передачи ему следственного производства по Царскому делу и высказывали это даже Верховному правителю. А многие, вообще недоброжелательно настроенные к расследованию этого дела, пользовались внешностью Соколова, чтобы в глубоком тылу вперед подрывать доверие к работе Соколова и представлять постановку следствия и расследования как совершенно несерьезное предприятие некоторых досужих высших чинов.
Соколова надо было знать, во-первых, как следователя, а во-вторых, как человека, человека русского и национального патриота. Первое определится само собою из всего последующего рассказа. О втором необходимо сказать несколько слов теперь же, так как оно в данном деле имело тоже значение, какое в художестве имеет талант подбора красок для приближения изображаемого на полотне предмета к истинно природному виду по точности, цвету и яркости светового впечатления.
Экспансивный, страстный, он отдавался всякому делу всей душой, всем существом. С душой несравненно большей, чем его внешность, он был вечно ищущим, жаждущим, жаждущим любви, тепла, идеальности. Как человек самолюбивый и фанатик своей профессии, он нередко проявлял вспыльчивость, горячность и подозрительность к другим людям. Особенно это случалось на первых порах, при первом знакомстве, когда он сталкивался с людьми, близко стоявшими к покойной Царской Семье. Отдавшись этому делу не только как профессионал и глубоко русский человек, но и по исключительной преданности к погибшему Главе Царствовавшего Дома и его Семье, он склонен был видеть по своей экспансивности недоброжелательство со стороны этих свидетелей, если они не могли дать ему ответа на задававшиеся им вопросы.
С детства природный охотник, привыкший к лишениям бродячей охотничьей жизни, к высиживанию часами глухаря или тетерева на току, он развил в себе до максимального предела наблюдательность, угадывание примет и бесконечное терпение в достижении цели. Постоянное общение на охоте с деревней, с крестьянином родили в нем с детства привязанность к простому народу, любовь ко всему русскому, патриархальному и большое знание крестьянской души, достоинств и недостатков своего народа, своей среды.
Окончив университет как молодой юрист, он возвращается снова в народ и на этот раз проникает в другую среду народа – среду преступную, уголовную, порой жестокую до зверства. Но она не отталкивает его, не заставляет разлюбить свой народ. Наоборот, как развитый, образованный, начитанный и идейный человек, он и тут находит место любви, ибо видит всегда основные причины, корень зла преступности в большинстве обследуемых им объектах – темноту и некультурность – и привязывается к народу еще больше по основному качеству русского человека – жалости. Он приобретает способность разговаривать с преступником, добиваться от него правды, исповеди, признания; он беседует с ним, гуляет, живет, пьет чай, курит, и еще накануне упорствовавший уголовник назавтра начинает говорить, рассказывать, увлекается, плачет даже иногда. Поразительно, что преступники, выводившиеся им на свет божий, почти никогда не питали к нему чувства злобы; чаще всего их отношение к нему выражалось словами «ловко он меня поймал» с тоном удивления, а не злобы.
Скрываясь во время своего бегства из Пензы от большевиков и направляясь к нашим линиям, в одной деревне он наткнулся на мужика, который года за три до этого был изобличен им в убийстве и ограблении своей жертвы. Мужик судился и был присужден к большому наказанию. Революция дала ему возможность вернуться к себе в разоренное за его отсутствие гнездо. Он узнал Соколова, и Соколов узнал его. Кругом были красноармейцы. Мужик мог легко отомстить. Но он не сделал этого, взял к себе в избу, накормил и дал переночевать. А наутро, отправляя Соколова, принес ему старую, продранную шапку и подал со словами: «Одень эту, а то твоя хороша, догадаются».
Как сын русской, простой и честной, семьи, Соколов воспитывался, вырос и созрел в твердом, непоколебимом сознании, что Россия и русский народ «без Бога на небе и Царя на земле» не проживут. Образование и университет не только не поколебали в нем этой веры, но укрепили еще более, а страстность натуры и любовь к законности делали его исключительно преданным монархистом по убеждению. Керенского и все порожденное и оставшееся в наследство от керенщины он ненавидел до глубины души, а самого Керенского иначе как Ааронкой не называл. Нелюбовь к нему разжигалась у Соколова и чисто на профессиональной почве юриста, так как Керенский дал доступ присяжным поверенным в ряды прокуратуры, чем, по мнению Соколова, подорвал в корне святая святых всего нашего судопроизводства.
Вот таков был краткий внутренний облик судебного следователя Соколова.
* * *
Ознакомление с материалами следственного дела Сергеева не оставило у Соколова ни малейшего сомнения в факте убийства в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года всей Царской Семьи, а не одного бывшего Государя Императора, как объявила советская власть. Но само следственное производство Сергеева, по мнению Соколова, даже в юридическом отношении совершенно не отвечало своему назначению как по массе допущенных в нем упущений чисто следственной техники, так и по недостатку полноты освещения устанавливавшихся следственным производством фактов, сопровождавших совершение преступления.
В техническом отношении совершенно отсутствовали в следственном производстве постановления, которые определяли бы, что предпринималось самим следствием для установления того или другого факта для раскрытия преступления; вещественные доказательства, как предметы, так и документы были оставлены следствием без изучения, экспертизы, предъявления сведущим лицам и не использованы в целях исследования преступления. Целый ряд свидетелей, выдвигавшихся материалами, не допрошен. Места, так или иначе связанные с преступлением, осмотрены поверхностно, следы совершенно не использованы и не зафиксированы. Участники преступления не установлены, и вообще дело носило скорее характер дознания, а не следственного производства.
Что же касается данных, устанавливавших самый факт совершившегося преступления, следствие Сергеева совершенно оставляло открытым вопрос – чье же это преступление: Медведева, Янкеля Юровского, местной или областной власти, или центральной, или, наконец, какой-либо группы лиц, группы деятелей? В таком состоянии, в каком оказалось следственное производство после семи месяцев работы, оно не только не могло послужить для начала судебного процесса, но трудно было дать вообще какое-либо более или менее обоснованное заключение. Естественно, что каждый, кому скажут: в Ипатьевском доме убита вся Царская Семья, – спросит: кем убита? Сергеевское дело дает один ответ: Янкелем Юровским. Но ведь абсурдно допустить, что Янкель Юровский, каким бы он ни был влиятельным советским деятелем, мог самостоятельно совершить это преступление, не имея на то полномочий или указаний свыше? Этого вопроса Сергеев совершенно из бывших у него материалов не осветил и даже не затронул. Он в этом отношении стоял на точке зрения официальных объявлений советской власти.
Возлагая на Соколова продолжение ведения следственного производства, Верховный правитель через министра юстиции приказал ему составить для Совета министров краткую докладную записку об убийстве Царской Семьи для выработки правительственного сообщения об учиненном в Екатеринбурге злодеянии. Обстоятельства сложились так, что этого сообщения не последовало, но, составляя свою докладную записку, Соколов наткнулся: на показание Саковича об обсуждении в президиуме областного совета вопроса об уничтожении Царской Семьи во время перевозки ее из Тобольска в Екатеринбург; на телеграмму Белобородова в Москву Исааку Голощекину об организации какого-то дела, касавшегося Царской Семьи, согласно указанию центра; на указание Капитолины Агафоновой об участии в расстреле каких-то «пяти главных», приехавших из Совета; на указание из Алапаевского дела, что распоряжение об уничтожении Великих князей было сделано из Екатеринбурга за подписью еврея Сафарова.
С учетом того, что, по показанию Павла Медведева, расстрелом в Ипатьевском доме руководил Янкель Юровский, Соколову не могло не броситься в глаза обилие советских деятелей с еврейскими фамилиями, имевших ближайшее отношение к вопросам, касавшимся судьбы Царской Семьи в Екатеринбурге и Великих князей в Алапаевске. С другой стороны, Соколов знал, кто такие евреи Сафаров и Войков, знал, что они вовсе не бывшие уральские деятели, а приехали в Россию с главарями центральной власти. Видел, что телеграммой Белобородова устанавливается близость Исаака Голощекина к Янкелю Свердлову, и, таким образом, при существовании определенной связи части местных советских деятелей с представителями центральной власти являлось вполне допустимым, что убийство Царской Семьи могло быть результатом указаний, исходивших из Москвы.
Эти новые намечавшиеся материалами обстоятельства, бросавшееся в глаза участие евреев советской власти в судьбе Царской Семьи и допустимость причастности к убийству центральной власти ставили перед следственным производством серьезную и трудную задачу: что это – случайности, простые совпадения или действительные факты? Если действительно убийство Царской Семьи и прочих членов Дома Романовых вдохновлялось главным образом еврейскими деятелями советской власти, то можно было заранее предвидеть, что в следственном порядке едва ли удастся добыть достаточно вещественных и документальных данных для установления непреложности этого факта. Между тем вопрос был чересчур серьезен: он резко затрагивал всегда больной в России еврейский вопрос, почему игнорировать его ни в коем случае нельзя было и, чтобы осветить его возможно полнее, необходимо было, кроме исследования следственным порядком, изучить его допустимыми средствами в порядке расследования.
Кроме того, при подтверждении исключительного отношения евреев советской власти к убийству Царской Семьи совершенно особенно подчеркивалось национальное значение этого трагического события для России. С этой точки зрения нельзя было не учитывать, что дело это вообще не может быть рассматриваемо как достояние исключительно России текущего момента. Оно будет принадлежать, главным образом, России будущего времени, России возрожденной и приобретает вследствие этого значение историческое особой важности и определенно национального направления. Отсюда задачами расследования и следствия являлись розыски и сборы материалов, не только служащих к раскрытию преступления, его исполнителей, руководителей и вдохновителей, но и материалов, обрисовывающих в национальном отношении убитых бывшего Государя Императора, Государыни Императрицы и Августейших детей.
Наконец, совершенно неразрешимым по текущему моменту являлся вопрос, сможет ли дело об убийстве Царской Семьи стать предметом судебного процесса и когда? Время для этого могло настать очень скоро, но могло отойти и в очень далекое будущее. В первом случае необходимо было как можно скорее закончить следственное производство в таких пределах, чтобы оно, безусловно, позволяло начать самый судебный процесс. Во втором случае следственное производство должно было иметь исключительную полноту, тщательность и законченность в каждой отдельной области своего исследования преступления, дабы те, кто будет им пользоваться в будущем, имели насколько возможно исчерпывающий материал по установлению фактов и определенные ответы на вопросы, которые могут возникнуть в будущей возрожденной христианской и национальной России. При этом нельзя не учесть того, что если это дело станет в далеком будущем предметом судебного процесса, то тогдашние судьи уже не будут иметь возможности видеть на месте многое из того, что яснее всяких слов говорило о совершенном преступлении, а должны будут судить только на основании оставленного им следственного производства и материалов общего расследования. В этом отношении следственная работа теперь должна была осложниться и затянуться возможно более полным и точным зафиксированием всеми возможными способами важнейших вещественных доказательств и документов, следов преступления, исторических мест, связанных с совершившимся преступлением, произведенных изысканий и т. п.
Исходя из изложенных общих соображений, для дальнейшего следственного производства и историческо-национального исследования был составлен перечень работ, подлежавших выполнению следователем Соколовым и лицами, привлеченными к расследованию, для всестороннего изучения события, имевшего место в городе Екатеринбурге. Этот перечень работ предусматривал следующее.
1) Распределение всех собранных по делу вещей и документов на две группы: вещи и документы, которые должны остаться при следственном производстве в качестве вещественных доказательств, и вещи и документы, имеющие не столько вышеуказанное значение, сколько представляющие историческо-национальную ценность как предметы, принадлежавшие Царской Семье и убитым членам Дома Романовых.
2) Исследование и изучение вещественных доказательств.
3) Исследование и изучение мест, связанных с убийством в Екатеринбурге бывшего Государя Императора и его Семьи.
4) Организация розыска преступников и свидетелей по делу и сбор сведений о лицах, причастных к совершившемуся злодеянию.
5) Допросы в отношении выяснения дела с юридической, исторической и национальной точек зрения.
6) Розыски тел мученически погибших бывшего Государя Императора, членов его Семьи и состоявших при них придворных и слуг.
Совокупность всех этих работ должна была составить «Дело об убийстве в городе Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывшего Государя Императора и его Семьи» и дать возможно полные материалы, изыскания, фотографии и планы по вытекающим из дела вопросам юридического, исторического и национального характеров, уложенные в рамки установленных законом форм для следственных производств. Все документы должны были воспроизводиться в трех экземплярах: один подлинник и две копии, – скрепляемых следователем для хранения у определенных лиц, установленных по соглашению с Верховным правителем.
Совершенно ясно, что расследование убийства Царской Семьи, принимая историческое и национальное значение, становилось чрезвычайно обширной задачей, довести которую до конца в полном объеме не могли рассчитывать те работники, на которых выпала обязанность начать ее. Особенно это касалось сбора материалов для всестороннего исторического и национального освещения события. Не касаясь большой конспиративности работы еврейских советских деятелей и главарей советской власти, недосягаемости главных преступников и свидетелей преступления для следствия и разбросанности лиц, окружавших Царскую Семью в последние месяцы ее жизни, в изменчивых условиях гражданской войны мы не могли рассчитывать на достаточность времени даже для розыска и сбора исчерпывающего материала непосредственно в районе совершившегося преступления. Владение нами Уралом далеко нельзя было считать обеспеченным, а возвращение туда большевиков угрожало, безусловно, новыми предприятиями со стороны вдохновителей и руководителей преступления для окончательного уничтожения и тех немногих следов их роли и участия в убийстве Царской Семьи, которые еще оставались в районе Екатеринбурга.
Приняв во внимание, что тем не менее в будущем может настать такое время, когда русский народ захочет довести начинавшееся исследование и следствие до полного конца и установления определенной истины трагедии Дома Романовых, подлежавшие выполнению работы по продолжению следствия и расследования мы намечали вести по плану, предусматривавшему единовременное изучение обстоятельств, сопровождавших совершение преступления, по трем направлениям: юридическому, историческому и национальному. При этом каждая отдельная работа в области следственного производства, в области исследования, из которых в будущем должно было создаться общее дело в целом, подлежала изучению и запротоколированию, насколько возможно, во вполне законченном в указанных направлениях виде. Так, если допрашивался свидетель, то допрос не ограничивался только юридической стороной дела, а старался исчерпать данного свидетеля и в целях исторического и национального освещения вопроса, конечно, постольку, поскольку данный свидетель был способен предоставить данные в этом отношении; если изучались надписи на какой-нибудь стене в комнатах дома Ипатьева, то действие не ограничивалось запротоколированием данных надписей, но зафиксировывало их еще фотографическим путем, переводило через специалистов на русский язык, если они были сделаны на иностранном, производило экспертизу почерков, стремилось установить авторов, время производства надписи и обстоятельства, ее сопровождавшие, и т. д.
Таким положением имелось в виду, с одной стороны, использовать проходивших свидетелей и еще сохранившиеся на месте следы преступления насколько возможно полнее, пока работы могли вестись еще в Екатеринбургском районе, и, с другой стороны, представить тем, кому будет суждено в будущем, возможность пользоваться материалами предыдущих работ как вполне исчерпывающими вопрос во всех отношениях и, по возможности, освобожденными от сомнений в их существовании в данное время и от произвольного толкования их значения в истекших событиях.
Работы по расследованию и следствию производились всегда в условиях самого тесного сотрудничества всех лиц, привлеченных к ведению таковых, формально проявлявшегося в жизни всей комиссии в одном помещении, в одном вагоне, в одном пункте. Директивы по расследованию вытекали из материалов и предположений, устанавливавшихся следственным производством, и в сущности лица, работавшие по расследованию, являлись лишь прямыми исполнителями заданий следователя и выполняли работу тех агентов и помощников следователя, которыми в прежнее время являлись чины полиции и назначенные ею агенты и рабочие для различных работ по требованию следователя и прокурорского надзора. Это позволяло сосредоточивать все силы и средства на разработке положений и предположений, строго обосновывавшихся серьезными данными следственного производства, не разбрасываясь и не раскидываясь по отвлекавшим в стороны соблазнам провокационного характера, которые не прекращались во все время, пока производилось следствие и расследование.
Вещи и документы
В Омске к вещам и документам, собранным в Екатеринбурге и относившимся к делу об убийстве Царской Семьи, по повелению Верховного правителя были присоединены и вещи, собранные генерал-майором Голицыным в Алапаевске и принадлежавшие убитым там Великой княгине Елизавете Федоровне, Великому князю Сергею Михайловичу, князьям Иоанну, Игорю и Константину Константиновичам и графу Владимиру Палею. Кроме того, адмирал Колчак передал в комиссию полученную им еще ранее шкатулку с некоторыми более ценными вещами упомянутых Высочайших Особ. В общем вещей получилось довольно много. Они были сложены по сундукам, чемоданам и ящикам без описей содержавшегося в них, а некоторые вещи и документы, снятые с тела Великой княгини, Великого князя и князей, не были в свое время продезинфицированы, почему теперь часть их совершенно испортилась под влиянием оставшихся на них отделений разложения. Шапки, пальто и обувь Великого князя и князей после судебного осмотра их и занесения в протокольные постановления пришлось сжечь за невозможностью приобрести в Омске герметическое хранилище достаточных размеров для дальнейшего их хранения. Обезвредить разложение дезинфекционным путем уже не представлялось возможным.
Из вещей, собранных в Екатеринбурге, прежде всего были отобраны те вещи и документы, которые были найдены при осмотрах дома Ипатьева, дома Попова, помойной ямы во дворе дома Ипатьева, при исследовании и розысках в районе Ганиной ямы, в комнатах бывшего областного совета и в почтово-телеграфной конторе. Все эти вещи и документы по существу являлись вещественными и документальными доказательствами по делу, и потому все они подверглись детальному обследованию, изучению и описанию. Главнейшие и необходимейшие из них по следственному указанию подвергались, кроме того, экспертизе специалистов, научным анализам, фотографированию и подробному протокольному описанию. По исследовании всех этих вещей в следственном отношении большая часть их, в том числе представлявшая большую материальную ценность, была внесена в новые описи, вновь уложена, упакована, запечатана и передана по указанию Верховного правителя на хранение в надежное место, так как сохранять при себе все это ценное в историческом и национальном отношениях имущество, представлявшее реликвии погибшей Царской Семьи, комиссия не считала обеспеченным.
После этого были разобраны вещи, отобранные от бывших охранников и их семей и знакомых в Екатеринбурге, Верх-Исетском и Сысертском заводах, а равно вещи и документы, оставшиеся в каретнике дома Ипатьева и в кладовой Волжско-Камского банка. Насколько позволило время, письма, дневники и книги, принадлежавшие членам Царской Семьи и погибшим с ними приближенным, мы просмотрели и использовали как материалы исторического и национального значения, но в общем бегло, оставляя эту область исследования на будущее в обстановке более благоприятной, чем та, в которой велось следственное производство. Этим вещам и документам были также составлены подробные описи и списки, после чего их снова уложили в особые ящики, упаковали, запечатали и сдали на хранение туда же, куда были переданы и вышеуказанные вещи.
Разборка и изучение вещей и документов, оставшихся после убитых членов Царской Семьи, дали для следствия несколько очень ценных и характерных указаний, изложенных ниже.
1. Среди вещей Царской Семьи, найденных как в комнатах дома Ипатьева, так и в каретнике при этом доме, не оказалось ни одной вещи из носимого белья, одежды, платьев, обуви и верхней одежды. В то время как в буфете столовой нашлось 57 икон и образков, принадлежавших членам Царской Семьи, ни в комнатах, где они жили, ни в кучах разбросанных вещей и в развороченных ящиках в каретном сарае не было ни одного чулка, ни одной тельной рубашки, ни носового платка, ни башмака, ни шляпы, – словом, ничего из одежды и белья. Все эти вещи были вывезены Исааком Голощекиным и Янкелем Юровским начисто.
При исследовании этого обстоятельства удалось установить следующие факты: разводящий охранной команды Анатолий Якимов и охранник Филипп Проскуряков рассказали, что названные руководители преступления, уезжая из Екатеринбурга в Москву, кроме драгоценностей, принадлежавших Царской Семье и снятых с ее членов после убийства, главным образом собирали, упаковывали и отправляли на вокзал белье, обувь и одежду Августейшей Семьи. Далее из счетов комиссара, бывшего кронштадтского матроса Хохрякова, перевозившего вместе с комиссаром Родионовым Царских детей из Тобольска в Екатеринбург, выясняется, что со вторым эшелоном Царской Семьи было перевезено багажа 2700 пудов. Ныне все собранные в Екатеринбурге вещи составляли груз едва в 150 пудов, или, значит, почти ничего из всего имущества Царской Семьи, привезенного из Тобольска. Что счет Хохрякова правилен, тому служат подтверждением расписки, приложенные к счету по упаковке вещей, переноске их, перегрузке в Тюмени, перевозке на пароходе, по железной дороге и на возчиках в Екатеринбурге. Кроме того, Филипп Проскуряков, со слов бывшего с ним на вокзале при отъезде из Екатеринбурга охранника Таланова, свидетельствует, что вещами из дома Ипатьева комиссары наполнили три больших американских товарных вагона.
Небольшое количество белья и обуви было найдено при обысках у охранников. Так, у Ивана Старкова оказалось четыре носовых платка, принадлежавших Великим княжнам, а у Михаила Летемина – простыня Государя Императора, подушка, простыня и наволочка с подушки Государыни Императрицы, рубашка мужская с вырезанной меткой, туфли коричневые лайковые, по-видимому, Великой княжны Марии Николаевны и мужские штиблеты с резиной – или доктора Боткина, или кого-либо из слуг. Большую же часть, безусловно, увезли главари советской власти, среди которых Исаак Голощекин, вероятно, был один из наибольших грабителей и по дороге в Москву раздавал вещи кое-кому из своих приятелей и знакомых. Однако раздавал он вещи очень скупо – особо отличавшимся большевистским деятелям, и то «по протекции», как выразилась про него видная пермская большевистская деятельница, некая Голубева, служившая казначейшей в исполкоме. По ее словам, вещи Царской Семьи были привезены Исааком Голощекиным из Екатеринбурга при ней, и она показывала Семену Логинову, о котором речь будет еще впереди, во время их совместного путешествия в Москву полученные ею от Исаака Голощекина подушку пуховую Государыни Императрицы и женские ботинки на пуговицах очень хорошей мягкой кожи, принадлежавшие кому-то из Царской Семьи, но кому именно, она не знала. Кроме того, в Екатеринбурге после убийства Царской Семьи многие видели на любовнице комиссара Дидковского сапожки, сшитые по мужскому образцу и принадлежавшие одной из Великих княжон. Такие сапожки имели все Великие княжны; в них они еще в Царском Селе, а затем и в Тобольске в зимнее время работали с Отцом в снегу по расчистке сада или двора.
А что одежды должно было быть у Царской Семьи много, можно судить хотя бы по тому, что при разборке вещей было найдено 140 штук вешалок для платьев и верхней одежды.
2. В числе вещей, найденных в доме Ипатьева и в каретнике, не оказалось ни одной ювелирной вещицы из числа принадлежавших Царской Семье и даже самой незначительной ценности. Павел Медведев говорит, что когда он зашел утром после убийства в дом, то в комнате коменданта он застал Исаака Голощекина и Янкеля Юровского, а на столах, на диване лежали груды камней и золотых вещей.
При разборке документов, подобранных при осмотре комнаты коменданта, в числе прочих оказался разорванный почтовый конверт, на котором сохранилась надпись: «Золотые вещи Анастасии Николаевны». Существовал ли этот конверт еще при жизни Великой княжны или происхождение его следует отнести ко времени разборки награбленных драгоценных вещей Царской Семьи Исааком Голощекиным и Янкелем Юровским после убийства и обобрания тел – остается вопросом открытым, но, судя по отсутствию в надписи на конверте титулования, второе предположение имеет более оснований. Конверт был предъявлен комнатным девушкам Великих княжон, но они не видели у Великой княжны Анастасии Николаевны такого конверта, хотя принимали участие в сокрытии золотых вещей при переезде Семьи из Тобольска в Екатеринбург.
Павел Логинов, машинист поезда, увозившего комиссаров из Екатеринбурга, встретил в Перми знакомого ему с детства бывшего товарища председателя Екатеринбургской чрезвычайной следственной комиссии Валентина Сахарова, у которого на пальце красовалось золотое кольцо с бирюзой. На вопрос Логинова о происхождении кольца Валентин Сахаров ответил, что оно, вероятно, английской работы, так как снято с руки Великой княжны Анастасии Николаевны.
Возможно, что Исаак Голощекин и Янкель Юровский, обобрав тела убитых, разложили драгоценные вещи по принадлежности по пакетам, а затем принуждены были оделить своих сотрудников по Чрезвычайке, зашедших в дом Ипатьева позже, почему и пришлось вскрыть один из запечатанных уже пакетов.
3. Вещи, брошенные и оставленные советскими преступниками в каретнике дома Ипатьева, относились преимущественно к предметам кухонного и столового обихода, не имеющим характера первой необходимости: разрозненные наборы кастрюль, форм и формочек; отдельные крышки с кастрюль; жестяные шкатулки от продуктов; остатки от сервизов столовых, чайных; банки и склянки кухонного обихода и т. п.
Вещи же, или, вернее, остатки вещей, собранные в комнатах, где жила Царская Семья, наоборот, принадлежали почти исключительно к категории вещей и предметов первой необходимости: щетки зубные и ногтевые; гребешки, гребенки, шпильки; мыльницы и разные стеклянные и фарфоровые коробочки для зубного порошка; иголки, нитки, булавки, пуговицы, кнопки и прочая мелочь для работы и починки; флаконы туалетной воды; пузырьки с лекарствами постоянного употребления Государыни Императрицы, страдавшей сердцем, и наследника Цесаревича, болевшего наследственной болезнью гемофилией. Сюда же необходимо отнести и некоторые мелкие предметы религиозного значения, которые члены Царской Семьи всегда возили с собой и никогда не расставались с ними, как-то: пузырьки со святой водой и миром из разных святых мест и монастырей, иконки надкроватные и носимые, образки и образа особо чтимых Семьей святых, Евангелия и священные книги. При этом по крайней мере 75 % всех указанных вещей первой необходимости оказались в виде пепла, угля и обгорелых остатков, которыми были заполнены топки в печах как комнат, занимаемых Царской Семьей, так и комнаты, где жил Янкель Юровский, комнат нижнего этажа дома Ипатьева, где помещалась внутренняя охрана, и казарменного помещения дома Попова, где была расквартирована команда внешней охраны.
В приложении 1 (к настоящему отделу) помещены выписки из описей вещей и предметов, найденных в комнатах, где жила Царская Семья, и собранных в каретнике дома Ипатьева как наиболее характерные для подтверждения высказанного взгляда на разность характера предметов, оказавшихся в том и другом месте. Куда делись вещи Царской Семьи, разграбленные убийцами, установить не удалось, но, судя по тому, что Исаак Голощекин и Янкель Юровский направились из Екатеринбурга в Москву, можно думать, что главная масса белья, одежды и обуви членов Царской Семьи стала в Москве достоянием дам нового советского света.
4. Исключение составили оставленные советскими деятелями в каретнике книги, принадлежавшие членам Августейшей Семьи, и часть игрушек наследника Цесаревича. Кроме того, как было уже сказано, в доме Ипатьева оказались брошенными Евангелия и священные книги погибшей религиозной Семьи. Может быть, если бы власть большевиков продержалась в Екатеринбурге дольше, то и эти книги и игрушки были бы растасканы причастными к преступлению охранниками и посторонними людьми, но военные события шли слишком быстрым темпом, и творцы злодеяния были вынуждены покинуть дом Ипатьева до совершенно полного расхищения имущества.
Все эти книги не принадлежали к числу книг Царскосельской библиотеки; это были книги, лично принадлежавшие каждому из членов Семьи как подарки от родителей или былых близких друзей и знакомых. Поэтому почти на каждой книге имеются пометки: когда книга получена, кому она принадлежит и на большинстве – от кого именно получена. Обращает на себя особое внимание, что эти любимые, дорогие для детей книги – исключительно русские, английские или французские. Ни одной немецкой книги ни у кого из них не было, и вообще немецких книг в вещах Царской Семьи не оказалось. Единственно Е. А. Шнейдер имела Евангелие на немецком языке, так как была лютеранкой.
Из этих найденных книг Великой княжне Ольге Николаевне принадлежали 3 английские и 2 французские книги; кроме того, 2 французские книжки принадлежали одновременно двум старшим сестрам.
Великой княжне Татьяне Николаевне принадлежали: 7 английских и 17 русских книг, а именно: Молитвенное правило готовящимся к Святому Причастию; Благодеяние Богоматери; Часослов; Письма о христианской жизни; О терпении скорбей; Житие и чудеса святого Симеона Верхотурского; Житие преподобного Серафима Саровского; Акафист Богородице; Двенадцать Евангелий; Моя жизнь во Христе; Утешение в смерти близких сердцу; Сборник благоговейных чтений; Беседы о страданиях Филарета; Великий канон Андрея Критского; Сборник служб, молитв и песнопений; Чистякова. История Петра Великого; Чарский. Смелая жизнь.
Великой княжне Марии Николаевне принадлежали: 2 английские и 4 русские книги: Л. Толстой. Война и мир; Попов. Отблески; Книжка наглядного обучения иностранным языкам; Авенариус. На Париж.
Великой княжне Анастасии Николаевне принадлежали 4 книги сочинения Лажечникова.
Наследнику Цесаревичу принадлежали Правила игры на балалайке, Память о Тобольске, Памятная книжка на 1917 год, Тетрадь для французского языка.
Государыне Императрице принадлежали: Нилус. Великое в малом; Аверченко. Синее с золотом; Аверченко. Рассказы для выздоравливающих; три тома сочинений Чехова и 1 французская книжка.
Часть же книг, взятых с собой Царской Семьей в Тобольск из библиотеки Царского Села, оказалась в помещении Волжско-Камского банка, но в очень ограниченном количестве и с разрозненными томами сочинений и недостающими нумерами журналов. Видимо, среди книг кто-то хозяйничал и большую часть похитил.
Но и среди этих книг также не оказалось ни одной немецкой книги. Наоборот, обращалось внимание на наличие книг антигерманского направления: брошюра «Немецкое зло»; Густав Лебон. Основные причины войны; Крэмб. Германия и Англия и т. п. Далее характерно было наличие «Списка фамилий и псевдонимов современных советских деятелей», брошюра «А.Ф. Керенский» и ряд серьезных книг социально-политического направления: Лев Бернстед. Как закрепить землю за народом; Пешехонов. Национализация земли; Ядринцев. Сперанский и его реформы; Семенов. Демократия и армия; брошюра «Земля и воля»; Мылов. Политические партии и т. д.
Много оказалось книг по истории и географии России, книг философских и духовного содержания и разрозненных журналов периодической печати: Исторического вестника и Вестника Европы. Беллетристических книг осталось мало и среди них на книге Мельникова-Печерского «В лесах» имелась отметка: «Прочел в Тобольске, сентябрь 1917 г. Николай», а на книге Л. Толстого «Анна Каренина»: «Читал в Тобольске, февраль 1918 года. Николай».
В Екатеринбурге в доме Ипатьева тюремщики лишили возможности Царскую Семью пользоваться книгами; зубной техник Исаак Голощекин и ротный фельдшер Янкель Юровский, по-видимому, не имели в виду особенно скрывать от Царской Семьи, для чего они держат ее в Ипатьевском доме, и в последние два с половиною месяца своей земной жизни Августейшие Мученики имели в своем распоряжении захваченные Государыней ее неразлучные спутники: «Евангелие», «Лествицу», «О терпении скорби» и «Библию». Филипп Проскуряков рассказывал, что обыкновенно читал Государь или Государыня, а все остальные заключенные, собравшись вместе в столовой, слушали и занимались каким-либо рукоделием. Иногда в перерывах они пели. «Их пение я сам не один раз слышал, – говорил Проскуряков. – Пели они исключительно одни духовные песни».
Видно, в этом приближении к Богу, в твердом сознании скорого предстательства пред Лицом Его Царская Семья имела силу духа просить Его:
И у преддверия могилы Вдохни в уста Твоих рабов — Нечеловеческие силы Молиться кротко за врагов.5. Ни дневников Государыни и Августейших детей, ни каких-либо вообще документов Его Величества среди собранных в Ипатьевском доме бумаг и вещей не оказалось. Документы государственного значения и личная переписка Государя Императора были конфискованы еще Керенским в Царском Селе, о чем будет рассказано во второй части этой книги. Но дневники оставались у Государя Императора, и Он продолжал их вести и в Тобольске. При переезде из Тобольска в Екатеринбург, по словам Чемадурова, дневники были уложены в отдельный сундучок и отправлены со всем багажом. Так как Царская Семья своего багажа в Екатеринбурге не получила, то возможно, что советские деятели завладели дневниками уже при самой перевозке багажа из Тобольска в Екатеринбург, а не только после убийства. На такие, по крайней мере, мысли наводят слова Янкеля Свердлова; когда в заседании Президиума ЦИК 18 июля 1918 года он говорит своим коллегам, что документы о заговоре высланы из Екатеринбурга с особым курьером, а через несколько фраз заявляет, что «в распоряжении ЦИК находятся сейчас чрезвычайно важные материалы и документы Николая Романова, его собственноручные дневники» и т. д. Это вставленное слово сейчас заставляет думать, что дневники Государя Императора уже были в Москве до прибытия курьера, высланного после убийства, тем более что Янкель Свердлов перечисляет категории разных документов и писем, что едва ли Екатеринбург мог сообщить ему в то время, полное сумятицы, так как для этого надо было более или менее разобраться в захваченных в Ипатьевском доме документах к моменту переговоров с Москвой по прямому проводу, а, как рассказывает кучер Елкин, Янкель Юровский всю первую половину дня 17 июля прокатался по городу.
Совершенно случайно сохранился и был отобран у Михаила Летемина собственноручный дневник наследника Цесаревича за 1917 год. Это небольшая книжка в твердом, обтянутом сиреневым муаром с золотым тиснением переплете. На оборотной стороне первого внутреннего бумажного оберточного листа рукой Государыни Императрицы на верху страницы поставлен крест и под ним написано: «Всея твари Содетелю времена и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире Императора, молитвами Богородицы и спаси ны». А на следующем внутреннем таком же листе: «Дорогому моему Алексею от Мама. Царское Село».
Трогательно, по-детски, заносил Цесаревич в дневник свои наблюдения над трагически-жгучими событиями этого тяжелого для его Родителей и для всей Семьи года. Он болел, и болел серьезно, поэтому, естественно, доминирующими мотивами записи являются отметки о состоянии здоровья и связанные с этим разрешавшиеся ему развлечения дня. Но он наблюдателен, отмечает, конечно, по-своему и события внешней жизни, оставлявшие в нем то или другое впечатление: «Сегодня приезжал Керенский; я спрятался за дверь, и он, не замечая меня, прошел к Папа». «Когда мы ехали на вокзал, кругом нас скакала кавалерия» – это при отправлении в Тобольск. «Мы ходили в церковь; по всему пути стояли шпалерами солдаты». «Сегодня нас опять не пустили в церковь. Дураки». «Как тяжело и скучно» – одна из последних записей в Тобольске. В Екатеринбурге наследник Цесаревич не сделал ни одной записи.
Как общий характер – вначале записи в дневнике идут почти ежедневно; дух их бодрый, веселый. Потом, с переездом в Тобольск, записи делаются все реже и реже, а содержание их становится все грустнее и грустнее, как будто предчувствие закрадывалось в его юную душу и ему не хотелось заносить этого состояния в дневник. Однажды он выразился: «Если будут убивать, то чтобы недолго мучили». Павел Медведев говорит, что «после первых залпов Наследник еще был жив, стонал; к нему подошел Юровский и два или три раза выстрелил в него в упор. Наследник затих».
Из дневника наследника Цесаревича видно, что несмотря на попытки отдельных личностей из охраны тем или другим задеть, оскорбить членов Семьи, большинство солдат, по-видимому, еще долгое время в Тобольске продолжало сохранять к бывшему Государю уважение, почтение и любовь именно как к бывшему Царю, который даже в положении арестованного продолжал проявлять к ним постоянные знаки внимания, хорошего отношения и заботы. Наследник Цесаревич очень часто упоминает фамилии любимых солдат, разговоры с ними его и Отца, и эта близкая связь, по-видимому, сохранялась до смены солдат охраны латышами, привезенными Родионовым и Хохряковым. Наследник отмечает, что в Тобольске они с Государем ходили в помещение караула и там засиживались в беседе с солдатами. Известно, что когда в Тобольск был прислан Керенским новый комиссар Панкратов со своим помощником, грубым Никольским, то они начали вводить разные строгости во избежание побега или похищения Царской Семьи. Велико было изумление Панкратова, который однажды, зайдя в караульное помещение охраны, застал там Государя Императора с наследником Цесаревичем за столом с солдатами караула в дружественной беседе. Вероятно, тогда этот революционер царского времени понял, что если между Правителем – Царем России и народом произошел разрыв, приведший к революции и низвержению Царя руководящими классами, то не бывший Государь Император Николай Александрович был причиною этого разрыва, а все те, кто мнил себя стоящим ближе к народу, мнил себя более понимающим народ и поставил себя между Царем и народом.
6. Ни в доме, ни в каретнике не оказалось ни одного хорошего сундука и чемодана, принадлежавших Царской Семье, в которых перевозились их вещи. По-видимому, ими воспользовались убийцы для вывоза награбленного имущества, причем с них были сорваны вензеля и инициалы, которые находились как в доме Ипатьева, так и в доме Попова. В каретнике оставались только железные кухонные сундуки, в которых обыкновенно хранят продукты и припасы, и несколько разбитых и разломанных простых укупорочных ящиков. Среди оставленных и разбросанных вещей оказалось несколько больших рам от фамильных портретов, но самих портретов не сохранилось: их вырвали, изорвали и сожгли. Так были уничтожены большие портреты всех Царских детей, за исключением портрета Великой княжны Татьяны Николаевны, какового вообще не было. Портрет Великой княжны был заказан перед самой Февральской революцией; ввиду большой стоимости портрета Государь и Государыня были вынуждены после своего ареста остановить этот заказ, и портрет сделан не был.
В доме Ипатьева сохранились: соломенная кушетка и ширмы Государыни Императрицы, вывезенные ею из Царскосельского дворца; кресло-каталка наследника Цесаревича, в котором он провел последние месяцы своей жизни, так как со времени переезда в Екатеринбург болезнь не оставляла его и ходить он совершенно не мог. От жителей города были получены: сани наследника Цесаревича, в которых его возили на прогулки во время болезни зимой, и столик от волшебного фонаря. Самого фонаря в вещах не оказалось.
7. Но если из белья, одежды и обуви ничего не осталось в целом состоянии, то небольшое количество этих предметов, в виде почти совершенно погоревших остатков, оказалось в пепле печей комнат, занимавшихся Царской Семьей. Тут попадались обгорелыми: куски шелковых чулок, колечки от корсетной шнуровки, пистончики от лифчиков, пуговицы, крючки и кнопки от белья, пуговицы от одежды, пряжки и застежки от подвязок, кусочки разных материй и обуглившиеся остатки обуви. Вместе с тем в том же пепле в обгорелом, а иногда и в расплавленном виде попадалось много остатков рамок и рамочек, образков и иконок, металлических частей от сумочек, шкатулок и коробочек, причем на некоторых остатках сохранились надписи, свидетельствовавшие, что это были вещицы, сохранившиеся членами Царской Семьи как память, воспоминания о родных местах и близких людях.
8. Совершенно обратно тому, что отмечено выше относительно характера вещей, найденных в доме Ипатьева и в каретнике, следует заметить в отношении вещей и вещиц, собранных в районе Ганиной ямы и в шахте, обследовавшейся офицерами. Если в первом случае нахождение остатков белья, одежды и обуви составляло как бы исключение, а из драгоценностей ничего не оказалось, то во втором случае, наоборот, все найденные предметы относились только или к частям одежды, белья и обуви, или к ювелирным драгоценностям и вещам, которые могли быть или в карманах, или надетыми на членах Царской Семьи.
Все эти вещи и предметы были разделены на две группы: первая – вещи, найденные при осмотре кострищ в районе Ганиной ямы, и вторая – вещи, найденные в самой шахте.
В первую группу вошли следующие предметы:
1) Бриллиант Государыни Императрицы весом 12 каратов. Он оправлен в зеленое золото и платину и принадлежал к большому драгоценному украшению. По заключению экспертов, стоимость такого бриллианта в дореволюционное время определялась в 20 000 рублей.
2) Кульминский изумрудный крест с жемчужными подвесками; принадлежал одной из Великих княжон. Он сильно обгорел, особенно жемчужины, из коих только одна сохранила еще свой натуральный цвет.
3) Три топазовые бусины Великих княжон от длинных ожерелий.
4) Кусочек бриллиантового украшения. Он носил следы какого-то рубящего оружия, которым был отделен, по-видимому, от целого украшения.
5) Две маленькие пряжки с алмазиками от туфель Великих княжон.
6) Семь тоненьких пружинок от запоров ювелирных изделий.
7) Остатки шести корсетов, из коих 3 – на взрослые фигуры, 1 – среднего размера и 2 – на меньшие фигуры.
8) Восемь парных пряжек и одна отдельная от женских подвязок, которыми они пристегиваются к корсетам.
9) 16 пряжек и 4 крючка от женских подвязок для пристегивания к чулкам.
10) Девять пистончиков от шнуровки корсетов или лифчиков.
11) 7 пряжек от мужских помочей или от брючных и жилетных хлястиков.
12) Три крючка от мужских костюмов.
13) Три части пряжек от женских поясов.
14) Медная пряжка с гербом малого размера и застежка к ней от кожаного пояса наследника Цесаревича.
15) 5 больших и одна малая медные, с гербами, пуговицы от шинели Государя или наследника Цесаревича.
16) 4 пуговицы от дамских костюмов, 3 перламутровые пуговицы от белья; 6 металлических заграничных пуговиц от мужской одежды; 4 металлические пуговицы фирмы Лидваля и 2 белые полотняные от белья.
17) Четыре заграничные кнопки от женских платьев.
18) Металлическая бляшка и американский ключик от ручной сумочки и металлический ободок и застежка от той же сумочки или портмоне.
19) 28 обгорелых кусков от хорошей карманной головной щетки.
Вторую группу составили следующие предметы:
1) Отрезанный женский палец и два кусочка человеческой кожи.
2) Жемчужная серьга с бриллиантом Государыни Императрицы.
3) Четыре части расколотого жемчуга, возможно – от парной, указанной выше серьги.
4) Застежка с бриллиантиками для подвеса какого-то украшения.
5) Две разломанные частицы от какого-то золотого украшения.
6) Одна топазина и осколок от другой такой же, видимо – от длинного ожерелья.
7) Складная карманная рамка Государя Императора с тремя кусочками разорванной фотографии Государыни Императрицы, когда она была еще невестой.
8) Три разломанных и разбитых образка, носившихся на шее: один – Николая Чудотворца, другой – святых Гурия, Самона и Авива и третий – нельзя разобрать. С ними 28 кусочков разрушенной эмали от этих образков.
9) Застежка для галстука.
10) 35 пистончиков от шнуровки корсетов или лифчиков, 15 кнопок от женских платьев, 14 петель и 18 крючков разной величины от мужской и дамской одежды, 2 пуговицы, 4 винтика и 2 гвоздика от хорошей обуви.
11) Пряжка от женского пояса.
12) Черная бархатная ленточка.
13) Вставная верхняя челюсть доктора Боткина.
14) Два осколка зеленого хрусталя от флакона и пробка с императорской короной. Флакон принадлежал Государыне Императрице.
15) Две револьверные пули автоматического револьвера.
16) Три осколочка ручной гранаты.
17) Малая шанцевая лопата, которой, видимо, работали убийцы.
Все эти вещи были найдены сильно обгорелыми и поржавевшими. Все они подлежали экспертизе, исследованию и предъявлению сведущим лицам, о чем и будет сказано в следующем отделе этой главы. Пока обращало на себя внимание, что золотые вещи находились с явными следами порубки; это не были изломы – совершенно ясно было, что их рубили. Сильным ударам подвергались, видимо, и топазы, на что указывает найденный осколок; если жемчужина могла расколоться, просто когда на нее наступили ногой, то топазина от такого давления не расколется: нужен был сильный удар по ней чем-нибудь твердым и тяжелым.
Нельзя не отметить также найденных шейных образков; на одном из них сохранился собственной ручной работы Государыни мешочек, связанный из малиновых ниток ириса, со следами, какие остаются на нитках при долгой носке изделия на теле. Принадлежность этих образков членам Царской Семьи устанавливается целым рядом свидетелей из лиц, состоявших при них в Тобольске и ранее: Чемадуров, Тутельберг, Иванов, Тегелева, Эрсберг. Представляется, следовательно, что тела убитых, привезенных к шахте в районе Ганиной ямы, ранее окончательного сокрытия их раздевали почти донага, так как иначе снять или сорвать нательные образки не представлялось возможным.
Далее обращает внимание тождественность предметов, найденных в самой шахте, с предметами, найденными вне шахты, на поверхности земли, но вблизи шахты – там, где были костры. Так как, за исключением нательных образков, почти все предметы, оказавшиеся в шахте, носили явные следы предварительного нахождения их в огне, то ясно, что в шахту они были брошены умышленно, как бы от разброски кострищ, скрывая следы таковых. Следовательно, те, кто сжигал вещи, одежду, обувь членов Царской Семьи, вовсе не руководились какими-либо симулятивными целями, как о том говорили в городе, а, наоборот, хотели скрыть и свое деяние, как скрывали и самый факт убийства всей Царской Семьи.
Наконец, наиболее ярко, и потому с еще большим сознанием ужаса, останавливалось внимание перед найденными остатками сожженных корсетов, и именно шести корсетов трех разных размеров. Число корсетов определялось точно шестью парами передних застегивающихся планшеток; возрастной размер корсетов вытекал из длины как этих планшеток, так и других найденных металлических корсетных костей. Шесть корсетов соответствовали шести женским телам, которые могли быть привезены сюда на грузовом автомобиле из Ипатьевского дома: Государыни Императрицы, Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии Николаевен и Анны Демидовой.
9. В доме Ипатьева, в буфете столовой, были найдены все те, наиболее дорогие для Семьи иконы, которые были вывезены ею с собой из Царского Села и частью получены в Тобольске от разных лиц. В числе этих 57 икон три имели надписи, сделанные Григорием Распутиным. Вот эти надписи:
а) на иконе с изображением лика Спаса Нерукотворного в 1908 году Распутин написал: «Здесь получишь утешение»;
б) на иконе Благовещения Пресвятой Девы в 1910 году им написано: «Бог радует и утешает (о чем) извещает (как и об этом) событии (и в) знак дает цвет»;
в) на иконе с изображением Божьей Матери «Достойно есть» в 1913 году Распутиным написано: «Благословение достойной Имяниннице Татьяне на большую любовь во христианстве, а не в форме».
Надписи приведены в исправленном виде: Распутин же пишет страшно безграмотно, соединяя иногда два-три слова в одно, а иногда, как это видно на второй иконе, пропускает слова, отчего разобрать его рукописи довольно трудно.
Не касаясь совершенно в настоящей части этой книги значения Распутина как оружия, выдвинутого определенными партиями и кругами общества для своих гнусных политических целей, о чем будет речь в третьей, последней части этой книги, здесь, исходя из приведенных надписей Распутина, нельзя, вспоминая весь тот ужас грязи, которой общество заливало Царскую Семью в ее отношении к Распутину, отказаться от желания напомнить честному русскому христианину слова апостола Павла к Коринфянам: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе».
10. Вещи, собранные в помещении бывшего областного совета, в здании Волжско-Камского банка, оказались в главной массе принадлежавшими графине Гендриковой, Е. А. Шнейдер, генералам Татищеву и Долгорукову. Здесь разборкой и увозом вещей распоряжались председатель облсовета Белобородов, его товарищ еврей Сафаров, два делопроизводителя братья Толмачевы и секретарь прапорщик Мутных, а после них – два сторожа: Лылов и Новоселов и буфетчица Балмышева.
Вещей осталось значительно больше, чем в доме Ипатьева; осталось и немного предметов, белья, одежды, обуви и даже некоторые драгоценные вещи в общем на сумму несколько тысяч рублей, если даже не больше. И что особенно ценно – остались все дневники Анастасии Васильевны Гендриковой, письма Государыни Императрицы и Великих княжон к ней и много различных заметок и вырезок из журналов и газет, сделанных Анастасией Васильевной и генералом Долгоруковым.
Лылов рассказывал, что разбиравшиеся в сундуках и чемоданах вышеназванные чины совдепа очень торопились, спешили и интересовались не столько вещами, сколько самими сундуками, так как они, выбросив вещи на пол, набивали их драгоценностями и деньгами из кладовой. Вещи же, по-видимому, растащили уже потом разные бывшие служащие областного совета. Это характерно в том отношении, что слишком бросается в глаза разница в действиях одной части руководителей советской власти в Ипатьевском доме от другой части таких же руководителей в помещении Волжско-Камского банка. Там в каждом действии Исаака Голощекина и Янкеля Юровского проглядывает идея, обдуманность, цель; здесь, у Белобородова, еврея Сафарова, братьев Толмачевых, прапорщика Мутных, – простой грабеж наиболее ценного имущества, чужого добра. Там – тщательное уничтожение своих следов, следов своего деяния, здесь – выставление напоказ характерной, общей большевистской черты – грубого произвола. Там – кощунственное отношение ко всякой святыне: поломанные образа, сожженные иконы, разбитые флаконы со святой водой, святыни, выброшенные в помойку; здесь – все священные предметы остались неприкосновенными, не тронутыми, не оскверненными руками исчадий еврейского народа.
Поверхностное и беглое изучение письменных материалов, оставшихся после убитых А. В. Гендриковой, Е. А. Шнейдер, И. Л. Татищева и В. А. Долгорукова, заняло около пяти недель времени и послужит данными для некоторых выводов в третьей части настоящей книги. В дополнение к показаниям живых свидетелей, прошедших перед следственным производством, документы и заметки, сохранившиеся от людей, близко стоявших к интимной жизни Царской Семьи, дают много материала для освещения последних лет царствования бывшего Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Феодоровны как раз с точки зрения народной идеологии русского Царя как Помазанника Божия.
Анастасия Васильевна Гендрикова вела свои дневники с 1906 года, последняя сделанная ею запись в своих дневниках в Тобольске, под датою 4 мая 1918 года, гласит: «Отряд заменен красногвардейцами». В этот день охранявший ранее Царскую Семью отряд из солдат, приехавших с Семьей из Царского Села, был заменен отрядом латышей, привезенных с собой комиссаром Родионовым. Дальше Анастасия Васильевна записей не вела; вероятно, замена охраны латышами слишком ясно дала понять, что их всех ждало.
Перед самой Февральской революцией 1917 года Анастасия Васильевна спешно выехала в Ялту к заболевшей сестре. Не доехав до места, в Севастополе она узнала о перевороте; на другой же день, отказавшись от возможности повидать сестру, она немедленно садится в поезд и мчится обратно в Царское Село. Во дворец она попадает в тот день, когда генерал Корнилов объявил Государыне об ее аресте и предупредил придворных, что, кто хочет, может остаться и разделить участь арестованной, но чтобы решили сейчас же, так как потом во дворец никого не пустят.
«Слава Богу, – пишет в этот день в дневнике Анастасия Васильевна, – я успела приехать вовремя, чтобы быть с Ними».
Она ведет свои записки в дневниках почти ежедневно, совершенно объективно занося события текущей придворной жизни и не вдаваясь в какие-либо обсуждения, суждения и заключения. Только в период, несколько предшествовавший и последовавший за убийством Распутина, в ее записях чувствуется, что в ней происходила какая-то борьба, драма на почве как будто и ее коснувшихся сомнений, а может быть, и не сомнений, а досады, боли. Распутина она, видимо, ненавидела, и при всей ее сдержанности это чувство прорывается в дневнике, чувство личного начала, и, быть может, в минуту своего тяжелого одиночества на земле она усомнилась в чистоте своей веры, уклонилась от простоты во Христе и заколебалась…
«Я ждала всю неделю, что Вы мне напишете, – пишет ей Государыня через неделю после убийства Распутина, – Мама Ваша так не сделала бы».
«И думать, что такая же опасность может угрожать и Ему?»
Вот тот ужас, которым было полно все существо Государыни Императрицы. Вот чего она опасалась в убийстве Распутина. Вот что топталось в грязь всеми нами, мялось грязными руками, тянувшимися в ослеплении гордыни к престолу земной власти. Она, Царица, была чище нас всех. Она опасалась за жизнь его, своего Царя, Царя русского народа, Помазанника Божия, которого мы, все интеллигенты, в гордыне своего ума забыли. Она опасалась за своего мужа, за человека, которого, как женщина, любила с пятнадцатилетнего возраста, с которым еще тогда обменялась на всю семейную жизнь кольцами, не расставаясь с ними: она имела от него рубиновое кольцо, которое носила на шейной цепочке с образками; он имел от нее сапфировое кольцо, которое носил на пальце вместе с обручальным кольцом. Остатки этих колец были найдены позже у шахты; Бог не захотел, чтобы эти символы великой, святой любви на земле между ними попали в руки Исааку Голощекину.
11. В документах, собранных Сергеевым по Царскому делу и касавшихся той или иной деятельности советских представителей, совершенно отсутствовали:
а) фотографии различных деятелей, причастных к преступлению;
б) биографические сведения об этих деятелях, их характеристика, описание наружности, приметы;
в) сведения о составе главнейших Екатеринбургских советских органов власти;
г) частная переписка различных деятелей и данные о связях, с одной стороны, с Москвой, с другой стороны – с жителями города.
Единственным документом в этом роде являлось письмо Янкеля Юровского к доктору Архипову, найденное и отобранное чинами уголовного розыска. Содержание письма, с сохранением орфографии, следующее:
«Кенсорин Сергеевич, в случае моего отъезда на фронт я во имя наших с Вами отнош надеюсь не откажете моей старой маме в содействии в случае преследований ее только за то что она моя мать. Вы конечно панимаете что о моем местопребывании она ничего знать не будет уж только по томучто и я этого не знаю, но и в том случае еслиб я это знал то разумеется этого ей не сказал бы просто для чистоты ея совести наслучай еслиб ее допрашивали. Я обращаюсь к Вам еще и потому что Вы строгий в своих принципах даже при условиях гражданской войны и при условии когда вы будете у власти. Я имею все основания полагать что Вы с Вашими принципами останетесь в одиночестве но всеж Вы съумете оказать влияние на то чтоб моя мать которая совершенно не разделяла моих взглядов виновная следовательно только в том что родила меня, а также в том что любила меня. Я значить на случай падение власти советов в Екатер. дать ей приют на время возможного погрома или предупредить и самый разгром квартиры принимая внимание что я не продавал дела чтоб не остав. служ. без работы которые очень и очень далеки от большевизма. Это может быть предсмертное письмо надеюсь ято не ошибусь обращ. к вам. Я.М. Юровск…»
Письмо характерное, как по содержанию, так и по грамотности, для одного из крупнейших местных деятелей советской власти в Екатеринбурге, и несомненно было бы полезно иметь такие же документы других главнейших руководителей преступных замыслов и вершителей судеб многострадальной России. Служащие комиссара Янкеля Юровского, даже не будучи большевиками, имеют полное право заниматься не национализированным трудом, потому что работают на благо комиссара; остальной же русский народ права на это не имеет. Янкель Юровский не имеет сочувствия к своим взглядам ни среди своих служащих, ни даже у своей матери; охранной команде, которой он начальствует в Ипатьевском доме, он, видимо, тоже по несочувствию во взглядах, не доверяет; перед всем обществом Урала лжет, боясь правды, тоже, очевидно, не рассчитывая на сочувствие во взглядах. И тем не менее и сам он себя считает, и советская власть именно его-то и признает выразителем волн народа, представителем народной власти. В 1917 году Лейба Бронштейн, свергнув власть Аарона Керенского, крикнул народу: «Мы опрокинули власть Керенского, мы повалили ее навзничь и, наступив ногой на грудь, крикнули всероссийскому рабочему и крестьянину: придите и возьмите ту власть, которая единственно принадлежит народу…» Как в этот момент он, вероятно, дико и дьявольски хохотал в душе над теми, кто его слушал!
При разборке документов в бумагах графини Гендриковой пришлось наткнуться на ее показание, данное следственным властям по поводу приезда в Тобольск Маргариты Хитрово. Тут же хранилась и остроумная сатира Анастасии Васильевны в стихах по поводу того переполоха среди властей, который произвела эта молодая, но легкомысленная барышня своим приездом и манерой держать себя, совершенно не желая этого, как заговорщица. При обследовании этих документов оказалось, что действительно приезд в Тобольск Маргариты Хитрово испугал даже Керенского, который в середине августа прислал прокурору Тобольского суда следующую телеграмму:
«Из Петрограда. Вне очереди.
Расшифруйте лично и если комиссар Макаров или член Думы Вершинин Тобольске, то их присутствии.
Предписываю установить строгий надзор за всеми приезжающими на пароходе в Тобольск, выясняя личность и место, откуда выехали, равно как путь, которым приехали, а также место остановки. Исключительное внимание обратите приезд Маргариты Сергеевны Хитрово, молодой светской девушки, которую немедленно арестовать на пароходе, обыскать, отобрать все письма, паспорта и печатные произведения, все вещи, не оставляющие личного дорожного багажа; деньги; обратите внимание на подушки; во-вторых, имейте в виду вероятный приезд десяти лиц из Пятигорска, могущих впрочем прибыть и окольным путем. Их тоже арестовать, обыскать указанным порядком. Ввиду того, что указанные лица могли уже прибыть Тобольск, произведите тщательное дознание и случае их обнаружения арестовать, обыскать тщательно, выяснить, с кем виделись. У всех, кого видели, произвести обыск и всех их впредь до распоряжения из Тобольска не выпускать, имея бдительный надзор. Хитрово приедет одна, остальные, вероятно, вместе. Всех арестованных немедленно под надежной охраной доставить Москву прокулату. Если они или кто-либо из них проживал уже Тобольске произвести тотчас обыск доме, обитаемом бывшей Царской Семьей, тщательный обыск, отобрав переписку, возбуждающую малейшее подозрение, а также все не привезенные ранее вещи и все лишние деньги. Об исполнении предписания, по мере осуществления указанных действий, телеграфировать шифром мне и прокулату Москву, приказания которого подлежат исполнению всеми властями. Прошу Макарова или Вершинина телеграфировать, какой у них шифр. № 2992. Министр-председатель Керенский».
Во исполнение этого предписания 18 августа 1917 года прокурорским надзором и чинами милиции произведены были обыски у Хитрово и других лиц, проживавших в Тобольске, у которых Хитрово успела побывать по своем приезде в город, не давшие, однако, положительных результатов, причем Хитрово была все-таки арестована и отправлена под надежной охраной в Москву. Вся переписка по этому делу заканчивается телеграммой прокурора Московской судебной палаты Стааля от 21 сентября 1917 года, из которой видно, что дело Хитрово прекращено и препятствий к приезду ее в Тобольск не встречается.
Можно думать, что весь переполох был вызван тем, что Хитрово, уезжая из Петрограда, вся закуталась в пакеты и корреспонденцию, которую она набрала для всех тобольских узников, а с дороги посылала своим родным открытки, в которых сообщала: «Я теперь похудела, так как переложила все в подушку». Но интерес приведенных документов, конечно, не в Маргарите Хитрово, а в министре-председателе Керенском, олицетворявшем собою русскую власть, даровавшую России свободу и освобождение от полицейского режима и произвола царизма. Пусть те, кто страдал от полицейского режима царизма, забыв на минуту свои к нему симпатии или антипатии, откровенно скажут – есть ли разница в предписании, данном Керенским, с предписаниями былого времени Плеве, Курлова и им подобных лиц? Надо сознаться – никакой, все то же: ни предъявления вины, ни указания на закон, ни определения преступности, ни даже малейшего, какого-нибудь примитивного указания, кого хватать из подлежащих приезду из Пятигорска, – ничего. Хватай, сначала арестуй, обыскивай и высылай арестантом в Москву. Не все тот же ли это произвол?
* * *
Разобранные вещи в достаточной мере указывали на то, что живыми члены Царской Семьи никуда из Екатеринбурга не уезжали. Они не могли по существу своих натур, их религиозности сами уничтожить свои святыни, растоптать символы Православной Церкви и скорее предпочли бы погибнуть, чем купить свою жизнь отдачей души дьяволу.
За сохранение своих душ они и отдали свою земную жизнь.
«Они, Государь и Государыня, больше всего боялись, что их увезут куда-нибудь за границу. Этого они боялись и не хотели».
«Народ, – говорил Государь, – добрый, хороший, мягкий. Его смутили худые люди в этой революции. Ее заправилами являются “жиды”. Но это все временное, все пройдет. Народ опомнится, и снова будет порядок». Так передавала их слова Клавдия Битнер, учительница детей в Тобольске.
Вещественные доказательства
В основание работ этой области следственного производства Соколов положил чрезвычайно детальный, последовательный и всесторонний метод изучения и исследования физического состояния и истории происхождения каждой отдельной вещицы, обгорелого кусочка, уголька, земли, документа, телеграммы, записки – всего, что так или иначе привлекало внимание следствия и могло относиться к совершившемуся в Ипатьевском доме преступлению.
Прежде всего Соколов точно устанавливал место, время и обстоятельства нахождения предмета или его изъятия; затем путем экспертизы специалистов определял род, свойства, качество и назначение исследуемого вещественного доказательства, а если оно составляло только часть целого предмета, то путем той же экспертизы определял данные этого цельного предмета. Далее, если на предмете имелись повреждения, то выяснялись характер и причины этих повреждений, а путем допросов и предъявления сведущим лицам устанавливалось, кому принадлежал или мог принадлежать данный предмет или на ком была замечена такая именно вещь. Таким образом, определялся владелец вещи, или первоисточник ее происхождения, или первоисточник ее нахождения. Если имелось несколько однородных вещественных доказательств, но найденных или изъятых в разных местах, то путем новых экспертиз устанавливалась тождественность их между собой, а путем допросов и логических анализов обстоятельств выяснялись причины и следствия нахождения тождественных вещественных доказательств в разных местах.
Таким методическим путем исследования и изучения, соответственно запротоколированных, Соколов подходит к логически вытекающим из них фактам, обстоятельствам, сопровождавшим совершение преступления. Так, какой-нибудь маленький медный винтик, найденный Сергеевым в пепле печки в комнате Великих княжон в доме Ипатьева, после применения к нему Соколовым метода исследования оказывался принадлежавшим к очень хорошей дамской обуви заграничного происхождения; тех же качеств и свойств винтик нашелся в кострище в районе Ганиной ямы, где он подвергся сильному действию огня и откуда такой же винтик вместе с обуглившимися кусочками кожи самой обуви, угольками из этого кострища, глиной с площадки, где было кострище, и лопаткой со следами той же глины, попадал на дно шахты. И наоборот, пуля автоматического заграничного револьвера, найденная на дне шахты, при промывке Шереметьевским ила, с приплюснутым концом, как бывает от удара о человеческую кость, оказывалось, была раньше тоже в кострище, где подверглась действию сильного огня, а сюда, вероятно, попала с телом одного из убитых членов Царской Семьи из комнаты нижнего этажа Ипатьевского дома, где в полу оказалась застрявшей такая же точно пуля, прошедшая лишь через мягкие части человеческого тела, но увлекшая за собой все-таки немного крови, впитавшейся в дерево, и немного шерстинок материи защитного цвета, похожей на рубахи, какие носили Государь Император и наследник Цесаревич, И, вероятно, эта пуля как раз вошла бы в автоматический револьвер системы Кольта, бывший, по показаниям свидетелей, в руках Янкеля Юровского.
Логические окончательные выводы из приведенных примеров довольно ясны: в первом случае на кострище у шахты сжигалась обувь Великих княжон, а во втором – пуля попала в кострище, выпав из сжигавшегося тела.
Вещественные доказательства при таком методе изучения как бы начинали говорить сами по себе, подтверждая своей историей показания свидетелей или уличая их в неправильности показания, а иногда и совершенно опровергая. С другой стороны, рассказ свидетеля или участника преступления получал большую определенность, выпуклость и яркость от иллюстрирования его такими исследованными вещественными доказательствами. Всякое увлечение предвзятыми предположениями отпадало, так как экспертиза, ставившаяся в рамки научности, являлась определенным контролером для всякой идеи. Так, предположение, что тела выносились из дома Ипатьева через парадное крыльцо нижнего этажа на Вознесенский переулок, а не во двор, не нашло себе подтверждения в экспертизе каких-то пятен, похожих на кровь, на пороге этого крыльца, так как не дала реакции на кровь, что впоследствии подтвердилось окончательно показаниями Павла Медведева и Анатолия Якимова, участвовавших в выносе тел.
Если вопрос касался изучения и исследования какого-нибудь советского документа, то, не оставляя основных принципов метода, работа дополнялась освещением документа путем сличения с черновиками, розысками на телеграфах, в разных учреждениях, конторах и других местах, имевших то или иное отношение к данному документу. Таким путем удалось, например, установить, что бывший кронштадтский матрос Хохряков, участвовавший в перевозке Царских детей из Тобольска в Екатеринбург, был в Тобольске уже 14 марта, т. е. задолго до приезда туда командированного официально из Москвы Яковлева, имел непосредственные сношения с Москвой, Екатеринбургом, Тюменью, Ишимом, а объявился в Тобольске как лицо, имеющее отношение к Царской Семье, только 26 апреля, уже после отъезда Яковлева. Кроме того, он все время называл себя в Тобольске только председателем местного совдепа, а оказался потом «уполномоченным всероссийскими исполнительными комитетами Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», т. е. совершенно исключительным лицом.
Или другой пример: Екатеринбургский областной совет объявляет официально о расстреле бывшего Царя Николая Романова 21 июля. Между тем оказывается, что объявление это, с пропуском в черновике чисел месяца, было составлено еще до убийства Царской Семьи в виде телеграммы, которая была послана в Москву Янкелю Свердлову как проект объявления еще утром 16 июля, т. е. часов за 18 до совершения преступления, а затем вторично официальное уведомление о расстреле посылалось в Москву телеграммой 18 июля, т. е. через полтора суток после убийства. Это указывает, что, помимо существовавшего официального отношения органов центральной советской власти к совершившемуся в Екатеринбурге преступлению, между отдельными членами советской правительственной сети имели место еще и частные общения по вопросу об убийстве Царской Семьи.
Этот вопрос будет еще разбираться при изучении новых вещественных доказательств, добытых далее следственным производством. Здесь же уместно сказать, что еврей Войков, один из тех 30 большевистских главарей, которые были привезены из Швейцарии в Петроград в запломбированном вагоне, занимавший в Екатеринбурге должность областного комиссара снабжения и члена президиума областного совета, на вопрос некоторых дам, служивших у него в комиссариате: «Почему так усиленно скрывают подробности смерти Николая II?», – ответил: «Мир об этом никогда не узнает». Если бы инициатива и план убийства Царской Семьи исходили от исполкомов советской власти, то едва ли еврей Войков имел основания дать такой горделивый и убежденный ответ, так как при многолюдстве состава исполкомов нельзя было рассчитывать на безмолвие со стороны всех членов этих голосистых учреждений. Еврей Войков мог дать такой ответ, только зная, что идея преступления составляет принадлежность очень ограниченного числа лиц, входивших в состав органов советской власти, и таких лиц, которые не остановятся ни перед какой провокацией, если бы сам факт уничтожения всех членов Царской Семьи выплыл наружу, лишь бы укрыть истинных вдохновителей этого антихристианского, сатанинского, кошмарного преступления.
Войков выразился не вполне точно; мир никогда не увидит тел убитых членов Августейшей Семьи, но узнать, почему усиленно скрывались подробности преступления, – наверное, узнает; правда, если только захочет и сможет позволить себе признать правду…
* * *
Раньше чем продолжать следственное производство, Соколову пришлось указанным выше методом изучить всю ту массу вещественных и документальных доказательств, которая уже имелась при деле, но не была использована Сергеевым. Работа была очень большая, важная, но потребовавшая очень много времени: на нее ушли февраль и март месяцы, и то закончить в полной мере в этот срок не удалось. Работа продолжалась все время потом, пополняясь все новыми и новыми данными, по мере того как развивалось исследование во всем его объеме. Сводя ныне результаты всей работы по изучению преступления, можно отметить, что те вещественные доказательства, которые были собраны еще Сергеевым, дали для дела следующие определенные указания.
1) В конце июня и начале июля 1918 года уральский областной военный комиссар и член президиума областного совета, влиятельнейший из советских деятелей Екатеринбурга, Исаак Голощекин находился в Москве. Жил он там у своего соплеменника, председателя президиума Центрального исполнительного комитета Янкеля Свердлова, тоже виднейшего деятеля советской власти. В это время в ЦИКе, в связи с общим положением на внешних и внутренних фронтах, обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе Августейших Ипатьевских узников, и, по-видимому, официальной центральной властью было дано в Екатеринбург распоряжение подготовить все необходимое для вывоза куда-то Царской Семьи из этого города.
Но Янкель Свердлов и Исаак Голощекин были озабочены еще и в другом отношении: они имели какие-то данные опасаться, что судьба Царской Семьи в Екатеринбурге может разрешиться помимо их намерений, их воли, и с этой точки зрения их очень заботила благонадежность охраны, существующей в Ипатьевском доме над Царской Семьей, о чем 3 июля Исаак Голощекин и счел нужным запросить Екатеринбург.
2) Для организации дела, согласно указаниям центра, в Пермь командируется областной комиссар финансов, кажется, тоже еврей, пьянчуга, «никчемуший человек», но тоже знакомый Янкеля Свердлова. Он теперь занимает в Москве большое место в Совнархозе. В Перми формируется какой-то особый поезд; для несения при нем охранной службы посылаются люди из Екатеринбурга, особо надежные, из состава особого отряда Исаака Голощекина. Поезд должен был выдвинуться на какую-то станцию.
3) По поводу же беспокойства Янкеля Свердлова и Исаака Голощекина в благонадежности охраны: 4 июля Белобородов отвечает Исааку Голощекину, что «опасения напрасны», так как ими приняты уже соответственные меры, произведены замены в составе охраны. 4 июля внутренний караул, который несли охранники из рабочих Злоказовской фабрики, был заменен десятью палачами из отряда, состоявшего при Екатеринбургской чрезвычайной следственной комиссии, которых свидетели и охранники называли латышами. Состоявший комендантом Авдеев и его помощник Мошкин, тоже бывшие рабочие Злоказовской фабрики, также были сменены, и взамен их назначены: комендантом дома Янкель Юровский, занимавший очень большое положение в чрезвычайной следственной комиссии (по крайней мере, когда Янкель Юровский бывал на заседаниях комиссии, то председательствовал он, а не Лукоянов, числившийся официально председателем ее); и помощником Янкеля Юровского – Никулин, тоже из состава чрезвычайки, носивший там кличку «пулеметчик» за массовые расстрелы, произведенные им.
4) В добытых различных документах не имеется никаких следов того, чтобы это первоначальное решение официального советского органа власти о вывозе Царской Семьи из Екатеринбурга было им же отменено. Между тем с возвращением Исаака Голощекина от Янкеля Свердлова в Екатеринбург здесь начинает чувствоваться изменение идеи, как разрешить судьбу Царской Семьи, и главное руководство этим вопросом принимает на себя именно Исаак Голощекин. Эта новая идея держится Исааком Голощекиным и его ближайшими сотрудниками, по-видимому, в большой тайне, но тем не менее влияние ее все же проскальзывает в официальных распоряжениях Белобородова, касающихся подготовки вышеупоминавшегося поезда. Так, 7 июля Сыромолотову была послана такая телеграмма: «Если поезд Матвеева еще не отправлен, то задержите, если отправлен, принять все меры к тому, чтобы он был задержан в пути и ни в коем случае не следовал месту, указанному нами. Случае ненадежности нового места стоянки, поезд вернуть Пермь. Ждите шифрованную. Белобородов».
Если содержание этой телеграммы еще давало основание думать, что на задержку поезда могли повлиять обстоятельства чисто внешнего характера – угроза тому месту, куда должен был прибыть поезд, со стороны противника, – то следующая телеграмма, посланная Сыромолотову же 8 июля, не оставляет сомнений в том, что этому поезду уже не придавалось значения такой исключительной важности, как было раньше, когда для охраны его были посланы люди специального отряда Исаака Голощекина: «Если можно заменить безусловно надежными людьми команду охраны поезда всю смените пошлите обратно Екатеринбург. Матвеев остается комендантом поезда. Замене сговоритесь Трифоновым. Белобородов». Очевидно, что для новой идеи и эти особые люди понадобились Исааку Голощекину в Екатеринбурге.
5) Эти люди отряда особого назначения при военном комиссаре Исааке Голощекине в период 17–19 июля несли охрану района Ганиной ямы, где скрывались тела убитых членов Царской Семьи.
6) В конце апреля 1918 года, перед перевозом Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург, состоялось особое заседание президиума областного совета, на котором, как уже указывалось, дебатировался вопрос об уничтожении Царской Семьи. И тогда по поводу этой перевозки были сношения с центром, и от него были указания. На этом совещании, по свидетельству Саковича, главная роль принадлежала евреям Голощекину, Сафарову и Войкову, латышу Тупетулу и русскому рабочему Белобородову.
Перед совершением преступления было тоже особое секретное совещание, главная роль на котором принадлежала евреям Голощекину, Юровскому и Чуцкаеву и русскому Белобородову, а присутствовали еще Петр Ермаков и члены чрезвычайки: Лукоянов, Сахаров и Гарин. Это совещание происходило в комнате № 3 Американской гостиницы, где помещалась чрезвычайная следственная комиссия. Председательствовал на заседании, обсуждавшем план убийства, Янкель Юровский.
7) 16 июля днем Исаак Голощекин и Янкель Юровский (возможно, что с ними был и Белобородов) ездили на легковом автомобиле в Коптяковский лес. Там у встречных местных жителей они расспрашивали про состояние дорог и интересовались проходимостью для автомобиля по боковым маленьким дорожкам.
8) 16 июля под вечер Янкель Юровский отобрал от всех охранников-рабочих револьверы, хотя все «латыши» имели свои револьверы. Распоряжение было выполнено Павлом Медведевым, который все отобранные револьверы принес в комендантскую комнату и сдал Янкелю Юровскому.
9) 16 июля около 12 часов ночи в дом Ипатьева приехали: Исаак Голощекин, Белобородов, Петр Ермаков, Александр Костоусов и, по-видимому, матрос Хохряков. К этому времени из состава постоянной охраны в доме находились: Янкель Юровский, его помощник Никулин, начальник охранного отряда Павел Медведев, разводящий Анатолий Якимов и 10 «латышей» из чрезвычайки.
10) После смерти матроса Хохрякова, убитого на фронте, его револьвер системы Кольта попал к начальнику интернационального отряда в Перми Оржеховскому, который дорожил им как историческим, так как, по его словам, из него будто бы был убит бывший Государь Император.
К таковым выводам приводило изучение и исследование документов, уже имевшихся при деле и определявших деятельность советских главарей в период, предшествовавший совершению убийства.
Далее путем такого же методического изучения следующей группы вещественных доказательств, из числа уже состоявших при следственном деле, устанавливались следующие данные, относящиеся к периоду совершения самого преступления.
1) Найденные у шахты в районе Ганиной ямы разбитый образок Николая Чудотворца, складная кожаная карманная рамочка и железка – обруч от тульи фуражки принадлежали бывшему Государю Императору. Из этих предметов – образок в мешочке, связанном Императрицей, Государь носил на шее, а рамочку с фотографией Государыни-невесты – в боковом кармане и никогда с ней не разлучался.
2) Обгорелый кусок лиловой материи был от юбки Государыни Императрицы; ей же принадлежали жемчужная серьга и большой бриллиант, который был зашит в пуговице костюма одной из Великих княжон.
3) Разбитый образок святых Гурия, Самона и Авива принадлежал Великой княжне Татьяне Николаевне; Кульмский изумрудный крест, топазовые бусины и четыре больших пуговицы принадлежали Великим княжнам, причем пуговицы были от их синих дорожных костюмов.
4) Маленькая медная пряжка с гербом, гербовые пуговицы и кусок обгорелого сукна принадлежали наследнику Цесаревичу; пуговицы и сукно были от его шинели работы петроградского портного Норденштрема, а пряжка – от кожаного пояса солдатского образца.
5) Вставная верхняя челюсть и кусок черного с белыми полосками сукна – доктора Боткина, причем сукно было от его пальто.
6) Простая запонка и застежка от галстука – кого-нибудь из слуг, состоявших при Царской Семье.
7) Части шести корсетов, найденные в кострищах в районе Ганиной ямы, были совершенно тождественны с частями таковых же предметов, найденных в пепле печей дома Ипатьева. Некоторые сохранившиеся клейма, узоры на железках и кусочки обуглившейся материи указывали, что корсеты были очень хорошей работы заграничного производства, и пять из них могли принадлежать только членам Царской Семьи, а один – Демидовой.
8) Найденные в кострищах и в шахте пряжки и застежки от женских подвязок, пряжки от мужских помочей и хлястиков, крючки, петли, кнопки и пуговицы вполне соответствовали по однородности таковым же предметам, извлеченным из пепла в печах дома Ипатьева. При этом экспертиза распределяла эти предметы по качеству на предметы заграничного производства и на предметы более простой русской мануфактуры.
9) При переезде из Тобольска в Екатеринбург все наиболее ценные вещи были зашиты Великими княжнами в костюмах и лифчиках, находившихся на них. Экспертиза установила, что находившиеся в районе шахты и в шахте кусочки драгоценностей имели определенные следы отделения их от целого каким-то рубящим оружием. Остается допустить, что Исаак Голощекин и Янкель Юровский для сокрытия тел разрубали их на части.
10) Найденный в шахте человеческий палец был отрезан, а не оторван. По заключению экспертизы, он принадлежал, скорее всего, женщине средних лет, привыкшей к маникюру.
11) Куски веревки, валявшиеся у шахты, были от какой-то увязки; веревка была новая; ее не развязывали, а тоже перерубали или разрезывали.
12) Во время сокрытия тел в районе Ганиной ямы все работы выполнялись людьми особого конного отряда Верх-Исетского военного комиссара Петра Ермакова. Эти же люди несли ближнюю охрану непосредственно района Ганиной ямы.
13) Сбор и упаковку драгоценных вещей в доме Ипатьева производили 17 июля Исаак Голощекин, Янкель Юровский и Белобородов, пользуясь помощью разводящего Ивана Старкова и «латышей». Разборкой и упаковкой вещей из каретного сарая в течение 17-го, 18, 19, 20 и 21 июля занимались Никулин и какой-то еврей, вызванный Янкелем Юровским из Чрезвычайки.
14) После совершения преступления, 19 июля вечером, Исаак Голощекин поехал в специальном вагоне-салоне в Москву, причем вез с собой в салоне три тяжелых простых ящика, в которых, по его словам, были «образцы снарядов для Путиловского завода». Останавливался он в Москве опять-таки у Янкеля Свердлова; пробыл пять дней, и в том же вагоне поехал в Петроград, но ящиков с ним уже не было.
Таковы были данные изучения уже имевшихся вещественных доказательств, относившихся к периоду совершения преступления. Дальнейшая сборка вещественных доказательств и их исследование велись параллельно с прочими работами следственного производства, а потому о них и будет говориться в соответственных отделах. Наличный материал уже в достаточной мере намечал степень участия различных советских деятелей в убийстве Царской Семьи и те связи, которые в этом отношении существовали между отдельными деятелями в Екатеринбурге с деятелями центральной власти в Москве. Исследование по мере возможности постаралось собрать данные для характеристики и оценки этих деятелей, но, к сожалению, источники, которыми можно было располагать на месте, оказались слишком недостаточными, а личности слишком темными, чтобы представить их физиономии в исчерпывающем для истории виде. Параллельно исследование постаралось выяснить и работников исполнительного характера, которыми руководители злодеяния пользовались для приведения в исполнение своего гнусного и кровавого замысла.
Исторические места
Когда идут по Вознесенскому проспекту от вокзала Екатеринбург-1, то, поднявшись в гору, выходят на обширную, прямоугольной формы, Вознесенскую площадь, самую, пожалуй, высокую часть города Екатеринбурга.
Налево, на углу этой площади, высятся старинной архитектуры белые здания с колоннами Харитоньевских палат, известных из исторического романа «Приваловские миллионы». Дальше, еще левее, в глубине площади красуется величественный и стройный, весь белый Вознесенский собор.
Направо от проспекта, на противоположном от собора крае площади, там, где пологая вершина горы уже начинает понижаться и где вливается в проспект Вознесенский переулок, на самом углу – хорошенький небольшой барский белый особнячок. Это ныне исторический дом – дом Ипатьева.
* * *
В январе 1919 года, ко времени перехода следственного производства в руки Н. А. Соколова, на крыше Ипатьевского дома развивался бело-зеленый флаг: это генерал Гайда, назначенный командующим Сибирской армией, приказал занять его под свой штаб. Только по усиленным представлениям прокурора окружного суда три комнаты в доме Ипатьева не занимались штабными столами и не посещались многочисленной, повсюду толпившейся штабной и посторонней публикой. Это были: угловая комната, служившая спальней бывшему Государю и Государыне; соседняя с ней – комната Великих княжон; и в нижнем этаже – комната, где было совершено злодеяние, сохранявшая еще на стенах и полу кровяные брызги великих мучеников Августейшей Семьи. Комнаты эти были заперты, а последняя, кроме того, и запечатана печатью окружного суда.
* * *
Дом Ипатьева имел неполных два этажа; его левый фас, выходящий в Вознесенский переулок, задний фас, обращенный к садику, и часть правого фаса, выходившего на передний двор, были расположены по нисходившему склону возвышенности, почему нижний этаж дома начинался от левого угла домика низким полукруглым оконцем и, постепенно увеличиваясь по высоте, огибал левый фас дома, задний и часть правого фаса. Поэтому передний фас имел один этаж с большими окнами, высоко отстоявшими от земли, и под ними отдушины-окна подвала. Парадное крыльцо дома, выходившее на Вознесенскую площадь, имело лишь 3–5 наружных ступенек и ступенек 8 уже за входной дверью, внутри вестибюля, и приводило прямо во второй этаж дома, где была помещена Царская Семья. Парадное крыльцо нижнего этажа выходило в Вознесенский переулок из сеней, в которые открывалась справа дверь комнаты, где произошел расстрел. В правом фасе дома на передний двор выходили две рядом расположенные двери черных ходов из верхнего и нижнего этажей. С этого черного хода нижнего этажа выносили тела убитых членов Царской Семьи и складывали на грузовой автомобиль Люханова, стоявший на переднем дворе у выездных на площадь ворот.
К заднему фасу дома до верхнего этажа примыкала небольшая терраса-балкон на деревянных столбах; с нее лесенка спускалась в садик – место прогулок заключенных. За передним двором располагался задний двор с каретником, сараями и службами, а с левой стороны забором он отделялся от садика. От стены дома, огораживая садик, по Вознесенскому переулку и позади садика шел высокий, двухсаженный дощатый забор. В общем все владение Ипатьева представляло маленькую усадьбу, очень маленькую, в центре густо заселенного, окраинного квартала города Екатеринбурга.
* * *
«Здесь совершено убийство и ограбление», – сказал исполнявший должность прокурора Екатеринбургского окружного суда Кутузов после краткого осмотра дома Ипатьева 28 июля 1918 года. Опытный взгляд юриста, видавшего на своем веку всякие виды, не мог не определить сразу физического явления совершившегося в стенах дома Ипатьева события.
«Валтасар был в эту ночь убит своими подданными», – говорила надпись, начертанная на стене комнаты расстрела и проливавшая свет на духовное явление происшедшей здесь в ночь с 16 на 17 июля исторической трагедии. Как смерть Халдейского царя определила собой одну из крупнейших эр истории – переход политического господства в Передней Азии из рук семитов в руки арийцев, так смерть бывшего Российского Царя намечает другую грозную историческую эру – переход духовного господства в великой России из области духовных догматов Православной эры в область материализованных догматов социалистической секты…
Все, что только было ценного и что могло прельстить в доме убийц, – все было разграблено; все же, что для них было не ценно и лишне – разворочено, разбросано, поломано, порвано и сожжено. Беспорядок был виден во всех комнатах, все печи завалены пеплом, обгорелыми остатками. В нижнем этаже – грязь, мусор невероятные, свидетельствовавшие, что эти комнаты давно уже не видели уборки.
И только неожиданно поражали своей чистотой и отсутствием мусора парадные сени нижнего этажа и выходившая в них маленькая, уже полуподвальная комнатка с зарешеченным окном. Здесь не было ни грязи, ни отбросов казарменного постоя, как в других комнатах нижнего этажа, не было ни тряпочки, ни кусочка бумаги, и пол имел определенный вид недавно вымытого и старательно отчищавшегося древесными опилками и отчасти песком. Небольшие следы замывок пола виднелись и по всей анфиладе комнат нижнего этажа, свидетельствовавшие, что этим путем выносились тела убитых к грузовому автомобилю на передний двор.
В промежутке между дверями парадного хода нижнего этажа и на деревянном помосте перед крыльцом этого выхода, на небольшом слое наносного песка, сохранились следы босых ног со свертками по краям следов песка, пропитанного кровью. У крыльца сбоку было набросано порядочно песка, и в нем – такие же свертки, пропитанные также кровью. Ясно было, что люди, мывшие пол, ходили по нему босыми ногами, пользовались для замывки, кроме опилок, песком, ступая на него мокрыми, окровавленными ногами, и песок этот сворачивался и спадал с их ног при выходе на крыльцо, где и заметался в угол.
В комнате, занимавшейся Великими княжнами, кроватей не было; их походные кровати, привезенные из Тобольска, были сложены со всем багажом в каретнике. Но когда на внутреннюю охрану пришли палачи из Чрезвычайки, то эти последние взяли из каретника походные кровати и поставили их себе в средней большой комнате нижнего этажа, где они и оказались 28 июля. На одной из этих кроватей, ближней к проходу, не было чехла на спинке; он валялся наверху в столовой с кровавыми следами обтертых о него рук. Это кто-нибудь: или Янкель Юровский, или Исаак Голощекин, или Белобородов, осматривавшие после убийства трупы и снимавшие со своих жертв кольца, часы, браслеты, – уходя быстро наверх для грабежа и проходя мимо кроватей палачей, сорвал с ближайшей чехол и, не останавливаясь, обтирая на ходу свои преступные лапы, бросил чехол по пути в столовой.
Таковыми, по свидетельству серьезных людей, бывших на осмотре дома 28 июля, обрисовываются следы преступления, оставленные убийцами в доме Ипатьева и не зафиксированные в свое время Сергеевым.
Угловая комната верхнего этажа с двумя окнами, выходящими на Вознесенскую площадь, и двумя – на Вознесенский переулок, служила спальней бывшему Государю Императору, Государыне Императрице и наследнику Цесаревичу. Левое окно, выходящее на площадь, имеет снаружи частую железную решетку. На правом окне, на левом его косяке, рукой Государыни начерчен египетский знак благополучия и под ним поставлена дата: «17/30 апреля 1918 г.» – день приезда Их Величеств в Ипатьевский дом. Кругом повсюду, – на умывальнике, на полу, на подоконниках, – разбросаны вещицы туалетных принадлежностей и повседневного обихода. Тут же книги духовного содержания: Евангелие, Библия, церковные восковые свечи, пузырьки со святой водой; все, несмотря на разгром, причиненный чужими и чуждыми руками, свидетельствовало о глубоко религиозных душах бывших обитателей этой комнаты – Государя Императора и Государыни Императрицы.
В смежную комнату по Вознесенскому переулку ведет дверь без дверных половинок; это комната Великих княжон. Она имеет одно окно с двойной заклеенной рамой без форточки и приходится как раз над комнатой нижнего этажа, где было совершено убийство. Комната была почти без мебели: у стены стоячее зеркало, два кресла, столик, два стула – все это вещи Ипатьева. Но по всему полу, в печах – былые вещицы Великих княжон, им дорогие памяти, памятки, подарки родителей и близких людей, свидетельствовавшие о нежной дружбе, любви и заботе, царивших между членами этой Семьи, и также целый ряд остатков от священных предметов и книг, служивших духовной поддержкой сестрам в последние мрачные дни их земной жизни.
Эти две внутренние комнаты – последний земной приют в жизни Августейшей Семьи бывшего Государя Императора Николая Александровича.
Рядом с комнатой Великих княжон по Вознесенскому переулку, но без соединительной двери между ними, была угловая комната, в которой помещалась Анна Демидова. Из ее комнаты и из комнаты Великих княжон – выходы в столовую, из которой три двери выводили: одна – в залу, другая – в буфетную, проходную комнату, где помещался доктор Боткин, и третья – на террасу и в садик. Зала выходила окнами на Вознесенский проспект, а проходная комната доктора Боткина – в садик; из нее были ход в кухню и дверь во внутренние сени, или на площадку, где помещались уборная и ванная и откуда внутренняя лестница спускалась в нижний этаж дома. Там, внизу, лестница выводила в черные сени, из которых через две комнаты нижнего этажа, расположенные по заднему фасу дома, приходили в парадные сени нижнего этажа и в комнату, где совершилось убийство. Эта комната была самой глухой в доме, так как помимо ее углубленного положения в земле, как полуподвальной, она была еще отгорожена от Вознесенского переулка двумя рядами высоких заборов, захватывавших и парадное крыльцо нижнего этажа. Свет в этой комнате от зажженного электричества совершенно не был виден с улицы. Переулок был тихий, и в то время мало кто из жителей решался ходить по нему мимо домов Ипатьева и Попова. Полуподвальное положение комнаты в значительной степени поглощало всякий шум, исходивший из этой комнаты, и должно было заглушать выстрелы во время расстрела.
* * *
Стены всех комнат нижнего этажа, где квартировали сначала охранники-рабочие, а затем охранники-палачи, наружная стена дома на террасе, где дежурили часовые, будка дежурного часового на углу, образуемом заборами, были испещрены многочисленными разнообразными, циничными и похабными надписями, порнографическими рисунками, безграмотными хулиганскими стихами и хитровскими изречениями. В любом городском саду или месте, отведенном для общественного гулянья, в беседках, на скамейках и различного рода балюстрадах можно видеть ту же, ни в чем не отличающуюся, грязную литературу. Это отражение многих грустных причин последних десятилетий и главное – условий воспитательного характера, которые в некоторых отношениях накладывали одинаковые печати на юношу привилегированных классов, и на юношу обыкновенного обывателя, и на парня в деревне и на заводе, и на хулигана, выросшего в трущобах Вяземской лавры или Хитрова рынка.
Грустное, тяжело-грустное впечатление рождалось прежде всего при виде этих паспортов духовной немощи людей, собственноручно воспроизведенных авторами в порыве притупления своего человеческого сознания. Жаль делается потом этих людей; до боли жаль их за их слепоту перед собственным существом. Но еще более жаль их родителей, воспитателей, руководителей, среды, их окружавшей, и общества, на них влиявшего, которые заботились о сбережении их жизни, а души губившие.
«Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».
О чем трактуют эти жалкие авторы-охранники с Сысертского завода и Злоказовской фабрики в своих писаниях и мараниях?
Прежде всего, они свидетельствуют о своей беспредельной темноте; в своей развращенности, в своем цинизме и в полном отсутствии мало-мальски сознательной мысли они, очевидно, видят положительные стороны преподававшихся им высоконравственных лозунгов свободы, равенства и братства, но, к сожалению, в плоскости узкого, материального социализма. Они упиваются своей плоской литературой; видно, как, захлебываясь, соревнуясь друг с другом, каждый старается загнуть, завернуть заковыристее другого. Видно, что все их революционное сознание сконцентрировалось только в области этого беспредельного цинизма в самых широких рамках.
Что берется ими в качестве тем для своей площадной литературы повсюду: в стихах, прозе, остроте, брани? Сплетни, гнусности, грязь, созданные искусственною молвою, созданные флюгерной печатью и агентами германского генерального штаба и… ни слова чего-либо своего, народного, бытового, социального, духовного; ни слова о какой-либо вине Царя перед народом, обвинений в гнете, насилиях, тяготах и жестокости. Ни слова о том, чем так старались искусственно и натянуто напичкать их из области правительственных погрешностей Царя перед народом.
Ни слова…
Одна похабщина и цинизм…
Преступник, стремящийся скрыть свое участие в преступлении, почти всегда оставляет о себе невольно весточку там, где и не думает. То же для некоторых случилось и в Ипатьевском доме.
Кто стоял на посту на террасе 15 июля 1918 года?
«Вархат» – он собственноручно отметил это сам на косяке окна и подписался по-мадьярски.
Кто спал на одной из коек (походных кроватей) в нижнем этаже?
Рудольф Лашер, расписавшийся в этом на стене по-немецки.
Кто стоял за дверью в правом углу комнатки нижнего этажа при расстреле?
«Исаак Голощекин и Янкель Юровский», – это говорят живые свидетели, но и без них надпись на стене – «Валтасар был в эту ночь убит своими подданными», сделанная на немецко-еврейском жаргоне, сама по себе свидетельствовала об авторах ее и преступлении.
* * *
Ипатьевский дом сохранил в себе достаточно следов убийц, чтобы сказать: в его стенах в комнатке нижнего этажа были расстреляны все члены Царской Семьи и состоявшие при ней доктор Боткин, Анна Демидова, Алексей Трупп и Иван Харитонов. Еще в марте 1919 года на стенах и на полу этой комнаты сохранились следы брызг крови. Экспертиза этой крови, а равно крови, оставшейся в пулевых следах в кусках пола и стен, указала, что кровь эта – кровь человеческая. Экспертиза направления пулевых ходов говорит, что жертвы не только расстреливались, но и пристреливались, когда уже лежали на полу. Следы порезов на обоях внизу, вблизи пола, указывают, что здесь не только расстреливали, но, возможно, и прикалывали штыками раненых револьверными пулями. Большинство пулевых следов и самих пуль, застрявших в стенах и полу, принадлежат к револьверам системы Нагана, но были также пули и от револьверов Кольта и Маузера. Разбросанность пулевых следов в комнате указывает не только на происходившую, вероятно, борьбу за жизнь со стороны обреченных на расстрел, но и на нервозность и беспорядочность стрельбы со стороны преступников. Пулевых следов в комнате имелось от 28 до 35, причем большая часть их была от пуль, не проходивших через человеческое тело, т. е. указывавших на большое число промахов, что могло произойти при расстреле на таком близком расстоянии от чрезвычайной нервности и растерянности со стороны стрелявших.
Дом Ипатьева был окончательно освобожден от постоя наших штабов и управлений в середине марта 1919 года и арендован Омским правительством у владельца Ипатьева. Намечалось приобрести его совершенно в казну, но военные события, вызвавшие очищение нами Урала, оставили этот вопрос неразрешенным.
* * *
От Ипатьевского дома дорога на деревню Коптяки идет через город сначала по Вознесенскому проспекту, а затем поворачивает направо по Главной улице города и ею выходит у ипподрома из пределов города. Далее, пройдя через Верх-Исетский завод, дорога направляется к кордонам на Казанской и Пермской железнодорожных линиях и, перейдя обе линии, вступает в густой смешанный, заросший лес, тянущийся до самой деревни Коптяки в общем на протяжении 12–16 верст. Верстах в трех к северу от кордона на Пермской железнодорожной линии Коптяковская дорога пересекает еще у разъезда № 120 горнозаводскую железнодорожную линию, но до этого, примерно на середине расстояния, она раздваивается и подходит к горнозаводской линии двумя ветками: северной – к переезду у будки № 184, севернее разъезда № 120, и южной – к переезду у будки № 185, южнее этого разъезда.
На северной ветке, не доходя шагов 150 до железнодорожной линии, есть топкое, болотистое место; здесь рано утром 19 июля возвращавшийся из Коптяковского леса к городу в сопровождении конных красноармейцев ермаковского отряда и 4–5 коробков грузовой автомобиль Люханова застрял в трясине; люди с автомобиля и красноармейцы ходили к будке № 184, взяли из сложенного у будки штабеля шпалы и сложили на трясине помост, по которому и прошел грузовик. Этот помост оставался на месте еще в мае – июне 1919 года.
Южная ветка Коптяковской дороги, перейдя через переезд у будки № 185, поворачивает налево вдоль полотна железной дороги и у будки № 184 соединяется опять с северной веткой. Дорога снова входит в лес и примерно версты три, до так называемого урочища Четырех Братьев, идет, не разделяясь, одним путем. Урочище Четырех Братьев получило свое название от росших некогда при дороге четырех могучих вековых сосен, выходивших от одного корня; ныне от этих исполинов осталось только два разваливающихся пня. Как раз пройдя мимо этих пней, Коптяковская дорога снова раздваивается на две ветки: главная ветка уклоняется несколько к северу и версты через три проходит через ряд луговин, носящих общее название Большой покос. Этой именно веткой пользовались при поездках из города в деревню Коптяки и обратно, и она считалась частью Коптяковской дороги. Второстепенная ветка, отклоняясь у урочища Четырех Братьев несколько к югу, имеет характер зимней дороги и носит местное название дороги на плотинку, так как на высоте Большого покоса пересекает по плотинке очень топкое болото. Гать этой плотинки совершенно развалившаяся, непроезжая на колесах, почему, видимо, этой дорогой и пользовались только зимой, когда болото замерзало.
Верстах в двух севернее Большого покоса и плотинки обе ветки соединялись и таким образом обхватывали в лесу обширный район, который носит общее название – района Ганиной ямы. Следовательно, вдоль Коптяковской дороги район этот имел протяжение до пяти верст, а поперек в наиболее удаленной части веток друг от друга было до двух верст. Примерно в середине этого района, ближе к главной ветке и в полутора верстах от Четырех Братьев, имеется маленький прудок, собственно и называющийся Ганиной ямой.
От этого прудка в направлении к Четырем Братьям, т. е. на юго-восток, тянутся старые, заброшенные рудничные разработки, представляющие собою сеть завалившихся шахт, шурфов, обвалившихся больших и малых котлованов, обращающих всю эту местность в сильно изрытый, ископанный и изрезанный район. Одних старых шахт здесь более 30, а количество бывших шурфов, котлованов трудно даже определить, так как все они успели уже зарасти травой, кустарниками и деревьями с тех пор, как бросили здесь добычу железной руды.
С главной ветки Коптяковской дороги к этим заброшенным разработкам имеется четыре ветки, по которым, видимо, прежде вывозилась добывавшаяся руда. Первая из указанных веток, начинаясь саженях в 150 от Четырех Братьев, выходит к середине разработок и затем почти по краю их направляется к Ганиной яме, где и заканчивается. Остальные три ветки с Коптяковской дороги выходят на эту первую ветку в разных ее местах, почему эта первая ветка является как бы главной дорожкой, обслуживавшей разработки.
В общем весь район этих разработок очень глухой, совершенно в стороне от проезжей дороги, закрыт частым, заросшим лесом и представляется чрезвычайно удобным для сокрытия здесь многих тел, не прибегая к большим земляным работам. Так, по крайней мере, кажется на первый взгляд. Место это было хорошо известно Петру Ермакову, так как у Ганиной ямы находился покос его приятеля и сотрудника по разного рода расстрелам и реквизициям, Александра Болотова, тоже жителя Верх-Исетского завода.
Вот что представлял собою в общих чертах путь и район, которые были избраны Исааком Голощекиным и Янкелем Юровским как место последнего и вечного упокоения бывшего Государя Императора и его Августейшей Семьи.
* * *
Методическое исследование материалов в связи с детальным осмотром местности дает следующую картину обстоятельств, произошедших в дни 17–19 июля 1918 года в пределах вышеописанного района.
Саженях в 100 от будки № 184 по дороге на деревню Коптяки есть гать на просыхающем болоте, не доезжая этой гати – небольшой сухой пригорок. На этом пригорке, закрытом лесом, утром 17 июля появилась застава красноармейцев особого отряда Исаака Голощекина и не пропускала никого ехавших из города в Коптяки. Всех под угрозой немедленного расстрела возвращали обратно к будке № 184.
На другом конце Коптяковской дороги перед Большим покосом расположилась тогда же другая такая же застава, не пропускавшая никого из деревни Коптяки в город.
Очень поздно ночью с 16 на 17 июля, скорее даже на раннем рассвете 17 июля, через переезд у будки № 185 прошел грузовой автомобиль Люханова, наполовину загруженный телами Августейших Мучеников и покрытый какой-то сероватой материей или брезентом. Грузовик свернул налево, миновал будку № 184 и, пройдя от нее по Коптяковской дороге сажень 50, только что въехав в лес, остановился. Шофер и его помощник слезли с грузовика и пришли в будку № 184 взять ведро воды, так как машина «согрелась». Жена сторожа рассердилась, что ночью пугают, на что шофер ей ответил: «Вы тут, как господа, спите, а мы всю ночь маемся. На первый раз простим, а в другой раз так не делайте».
Через некоторое время автомобиль пошел дальше. У гати его встретили несколько конных красноармейцев из отряда Петра Ермакова и повели дальше к урочищу Четырех Братьев. Дорога для грузовика была трудная: частые дожди сильно размочили грунт, в низинах было топко, а на буграх из-под почвы вылезли громадные корни придорожных деревьев. Автомобиль шел с большим трудом, часто останавливаясь, буксуя и оставляя позади в грязи и в топких местах глубокие следы своих колес.
Дойдя до первой свертки к разработкам, он свернул на нее. Дорожка была заросшая высокой травой и молодыми деревьями, колея – узкая. Тяжелый грузовик проложил по ней громадный след: траву примял, поломал и вывернул много молодых деревьев, а у старых ободрал кору и поцарапал стволы боками платформы, так что еще в мае 1919 года эти последние следы были ясно видны. В том месте, где свертка выходит к разработке, одна из ям, служившая некогда для выборки руды, слишком прижала дорогу к большим деревьям, и грузовик, огибая ее с правой стороны, не рассчитал поворота, сорвался в яму левым задним колесом, проломал себе дно и застрял. Пришлось, видимо, чтобы вытащить автомобиль из ямы, разгружать его здесь.
До открытой шахты и глиняной площадки, где крестьянами и офицерами были обнаружены следы костров, оставалось шагов 200; из молодых сосен и березок, пеньки от которых остались торчать, нарубленных поблизости от места крушения, наделали носилок, использовав, вероятно, для них полотнища палаток или брезента, которыми был покрыт автомобиль и один кусочек коих был найден в шахте. Люди слезли с лошадей, привязали их к деревьям, на которых кони пообглодали кору, и для работы по разгрузке и вытаскиванию машины, а также предохраниться от комаров, развели у самой дороги костер. Работали здесь Ермаков, Костоусов, Леватных, Ваганов и все ближайшие Ермакову приятели, составлявшие как бы его штаб. Одни относили тела на площадку к шахте, где и бросили потом палки от носилок, другие несли службу ближнего охранения, третьи вытаскивали из ямы автомобиль.
* * *
От ямы, куда завалился автомобиль, дальше по направлению к Ганиной яме, как говорилось выше, дорожка следует по краю большого, глубокого котлована, который упирается в открытую шахту, исследовавшуюся в августе 1918 года офицерами. Сейчас же дальше за шахтой, все по тому же направлению, лежит небольшой плоский бугор – площадка со следами упоминавшегося кострища. Этот бугор – из набросанной глины. К востоку от шахты и бугра – полянка, а с северо-запада к шахте подходит полевая дорожка, по которой можно выйти на дорогу к плотинке.
Вся трава на полянке, вокруг шахты и глиняного бугра была сильно помята людскими и конскими ногами; лошади, видимо, были привязаны к окружавшим полянку деревьям, так как кора на деревьях была обглодана, а на земле вокруг деревьев валялся конский помет. По всей полянке шел глубокий след автомобиля, видимо, заворачивавшего здесь обратно после того, как его вытащили из ямы; виднелись и следы колес телег или экипажей, которые выезжали на полянку со стороны Ганиной ямы, куда выходила четвертая свертка с главной ветки Коптяковской дороги. У шахты валялись перерубленные или разрезанные концы новой веревки от какой-то укупорки и палки, зачищенные с обоих концов, служившие для носилок.
Вокруг шахты и особенно на скатах глиняного бугра были разбросаны остатки кострища, особенно много их скопилось в одной ямке у края бугра. Здесь-то и находились те обгорелые предметы одежды, обуви, белья и платья, о которых говорилось выше; при детальной разборке всего здесь собранного среди пепла оказались и небольшие куски чьих-то обгорелых и раздробленных костей, а следователь Наметкин рассказал, что когда они были у шахты в первый раз, то на верху этого сваленного пепла лежало как бы перегоревшее ребро, которое, когда он хотел его взять, рассыпалось в мельчайший пепел. В общем впечатление первоначально здесь бывших людей было таковым: около шахты на костре жгли не только предметы одежды, белья и обуви, но, возможно, сжигались тела самих убитых, а потом остатки и пепел разбросали вокруг в траву, а само место кострища засыпали глиной. И действительно, обгорелые вещицы находились почти всюду вокруг шахты и бугра и даже в соседних котлованах и ямах. Такие же остатки были найдены и в шахте.
На дорожке, подходившей к шахте с северо-запада, шагах в 30 от шахты находился другой костер, в котором тоже были найдены обгорелые части предметов одежды, белья, обуви и также обгорелые кусочки чьих-то костей. Следственному производству удалось получить фотографию этого костра, снятую до того, как костер был разворочен коптяковскими крестьянами, а может быть, даже и тотчас после того, как он потух. Судя по этой фотографии, костер должен был иметь не менее трех аршин в длину, до двух в ширину и аршин с лишком в высоту. Внешним видом и по размерам он напоминал холм свеженасыпанной могилы. Коптяковские крестьяне, наткнувшись в остатках кострища на глиняной площадке сразу на драгоценный изумрудный крест, увидя затем этот второй костер на дорожке, сосредоточили все свое внимание на розыске новых драгоценных предметов. Они разметали его, смешали в нем пепел и невольно измельчили ценные осколки костей, так как последние от действия огня стали очень хрупкими. Все же общее заключение всех побывавших здесь коптяковских крестьян тоже сводилось к тому, что на кострах были сожжены сами тела убитых членов Царской Семьи.
Неподалеку от открытой шахты, между нею и ямой, куда завалился автомобиль, есть еще полянка, закрытая от шахты несколькими деревьями и кустами. На этой полянке под деревьями – пень от старого, спиленного, большого дерева. Вокруг пня валялись яичная скорлупа, обрывки советской газеты и несколько листков какого-то медицинского справочника. По-видимому, пока другие работали над телами там, у шахты и бугра, здесь – на пне – кто-то сидел, ел яйца и выронил несколько листков из бывшего с ним для чего-то справочника. Это не было пособие, которым бы мог пользоваться, например, фельдшер, каковым из известных участников сокрытия тел был Янкель Юровский; это было, по заключению экспертов, врачебное пособие, доступное только врачу. Небольшая подробность, которая наводит на вопрос: для чего убийцам при сокрытии тел своих жертв понадобилось на месте присутствие врача?
18 июля, в первой половине дня, в Коптяковский лес приходили два грузовых автомобиля: один привез запас бензина для того грузовика, который застрял у Ганиной ямы, и бочку, пудов 10–12, керосина; другой грузовик привез еще с чем-то три бочки. Оба грузовика были задержаны на красноармейской заставе к северу от будки № 184, и груз с них дальше возили на ермаковских телегах, или коробка́х, как их называют местные жители. Во второй половине дня того же 18 июля в Коптяковский лес приехали Исаак Голощекин и Янкель Юровский. Исаак Голощекин приехал на легковом автомобиле еще с двумя какими-то лицами из чрезвычайки, но автомобиль оставил у будки № 184, а дальше ушел со своими спутниками пешком. Очень поздно вечером эти спутники вернулись из леса назад к будке № 184 и уехали на легковом автомобиле в город; за ними же ушел в город и один из грузовиков, пришедших днем. Исаак Голощекин остался на ночь в лесу. Уже перед рассветом 19 июля легковой автомобиль опять пришел в Коптяковский лес, и на этот раз ему дали углубиться по дороге на Коптяки значительно дальше. В лесу со стороны шахты к нему вышел Исаак Голощекин; он, видимо, не спал всю ночь, и когда ехал через Верх-Исетск, то дремал в автомобиле и качался из стороны в сторону. С ним одновременно прошел в город второй из грузовиков, приходивших в Коптяковский лес днем 18 июля.
Рано утром 19 июля вернулись в Верх-Исетск Ермаков, Костоусов, Леватных и прочие чины отряда Ермакова, а с ними и красноармейцы, несшие охрану на заставах. Ермаковские были верхами, а остальные ехали на телегах, или в коробах, которых было больше 20. На 4–5 коробах везли какие-то бочки. Со всей этой командой прошел через Верх-Исетск и грузовик Люханова, возивший в Коптяковский лес тела членов Царской Семьи; его левое заднее колесо было обмотано веревками. Все вернувшиеся люди имели вид утомленный, а некоторые из ермаковских были сильно перепачканы глиной и землей. Своим женам, родным и близким никто из них не решился рассказать про то, что они делали в лесу, и только дня через три, когда, уходя из Екатеринбурга, они, проходя через Коптяки, заставили тамошних крестьян везти их на подводах на Тагил, и, отпуская подводчиков, будучи под сильным хмелем, бахвалились перед крестьянами: «Мы вашего Николку и всех там пожгли».
Видимо, и на каторжан по натуре, не останавливавшихся ни перед каким зверством над живым человеком, то, что их заставил проделать Исаак Голощекин уже над мертвыми телами, произвело впечатление того исключительного ужаса, который сковал исполнителям уста и обеспечивал Исааку Голощекину, что они не проговорятся, разве только в пьяном виде, когда всякий понимает, что «мало ли чего пьяный не наболтает». Быть может, в расчете именно на этот ужас исполнителей еврей Войков так уверенно заявил: «Мир никогда об этом не узнает».
Действительно, на основании последовавшего подробного обследования района шахты и глиняного бугра и детального изучения обгорелых остатков, найденных в этом районе, можно составить себе только предположение о том, что Исаак Голощекин, Янкель Юровский и подобные им изуверы были способны проделать над телами Августейших Мучеников в Коптяковском лесу, почему куски костей находились раздробленными, драгоценности разрубленными и все тщательно сожжено, но рассчитывать услышать из их уст подробности этого последнего акта страшной Екатеринбургской трагедии едва ли кто может.
Розыски тел
Место в Коптяковском лесу для сокрытия тел членов Царской Семьи выбирали Исаак Голощекин и Янкель Юровский по указанию Петра Ермакова. Для этого Янкель Юровский с Ермаковым и Вагановым ездили верхами в урочище Четырех Братьев еще 14 или 15 июля, где их видели горный техник Фесенко и некоторые из проезжавших по Коптяковской дороге крестьян и дачников. Утром же 16 июля Исаак Голощекин, Янкель Юровский и, возможно, Белобородов, собравшись в Ипатьевском доме, ездили оттуда в лес на легковом автомобиле с шофером Люхановым и вернулись назад уже под вечер.
Если для сокрытия самого факта убийства Царской Семьи советские главари принимали исключительные меры, вплоть до заведомо ложного объявления о вывозе ее в надежное место, то в отношении сокрытия тел убитых в смысле как места, так и выбора способа сокрытия, Исаак Голощекин и Янкель Юровский приняли совершенно исключительные предосторожности, ограничив круг лиц, участвовавших в сокрытии, до минимума и тщательно произведя выбор участников из числа исключительных русских большевиков.
Никто из охранников-рабочих Сысертского завода и Злоказовской фабрики, не исключая и Павла Медведева, не был привлечен к работе в Коптяковском лесу. Равным образом Исаак Голощекин и Янкель Юровский не считали возможным использовать для этой цели и палачей, участвовавших в самом расстреле, и даже членов чрезвычайной следственной комиссии, входивших в состав заседания, обсуждавшего план убийства бывшего Царя и Августейшей Семьи. Идея Исаака Голощекина и Янкеля Юровского заключалась в том, чтобы сокрытие тел убитых произвести при посредстве людей, не принимавших участия ни в охране Царской Семьи, ни в расстреле ее, и при этом таких людей, которые по своей прошлой общебольшевистской деятельности ни в коем случае не могли оставаться в районе Екатеринбурга при оставлении его советскими властями. Кроме того, расчет их, при использовании людей именно этой категории, опирался на то, что в случае если бы кто-нибудь из них попал в наши руки, то с ним кончали бы на месте без всякого допроса, как вообще с известным ярым большевистским преступником. Расчет их был диавольский, но правильный, что и подтвердилось на Ваганове в Екатеринбурге и на Абрамове в Алапаевске. Дело в том, что всякие такие господа попадают прежде всего в руки передовых войск, а эти передовые части в большинстве случаев в гражданской войне образуются самостоятельно из тех же местных жителей, подымаются против большевиков и переходят к активным действиям еще до вступления в данный пункт наших регулярных войск и наших властей.
Место, где Исаак Голощекин и Янкель Юровский производили сокрытие тел с ночи на 17 июля до 6 часов утра 19 июля, тщательно охранялось двумя кольцами застав и постов. Наружное кольцо охраны, считая по Коптяковской дороге, имело в диаметре шесть верст; эту охрану несли люди из состава особого отряда Исаака Голощекина и имели задачей никого не пропускать внутрь оцепленного района ни со стороны города, ни из деревни Коптяки, ни с лесной дорожки, проходившей через хутор Зубрицкого к востоку от Коптяковской дороги. Для этого ее посты расположились: на севере – у Большого покоса, на востоке – у хутора Зубрицкого и на юге – у гати, шагах в 200 к северу от переезда № 184, на Коптяковской дороге. С западной стороны указанный оцепленный район примыкал к полю непроезжего болота, тянувшегося вдоль горнозаводской железной дороги до реки Исеть.
Южный пост наружной охраны не пропускал на север по Коптяковской дороге никого, направляя имевших надобность попасть в деревню Коптяки или по железнодорожному полотну на станцию Исеть, или по полевой дороге через медный рудник – чрезвычайно окольная дорога на деревню Коптяки. Некоторых из дачников, имевших общие пропуска от советских властей и пытавшихся уговорить постовых пропустить их, охранники предупреждали, что за ними имеется другая линия охранения, людям которой приказано стрелять по всем проходящим и неизвестным в лицо.
У этого же поста 18 июля, кроме двух уже упоминавшихся грузовиков с керосином и тремя какими-то бочками, был задержан экипаж с кучером и членом чрезвычайной следственной комиссии, привезший в этот день в лес лопаты и ящики с кислотой.
Кольцо внутренней охраны, образованной из конных постов людей отряда Ермакова, располагалось непосредственно от Четырех Братьев, по обеим веткам Коптяковской дороги, оцепляя район Ганиной ямы и шахт с востока, юга и запада, а на севере примыкая к болотистой полосе, тянувшейся от Большого покоса к гати, перпендикулярно к обеим веткам. Протяжение внутреннего кольца охраны с северо-запада на юго-восток составляло две версты, а с северо-востока на юго-запад – одну версту. Глиняный бугор, где были найдены остатки кострища, и открытая шахта находятся почти в центре этого внутреннего кольца охраны и закрыты от взоров с упомянутых веток Коптяковской дороги густым смешанным лесом.
Безусловно известно, что непосредственно в сокрытии тел участвовали: Исаак Голощекин, Янкель Юровский, Петр Ермаков, Александр Костоусов, Степан Ваганов, Василий Леватных, Партин, шофер автомобиля Люханов и, может быть, еще два или четыре человека из особо близких Ермакову лиц его штаба, фамилии коих остались невыясненными. Предположительно принял участие какой-то доктор, но во всяком случае число работавших было очень ограниченное. Ермаков, Костоусов, Ваганов, Леватных и Партин принадлежали как раз к тем известным местным большевистским разбойникам, насильникам и грабителям, которые, попадись в руки местных белых, больше часа не прожили бы. Возможно, что на место сокрытия тел приезжали Белобородов, еврей Чуцкаев и Никулин, но установить это точно не удалось, ввиду перерыва следственных работ, вызванного оставлением нами 14 июля 1919 года района Екатеринбурга.
Произведенные в августе 1918 года поиски и розыски в районе Ганиной ямы и шахт без тщательного технического руководства и должного внимания со стороны Сергеева и Наметкина затерли лишь на месте все следы, которые могли бы облегчить выяснение теперь, почти целый год спустя, того, что сделали Исаак Голощекин и Янкель Юровский с телами своих жертв, где точно на месте их сокрыли и, наконец, какой именно избрали способ для сокрытия тел. Те чрезвычайные меры охраны, которые были приняты евреями-изуверами для ограждения района шахт в то время, когда они скрывали там тела, равно как ограниченность лиц и специальный выбор работников, к которым они прибегли для своего преступного замысла, указывают, что сокрытию тел они придавали исключительно важное значение, понимая хорошо, что раз тела не будут найдены, всякие версии о том или другом исчезновении Царской Семьи будут всегда иметь маленькую долю правдоподобности и во всяком случае могут быть предметом долгих споров, предположений и заключений, не являясь прямым и непреложным обвинением их в убийстве всей Царской Семьи.
* * *
Путем чрезвычайно многочисленных допросов, с доставкой в Коптяковский лес местных жителей и окрестных крестьян прежде всего удалось вполне точно установить линии внешней и внутренней охраны, содержавшейся большевиками в этом лесу, и таким образом определить тот район в зоне внутренней охраны, куда Исаак Голощекин и Янкель Юровский привезли на грузовом автомобиле Люханова тела убитых в доме Ипатьева членов Августейшей Семьи. Далее опросом опять-таки на месте лиц, которые первыми попали в район Ганиной ямы, вслед за оставлением его Исааком Голощекиным и его компанией, была восстановлена та первоначальная картина всего района шахты, которая должна была запечатлеться на месте после двух с половиной суток работы на ней сподвижников Исаака Голощекина по сокрытию тел убитых. Таких свидетелей все же оказалось немало, и при этом не простых крестьян деревни Коптяки и женщин Верх-Исетского завода, ходивших по ягоды и грибы, а таких специалистов, как лесничие и объездчики этой лесной дачи, проникшие в район шахты, к счастью, еще до наезда туда следственных властей и офицеров из Екатеринбурга.
Обрисовавшаяся этим путем первоначальная картина чрезвычайно существенна для возможных окончательных выводов по вопросу, что сделали Исаак Голощекин и Янкель Юровский с телами своих жертв, а потому требует подробного описания.
Как уже говорилось выше, грузовой автомобиль, везший тела Августейших Мучеников, свернул с Коптяковской дороги по первой ветке к разработкам, сорвался левым задним колесом в яму у дорожки, шедшей вдоль котлована, застрял здесь на некоторое время, а затем, выбравшись, доходил до самой открытой шахты у глиняной площадки. Здесь, на полянке, он заворачивал назад и возвращался на Коптяковскую дорогу по своему первоначальному пути. Вся эта полянка перед открытой шахтой и глиняной площадкой, поросшая высокой травой, была сильно натоптана людьми, лошадьми и многими колесными колеями, но все колесные следы здесь, на полянке, и кончались, приводя к открытой шахте и глиняной площадке. Никуда в стороны колесных следов не было; были только небольшие куски пешеходных следов, отдалявшихся от полянки на небольшие расстояния.
При выходе на полянку из леса со стороны Коптяковской дороги открывалась такая картина: полянка почти квадратная, протяжением шагов 60, сильно умятая и затоптанная, упиралась в голую, без травы, глиняную площадку несвежей насыпи. С левой стороны последней расположена открытая, сохранившаяся шахта из двух колодцев; с правой стороны от площадки – обширная, глубокая воронка завалившегося шурфа; сзади них, несколько подымаясь в горку, снова начинается лес, почти по краю которого тянется старая дорожка, и на ней, против середины площадки, – прикрытая молодыми деревьями большая старая береза, под которой был второй костер. Влево от открытой шахты начинается длинный, глубокий котлован, служивший для наружной добычи железной руды; вправо от воронки шурфа – маленькие перелески и среди них – старые обвалившиеся другие шурфы и засыпанные шахты.
Вся местность, равно как и воронка шурфа и дно котлована, были покрыты густой высокой травой. Резким пятном, оголенным от растительности клочками, бросались в глаза глиняная площадка и открытая шахта. Кругом них местность и трава особенно утоптаны, а примыкавшие к площадке сзади и справа деревья обглоданы и обтерты лошадьми, которые, видимо, были здесь привязаны. Далеко от площадки в стороны, по-видимому, никто не ходил или если и ходил, то мало – резких протоптанностей не было видно. Следов помятости травы в воронке шурфа и в котловане тоже не было видно. Вся деятельность, видимо, сосредоточивалась на полянке, глиняной площадке, у открытой шахты и у старой большой березы.
Глиняная площадка – несвежей насыпи; она, верно, образовалась тогда, когда рыли открытую шахту и выбрасывали из нее глину; она небольшая – шагов 15 в длину, шагов 8 в ширину; над общим уровнем полянки площадка подымается на один-полтора аршина. Она неровная: два небольших плоских бугра составляют ее вершину, а по отлогим скатам – несколько небольших, старого происхождения углублений. На поверхности площадки местами заметны свежие следы лопаты, снимавшей кусками верхний слой площадки. В одном из углублений площадки скопилось довольно много остатков от костра, что первоначально было даже принято за самый костер. В действительности же кострище было разложено позади открытой шахты, шагах в восьми от нее, по направлению к большой березе; размеры этого костра были значительные, не менее трех аршин в диаметре. Когда костер прогорел, то его, видимо, раскидали, а место кострища, оставшиеся угольки и пепел присыпали свежей глиной с площадки. На краю места кострища Наметкин и увидел в августе как бы перегоревшее совершенно ребро. Другой костер был подальше, под старой березой; по размерам он, вероятно, был не менее первого, а может быть, даже и больше. Но его Исаак Голощекин не разбрасывал, как первый костер; его нашли цельным и разбросали уже крестьяне деревни Коптяки.
У края глиняной площадки, ближе к открытой шахте, лежали две палки от носилок; тут же неподалеку – несколько обрубков совершенно новой упаковочной веревки и дощечки от какого-то ящика. «Веревка была толщиной в мизинец, – говорит свидетель лесничий, – совершенно новая и ясно совершенно было, что это именно упаковка от ящика: у нее сохранились характерные изгибы, как она проходила по углам ящика. Один конец ее был с петлей, как и бывает у увязки. Она была не развязана, а резана или рублена, как это ясно видно по ней».
Открытая шахта, выложенная срубами, представляла собой два смежных колодца: один два шага в квадрате, другой полтора шага. Вокруг валялись свежие сосновые ветки, куски коры, обгорелые головешки. В большом колодце шахты, на глубине восьми аршин от поверхности, виднелся ледяной покров, пробитый в одном углу на пол квадратных аршина. На поверхности льда лежали тоже свежие сосновые ветки, обгорелые палки и лопата, замазанные глиной, такой же, как на площадке. Там же был найден написанный на листе бумаги на машинке список телефонных номеров различных советских деятелей в Екатеринбурге. В малом колодце шахты была видна вода, но вообще на него мало обращали внимания.
Нарисованная картина оставляла такое общее впечатление: тела всех членов Царской Семьи были привезены сюда и здесь на небольшом пространстве между большой старой березой, открытой шахтой, глиняной площадкой и глубокой воронкой завалившегося шурфа скрыты. Никуда отсюда их не вывозили. Ужасная кровавая трагедия закончилась именно здесь, и только здесь…
Но как?
Рассчитывать на то, что путем допросов удастся приблизиться к истине, не приходилось: число участвовавших было слишком невелико, и захватить кого-либо из них – шансов мало. По своим свойствам участники были слишком конспиративны и молчаливы; все они ушли в советскую Россию, и разговоры их там могли достигать следствия лишь путем сбора их агентурным порядком. Вообще эта отрасль исследования вопроса могла дать лишь намеки, канву, схему для непосредственных розысков на месте как путем согласованных со следственными данными раскопок, так и путем изыскания дополнительных указаний на тот или другой способ сокрытия тел членов Августейшей Семьи.
* * *
Многочисленные расспросы участников убийства, прямых и косвенных свидетелей и различных захватывавшихся большевистских деятелей, имевших соприкосновение с руководителями преступления в советской России, в общем дали чрезвычайно много разнообразных версий о том, как и где были сокрыты Исааком Голощекиным тела его жертв. За исключением таких фантастических, как перенос тел на аэропланах куда-то за Верхотурье, все остальные, более или менее реально согласовавшиеся с остальными данными обстановки и расследования, были тщательно проверены на местах путем разведок, тщательных, обширных раскопок и дополнительных опросов новых свидетелей и местных жителей. Подходить к разрешению вопроса надо было очень осторожно и последовательно, так как разновидность указывавшихся способов сокрытия тел требовала и разнородности в способах изысканий, и легко можно было, увлекшись в одном направлении, совершенно потерять возможность осветить в должной мере другое предположение; работы по одной версии уничтожали следы для работ по другой версии.
Весь этот отдел следственного производства и исследования – разборка и проверка всего поступавшего материала, сведений и слухов – составил подготовительный период для более основательных работ по предположениям, определявшимся наиболее реальными фактами, но этот период подготовительных работ занял весь май месяц. В конце концов установилось три наиболее основательных положения как исходные теоремы для главных работ следствия и исследования по разрешению этого темного вопроса – что сделали Исаак Голощекин и Янкель Юровский с телами убитых ими членов Августейшей Семьи. По совокупности всех данных, определявших степень вероятия и соответствия с установленными уже другими обстоятельствами преступления, эти три положения стали в следующей последовательности.
1-е положение: была вырыта яма, в нее сложили тела, залили их цементом, чтобы образовалась общая глыба, и затем засыпали землей, замаскировав место дерном.
Данные для этого положения заключались главным образом в показаниях Павла Логинова, со слов его собеседника на паровозе, в лице которого можно было предполагать комиссара Тупетула, и в показании Анатолия Якимова, слышавшего о такой версии от других охранников.
Но чтобы похоронить таким способом в яме 11 тел, надо было вырыть могилу не менее кубической сажени по объему, и то засыпка будет иметь слой земли толщиною всего в полтора аршина. При этом большое количество земли должно было остаться снаружи, что сразу бросалось бы в глаза, как бросалась в глаза в описанной картине глиняная площадка, и легко нащупалось бы при простом хождении по разнице в плотности грунта, как бы ни маскировалась потом яма.
Кроме того, естественно возникает вопрос, зачем было при этом способе сокрытия совершенно раздевать тела, вплоть до снятия чулок и подвязок, обгорелые остатки коих находились в кострах.
2-е положение: тела были сброшены в одну из шахт, которую затем обваливали взрывом ручных гранат.
Источником этого положения служило главным образом показание Павла Медведева, который, встретив в Алапаевске Петра Ермакова, будто бы спросил его, что они сделали с телами, и тот дал ему ответ в указанном смысле.
Такой способ, конечно, был наиболее легким и простым для быстрого и основательного сокрытия тел убитых. Он не требовал сложных и больших работ, до которых едва ли были охочи Ермаков и его сотрудники. Кроме того, в районе, избранном Исааком Голощекиным, было 33 старые заброшенные шахты, и, естественно, работы по отысканию тел ставились в очень трудные условия. Однако нельзя не отметить уже тут, что картина, описанная выше, определенно указывала, что все колесные следы сходились к глиняной площадке; следовательно, тела были брошены или в шурф справа от площадки и шурф завалили, или в открытую шахту слева от площадки (но шахта не была завалена, хотя и носила следы разрыва в ней ручных гранат), или, наконец, их разносили на руках. Тогда это не могло быть произведено в очень удаленном районе, так как все следы потоптанной травы ограничивались районом, ближайшим к полянке, где была глиняная площадка. Кроме того, и в этом случае, как и при первом положении, также возникает вопрос: зачем же раздевали тела донага. Единственно, что можно предположить в этом случае – симуляцию способа и места действительного сокрытия убитых. Но и это допущение очень шатко, так как, во-первых, костер, который был разложен убийцами на открытом месте у шахты, был ими же разбросан, а само место костра засыпано глиной, дабы не бросалось в глаза; другой же костер, под березой, был укрыт от взоров деревьями. Во-вторых, обгорелые остатки вещей, принадлежавших членам Царской Семьи, были разбросаны по всему району глиняной площадки вместе с остатками костра и с явным намерением скрыть их в высокой траве. В-третьих, едва ли Исаак Голощекин, Янкель Юровский и особенно Ермаков со своими товарищами решились бы ради симуляции пожертвовать бриллиантом, стоившим 20 000 рублей, жемчужными серьгами, изумрудным крестом и прочими драгоценностями, остатки коих были найдены в этом районе, или не заметили бы их зашитыми в лифчики Великих княжон, снимая эти лифчики с них при раздевании тел.
3-е положение: тела убитых после наружного осмотра в целях розыска драгоценностей были изрублены на куски и сожжены на кострах.
На этом предположении стояли главным образом крестьяне деревни Коптяки и те из лесничих, которые первыми попали в район шахты. Крестьяне, в подтверждение своего впечатления от посещения кострищ, ссылались на рассказы самих красноармейцев, которые здесь работали под руководством Исаака Голощекина и потом, уезжая в Тагил, бахвалились своими подвигами в пьяном состоянии.
В самом начале апреля 1919 года в Екатеринбурге был задержан крупный член партии большевиков-коммунистов Антон Яковлевич Валек, пробиравшийся из Москвы в Сибирь с крупными деньгами для организации по всей Сибири ячеек «пятерок». Во время полевого суда выяснилось, что он был знаком и близок со многими советскими главарями Урала, что дало основание следователю Соколову допросить его по делу об убийстве бывшего Государя Императора. Давая свое показание, Валек между прочим рассказал следующее: «В последних числах ноября прошлого (1918) года я по партийным делам был в Перми. Не могу точно припомнить, когда, где и с кем из большевиков я разговаривал об этом деле. Совершенно этого не могу припомнить. Был у меня по этому поводу разговор и с Белобородовым. Могу вам сказать, что у меня в результате сложилось мнение, что вся Семья убита и сожжена».
Таким образом, Валек, на основании разговоров среди главарей советской власти на Урале, вынес то же мнение, которое создалось у крестьян деревни Коптяки из разговоров с темными исполнителями замыслов изувера Исаака Голощекина. Этому мнению наиболее отвечала также вся обстановка, восстановленная расследованием и следствием в районе глиняной площадки.
* * *
Руководясь следственными материалами, подобранными по указанным трем различным способам, которые могли быть применены Исааком Голощекиным для сокрытия тел, в 20-х числах мая было приступлено к раскопкам и детальному исследованию района шахт в урочищах Четырех Братьев и Ганиной ямы. Первые два предположения требовали возможно более широких земляных работ, причем осторожность особой роли не играла. Третье предположение, наоборот, требовало чрезвычайно осторожного и детального изучения и исследования небольшого района в пределах старой березы, открытой шахты, глиняной площадки и воронки шурфа, дабы найти какие-либо вещественные указания на сожжение самих тел в этом месте, принимая во внимание, что со времени трагедии, имевшей здесь место, прошло 11 месяцев и что здесь все уже было затоптано предыдущими поверхностными розысками.
Разнородность предположений, выдвинутых следствием, вызвала разновидность работ в целях исследования района Коптяковского леса. Прежде всего исследование занялось розыском следов ям, которые могли послужить местом погребения Августейших тел. Для этого в период с 23 мая по 9 июня были произведены подробные разведки всей зоны, определявшейся наружным кольцом охраны; остановили на себе внимание 11 подозрительных мест, как бы следов бывших ям. Все они были вскрыты, но оказались старыми щупами, которыми техники нащупывают и определяют направление залежей руды. Были найдены при этом сумка с трехлинейными патронами, видимо, забытая кем-либо из людей, несших охрану, и некоторые предметы, которые после экспертизы должны были быть отнесены к предметам, попавшим в лес в более отдаленные времена.
Нельзя забывать, что собственно сами работы по сокрытию убийцами тел не могли продолжаться более 48 часов, причем из этого времени надо исключить еще не менее 8 часов перерывов, когда исполнители Ермаков, Костоусов, Леватных и Партин приезжали в город в рабочий клуб и обменивались здесь общими впечатлениями о текущих событиях и своем участии в убийстве Царской Семьи с председателем Верх-Исетского исполкома Сергеем Малышкиным и товарищем Александром Кривцовым. Таким образом, Исаак Голощекин и Янкель Юровский использовали для своей работы максимум 40 рабочих часов – промежуток времени слишком недостаточный, чтобы особенно чисто выполнить большую земляную работу и так тщательно ее маскировать, чтобы не осталось никаких следов.
Первое предположение, что тела были сложены в выкопанную яму, залиты цементом и засыпаны землей, определенно не находит себе никаких подтверждений ни в розысках, ни в дополнительных допросах, ни в раскопках, произведенных на месте в Коптяковском лесу. Ни в каком другом районе сокрытие тел не могло иметь места, так как Исаака Голощекина, Янкеля Юровского, Ваганова, Костоусова, Леватных, Партина и других сотрудников Ермакова в дни 17–19 июля видели именно приезжавшими и уезжавшими из Коптяковского леса. Видели их даже в самом лесу, вблизи урочища Четырех Братьев. Видели их родные и такие из жителей, которые ошибиться не могли, так как ермаковские опричники были слишком хорошо известны многим по тем грабежам, которые они творили среди окрестных хуторян и жителей заимок. Да, наконец, рано утром 19 июля их видели в Верх-Исетске, возвращавшимися всей гурьбой из Коптяковского леса.
Таким образом, для обследования оставались еще два последних положения.
* * *
Сидя рано утром 19 июля в саду коммунистического клуба, компания Ермакова вела между собой беседу самого откровенного характера; скрываться было не перед кем и стесняться некого. Говорили обо всем, что делали и что видели, пересыпали ответы циничными замечаниями и сопровождали чуть не каждое слово трехэтажной руганью.
Противно и тяжело выносить на свет грубые и грязные речи этих людей-зверей, но дело, к которому прикасаются руки Исааков Голощекиных, обставляется такой исключительной тайной, что, желая хоть немного подойти к истине, приходится цепляться за каждую соломинку, откуда бы таковая ни протягивалась. Беседовали друзья между собой о многом: перечисляли, кто был среди убитых; отмечали, что в поясах костюмов были зашиты драгоценности; высказывали мнение, что «у мертвых красоты не видать». Кто-то из спрашивавших поинтересовался: «Как одеты были?» – на что Партин ответил: «Они все были в штанах».
По приведенным темам разговоров можно себе представить, каким потоком цинизма разразился бы разговор этих падших людей, если бы там, на глиняной площадке, они раздевали свои жертвы донага. Относительно одежды говорили, что у Царя шинелька совсем «никудышная»; говорили про пояса; говорили про штаны у всех; говорили, что тела были еще теплые. Про наготу не было сказано ни слова, ни намека, и подслушивавший разговор Кухтенков, передавший их подлинные выражения, не преминул бы рассказать и об этом, если к тому мог быть какой-нибудь повод.
Не служит ли это ясным указанием, что тел в районе Ганиной ямы не раздевали, как это предполагалось с самого начала, и что если в кострах оказались остатки обгорелых частей одежды, белья, корсетов, чулок, подвязок и прочего, то попали они в костер не отдельно от тел, а вместе с телами.
Костоусов, Ермаков, Леватных, Партин, Ваганов – все это люди, ушедшие в политику, революцию, большевизм, разбой, грабеж от работы: лишь бы только не работать, а добывать средства к существованию каким угодно другим способом, но более легким, тунеядным. Здоровый, полезный, честный труд им чужд и отвратителен. Это люди в прямом смысле антиработники, паразиты. Если бы советская власть была действительным выразителем власти рабочего, крестьянина, власти труда, то первое, с кем она должна была бороться, первых, кого должна была уничтожать, это паразитов, антиработников по натуре: Костоусовых, Ермаковых, Партиных и т. д. Между тем в действительности происходит обратное: именно эти тунеядцы, паразиты являются наиболее нужными ей элементами; их она приближает к себе; им предоставляет силу и власть; их она выставляет как истинных работников, как трудовой пролетариат. Не достаточная ли, не злая ли это насмешка над проповедуемым Лениным и Бронштейном социализмом?
Что же, эти паразиты благодарны ли по крайней мере советской власти за дарованные им привилегии? Верны ли они ей? Нет. Они легко покидают ее, как скоро им надоедает. Никакой внутренне-прочной связи между властью и ее «народом» нет. Павлу Медведеву показалось, что его мало оценили за активное участие в цареубийстве, и он ушел от них; Ермакову не понравилось, что вздумали ставить преграды его неудержимому зверству, и он тоже ушел; Сакович, продав свою душу, испугался того черта, с которым совершил сделку, и тоже захотел удрать. Исполнители и народ признают советскую власть постольку, поскольку она предоставляет им право в значении физических элементов этого закона, т. е. оперируя почти исключительно низменными импульсами человеческой натуры и массы.
И тот же Костоусов, беседуя с друзьями в коммунистическом клубе, подтверждает эту ограниченность власти советских главарей и вместе с тем оказывает следствию неоценимую услугу, протягивая одну из соломинок для достижения истины в темных событиях, совершенных Исааком Голощеккным в районе Ганиной ямы.
«Второй день приходится возиться», – со злобой и площадной руганью замечает он по адресу власти, заставившей его работать и налагавшей таким образом на него обязанности, тогда как он желает пользоваться только физическим правом. И поясняет: «Вчера хоронили, а сегодня перехоранивали».
Вчера – это 17 июля, сегодня – 18 июля и ночь на 19 июля. Вчера эти паразиты делали одно дело, а сегодня власть над ними – Исаак Голощекин заставил их делать другое дело. Ясно, Костоусов недоволен уже этой властью, но следствию это его недовольство говорит: вчера скрывали тела убитых членов Царской Семьи одним способом, а сегодня заставили скрыть другим способом.
Когда в подготовительный период к розыскам тел следствие собирало материалы по различным предположениям, то почти во всех рассказах фигурировало одно и то же положение: в каждой версии отмечалось всегда два действия по сокрытию тел – «сначала похоронили за Екатеринбургом-2, а потом перевезли к станции Богдановичи», «сначала вырыли одну яму, фальшивую, для отвода глаз, а рядом вырыли уже настоящую, в которой и похоронили, залив всех цементом», «сначала побросали всех в одну яму, а затем развезли по разным местам», «сначала побросали всех в шахту, а потом вынули и потопили в болотах», и т. п. Костоусов дал довольно определенную нить к объяснению причины двойственности действий во всех этих разных версиях: очевидно, частности беседы друзей в саду коммунистического клуба не могли тогда же остаться полной тайной и, передаваясь из уст в уста, разошлись по городу и его пригородам и послужили основанием для возникновения всех этих слухов и пересудов. Для следствия же во всем этом имела особое значение довольно прочно устанавливавшаяся двойственность работ, несомненно произведенных при сокрытии тел, почему Соколов и обратил исключительное внимание на сбор сведений, возможно подробнее освещавших события, имевшие место в Коптяковском лесу 17 и 18 июля.
«Выехали мы с сыном из деревни перед рассветом 17-го числа, – рассказывает жительница Коптяков, – и только проехали Четырех братьев, как со стороны города налетел на нас конным Ваганов, Верх-Исетский большевик; выхватил револьвер, заругался и кричит: “Поворачивай сейчас назад, не то застрелю”. Я испугалась, а сынишка стал заворачивать и еще обернулся назад, так Ваганов опять на него налетел. Потом уже сын сказывал, что по дороге со стороны города на нас ехали человек шесть конных красноармейцев, а за ними шло что-то большое, грузное, но воз ли аль автомобиль, не разглядеть, далеко еще было да темновато».
Это Ермаков с Костоусовым везли на грузовике Люханова Царские тела к Ганиной яме.
«На другой день ничего такого не было, – говорит сын сторожа будки № 184. – Днем я не видал ничего особенного; я говорю про день (17 июля. – Авт.) после этой ночи, когда через переезд грузовой автомобиль прошел, про который мать сказывала. Только видал я, что днем проехали по дороге из города к Коптякам какие-то двое верхами. Эти проехали и назад вернулись на город в этот же день. Несколько часов прошло, пока они вернулись. Других же никого в этот день на Коптяки не пропускали».
Тихо было 17 июля в районе Ганиной ямы. Слышали тоже повернутые обратно коптяковские крестьяне 2–3 взрыва ручных гранат, после того как им объяснили красноармейцы, что «не приказано пускать потому, что стрельба будет», но больше никакой стрельбы не было. Ермаков, Костоусов и прочая компания спокойно делали свое дело, скрывая тела. Ни на автомобилях, ни в экипажах, по-видимому, никто из главарей преступления к ним в этот день не приезжал. Поздно ночью на 18 июля, покончив со своим делом, пришли они поболтать в первый раз в коммунистический клуб.
Совершенно другую физиономию имел день 18 июля и ночь на 19-е. Такого оживления, такого движения автомобилей, экипажей, конных жители переездов и разъезда никогда у себя не видели. Около 9 часов утра мимо будки № 184 прошел в Коптяковский лес один грузовой автомобиль с запасом бензина и большой бочкой керосина, пудов на 10–12. Через несколько часов прошел другой грузовик туда же; на нем были две или три железные бочки, но с чем – неизвестно. Приблизительно в это же время туда же, в Коптяковский лес, приехала пролетка, на которой Янкель Юровский и Никулин привезли несколько лопат и порядочное количество серной кислоты: один ящик в 2 пуда 31 фунт и еще три баллона. Эта кислота была получена секретарем еврея Войкова Зиминым, по-видимому, из магазина «Русское общество» и доставлена на квартиру еврея Войкова. Отсюда какой-то мужчина с черной бородкой, приехавший верхом, пересел в коробок и, забрав кислоту, поехал к дому Ипатьева. Из последнего вышли Янкель Юровский и Никулин, сели в коробок и отправились в лес.
Во второй половине дня на легковом автомобиле в Коптяковский лес приехал Исаак Голощекин с двумя спутниками. Автомобиль остался у будки № 184, а пассажиры ушли по Коптяковской дороге пешком. Часа через три спутники Исаака Голощекина, оставив его самого в лесу, вернулись к автомобилю и уехали в город в Американскую гостиницу, а рано утром 19 июля снова приехали в лес за Исааком Голощекиным и окончательно вернулись в город около 9 часов утра. Таким образом, Исаак Голощекин оставался в лесу приблизительно с 5–6 часов дня 18 июля до 7–8 часов утра 19 июля. Утром же 19 июля из Коптяковского леса прошел в город с испорченным левым задним колесом грузовик, на котором возились к Ганиной яме тела членов Царской Семьи, а за ним шли 4–5 коробков, везших какие-то бочки. На грузовике было четыре человека, и один из них – Петр Ермаков.
Совокупность всех этих сведений указывает на то, что первоначально, в период времени от раннего утра 17 июля до глубокой ночи на 18 июля, работы по сокрытию тел производились компанией Ермакова, и, как выразился Костоусов, они тогда «хоронили». Но затем, по причинам, оставшимся невыясненными, Исаак Голощекин решил «перехоронить» тела, и в период времени между 6 часами вечера 18 июля и 5 часами утра 19 июля он сам лично принял на себя руководство работами по новому сокрытию тел, причем для этих вторых работ по «перехораниванию» было использовано пудов 10 керосина, пудов 9 серной кислоты и какая-то жидкость в трех железных бочках, которые увезли обратно в город на коробках.
Совершенно невольно эта картина сокрытия тел возвращает назад, к картине самого убийства Царской Семьи. Как здесь, так и там отмечается по два периода разнородных событий: в истории убийства сначала подготавливалась какая-то перевозка куда-то Царской Семьи, но затем, с появлением в Екатеринбурге в качестве руководителя приехавшего из Москвы Исаака Голощекина, все предположения были изменены, и взамен вывоза Августейшей Семьи разразилась кровавая, изуверская драма. Здесь первоначально российские люди-звери производят какое-то, по-видимому, простое сокрытие тел, «погребение», а затем, с появлением в лесу того же изувера Исаака Голощекина, совершается исключительное деяние по сокрытию тел с применением керосина, кислоты и еще чего-то, чего «мир никогда не узнает». Совершенно логично было предполагать, что как изуверски Янкель Свердлов и Исаак Голощекин разрешили вопрос относительно вообще дальнейшей судьбы Царской Семьи, такое же изуверство должно было проявиться со стороны Исаака Голощекина и в способе сокрытия тел Августейших Мучеников. В основной идее уничтожения всей Царской Семьи и прочих членов Дома Романовых – предотвратить в народных массах возможность пробуждения духовных начал; сокрытие тел, конечно, должно было быть настолько полным, чтобы ни в коем случае их нельзя было бы найти. А это достигалось только при уничтожении самих тел.
Все это были, естественно, предположения и мысли, возникавшие при следственном производстве и подлежавшие проверке и изучению как путем сбора новых сведений, так и путем исследования и раскопок в районе Ганиной ямы. Дабы освободить следствие от предвзятости, работы на месте велись в направлении обоих положений, т. е. что тела не сжигались и что тела были сожжены. Данные, добытые совокупностью всего исследования в том и другом направлении, предоставляют каждому, независимо от мнения исследовавших, решить самому, какой именно из способов был избран Исааком Голощекиным, «циником до мозга костей», как отозвался о нем его сотрудник и товарищ по президиуму доктор Сакович.
* * *
Из приведенного выше общего описания характера местности в районе Ганиной ямы на первый взгляд казалось наиболее естественным, натуральным, простым и, главное, соответственным нелюбви к какой-нибудь работе товарищей Ермакова похоронить тела, бросив их в одну из старых шахт и завалив ее, или даже просто положить тела под один из откосов многочисленных в этом районе глубоких котлованов и, обвалив затем немного края земли сверху, засыпать тела. Однако при таких простых способах можно было, конечно, менее всего рассчитывать, что удастся скрыть место погребения, и, следовательно, уберечь тела от возможности их нахождения рано или поздно заинтересованными в этом людьми. Кроме того, результаты подробного исследования этой местности не подтвердили казавшейся на первый взгляд простоты применения такого способа сокрытия тел.
В избранном Исааком Голощекиным и огороженном наружным кольцом охраны районе уже 12 лет не производилось никаких работ; из 33 следов бывших здесь шахт только в пяти случаях шахты еще сохранили свой вид правильных, более или менее открытых колодцев со срубами, а 28 имели общий вид обвалившихся воронок разной глубины, на дне коих иногда виднелись щели от продолжавшихся глубже былых колодцев. Из пяти указанных сохранившихся шахт только одна, именно открытая шахта с левой стороны глиняной площадки, получившая при расследовании название «шахта № 7», носила вокруг себя и на бревнах своих срубов следы недавно бывших около нее людей: натоптанная вокруг трава, небольшое количество набросанной на траву свежей глины, обтертые местами от плесени верхние бревна срубов, свежие еловые ветки вокруг и т. п. К остальным четырем, очень удаленным от глиняной площадки и вообще от Коптяковской дороги, – ясно было видно – уже давно никто не подходил, и такое действие, как сброска в шахту хотя бы одного трупа, безусловно, оставило бы вокруг хотя небольшие, но все же заметные следы, как это было в так называемых «старых шахтах», верстах в 8 от района Ганиной ямы, где были найдены пять трупов каких-то военнопленных и куда вела из города совершенно другая дорога.
Из остальных 28 следов шахт 27 также не имели никаких признаков недавнего приближения к ним человека: земля на осыпях воронок была старая, слежавшаяся; дно густо заросло высокой травой, репейниками, чертополохами; кое-где выглядывавшие на дне концы бревен были покрыты густой, многолетней, зеленой плесенью, а видневшиеся старые щели представлялись слишком узкими и малыми, чтобы можно было пропихнуть в них человеческое тело. Только один след былой шахты, опять же у глиняной площадки, – упомянутая при общем описании района глубокая воронка от шурфа – с правой стороны площадки носила, как и открытая шахта № 7, следы недавнего пребывания около нее людей. Кроме того, откос воронки, примыкавший к площадке, имел вид осыпи как будто более свежей земли, чем в других таких же воронках, что могло произойти или от свежего обвала края воронки, или от выброски туда части земли с глиняной площадки. Эта воронка при работах по исследованию получила название «шахта № 3».
Однако ввиду того, что при первоначальных розысках следователя Наметкина, товарища прокурора Магницкого и офицеров в августе 1918 года общее состояние шахт и котлованов не было зафиксировано подробно соответственными протоколами и актами, а выяснилось только ныне, через 11 месяцев, путем допросов на месте свидетелей и первых работников по розыскам, было решено произвести раскопки и исследование всех 33 следов шахт, наиболее подозрительных котлованов и старых ям. При этом работы должны были производиться в известной последовательности, дабы, при работах в одном направлении не нанести ущерба работам в другом, более сложном направлении. Средства для этих работ были достаточные, и успешность их могла зависеть только от времени, которое будет предоставлено внешними условиями гражданской борьбы на фронтах.
Работы по исследованию, согласно требованиям, предъявленным следствием, были организованы в двух направлениях: собственно отрывка старых шахт, разработка котлованов и ям были поручены ближайшему наблюдению генерал-майора Сергея Алексеевича Домантовича, а детальное исследование небольшого района, ограниченного старой березой, шахтой № 7, глиняной площадкой и шахтой № 3, принял на себя непосредственно следователь Соколов. Для земляных работ было нанято 48 специальных горных рабочих под руководством штейгера Верх-Исетского завода Ивана Ивановича Усольцева, а для общего технического надзора был приглашен горный инженер Валериан Сергеевич Котенев, работавший над откачкой воды из шахты № 7 еще с Магницким. Топографические работы были выполнены картографом В. Ярутиным, а фотографические – В. И. Пжездецким. В ночное время, при перерывах работ, охрану нес особый отряд поручика Ермохина.
* * *
В зоне кольца внутренней охраны, установленной Исааком Голощекиным, были всего 27 следов шахт, один большой котлован, шедший на юг от шахты № 7, Ганина яма, подозрительные неровности на полянке у глиняной площадки, на полянке южнее ее (где был пень от дерева), получившей название Полянки врачей, и яма, в которую сорвался автомобиль Люханова, везший тела членов Царской Семьи. В полосе между кольцами внутренней и наружной охран имелось всего шесть шахт, из коих четыре, № 30, 31, 32 и 33, – сохранившиеся, со срубами, и две, № 19 и 20, – обвалившиеся, без следов существовавших в них раньше крепей срубами.
Шахты № 30, 31, 32 и 33 не потребовали земляных работ, так как они были целы, представляли собой правильные колодцы без воды, с деревянными полами. Три из них были расположены вправо от Коптяковской дороги, если ехать из города, в полуверсте от нее и в зоне между кольцами охраны, а одна – влево, примерно в версте расстояния, близ так называемой Красной казармы. Никаких следов нарушения их внутри не имелось: стены и пол покрыты толстым слоем плесени, а сами отверстия закрыты горбылями, успевшими обрасти снаружи мхом и травой. На той шахте, что у Красной казармы, одно из покрывавших ее бревен было сдвинуто на полфута в сторону, но сдвиг этот носил следы старого происхождения.
Земляные работы по отрывке остальных следов шахт были начаты 6 июня и прекращены, ввиду приближения противника, 10 июля. Данные этих работ выражаются следующей таблицей.
За исключением шахты № 1, ни одна из остальных не имела в прежнее время крепей. Не зная их глубины и в предотвращение от обвалов и засыпки рабочих, каждую из шахт по мере ее раскопки закрепляли срубами. В шахте № 1 весь колодец был засыпан землей, ее вынули. Шахты № 1, 5, 6 и 13 оказались принадлежавшими к одной системе выработок с шахтами № 3 и 7; во всех них на определенной глубине под земляными засыпками оказалась вода, которая ушла, когда была откачана вода из шахты № 7 и из Ганиной ямы. Засыпки удалялись, и шахты раскапывались до материковой земли.
Все засыпки перечисленных в таблице шахт оказались засыпками старого происхождения. Никаких предметов, относящихся к делу, в них не оказалось, и вообще в них ничего не было найдено, кроме старого, поломанного, заржавевшего топора в шахте № 12. За исключением шахты № 1, все остальные являлись в сущности не шахтами, а неглубокими шурфами, служившими для местной добычи руды, которые обыкновенно после выборки руды сейчас же заваливаются опять землей во избежание несчастья. Шахта № 1 служила, видимо, для откачки воды из большого котлована в то время, когда из него производилась наружная добыча руды. В общем все раскопки дают возможность заключить с уверенностью, что в перечисленных в таблице шахтах и шурфах тел членов Царской Семьи не было погребено и даже временно они там не бывали.
Разработка шахты № 3, находившейся справа от глиняной площадки, началась 12 июня. Это оказался тоже, по-видимому, старый шурф, а не шахта; деревянного сруба он не имел, и потому приходилось вести работу, закрепляя стены крепями. Общий вид этого шурфа перед началом работ представлял следующее: от поверхности земли вглубь шла воронка, имевшая вид конуса с более крутым южным склоном, чем остальные, почему вершина конуса была приближена к глиняной площадке. Диаметр основания конуса 6–7 аршин, глубина 4–5 аршин; в самой вершине его едва намечалось дальнейшее продолжение вглубь канала бывшего шурфа. Западный, северный и восточный склоны воронки, так же как и дно воронки, обросли травой, а местами росли уже кустики и молодые деревца. Южный склон, ближайший к глиняной площадке, был оголен и, казалось, образовывался более свежей осыпью, имевшей протяжение по верхнему краю воронки шагов восемь.
Работы начинались с расчистки дна воронки и ее склонов для закладки колодца выгребки в зависимости от тех горизонтальных размеров шурфа, которые он имел, когда служил для выработки руды. При этой работе примерно на глубине одного аршина был найден простой носовой платок, а несколько глубже нашлись обрывки советской газеты. Как попали сюда платок и обрывки газеты – сказать трудно: они могли принадлежать и тем, кто укрывал Царские тела во время работ на глиняной площадке, и могли быть засыпаны позже, когда в августе производились розыски и часть глиняной площадки была сброшена в воронку шурфа. Могли они принадлежать и кому-нибудь из работавших по розыскам в августе и ими же быть засыпаны. Во всяком случае определенно ничего сказать нельзя.
На глубине четырех аршин в стене шурфа оказались: обвал, шедший в южном направлении, т. е. в направлении к глиняной площадке, и рассечка, шедшая на север, а на глубине 5 аршин показалась вода. Это вызвало приостановку работ в шурфе, так как вода ушла только 25 июня, по окончании откачки воды из шахты № 7 и из Ганиной ямы. После этого засыпка шурфа продолжалась еще до общей его глубины в 14 аршин, после чего шла материковая земля.
Обвал был пройден на протяжении 3 аршин; в нем ничего не было найдено. Дальше он упирался в какой-то сруб, очень старый, обследовать который не пришлось, так как работы, ввиду приближения красных, были прекращены. Дать окончательное, определенное заключение о причине нахождения обвала и рассечки нельзя; ввиду близкого нахождения под ними воды, менявшей свой уровень в зависимости от уровня воды в Ганиной яме, они могли произойти от подмыва почвы снизу или от неравномерной засыпки канала шурфа землей при естественных осыпях от весенних вод и таяния снегов; мог произойти обвал и от давления сверху чего-нибудь тяжелого, например временного нахождения на склоне воронки 11 тел, засыпанных обваленной землей, вследствие чего нижние слои засыпки воронки раздались в стороны и часть вывалилась в сторону наименьшей плотности, в канал шурфа. Но могли быть, конечно, и иные геологические причины происхождения обвала и рассечки.
Во всяком случае общий характер воронки и самого канала шурфа № 3 были единственными среди всех исследованных шахт и шурфов, про которые нельзя сказать с такой уверенностью, что здесь Августейших тел не было. Очень может быть, что Ермаков с товарищами первоначально именно сюда свалили тела и засыпали их, просто обвалив сверху немного земли, что и составило то, про что Костоусов выразился «вчера хоронили», и откуда не составило особого труда вытащить тела опять на поверхность для «перехоранивания» уже 18 июля, по указанию Исаака Голощекина.
Нахождение старого сруба в конце обвала особого удивления не вызывает. Дело в том, что весь район рудных разработок в урочищах Ганиной ямы и Четырех Братьев представляет собой наслоение самых разнообразных работ и способов добычи руды в течение нескольких десятилетий, а может быть, и сотни лет без какого-нибудь определенного, последовательного плана. Ганина яма, лежавшая в высшей точке полосы разработок, являлась тем бассейном, который перехватывал воды, шедшие с лежавших выше нее болот. Отсюда, дабы обеспечить разработки от произвольного затопления их подпочвенной водой, от Ганиной ямы был некогда проложен на определенной глубине сруб для стока воды, следы которого сохранились местами до сих пор на протяжении всей директрисы разработок – или в виде кусков разваливающихся срубов, или в виде только оставшихся расселин и трещин. Как владельцы, так и рабочие этого рудного района менялись; приходили новые добыватели руды, и между бывшими уже работами начинались новые разработки; новыми шурфами, шахтами, поперечными котлованами изрезывали прежние работы, исковыривали местность во всех направлениях, ограничиваясь, как и предшествовавшие работники, захватыванием из земли лишь более поверхностных залежей руды, лишь бы с наименьшей затратой работы добыть достаточное для завода количество руды. Это так и исковеркало здесь местность, но, в сущности, правильной эксплуатации, правильной выборки залежей, правильной шахтенной работы здесь не было, почему не было и настоящих шахт в точном понятии этого слова.
Эта краткая характеристика бывших горных работ в урочище Ганиной ямы имеет то значение, что внимание к шахтам, в смысле использования их убийцами для сокрытия тел, было приковано и обосновано главным образом чисто психологическим влиянием, а вовсе не вытекало из совокупности всех данных, добытых следствием, детальным исследованием района и, наконец, раскопками. Это мнение еще более усилилось, когда тела Великой княгини Елизаветы Федоровны, Великого князя Сергея Михайловича и остальных жертв, убитых в Алапаевске, были найдены сброшенными в шахту; по аналогии все убеждали себя, что и тела членов Царской Семьи тоже должны быть в шахтах. Но, оставляя пока в стороне главное, что сокрытием тел Царской Семьи руководил непосредственно изувер Исаак Голощекин, нельзя не указывать, что Нижне-Семиченская шахта под Алапаевском была действительно шахтой в прямом значении этого слова и имела более 28 сажен глубины, тогда как в районе Ганиной ямы, в сущности, не было ни одной настоящей рабочей шахты. Были преимущественно шурфы, закрытые по окончании в них выработки, а из пяти колодцев, которые еще можно было назвать шахтами, самым глубоким была шахта № 7, глубиной всего в 5 сажен 7 вершков.
Кроме того, завалить шахту при помощи ручных гранат совершенно невозможно; это чистая фантазия, и наглядный пример тому – Нижне-Семиченская шахта, где взрывали не только ручные гранаты, но бросали большие артиллерийские бомбы значительно большей разрушительной силы, и тем не менее завалить шахты не удалось, а были лишь выворочены отдельные бревна из звеньев срубов. В этом отношении Ермаков, безусловно, соврал Павлу Медведеву и, надо полагать, что соврал и в отношении того, что тела бросили в шахты. Совершенно ясно, что те взрывы 2–3 ручных гранат, которые слышали коптяковские крестьяне рано утром 17 июля, были или симуляцией учебной стрельбы, о которой им говорили красноармейцы, прогнавшие их из леса, или, быть может, действительно Ермаков испытывал действие ручных гранат на шахту, но положительных результатов не получил. Осколки этих гранат были найдены главным образом в шахте № 7, а несколько осколков – на поверхности земли, на полянке у глиняной площадки.
Ни в августе 1918 года, ни в июне 1919 года во всем районе Ганиной ямы не было ни одного открытого, целого шурфа. Если допустить все-таки, что ко времени работы Исаака Голощекина и Ермакова был такой шурф или была еще другая шахта, то завал их можно было произвести или землей, добывавшейся откуда-нибудь со стороны, или путем обвала краев земли в колодец шурфа или шахты. В первом случае землю должны были подвозить откуда-нибудь издалека, так как поблизости никаких следов, чтобы брали землю, не было; во втором случае на поверхности земли должна была образоваться большая воронка, вроде воронки шахты № 3. Чтобы затем маскировать воронку, надо было тоже подвозить землю со стороны, а сверху прикрыть ее дерном.
Хотя никаких следов такой обширной работы на месте не было, и едва ли Ермаков с товарищами были к ней способны, тем не менее район Ганиной ямы был исследован и в этом отношении. Для этого глиняная площадка и полянка перед ней были пройдены продольными и поперечными траншеями. Такие же разрезы были сделаны на Полянке врачей и еще на некоторых полянках, возбуждавших почему-либо подозрение. Разрезам подвергались также котлованы и ямы, примыкавшие к шахте № 7 и к шурфу № 3. Во всех случаях разрезы доводились до материковой земли, но ничего относящегося к делу найдено не было. Под восточным краем глиняной площадки разрез обнаружил старую, засыпавшуюся совершенно шахту № 5, которая, как видно из приведенной таблицы, была обследована, но тоже ничего не дала.
По разрезе глиняной площадки оказалось, что она насыпана на естественный грунт земли, покрытый травой, как и вся остальная полянка вблизи шахты № 7. Трава, находившаяся под площадкой, видимо, умерла очень давно, и представлялось очевидным, что эта площадка давнего происхождения и насыпана, вероятно, при разработке шахты № 7, трава же принадлежала грунту, выкидывавшемуся из колодцев и складывавшемуся вблизи на лужайку. Разрезы полянки в восточной ее части установили, что в этой части полянка на высоте 8 вершков от материковой земли носит характер искусственной насыпки давнего происхождения, сделанной, видимо во время постройки на этом месте бараков для рабочих, следы коих в виде почти совершенно истлевших бревенчатых лежней оказались в этой насыпке. Котлован длиною до 70 сажен, тянувшийся влево от шахты № 7, принятый сначала за обвалившуюся подземную разработку руды из колодца шахты № 7, оказался не имеющим никакой связи с этой шахтой, а являлся самостоятельным, глубоким разрезом для наружной добычи руды без применения шахт. По дну его некогда, видимо, пролегал деревянный сруб для стока воды, имевший, быть может, в прежнее время общую связь с таковыми же сооружениями, шедшими от Ганиной ямы. Обвалившиеся бока котлована оказались естественными осыпями, вызываемыми выветриванием краев и весенним таянием снегов. Ничего относящегося к делу в нем также не найдено.
* * *
19 июня были начаты работы по исследованию самой Ганиной ямы, представлявшей по внешнему виду маленькое озерко, сажен 15 в длину и сажен 10 в ширину. При помощи паровой машины, доставленной с Верх-Исетского завода, началась откачка из него воды, закончившаяся 23 июня. 24-го озеро совершенно обнажилось от воды и достаточно обсохло; глубина его оказалась полторы сажени. Оно является очень старой заброшенной наружной разработкой руды, такой же, как и описанный выше котлован. Через все дно озерка идет канава, обложенная срубом (шегень), имевшая прежде задачей спуск воды в особо прорытую яму (зунд). Но так как яма завалилась, а шегень в нижней части разрушился, то по окончании выборки в ней руды она наполнилась водой, а по нижним слоям грунта вода просачивалась дальше, по общему уклону местности на юг, заливая на определенной высоте шурфы № 3, 5, 6 и 13 и шахту № 7. Откосы Ганиной ямы были прорезаны траншеями на глубину в полторы сажени, но в них ничего не оказалось. При розысках в августе 1918 года на дне Ганиной ямы была найдена одна неразорвавшаяся ручная граната того же типа, осколки каковых других находились в шахте № 7 и на полянке около нее. Возможно, что ермаковские друзья полагали, что в озерке есть рыба, и хотели ее глушить.
Общий вывод, который можно сделать по второму предположению на основании произведенных обследований и раскопок, заключается в том, что при желании скрыть тела членов Царской Семьи так, чтобы они никогда не могли быть найдены, едва ли Исаак Голощекин ограничился бы сброской их в целом состоянии в какую-нибудь шахту, шурф или яму, которых пока найти не удалось. Он не мог не сознавать, что при таком способе сокрытия тел, если не удалось их найти при настоящих обширных раскопках, то в конце концов в будущем будут предприняты еще более серьезные и длительные работы, которые рано или поздно могут привести к открытию тел Августейших Мучеников.
Сам же размер ныне произведенных раскопок и исследований тем не менее позволяет думать, что тела бывшего Государя Императора и членов его Семьи не остались похороненными в земле, а скорее, были скрыты Исааком Голощекиным другим способом, изуверским, как и он сам.
* * *
«Мы вашего Николку и всех там пожгли», – бахвалились пьяные ермаковские красноармейцы перед коптяковскими крестьянами, удирая из Екатеринбурга на Тагил.
Приговоренный к смертной казни Антон Валек за три часа до смерти показывал Соколову, что на основании разговоров с бывшими главарями советской власти в Екатеринбурге он вынес впечатление, что «всех сожгли».
Николай Котечев, сидя в тюрьме, слышал будто бы разговор между двумя какими-то людьми, служившими охранниками у Исаака Голощекина, причем один из них сопровождал Исаака в его поездке в Москву после убийства Царской Семьи и подслушал, как Исаак Голощекин рассказывал своим спутникам, что бывшего Государя сожгли.
Когда в конце июня 1918 года Исаак Голощекин приезжал к Янкелю Свердлову, то в Москве, как говорилось выше, распространились упорные слухи, что где-то и кем-то убит бывший Государь Император. В действительности же тогда погиб Великий князь Михаил Александрович. В отношении же бывшего Царя это было несколько преждевременным. Когда теперь, после убийства всей Царской Семьи, Исаак Голощекин опять приехал к Янкелю Свердлову и привез какие-то три тяжелых ящика, то в городе распространилась молва, что Исаак Голощекин привез в бочках заспиртованные головы всех членов Царской Семьи. Агентура передавала, что какой-то секретаришка из Совнаркома, особенно настроенный к скорейшему переселению за границу, потирал руки и весело заключал: «Ну, теперь жизнь обеспечена; поедем в Америку и будем там демонстрировать в синематографах головы Романовых».
Что же было действительностью теперь?
Ясно, что Исаак Голощекин остался неудовлетворенным работой 17 июля Ермакова и его компании, а может быть, получил соответственные указания свыше, только 18 июля он едет сам в Коптяковский лес руководить новым сокрытием тел, и для этого способа привозят в лес 10 пудов керосина, 9 пудов серной кислоты и еще три железные бочки с чем-то.
После того как Исаак Голощекин свершил свое таинственное сокрытие тел, железные бочки увезли назад в город на коробках, а через несколько дней люди другого лагеря нашли в районе Ганиной ямы кострища, нашли несколько порубленных драгоценных вещей, принадлежавших Царской Семье, нашли часть их нательных образков, нашли остатки их обгорелой одежды, белья и обуви и нашли несколько обгоревших «осколков» от чьих-то крупных костей.
Вот краткий перечень материала, собранного следственным производством по третьему предположению, легшего в основание работ по раскопкам и исследованию в районе Ганиной ямы, в целях освещения вопроса, сжег ли Исаак Голощекин тела членов Царской Семьи или нет?
Изучение в этом направлении требовало очень постепенных и осторожных работ: розысками в августе 1918 года костры и пепел с них были раскиданы; небольшой, но важнейший участок местности между старой березой, шахтой № 7, глиняной площадкой и шурфом № 3 притоптан, частью разрыт, а местами и срыт. Сама шахта № 7 хотя и исследовалась, но неосторожно, поверхностно, только в целях отыскания в ней тел, причем малый колодец шахты совершенно не был осмотрен. Если Исаак Голощекин сжигал тела, если пользовался при этом керосином, кислотой, то в районе Ганиной ямы легко могли остаться следы этих действий, сохранившиеся даже и теперь, но затоптанными, примятыми, розыск которых требовал очень детального исследования поверхности и осторожных раскопок.
Вследствие этого работы были распределены на три группы: обследование всего района внутреннего кольца охраны; разработка и исследование шахты № 7 и специальное изучение и исследование поверхности местности в пределах, примыкавших к глиняной площадке. Работы эти начались 23 мая, но к началу откачки воды из шахты можно было приступить только 12 июня, так как исследование поверхности не допускало присутствия вблизи шахты большого числа людей, почему разработка шахты и была начата позже.
Детальное изучение всего района Ганиной ямы дало следующие существенные указания.
A) У ямы, в которую сорвался грузовик, везший тела членов Царской Семьи к глиняной площадке, как уже упоминалось, был небольшой костер. При исследовании его в нем найдены остатки обгорелых дощечек, какие употребляются для хороших укупорочных ящиков. Необгоревшие концы этих дощечек и земля под ними носили странные следы ожогов, происходившие не от огня. Эти дощечки и земля были посланы на экспертизу, которая определила вполне положительно, что как дощечки, так и земля из-под них подвергались действию кислоты. Очевидно, что эти дощечки принадлежали тому ящику, в котором была привезена в лес серная кислота; последняя была, по-видимому, в плохом сосуде, пропускавшем кислоту, которая попала на доски ящика. Об этом говорил еще сынишка садовника при доме еврея Войкова, что когда ящик был доставлен во двор дома, то кучер пробовал переставить его на другой экипаж, но кислотой обжег себе штаны. Во всяком случае, устанавливалось вполне прочно, что кислота, которую 18 июля привезли в Коптяковский лес, была доставлена до места сокрытия Исааком Голощекиным тел.
Б) В подтверждение этого лесничие, которым были предъявлены найденные дощечки, показали, что такие же точно находились ими на глиняной площадке, у шахты № 7, когда они здесь были еще в июле 1918 года. Отсюда становилось вполне понятным как нахождение у шахты кусков новой укупорочной веревки, так и то, что она разрезалась или перерубалась: ящик с кислотой привезли к самой глиняной площадке, где находились и тела; здесь, чтобы не перевертывать ящик при развязке, веревку разрубили и ящик раскололи, и сухим деревом пользовались для растопки костров.
Следовательно, использование Исааком Голощекиным кислоты при сокрытии тел можно считать почти вероятным. В каких целях она была использована, пока остается неопределенным, так как следствие не успело произвести необходимой медицинской экспертизы. Пусть господа врачи ответят: способствует ли серная кислота уничтожению тела при сжигании на огне или она могла иметь другое применение?
B) Найденные на Полянке врачей листки медицинского справочника, которым мог пользоваться только врач, указывают, что операция сокрытия тел требовала присутствия врача. Помощь его могла быть нужна или при обращении работавших с кислотой, или при каких-нибудь особых хирургических манипуляциях над телами. Палец, найденный в шахте, был, безусловно, отделен хирургически, совершенно чисто, по фаланге второго сустава. Осколки обгорелых костей, если таковые принадлежали телам Августейших Мучеников, имели определенные следы порубки их, как и некоторые предметы драгоценностей, которые были зашиты в костюмах и лифчиках Великих княжон. Вся эта дикая операция порубки тел для большого удобства при сжигании, конечно, не требовала присутствия врача. Но если предварительно действительно отделялись головы у несчастных жертв Исаака Голощекина, если в таинственных трех железных бочках, увезенных потом назад в город на коробах, был спирт для заливки отделенных голов, то для этой операции нужен был именно врач.
Г) Вне района, непосредственно окружавшего глиняную площадку, нигде вещей или предметов, принадлежавших членам Царской Семьи, не находилось. Равно нигде больше в районе разработок не было каких-нибудь следов преступников, как только в пределах от ямы, куда завалился автомобиль, до Ганиной ямы включительно, причем все следы концентрировались и сгущались к полянке и примыкавшим к ней глиняной площадке, шахте № 7, костру у старой березы и шурфу № 3. Дальше в окрестностях находились кое-какие предметы и следы людей, но оказалось, что все они, по изучению их, по опросе и предъявлении разным свидетелям и экспертам, никакого отношения к данному делу не имели.
Вся работа Исаака Голощекина 18 июля сосредоточилась у глиняной площадки и за пределы полянки не выходила. Особого шума при этой работе не было; не было и такого движения повозок, какое должно было быть, если, например, подвозили бы землю. В лесу, недалеко от рудника, жили хуторяне; они ничего резкого, шумного не слыхали. Один из них под вечер 18 июля подползал саженей на 20 к Коптяковской дороге, так что первая ветка уже оставалась влево от него. От него до рудника по прямой линии было 200 саженей; на дороге стоял часовой-красноармеец с винтовкой; было тихо, и никакого шума со стороны рудника не доносилось. Был ли дым над лесом, он не заметил – уже темнело.
Д) Покончив свою работу, Исаак Голощекин приказал разбросать костер; разбросали только один, тот самый, который был у шахты № 7. Костра у старой березы не разбрасывали; он был разрушен розысками в августе 1918 года. По-видимому, первому костру придавали больше значения; может, потому, что он был на совершенно открытом месте, а в расчеты Исаака Голощекина не входило обнаруживать свою работу на глиняной площадке; может быть, и потому, что на этом костре сжигались тела тех, даже пепла которых боялись Исаак Голощекин и Янкель Свердлов.
Разбрасывая костер, работавшие разбросали из него угли, обгорелые и необгорелые остатки всяких предметов по разным направлениям вокруг глиняной площадки – примерно на площадке круга радиусом шагов в 30 от центра глиняной площадки. Часть вещей и углей свалилась в воронку шурфа № 3, часть – в котлован влево от шахты № 7, часть – за глиняную площадку, в имевшийся там довольно густой кустарник. В воронке шурфа № 3 нашлись головешки от костра; некоторые были до 2–3 вершков в диаметре. Следовательно, огонь разводился сильный, продолжительного действия, такого свойства, который не понадобился бы, если сжигать хотели только одежду, белье и обувь. Кроме того, нахождение здесь остатков костра указывало, что если воронкой пользовались для сокрытия тел, то жгли костер и разбрасывали его уже после того, как надобность в воронке миновала. Иначе говоря, если тела не жглись вместе с одеждой и бельем, то схоронены они должны были быть совершенно раздетыми, даже без чулок.
На откосе котлована, ближайшем к шахте № 7, нашелся вязанный Государыней Императрицей шнурок от мешочка, найденного раньше вместе с разбитой иконкой, на котором он носился на шее. Шнурок был перерезан или перерублен, что могло при желании лишить тело всяких наружных признаков опознания при погребении в земле или при отделении головы от тела для сохранения головы в спирте.
Между корнями кустарника, росшего позади глиняной площадки, нашлось еще три больших осколка обгоревших крупных костей; там же с ними оказались совершенно обуглившиеся, легко рассыпавшиеся куски сгоревшей обуви, две железные планки от корсетов и железный обруч от фуражки. Экспертизы костей еще не было. Эксперт-врач выразился так: «Что же касается костей, то я не исключаю возможности принадлежности всех до единой из этих костей человеку. Определенный ответ на этот вопрос может дать только профессор сравнительной анатомии. Вид же этих костей свидетельствует, что они рубились и подвергались действию какого-то адепта, но какого именно, сказать может только научное исследование». В то время произвести такое исследование было невозможно, но как-то трудно предположить, чтобы посторонние кости могли попасть в костер вместе с предметами одежды, белья и обуви членов Царской Семьи.
Это общее исследование всего района давало скорее больше данных за то, что Исаак Голощекин скрыл тела путем их сожжения на кострах, чем обстоятельств, опровергавших такое предположение. Всякий раз, когда хочется отказаться от этой идеи, приходится давать фактам несколько натянутые толкования вроде того, что хоронили тела в земле совершенно голыми. Как бы при этом ни были искажены тела, Исаак Голощекин отлично понимал, что для русского христианина имеет значение не нахождение физических цельных тел, а самых незначительных останков их как священных реликвий тех тел, душа которых бессмертна и не может быть разрушена Исааком Голощекиным или другим подобным ему изувером из еврейского народа.
* * *
Паровая машина Верх-Исетского завода оказалась неисправной, и пока ее чинили, откачка воды из шахты № 7 производилась при помощи двух сильных ручных насосов. Работы начались 12 июня и к 25 июня вода была удалена. Изучение шахты произвел сам следователь Соколов.
Сруб большого колодца шахты старый, но везде хорошо сохранившийся. В стене сруба вбиты железные скобы, по которым в прежнее время производился спуск в большой колодец. Весь сруб в полной исправности, но на самих бревнах имеется много наружных небольших царапин и расщепов, возможно – и от внедрения в них небольших осколков ручных гранат, которые находились здесь при розысках в августе 1918 года. Глубина большого колодца до пола оказалась всего 5 сажен 7 вершков. Пол сложен из горбылей толщиною 3 вершка. Под полом материковая земля, грунт которой твердый, глинистый, с примесью мелкого камня. На деревянном полу оказалось немного ила, который был весь собран и извлечен наверх для специального исследования. Равным образом был взят для исследования пласт земли из-под пола глубиною 4 вершка.
Сруб малого колодца шахты представился в таком же виде, как и большого колодца. Никаких повреждений и заделок на нем не было видно. На дне малого колодца лежала земля, причем поверхность ее оказалась выше пола большого колодца на 12 вершков. Ясно было видно, что эта насыпка недавнего происхождения и вполне походила на глину с глиняной площадки. Вся эта масса земли была извлечена из малого колодца и разложена для исследования на особый брезент. Под насыпкой оказался пол из вершкового теса, положенного прямо на материковый грунт. На уровне пола по удалении насыпки обнаружился подземный ход в восточном направлении, имевший длину 7 аршин, высоту один и три четверти и ширину один с четвертью аршина. Коридор закреплен деревянными лежнями, стойками, огнивами и подхватами. Кончается он стенкой, также закрепленной при помощи горбылей и одной стойки. Стенка была разобрана, причем под ней ничего, чтобы привлекало внимание, не найдено. Весь коридор был вполне в исправном виде и носил следы неприкосновенности с давнего времени.
Таким образом, состояние обоих колодцев шахты № 7 абсолютно исключает всякую возможность нахождения где-либо в ней или ее разработке трупов Августейшей Семьи.
Это и надо было ожидать, так как ни размеры шахты, ни участие в сокрытии тел Исаака Голощекина не согласовались с идеей надежного сокрытия следов совершенного преступления. Только предвзятость мысли могла создать такое напряженное внимание к этой шахте и отвлечь в свое время внимание следственных властей и офицеров от детального изучения ближайшего района по свежим следам преступников.
При выборке засыпки, оказавшейся в малом колодце шахты, на глубине трех вершков от поверхности лежал труп маленькой собачки, принадлежавшей Великой княжне Анастасии Николаевне. Собачку эту подарил Великой княжне один раненый офицер, лежавший в госпитале имени Ее Высочества, причем она была так мала, что Великая княжна возила ее или в рукаве костюма, или в муфте. Убийцы обнаружили собачку, вероятно, уже по привозе тел на глиняную площадку; это может быть показателем того, что в Ипатьевском доме после убийства тела не осматривались и не обшаривались или если и осматривались, то очень поверхностно, что согласуется и с показаниями Медведева и Якимова. С другой стороны, наличие собачки при Великой княжне свидетельствует, что Анастасия Николаевна (и соответственно, вероятно, и другие) была одета по-дорожному и, не расставаясь в дороге с собачкой, взяла ее с собой, сходя в комнату убийства.
Затем вся засыпка из малого колодца была осмотрена и промыта на решетках, причем в ней оказались следующие предметы.
1) 12 кусков какого-то беловатого вещества, смешанного с глиной. Вещество издает сильный запах сала и легко крошится в руках. По внешнему виду очень похоже, что это растопленное сало со сжигавшихся тел, смешавшееся с глиной из-под костра. Однако установить природу вещества окончательно можно только очень сложной экспертизой в специальной научной лаборатории.
2) Пять кусочков расплавленного свинца, вылившегося под действием огня из пулевых оболочек.
3) Серебряный вызолоченный значок Уланского Государыни Императрицы полка, с датой 1803–1903, поднесенный Ее Величеству полком в день столетнего юбилея полка. Государыня носила этот значок на шейной цепочке.
4) Серебряная рамочка от маленького шейного образка одной из Великих княжон и кусочки цинковой пластинки со следами краски, являющиеся остатками самой иконки.
5) Осколок жемчужины прекрасного качества.
6) Кусочек какого-то золотого украшения, отрубленный рубящим оружием.
7) Топазовая бусина от ожерелья Великих княжон.
8) Пистон от корсета, английская кнопка, два медных винтика от дорогой обуви, три тонких гвоздика от обуви, пять кусочков белого тонкого стеклышка от медальона, хорошая английская булавка. Все эти предметы подвергались действию огня.
9) Пять кусочков синей материи, цвета и свойства материи дорожных костюмов Великих княжон;
один кусок черной материи с белыми полосками, характера материи от пальто доктора Боткина;
два куска черной материи, один – светло-желтой и один – белой с розовыми полосками; все куски материи также носили следы горения.
10) Кусочек хорошей кожи от обуви со следами ожога.
11) Осколок ручной гранаты.
12) Семь обуглившихся кусков дерева, из коих три представляют собой большие головешки, позволяющие заключить, что огонь на костре разводился большой.
Таким же порядком был исследован ил, взятый со дна большого колодца шахты, где в августе 1918 года офицерами были найдены отрезанный палец, по-видимому женский, и вставная челюсть доктора Боткина. Ныне, при промывке ила, найдено еще следующее.
1) Девять обгорелых кусочков такой же синей материи, какая была найдена в засыпке малого колодца.
2) Два осколка стекла от пузырька нюхательной соли; три – зеленых, от флакона Государыни Императрицы, и четыре белых осколка стекла или от рамочки, или от медальона.
3) Три осколка ручной гранаты.
4) 20 кусков углей разной величины.
Все перечисленные предметы попали в шахту № 7 при разброске убийцами кострища, бывшего на глиняной площадке. Это подтверждалось как свойством грунта, из которого состояла засыпка малого колодца шахты, так и следами глины, сохранившейся на большинстве предметов; экспертиза их установила полную тождественность с грунтом глиняной площадки. Кроме того, характер, свойства и качества предметов, найденных в шахте, вполне соответствовали предметам, найденным при детальном исследовании поверхности земли в районе старой березы, шахты № 7 и глиняной площадки.
Это последнее было произведено с большой осторожностью и детальностью. Прежде всего работая ножами, пересмотрели почву всей площадки на глубину притоптанности верхнего ее слоя. Затем были сняты верхние слои земли из-под кострищ и с глиняной площадки и просеяны через решета, и, наконец, как эта просеянная земля, так и земля, снятая вокруг шахты № 7, промывалась на системе решет. Первые две работы были выполнены полностью; последняя же, т. е. промывка, к 10 июля – дню перерыва работ – закончена не была; удалось успеть промыть землю из-под кострищ и примерно четверть земли с глиняной площадки.
В результате произведенного исследования были найдены следующие предметы.
А) В земле из-под кострищ у старой березы:
1) свинец, выплавившийся из пулевых оболочек;
2) женские: простая пряжка от подвязок, 3 простые кнопки и 1 петля;
3) мужские: большая пуговица, большие крючок и петля, по-видимому, от пальто, 2 пуговицы фирмы Лидваля от брюк и 1 большая кнопка;
4) кусочки материи разного цвета и сорта, сильно прогоревшие;
5) этикетка с надписью «Хим. Лаб. Стела».
Б) В земле из-под костра у шахты № 7, с глиняной площадки и в слое, окружавшем шахту № 7:
1) 30 обгорелых осколков от крупных костей. Некоторые куски имеют совершенно ясные следы отделения их рубящим оружием. Другие образовались под действием горений в огне;
2) 18 кусочков свинца, вытекшего из пулевых оболочек;
3) одна пустая обожженная никелевая оболочка от пули нагана;
4) две пули нагана, сильно деформированные в головных концах, как бывает при ударе пули о кость;
5) три частицы золотых шейных цепочек от образков;
6) обгорелые металлические кусочки пластинок от маленьких шейных образков;
7) 13 совершенно обуглившихся кусков какого-то вещества, сильно рассыпающегося при малейшем нажиме;
8) осколок рубина «кабюшон», наиболее вероятно от того кольца, которое было подарено Государем Императором Государыне, когда ей было еще 15 лет, и которое она всю жизнь носила на шейной цепочке с образками;
9) два осколка сапфира «кабюшон», тоже, вероятно, от кольца Государя Императора, подаренного ему Государыней в 1891 году, с которым покойный Император никогда не расставался;
10) 13 целых жемчужин и 4 осколка жемчуга очень хорошего качества. По свидетельству лиц, близко стоявших к Царской Семье, лучшие жемчуга были зашиты в Тобольске в мешочек, который надела себе на шею Великая княжна Ольга Николаевна;
11) 17 топазовых бус и 2 осколка от таких же бусин. Топазовые ожерелья имели все Великие княжны;
12) два бриллианта очень хорошей воды, видимо, от какого-то украшения;
13) рубин граненый, прямоугольной формы, высокого качества;
14) осколок от крупного темного аметиста;
15) 14 осколков от изумрудных камней разной величины и хорошего достоинства;
16) шесть золотых и платиновых кусочков, отрубленных от украшений. В одном платиновом кусочке сохранился бриллиант хорошей воды;
17) обрывок золотой цепочки от браслета Государыни Императрицы;
18) золотая оправа от пенсне доктора Боткина;
19) маленький флакончик с нюхательной солью, принадлежавший Государю Императору или Великой княжне Ольге Николаевне;
20) пять кусочков обгорелой лиловой материи, подобной той, из которой было платье у Государыни Императрицы;
21) три кусочка обгорелой синей материи от дорожных костюмов Великих княжон;
22) три куска солдатского сукна от шинели. По качеству сукно похоже на то, из которого была сделана шинель наследника Цесаревича, которую ему шил портной Норденштрем. Куски сильно разлезаются, как бы разъеденные кислотой;
23) восемь разных пуговиц хорошего качества; четыре металлические петельки от одежды, из коих три – женских, очень хорошего качества. Все предметы обгорелые;
24) лента черного бархата, скорее всего от шляпы. Шнурок, сплетенный Государыней из ниток ириса. Несколько кусочков разной материи, цвет и качество коей почти невозможно определить, так как часть их сильно погорела, а другая пропитана глиной;
25) шесть металлических корсетных костей, угольник от корсетной планшетки, части металла с обгоревших или обожженных кислотой корсетных планшеток и 14 корсетных пистонов;
26) железная лента, вкладываемая в тулью военных фуражек хорошей работы. Другая такая лента была найдена еще в августе. Такие ленты были в фуражках Государя Императора и наследника Цесаревича;
27) 13 остатков обгорелой обуви. В некоторых сохранились винтики и гвоздики, по качеству и характеру которых эксперты заключают, что обувь была лучшего качества;
28) 57 осколков разных стекол: от портретной рамочки Государя Императора, от медальонов или образков, от пенсне доктора Боткина, от разных маленьких пузырьков и флакончиков. На одном из осколков зеленого стекла сохранилось оттиснутое по-французски слово «придворный»;
29) шесть осколков и кусков от разных частей ручной гранаты. Использованная гильза от револьвера кольт, такая же от браунинга и такая же от нагана;
30) куски разорванной на части писанной карандашом записки. По соединении кусков оказалось, что записка представляла собой телеграмму военного комиссара Анучина комиссару Мрачковскому о спешной высылке в Екатеринбург Костромского пехотного полка.
* * *
Что же сделал изувер Исаак Голощекин с телами своих жертв?
Пусть предлагаемый материал по розыску тел убитых членов Августейшей Семьи поможет каждому читающему составить себе окончательное заключение. Работавшая же комиссия, оценивая совокупность всех данных, определившихся следственным производством, и опираясь на свойства, характер и сорт найденных при розысках предметов и вещей, пришла к следующим выводам.
Петр Ермаков и Александр Костоусов, получив от Исаака Голощекина поручение скрыть тела в районе Ганиной ямы, привезли их на грузовике Люханова к глиняной площадке, причем от ямы, куда завалился грузовик, до площадки тела пришлось переносить на устроенных из подручного материала носилках. Об этом свидетельствуют оставшиеся пеньки от срезанных молодых берез и сосенок, оказавшихся вблизи ямы, палки с зачищенными концами, валявшиеся у шахты № 7, и кусок полотнища палатки или брезента, найденного там же, которым, вероятно, были прикрыты тела при перевозке и которым воспользовались для устройства временных носилок.
На глиняной площадке товарищи Ермакова обшарили карманы убитых и поверхностно осмотрели одежду. Портмоне и кошельки, бывшие, возможно, в карманах жертв, грабители, конечно, забрали себе; по крайней мере, следов и остатков таковых в кострищах и в районе не оказалось. Предметы же, которые для них не представляли ценности (складная рамочка Государя Императора, флакончики с солями, пенсне Боткина), они зашвырнули далеко от площадки, где осматривались тела, в котлован влево от шахты № 7. Трудно сказать, какие из драгоценностей, зашитых в предметы одежды, были ими при этом осмотре обнаружены и взяты. Можно думать, что товарищи заметили только ценности, скрытые в наружных предметах костюмов и в шляпах. «Поясок возьмешь, ан глядь, и там зашито», – подслушал Кухтенков фразу одного из них.
Из опроса лиц, близких к Царской Семье по жизни в Тобольске, выяснилась следующая история с драгоценностями, принадлежавшими лично членам Семьи. После того как комиссар Яковлев увез в Екатеринбург Государя Императора, Государыню Императрицу и Великую княжну Марию Николаевну, в Тобольске было получено от Государыни письмо, в котором она в условных словах предупреждала детей, чтобы при предстоявшем им переезде в Екатеринбург они были осторожны с остававшимися у них драгоценностями. Поэтому дети решили зашить наиболее ценные вещи в различные предметы одежды, носившиеся ими в дороге. Так, например, крупные бриллианты были зашиты в большие пуговицы синих дорожных костюмов; нитки жемчуга – в дорожные шляпы; разные более мелкие вещицы – в лифчики, которые Великие княжны надевали поверх корсетов. Так как при убийстве все члены Царской Семьи были одеты по-дорожному, то, очевидно, все то, что было зашито ими в Тобольске, должно было быть на них здесь, в районе Ганиной ямы. Убийцы не раздевали тел своих жертв, иначе они обнаружили бы все, что было на них спрятано; они удовольствовались только внешним осмотром.
После этого поверхностного обшаривания Ермаков с товарищами сбросили тела в воронку шурфа № 3 и засыпали их землей, обвалив для этого просто верхний гребень воронки, ближайшей к глиняной площадке. Такой способ погребения в большинстве случаев применяли избегавшие работы российские сотрудники большевистских руководителей-палачей. Ермаковские деятели считали свою работу исполненной, и в ночь с 17 на 18 июля явились в коммунистический рабочий клуб отдохнуть и поболтать.
Но или Исаак Голощекин сам не удовлетворился ермаковским способом сокрытия тел, или, что, пожалуй, вернее, он получил по этому поводу совершенно особые и исключительные указания от изуверских соплеменников из Москвы, во всяком случае 18 июля Исаак Голощекин решил произвести «перехоранивание» тел под своим личным руководством и лично им надуманным способом. Тела несчастных мучеников снова вытащили на глиняную площадку; туда же доставили бочку керосина, 9 – 10 пудов кислоты и три бочки, по-видимому, со спиртом.
Прежде всего Исаак Голощекин отделил у них головы. Выше уже упоминалось о тех слухах, которые распространились в Москве в среде советских деятелей с приездом туда Исаака Голощекина после убийства и в связи с привозом им Янкелю Свердлову каких-то тяжелых, не по объему, трех ящиков. Что в этом отношении говорят исследования на месте? Прежде всего, найденные кусочки шейных шнурков и цепочек носят следы порезов их, что могло произойти при отделении голов от тел режущим или рубящим оружием. Далее, при операции отделения голов с тел катились порядочные по величине и весу фарфоровые иконки; их швырнули далеко в траву котлована, влево от шахты № 7, и в костре они не были. Наконец, зубы горят хуже всего; между тем при всей тщательности розысков нигде, ни в кострах, ни в почве, ни в засыпке шахты ни одного зуба не найдено.
По мнению комиссии, головы членов Царской Семьи и убитых вместе с ними приближенных были заспиртованы в трех доставленных в лес железных бочках, упакованы в деревянные ящики и отвезены Исааком Голощекиным в Москву Янкелю Свердлову в качестве безусловного подтверждения, что указание изуверов центра в точности выполнено изуверами на месте.
По отделении голов для большего удобства сжигания тела разрубались топорами на куски.
Тела рубились одетыми. Только таким изуверством над телами можно объяснить находку обожженных костей и драгоценностей со следами порубки, а драгоценных камней – раздробленными.
После этого тела обливались керосином, а возможно, и кислотой и сжигались вместе с одеждой на двух кострах. Костер у шахты, по окончании операции, был раскидан; костер же у старой березы не трогали. При детальном изучении вещей, найденных в районах того и другого костров, устанавливается следующая подробность: в районе костра у старой березы все найденные предметы относятся лишь к предметам одежды, и при этом одежды более простого, дешевого качества. Все же остатки драгоценностей, вещей, принадлежавших собственно членам Царской Семьи и доктору Боткину, равно и остатки предметов одежды и белья лучшего и заграничного производства, были найдены в районе разбросанного Исааком Голощекиным костра у шахты № 7 и на глиняной площадке. Отсюда можно сделать предположительный вывод, что тела Государя Императора, Государыни Императрицы, наследника Цесаревича, Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии Николаевен и доктора Боткина были сожжены на костре у шахты, а на костре у старой березы сожгли тела Анны Демидовой, камердинера Труппа и повара Харитонова.
Исходя отсюда, осколки костей и остатки растопленного сала, найденные в шахте, в районе костра у шахты и на глиняной площадке, если экспертиза установит их безусловную принадлежность человеку, могут считаться единственными материальными реликвиями, оставшимися от мученически погибших за грехи людей бывшего Государя Императора Николая Александровича, бывшей Государыни Императрицы Александры Федоровны, бывшего наследника Цесаревича Алексея Николаевича и Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии Николаевен.
Верные долгу и вере
Выше уже указывалось, что руководители истребления Дома Романовых придерживались каких-то особых соображений в отношении судьбы тех или других приближенных к Царской Семье и слуг, состоявших при ней в Тобольске.
Таким образом, когда Августейшую Семью советские главари перевезли в Екатеринбург и заключили в Ипатьевском доме, то одновременно генерала Татищева, графиню А. В. Гендрикову, Е. А. Шнейдер и камердинера Волкова комиссар Мрачковский отобрал из общего состава свиты, приехавшей в Екатеринбург, и прямо с вокзала без багажа и вещей отвез в Екатеринбургскую губернскую тюрьму. Камердинеры Нагорный и Седнев, попавшие сначала в Ипатьевский дом, 25 мая были взяты из дома и тоже доставлены в тюрьму.
В тюрьме Чуцкаев отобрал у Долгорукова и Татищева револьверы, а Дидковский взял деньги (генерал Долгоруков попал в тюрьму раньше). Как в том, так и в другом актах упомянутые советские деятели выдали владельцам расписки. Арестованных разъединили: Долгоруков, заключенный еще 30 апреля, сидел один в так называемом «секретном отделении». Туда же отвели Татищева и Волкова, но посадили в камеру отдельно от Долгорукова. Гендрикова и Шнейдер были помещены в женском отделении в камере с княгиней Еленой Петровной Сербской, а Нагорного и Седнева заключили в общей камере тюрьмы, где содержались арестованные чрезвычайной следственной комиссией и откуда выводили только для расстрела. Заключенные были лишены вещей и денег; режим к ним применялся тот же, как и для всех других арестантов, и единственное развлечение и времяпрепровождение заключалось в беседах и разговорах друг с другом и с другими такими же несчастными заключенными белогвардейцами и буржуями, ожидавшими своей участи.
Илья Леонидович Татищев попал в состав свиты, предназначенной сопровождать Царскую Семью в Тобольск, случайно. Он не принадлежал к числу так называемых придворных. Когда выяснилось, что вследствие болезни жены Бенкендорф не сможет сопровождать Государя в ссылку в Тобольск, Керенский предложил бывшему Царю выбрать одного из следующих лиц: Воейкова, или Нилова, или Нарышкина, или Татищева. Выбор Государя остановился на Татищеве. К нему Керенский послал уведомить помощника комиссара Министерства Двора Павла Михайловича Макарова. Макаров, приехав к Татищеву, объявил Илье Леонидовичу, что он назначен сопровождать Государя в Тобольск. На это заявление Татищев спросил: «Что, это распоряжение правительства или приказ Государя?»
«Желание Государя», – ответил Макаров.
«Раз Государь желает этого, мой долг исполнить волю моего Государя», – сказал Татищев, и в тот же день присоединился к свите, уже состоявшей при Царской Семье.
Выбор Государя был очень удачный. Глубоко благородный и идеально честный Илья Леонидович, с христианской душой и кротким характером, стал вскоре общим любимцем в среде заключенных в Тобольске. С большим внутренним запасом духовных сил, он умел быть всегда спокойным, ровным, внося бодрость в окружающих и стараясь различными рассказами и воспоминаниями сокращать долгий досуг томительных дней заключения в Тобольске.
Попав в тюрьму, Илья Леонидович и здесь не изменил себе и старался подбадривать других:
«Вот, Алексей Андреевич, – обратился Татищев к Волкову, входя в контору тюрьмы, – правду ведь говорят: от сумы да от тюрьмы никто не отказывайся».
Кругом улыбнулись, и только Мрачковский злобным тоном заметил:
«По милости Царизма родился в тюрьме».
В камере, в которую попал Татищев, содержалось несколько офицеров, с которыми Илья Леонидович любил беседовать, поддерживал в них бодрость и веру в спасение России и, несмотря на весь ужас окружавшей обстановки, на грязь, испытываемые лишения и нравственные муки перед неведомой личной судьбой, он остался верным своему Государю и своей присяге до конца. Рассказывая офицерам, как Государю Императору угодно было предложить ему сопровождать Его Величество в ссылку, Илья Леонидович говорил:
«На такое монаршее благоволение могла ли у кого-либо позволить совесть дерзнуть отказать Государю в такую тяжелую минуту? Было бы нечеловечески черной неблагодарностью за все благодеяния идеально доброго Государя даже думать над таким предложением; нужно было считать его за счастье».
10 июля Татищев и Долгоруков были вызваны в тюремную контору. Здесь им вручили ордера за подписью Белобородова и Дидковского, в которых им предписывалось в 24 часа покинуть пределы Уральской области. Такая неожиданная милость советских властей очень удивила обоих; ни Татищев, ни Долгоруков никого не просили об освобождении, и никто к ним за время заключения в тюрьме не приезжал и за них никто не хлопотал. Тем не менее им приказали сейчас же взять свои вещи и уходить. Двери тюрьмы перед ними открылись.
Но у ворот тюремной ограды их встретили вооруженные палачи из чрезвычайной следственной комиссии, которые отвели Татищева и Долгорукова за Ивановское кладбище в глухое место, где обычно, по выражению деятелей чрезвычайки, «люди выводились в расход». Там оба верных своему долгу и присяге генерала были пристрелены, и трупы их бросили, даже не зарыв.
Там же и так же кончили жизнь Нагорный и Седнев, но тела их остались неразысканными. 28 мая по совету какого-то тюремного адвоката они подавали из тюрьмы прошение на имя Белобородова, в котором просили объяснить им причины их заключения в тюрьму и выражали желание быть высланными на родину. Ответом был расстрел.
Клементий Григорьевич Нагорный и Иван Дмитриевич Седнев – оба бывшие матросы с яхты «Штандарт». Оба они уроженцы Ярославской губернии; Седнев был женат, имел троих детей, мать и сестру; вся семья была на его иждивении. Нагорный – холостой; его родители проживали на родине. Нагорный был определен к наследнику Цесаревичу, когда бывший его дядька, известный боцман Деревенько, проворовался и был удален от Двора.
20 июля графиня А. В. Гендрикова, Е. А. Шнейдер и камердинер Волков были отправлены под конвоем на вокзал и посажены в арестантский вагон. Сюда же была приведена княгиня Елена Петровна Сербская с состоявшими при ней членами Сербской миссии и еще несколько других содержавшихся в тюрьме офицеров и «контрреволюционеров». Всего набралось 36 человек.
23 июля всех перечисленных лиц привезли в Пермь. Здесь княгиню Елену Петровну с ее миссией, графиню Гендрикову, Е. А. Шнейдер и Волкова, при отношении Пермского окружного чрезвычайного комитета по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем за № 2172, отвели в Пермскую губернскую тюрьму, а остальных – в арестный дом. Все три женщины были помещены в одной камере в женском отделении, а членов миссии и Волкова заключили в камерах мужского отделения.
Через несколько дней после перевода в Пермь Волков по совету какого-то адвоката, также сидевшего в тюрьме, подал в местный совдеп заявление, прося разъяснить ему, за что он арестован. Недели через две-три он был вызван на допрос, где какой-то молодой человек стал допрашивать его об убийстве бывшего Царя в Екатеринбурге и о побеге Государя из Тобольска. На вопрос же Волкова о судьбе его прошения молодой человек ответил, что «этот вопрос будет разрешен в Москве».
Ответ этот характерен и существен для установления отношения Москвы вообще к событиям, связанным так или иначе с судьбой Царской Семьи. Если местные власти не имели права разрешить сами даже вопроса о судьбе камердинера Волкова, как же можно допускать, что в отношении судьбы Царской Семьи местные власти обходились без руководительства из центра.
Администрация тюрьмы, куда были заключены княгиня Сербская, графиня Гендрикова и Е. А. Шнейдер, в пределах возможного старалась облегчить заключенным женщинам их положение: разрешила приобретать изредка молоко и давала для чтения получавшиеся в тюрьме газеты. Наибольшую бодрость в тяжелом тюремном заключении проявила графиня Гендрикова, которая иногда даже пела, дабы развлечь тоску сильно грустившей по мужу княгини Елены Петровны. Большой недостаток ощущался в белье; приходилось носить мужское тюремное белье, так как никаких своих вещей при заключенных не было. Все вещи Гендриковой и Шнейдер были отобраны советскими главарями еще в Екатеринбурге и хранились в помещении областного совдепа, где, как упоминалось выше, вещи при бегстве советской власти из города были раскрадены как самими главарями власти, так и различными маленькими служащими совдепа. Остается только непонятным, почему советские власти, предрешив судьбу несчастных своих жертв, так медлили с окончательным приведением в исполнение своих намерений и томили бедных заключенных, заставляя их переживать моральные пытки, в тысячу раз более изуверские, чем пытки в застенках в самые темные времена средних веков.
Анастасия Васильевна Гендрикова, как глубоко религиозный человек, не боялась смерти и была готова к ней. Оставленные ею дневники, письма свидетельствуют о полном смирении перед волей Божьей и о готовности принять предназначенный Всевышним Творцом венец, как бы тяжел он ни был. Она убежденно верила в светлую загробную жизнь и в Воскресение в последний день, и в этой силе веры черпала жизненную бодрость, спокойствие духа и веселость нрава для других.
Она любила Царскую Семью и была любима ею почти как родная дочь и сестра. После смерти ее матери и особенно после ареста в Царском Селе единственною сердечною и глубокою привязанностию Анастасии Васильевны на земле оставалась Государыня Императрица и Великие княжны. Все письма Государыни к Настеньке, как звала графиню Гендрикову Ее Величество, полны материнской нежности и заботливости. Необходимо отметить, что мать Анастасии Васильевны, графиня София Петровна Гендрикова, была наибольшим и любимейшим другом Государыни Императрицы Александры Федоровны в течение всей ее жизни. Обеих связывала глубокая религиозность и преданность учению Православной Церкви о беспредельной любви к ближнему и бесконечном милосердии и терпимости к людям. Последние 3–4 года своей жизни графиня София Петровна страшно страдала физически вследствие какой-то очень сложной болезни и медленно, мучительно, долго умирала на руках своей страстно любимой дочери. Поразительно, что единственное, что облегчало страдания умиравшей, было присутствие Государыни Императрицы и молчаливая, сосредоточенная молитва последней. Государыня, веря сама в силу молитвы, приходила к графине почти ежедневно; брала руки страшно страдавшей больной в свои руки и, закрыв глаза, не произнося ни слова, уходила в напряженное молитвенное состояние. Больной постепенно становилось все легче, легче, боль затихала, и обе женщины, в слезах и обнимаясь, горячо благодарили Бога за Его бесконечную милость. Об этих минутах молитвенного исцеления полны письма графини-матери к дочери и письма Государыни к графине Софии Петровне. О них же часто упоминает в своем дневнике и Анастасия Васильевна.
Письма Великих княжон к графине Гендриковой, и особенно письма Великой княжны Ольги Николаевны, дышат доверием, любовью, простотой отношений и непринужденной веселостью. Княжны делились с Настенькой всеми своими впечатлениями, советовались в своих общественных делах и видели в ней как бы свою старшую сестру. Царская Семья была очень сдержанна в осуждении вообще людей и даже своих близких. Очень редко в письмах проскальзывает какое-нибудь недоброжелательное чувство к кому-нибудь. Чаще всего это выражается только в какой-нибудь юмористической форме. Но более рельефно выражаются их симпатии. Так, видно, что наибольшей симпатией членов Императорской Фамилии пользовался Великий князь Дмитрий Павлович, отношение к которому было как к любимому брату.
Анастасия Васильевна далеко не была человеком, которому были бы чужды земные желания, колебания, сомнения, раздражения и иные душевные и духовные побуждения, присущие существу мыслящему, живущему среди людей, ищущему у них любви для себя, для своей жизни, ищущему ответы на вопросы обыденной, окружающей обстановки, жизни. Она не чужда была слабостей, временных разочарований в окружающих, временных ошибок и искушений. В своем дневнике, посвященном покойной матери, она пишет: «Боже мой! Когда же кончится моя бесцельная, одинокая жизнь? Она меня тяготит, и теперь постепенно блекнут все утешения; больное, измученное, жаждущее любви сердце нигде не находит ответа и тепла…
Пришлось спуститься с высоты, где царят утешение и мир, в самую тину житейскую, в самый центр житейских дрязг, суеты, забот; вникнуть и окунуться в окружающую жизнь, полную сложностей, интриги, пошлости и лжи людской…
Мне казалось, что я найду просвет единственно в одном прежнем, сильном чувстве любви… но и здесь нашла только полное и окончательное разочарование…
Я чувствую, что я начинаю черстветь, холодеть, и на меня находят апатия и равнодушие ко всему, кроме душевной боли…»
Разве в приведенных словах дышит не сама жизнь земная? Разве это мысли и чувства не земного существа? А между тем многие считали Анастасию Васильевну мистически больной, стоящей вне жизни, вне ее реальных сторон и объясняли это близостью Гендриковой к Государыне, влиянием последней в религиозно-мистическом отношении и больной экзальтацией. Совершенно верно, что молодая Анастасия Васильевна была требовательна к людям, что ее не удовлетворяли ни люди, ни жизнь, ее окружавшая, так как блистали они только внешней мишурной оболочкой, а она искала души в человеке, глубины и идеальности в жизни. Люди, не способные понимать духовных обликов Государыни Императрицы или Анастасии Васильевны Гендриковой, обвиняли их в страдании больной экзальтацией мистицизма, формальном исповедании религии и чуть ли не в кощунственном отношении к духу веры, заменяющем его учениями старцев, различных кликуш и истеричек и чуть что не оккультическими экспериментами в личной и государственной жизни.
Анастасия Васильевна, как и Государыня Императрица Александра Федоровна, была по вере истинной православной христианкой, верующей силою разума и чистотою сердца. Для нее вера в Бога, в догматы Православной Церкви была той действительной, естественной силой, которая одна только может управлять в высшем значении этого понятия миром, людьми, их помыслами и чувствами для приближения всего живущего к высокому идеалу человеческих взаимоотношений на земле, зиждущихся на законе Христовой любви. Отсюда в этой силе веры черпала она ответы и решения возникавшим в ней сомнениям и колебаниям; искала укрепления и возвышения своих духовных сил для правильного разрешения житейских проблем, требований долга, совести и морали. В ней же она удовлетворяла не утоленное на земле чувство сердца и горящей, ищущей души.
В этой здоровой и сильной религии и вере во Христа Анастасия Васильевна была наставлена с юношеского возраста двумя наиболее ей близкими женщинами. Это были ее покойная мать и Государыня Императрица Александра Федоровна.
Анастасия Васильевна любила свою мать необычайно большой, глубокой, преданной и сильной любовью. Тянувшаяся несколько лет тяжелая, мучительная болезнь Софии Петровны и затем сама смерть создали в жизни любящей дочери неизлечимое горе, неослабное страдание. Но, с другой стороны, самоотверженный уход дочери за больной матерью, требовавший громадных сил и большого напряжения, воспитали в Анастасии Васильевне великую способность жить для другого, жертвовать другому всем и для облегчения состояния любимой и любившей матери находить в себе силы быть не только спокойной, но даже веселой, дабы не возбуждать в матери сомнения, что болезнь ее тяжела для дочери. Дочь находила истинное удовлетворение в самоотречении для матери и действительно не чувствовала тяжести ухода за больной, но она страдала невероятно за любимую мать и заставляла себя быть веселой, чтобы скрыть это страдание от матери и не увеличивать еще более ее мук.
Государыня, видя всю силу отчаяния и беспредельного горя, охвативших Анастасию Васильевну после смерти Софии Петровны, будучи исключительно чуткой в понимании душевных настроений близких людей и бесконечно верующей в благость Промысла Божия, одной высказанной глубокой мыслью пробудила в Анастасии Васильевне сознание настоящего смысла, цели и назначения, предуказанных ей Богом для всей ее дальнейшей жизни. Вот как говорит об этом моменте жизни и воспринятой идее сама Анастасия Васильевна в своем дневнике, посвященном матери: «Во всем, Ангел мой, я чувствую действие твоих молитв обо мне. Я опять нашла свою прежнюю Царицу, опять тем Ангелом-Утешителем, которым Она была для тебя в первые годы после смерти папы. Ты тогда говорила, что папа послал Ее тебе в утешение, а теперь ты мне Ее опять вернула такой, какой Она была тогда, и это мне такое утешение. Мне в душу запала мысль, которую Она мне сегодня сказала: чтобы тот опыт страдания, который Господь мне послал в тебе и через тебя, я бы употребила на радость и утешение другим…
Может быть, в этом должна быть цель, назначенная мне Богом».
Это было высказано Государыней в 1916 году. И действительно, вся последующая жизнь Анастасии Васильевны озарилась высоким светом самоотверженной работы и деятельности для других людей. Она пошла по пути мысли, заложенной в ее духовном миросознании Государыней, не по чувству долга или обязанности, а потому, что уже иначе она не могла и мыслить. Все более и более в ней стало крепнуть душевное спокойствие, равновесие чувств, ясность мысли и добровольная покорность перед волей Божьей. Она стала на истинный путь служения любви во Христе, который привел ее к мученическому, но желанному ею венцу за тех, кому она окончательно отдала свою душу на земле.
Расставаясь накануне переезда из Царского Села в Тобольск с комнатой своей матери и со всем, что было собрано в ней как память о матери, Анастасия Васильевна записала в своем дневнике последнее обращение к матери, воспитавшееся и развившееся в ней из завета, данного Государыней и поддерживавшегося ею в «Настеньке» всею силою глубокого духовного влияния:
«Последний раз сижу я в уютном уголке, устроенном около твоей образницы, окруженная твоими книжками, образами, и все мне говорит о тебе. Завтра уже опять (третий раз после твоей смерти) придется разорить этот единственный уголок моего мира и опять все укладывать, и Бог знает, придется ли когда его собрать? Впереди неведомый далекий путь, а дальше полная неизвестность, но хотя сейчас мне тяжело и грустно и такая безумная жажда твоей ласки незаменимой, так хочется положить голову к тебе на плечо и отдохнуть (я так устала), но на душе все же спокойно; я чувствую, что ты со мной и слышишь меня, и я не могу не вылить душу тебе, не выразить хоть отчасти все пережитое, хотя я и знаю, что ты видишь, понимаешь и знаешь каждое движение моей души, даже еще легче, еще яснее, чем раньше…
Я не могу уехать отсюда, не возблагодаривши вместе с тобой Бога за тот чудный мир и силу, которую Он посылал мне за все эти почти 5 месяцев ареста…
И я знаю, что эти неземные чувства слишком хороши и высоки для меня. Не я их заслужила, а ты мне их вымолила у Бога своими страданиями…
Ты всю жизнь жаждала и стремилась к миру душевному, как к высшему лучшему Божьему дару, и когда ты наконец достигла его и наслаждаешься им в полном блаженстве, ты делишься им со мной (как мы делили и страдания). Ты видишь, что я без этого не могла бы продолжать жизнь, и чем труднее и тяжелее делается моя жизнь, тем больше делается душевный мир…
Я поняла теперь, как и ты, что это лучшее, самое большое счастье, которое может быть, что с этим чувством все можно перенести, и я благословляю Бога и тебя, Ангел мой, за это, потому что я уверена, что это мне послано по твоим молитвам. Какое чудное спокойствие на душе, когда можешь все и всех дорогих отдать всецело в руки Божии, с полным доверием, что Он лучше знает, что кому и когда надо. Будущее больше не страшит, не беспокоит. Я так чувствую и так доверяюсь тому (и так это испытала на себе), что по мере умножения в нас страданий Христовых, умножается Христом и утешение наше…
Я знаю, что ты везде будешь со мной, будешь вести меня по тому пути, по которому я должна идти, и я закрываю глаза, отдаюсь всецело, без сомнения и вопросов или ропота в руки Божии, с доверием и любовью, и знаю, что ты умолишь Бога поддержать меня и в минуту смерти, или если мне еще будут испытания в жизни».
На этом кончается дневник Анастасии Васильевны, посвященный матери.
4 сентября 1918 года, отношением за № 2523, губернский чрезвычайный комитет потребовал присылки в арестный дом графини А. В. Гендриковой, Е. А. Шнейдер и камердинера Волкова. Всех их собрали в конторе тюрьмы и предложили им захватить с собой вещи, какие у кого были. Это дало повод Анастасии Васильевне высказать предположение, что их поведут на вокзал для перевозки в другое место. В конторе тюрьмы их передали под расписку конвоиру от комитета по фамилии Кастров.
В арестном доме, в комнате, в которую их ввели, было собрано еще восемь других арестованных (в том числе жены полковников Лебеткова и Егорова) и 32 вооруженных красноармейца во главе с начальником, одетым в матросскую форму.
Была глухая ночь, лил дождь. Всю партию в 11 человек (6 женщин и 5 мужчин) забрал матрос с конвоем и повел куда-то, сначала по городу, а затем по шоссе Сибирского тракта. Все арестованные несли сами свои вещи, но, пройдя по шоссе версты четыре, конвоиры стали вдруг любезно предлагать свои услуги – понести вещи: видимо, каждый старался заранее захватить добычу, чтобы потом не пришлось раздирать ее впотьмах, в сумятице, и делить с другими.
Свернули с шоссе и пошли по гатированной дороге к ассенизационным полям. Тут Волков понял, куда и на какое дело их ведут и, сделав прыжок вбок через канаву, бросился бежать в лес. По нему дали два выстрела, Волков споткнулся и упал. Это падение красноармейцы сочли за удачу выстрелов и прошли вперед. Однако Волков не был задет, он вскочил и снова побежал; ему вслед дали еще выстрел, но в темноте опять не попали. Через 43 дня скитания по лесам Волков вышел на наши линии и благополучно избег ожидавшей его участи.
Всех остальных привели к валу, разделявшему два обширных поля с нечистотами; несчастных жертв поставили спиной к конвоирам и в упор сзади дали залп. Стреляли не все, берегли патроны; большая часть конвоиров била просто прикладами по головам…
С убитых сняли всю верхнюю одежду и в одном белье, разделив на две группы, сложили тут же в проточной канаве и присыпали тела немного землей, не более чем на четверть аршина.
7 мая 1919 года, через восемь месяцев после убийства, тела Анастасии Васильевны Гендриковой и Екатерины Адольфовны Шнейдер были разысканы, откопаны и перевезены на Ново-Смоленское кладбище в Перми для погребения. Перед погребением тела были подвергнуты судебно-медицинскому осмотру.
Тело Е. А. Шнейдер находилось в стадии разложения, но еще достаточно сохранившимся для осмотра; черты лица оставались легко узнаваемыми, и длинные ее волосы были целы. На теле обнаружена под левой лопаткой пулевая рана в области сердца; черепные кости треснули от удара прикладом, но голова в общем виде осталась ненарушенной.
Тело графини А. В. Гендриковой еще совершенно не подверглось разложению: оно было крепкое, белое, а ногти давали даже розоватый оттенок. Следов пулевых ранений на теле не оказалось. Смерть последовала от страшного удара прикладом в левую часть головы сзади: часть лобовой, височная, половина теменной костей были совершенно снесены, и весь мозг из головы выпал. Но вся правая сторона головы и все лицо остались целы и сохранили полную узнаваемость.
Тела Анастасии Васильевны Гендриковой и Екатерины Адольфовны Шнейдер были переложены в гробы и 16 мая погребены в общем деревянном склепе на Ново-Смоленском кладбище. По случайному совпадению могила их оказалась как раз напротив окна камеры Пермской губернской тюрьмы, в которой провели они последние дни своей земной жизни.
Глава III
Работники-исполнители
До 26 апреля советские руководители в Екатеринбурге не имели даже в мыслях, что Царская Семья может оказаться на жительстве в столице Красного Урала, и никаких мер по подготовке помещения в городе Екатеринбурге для приема и содержания Августейших Тобольских Узников не предпринималось. В равной мере никто из начальников станции Екатеринбургского железнодорожного узла не получал предупреждений о предстоящем привозе со стороны Тюмени бывшего Государя Императора или его Семьи. Поэтому, судя по всему последовавшему после этого дня, можно с достаточной достоверностью сказать, что то секретное совещание президиума, о котором упоминает в своем рассказе комиссap Сакович, происходило именно или 25, или даже 26 апреля 1918 года. Вот как повествует об этом историческом совещании сам Сакович:
«Я случайно был приглашен на совещание совета комиссаров перед перевозом Царской Фамилии в город Екатеринбург из Тобольска. Совещание происходило в Волжско-Камском банке, в маленькой комнате, – исправляю, что совещание было на Коробковской улице в белом двухэтажном доме на левой стороне, если идти от центра города, кажется, в первом квартале. Это было в марте или апреле. Так как дело не касалось здравоохранения, я не принимал участия в разговорах и читал газету. Я лишь слышал, как говорили о необходимости перевоза, и о том, подвергнуть ли поезд крушению или охранять его от провокаторского крушения, что-то было в этом роде. Когда стали голосовать, я отклонился от голосования и объяснил, что это к здравоохранению не относится. В этом собрании были все указанные выше комиссары, а может быть, кого-нибудь и не было; помню хорошо, что были Голощекин, Белобородов, Сафаров, Тупетул и Войков. Всего было человек семь или восемь».
Давая через несколько дней показания при другом допросе, Сакович внес некоторые характерные оттенки в свой первый рассказ:
«Явившись на собрание, я протестовал против своего присутствия здесь, но это не помогло, и я остался, и был очевидцем отвратительных сцен; например, был возбужден вопрос, кем – не упомню, о том, чтобы устроить при переезде Царя крушение. Вопрос этот баллотировался, и было решено перевезти из Тобольска бывшего Государя в Екатеринбург; помню, я случайно узнал, что по вопросу о перевозке бывшего Государя в Екатеринбург была какая-то переписка с центром большевистской власти, и от центра было ясно сказано, что за целость бывшего Государя екатеринбургские комиссары отвечают головой».
Следовательно, из этих показаний прежде всего вытекает, что это происходило не в помещении областного совета и не при полном официальном составе президиума совета; участь Царской Семьи обсуждалась в постороннем месте и только определенными главарями советской власти. Таким образом, решение этой горсточки преступников нельзя считать не только решением областного совета, но даже и решением президиума этого совета. Это было просто решение кучки темных уговорщиков, прикрывшихся потом, благодаря своему официальному положению и влиянию, именем целых официальных органов советской власти.
Далее Сакович хорошо запомнил участие в этом совещании Голощекина, Сафарова, Войкова, Тупетула и Белобородова: три еврея, один латыш и один русский. Запомнил он их, естественно, потому, что инициатива «отвратительных» вопросов, наибольшая деятельность исходила именно от этих лиц. Кто же мог стоять во главе вершителей участи Царской Семьи? Чьи голоса имели доминирующее значение? Сам Сакович своим показанием дает определенный ответ – изуверов-евреев: Исаака Голощекина, Сафарова, Войкова.
Наконец, из сопоставления первого и второго показаний Саковича можно вывести, что первоначально совещание было собрано вовсе не для обсуждения вопроса – перевозить Царскую Семью в Екатеринбург или нет, а скорее, чтобы решить способ, каким бы можно было покончить с Царской Семьей, и только при баллотировке, в силу каких-то особых обстоятельств, совещание приняло решение перевезти в Екатеринбург. Эти обстоятельства впоследствии станут вполне ясны, но только вовсе не опасение лишиться голов заставило тогда Исаака Голощекина и прочую компанию отказаться от своих первоначальных замыслов, ибо для этой публики таких угроз от центра и не было. Сакович верно приплел здесь в своем показании, возможно, существовавшие слова Ленина, адресованные командующему армией Берзину, о чем уже говорилось в отделе о заговорах.
Во всяком случае ясно, что убийство Царской Семьи в ночь с 16 на 17 июля вовсе не было вызвано случайно сложившимися обстоятельствами, а было предрешено изуверами-евреями советской власти еще в апреле 1918 года. И наоборот, решение поселить Царскую Семью на время в Екатеринбурге было для этих деятелей совершенно случайным, что и видно из всего последующего. 27 апреля областной жилищный комиссар Жилинский неожиданно прибыл в дом Ипатьева, потребовал жившего в нем с семьей владельца и предъявил ему секретное предписание от 27 же апреля за № 2778. В этом предписании Ипатьев ставился в известность, что по постановлению областного совета его дом реквизировался для особого назначения и ему предписывалось, конечно, под соответственными угрозами расстрела, очистить дом к вечеру 28 апреля. В назначенный срок Ипатьев, естественно, освободил помещение, и дом был принят под расписку жилищным комиссаром с подробной описью оставленной в нем мебели и передан для охраны красноармейцам, вызванным из резерва 3-й Красной армии.
На этих людей и выпала охрана в первые дни привезенных в дом рано утром 30 апреля бывшего Государя Императора, Государыни Императрицы и Великой княжны Марии Николаевны. Люди охраны менялись из резерва каждый день, а потому установить, кто именно за эти первые дни перебывал в охране, не удалось. По-видимому, еще 30 апреля главари заговора смотрели на временное поселение Царской Семьи в Ипатьевском доме как на очень кратковременное, и только после обмена сведениями с комиссаром Яковлевым, доставившим бывшего Царя из Тобольска, выяснилось, что это пребывание может затянуться, что и вызвало новые мероприятия по организации более надежной и ответственной специальной охраны для дома особого назначения.
Из всех заводов и фабрик, окружавших Екатеринбург, по свидетельству самих рабочих и их семей, наиболее большевистскими считались Сысертский завод, расположенный вне города, и Злоказовская фабрика – в самом городе. 9 мая на Сысертский завод в помещение местного совдепа прибыл по поручению Исаака Голощекина «комиссар-оратор 1-й боевой Уральской дружины» Сергей Витальевич Мрачковский и приказал собрать рабочих на митинг. Комиссар Мрачковский был хорошо известен многим из рабочих Сысертского завода, так как еще в феврале месяце значительное число их ходило под его начальством воевать на Дутовский фронт. В числе последних рабочих был и Павел Спиридонович Медведев, сошедшийся за время похода с Мрачковским. На митинге в патетической, льстившей рабочим речи, Мрачковский объявил о перевозе советскими властями бывшего Царя и его Семьи в Екатеринбург и о решении власти предоставить их охрану самим рабочим. Поэтому в заключении своей речи он предложил рабочим записываться добровольцами в команду охраны и сообщил, что жалование будут платить 400 рублей в месяц. Последнее особенно прельстило многих, почему тут же началась запись добровольцев. Прием записи Мрачковский поручил вести Павлу Медведеву, а сам тщательно проверял благонадежность, с его точки зрения, желавших попасть в охрану и принимал далеко не всех. Из примера, уже приведенного выше, касавшегося Михаила Летемина, можно судить, чем руководствовался Мрачковский, определяя «благонадежность» рабочих для охраны несчастной Царской Семьи, попавшей в лапы зверей.
Всего Мрачковским в этот раз было принято с Сысертского завода следующие 33 рабочих:
Медведев Павел Спиридонович
Проскуряков Филипп Полуэктович
Талапов Иван Семенович
Летемин Михаил Иванович
Луговой Виктор Константинович
Сафонов (Файка) Вениамин Яковлевич
Никифоров Алексей Никитич
Столов Егор Алексеевич
Котегов Иван Павлович
Дроздов Егор Алексеевич
Емельянов Федор Васильевич
Вяткин Степан Григорьевич
Беломойнов Семен Николаевич
Котегов Александр Алексеевич
Алексеев Александр Кронидович
Подкорытов Николай Иванович
Шевелев Семен Степанович
Садчиков Николай Степанович
Турыгин Семен Михайлович
Семенов Василий Егорович
Стрекотин Александр Андреевич
Стрекотин Андрей Андреевич
Котов Михаил Павлович
Русаков Николай Михайлович
Теткин Роман Иванович
Старков Иван Андреевич
Старков Андрей Алексеевич
Орлов Александр Григорьевич
Чуркин Алексей Иванович
Попов Николай Иванович
Кесарев Григорий Александрович
Добрынин Константин Степанович
Зайцев Николай Степанович
Из этого числа рабочие Медведев, Летемин, Сафонов, Котегов Иван, Вяткин, Беломойнов, Шевелев, Стрекотин Андрей, Котов, Старков Иван и Добрынин состояли членами партии коммунистов.
19 мая Мрачковский привез сформированный из Сысертских рабочих отряд в Екатеринбург и поселил его сначала в новом гостином дворе, где размещались красноармейцы резерва 3-й армии. Здесь Павел Медведев был назначен начальником этой команды, получившей название охранного отряда дома особого назначения, а Семенов и Добрынин – разводящими, но так как Семенов вскоре уволился, то на его место разводящим был назначен Иван Старков. Из всей команды только Иван Старков и Добрынин были в прежнее время солдатами, все же остальные военной службы не несли, так как, трудясь на заводе, который во время войны работал на оборону, были освобождены от службы в войсках. Следовательно, тягостей походной службы никто из них не испытывал и утомления от четырехлетней войны чувствовать не мог.
22 мая, накануне привоза в Екатеринбург из Тобольска наследника Цесаревича и Великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии Николаевен, команду перевели в дом Ипатьева и поселили здесь в комнатах нижнего этажа дома. С 24 мая команда начала нести внутреннюю и внешнюю охрану дома. Постов было всего 11: два внутренних, три пулеметных и шесть наружных. Внутренние посты: один на парадном ходе у комнаты коменданта, а другой на площадке внутренних сеней, куда выходили двери из уборной и из ванной и откуда шла лестница в нижний этаж дома. Пулеметные посты: один на террасе, выходящей в садик из столовой, другой – в окне чердака и третий – на окне средней комнаты нижнего этажа. Наружные посты: один у ворот, близ парадного крыльца; второй – на углу, образовывавшемся фасами заборов по Вознесенскому проспекту и Вознесенскому переулку; третий – между заборами, загораживавшими весь дом, под окнами комнаты Царя и Царицы; четвертый – на переднем дворе у дверей, выходивших из дома; пятый – на заднем дворе, у калитки выхода из садика; шестой – в саду. Часовые стояли на постах по 4 часа в смену, а разводящие дежурили по неделям. Поверку охраны производили приезжавшие часто в дом Исаак Голощекин, Белобородов и Дидковский. Эти господа проходили во внутренние комнаты, занимавшиеся Царской Семьей, без предупреждения, причем не снимали ни шапок, ни галош, ни пальто, и, не разговаривая ни с кем из заключенных, молча заходили во все решительно комнаты.
Первоначально комендантом дома особого назначения был назначен Александр Дмитриевич Авдеев, машинист с фабрики Злоказова, уроженец Осинского уезда Пермской губернии. До поступления на фабрику Злоказова он служил на приисках в районе Челябинска. Это был обыкновенный тип испорченного фабричного рабочего, побывавший и в Петрограде, где четыре раза сидел в Крестах за пьяные дебоши и хулиганство; он хвастался тем, что ни перед чем не останавливался в своей жизни и всех, кто ему мешал, убирал со своего пути. Был он всегда пьян или сильно навеселе. Лет ему было 35–40, блондин, с маленькими усами и бритой бородой; одевался в рубаху защитного цвета, шаровары, высокие сапоги и носил через плечо казачью шашку.
Авдеев в доме не жил; он приходил ежедневно часов в 9 утра и уходил часов в 9 вечера. Постоянно в доме в комнате коменданта жил помощник Авдеева, тоже рабочий Злоказовской фабрики Александр Мошкин. Вся характеристика этого человека исчерпывается аттестацией его же товарищей по фабрике и подчиненных по охране: «пьянчуга, воришка, самый последний рабочий». Авдеева он боялся и в его присутствии вел себя сдержанно, не позволяя себе шуметь и сильно пить. Но когда вечером Авдеев уходил, Мошкин собирал в комендантскую комнату своих приятелей из охраны, в том числе и Медведева, и тут у них начинались попойка, пьяный галдеж и пьяные песни, продолжавшиеся до глубокой ночи. Орали обыкновенно на все голоса модные революционные песни: «Вы жертвою пали в борьбе роковой» или «Отречемся от старого мира, отрясем его прах с наших ног» и т. п. Однако во внутренние комнаты, где жила Царская Семья, Мошкин боялся ходить, как ни бывал пьян и других охранников туда не пускал.
Так продежурили сысертские охранники четыре – пять дней, но затем по непривычке к военной службе заявили, что наряды тяжелы, и потребовали увеличить состав команды. Тогда 30 мая по приказанию Исаака Голощекина Авдеев пошел на Злоказовскую фабрику и привел набранную там дополнительную команду под общим начальством Анатолия Александровича Якимова, рабочего той же фабрики. Всего на этот раз с Якимовым пришло 29 человек, а именно:
Соловьев Александр
Гоншкевич Василий
Пермяков Иван
Шулин Иван
Петров Василий
Петров Авксентий
Сидоров Алексей
Логинов Василий
Логинов Иван
Смородяков Михаил
Путилов Николай
Корзухин Александр
Лесников Григорий
Клещеев Иван
Устинов Александр
Смородяков Александр
Варакушев Александр
Хохряков Степан
Прохоров Александр
Дерябин Никита
Лабышев
Фомин
Дмитриев Семен
Скороходов
Пелегов Василий
Бруслянин Леонид
Осокин Александр
Романов Иван
Вяткин Павел
Эти люди были распределены так: первые десять из приведенного списка, бывшие закадычными друзьями Мошкина, были поселены в комнатах нижнего этажа дома Ипатьева и назначены для несения службы исключительно на внутренних постах, а всех остальных присоединили к сысертским рабочим и всю эту компанию убрали из нижнего этажа дома Ипатьева и перевели на жительство в реквизированное помещение дома Попова, напротив Ипатьевского дома по Вознесенскому переулку. Все охранники, поселенные в доме Попова, впредь несли службу только на постах внешней охраны и при пулеметах. Начальником всей объединенной команды все же остался Павел Медведев, а Анатолий Якимов стал третьим разводящим в команде.
Кроме перечисленных людей, в доме Ипатьева помещался еще какой-то военнопленный австриец Адольф, прислуживавший в комендантской комнате, ставивший Авдееву и Мошкину самовары и исполнявший всякие мелкие поручения. Этот Адольф оставался прислуживающим и позже, при Янкеле Юровском и Никулине. Кто он был и куда делся после убийства – неизвестно. Затем при доме состоял легковой автомобиль в распоряжении коменданта, шофером на котором был рабочий также Злоказовской фабрики Люханов. Этот Люханов был тем самым шофером, который сменил у Американской гостиницы на грузовике советского шофера из гаража и который отвозил на этом грузовике тела убитых в район Ганиной ямы.
Наконец, по документам, при доме особого назначения числился «заведывающий хозяйством дома особого назначения», каковую должность занимал какой-то Михаил Чащин, но никто из охранников, прошедших через следственное производство, в том числе и сам Медведев, никогда о нем не слышали и не подозревали о существовании ни такой должности, ни такого лица. Кто он был и какова его роль – неизвестно.
В указанном составе охрана Царской Семьи из сысертских и злоказовских рабочих несла свою службу с 30 мая по 4 июля, т. е. пять недель. Все допрашивавшиеся свидетельствуют в один голос, что, безусловно, за время своей охраны эти рабочие не позволили себе никаких хулиганских или грубых шагов по отношению к кому бы то ни было из членов Царской Семьи. Рабочие высказывали своим родным и знакомым свое удивление по поводу простого обхождения с ними со стороны бывшего Царя, который неоднократно во время прогулок в садике заговаривал с ними, расспрашивая о прежнем житье-бытье, о семейных делах, и большинство рабочих не чуждались этих разговоров. Не подлежит сомнению, что если рабочие шли в охрану с известным предубеждением против бывшего Царя и его Семьи, то, придя в более близкое соприкосновение с ними и наблюдая за их жизнью, они отказывались от этого предубеждения, и отношения их заметно изменялись в благоприятную для Царской Семьи сторону. Так, известно, что Авдеев и Мошкин, разрешив приносить Царской Семье со стороны молоко, яйца, масло и прочие продукты, потом не ограничились только этим, а стали передавать приносившим пищевые продукты женщинам поручения, исходившие от бывшего Государя и членов Его Семьи: принести ему табаку, принести ниток и т. п.
Наиболее «сознательный» из рабочих охраны, Павел Медведев, держал себя обособленно и не разговаривал ни с кем из Царской Семьи. Уйдя к нам от красных, он скрывался в Перми, служа санитаром в нашем 139-м госпитале. Однажды в его присутствии служащие госпиталя читали газету, в которой описывались условия содержания Царской Семьи в Ипатьевском доме. Когда все ушли и осталась одна сестра милосердия, Медведев не сдержался и сказал ей: «Это неправда, сестра, что пишут в газете, – я очевидец, конвойным был тут, – что плохо их кормили и дурно обращались, это неправда, отношения к ним (т. е. к Царской Семье. – Авт.) охраны были хорошие, кормили их хорошо – подавали суп и маленькие котлеты, а также четверть молока на день». А на допросе Сергеевым Медведев между прочим говорит: «Вопросом о том, кто распоряжался судьбой Царской Семьи и имел ли на то право, я не интересовался, я исполнял лишь приказания тех, кому служил… Повторяю, что непосредственного участия в расстреле я не принимал». Жена Павла Медведева жаловалась на мужа: «За последнее время он стал непослушным, никого не признавал и как будто свою семью перестал жалеть». Нельзя не согласиться с заключением Марии Медведевой: Павел «никого не признавал». Он не признавал в это время и Царя, да странно было бы иначе: он «сознательный», следовательно, шедший по путям социального развития, под влиянием руководивших его мыслями и взглядами классов и кругов общества, а не духовного, и ушел от духовной идеологии своего народа, порвал с ним, как порвал и со своей семьей: «семью перестал жалеть». Для него, к этому периоду его мировоззрения, Царь мог быть только правителем. Руководившие же им говорили ему: «Царь никуда не годится, он только душит и расстреливает народ», – и свергли его. Что же осталось в понятиях Медведева о бывшем царе? Он стал человеком, как всякий другой, и, как со всяким другим, «начальство» может сделать, что ему угодно, с ним, с этим человеком.
Медведев, вероятно, не интересовался и тем, что у него стало за «начальство»; когда оно перестало ему нравиться, он ушел от него, потому что «стал непослушным». До революции в нем был убит критерий духа; после революции новое «начальство» поколебало в нем и критерий материи: кормили хорошо, давали «суп, маленькие котлетки и четверть молока» – по одному с четвертью стакана молока в сутки на каждого из заключенных. Поэтому и суждение Медведева о хорошем отношении команды к Царской Семье должно приниматься с ограничительными условиями: «команда не позволяла себе ничего худого». Она состояла из тех же людей, что и Медведев, с той разницей, что в менее «сознательных» рабочих, чем Медведев, руководившие ими до революции и развращавшие после нее не успели убить в них окончательно, как в Медведеве, дух русского человека. Для большинства из них бывший Царь так и оставался бывшим Царем, и как между собою они ни старались убедить друг друга, что он такой же человек, как и каждый из них, ни один в глаза, в присутствии его, не позволил себе какой-нибудь непристойности и только за глаза старались делаться большими атеистами и убеждали себя и других в этом площадной литературой на стенах дома и своих комнат.
Эволюционирование настроения и отношений массы рабочих-охранников в пользу Царской Семьи, видимо, наконец, вызвало опасение среди главарей советской власти и, предвидя скорую развязку событий, понудило их принять срочные, исключительные меры.
4 июля комендант Авдеев был отстранен от должности, его помощник Мошкин арестован, все злоказовские рабочие, содержавшие внутреннюю охрану, уволены из состава команды. Мошкину и рабочим было предъявлено обвинение в краже у Царской Семьи какого-то золотого крестика, и об этом их поведении было даже сообщено фабричному комитету. Интересно, что по поводу этой выдуманной советскими главарями кражи состоялось экстренное собрание рабочих Злоказовской фабрики, которое вынесло постановление, что проворовавшиеся рабочие «могут искупить свою вину только кровавыми ранами». Их всех отправили на фронт, но вскоре они разбежались, и многие спокойно вернулись к себе на фабрику.
Вместо Авдеева комендантом дома особого назначения был назначен член президиума и председатель чрезвычайной следственной комиссии Янкель Юровский, который на должность своего помощника взял из состава той же комиссии Никулина и 10 палачей для внутренней охраны дома, которых остальные охранники называли «латышами». Цифра 10 – не вполне определенна. Проскуряков говорит: «приблизительно 10»; Медведев выражается: «было их человек 10», а Якимов, дающий наиболее подробные и верные цифры подсчетов, говорит, что в расстреле участвовали «пять латышей и пять русских из внутренней охраны, в том числе и Никулин». Происходит эта неточность потому, что свидетели более запомнили число людей, участвовавших в расстреле. А так как этих палачей видели все мало, ибо Янкель Юровский не пускал охранников в дом, а прибывших перед расстрелом Петра Ермакова и Александра Костоусова никто из охранников не знал, то точной цифры приведенных Янкелем Юровским с собой из чрезвычайки палачей никто определить не мог. Кажется, более точно, их было всего 7–8 человек, из коих 5 было нерусских и 2 или 3 русских. Из русских палачей известна фамилия только одного – Кабанов. Однажды Кабанов дежурил на посту внутренней площадки; проходивший мимо Государь Император, обладавший богатейшей памятью на лица, всмотревшись в Кабанова, остановился и сказал ему: «Я вас узнаю, вы служили в моем Конном полку». Кабанов ответил утвердительно. Рассказывал об этом эпизоде сам Кабанов Якимову, откуда последний и знал его фамилию.
Из пяти палачей нерусских известны фамилии трех: латыш Лякс, мадьяр Вархат и Рудольф Лашер. Называли еще фамилию латыша Берзина, но утверждать, что таковой был в составе внутренней охраны – нельзя. Все они по-русски не говорили. Между ними был один, по-видимому еврей, который служил как бы переводчиком между Янкелем Юровским и остальными, но фамилия его осталась также невыясненной.
Со времени вступления в должность Янкеля Юровского русские охранники Сысертского завода и Злоказовской фабрики, жившие в доме Попова, несли службу только на наружных постах и у пулеметов. В дом, т. е. в верхний этаж, где помещалась Царская Семья, кроме Павла Медведева, никого из остальных охранников больше не пускали. Сам Янкель Юровский, так же как и Авдеев, не ночевал в комендантской комнате, а приходил в дом часов в 8–9 утра и уходил вечером. Никулин же жил в доме постоянно, и к нему по вечерам часто приходила делопроизводитель чрезвычайной следственной комиссии Евдокия Максимовна Бахарева. В комендантской комнате стояло пианино, и Никулин по вечерам музицировал и пел, повторяя преимущественно тот же репертуар, в котором отличалась и мошкинская компания. Днем же они вместе с Янкелем Юровским пьянствовали и тоже горланили пьяные песни.
Вообще, по свидетельству охранников, при Янкеле Юровском положение Царской Семьи страшно ухудшилось. Доставка разнообразных продуктов была запрещена, Янкель разрешил приносить только четверть молока. Лазил он во внутренние комнаты Царской Семьи беспрестанно и для наблюдения держал все двери открытыми. Про отношения палачей сказать что-либо определенно нельзя; есть данные, что за эти последние двенадцать дней их жизни Царской Семье пришлось много натерпеться от этих полулюдей, полузверей, что, вероятно, и отразилось на их настроении и внешней подавленности, которые были замечены диаконом Буймировым, когда он 14 июля с отцом Сторожевым служили последнюю обедницу несчастным Августейшим Узникам.
* * *
Кроме перечисленных выше лиц постоянной охраны, в доме Ипатьева из советских деятелей бывали довольно часто, как уже указывалось, Исаак Голощекин, Белобородов и Дидковский. Один раз за все время Августейших Заключенных посетил, с поверочной комиссией, командующий 3-й армией Берзин, но больше, по-видимому, никого из советских деятелей в Ипатьевский дом не допускали.
Тем более совершенно непонятным исключением является факт посещения Царской Семьи доктором Деревенько. Как было сказано уже выше, ему одному из всех придворных оказалось возможным остаться в городе, где он поселился на частной квартире и обзавелся обширной практикой исключительно в среде еврейского населения города. В начале, при Авдееве, доктор Деревенько посещал Ипатьевский дом довольно часто; он же сговорился с этим комендантом и относительно приноса Царской Семье продуктов со стороны. Но как-то среди обывателей города, у которых Деревенько бывал, ни в коем случае не принадлежавших к сторонникам большевиков, сохранилось очень мало воспоминаний о рассказах Деревенько про его свидания в этот исключительный период жизни Царской Семьи с Ипатьевскими узниками. Так, общие фразы, ничего не определяющие.
После назначения комендантом Янкеля Юровского, числа 5–8 июля, он пригласил в дом доктора Деревенько, и после этого свидания доктор прекратил совершенно посещать Царскую Семью. Причины этого сам Деревенько объяснил интересовавшимся знакомым так: когда он, по указанному приглашению, прибыл в дом, Янкель Юровский повел его будто бы к наследнику Цесаревичу, лежавшему с больной ногой, и спросил заключение Деревенько о состоянии болезни Его Высочества. Деревенько ответил, что он признает состояние ноги наследника Цесаревича очень серьезным, которое ни в коем случае не может позволить ему ходить. Тогда будто бы Янкель Юровский взял сам ногу Наследника, стал ее грубо ощупывать и мять и утверждал, что она совершенно здорова. Такое грубое медицинское обращение Янкеля Юровского с мучившимся наследником Цесаревичем настолько якобы возмутило Деревенько как врача, что он решил больше совершенно не ходить в дом Ипатьева.
Известно только, что вскоре после этого случая доктор Деревенько поступил на службу советской власти в местный военный лазарет, а ныне остался среди большевиков в городе Томске. Допросить этого важного свидетеля следствию не удалось, так как не было известно, куда он уехал из Екатеринбурга, а потому от каких-либо заключений об этой личности приходится воздержаться.
Руководители
Во главе управления областью стоял Уральский областной совет рабочих, крестьянских и армейских депутатов, возглавлявшийся президиумом, с председателем рабочим Белобородовым, и исполнительным комитетом этого совета под председательством еврея Чуцкаева.
Белобородов – рабочий, 30–40 лет, с Лысвенского завода. Перед этим он работал на Надеждинском заводе, где в 1906 году вместе с Исааком Голощекиным был участником какого-то политического движения, закончившегося, однако, по-видимому, для Белобородова без особых последствий. Производил он впечатление человека необразованного, даже малограмотного, но был самолюбив и очень большого о себе мнения. Жестокий, крикливый, он выдвинулся в определенной среде рабочих еще при керенщине, в период пресловутой работы политических партий по «углублению революции». Среди слепой массы рабочих он пользовался большой популярностью, и ловкие, хитрые и умные евреи Голощекин, Сафаров и Войков умело пользовались этой его популярностью, льстя его грубому самолюбию и выдвигая его постоянно и всюду вперед. Он был типичный большевик из среды русского пролетариата, не столько по идее, сколько по форме проявления большевизма в грубых, зверских насилиях, не понимавшая предела натура, некультурное и недуховное существо.
Среднего роста, худощавый телом, но с лицом скорее полным, смуглым, светло-русые волосы, расчесанные косым пробором, без усов и бороды, светло-карие глаза, прямой, но толстый нос – таков был внешний облик этого революцией выброшенного на верхи человека, орудия в руках истинных заправил советской власти – евреев.
Один из крупных большевистских деятелей Антон Валек, встретясь с Белобородовым после убийства Царской Семьи в Перми, поинтересовался у него о судьбе Семьи бывшего Императора. «Всех прикончили», – ответил Белобородов крайне неохотно и, видимо, отмахиваясь от подобной темы разговора. А на вопрос, принимал ли он сам участие в убийстве, Белобородов сказал, что он в это время спал.
Это была ложь: свидетели-охранники удостоверяют, что Белобородов присутствовал при убийстве Царской Семьи и приехал в Ипатьевский дом 16 июля около 2 часов ночи вместе с Исааком Голощекиным, Петром Ермаковым и Александром Костоусовым. Он же участвовал и в грабеже царских вещей 17 июля и в грабеже вещей, принадлежавших генералам Татищеву, Долгорукову, фрейлине Гендриковой и Е. А. Шнейдер, в помещении Волжско-Камского банка.
Чуцкаев – еврей; откуда родом, каково его прошлое – неизвестно. Женат он тоже на еврейке, урожденной Поляковой. Человек характера типичного конспиратора; пользовался большим влиянием; участвовал во всех секретных заседаниях по Царскому делу, но сам активным деятелем не выступил. Были некоторые данные, указывавшие, что он будто тоже был замешан вместе с Исааком Голощекиным и Белобородовым в политическом движении 1906 года, откуда будто бы и создалась связь между этими тремя мрачными личностями. Однако положительных сведений о Чуцкаеве, ко времени оставления нами Екатеринбурга, собрать не удалось.
В президиум областного совета входили: евреи – Голощекин, Сафаров, Войков, Хотимский, Чуцкаев, Краснов, Поляков, Юровский, Сыромолотов (кажется, еврей); латыш – Тупетул или Тундул; русские – Сакович, Анучин, Уфимцев и неизвестной национальности – Дидковский.
Голощекин Исаак – еврей; его партийная кличка была Филипп. Ему было около 40 лет, роста – выше среднего, коренастый, полный, с порядочным животом – «брюхатый», как определяют его свидетели; волосы русые, с рыжеватым отливом, вьющиеся, расчесанные косым рядом, глаза темные, нос длинный, тонкий, усы очень маленькие, подстриженные, борода бритая, оставлявшая синеву на щеках; лоб большой, открытый. Он имел привычку все время ходить, и говорил, что эту привычку приобрел в тюрьме. В 1906 году он, кажется, был зубным техником на Надеждинском заводе; участвовал с Белобородовым в политическом движении, был судим и сослан в Сибирь.
Исаак Голощекин имел влияние и в Москве; там он был близок с Янкелем Свердловым и с Нахамкесом-Стекловым, а в Петрограде – с Герш Радомысльским-Апфельбаумом-Зиновьевым.
В Екатеринбурге Исаак Голощекин занимал должность областного военного комиссара и имел в своем непосредственном распоряжении отряд, носивший название особого отряда при Уральском военном комиссариате. Когда организовывалась перевозка Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург, то для сопровождения ее в распоряжение комиссара Родионова был выделен из указанного, Исаака Голощекина, отряда особый Екатеринбургский отряд под непосредственной командой какого-то Шиндера (а может быть, и Шнейдера; он подписывался очень неясно. Но так как он же состоял и начальником отряда палачей при чрезвычайке, то в Американской гостинице его знали и называли Шиндер).
Вот поименный состав этого Екатеринбургского отряда, который до известной степени дает основание судить, что в действительности представляли собою силы советских Исааков Голощекиных, при помощи коих они и ему подобные главари советской власти вершили судьбу русского народа:
1-й взвод
Зен
Кокоруш
Дрерве
Неброчник
Иковыек
Виксна
Гравит
Страздан
Таркун
Пурин
Освейчик
Прус
Аленкуц
Бранд
Гредзен
Лепин
Эгель
Герунас
Озолин
2-й взвод
Плуме
Грике
Транучкис
Бильскам
Цекулит
Макон
Якубовский
Альшкин
Баранов
Рольман
Крайнов
Оявер
Киршянский
Фруль
Блуме
Мельне
Яунзем
Тиман
Дзиркал
Карсак
Ларищев
Штернберг
Гинтар
3-й взвод
Дубульд
Аунин
Берзин
Сирсник
Табак
Штеллер
Есалнек
Сея
Рейнгольд
Байлик
Гарц
Зиферт
Таркянин
Пулем. команда
Гусоченко
Орлов
Берзин
Зильберт
Цалищ
Табак
Перланцек
Лицит
Гаусман
Диев
Задин
Лигбард
Пумпур
Гейде
Волков
Кейре
Ближайшими сотрудниками Исаака Голощекина по задуманному убийству всей Царской Семьи, кроме, конечно, Янкеля Юровского, были окружной военный комиссар и член президиума Сергей Андреевич Анучин и Верх-Исетский военный комиссар Петр Захарович Ермаков.
Анучин Сергей Андреевич в мирное время был прапорщиком запаса. При мобилизации в 1914 году был призван на военную службу и назначен младшим офицером в 108-й пехотный запасной батальон, квартировавший в Екатеринбурге. В течение всей германской войны Анучин, пользуясь разными средствами и путями, уклонялся от посылки на фронт просто из-за трусости; однако угождениями начальству попал в конце концов в адъютанты этого полка, развернувшегося из первоначального батальона. Презрение и озлобление солдат против Анучина за трусость его были настолько велики, что когда уже при Керенском власть в частях перешла к солдатским комитетам, то одним из первых постановлений комитета этого полка было отправить Анучина под конвоем на фронт. Но в это время на фронте уже не воевали, а политиканствовали. Анучин очень скоро попадает в председатели дивизионного комитета; так же быстро продвигается дальше вверх по тогдашней особенной иерархической лестнице, и Брестский мир застает его уже на должности командующего 3-й армией. Оттуда все же он постарался уйти, вернулся в Екатеринбург и здесь устроился окружным военным комиссаром.
Ермаков Петр Захарович – личность несравненно сильнее Анучина и такая русская отрицательная сила, которая именно только и нужна была Исааку Голощекину. Поэтому непосредственного участия Анучина в убийстве Царской Семьи не видно, исключая присутствие в совещаниях президиума; имя же Петра Ермакова Исааком Голощекиным выдвинуто определенно и преднамеренно, а в акте самого убийства и в сокрытии следов убийства Ермаков является уже левой рукой Исаака Голощекина вместо Белобородова – другого проявившего себя в этом преступлении русского деятеля (правой же рукой все-таки все время остается Янкель Юровский).
Ермаков – коренной житель Верх-Исетского завода – этого центра большевистского пролетариата Екатеринбургского района; через него Исаак Голощекин располагает силой всей распущенной части заводской черни, готовой всегда на любое злодеяние, на гнуснейшее преступление, особенно если можно безнаказанно и без опасности поживиться чужим добром. Мальчиком Ермаков был писарем в заводской конторе. 1905 год выводит его на арену «политического» деятеля, что он проявляет сообразно своей совершенно испорченной натуре – выходит на большие дороги и начинает грабить, резать, душить, с хладнокровием и зверством, которые впоследствии поражали даже истых советских деятелей, не останавливавшихся ни перед чем. Этой деятельностью Ермаков составляет себе крупное состояние, но в 1911 году попадается, и Февральская революция застает его на каторге.
Амнистии, дарованные Керенским, освобождают Ермакова от каторги, а дальше он уже самостоятельно покидает место ссылки и возвращается к себе на Верх-Исетский завод. Здесь он вступает в ряды в то время еще тайных агентов будущей советской власти, куда-то часто уезжает, получает откуда-то крупные деньги и усиленно занимается скупкой оружия. Быть может, именно в этот период возникают его дружеские отношения с Исааком Голощекиным; по крайней мере, когда после Октябрьского переворота и обоснования советской власти в Екатеринбурге Исаак Голощекин занял пост областного военного комиссара, он сейчас же провел в военные комиссары Верх-Исетска Петра Ермакова.
Ермаков выявил свою деятельность рядом невероятных зверств над своими же поселковыми и заводскими жителями. Он окружил себя подобными себе убийцами по натуре и стал грозой для всех окрестных жителей Верх-Исетского завода. Худой, с застывшим лицом, мертвыми, висевшими прямыми длинными нитями волосами как бы плохого парика, он был, как говорили несчастные обитатели окрестных хуторов и заимок, «сама смерть».
Правой рукой Ермакова состоял бывший кронштадтский матрос Степан Ваганов – такой же зверь, грабитель и хулиган, как и сам Ермаков. При них состоял как бы штаб из ближайших друзей Ермакова и из тех же подонков Верх-Исетского завода, откуда вышли и сами главари. Штаб этот составляли:
Болотов Александр
Леватных Василий
Костоусов Александр
и Грудин Алексей
Для приведения в исполнение своих мероприятий Ермаков образовал свою конную дружину под начальством Александра Рыбникова.
Когда Исаак Голощекин и Янкель Юровский разрабатывали план убийства Царской Семьи, Ермаков был привлечен ими в число ближайших непосредственных участников. Ермаков же, видимо, указал им на район Ганиной ямы как место глухое и удобное для легкого сокрытия тел. Знал же он то место потому, что Ганина яма входила в сенокосный участок его приятеля и ближайшего сотрудника Александра Болотова. Поэтому Исаак Голощекин воспользовался и конной дружиной Ермакова для работ по сокрытию тел, а людей своего отряда использовал для внешней охраны всего района.
Конную дружину Ермакова, кроме перечисленных выше его ближайших сотрудников, составляли следующие жители Верх-Исетского завода:
Скорынин Егор
Шадрин Михаил
Ярославцев Петр
Курилов Василий
Курилов Михаил
Пузанов Петр
Пузаков Сергей
Казанцев Николай
Сорокин Михаил
Перин Илья
Десятов Григорий
Просвирнин Иван
Ваганов Виктор
Шалин Егор
Третьяков Поликарп
Медведев Александр
Заушицин Иван
Орешкин Капитон
Гускин
Камаев
Кроме всех перечисленных отрядов и лиц сотрудничество с Исааком Голощекиным в деле убийства Царской Семьи принимала непосредственно ему подчиненная Екатеринбургская чрезвычайная следственная комиссия. Председателем ее считался официально Федор Николаевич Лукоянов, но в тех случаях, когда на заседаниях присутствовал Янкель Юровский, председательствование принимал последний, а Лукоянов занимал место члена комиссии. Комиссию составляли товарищ председателя Сахаров Валентин Аркадьевич и члены Горин, Родзинский, Кайгородов. Казначей Никулин Прокопий Александрович, он же был и помощником коменданта дома Ипатьева. Секретарь Яворский. Делопроизводитель Бахарева Евдокия Максимовна, урожденная Сивелева. Начальник отряда палачей – Шиндер.
Чрезвычайная комиссия занимала помещение Американской гостиницы, где жил и весь ее личный состав и где имели также постоянные комнаты Исаак Голощекин и Янкель Юровский, хотя и не жили там. Лукоянов, Горин и Родзинский были студентами из Перми, а Кайгородов – рабочий Мотовилихинского завода под Пермью. Откуда происходил Никулин и каково его прошлое – неизвестно; известно только, что он сильно зверствовал и расстреливал вместе с Бахаревой в Камышове, за что и получил кличку Пулеметчика.
Сахаров Валентин Аркадьевич был уроженец Перми, где его отец служил в лесопромышленных предприятиях. Когда Валентин был в 4-м классе реального училища, отец его умер. Валентин бросил училище и устроился на службу писцом в железнодорожном депо. Тут он учинил подлоги и мошенничество и был смещен на должность табельщика, но намошенничал и здесь и был вовсе уволен от службы. По слезным просьбам матери Валентина устроили поденно – рабочим при ремонте паровозов. К 1915 году Сахаров поступил на службу на Невьянский снарядный завод, но не удержался и на этом месте и несколько раз переходил с одного завода на другой, уклоняясь этим от военной службы. Все время старался он держаться ближе к городу, проводя время больше по различным притонам, чем работая на местах. С воцарением большевиков он записался в их ряды, ходил с комиссаром Мрачковским на Дутовский фронт, но особенно отличился в тылу зверскими расстрелами интеллигентов и буржуев в Кушве, Тагиле и Бисерте. Ему было лет 25–26, высокого роста, худощавый, болезненного вида, блондин, без усов и бороды. В общем – характерный продукт, воспитавшийся в среде городских подонков.
Сахаров, как товарищ председатель чрезвычайной следственной комиссии, участвовал в секретном заседании в Американской гостинице, обсуждавшем план убийства Царской Семьи. Он подтверждал, что убийство было совершено именно так, как обрисовывалось из рассказов Михаила Летемина, Павла Медведева, Анатолия Якимова и Филиппа Проскурякова. Сахаров носил в Перми на пальце золотое кольцо с бирюзой и говорил, что это кольцо Великой княжны Анастасии Николаевны, но при каких обстоятельствах и когда оно попало к нему, выяснить не удалось.
Таковы были сведения, собранные исследованием о главном руководителе преступления в Екатеринбурге, Исааке Голощекине, и о тех людях и организациях, которыми он воспользовался для проведения в исполнение как самого убийства, так и мероприятий по сокрытию убийства и тел своих жертв. При последующих работах эти сведения в отношении некоторых лиц и организаций дополнялись новыми данными, что и будет отмечаться в дальнейшем изложении материалов, поступивших позже в следственное производство. К сожалению, недостаток источников, литературы и сведущих лиц в районе, где протекали работы по исследованию события, не дали возможности осветить фигуры московских вдохновителей убийства Царской Семьи, но деятельность их настолько известна всей России, что едва ли установление прошлого этих настоящих властелинов царства пятиконечной звезды может внести благоприятные элементы для суждения об их нравственных и моральных принципах.
В заключение об Исааке Голощекине нельзя не отметить, что хотя 3-я армия, оперировавшая в районе Екатеринбурга, подчинялась не ему, а главнокомандующему Каменеву, но, как областной военный комиссар, Исаак Голощекин не мог не иметь с ней близких отношений. Выше был приведен состав особого отряда военного комиссариата, при посредстве которого советские власти поддерживали свое «народное» представительство в вопросах борьбы с внутренней крамолой. Перечисление высшего командного состава 3-й армии дает представление о том, кем пользовалась советская власть для отстаивания того же представительства в вопросах внешней борьбы.
Во главе армии стоял латыш Берзин.
Его помощником был еврей Белицкий (псевдоним).
Член военного совета армии – латыш Смигло.
Уполномоченный член высшего военного совета при армии – еврей Лашевич, который замещал Берзина при отъездах последнего из района армии.
* * *
Теперь о других членах президиума областного совета.
Сафаров, еврей, лет 27–30, среднего роста, тощий, лицо маленькое, веснушчатое. Родом он был из Киева, где, кажется, у его отца на Фундуклеевской улице был собственный дом. Как и многие из сынов горестного для России племени, уклоняясь от выполнения перед своей родиной гражданского долга – воинской повинности, Сафаров вовремя был отправлен родителями в Швейцарию, где и получил свое образование. Там же он вступил в компанию Бронштейна, Апфельбаума, Нахамкеса и прочих специфических деятелей ленинской группы большевиков и пользовался среди них большим значением и влиянием. В Россию Сафаров прибыл в запломбированном вагоне в числе 30 главарей советской власти, которых германцы наняли и привезли для проведения своего гнусного политического замысла легкомысленных генералов и еврействующих банкиров.
Сафаров, иногда ставивший на своих подписях перед фамилией букву Г., как начальную его неизвестного имени, занимал в Екатеринбурге должность товарища председателя президиума областного совета, т. е. товарища Белобородова. Видимо, он и был душой, мыслью и вдохновителем советских мероприятий в Екатеринбурге, искусно прикрываясь всегда именем председателя из русских рабочих и выдвигая его, как официальную главу власти, ответственным за все творившееся президиумом в области политики, развала и зверства, каковыми ознаменовалась деятельность власти в период лета 1918 года на Урале. С другой стороны, несомненно, что в рядах советской власти на Урале он являлся представителем и проводником идей той центральной, специфической группы большевистских главарей, которая работала в Москве, прикрываясь именем Ленина и якобы демократическими лозунгами для укрепления исключительно своей деспотической, самодержавной и. антихристианской власти.
Он имел право непосредственных сношений с главарями власти в Москве, и можно думать, что Белобородов иногда и не знал о распоряжениях, исходивших от имени президиума даже за его, Белобородова, подписью, а потом представлявшихся ему в тех окраске и толковании, какие были будто бы желательны пролетарской массе как акты и деяния, необходимые с точки зрения демократичности советской народной власти. Так, между прочим, в документах, брошенных в телеграфной конторе, была найдена подлинная телеграмма, адресованная в Москву Янкелю Свердлову, следующего содержания: «Ваша 574. Приехавшие сюда майор Минисч и управляющий делами Елены Петровны Смирнов имеющие документы подписанные Сполайковичем нами арестованы обвинение введение заблуждение советские организации. Куда их направить. 4650. Облсовет. Белобородов». Вся эта телеграмма была писана от руки, которой воспроизведена и подпись Белобородова, но это была рука не Белобородова. Арестованные были направлены в тюрьму, где уже содержалась княгиня Елена Петровна Сербская, а затем 20 июля вместе с графиней Гендриковой и прочими заключенными переведены в Пермскую тюрьму, из которой были освобождены только 30 октября 1918 года и отправлены в Москву.
При исследовании дела об Алапаевском убийстве выясняется, что председатель Алапаевского исполкома Абрамов получил распоряжение об уничтожении содержавшихся там Великой княгини, Великого князя и князей телеграммой из Екатеринбурга за подписью Сафарова. Есть основание думать, что Белобородов не подозревал о существовании и такого распоряжения своего товарища, о чем будет говориться дальше, и только позже узнал истину об исчезновении Алапаевских узников и их действительной судьбе.
Весьма характерно обрисовывается Сафаров в его собственной статье по поводу расстрела бывшего Государя Императора, напечатанной в газете «Уральский рабочий» одновременно с официальным объявлением властей о казни. Приводить ее целиком – нет охоты: это обычный набор лжи, ругани и демагогических, фейерверочных фраз, грубых и пошлых выкриков, специально подбираемых и выбрасываемых для легкого восприятия их низменными инстинктами черни и развращенной толпы. Но в заключительных словах этой статьи, в наглой внешней форме якобы победного гимна невольно прорвался у Сафарова истинный смысл совершенного этими исчадиями еврейского народа ужасного злодеяния:
«Нет больше Николая Кровавого, и рабочие и крестьяне с полным правом могут сказать своим врагам: вы поставили ставку на императорскую корону? Она бита. Получите сдачи одну пустую коронованную голову…»
Вдохновителей и руководителей убийства Царской Семьи вел на совершение этого исключительного злодеяния вовсе не «народный приговор» – «уничтожить коронованного палача, героя расстрела 9 января 1905 года и Ленской бойни 1912 года». Это сильно бьющие, но лживые выкрики еврея Сафарова для ограниченного Белобородова, для черни. Исчадиям же еврейского народа, вдохновителям и руководителям нужно было этим убийством создать действительно какую-то пустоту, пропасть в сердце, в основе идеологии русского народа, которая могла бы обеспечить этим временным властелинам народной физической массы полную победу в будущем. Вся статья еврея Сафарова наполнена перечислением тех внутренних и внешних опасностей, которые создались в то время для советской власти; он сам указывает, что вопрос существования этой власти стал в положение «быть или не быть». И видит в возможности возрождения идеологии «Божьей Милостью» главную опасность, хотя бы она прикрывала «коронованную голову палача». В понятии изувера еврейского племени убийство им было совершено не над бывшим Российским правителем, а над религиозной идеологией русского народа, видевшего в своих правителях Царя «Божьей Милостью».
Еврей Сафаров ныне находится в Москве и играет видную роль в центральном комитете партии коммунистов.
Войков, еврей, лет 28–30; высокого роста, тощий; лицо длинное, веснушчатое, бороду и усы брил; глаза голубые, нос большой и не тонкий; уши торчащие; волосы светлые, волнистые. По-русски называл себя Петром Лазаревичем. Отец его был фельдшером на Надеждинском заводе, но сынка еще мальчишкой отправил в Женеву, где тот и получил образование. В Швейцарии, подобно еврею Сафарову, еврей Войков вошел в круг Бронштейна, Нахамкеса и прочих и с ними же прибыл в Россию в запломбированном вагоне. В Екатеринбурге еврей Войков занимал должность областного комиссара снабжения и члена президиума.
Жил еврей Войков не только богато, но прямо-таки роскошно. Занимал он лучший в городе особняк, дом «главного начальника»; имел автомобили, роскошные выезды, а жена его, тоже еврейка, тратила безумные деньги на туалеты, обстановку, приемы и старалась поддерживать аристократический тон в обществе.
В совете еврей Войков пользовался также большим влиянием и шел всегда и во всем рука об руку с евреем Сафаровым. Безусловно, он был посвящен во все детали убийства Царской Семьи, и если не принимал в нем активного участия, как Исаак Голощекин, то косвенное отношение, как увидим впоследствии, имел большое. Его фраза по поводу тайны, покрывающей подробности убийства бывшего Государя Императора: «Мир никогда не узнает об этом», – стала исторической для Царского дела и помогает объяснить многое, что иначе оставалось бы неясным и необъяснимым.
Сыромолотов. Многие утверждают, что он еврей. Родом происходит откуда-то из Троицы или из-под Челябинска, но точно неизвестно. Учился в Екатеринбурге в Уральском горном училище, по окончании которого определился в горные техники. Здесь он пустился во всякого рода грязные аферы, спекуляции, на которых нажил до 2 000 000 состояния, но из Горного управления его выгнали. Тогда он устроился в управление Верх-Исетского завода, но и оттуда за темные дела был удален. Был он не только пьяница, но форменный алкоголик.
При советской власти Сыромолотов занял должность областного комиссара финансов. Носил он имя Федор Федорович.
Сыромолотов не принимал участия в убийстве Царской Семьи, кроме участия в заседаниях президиума, членом которого он состоял по должности. В дни 16–17 июля его даже не было в Екатеринбурге, так как он не возвращался из Перми, куда был послан, как уже упоминалось, для организации дела согласно указанию центра, от которого потом, видимо, отказались.
Это был уже зрелый человек, лет 40 с лишним; среднего роста, полный, лицо кругловатое, полное, смуглое; усы темно-рыжие, подстриженные, бороду брил; волосы на голове темно-русые, короткостриженые.
Поляков, Хотимский и Крылов, три еврея, дополнявшие кворум областного президиума и обеспечивавшие всегда еврею Сафарову большинство голосов. Первый занимал должность тоже какого-то комиссара финансов и состоял в родстве с евреем Чуцкаевым, председателем исполкома.
Второй был областным комиссаром земледелия, лет 30, высокого роста, с черными волосами, нос длинный, с горбинкой, уши большие и торчащие. В Екатеринбурге носил усы и бороду, но после бегства в Пермь сбрил их. Третий занимал всего только должность городского комиссара здравоохранения, но ничего общего с медициной не имел. Известно, что вместе со своей женой Фани Янкелевной, служившей в совете секретаршей, он отличился зверствами и расстрелами в Камышлове. В президиуме он пользовался большим влиянием, а в городе его считали одним из активнейших деятелей советской власти.
Биографические сведения о Саковиче были даны в первой главе настоящей книги, и к этой личности придется вернуться еще в будущем. Теперь же необходимо коснуться второй, после Исаака Голощекина, личности, игравшей исключительную роль в деле убийства Царской Семьи.
Юровский Янкель Хаимович. Родился в Томске в 1878 году, где родители его, Хаим Ицкович Юровский и мать Энта Моисеевна, занимались торговлею железом, старьем и другим хламом. Семью составляли семь сыновей и одна дочь: двое сыновей и дочь жили в Америке, два сына были в плену в Германии; один сын, служивший в Петрограде на оружейном заводе, по роспуске армии поселился в Харбине, и один сын, часовой мастер, – в Томске.
Янкель Юровский, младший из сыновей, тоже долгое время пробыл в Америке и перед возвращением в Россию принял лютеранство. В Томске, по возвращении из-за границы лет 20 тому назад, он женился на Мане Янкелевне и поселился окончательно в Екатеринбурге, где обзавелся фотографией и часовым магазином. К 1918 году у него было трое детей: Рима 18 лет, Александр 13 лет и Женя 9 лет; в 1916 году к нему переселилась из Томска овдовевшая мать, старуха 70 лет.
В 1914 году по мобилизации Янкель был призван на военную службу и зачислен в 108-й запасной батальон. Здесь ему удалось попасть в фельдшерские ученики, и он определился в школу фельдшеров при местном военном лазарете. В школе Янкель встретился с преподававшим там доктором Архиповым и на почве политических собеседований и споров сошелся с ним и пользовался его особым покровительством. Дисциплина в школе была вообще строгая; все ученики, например, должны были обязательно жить в казарме. Но Янкеля Юровского Архипов почему-то выделил из всех прочих, держался с ним на «близкой ноге» и даже разрешал жить на частной квартире. По окончании школы Янкель Юровский с правами ротного фельдшера был оставлен Архиповым при местном лазарете, что избавило Янкеля от службы на фронте.
Вообще лично Янкель Юровский не испытал на себе никакого особого гнета существовавшей в России царской власти, и, наоборот, судьба делала для него сплошь да рядом исключения, ставившие его в привилегированное положение по сравнению с каким-нибудь обыкновенным обывателем и тем паче с крестьянином, терпевшим и нужду в своей домашней жизни, и тяготу военных походов рядовым бойцом.
Но вот когда произошла Февральская революция, Янкель Юровский оказался первым в рядах недовольных всем и всеми. Развязный в словах и речи, нахватавшийся за границей поверхностных понятий о социализме, не смущавшийся ложью, наглой, но популярной в то время клеветой, он сразу всплыл на поверхность взбаламученной революцией темной массы и был избран командой лазарета делегатом в состав образовавшегося в Екатеринбурге Совета рабочих и солдатских депутатов. Отсюда началась его работа как политического деятеля. Прежде всего она направилась против администрации того же местного военного лазарета: то были выпады на скверную пищу, тухлое якобы мясо, то на буржуйность русских врачей лазарета, то на бездеятельность и нерадение администрации и т. п. Однако назначавшиеся советом ревизии, поверки, осмотры не подтвердили наглых и явно ложных наговоров Янкеля Юровского. Он остался недоволен самим Советом, взял двухмесячный отпуск и исчез. Куда? Где он был в это время? Неизвестно.
Незадолго до большевистского переворота Янкель Юровский появился снова в городе. Он стал в ряды самых крайних левых и резко осуждал все политические учения правее их; он вернулся еще более озлобленным и, видимо, чего-то ждал. Свершился Октябрьский переворот, власть перешла к Советам; Янкель попал в заправилы большевистского режима и встал в ряды главарей советской власти в Екатеринбурге, в ряды ее вдохновителей – изуверов-евреев.
Он занимал всякие должности: и члена президиума, и комиссара юстиции, и коменданта Ипатьевского дома – и при всем том сохранял постоянно первенствующее значение в чрезвычайной следственной комиссии, которая при нем и начала образовываться. Там он председательствовал даже в присутствии Белобородова, Голощекина, Сафарова, Чуцкаева; в недрах этой мрачной, могущественной всероссийской советской организации Янкель Юровский занимал исключительное положение. Говорят, что он был в Екатеринбурге представителем какого-то центрального органа чрезвычайной комиссии, к которой принадлежал и Исаак Голощекин.
Если заглянуть в домашнюю жизнь Янкеля Юровского, то становится совершенно ясным, что он не имел по своему существу ничего общего с теми социалистическими и коммунистическими принципами, с которыми выступал он и остальные ему подобные главари-евреи в рядах советской власти и в официальных органах их управления. Патриархальный образ жизни древнееврейского характера, со всеми заветами и преданиями старцев, унаследованных с учением фарисейской секты Израиля, – насколько следовал этому порядку сам Янкель, сказать трудно, но во всяком случае он его терпел. Принятое им за границей лютеранство было лишь необходимой политической формой для своего времени и, по-видимому, давно им забылось. Буржуй по существу, он вел свое хозяйство, как вел его 20 лет перед этим, с определенной тенденцией к наживе капитала. Он имел небольшое дело, но сам с того момента, когда стал советским деятелем, перестал в нем работать, а спокойно нанимал частных рабочих и вполне легко уживался с ними, хотя, по его собственному выражению, они «очень и очень были далеки от большевизма». Янкель у себя дома – не только не большевик, но он даже не марксист и вообще никакой социалист.
В своей советской политической деятельности он тоже далеко непостоянен в строгости проведения проповедуемых принципов уничтожения всего, что стоит на пути к власти пролетариата: уничтожая поголовно всю Царскую Семью и всех даже слуг, состоявших при ней, он, полномочный властелин чрезвычайки, не трогает доктора Деревенько, явно скомпрометированного в каком-то деле, за которое слетел со своего места даже комендант Авдеев, а Мошкина упрятали в тюрьму. Определенный же буржуа Деревенько остался неприкосновенным. Янкель Юровский не такой глупый человек, чтобы не видеть, кто такой комиссар Сакович, что он представляет собой по существу своей подлой натуры. Бывший «белоподкладочник» – сегодня пролетарий, завтра белогвардеец, в зависимости от того, что выгодно по сезону. Но Янкель Юровский, искореняющий контрреволюцию, саботаж и спекуляцию, перед Саковичем закрывает глаза и видит в нем представителя пролетарской власти. Янкель Юровский знает отлично, что если бы его дочь Рима встретилась в глухом лесу с Петром Ермаковым, то она, безусловно, познала бы «свободу личности» этого каторжника и прелесть воспеваемой ее отцом пролетарской власти. Но он не гнушался тем не менее Петром Ермаковым, они становятся братьями по оружию в кровавой драме Ипатьевского дома.
Янкель Юровский не христианин, не мудрый сын религии своего народа, не пролетарий, не социалист, не буржуй, не народоволец, не монархист. Кто же он?
Еврейский изувер.
В материалах следственного производства Сергеева фигурирует еще фамилия Дидковский, который, по словам Чемадурова, часто посещал дом Ипатьева, контролируя содержание и охрану Августейших узников. По собранным сведениям выяснилось: Дидковский Борис Владимирович, уроженец Волынской губернии, воспитывался в Женеве. На Урал он прибыл в качестве коллекционера при профессоре геологии Дюпарке и был оставлен им для работ в Николо-Павдинском горном округе. Когда произошел большевистский переворот, Дидковский был избран от этого округа в депутаты областного совдепа в Екатеринбург и занял здесь влиятельное положение. Во всех случаях отсутствия Белобородова Дидковский замещал его в областном совете депутатов, но, видимо, не принадлежал к партии коммунистов, а скорее был социал-революционером. Под конец власти Советов в Екатеринбурге замечалось расхождение Дидковского с Белобородовым, и в Совете образовались две партии, взаимно враждовавшие. Однако президиум стоял на стороне Белобородова, и партия Дидковского не получила значительного развития.
Несмотря на заграничное воспитание и внешний вид интеллигента, Дидковский все же остался человеком некультурным, грубым и хамоватым. В интимные совещания президиума он не приглашался и, по-видимому, не был посвящен в предположения советских главарей относительно убийства Царской Семьи, так как ни в каких материалах, относящихся к подготовке и совершению убийства, фамилия Дидковского не встречается. Куда он делся после эвакуации Екатеринбурга – неизвестно.
Вдохновители по лжи
Преступления вдохновляются идеями, побуждениями или расчетами, носителями которых являются или отдельные лица, или сообщества людей, руководящихся определенными целями. Историческо-национальные преступления, кроме того, вдохновляются зачастую целым рядом предшествовавших исторических и национальных положений, элементов и факторов политического характера, логически приводящих к неизбежности заключительной катастрофы.
Было бы большим заблуждением рассчитывать исчерпать в настоящих материалах и мыслях обширность и глубину всех исторических обстоятельств и причин, приведших Царствовавший Дом России к трагедии в Ипатьевском доме, и задача текущей работы исследования преступления ограничилась лишь попыткой установить ближайшие влияния и современных деятелей, вдохновивших конец последнего акта исторической драмы, постепенно слагавшейся вокруг Августейшей Семьи Дома Романовых.
Естественно, что исследование совершившегося преступления и изучение обстоятельств, сопровождавших это исключительное по изуверству событие, не могли ограничиться только простым установлением данных: кто из советских деятелей и адептов ее власти принимал фактическое участие в уничтожении в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членов Царской Семьи в городе Екатеринбурге; кто в ночь с 18 на 19 июля того же года сбросил в Нижне-Семиченскую шахту под Алапаевском Великую княгиню, Великого князя и князей Дома Романовых, содержавшихся советской властью в этом городе; кто, наконец, увел в ночь с 21 на 22 июня того же года из гостиницы в Перми Великого князя Михаила Александровича и расстрелял его в лесу за Мотовилихинским заводом?
Уже данные предварительного следствия Сергеева давали основание усматривать существование во всех этих преступлениях общей идеи, общего плана их выполнения и общего руководства из одного какого-то центра. Сергеев полагал, что в отношении всех перечисленных преступлений таким вдохновляющим центром являлся исключительно Уральский областной совет или его президиум. По его мнению, эти убийства нельзя было рассматривать иначе, как самочинные акты местных советских представителей, действовавших вполне самостоятельно, за свою личную ответственность, и он совершенно отрицал причастность к идее, плану и руководству этими событиями центральной власти в Москве. Характерно, что такое же именно положение проводилось и представителями как центральной, так и местной советской власти. Это видно из их официальных извещений о расстреле бывшего Царя, в коих говорилось, что расстрел был произведен «по постановлению президиума областного совета РК и КД Урала», а затем, позднее, – и из инсценированного ими в Москве процесса по поводу убийства всей Царской Семьи, на котором вся инициатива преступления была приписана фантастическому члену Екатеринбургского совета и председателю чрезвычайной комиссии эсеру Яхонтову, которого и расстреляли за это будто бы совершенное им в целях дискредитирования советской власти самочинное преступление.
Казалось бы, что сама жизнь уже достаточно указала, что никаким официальным извещениям и заявлениям советских властей верить нельзя. Ложь профессиональная и ложь профессионалов – иначе невозможно охарактеризовать способы и приемы правления и деятельности советских представителей большевистского режима. Той же ложью были наполнены и их официальные извещения о расстреле бывшего Царя, во-первых, потому, что никакого приговора президиума о расстреле «Николая Романова» постановлено не было, хотя бы по той причине, что расстрелян был вовсе не один бывший Царь, а вся Царская Семья, а во-вторых, и потому, что убийства членов Дома Романовых имели место не только на Урале, но и в других пунктах Европейской России, и все в тот же период лета 1918 года. Следовательно, вдохновлявший эти преступления центр должен был быть не на Урале, а в другом месте России или мира, откуда идеи и планы центра приводились точно в исполнение на местах послушными не только по форме, но и по духу агентами главарей этого центра. На Урале могли быть лишь руководители и исполнители преступлений.
Эти соображения понудили Соколова направить работу следствия по более широким путям, в целях осветить степень причастности к кошмарному, изуверскому убийству бывшего Государя Императора и его Семьи, представителей центральной советской власти в Москве. С этой целью были предприняты новые розыски различных документов в бывших советских учреждениях и на покинутых квартирах, в телеграфных и почтовых учреждениях Екатеринбурга, Перми, Тобольска и Тюмени. Были приняты меры к выяснению деятельности главарей преступления после бегства их из Екатеринбурга и предприняты шаги в целях розыска и поимки чинов охраны дома особого назначения, часть коих после взятия нами Перми бежала от советской власти и скрывалась среди населения в Сибири. Особое внимание Соколов уделил допросам целого ряда лиц из числа состоявших при Царской Семье в Тобольске и близко знавших ее личную жизнь и, с другой стороны, допросам тех из местных жителей, которые за время нахождения советской власти в Екатеринбурге имели какое-либо отношение к отдельным ее представителям и могли случайно слышать от них суждения и мнения как по вопросу, непосредственно касавшемуся преступления, так и по характеристике общего положения советской власти того времени в России. Наконец, для более широкого освещения вопроса и исследования идей, вдохновивших преступление, были собраны различные материалы, литературные труды, брошюры и заметки периодической печати, излагавшие и оценивавшие события последнего времени и позволившие несколько изучить вопросы исторического и национального характера, имевшие отношение к переживаемым Россией событиям.
Результаты исследования дали много материала; материала, может быть, недостаточного для окончательного установления фактических вдохновителей, идей, вдохновлявших преступление, но достаточного, чтобы утверждать, что вдохновители трагических событий были не на Урале. Вопрос наследования преступления в этой области не кончен и не мог быть закончен в тот краткий срок, который имелся в распоряжении следствия. В окончательных выводах это, по существу, вопрос будущих историков и будущей России. Настоящее же исследование во всем последующем повествовании этой книги дает только сырой материал и некоторые мысли, вытекающие: 1) из общего характера большевистского движения в России; 2) из основных свойств некоторых главнейших советских деятелей; 3) как следствие некоторых исторических событий, предшествовавших современной катастрофе в России и разыгравшейся трагедии в Ипатьевском доме.
* * *
Среди народов России, как и среди всех прочих народов мира, живет государственно рассеянным, но тесно сплоченным в племенном отношении еврейский народ. Отличительными чертами всей четырехтысячелетней истории этого народа являются: невероятная слабость государственных устоев нации и исключительная сила племенного начала семитической расы. За весь долгий срок своего мирового существования самостоятельным национальным государством еврейский народ продержался всего около 515 лет (от Иисуса Навина до разделения на Иудею и Самарию), но даже и в течение этого короткого государственного периода жизни еврейство по причинам внутренних раздоров восемь раз теряло свою самостоятельность, подпадая на разные сроки под рабство другим народам, так что чисто самостоятельным народом Израиль пробыл всего около 330 лет (т. е. менее десятой части своего исторического существования).
История Израиля, а позднее еврейского народа – это история почти сплошных, непрерывных духовных и социальных революций. Никакой другой народ не выдержал бы тех революционных потрясений с их последствиями, которые выдержало еврейское племя, и, вероятно, или совершенно исчез бы с арены мирового существования, или, если бы и сохранился, то в существенно видоизменившемся племенном состоянии и вне какого-либо значения в политической и духовной жизни других народов мира.
Но еврейский народ не исчез, не ассимилировался и не потерял мирового значения. Евреи, говорят, – страшная мировая сила. Их расовая энергия, выносливость, живучесть и стойкость побеждали и побеждают все те невероятные гонения, притеснения и истребления, которыми наполнена история этого народа со времен египетского плена до наших дней. Нынешнему еврейскому народу приписывают сосредоточение в своих руках колоссальных материальных богатств во всем мире. Ему придают исключительное влияние на политические и особенно социальные мировые вопросы. Еврейского народа и связываемый с ним еврейский вопрос боятся и вместе с тем ненавидят и презирают, как боятся и презирают скверную, грязную болезнь.
В древней истории мира израильтянам было дано больше, чем какому-либо другому народу: они были народом избранным, тем народом, который из своей среды дал миру великих пророков религии Единого Бога, дал позже Святую Деву – Матерь Божью, Мессию – Христа и величайших проповедников учения любви – апостолов Павла, Иоанна и Петра. Еврейский народ в своей мистической и знаменательной истории послужил тем остовом дерева, к которому привились ветви христианского учения всего мира.
И вместе с тем евреи, говорят, есть источник почти всех социальных катастроф, периодически посещающих мир. Еврейский народ создал нынешних Бронштейнов, Апфельбаумов, Голощекиных и Юровских и дал опору Лениным, Красиным, Белобородовым и Ермаковым для совместных с ними социалистических экспериментов над несчастным российским народом. Еврейский народ, говорят, ненавидит все христианские народы, как вечный укор ему в преступлении предков и как своих естественных религиозных противников. Еврейский народ есть то зло, тот народ «сынов Лжи», который стремится возводить на земле свое царство, царство антихристианское, и покорить ему христианский мир…
Так ли это?
Еврейский ли народ зло – народ «сынов лжи?» Еврейскому ли народу дал Великий Учитель это определение?
«Ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его», – говорит апостол Павел.
* * *
Пожалуй, никогда еврейскому вопросу в России не угрожало принять такие болезненные и острые формы, какие могут создаться в случае крушения советской власти. Уманьская резня, Запорожские погромы XVI столетия могут оказаться ничтожными по сравнению с тем взрывом народной ненависти к евреям, с той дикой и слепой злобой, которые ныне накапливаются во всех уголках Европейской и Азиатской России среди всех коренных народов разоренной России под влиянием особых условий, вытекающих из сущности большевистского учения.
Носителями идей, проповедуемых большевиками, являются индивидуумы самых разнообразных наций всего света. Но нельзя отрицать того факта, что в России евреи составили слишком большой относительный процент в среде главнейших советских руководителей, и это обстоятельство создает в массах твердое убеждение, что все зло, постигшее Россию, исходит от евреев.
Большевики проповедуют принципы интернационализма. В глазах массы интернационализм выгоден и желателен только евреям, рассеянным по всему свету. За 2500 лет своего интернационального положения они приспособились к этому, захватили почти во всех странах в свои руки финансы, торговлю и печать, что при торжестве интернационала предоставит им и политическую мировую власть. Отсюда среди национальных народных масс сложилось мнение, что еврейство пользуется крайними социалистическими идеями и формами лишь как средствами для достижения их личной, самодержавной, мировой гегемонии.
Большевизм теоретически отверг все религии, но практически притеснениям подверглись в России только христианские церкви, христианские религии. Советская власть не трогала ни раввинов, ни синагог, ни еврейской религии. Это особенно резко подчеркнуло специфический дух советской власти, хотя, безусловно, ее главари из еврейского племени сами отверглись и от своей религии. Тем не менее в русской народной массе глубоко укоренилось заключение, что антихристианство большевистского учения создано и проводится евреями.
Массовое засилье евреями высших административных и политических должностей советских органов управления, особые привилегии, которыми пользуются эти лица, служат только подтверждением народной молвы о роли евреев в современных событиях в России. Провозглашенные русско-еврейскими главарями большевистского учения принципы народовластия, проповедуемые ими высокие лозунги всемирного равенства, братства и свободы не только не разрешили в России исторического, больного и мрачного еврейского вопроса, а наоборот, усугубили его, и едва ли можно сомневаться в неизбежности в недалеком будущем невероятных массовых, кровавых еврейских погромов. Десятки тысяч Ицек, Мовшей, Срулей, Cap, Ривок и прочих бывших граждан Израиля, а ныне жителей различных грязных местечек Теофиполей, Белгородок, Чарторий и Межибужий заплатят разгромами, разорением, имуществом и жизнью за социальные кровавые и изуверские эксперименты своих единоплеменников Бронштейнов, Цедербаумов, Тобельсонов, Голощекиных и Юровских, и едва ли кто-либо способен предотвратить эти новые потоки крови, грядущий ужас насилий над еврейской голытьбой со стороны обманутой и изнасилованной толпы народов России.
Еврейские главари советской власти на крови христианской интеллигенции взрастили и закалили российский пролетариат для завершения кровавой большевистской эпопеи кровавыми еврейскими погромами.
Разрешала ли когда-нибудь кровь еврейский вопрос?
Никогда.
Еврейский вопрос в глубоком значении – это вопрос идейный. Преследования, насилия, избиения не разрешают идей, а утверждают их последователей и создают им ореол мучеников, жертв. Так, в первые три века ужасных гонений, изуверских истреблений последователей идей Христа христианство укрепилось, разрослось и победило окончательно мир.
В борьбе идей побеждает не сила. Напрасно пренебрегать этим законом.
И тем не менее как в период древнейшей истории, когда Израиль был окружен языческими народами, так и в новейшей истории, среди христианского мира, и власти, и общественные круги, и целые народы шли постоянно по ложному пути разрешения еврейского вопроса через кровь, насилие, избиение, не останавливаясь даже в своих побуждениях перед желанием поголовно стереть еврейский народ с лица земли и тем покончить будто бы с его вопросом.
«Как скоро будет получено это письмо, – писал Птоломей Филипатор приказ обитателям Египта и местным военачальникам и воинам, – тотчас упомянутых нами людей с их женами и детьми выслать к нам на смертную казнь, беспощадную и позорную, достойную таких злоумышленников. Если они в один раз будут наказаны, то мы надеемся, что на будущее время наши государственные дела придут в совершенное благоустройство и наилучший порядок. Если же кто укроет кого из Иудеев, от старика до ребенка, не исключая грудных младенцев, должен быть истреблен со всем его домом жесточайшим образом. А кто откроет кого-либо, тот получит имение виноватого и еще две тысячи драхм из царской казны, получит свободу и будет почтен. Всякое место, где будет пойман укрывающийся Иудей, должно быть опустошено и выжжено так, чтобы никому из смертных ни на что не было годно на вечные времена».
Так мыслил язычник за два века до Рождества Христова, и о том же мечтают ныне многие, дерзающие считать себя христианами.
Не в состоянии были, видимо, перевоспитать взгляды массы на еврейский вопрос и социальные теории братства, проповедывавшиеся в советской России Лениным, Бронштейном и их единомышленниками интернациональной политической веры. Судя по доходящим сведениям, в советской России уже сейчас вспыхивают местами еврейские погромы, истребляются комиссары-евреи, и тысячи еврейских семей бегут куда попало, бросая свое имущество и достояние. Еврейский вопрос советским режимом углублен, расширен и возведен на степень вопроса религиозного и национального.
Советская власть в России отождествляется с властью еврейской. Ленин, Красин, Бухарин, Парский, Белобородов, Медведев, Ермаков и прочая плеяда российских большевистских руководителей и исполнителей для психологии народа, массы сохраняют значение личных деятелей, имен собственных. Бронштейн, Цедербаум, Нахамкес, Голощекин, Сафаров, Юровский – в той же психологии принимаются как коллективы, имена нарицательные – это еврейский народ. Такова историческая психология масс в отношении каких-либо событий, где участвует хотя бы один еврей. Она воспиталась историей еврейского вопроса по существу положений, из которых он исторически слагался, и по вине различных представителей самого еврейского народа.
* * *
Когда совершается какое-нибудь событие, в котором участвуют евреи или хотя бы один еврей, то психология родных масс всегда обобщает их участие и относит событие к разряду совершенных будто бы всем еврейским народом. В поступках и деяниях одного еврея виновным считается весь еврейский народ. Народные массы не способны пока проводить грани между Янкелем, старьевщиком в Теофиполе, и Янкелем Свердловым, председателем ЦИКа в Москве; между Исааком Юровским, часовщиком в Харбине, и Янкелем Юровским, руководителем идейного преступления в Ипатьевском доме; между Рубинштейном, гением музыкального мира, и Бронштейном, гением кровавых социалистических операций. Для толпы, да и для значительной части интеллигентной общественной массы, всякое зло, творимое при участии того или другого Янкеля или Лейбы, исчерпывается нарицательным определением – еврей. Лейба Бронштейн – еврей, Исаак Голощекин – еврей, Янкель Теофипольский – еврей, Сруль Чарторийский – еврей. Следовательно, преступления Бронштейна, Голощекина, Янкеля, Сруля суть преступления евреев, еврейского народа. Еврей один – никогда не действует; за одним, кто бы он ни был, всегда стоят все другие евреи, весь народ.
Такова психология масс.
Это первая роковая историческая ошибка, осложняющая соответственное разрешение еврейского вопроса.
Из среды русского народа вышел Ленин, но никто не скажет, что весь русский народ состоит из Лениных или исповедует ленинские принципы. В Англии в свое время появился знаменитый Джек – потрошитель животов, но никто не делал за него ответственным весь английский народ. Но довольно, чтобы из среды еврейского племени появился один Бронштейн или какой-нибудь еврей, обвиняемый в ритуальном убийстве или в каком-либо другом преступлении против общества, и весь еврейский народ будет считаться солидарным с Бронштейном или другим преступником и ответственным, как ответственны перед обществом эти преступники.
В существовании такого исключительного явления для еврейского народа повинны больше всего сами представители этого племени.
Нынешний еврейский народ – такой же народ, как и всякий другой, и нет никаких причин быть ему лучше, чем другие народы. Скорее обратное: рассеянность его по всему свету, среди самых разнообразных племен, соприкосновение с элементами различных моральных и нравственных качеств и свойств – может лишь умножать количество отрицательных сынов еврейского племени, способствовать созданию в его среде исключительных уголовных и политических преступников, появлению темных и уродливых сект, учений и различных изуверских увлечений. Тем не менее разнообразные еврейские представители – административные, религиозные и общественные – не желали считаться с общими условиями, существующими для всех других народов, и при каждом обвинении в чем-либо еврея считали нужным выступать на защиту его, обыкновенно еще до судебных разборов, от имени всего еврейского народа. Достаточно вспомнить дело Дрейфуса или хотя бы более знакомое для России дело Бейлиса, обвинявшегося в 1911 году в ритуальном убийстве мальчика Ющинского.
По поводу ритуальных убийств существует обширная литература, берущая свое начало едва ли не со II века, когда еще сами евреи обвиняли первых христиан в ритуальных преступлениях. Бывали ли такие уродливые секты? Существуют ли они теперь? Это вопрос особого исследования. Во всяком случае давность этого вопроса не позволяет судить о нем поверхностно, и чем больше главного света проливалось бы на него, тем скорее истина стала бы известна миру. Вместо этого представители и защитники еврейского народа при каждом возникновении обвинения кого-либо из евреев в ритуальном преступлении подымают по этому поводу такой мировой шум, который, с одной стороны, разжигает лишь страсти спорящих сторон и не способствует этим установлению истины, а с другой стороны, втягивает зачем-то в борьбу страстей имя всего еврейского народа. Так, например, едва возникло дело Бейлиса, как 813 раввинов сочли нужным выступить с голословным протестом в возводимом на Бейлиса обвинении:
«Мы, раввины, посвятившие свою жизнь всестороннему изучению еврейской веры, ее письменности и устных преданий, протестуем с глубоким возмущением и негодованием против кощунственного обвинения и приемлем священный долг пред лицом Всемогущего Бога, Бога Израиля, и перед всем миром торжественно заявить:
Нигде, ни в Священном Писании, ни в Талмуде, ни в комментариях к ним, ни в Зогаре, ни в Каббале, ни в каких-либо из произведений, имеющих хотя бы самое отдаленное отношение к еврейскому вероучению, ни даже в устных народных преданиях, нигде не содержится ни малейшего намека, который давал бы повод к подобному обвинению».
Могут ли такие голословные заявления разуверить кого-нибудь после того, как более 1500 лет тому назад, по тем или другим причинам, создалось убеждение, что ритуальные убийства существуют. Даже по существу протест раввинов слишком слаб, так как при желании сама Библия дает много поводов усматривать существование в древнем Израиле убийств, очень приближающихся по свойствам к характеру ритуальных убийств (например, эпизод с убийством царем Давидом детей Рицпы: «и отдал их в руки Гаваонитян, и они повесили их на горе пред Господом. И погибли все семь; они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя». Это была искупительная жертва за посланный Богом голод). Разубедить словом тысячелетнюю молву нельзя, а между тем событие, касающееся одного еврея, оспаривается религией целого племени, именем целого народа и его Бога. Так как судебные процессы этого свойства крайне сложны и темны, не проливают полного света на истину благодаря страстности, вносимой обеими сторонами, то в народной массе протесты, подобные приведенному, производят обратное впечатление – виновен не только Бейлис, но весь народ, который выступил на его защиту и определенно и ясно ничего не доказал.
Защитники другого еврейского лагеря, противники раввинов, впадают в противоположную крайность; ими руководит основное отрицательное свойство еврейской нации, погубившее ее в социальных экспериментах, – колоссальное самомнение.
«Нравимся ли мы или не нравимся, – пишет по поводу заявления раввинов один из таких представителей, – это нам в конце концов совершенно безразлично. Ритуального убийства у нас нет и никогда не было; но если они хотят непременно верить, что «есть такая секта», пожалуйста, пусть верят, сколько влезет. Какое нам дело, с какой стати нам стесняться? Краснеют разве наши соседи за то, что христиане в Кишиневе вбивали гвозди в глаза еврейских младенцев? Нисколько; ходят, подняв голову, смотрят всем прямо в лицо, и совершенно правы, ибо так и надо, ибо особа народа царственна, не подлежит ответственности и не обязана оправдываться даже тогда, когда есть в чем оправдываться. С какой же радости лезть на скамью подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту клевету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете, и знаем цену ей, себе, им? Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не держим экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу. Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим».
Такого рода выступления представителей еврейского народа действуют на массу еще хуже, чем протесты вышеприведенного характера раввинов. «Иными не будем и быть не хотим» – звучит вызовом и, при общей неприязни и ненависти к евреям, служит не убеждением, а маслом, подливаемым в огонь. Сам писавший эти строки останется в стороне; его слова, его бравада принимается массой как голос из еврейского народа и, как свистнувший над толпою бич, подхлестнет ее на эксцессы против бедного еврейского люда, ни в чем не повинного.
Но приведенные слова защитника еврейского народа и вместе с тем противника примирительной тактики раввинов говорят еще и о другом. «Иными не будем и быть не хотим» – это приговор еврея историческому деятелю из Израиля. Это не случайно вырвавшееся заключение, в этих семи словах выражена сущность натуры древнего израильтянина, но сохранившаяся неизменной с ветхозаветных времен до наших дней и приведшая его по историческому пути от великого – в прошлом, к ничтожеству – в настоящем; страстность с горячностью – с одной стороны и колоссальное самомнение с ложной гордостью – с другой.
«Иными не будем и быть не хотим» – не создает «царственности особы народа», как, быть может, полагает высказавший это положение еврей, а служит лишь к унижению его, так как все остальные народы, культурно прогрессируя, вечно стремятся вперед, к усовершенствованию, к достижению высшей гармонии между природным духом народной массы и формой своего государственного строительства.
«Иными не будем и быть не хотим» – вероятно, с таким же самомнением, страстно горело в умах и сердцах и тех старейшин и книжников израильского народа, которые оттолкнули протянутый им Христом хлеб жизни. Но они не только оттолкнули Его; они сумели сделать соучастниками своего преступления весь нынешний еврейский народ. В 33-м году по Р. X. небольшая кучка иудейских руководителей совершила преступление и, отвергнув учение Христа, не признав Его Мессией, создала антихристианство. Приблизительно уже через 500 лет рассеянный по всему миру еврейский народ был весь антихристианским.
Первые христиане были все из еврейского народа. Куда же исчезли их потомки?..
Ведь только благодаря исключительной духовной силе этих евреев, разнесших свет Христова учения в мире, христианство смогло в течение первых 300 лет своего существования выдержать невероятные гонения, насилия и истребления и не только не погибнуть, но победить мир силою высшей любви и непоколебимой веры в истину Сына Божьего. Куда же исчезли потомки этих бесконечно могучих по духу евреев?..
Совершилась непостижимая мистерия: евреи-христиане исчезли с лица земли. В наше время народные массы убеждены в том, что Христа отверг еврейский народ. Так за преступление горсти евреев страдать может весь еврейский народ.
Итак – во всем, всегда.
Что это? Промысел Божий или мрачная тайна сектантства?
Верующий в начало всего от Единого Бога имеет ответ в словах архангела Уриила: «ты и того, что твое и с тобою от юности, не можешь познать; как же сосуд твой мог вместить в себе путь Всевышнего».
* * *
Еврейский вопрос и большевистское учение в существе своего происхождения имеют одинаковое основание, исходят из одного корня – религии лжи.
Это не та будничная, дешевенькая ложь, которая питает еврейский вопрос ритуальными преступлениями, извращенными толкованиями положений Талмуда, Каббалы и Зогара; это не та демагогическая ложь, которой полна деятельность советских главарей и которой насыщаются их речи, законы, книги, газеты, дабы прикрыть несостоятельность бездушного большевистского учения. Это та мировая, материалистическая, историческая ложь, которая с древнейших времен существования человека вовлекла его в борьбу с Божественностью всякого начала на земле. Это та ложь, которая в большевизме сплетает в одно учение идеи коммунизма с насилием, зверством и беспредельной кровавой местью, а в еврейском вопросе – христианскую заповедь любви с израильским заветом «око за око и зуб за зуб». Это та ложь, о которой Христос предупреждал своих учеников: «ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить, что это Я и многих прельстят».
Это ложь, претворяющая на земле Божественные и Христовы начала социальных человеческих взаимоотношений в политические формы материализованного социалистического учения. Это ложь, которую гордыня человеческого ума стремится поставить правдой на земле.
Напрасно полагать, что еврейский вопрос присущ исключительно еврейскому народу. Высшей ложью страдают все мыслящие народы мира, и еврейскому народу принадлежит только историческое первородство в этом вопросе, предопределенное его Божественным избранничеством. Давность этой ужасной болезни в еврейском народе и соответственная ей, быть может, большая восприимчивость ее еврейскими индивидуумами дали ей наименование еврейского вопроса, и в представлении масс, не разбирающихся в существе его, он приобрел специфическое значение, присущее только всему еврейскому народу. При этом вопрос колоссального мирового значения, вопрос бытия человечества под влиянием низменных человеческих чувств, под влиянием некультурности масс низведен в область сектантских и бытовых обособленностей еврейского племени, с загромождением их порой к тому же многочисленными наветами и сказками, создаваемыми молвой, темнотой масс и далеко не христианскими принципами.
Создавшаяся с течением времени под влиянием указанных причин внешняя оболочка, как бы кора, окутавшая весь еврейский народ, скрыла истинную сущность еврейского вопроса и не позволяет христианским народным массам подойти к правильному разрешению его. С другой стороны, огульные презрение и неприязнь ко всему еврейскому народу не позволяют пробудиться справедливому сознанию, что Бронштейны, Апфельбаумы, Тобельсоны, Сафаровы, Голощекины, Юровские не представляют собой всего еврейского народа, а являются в действительности такими же исчадиями его, исключительными изуверами, сынами лжи, как и российские Ленины, Красины, Парские, Черновы, Керенские, Белобородовы, Ермаковы в отношении русского народа.
Большой вред приносят те россияне, которые затемняют истинное ужасное зло, скрывающееся в мировом еврейском вопросе, под оболочкой навязываемых всему еврейскому народу ритуальных преступлений, фантастических сионских протоколов и различных учений сектантских изуверов. Это вызывает в христианских народах только огульное и искусственное озлобление, а озлобление родит преступную слепоту и предоставляет сынам лжи скрываться за спиной всего народа Израиля, беспрепятственно продолжая сеять зло и умножая тем своих сторонников в других народах мира.
Опасное мировое зло еврейского вопроса не в еврейском народе, а в тех лежащих в его основании принципах социалистических учений, которые исторически выдвигались различными представителями еврейской мысли, мечтавшими с древнейших времен в гордыне своего ума и самомнения стать творцами земного бытия вне воли и законов единственного истинного начала всего вселенского творения – Единого Бога. Явилось это как следствие борьбы в мире с началом его существования двух основных тенденций человеческой мысли: материалистической и идеалистической. Чрезмерная гордость и больное самомнение, развивавшиеся в среде отдельных мыслителей, затмили их мудрость и уклонили их от восприятия действительной религии бытия с началом всего в Духе-Боге. В противовес религии Духа они выдвинули религию социализма, а Божественность начала всего в Духе заменили кумиром самостоятельно существующей материи.
Эта высшая ложь, замена в законах бытия идеологии материей, послужила основанием возникновения с древнейших времен мирового еврейского вопроса, как об этом особо ярко свидетельствует хотя бы приведенный выше приказ Птоломея Филипатора. Вызванная этим вопросом в самом Израиле борьба тенденций человеческой мысли поучительна и знаменательна для других народов мира, повторяющих ныне те же ошибки в духовной и политической жизни, через которые прошел еврейский народ в течение своей древней государственной, национальной и самостоятельной жизни. Сильные в религии Духа христианские народы должны не чуждаться еврейского народа, а уметь уважать в истории его зеркало, отражающее в себе повторяемые современными народами социальные эксперименты отщепенцев былых времен Израиля.
Не Бебели, Марксы, Лассали и Сен-Симоны являются создателями современных материализованных социалистических учений; корни их принципов, основы ложных положений лежат в далеких, ветхозаветных исканиях мысли представителей израильского племени. Бронштейны, Тобельсоны, Ленины, Черновы, Зензиновы и прочие современные проповедники нынешних разнообразных социалистических платформ и программ имеют своих предшественников еще в допотопном периоде человеческого существования. Об этих сынах лжи библейское сказание упоминает еще в словах Еноха, «седьмого человека по Адаме»: «се идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники». «Это – ропотники, – добавляет апостол Иуда, – ничем недовольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти».
Учения современных социалистических мудрецов мира, оперирующих в материалистических тенденциях мысли, не создают чего-либо нового, совершенного, а толкутся жалко на одном и том же месте человеческого самомнения, на котором толклись и их предшественники социалистических теорий, форм и экспериментов из древней истории израильского народа. Аарон, Корей, Валаам, Офни, Финес, Илий, даже отчасти такие, как Соломон, Ездра, Рабби Акиба и сотни других лиц, – это прародители современных учителей и последователей социализма, революционеры против религии Духа и идеологических тенденций человеческой мысли. В области создания человечеству светлой жизни и бытия на принципах материализованного социализма мудрость людская не сделала ни шагу вперед по сравнению с тем, что рассказывает древняя история Израиля, и как в дохристианский период существования Израиля социальные эксперименты руководивших лиц и сословий создавали лишь катастрофы для народных масс, так и ныне мир подвергает себя тем же искушениям разорения, рабства, гибели, следуя слепо за пророками ложных идей, какие пережил в свое время еврейский народ.
Эти пророки ложных социальных идей и являются действительными творцами мирового исторического вопроса, носящего название еврейского вопроса. Имя это стало появляться в истории со времен Вавилонского пленения Израиля и начала мирового рассеяния народа и сохранилось до настоящих дней. Истинный смысл его, как революционного социалистического учения, затмился с течением времени под влиянием указанных выше причин, и его стали считать вопросом, присущим всему еврейскому народу.
Это другая из крупнейших, роковых, исторических ошибок, забронировавшая разрешение еврейского вопроса. Борьба с ним – это борьба с ложью социалистических учений, но так как, с другой стороны, еврейский вопрос ошибочно считается вопросом еврейского народа, то всякие попытки активной, коренной борьбы с его основанием встречаются в мире как акты проявления группами христианских вероисповеданий нетерпимости к еврейскому народу и его антихристианской религии. Религиозная же нетерпимость недопустима по самому духу учения Христа.
Страстная, ищущая работа мысли древнего Израиля не могла не привлекать внимания мудрецов других народов мира. Характерно, что величайшие умы древней Греции Солон, Пифагор, Платон, Сократ, входя при своих посещениях Египта и Сирии в соприкосновение с евреями, были более расположены к восприятию идеалистических тенденций мыслителей Израиля, вылившихся в религию Единого Бога, чем материалистических, положивших основание религии социализма. Но когда с началом рассеяния Израиля с еврейскими отщепенцами от религии Духа пришли в соприкосновение массы иноземных народов, мыслители низшего порядка, то под влиянием самых разнообразных причин и условий земного бытия ложь материализованного социалистического учения – религия социализма – получила возможность постепенно распространиться среди других племен и заразить умы многих работников мысли народов мира, а еще больше тех людей, которые искали приобрести через это учение личные земные блага, земную славу и земную власть. Учение, получившее начало в Израиле, как и религия Единого Бога, стало мировым, и своевременно было бы теперь еврейский вопрос называть его настоящим именем – мировой социалистический вопрос, отделив его совершенно от имени еврейского народа и освободив от объединяемого с ним антихристианства еврейского племени.
Борьба с ложью материализованных социалистических учений – это борьба со всем, что противно понятию о едином начале всего от Единого Бога, это борьба с безбожьем в религиозном отношении, борьба за идеологию человеческого бытия на земле. Это борьба за идеи высшего порядка, за весь смысл человеческого существования. Победа в этой борьбе достигается не силою оружия, не физическим насилием, а силою духовных принципов, выдвигаемых в противовес силе положений лжи. Христос на кровле храма победил силу искушения лжи – силою веры в Свое предопределение, а созданному Им новому христианскому обществу заповедал в качестве оружия победы над ложью новое идеалистическое начало социального взаимоотношения между людьми: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Ветхозаветный принцип – «любите друг друга, как сами себя» – Христос развил в идею: чтобы жить вместе, нельзя не любить друг друга, как не мог не возлюбить Сам Проповедник любви, Христос, отдавший добровольно жизнь за ближних. Любовь есть основание всех взаимоотношений между последователями Христа. Для победы над ложью надо любить других больше, чем самих себя, создавая силу христианскому обществу постоянным стремлением достигнуть высшей любви, в готовности отдать жизнь друг за друга.
* * *
Еврейский вопрос и современные социалистические учения – одной религии, религии социализма, религии лжи. Бронштейны, Цедербаумы, Нахамкесы, Тобельсоны, Голощекины, Юровские – это сыны еврейского народа по племени, но не по духу, не по религии. Они такие же революционеры еврейского народа, как и всякого христианского народа. Борьба с еврейским вопросом – это борьба с социализмом, с отрицанием Бога по духу и с многобожием по форме, так как каждое социалистическое учение имеет своего созданного им бога, служит только своему богу и не признает созданных богов другого социалистического учения.
Керенские, Черновы, Ленины, Авксентьевы и сонмы других российских мировых социалистов разных толков и направлений – это родные братья Бронштейнов и Голощекиных по духу, но могут быть и врагами по создаваемым себе богам лжи.
Но для истинных последователей Христа, религии Единого Бога, они всегда были, есть и будут только сынами лжи.
Это вдохновители по лжи исторических, политических и религиозных преступлений. Это вдохновители по лжи изуверского убийства Царской Семьи в городе Екатеринбурге.
Вдохновители по слепоте
«Шовинизм, хвастливость и безграничное доверие к своим силам сделали немцев легкомысленными, и этой чрезмерной самоуверенностью страдает каждый лавочник и сапожник, как и профессора, ученые и министры». Так писал Достоевский еще в 1876 году.
«Народ, переживший Иену и создавший Седан и Мец, по выражению Ницше, от побед поглупел».
Что эти заявления не голословны, могут показать хотя бы следующие примеры.
Немецкий писатель Реймер доказывает, что Иисус Христос был германцем, так как никто, кроме германца, не мог создать такое великое учение.
Другой писатель, Людвиг Вольтман, утверждает, что Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль были также немцами.
Немецких детей учебник Даниеля учит в школах, что «Франция в начале была небольшим королевством; она расширилась за счет Германии. В средние века Лион и Марсель были германскими городами».
«Мы лучшие в мире колонисты, лучшие моряки, лучшие коммерсанты. Мы самый даровитый народ, далее всех ушедший в науках и искусствах. Мы вне сомнения наиболее воинственная нация в мире. Мы им покажем, что значит затронуть Германию». Таков общий смысл речей императора Вильгельма за последние годы.
Один из немецких пангерманистов заявляет: «Всемирная Германия явится мыслимой только тогда, когда Россия будет разорвана на куски и окончательно низвергнута. Мы не поколеблемся отрезать широкие полосы земли от Франции и России».
А в статье «Демократический панславизм» Карл Маркс в стремлении к той же мировой, но революционной гегемонии повторяет почти то же, что вышеприведенный пангерманист: «Ненависть к русским была и остается у немцев основной революционной страстью… Только в союзе с поляками и мадьярами и с помощью самого решительного терроризма против славянских народов мы будем в состоянии обеспечить прочность революции».
И поглупев до слепоты от таких воспитательных тенденций, не видя, кому служит – пангерманизму или социализму Маркса, немецкий полковник, взятый в плен, захлебываясь в своем легкомыслии, яростно исповедовал: «Мы, немцы, бьем железным кулаком, чтобы искры летели, чтобы под нашим ударом все дробилось в мелкие куски, прахом рассыпалось. Мы воюем так, чтобы у вас на целое столетие из рода в род осталось страшное воспоминание об этой войне. Чтобы у вас внуки и правнуки боялись немцев. Чтобы у вас детей в колыбелях пугали немцами. Чтобы у вас от края и до края дрожали от мысли о возможности новой такой войны. Нашею войной мы хотим сделать вас миролюбивыми. Поэтому мы и воюем не с полками лишь, окопами вашими и пушками, мы еще беспощаднее громим ваши фабрики, заводы, мельницы и города, топчем ваши поля, уничтожаем ваши леса… Мы обеспложиваем, кастрируем враждебные нам страны».
И только «пожав, что посеяли», руководитель военно-политического натиска на Россию легкомысленный и слепой немецкий генерал Гофман, как высеченный младенец, признался: «Германская империя вывезла Ленина в запломбированном вагоне из Швейцарии в Россию с тем, чтобы он и его товарищи дезорганизовали русскую армию… Мы не сознавали той опасности для всего человечества, которая создалась этим приездом большевиков в Россию».
* * *
Достоевский и Ницше, два человека противоположных вероучений, оказались пророками для немецкого народа. Высокая работа мысли и культуры XVIII и первой половины XIX века, выдвинувшая Германию на степень мировой, прогрессирующей нации, преломилась в безграничное самомнение, преступное легкомыслие и политическую слепоту. Мировой ужас последствий этой эволюции заключается в том, что умственное и моральное падение постигло действительно великий и сильный народ, сильный исключительным национализмом, объединяющим в среде нации все классы и сословия, все партии и учения.
Победы 66-го и 70-х годов превратили здоровый патриотизм в карикатурное юнкерство и общий шовинизм. Шовинизм не только милитаристический, но во всем: в культуре, литературе, мысли, экономике, торговле, домашнем быту и общественной жизни. Лавочник, портной, гимназист, бюргер, рабочий, фабрикант, мыслитель, экономист, солдат, император – все стали юнкерами; все подчинилось движению силы физической и даже религию замкнули в рамки Германии прежде и выше всего. Военная слава, самовлюбленность и самонадеянная уверенность в мировом господстве в недалеком будущем затмили ум и сердце, как будто какой-то злой дух вселился в германский народ с конца второй половины XIX века. Германии Гете и Шиллера, Германии Гегеля и Канта, Германии чистых идей и высоких побуждений, Германии романтической и сентиментальной, добродетельной и честной больше не существует.
Экономическая, политическая и умственная жизнь новой Германии, в мечтах немецкого шовиниста, не укладывается уже в рамках географических границ старой Германии и ее многочисленных колоний. Импульс шовинистического начала, глубоко проникшего в немецкие массы, уносит помыслы тевтона далеко за пределы тщеславных планов Александра Македонского и Наполеона: «Истинная история к собиранию под свою могущественную руку населения древности». Этим наследием современный юнкер-германец считает все народы Европы, в том числе и русских, которые, по мнению выразителя вожделений новой Германии Чемберлена, были когда-то все под властью тевтонов.
Так мыслила самоуверенная Германия перед всемирной войной. Сотни тысяч жертв, колоссальность народного напряжения и экономического истощения страны не отразили немцев от легкомысленного увлечения своей силой и фантастических стремлений власти. Военный полууспех первых трех лет войны, выразившийся в удержании обоих фронтов, вскружил немцам головы еще более и заставил их быть совершенно слепыми ко всему остальному, что совершилось и подготовлялось вокруг. Вместе с тем аппетит к мировой гегемонии разросся, но, встретив непреодолимую техническую преграду на западе, на суше и на море в задаче «собирания наследия древности», безумный шовинизм бросил Германию по еще более легкомысленным путям политико-экономической авантюры на восток.
При этой перемене фронта основная цель оставалась все той же – мировая гегемония немцев. Средствами для достижения ее намечалось: ослабление России, экономическое завоевание Сибири и Азии и борьба с Англией и Америкой по всей периферии Евразийского материка.
В отношении России честолюбивые планы Германии мирового времени ограничивались только ее европейской частью. Несмотря на все свое самомнение в материально-техническом могуществе, Германия, не потерпев военного поражения на западном фронте, поняла, что экономическое превосходство находится на стороне коалиции Англии, Америки и Франции, из коих первая к тому же была непобедимой на море, неуязвимой на территории метрополии и полной распорядительницей судьбой колоний. Если бы Германия оставалась старой Германией, то, вероятно, былая ее мудрость подсказала бы ей в свое время ни в коем случае не ввязываться в войну с Россией, а искать разрешения вопроса экономического соперничества с Англией в добровольном и обоюдовыгодном соглашательстве с сильной Россией. Но новой Германии пути рассудка, логики и справедливости были чужды. Ей было понятно разрешение вопросов своего интереса только путем насилий над другими народами, не останавливаясь в средствах, которыми можно было бы утолить эту жажду насилий. Мораль Германии, сильно поколебавшаяся еще до войны, в течение войны так пала, что в ее поступках и мыслях путаются понятия о целях и средствах, и порой кажется, что не путем насилий Германия стремилась к власти, а желала власти, чтобы творить насилия.
Основная идея и цели нового пути к достижению мировой гегемонии выражены между прочим в обширном труде германского политического экономиста Вернера-Дайя, изданном в 1917 году под названием «Наступление на Восток. Азиатская Россия, как германская мирная экономическая цель». Книга обширная; в политическом отношении – знаменательная, а в статистическом интересная. Она вышла из печати как раз в период Брест-Литовских переговоров, в первую их фазу.
«Самым знаменательным в ходе мирных переговоров между Германией и Россией является то, что они велись не столько с целью закончить войну (ибо оружие было давно уже сложено), сколько для того, чтобы создать мир для начала эпохи нашего всемирно-политического развития и нашей всемирно-политической мысли». Так начинает автор книги свое вступление. Учитывая, с кем велись переговоры, это начало сразу отражает, с одной стороны, Германию императора Вильгельма, а с другой – Германию Ницше.
Далее автор усиленно доказывает, что великая война представляет собою не что иное, как пробу сил экономического напряжения со стороны наиболее экономически сильных и передовых государств Европы – Англии и Германии, непримиримых врагов с точки зрения конкуренции во всемирном экономическом владычестве. Учитывая невозможность добиться положительных результатов на западе и на море, немецкая торговля «должна считаться с действительностью, когда дело идет о расширении и упрочении международного положения нашего сопротивления и наибольшей пользы», и для этого Германия должна утвердиться на всем востоке Евразийского континента. «Этим путем она получит возможность сопротивляться своей противнице на всех точках соприкосновения периферии, но не на море, а на суше. Конечные пункты этого сухопутного пути лежат через ближайшие политические станции: с одной стороны, через Балканы и Турцию, и с другой – через Европейскую Россию – в Северной, Средней и Внутренней Азии, т. е. в Сибири, Туркестане, Монголии, Северной Персии, Афганистане и Западном Китае».
Автор полагает, что этих конечных пунктов Германия должна достигнуть «путем прочного союза с Россией», доказывая, что между Россией и Германией нет никаких оснований к существованию враждебных чувств: «Мы воевали с Россией по необходимости, вследствие временного политического конфликта, тогда как с Великобританией мы воевали по необходимости и по убеждению», – и уделяет много труда и места в своем труде, чтобы доказать русским отсутствие причин для соперничества между Германией и Россией, конечно, касаясь только вопросов экономических, и, наоборот, убеждает, что эти две страны дополняют друг друга в промышленном отношении, а потому совместная работа может быть только на обоюдную пользу обеим странам. Однако вывод его из всех этих экономических доводов несколько неожиданный и охлаждающий от увлечения соблазном: «Русское государство получает громадное преимущество тем, что приобретает возможность простейшим и кратчайшим путем выйти из многочисленных затруднений и внутренней политики настоящего положения (созданного при особом участии немцев). Германия извлекает менее значительную пользу, так как она приобретает возможность установить прочную торгово-политическую станцию посредством аннексирования русского рынка на твердой почве национального хозяйства».
Проповедуя обоюдовыгодность союза между Россией и Германией, автор, однако, мыслит, что с точки зрения германского положения в России «нам в основе безразлично, будем ли мы иметь дело с максималистическим, кадетским или царским правительством. Будет ли вести переговоры за Россию Ленин или Кривошеий, это ничего не изменит в требованиях, которые мы предъявим России. Эти требования так определенно вытекают из потребностей нашего развития, что даже контрреволюция, с которой придется считаться, не ослабит их силы до тех пор, пока выгодное военное положение создаст почву для возможности вообще требовать чего-либо от России».
Переговоры имеется в виду вести именно с советской Россией, «когда мы надеемся, что все готово для мирных переговоров в настоящем и для соглашения в будущем». Дипломатия ставится выработать «такие внешние формы условий союза, которые не были бы ни унизительны, ни оскорбительны».
Несмотря на постоянное повторение в трактате, что «Россия для русских», что никакое русское правительство, каких бы политических убеждений оно ни было, не в состоянии отдать страну в жертву безграничной иностранной эксплуатации, тем не менее дух положений, проводимых вожделениями автора, проникнут всецело принципом «Германия прежде и выше всего», что совершенно исключает необходимость в добровольном согласии России на союз и на договор. «Пусть меняется место мирных переговоров, пусть сменяются господствующие партии вражеской страны, основной пункт мирных переговоров германской политики будет состоять все в той же цели – континентально-политического захвата Востока. Общий ход германской политики не зависит ни от современного для данной минуты русского правительства, ни от условий социальной жизни в России. Германская политика нуждается в систематическом континентальном развитии; решение русской проблемы является для нее решением совместной проблемы; ей необходимо обеспечить за собою неприступную торгово-политическую позицию на Евразийском континенте и для этого захватить важнейшие промышленные пункты. Поэтому она не должна обращать внимания, с какой Россией связуют ее основные положения ее восточной политики. В чужой стране она больше не знает партий, а есть только партия сама в себе. Поэтому она с одинаковой определенностью ставит свои требования – сегодня большевистской, завтра социал-революционной, послезавтра кадетско-романовской России. Мы выскажем свои взгляды относительно необходимых условий для заключения мира и будем считать личным делом русского правительства того времени, с каким чувством оно воспримет наши условия и доведет мирные переговоры до их завершения».
Будет ли и каким способом будет бороться Россия против стремления Германии «стать твердой ногой в азиатской России и взять в свои руки экономическое развитие этой мощной и нетронутой страны вместе с Дальним Востоком и его окраиной, нисколько нас не касается, ибо это не наше дело. Согласие на заключение мира означает в то же время соглашение на основаниях существующего военного положения. В данном случае мы занимаем выгодное, а русские невыгодное положение». К такому немецкому логическому выводу должно, по мнению автора, «привыкнуть» каждое русское правительство, как то, которое заключит мир, так и то, которое ему наследует. «Если встретятся препятствия, которые затруднят приобретение данной привычки, то наше военное положение дает возможность оказать нежное давление, достаточное для того, чтобы отбросить их в сторону».
В мирное время немцам, оказывается, было затруднительно «действовать более интенсивно в торгово-политическом отношении» в Европейской России, так как «автократический строй русского правительства» оказывал им в этот постоянное препятствие. Но теперь, с уничтожением прежнего «царизма», «даже при возвращении Царизма, хотя бы и в либеральной одежде и, по всей вероятности, в образе Великого князя Николая Николаевича», немцы уверены, что ни одно русское правительство не сможет не пожелать открыть им братские объятия и вместе с тем приобрести «капитал, индустрию и организацию от Германии», которая будет таким образом вознаграждена «соответственно ее военному положению и военному давлению». При этом автор обещает, что до заключения договора Германия будет себя держать по отношению к России «с большим тактом и уважением».
В заключение идеи и плана «континентального похода» Германии на Восток, ослепленный, с одной стороны, немецким шовинизмом и легкомыслием, а с другой – тщательно и подробно изученными богатствами Сибири, автор видит уже в будущем «естественное политическое соединение» из Германии и Японии с Россией, окружающее Старый Свет «широким железным поясом, который не разорвет никакая сила и с твердых краев которого соскользнут всякие попытки охватить его». При этом типичный современный тевтон забывает высказанное перед этим свое предупреждение Сибири – не рвать с Европейской Россией, дабы не лишать себя помощи, «чтобы задержать возможные шовинистические намерения Японии». Но к чему нельзя допустить Японию, то, конечно, составляет право Германии Вильгельма.
«Будущность Сибири исполнена жизни, силы, бодрости и по своей внутренней энергии способна осуществить все надежды; она находится в напряженной готовности наброситься на все образующиеся предприятия настоящего времени и принять в них деятельное участие. Как только будут удалены внешние административные тормозы, Сибирь отважится на этот шаг, надо только чтобы нашелся руководитель, который направил бы на верный путь ее разрозненные силы…
Это и есть задача Германии».
Таким самонадеянным восклицанием резюмируется идея политико-экономического плана завоевания немцами России в промышленном отношении. От начала до конца в этом плане нет ни одной идеологической мысли, что является характерным знамением всех политических и национальных тенденций Германии последнего времени; все строится на материальных расчетах, материальных выгодах, материальной власти, материализованной душе. Это и составляет мысль и дух современного юнкерского тевтона, юнкерской Германии в целом. Если в религии социализма, в религии лжи отвлеченная идея о духе заменена теоретической идеей о материи, то в религии юнкерства даже эта теоретическая идея заменена материалистическими расчетами, а понятие о вселенском духе почти воплощено в тезисе «Германия прежде и выше всего».
Это религия безграничной слепоты.
Путем насилия крайняя религия социализма Бронштейна, Ленина, Тобельсона стремится по идее достигнуть основной цели – всемирной власти интернационала. Путем такого же насилия религия слепоты юнкеров Германии стремится достигнуть всемирной власти немецкого национализма через материалистические расчеты. Если Бронштейн, Ленин, Луначарский, Голощекин, Белобородов, Юровский – большевики слева, то Людендорф, Вильгельм, Гофман, Вернер-Дайя, фон Кюльман – большевики справа. Сродство побуждений, характеров, темпераментов и принципов религий этих двух большевистских полюсов настолько велико, что сотрудничество их друг с другом почти нормально и почти естественно: одних – по лжи, других – по слепоте. Так, Красины, Клембовские, Шнеуры, Гуторы, Саковичи, Ермаковы, работая в левом большевистском лагере не по идее, а по материальным причинам, являются по существу германскими юнкерами, рабами религии слепоты. Германские социал-демократы, работающие по национальному шовинизму в лагере большевиков справа, остаются в основе последователями религии лжи.
Красины, Клембовские, Гуторы, Саковичи, Гофманы, Вильгельмы, Кюльманы – это вдохновители по слепоте исторических, политических и религиозных преступлений последнего времени в России. Это вдохновители по слепоте изуверского убийства Царской Семьи в городе Екатеринбурге.
* * *
Сродство полюсов большевизма сказалось особенно ярко в проявлениях их зверского и изуверского инстинктов: большевизм слева признает необходимым проявление грубых и вредных действий для возбуждения в массах революционного энтузиазма, а большевизм справа – для утверждения в массах безропотного преклонения перед физическим правом. В области достижения этих целей последователи религии лжи и религии слепоты не знают пределов. Изуверский терроризм большевизма слева слишком свеж в памяти всех, чтобы нуждался в отдельных примерах. Терроризм большевизма справа уже, по-видимому, несколько забылся, но стоит вспомнить ужасы хотя бы ченстоховского изуверства, совершенного германскими войсками, чтобы убедиться в отсутствии пределов зверства и для этого полюса большевизма.
В том же зверском инстинкте объединяются и мысли руководителей большевистских полюсов: выше приводились слова Карла Маркса, руководителя большевизма слева, а вот слова руководителя большевизма справа императора Вильгельма, проповедовавшего в 1900 году с высоты своего престола солдатам, отправлявшимся в Китай: «Не берите пленных… пусть те, кто попадет в ваши руки, погибнут. Как тысячу лет назад гунны при своем царе Аттиле приобрели себе имя, которое еще и теперь в предании напоминает об их могуществе, так имя германцев через тысячу лет должно вспоминаться так, чтобы никогда больше (китаец) не смел косо взглянуть на немца…»
Оба руководителя большевистских полюсов подготовляют своих последователей к достижению в будущем одной и той же цели – мировой власти через ту кровавую и безумную эпопею зверства и насилия, которой ознаменовались сначала участие немцев во всемирной войне, а затем дружественная работа объединившихся большевиков справа с большевиками слева по насильственному утверждению в России советской власти. Человеческая психология часто непоследовательна в реагировании на переживаемые исторические события. Кто не помнит того возмущения, которым было охвачено русское общество при известиях о зверствах и насилиях немцев над русскими, застигнутыми войной в Германии, и над сербами в захваченных австрийцами и германцами их городах и селах? Можно ли забыть предательские, изуверские и жестокие способы ведения войны Германией? Ужели забыты немецкие руководители на Балтийском побережье, натаскивавшие матросню на кровавые подвиги, или немецкие инструктора в Смольном институте, вдохновлявшие советских главарей на социальные операции над русской интеллигенцией?
По-видимому, многие забыли, многие поддались гипнозу «нежного давления», многие в тайниках души мнят потом перехитрить немца. Десятки тысяч россиян укрылись в Германии, тысячи их мечтают совместно с немцами свергнуть большевиков слева и учредить царство большевизма справа. Тысячи других таких же россиян творили подпольно эту же работу за спиной Колчака, Деникина, Юденича и помогали большевикам слева отвращать от этих вождей народные массы.
И обратно. Кто подготовлял в ближайшие годы революции, кроме последователей религии лжи? Жидовствующие (не еврействующие) россияне. Их было много – от левых кадетов до левых социалистов включительно, да еще много среди беспартийной бюрократии. Кто совершил революцию? Русская интеллигенция и жидовствующие. Кто углубил революцию, создав путь большевикам обоих полюсов? Та же интеллигенция с жидовствующими.
А теперь? Творцы из интеллигенции и творцы из жидовствующих как бы исчезли, а на их место народная масса выбросила имя еврея, еврейского народа. Евреи создали революцию. Евреи разорили Россию. Евреи залили кровью наших отцов, матерей, братьев, сестер и детей города и села, горы и долы матушки России. Евреи изуверски уничтожили Царскую Семью. Евреи – виновники всех зол, постигших Россию. Еврейский народ должен за это ответить.
Такова злая человеческая психология; о немцах забыла, а на евреев взвалила. Если России есть какому народу предъявлять в будущем за все совершенное ныне зло вексель к уплате, то во всяком случае к германским народам, а не к еврейскому народу.
В Германии родился большевизм справа, и Германия же бросила в Россию большевизм слева. Если по существу борьба с последним, т. е. борьба с религией лжи, есть идейная борьба, то борьба с большевизмом справа, борьба с религией слепоты есть борьба с материалистическими расчетами, борьба с торгашами в основании.
* * *
В мае 1917 года в Вене состоялось совещание представителей германского и австрийского Генеральных штабов, на котором в целях прорыва русского фронта и внесения разложения в ряды русской армии было решено использовать революционное движение в России и прибегнуть к политическому оружию борьбы. К такого рода борьбе германские и австрийские офицеры Генерального штаба подготавливались специально еще в мирное время, и небольшой опыт испытания силы этого оружия был проведен немцами еще в 1905 году, в войну России с Японией. К использованию теперь именно политического оружия борьбы немцев побуждали две причины: первая – необходимость сосредоточить максимум вооруженных сил на Западном фронте для попытки нанести Антанте решительный и последний удар; вторая – вырвать из рук Англии ее политический успех в России.
Германский Генеральный штаб считал, что Февральская революция и свержение династии Романовых в России были произведены русскими революционными элементами при значительном моральном содействии и денежной помощи со стороны Англии. Эта причастность последней должна была укрепить в новой России влияние экономической соперницы Германии, почему захват политического руководства в свои руки казался немцам очень заманчивым и увлекательным в целях развития в дальнейшем своего нового политическо-экономического плана «Наступление на Восток».
Момент для наложения на Россию своего политического кулака представлялся Германии очень своевременным (необходимо иметь в виду, что Германия слепо верила в свои силы, как физические, так равно и политические): определившееся слабовластие политического центра России, при сильном недовольстве создавшимся положением крайних флангов и при полной политической незрелости массы населения, предоставляло, казалось, Германии возможность вести двойную игру, действуя на низменные инстинкты темного населения городов и деревень. Первой задачей основного плана немцев являлось ослабление интеллигентных и вооруженных сил России и приведение их к тому состоянию, при котором Германия могла бы приступить к мирным переговорам и предъявлять свои экономическо-политические требования. Этого положения намечалось достигнуть, с одной стороны, установлением жестокого террора против интеллигенции, а с другой – путем овладения темной массой, действуя под видом проведения принципов крайнего социалистического народовластия на ее низменные инстинкты. В дальнейшем руководившие исполнением этого плана немецкие большевики справа рассчитывали, соединившись с российскими большевиками справа, устранить насильственно социалистических вождей революции и водворить в России юнкерско-полицейский режим, родственный и дружественный по духу Германии Вильгельма.
Устранение с российского престола бывшего Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоровны вполне отвечало политическим планам Германии и согласовалось с личными несимпатиями Вильгельма к покойному главе Дома Романовых и его супруге. В политическом отношении бывший Царь по личным воззрениям и качествам был твердой преградой для германских вожделений, непреклонно отстаивая национальные интересы России и не допуская немцев к самостоятельному хозяйничанию. Николай II унаследовал от отца в полной мере тезис «Россия для русских», и если германофильствующие русские круги и германофильски настроенные некоторые члены Дома Романовых, часть министров и придворных, стоявших «у власти», создали ему в отечестве репутацию пособника Вильгельма, то будущая бесстрастная и справедливая история сумеет разобраться в исторической интриге, создавшей трагедию последнего царствования, объективно, отнеся успех этой интриги к слабости воли покойного Государя Императора и его слишком большому (тоже чисто русской черте) доверию к людям, при неумении их выбирать, но не к его личному германофильству, какового в нем не было и не могло быть.
Еще в 1899 году известный германофоб профессор Золотарев при громадном стечении публики высшего петроградского света прочел свою знаменитую лекцию, громившую предшественников Императора Александра III за их послабления, допущенные в отношении немцев в России, и за слишком большое увлечение колонизацией немцами южных губерний, и восхвалявшую Александра III, положившего предел грозному, но мирному завоеванию России немцами. Присутствовавший на лекции Государь Император Николай II по окончании ее подошел к лектору и в присутствии всей обширной аудитории обнял профессора Золотарева и поцеловал его, благодаря за здравость и смелость исторической справедливой критики. Вильгельм не мог забыть этого поцелуя Николая II, который к тому же не поддавался ни на какие шовинистические и честолюбивые планы императора-актера. Так, между прочим, Николай II отклонил в 1905 году предложение Вильгельма ввести в Варшаву германские войска и отказался от участия в фантастическом плане раздела мира «союзом трех императоров»: России, Германии и Турции.
Нелюбовь и недоверие Государя Императора к Вильгельму опирались на определенном понимании политического зла и корысти, сосредоточенных в этом германце-юнкере по отношению к России. Императрица Александра Федоровна не только не любила, она ненавидела Германию и императора Вильгельма и не могла говорить об этом без сильного волнения и злобы. Ее ненависть вытекала из того зла, которое Германия причинила Гессенскому герцогству. «Если бы Вы знали, сколько они сделали зла моей родине!» – говорила она близким людям. Это чувство ненависти было так остро в ней, быть может, и потому, что, лишившись маленькой девочкой матери, она все время воспитывалась в Англии у бабушки – королевы Виктории, вследствие чего и для Германии и Вильгельма Императрица Александра Федоровна являлась определенной англофилкой. Вильгельма она характеризовала как «актера, отличного комедианта, фальшивого человека». В Тобольске Государыня высказывала про него: «Я знаю его мелкую натуру, но я никогда не ожидала, что он может унизиться до общения с большевиками. Какой позор». Только общей болезнью слепоты, обуявшей русское общество в последние годы, можно объяснить возникновение клеветы против Императрицы Александры Федоровны, обвинявшей ее в германофильстве и любви к императору Вильгельму. Оба, и Государь и Государыня, больше всего боялись во время ареста в Тобольске и Екатеринбурге, чтобы их насильно не увезли в Германию, что вполне могли проделать шовинистские германские руководители для своих политических целей.
Во исполнение задачи, поставленной политикой, германским Генеральным штабом во главе с генералами Людендорфом и Гофманом, был разработан подробный план военно-политического наступления против России, детально предусматривавший ряд последовательных политических этапов во внутреннем развитии русской революции, в связи с теми чисто военными мероприятиями, которые одновременно намечалось проводить военными силами Германии. Общее руководство исполнением плана было возложено на генерала Гофмана, а для непосредственного руководства политической атакой германским Генеральным штабом была нанята ему известная группа членов циммервальдовской интернациональной конференции во главе с Лениным и Бронштейном, с которыми еще раньше у немецкого военно-политического шпионажа были связи. Шайка этих главарей была вывезена немцами из Швейцарии, провезена через Германию и Финляндию в запломбированном вагоне и доставлена в Смольный институт в Петроград, где помещался Совет солдатских и рабочих депутатов. Здесь же обосновался и секретный штаб из немецких офицеров, ближайше управлявший последовавшими внутренне-политическими операциями, террором и пропагандой.
В начале сентября 1917 года об этом немецком плане во всех его подробностях стало известно в Могилеве, в Ставке Верховного главнокомандующего. Документы были получены из вполне верного источника, почему тогдашний начальник штаба генерал Духонин докладывал о замыслах Германии Председателю Совета Министров и Верховному главнокомандующему Керенскому и предупреждал о серьезности надвигающейся опасности. Керенский отнесся к предупреждению, по-видимому, с недоверием и, кажется, не сообщил даже своим коллегам по правительству о полученных в Ставке агентурным путем сведениях.
Между тем события октября и ноября месяцев стали развиваться с поразительной точностью, во всем согласно с программой, намеченной планом германского Генерального штаба. Ставка, имея в стенах Смольного института свою агентуру, была вполне осведомлена о присутствии там немецких офицеров Генерального штаба, об их руководстве различными террористическими актами и борьбой на внутренних фронтах и о предстоящем перевороте в Петрограде. К этому же времени приблизительно необходимо отнести присоединение к немцам российских большевиков справа. Уверенные в силе власти германцев над главарями циммервальдовской шайки и убежденные, что в нужный и желательный момент эти главари будут убраны со сцены и власть перейдет в их руки, российские ревнители юнкерской германской религии слепоты – светское офицерство военного времени, некоторые жандармские и полицейские чины и, к стыду, значительное количество высшего генералитета армии – стали тайно примыкать к нараставшему пролетарскому большевистскому движению слева. Из числа таких генералов в Ставке появились генералы Гутор и Бонч-Бруевич, которые стали пытаться убедить генерала Духонина в том, что сохранение верности союзникам ошибочно, что внутренне-политический момент требует учесть значение нового движения как безусловно всенародного, и категорически опровергали данные агентурных сведений о причастности к этому движению германского Генерального штаба.
Генерал Духонин остался верен русскому национальному началу и, как честный солдат, пал на своем посту, не уступив его добровольно ни сынам лжи, ни германским юнкерам, ни российским предателям, соблазнявшим его, – генералам Гуторам, Бонч-Бруевичам и Одинцовым. Необходимо отметить, что во главе палачей, ворвавшихся утром 20 ноября в кабинет генерала Духонина, были – переодетый германский офицер и переодетый русский жандармский офицер Родионов, который еще в мирное время состоял на службе у германского Генерального штаба и который позднее был командирован с латышами в Тобольск для перевоза Царской Семьи в Екатеринбург.
Германцы честно выполнили принятые на себя, по уговору с Лениным и Бронштейном, обязательства; организовали матросню и чернь для выборгской кровавой бойни, перебили теми же «народными войсками» юнкеров в Петрограде и свергли правительство Керенского, помогли ликвидировать царскосельскую авантюру главковерха Керенского, разложили фронты и развратили солдат, растерзали Духонина, овладели Ставкой и, наконец, изгнали из Киева непослушных петлюровцев, оказав помощь советскому воеводе, бывшему подполковнику Муравьеву, овладеть Украиной.
10 февраля немцы предъявили утвержденной ими в России власти Ленина и Бронштейна к уплате первый вексель – подписать акт о прекращении войны с Германией, Австрией и Болгарией.
«Надо бы было – мы бы вам и чуму привили»
Таким откровенным заявлением приветствовали немецкие офицеры в Берлине русских офицеров, привезенных туда после поражения гетмана Скоропадского на Украине.
Трагический, постыдный конец германско-украинской авантюры еще не открыл глаз немецким юнкерам и не привел их к сознанию, что пока в стремлении к власти над миром юнкер религии лжи победил юнкера религии слепоты.
Ленин и Бронштейн, по их собственному мнению, – борцы за мировую власть пролетариата и истребители капитализма; по мнению же заключивших с ними сделку германцев – наемные начальники политического авангарда Германии в борьбе за мировую власть немецкого капитала. Германская армия капитала всей могучей силой своего национализма поддерживает авангард, уничтожающий капитал. Колоссальный абсурд, только и могший родиться в голове юнкерской Германии, поглупевшей от побед.
Результаты постройки немцами этой новой Вавилонской башни не замедлили сказаться – совершенно неожиданно для генерала Гофмана и всей безумствовавшей юнкерской Германии их щедро оплаченный агент Лейба Бронштейн, он же Лев Троцкий, комиссар Совнаркома, отказался поставить свою подпись на первом же договорном акте с Германией. Лейба Бронштейн вовсе не разделял трусливой покорности и раболепного преклонения перед немецким шовинизмом, подобно генералам Гуторам, Бонч-Бруевичам, Клембовским, Балтийским, Одинцовым и прочей плеяде российских иуд и природных большевиков справа.
Германия вынуждена была объявить войну своим союзникам по постройке Вавилонской башни.
Тяжелое время настало тогда для советской власти. Зашаталась пятиконечная звезда, прочно утвердившаяся было над святыми соборами и стенами Кремля белокаменной матушки-Москвы. Немцы заняли Украину, соединились с примкнувшим к ним донским казаком генералом Красновым, лишили своих ставленников в Москве хлеба, надвинулись к Пскову и Петрограду, закрыли пути подвоза с моря, сдавили воронье гнездо Совнаркома со всех сторон и в самое гнездо посадили своего сатрапа Мирбаха, как эмблему немецкой власти над созданным ими советским режимом в Москве.
Железный кулак самонадеянных и слепых тевтонских юнкеров-генералов стянул петлю на шеях Ленина и Бронштейна и с ними вместе грозил задушить в ужасных муках голодной смерти 100 миллионов подданных советской державы. Застонал народ; вопли голодных людей, плач распухших с голода детей, проклятья обезумевшей от произвола власти толпы, леденящие ужасом крики и стоны бесчисленных жертв разгулявшейся черни и разнузданной, полупьяной советской опричнины наполнили Русь от края и до края, и, казалось, нет той силы, нет той воли, которая могла бы разжать эти хищно сжавшиеся над Россией когти одураченных и обманутых германских дикарей.
На Ленина и Бронштейна надвигалась гроза и с другой стороны – молодые сибирские войска и добровольцы со всей России, сорганизовавшись под покровом чехословацкого восстания, быстро надвигались из недр Сибири к берегам Волги и лесам Урала. С севера от Архангельска и Мурмана стремились протянуть сибирякам руку связи и помощи англичане, и кольцо внешних врагов готовилось замкнуться вокруг царства большевистской державы. Искры подымавшихся на окраинах Совроссии против поработителей народа и узурпаторов власти пожаров внутренних восстаний разлетались все дальше и дальше, и уже загорались города по среднему и верхнему течению Волги, угрожая перекинуться в самое сердце России.
Ужас голодных бунтов, с одной стороны, произвол наглой иноземной, наемной опричнины – с другой, угроза поголовного народного восстания, – с третьей стороны, и все это стягиваемое и сжимаемое внешними российскими и иностранными силами врагов и бывших союзников – вот та обстановка, среди которой оказались к лету 1918 года нанятые и привезенные из Швейцарии сыны лжи, непосредственные выполнители политической авантюры легкомысленных и ослепленных германских шовинистов. В созданном ими центральном аппарате этой политической авантюры, носившем сокращенное название «Совнарком», «царил страшный хаос, растерянность и полная неразбериха», говорит один из идейных российских коммунистов, попавший в это время из провинции в Москву для получения руководящих указаний, но вернувшийся ни с чем назад, за невозможностью добиться чего-либо от главы циммервальдовской шайки товарища Ленина.
Владимир Ильич Ульянов, по кличке Ленин, поставленный немцами во главе их политического плана наступления на Россию, – тип вполне определенный и ясный: «правая бровь у него выше левой, правая ноздря ниже левой; асимметрия в лице, указывающая на дегенеративность, вырождение. Такие люди страдают манией величия, они упорны в своих мнениях» – таково заключение врача о Ленине, а выявленная им деятельность добавляет – дегенерат физический, дегенерат умственный и моральный. Проповедник социалистических свободы и равенства и садический преступник, наслаждавшийся в стенах своего кабинета ежедневно подававшимися ему списками расстрелянных, утопленных, удушенных и замученных жертв реформ всемирного братства и любви. Лидер раскола социал-демократической партии, руководившийся не столько идеями, сколько стремлением захватить капиталы партии, и продажный главарь циммервальдовской шайки, спрятавшийся от своих хозяев и народа в стенах русского Кремля, охраняемого наемными зверями интернациональной гвардии из подонков Венгрии, Германии, Латвии и Китая.
Ленин готов был снова продаться перед лицом создавшейся обстановки: он заговорил о необходимости сотрудничества с буржуазными классами, о допустимости свободного волеизъявления в окраинных областях бывшей России, о неизбежности всевозможных уступок народным массам. Он признавался в неудачности произведенных опытов и в тайных заседаниях со своими клевретами откровенно считал дело проигранным, высказывая мысль, что пора уходить.
А Лейба Бронштейн?
Создавшаяся обстановка нисколько его не потрясла; этот ад на земле Совроссии был именно той атмосферой, в которой ярче всего проявлялись сила волн, энергия, хитроумность и вся отрицательная гениальность этого человека-демона. Пока Ленин сидел безвыходно в своем кабинете и изыскивал способы наиболее благополучной и обеспеченной новой купли-продажи совести и… жизни, Бронштейн, как злой дух, метался по всем углам своего стонавшего, но официально облагодетельствованного им царства. Где он ни появлялся со своими опричниками, потоки крови, зарева пожаров, неописуемые пытки и зверства затмевали и заливали кровь, пролитую восставшими, искру протеста, брошенную исстрадавшимся народом. Не око за око и зуб за зуб, а сотни, тысячи человеческих жизней расплачивались за одну жизнь советского деятеля, за одну мысль противодействия ему – Лейбе Бронштейну. «Нет ничего лучшего, как вспыхнувшее восстание, – говорил Лейба. – Это как нарыв, вышедший наружу; один сильный и ловкий удар ланцета и – все кончено… Никаких уступок, никаких послаблений; расстрел, огонь, пытка, террор – вот единственный ответ на всякие угрозы». Он прилетал на минуту в Москву, чтобы здесь определенно где-либо на митинге разгромить колебания Ленина, внести от себя тайные поправки в ленинские распоряжения, и мчался снова по России, неся с собою кровь, кровь и кровь без конца.
В этот период существования вновь созданного царства последователей религии лжи между главарями большевизма слева произошел, безусловно, раскол; более сильными, исторически закаленными, изуверскими, идейными борцами оказались сыны лжи из еврейского племени во главе с Лейбой Бронштейном, Нахамкесом-Стекловым и Янкелем Свердловым. Их клевреты, в большинстве сыны лжи их же племени, были рассыпаны всюду и вкраплены во все официальные советские организации на местах и в центре. Много распоряжений, исходивших от официальной советской власти, незаметно для нее самой видоизменялось и проводилось на местах так, как это было надо и желательно восторжествовавшей в то время партии Лейбы Бронштейна. Он был в то трудное время вершителем судеб России и тайною главою большевистской власти, а не Ленин, за которым оставалось официальное положение главы. Он был главным вдохновителем и организатором знаменитой чрезвычайки, всесильного жестокого органа, сосредоточившего в сущности в своих руках почти полностью государственную власть советской России. Этот орган стал в действительности тем административным органом, который управлял страной, а не советы, президиумы и исполкомы, оставшиеся официальными органами власти и создававшие внешнюю форму народовластия советскому режиму.
Эта система организации советской власти должна обратить на себя особое внимание изучающих различные события, совершившиеся за период лета 1918 года, так как только эта установившаяся двойственность в управлении страной разъясняет многие обстоятельства, почти совершенно неуловимые, если пользоваться только одними официальными документами деятельности главарей большевистского режима. Коренная ложь, лежавшая в основе большевистского учения, не могла не повлечь за собой лжи и в попытке практического применения учения в жизни. Ложь должна была быть всюду: и в проповедовавшейся идеологии, и в формулировавших ее законах, распоряжениях и приказах, и в путях проведения их в жизнь, и в самих свойствах этих путей, составлявших систему административной правительственной сети управления страной. В каждом органе, в каждом управлении, в каждом учреждении советской власти должна была быть непременно ложь. Ведь только через вечную, бесконечную и постоянную ложь во всех проявлениях вновь строившейся жизни людей можно было привести их к конечной цели, к религии лжи.
Уловить при изучении эту колоссальную ложь всегда и во всем нельзя, так как эта ложь создается не столько формой, сколько самим духом большевистского учения. Когда в эту ложь втягиваются бессознательные и тупые русские люди (Медведев, Ермаков, Якимов – в Екатеринбурге; весь состав исполкома – в Алапаевске; мотовилихинские рабочие – в Перми) или русские люди, примкнувшие к большевизму слева не по идее религии лжи, а по расчету, по слепоте, по большевизму справа (Саковичи, Белобородовы, Гуторы, Бонч-Бруевичи, Муравьевы, Родионовы), то ложь почти сама всплывает на поверхности гнусных деяний этих предателей веры и родины. Но когда творцами лжи являются непосредственно искушенные, закаленные, идейные и исторически воспитанные последователи религии лжи из рядов израильского племени (Бронштейн, Янкель Свердлов, Исаак Голощекин, Сафаров), то уловить ложь почти невозможно; она чувствуется сердцем, нащупывается логикой, но не фиксируется документами, не вырисовывается как факт. Истина почти всегда остается покрытой туманом искусной лжи.
Лейбу Бронштейна не смутили угрозы немцев. Со своими клевретами он не остановился ни перед голодными бунтами, ни перед опасностью переворота, ни перед стягивавшимся кольцом военных сил внешних противников; не смутили его и заколебавшиеся коллеги с Лениным во главе.
Бронштейн и его сподвижники – это прямые потомки революционеров древнего Израиля, революционеров прежде всего против Бога, а затем против всех народов, исповедующих Единого Бога, в том числе и против своего еврейского народа. Их революционный фанатизм не остановился в древности перед разрушением ради борьбы с Богом своего народа, перед его рассеянием по всему миру, перед навлечением на него проклятия других народов мира. И теперь Бронштейн выгнал от себя пришедших к нему представителей еврейского народа, пытавшихся уговорить его прекратить злое дело, навлекавшее беды на весь народ. Он отрекся от своего народа, от религии своего народа, от антихристианства современного еврейского племени.
Бронштейн и его сподвижники – евреи по племени, израильские революционеры по идее и последователи религии диавола по духу. Эта историческая преемственность делает их совершенно исключительными деятелями в ряду всех прочих советских работников. Они интернационалисты не по идее, а по существу; они противники существующих государственных форм не по духу, а по мистической, исторической наследственности от революционеров Израиля; они безбожники не по отрицанию Бога, а по преемственности от предков древнеисторической борьбы с Богом. Поэтому в их деятельности прежде всего всегда и во всем движущим импульсом является борьба с Богом, с Его религией и всякой идеологией, носящей начало Божественности. Созидание новой жизни, ее новых социальных форм – для них задача второстепенная, быть может, последующая, но пока совершенно отбрасываемая, как это было и в течение всей их бесконечной революционной деятельности в истории Ветхого Завета.
И теперь, когда внешние и внутренние противники сдавили советскую власть со всех сторон, когда социалистические эксперименты Ленина грозили довести массы до исступления, вся энергия, предприимчивость, дьявольская жестокость и безумное изуверство Бронштейна и его последователей сосредоточились не на сопротивлении надвигавшейся политической и социальной опасности, а главным образом на борьбе с Богом, Богом русского народа, с его верой, со всем тем, что в исторически воспитавшемся представлении русского народа было связано с его идеологическим мировоззрением – Божественностью происхождения или Божественностью освящения: Помазанник Божий, православная вера, Богохранимая держава и патриархальная семья.
Уничтожение Царской Семьи и близких ей по духу членов Дома Романовых и приближенных, надругание над верой и гонения на ее служителей, безграничное уничтожение народных масс, интернационализация армии и национализация женщин и детей в семье – вот ближайшие задачи, поставленные себе изуверами израильского племени большевистского режима.
Подготовка преступления центром
С момента Октябрьского переворота 1917 года Царская Семья, проживавшая под охраной в Тобольске, оказалась всецело во власти главарей большевистского движения. К тому времени охрана ее уже успела в большей массе достаточно распуститься и развратиться, и любой комиссар-оратор мог бы легко подвигнуть товарищей на совершение какого угодно насилия и гнусности…
Однако прошли ноябрь, декабрь, январь – большевики ее не трогают, не интересуются, но и не заботятся о ней. По позднейшему заявлению еврея Сафарова, пролетарская власть не видела в ней опасности и не боялась ее.
За этот период в советской власти еще не проявился раскол и партия израильских богоборцев не выявилась в своей специальной деятельности.
Но вот наступил февраль – месяц, с которого для главарей советской власти начали сгущаться тучи над их головами. Февраль, март, апрель – это период постепенного нарастания событий, все более и более охватывавших правительство взбунтовавшихся наемников немецкими железными тисками, контрреволюционными внешними русскими силами и многочисленными восстаниями своих насилуемых властью подданных. Обстановка потребовала для спасения положения максимального напряжения энергии, решительных действий власти и, главное, разгрома и уничтожения наиболее опасных для духа религии лжи очагов реакции и «предрассудков» народной идеологии.
В этот именно период, потребовавший полного выявления деятельности, сорганизовалась по своей специальности партия Бронштейна, выбросила всюду своих активных работников, окутала Россию паутиной организаций чрезвычайной следственной комиссии и приступила к своей исторической миссии – богоборству.
Могла ли быть ими оставлена в стороне Царская Семья в Тобольске?
Конечно, нет. Свержение Царя, развращение народа материализованными социалистическими учениями низвергнуть идеологию народа, исторически воспитанную и вытекающую из духа самого русского народа, не могут. Не так легко откажется русский народ от Помазанничества Богом своих Верховных государственных правителей.
Современный большевик Бронштейн, как потомок революционеров Израиля, вероятно, лучше знал и понимал устойчивость этой идеологии, чем современный русский большевик Ленин. В нем это сознание было укреплено всей историей революционного движения в древнем Израиле, которое в конце концов привело к сектантству в религии: Христос – Мессия, Он же будет и земной Царь, – но не к отказу народа от своей идеологии.
Нити паутины Бронштейна протянулись и к Тобольску.
При изучении истории периода, предшествовавшего убийству Царской Семьи, создается впечатление, что уже в это время судьба бывшего Государя Императора и его Августейшей Семьи была предрешена, и главари задуманного преступления стали опутывать намеченные будущие жертвы как бы паутиной, дабы не выпустить их из своих рук и покончить с ними, когда момент будет благоприятный или когда по каким-либо обстоятельствам создастся положение, угрожающее вырвать их из рук бронштейновских изуверов.
Эти мысли логически вытекают из следующих обстоятельств: как уже известно, состав Екатеринбургского президиума областного совета был совершенно исключительным: из 12 членов – восемь были евреи (Сафаров, Войков, Исаак Голощекин, Чуцкаев, Янкель Юровский, Поляков, Хотимский, Краснов), при этом Сафаров и Войков были связаны непосредственно с Бронштейном, Нахамкесом и Янкелем Свердловым еще по Швейцарии, а Исаак Голощекин – личными отношениями с Янкелем Свердловым и Апфельбаумом-Зиновьевым. В Тобольский местный совдеп были включены евреи Дуцман, Пейсель, Дислер и Заславский, причем исключительно эти четверо вошли в президиум совета и проявили особый интерес к Августейшим узникам. Все последовавшие события, связанные с судьбой Царской Семьи в Тобольске, обсуждались и разрешались именно этими членами совдепа. Из них еврей Заславский, игравший главнейшую роль, был прислан в Тобольск из Москвы, и вместе с ним был командирован в Тобольск матрос Хохряков, кронштадтский зверь-человек, участник всех бывших крупнейших террористических актов против офицеров и буржуев. При Хохрякове втайне состоял особый Екатеринбургский отряд из латышей, мадьяр и немцев, выделенный, как уже говорилось выше, из особого голощекинского отряда.
Еврей Заславский и матрос Хохряков приехали в Тобольск 14 марта. Хохряков имел право непосредственных сношений с Москвой и Екатеринбургом, и действительное назначение его в Тобольске прикрывается назначением его председателем местного совдепа. В губернаторском доме, где содержалась Царская Семья, Хохряков не показывался вплоть до окончания инцидента с Яковлевым, о чем будет сказано дальше. После отъезда же Яковлева Хохряков объявил себя распорядителем судьбы оставшихся в Тобольске Царских детей и предъявил мандат «уполномоченного всероссийскими исполнительными комитетами Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и областным советом Урала по перевозке Семьи бывшего Царя».
Еврей Заславский по прибытии в Тобольск зачислился в члены президиума местного совдепа, но изредка наведывался в губернаторский дом и вел большевистскую пропаганду среди солдат охраны.
Таким путем главари в Москве имели возможность тщательно наблюдать за Царской Семьей в Тобольске и в любой момент через Заславского, Хохрякова и особый Екатеринбургский отряд покончить с членами Царской Семьи. Есть полное основание допустить, что еврей Заславский и матрос Хохряков были командированы именно для того, чтобы покончить, не откладывая, с Царской Семьей. Но действовать в открытую изуверы боялись: во-первых, охраны, бывшей при Царской Семье, во-вторых – благоприятно настроенного к Царской Семье населения Тобольска; в-третьих, из-за опасения открытым убийством вызвать в народных христианских массах движения на идеологических началах. Без лжи в таком преступлении главари обойтись не могли; они должны были или действовать в тайне, или совершить убийство, прикрывшись какой-либо провокацией. Так по крайней мере можно предполагать из последовавшей деятельности еврея Заславского.
Заславский, приехав в Тобольск, по-видимому, наметил прежде всего отделить охрану от Царской Семьи, изолировать последнюю и поставить ее в обстановку более скрытой жизни, чем в губернаторском доме, на виду у всего города. Для этого он стал распускать среди членов местного совдепа и между чинами охраны Семьи всевозможные провокационные слухи: что Царской Семье угрожает опасность нападения каких-то шаек, решившихся будто бы покончить с бывшим Царем и его Семьей; что под губернаторский дом ведется подкоп, с целью взорвать его вместе со всеми живущими в нем, и тому подобные ложные и фантастические сведения, которые, однако, легче всего воспринимаются темной народной массой и советскими деятелями из ее среды. В результате местный совдеп по предложению евреев Дуцмана, Пейселя и Дислера, поддержанному председателем Хохряковым, постановил: перевести Царскую Семью «на гору», как называлась в Тобольске тюрьма, расположенная на горе за городом. Так как без согласия охраны еврей Заславский не рисковал приступить к перемещению, то, для убеждения солдат в необходимости такого мероприятия, 10 апреля в совдеп были приглашены депутаты от каждой роты охранного отряда. Предчувствуя недобрые замыслы, с депутатами пошел, незваным, комендант охраны полковник Кобылинский.
В местном совдепе делегация была принята президиумом в составе только что упомянутых выше трех евреев: Дуцмана, Пейселя и Дислера, – к которым присоединился Заславский, под председательством Хохрякова. Пришедшим было объявлено решение совдепа – перевести всю Царскую Семью «на гору». Попытка полковника Кобылинского опровергнуть решение заявлением, что охрана Царской Семьи подчиняется не местному совдепу, а центральной власти, – не помогла. Тогда полковник Кобылинский повернул вопрос так, что для охраны Царской Семьи от готовящихся, по рассказам еврея Заславского, покушений в тюрьму должна быть переведена и вся охрана, без которой обойтись нельзя. Тут, естественно, делегаты товарищи-охранники загалдели, зашумели, стали угрожать президиуму, и совет евреев принужден был отступить, сославшись на то, что, собственно говоря, окончательного решения совдеп по этому вопросу еще не выносил, а только высказывается принципиально.
Во всяком случае замысел главарей на этот раз сорвался и предупредил их на будущее время быть еще более осмотрительными и искусными. Можно думать, что в замыслах еврея Заславского скрывалась первая попытка революционеров Израиля покончить с Царской Семьей, так как о постигшей неудаче Заславский поспешил донести в Москву, приписывая ее опасному настроению солдат существующей при Царской Семье охраны.
* * *
В апреле месяце намечается вторая попытка сподвижников Бронштейна по племени и духу покончить с Тобольскими Августейшими узниками.
12 апреля в Тобольске было получено распоряжение, подписанное Янкелем Свердловым: «Долгорукова, Татищева, Гендрикову и Шнейдер считать также арестованными». До этих пор упомянутые чины свиты, добровольно последовавшие за Царской Семьей в ссылку, проживали напротив губернаторского дома в доме Корнилова и пользовались относительной свободой, т. е. могли ходить по городу в сопровождении солдат охраны. После распоряжения Янкеля Свердлова их переместили в губернаторский дом, и судьба их, следовательно, должна была быть тождественной с судьбой всей Царской Семьи. Чем руководился Янкель Свердлов при выборе придворных? Почему были указаны именно эти четыре лица? Отчего исключили состоявших в одинаковом положении баронессу Буксгевден и доктора Деревенько? Вопросы, которые останутся без определенных ответов, и только в отношении доктора Деревенько, судя по его дальнейшему образу действий, можно с достаточным вероятием заключить – не подходил по духу к обреченной Царской Семье.
По-видимому, в это же время в Москве создались обстоятельства, понудившие советскую власть принять меры к перевозке Царской Семьи из Тобольска в Москву. Каковы были причины, побудившие Москву предпринять эту перевозку, можно судить лишь предположительно по совокупности всех обстоятельств, сопровождавших это решение.
Можно определенно сказать, что в данном случае никакое давление немецких групп или германофильствовавших монархических русских партий здесь не имело места. В этот период немцы в России, заняв Украину, Псков, угрожая Петрограду, чувствовали себя полными хозяевами положения и вполне уверены были в достижении желаемой экономической победы. Бывший Царь им был совершенно не нужен; в разыгравшемся до апогея самомнении они совместно с примыкавшими к ним русскими элементами лелеяли совершенно иной план реставрации монархической России. Их взоры были обращены туда, на юг, в Крым, где скромно и тихо проживал популярнейший из Великих князей Николай Николаевич, к которому всей душой тянулись доблестные остатки былой могучей русской армии во главе с генералами Алексеевым и Деникиным. Им было вовсе не до несчастной Царской Семьи.
Решение официальной советской власти перевезти Царскую Семью могло быть вызвано двумя причинами: или, опасаясь повсеместных восстаний, советская власть боялась самосуда или похищения, или же перевозка была инспирирована официальной советской власти партией Бронштейна, которая могла использовать перевозку для выполнения своих темных замыслов. Последнее, судя по последовавшим событиям, представляется более вероятным.
Для выполнения перевозки Царской Семьи советская власть командировала в Тобольск Василия Васильевича Яковлева, снабдив его мандатом «чрезвычайного комиссарa Всероссийского центрального исполнительного комитета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов». Полномочия и предписания были выданы Яковлеву от президиума ЦИКа за подписью Янкеля Свердлова и скрепою Аванесова. Этими документами Яковлев уполномочивался вывезти из Тобольска всю Царскую Семью, причем все лица охраны Царской Семьи обязывались исполнять все его требования и приказания под угрозой «расстрела на месте» в случае неповиновения.
Яковлев приехал в Тобольск 22 апреля вечером. Он не принадлежал ни к изуверам партии Бронштейна, ни к коммунистам Ленина. По своим политическим убеждениям он состоял в партии эсеров и еще при царском режиме как один из активнейших деятелей партии был за что-то приговорен к смертной казни, но удачно бежал и скрывался за границей, в Германии и Швейцарии.
Яковлев был типичным российским идейным политическим деятелем крайних социалистических направлений, но совершенно был чужд темной деятельности закулисных сторонников Бронштейна и, конечно, не предполагал даже о существовании таковых в центральных и местных органах власти и о степени могущества и влияния этой изуверской организации. Получив от официальной центральной власти полномочия на перевозку Царской Семьи, он приехал в Тобольск, чтобы честно выполнить принятое на себя обязательство.
Неудача миссии еврея Заславского была представлена сторонниками Бронштейна официальной советской власти в Москве как акт неповиновения охраны местной советской власти, вытекавший из контрреволюционности солдат охраны, сформированной еще при прежнем правительстве. Совершенно ясно, что Яковлев был инструктирован в Москве именно в такой окраске происшедшего инцидента, почему в Тобольске он прежде всего постарался заручиться расположением солдат охраны.
23 апреля Яковлев собрал весь отряд и обратился к товарищам с длинной речью, действуя главным образом на их слабые струнки. Говорил он хорошо, просто, ясно и увлекательно; было видно, что он прекрасно понимает психологию толпы и умеет ею пользоваться. С первых же слов он заявил солдатам, что вот их представитель Лунин приезжал в Москву и хлопотал о суточных деньгах; деньги он, Яковлев, привез и каждому будет выдано не по 50 копеек суточных, как было при Временном правительстве, а по 3 рубля на человека в сутки. Солдаты стали осматривать его, стали особо подробно разбирать печать на нем, видимо, питая некоторое сомнение в личности Яковлева. Он это сразу же понял и снова начал говорить солдатам о суточных, о том, что вот теперь они все будут отпущены и станут свободными ехать по домам, к своим семьям и т. п. В конце он упомянул, что вот-де между отрядом и местным советом произошли недоразумения из-за вопроса о переводе Царской Семьи в тюрьму, что он эти недоразумения выяснит.
Как ни были уже развращены солдаты, но инстинктивно почувствовали, что Яковлев приехал с чистой задачей по отношению к Царской Семье, и приняли его сторону. Конечно, большую роль сыграли и привезенные Яковлевым деньги, розданные солдатам на следующий же день. Однако все это не спасло в будущем положения.
Странная обстановка создалась в Тобольске с приездом туда Яковлева; совершенно необъяснимая, если не учитывать той двойственности и лжи, которые выявились во всей системе большевистского управления и режиме, обрушившихся вообще на несчастную Россию. Яковлев вполне убежденно считал себя единственным и высшим представителем всероссийской центральной власти в Тобольске и в то время ни минуты не сомневался в честности и добросовестности этой командировавшей его центральной власти, возглавлявшейся евреем Янкелем Свердловым. Он верил в силу этой власти, в ее единомыслие в достижении целей перестроения России в новые социальные формы, и не мог предполагать, что в советской России может параллельно существовать другая власть, другая, более значительная сила, руководимая в достижении цели своими побуждениями, своими идеями, не дебатируемыми открыто в официальных органах советской власти и не доверяемая каждому честному работнику официальной власти, хотя бы и «чрезвычайному уполномоченному».
В Тобольске одновременно с Яковлевым находились еврей Заславский и палач Хохряков, командированные также по распоряжению Москвы и располагавшие к тому же силами особого отряда интернациональных палачей. Хохряков пользовался, безусловно, большим доверием не только центральной власти, но и промежуточной местной, екатеринбургской; он был уполномоченным от ЦИКа, как и Яковлев, но с добавлением: «и Уральского областного совета». Исаак Голощекин приставил Авдеева «для оказания содействия», но в действительности для наблюдения за поведением и каждым шагом Яковлева. Авдеев неотступно был все время при Яковлеве, всюду совал свой нос, высказывал свои соображения, с которыми Яковлеву приходилось считаться и порой вести борьбу. Он не содействовал Яковлеву, а мешал, тормозил и усложнял его задачу.
Заславский с Хохряковым, действуя от центральной власти, стараются запрятать Царскую Семью в тюрьму. Яковлев, действуя от той же власти, имеет определенное приказание – вывезти в Москву. Не чувствуется ли во всем этом действие двух разных сил центральной власти, не однородных в путях достижения целей, не единомышленных в руководящих ими идеях? Одна из сил, более лживая, темная, злобная и фанатичная, как бы прячется за другой силой, действующей явно, пользуясь для проведения своих планов не органами управления второй силы, а лишь специальными своими агентами, вкрапленными во все органы.
Вечером в день приезда Яковлев виделся с евреем Заславским, Хохряковым и прочими упоминавшимися выше главарями местного совдепа и, казалось, не усмотрел в них людей другого лагеря и какой-либо опасности для выполнения своей задачи. Но на другой день положение совершенно изменилось. Дело в том, что после беседы с солдатами охраны Яковлев отправился в губернаторский дом и здесь узнал, что наследник Цесаревич болен настолько серьезно, что нельзя было думать о перевозке его в Москву, особенно приняв во внимание необходимость тяжелой дороги в распутицу на лошадях до Тюмени. Было ясно, что вывезти всю Царскую Семью, как это было поручено Яковлеву, он не сможет, что создавало опять неблагоприятную обстановку для замыслов еврейских изуверов центра. Когда вечером Яковлев сообщил об этом главарям местного совдепа и заявил, что он намерен вывезти хотя бы часть Семьи, то Заславский и Хохряков, поддержанные евреями Дуцманом, Пейселем и Дислером, резко стали в оппозицию Яковлеву, грозили ему силой не допустить выполнения такого замысла и создали настолько острую форму прений, что Яковлев почувствовал серьезную опасность, угрожавшую ему и Царской Семье со стороны упомянутых лиц.
Яковлев сильно заволновался; привезенной с собой охраны у него было слишком мало, чтобы противопоставить ее местным силам Заславского и Хохрякова, особенно если им удалось бы перетянуть на свою сторону и охрану, состоявшую при Царской Семье, для чего теперь обстановка складывалась благоприятно в пользу Заславского. Не подозревая, что последний мог действовать по тайным указаниям из центра, Яковлев решил прежде всего получить подтверждение от центральной власти своего намерения везти часть Семьи, а затем, насколько возможно, обезвредить влияние Заславского в охране и обеспечить себе этим возможность выезда из Тобольска. На Заславского и Хохрякова он смотрел лишь как на местных деятелей и считал их поведение проявлением самоуправства местных совдепистов, пользовавшихся физической силой, находившейся в их распоряжении, и не желавших считаться с распоряжениями центральной власти.
Яковлев бросился на прямой провод с Москвой, изложил сложившуюся обстановку: трения с местным совдепом, опасения насилия со стороны местных красноармейцев и противодействия охраны – и получил ответ… везти хотя бы одного бывшего Царя, а с ним может ехать кто угодно.
Яковлев, как ему казалось, добился первого успеха; тем не менее заторопил с отъездом, потребовав, чтобы он состоялся в следующую же ночь, но нервность его не покидала и опасение возможных насилий не оставляло. Поэтому день 24 апреля он посвятил задачам по обезвреживанию Заславского.
Как человек интеллигентный, умный и наблюдательный, Яковлев заметил, что в местном Тобольском совдепе существовало два боровшихся направления: Омск считал Тобольск принадлежавшим к сфере влияния Западной Сибири, а Екатеринбург, причислявший себя к Центральной России и центральной власти Европейской России, оспаривал и считал Тобольск уральским городом. Представителем Омска в совдепе был студент Дегтярев, а представителем интересов Центральной России и Екатеринбурга – тот же еврей Заславский. Яковлев решил использовать это соперничество между Дегтяревым и Заславским и дискредитировать последнего в глазах солдат охраны. Для этого 24 апреля днем Яковлев снова собрал весь отряд на митинг и привел туда Дегтярева и Заславского, который не подозревал о хитрости Яковлева. На митинге Дегтярев выступил с речью к охранникам, все содержание которой сводилось к обвинению Заславского в том, что он искусственно нервировал солдат охраны, создавая ложные слухи об опасности, убежавшей Царской Семье, о подкопах, ведущихся под дом, и т. п. Заславский пытался защищаться, но тщетно. Его ошикали, освистали и в результате он вынужден был покинуть собрание.
Потерпев снова неудачу в глазах охранников, Заславский спешно бросился в Екатеринбург, выехав из Тобольска часов на шесть раньше Яковлева.
Все это столкновение с Заславским и Хохряковым может быть, конечно, всегда истолковано как инцидент, возникший на почве самоуправства местных большевистских деятелей. Но в связи с общим ходом последовавших событий, безусловно, чувствуется, что все эти отдельные события находились во внутренней связи между собою и вытекали из какого-то особого плана, совершенно отличного от плана доставки Царской Семьи куда-либо в другой пункт и руководящий центр которого был в Москве, в среде центральной советской власти.
Освободившись от Заславского, Яковлев все же не успокоился; предчувствие недоброго его не покидало, но он не сознавал, откуда надо ждать опасности. Ему все же продолжала представляться угроза со стороны местных тобольских сил, местных влияний. Только поздно вечером 24-го, когда все уже было подготовлено к отъезду, он снова собрал охрану и тут объявил, что увозит из Тобольска бывшего Государя и сопровождавших его Государыню Императрицу, Великую княжну Марию Николаевну и доктора Боткина, причем просил солдат сохранить это в секрете. Последнее несколько смутило солдат, но примирились они на том, что выбрали из своей среды товарищей: Матвеева, Карсавина, Шикунова, Лупина, Лебедева и Набокова, – которые должны были сопровождать Государя до места нового назначения.
Отъезд состоялся в 4 часа утра 25 апреля. Яковлев никому не объявил пункта, куда он должен доставить бывшего Царя, но не переставал торопить и в дороге, как бы допуская возможность погони. Нигде не останавливались, перепрягали на станциях лошадей и мчались дальше; даже чай пили не выходя из повозок. Дорога была ужасная, так как распутица ее испортила, а разбившиеся речки имели глубокие броды. Тем не менее к вечеру 25-го Яковлев привез арестованных в Тюмень и здесь, перейдя в приготовленный классный вагон, в тот же вечер двинулись в Екатеринбург.
Яковлев вздохнул свободнее, но… тут-то его и поджидала опасность, совершенно для него неожиданная. Ночью на 25 апреля в Камышлове он узнал, что екатеринбургские главари решили его не пропускать на Москву и задержать. Выбитый совершенно из колеи своих «чрезвычайных полномочий» его тобольскими инцидентами, ничего не понимая в происходящем, Яковлев повернул назад на Омск, дабы оттуда взять направление на Москву через Челябинск, Уфу и Самару. Однако в Куломзине, перед самым Омском, поезд опять задержали, и местные железнодорожные служащие объявили ему, что из Омска приказано никуда поезд не выпускать впредь до получения указаний. Яковлев пошел к аппарату на связь с Омском, чтобы узнать, в чем дело, и оказалось следующее: Екатеринбург, предупрежденный будто бы Заславским и телеграммой Хохрякова, сообщил Омску, что Яковлев объявляется вне закона, так как намеревался вывезти бывшего Государя Императора в Японию. Тогда Яковлеву ничего не оставалось делать, как, отцепив паровоз, ехать самому в Омск и переговорить по прямому проводу с Москвой. Он вызвал Центральный исполнительный комитет, который уполномочивал его на перевозку Царской Семьи в Москву, и получил от Янкеля Свердлова приказ… везти бывшего Государя в Екатеринбург…
Пока Яковлев хлопотал в Тобольске честно выполнить возложенное на него поручение официальной советской власти, в Екатеринбурге, в этом сильном промежуточном этапе распорядительной сети бронштейновской партии и чрезвычайной следственной комиссии, происходило следующее: как уже высказывалось раньше, до 25 апреля среди областных главарей советской власти, по-видимому, совершенно не существовало предположений о размещении Царской Семьи в городе Екатеринбурге. Из весьма ограниченных сведений, данных членом областного президиума Саковичем, можно допустить, что среди заправил этого органа советской власти обсуждались совершенно иные предположения в отношении судьбы Царской Семьи, которую Яковлев должен был привезти через Екатеринбург. Сакович хорошо помнил, что на заседании президиума, происходившем не в официальном месте заседаний и не при полном числе его членов, обсуждали вопрос – как будет лучше покончить со всей Царской Семьей при этой перевозке: устроить ли крушение поезда и таким образом раздавить их или организовать охрану от провокаторского покушения на крушение поезда, т. е. перестрелять в пути всех, представив дело гибели членов Царской Семьи как случайное следствие происшедшего боя с мнимой бандой злоумышленников. Сакович запомнил, что участвовали в этом заседании евреи Войков, Сафаров, Исаак Голощекин, латыш Тупетул и рабочий Белобородов; возможно, что участвовали и некоторые другие комиссары, но хорошо запомнил именно этих, очевидно, потому, что ими было наиболее проявлено активности в этом гнусном заговоре.
Сакович также помнил, что по вопросу о перевозке Царской Семьи тогда же были сношения с Москвой, т. е. с центральной властью, от которой были получены по этому поводу указания. Судя по тем образцам сношений между екатеринбургскими главарями и представителями центральной власти, которые попали в руки следствия, можно определенно заключить, что Екатеринбург всегда и во всем проявлял полную подчиненность главарям центра и постоянно инструктировался Москвой. Поэтому совершенно нельзя допустить, что задержка Царской Семьи в Екатеринбурге могла явиться самочинным актом местной советской власти и что Янкель Свердлов был вынужден дать Яковлеву приказание везти бывшего Царя в Екатеринбург под давлением неизбежности положения. Наоборот, можно думать, что когда изуверы-евреи центра узнали от Яковлева о болезни наследника Цесаревича, то, не отказываясь от своего умысла, но видя необходимость снова отложить его выполнение, решили использовать создавшуюся обстановку и перевезти Семью по частям в Екатеринбург, дабы освободиться от вечно осложнявшей их план охраны при Царской Семье. Соответственно сему, адепты бронштейновской партии в Екатеринбурге, Сафаров, Войков и Голощекин, вероятно, и получили указание задержать Яковлева. Таким предположением логичнее объясняется приказание, полученное Яковлевым в Омске от Янкеля Свердлова.
В Екатеринбург Яковлев приехал в ночь с 29 на 30 апреля. Здесь к нему отнеслись враждебно, и солдаты, взятые им в Тобольске из охраны, были обезоружены и арестованы. Их продержали несколько дней, но затем, дабы не раздражать охраны, остававшейся в Тобольске при Детях, отпустили обратно в Тобольск. Яковлев, выдержав бурное объяснение в президиуме, помчался в Москву докладывать о результатах своей командировки и, как он говорил, жаловаться на обращение с ним областного совета. В приеме же от него арестованных ему была выдана следующая расписка:
Екатеринбург 30 апреля 1918 г.
Рабочее и Крестьянское
Правительство
Российской Федеративной
Республики Советов
Уральский Областной Совет
Рабочих
Крестьянских и Солдатских Депутатов
Президиум
№ 1
Расписка
1918 года апреля 30 дня, я, нижеподписавшийся Председатель Уральского Совета Раб., рк. и солд. Депутатов Александр Георгиевич Белобородов, получил от комиссара Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Василия Васильевича Яковлева доставленных им из г. Тобольска: 1) бывшего царя Николая Александровича Романова, 2) бывшую царицу Александру Федоровну Романову и 3) бывш. вел. княгиню Марию Николаевну Романову, для содержания их под стражей в г. Екатеринбурге.
А. Белобородов. Член Обл. Исполн. Комитета Б. Дидковский.Был ли выслушан кем-либо в Москве Яковлев – неизвестно. По прибытии его в Москву Лейба Бронштейн в воздаяние особых заслуг, оказанных советской власти Яковлевым, поспешил дать ему в командование армию на Самарском фронте и отправить его из Москвы. Только теперь, вероятно, Яковлев понял ложь, царившую в советской власти и ее системе управления и проведения в жизнь принципов социальных форм нового строительства. Совесть его, как старого честного социалиста, не могла примириться с ложью, и в октябре 1918 года он дезертировал из рядов Советской армии и сдался белогвардейским Сибирским войскам.
Центральная власть и преступление
В упоминавшейся выше книге немецкого экономиста Вернера-Дайя помещены между прочим следующие характерные для момента мысли:
«Несмотря на проявленную жизненную страстность, русский человек в корне все-таки слишком трезв и – по существу явлений – слишком проучен, чтобы в конце концов не взвесить и не оценить политических событий соответственно их выгоде. Поэтому кадеты смогут признать (что, вероятно, стало им уже ясно по примеру германского ведения войны), что экономическая жизнеспособность и прочность Германии в состоянии выдержать соревнование с английской…
Можно уже теперь предсказать, что большевистское правительство, быть может, после нескольких промежуточных градаций будет снова уничтожено буржуазно-кадетской контрреволюцией, во главе которой тогда, по всей вероятности, станет Великий князь Николай Николаевич».
Во второй половине 1917 и первой половине 1918 года политика Германии почти всецело сосредоточилась в руках Верховного командования. В министерстве иностранных дел порой совершенно не было известно о тех политических задачах, которые задумывались и проводились в жизнь командованием. При чтении Вернера-Дайя иногда представляется, что не был ли он одним из политических вдохновителей командования или, быть может, стоял слишком близко к нему; по крайней мере, мысли, высказанные им в его труде «Наступление на Восток», во многом являлись руководящим импульсом в политических комбинациях, воспламенявших шовинистических генералов военного командования.
Подтверждением тому, как примером особо ярким, служит приведенная выше выдержка. Апрель, май и начало июня 1918 года были периодом, когда германское военное командование в России, усомнившись в возможности работать с большевиками, увлеклось новой политической фантазией. Заняв Украину, утвердив в ней гетмана Скоропадского, немцы на Дону вошли в соприкосновение с военными организациями, объединившимися вокруг генерала Краснова, который принял от немецкого командования руку помощи и получал от него снаряды, оружие, патроны. Зная об очень тяжелом во всех отношениях положении добровольческих групп генерала Алексеева, немцы задумали через генерала Краснова сговориться с генералами Алексеевым и Деникиным и, увлекаясь своей слепой самовлюбленностью, возмечтали при помощи этих генералов выдвинуть и провести на российский престол популярного в народных массах и в военных сферах Великого князя Николая Николаевича, проживавшего в то время в Крыму.
Конечно, немцы проиграли задуманную ими новую политическую комбинацию, как решительно была проиграна ими ставка на большевиков. Генералы Алексеев и Деникин категорически отказались от каких-либо разговоров с ними, а в отношении Великого князя Николая Николаевича, само собою, сомневаться нельзя было; все: это были слишком национальные русские люди и слишком понимавшие, в ком крылся корень зла, постигшего Россию, чтобы пойти на какие-либо компромиссы с немцами и продать им свою родину.
Что было делать дальше ограниченным и слепым германским генералам-политикам, признававшим в своем самомнении единственными способами достижения целей или насилие, или провокацию, или подлость? Вот теперь-то, примерно в начале июня, возможно, у них возникла мысль достигнуть своих экономическо-политических целей новым насилием, новой подлостью, и на этот раз над измученным физически и морально, провокаторски обесчещенным ими же еще в мирное время и ныне всецело, как они могли воображать, находившимся в их власти и воли несчастным, сверженным и всеми забытым бывшим Государем Императором Николаем Александровичем. Безвыходность положения – с одной стороны, туманивший голову шовинизм – с другой и вожделения власти со стороны подстрекавших, предавшихся всецело немцам и перекочевавших в Берлин российских лженационалистов и лжепатриотов могли понудить немецкое командование на подлый план: использовать имя бывшего Царя как угрозу советской власти и понудить ее этим на полное подчинение себе и своим требованиям.
Конечно, если только такой план существовал, то он исходил исключительно из недр различных политиканствовавших бюро германского военного командования и ни в коем случае не мог быть продуктом творчества берлинского Министерства иностранных дел. Однако пока изучение и исследование истории уничтожения Царской Семьи располагает слишком недостаточными материалами, чтобы утверждать безусловность существования такого плана, и окончательное разъяснение этого темного вопроса принадлежит будущим историческим работам. Настоящее же исследование вынуждено не обходить вопроса молчанием только потому, что при попытке осветить роль центральной советской власти в преступлении, совершенном в Ипатьевском доме, оно наткнулось на ряд обстоятельств, связанных в значительной степени в том или другом виде с именем немецкого командования в России.
Обстоятельства эти следующие.
С начала июня 1918 года различные советские деятели стали усиленно распространять сведения, что немецкое командование в Москве потребовало от советской власти выдачи бывшего Государя Императора и его Семьи и перевозки их в Германию. Об этом говорили всюду: и в официальных советских органах, и в салонах советских светских дам, и в подпольных белогвардейских организациях Москвы, и в широких массах населения Москвы и Екатеринбурга, и даже за границей. А в рядах охранников Августейших узников Ипатьевского дома говорилось определенно, что Царская Семья будет вывезена в Германию и что император Вильгельм пригрозил товарищу Ленину, «чтобы ни один волос не упал с головы Царя». Сведения эти держались очень упорно и настойчиво, оставляя впечатление, что, быть может, такого определенного и категорического требования и не существовало, но что-то все-таки похожее было.
Не одни только сведения заставляют так думать, были и косвенные документальные указания на возможность в этом направлении «нежного давления» со стороны немецкого командования на официальную советскую власть.
В середине июня со стороны Одессы приехал в Екатеринбург уже упоминавшийся раньше некто, назвавшийся Иваном Ивановичем Сидоровым. «Как же вы через фронт пробрались?» – спросили его. «Фронта никакого нет, – ответил он, – был немецкий кордон, и немцы меня пропустили, а дальше никаких “товарищей” не видел».
Поверить такому заявлению решительно нельзя, Сидоров – это слишком определенный контрреволюционер для советской власти: бывший флигель-адъютант, офицер действительной службы, выехавший из неприятельского для советской власти района, мог проехать в довольно краткий срок от Одессы до Екатеринбурга только при исключительном покровительстве обстоятельств, выражавшемся в то время в сотрудничестве с немцами и в вынуждавшемся ими согласии советских властей. К тому же из слов самого Сидорова вытекало, что у него были, по-видимому, достаточно легальные документы для путешествия в то время по России.
Между тем Иван Иванович приехал в Екатеринбург с определенной целью – для переговоров с заключенным в Ипатьевском доме бывшим Царем и не стеснялся особенно говорить об этом со многими, совершенно не зная своих собеседников. Он говорил, что необходимо спасти Царскую Семью, что для этого надо сплотить офицерство, что надо все делать для предотвращения опасности, которая угрожает Семье. Сидоров высказывал, что необходимо, чтобы Государь Николай Александрович был опять Царем, а не Великий князь Михаил Александрович, у которого «не такой характер». Что под этим подразумевал Сидоров – неизвестно, но о наличии опасности для Царской Семьи он заявлял определенно. Сидоров посещал в Екатеринбурге некоторых лиц не один; с ним появлялся иногда, как он его называл, «адъютант», но с которым он говорил не по-русски, а на каком-то иностранном языке.
В Екатеринбурге Иван Иванович сошелся с доктором Деревенько, который бывал в доме Ипатьева и навещал больного наследника Цесаревича. Через Деревенько ему удалось установить доставку заключенным молока, яиц, масла, хлеба, сливок и т. п.; доставка продуктов производилась ежедневно, начиная с 18 июня. Бывший комендантом дома особого назначения комиссар Авдеев относился в общем благосклонно к этой доставке продуктов Царской Семье и пошел даже дальше, передавая приносившим продукты женщинам разные мелкие просьбы заключенных – принести ниток, иголок и т. п., а однажды его помощник Мошкин передал, что «Императору нужен табак», причем именно сказал: «Император».
Таким образом, Сидоров для сношения с бывшим Царем имел два пути: словесный и письменный – через доктора Деревенько; только письменный – через доставляемые продукты. Оба эти пути связи просуществовали три недели, до 5–8 июля, когда новый комендант дома Янкель Юровский прекратил посещения доктора Деревенько и ограничил доставку продуктов только молоком. Следовательно, Иван Иванович располагал вполне достаточным временем для необходимых переговоров с заключенными.
Но в конце июня Сидоров уехал из Екатеринбурга так же благополучно, как и приехал, заявив перед отъездом, что он «не сошелся во взглядах» с офицерами находившейся в Екатеринбурге Академии Генерального штаба. Привезенных с собой писем для Царской Семьи от Толстых, Хитрово и Иванова-Луцевина и иконы в футляре по назначению он не передал, и они попали в следственное производство. Он уехал, сознательно оставив Царскую Семью перед той опасностью, которая, по его же словам, ей угрожала.
Была ли связь между миссией Сидорова и политическими планами, увлекшими немецкое командование, определенно ничего сказать нельзя, но одно, что можно заключить, – что предложения, привезенные Сидоровым бывшему Царю, оказались неприемлемыми для последнего, несмотря на весь ужас состояния с детьми во власти большевистских изуверов-руководителей и под охраной гнусных каторжников Летеминых. Нельзя допустить, что Сидоров не смог передать цели своей миссии бывшему Царю через посредство доставлявшихся продуктов или проще – на словах через доктора Деревенько. Не мог же быть доктор Деревенько таким низким человеком, чтобы отказать в передаче, не подвергая себя при этом никакой опасности? Следовательно, само по себе предложение Сидорова было таковым, которому Государь предпочел смерть со всей своей Семьей, чем принять от Ивана Ивановича протянутую условной милостыней руку. А таковым неприемлемым предложением для бывшего Государя Императора могла быть прежде всего какая-нибудь компромиссная сделка с немецкой ориентацией.
С отъездом Сидорова из Екатеринбурга совпадают те слухи об убийстве бывшего Царя, которые усиленно распространились по Москве и о которых уже говорилось выше. Заметно, что официальная советская власть была безусловно обеспокоена возможностью такого убийства, что едва ли вытекало из каких-либо гуманных тенденций этой власти, так как по своему существу гуманность не соответствовала духу большевистских принципов. Между тем известно, что поверка слухов была экстренно возложена Лениным на командующего армией Берзина, что последний очень серьезно отнесся к этому поручению и производил поверку целой комиссией, и, судя по словам Саковича, ответственность за целость Царя была возложена Лениным на самого Берзина. Для советской власти забота о сохранении Царской Семьи могла быть следствием каких-либо политических расчетов, своих или немецких, но ни в коем случае не гуманитарного начала. Еврей Сафаров, из партии израильских революционеров Бронштейна, изувер антиофициальной советской власти и противник ее готовности идти на уступки и соглашательства, в своей статье «Казнь Николая Кровавого» настойчиво утверждает, что в империалистических и белогвардейских лагерях существовали в это время стремления восстановить при помощи немцев в России монархический строй во главе с Государем Императором Николаем Александровичем. При всей невозможности серьезно считаться с материалами сафаровского изготовления, нельзя не отметить, что и он, подобно Вернеру-Дайя, ставит во главе движения кадет и, соответственно немецким фантазерам из генералов, усматривает в генерале Алексееве средство для достижения белогвардейцами цели.
Нет дыма без огня, говорит пословица, и во всех разговорах, беспокойствах и обстоятельствах не могло не быть какого-то, пока не выясненного основания. В Москве в это время проживал Великий князь Павел Александрович с супругой – графиней Палей. Сын их, граф Владимир Палей, находился в Алапаевске, где он содержался с заключенными там Великим князем Сергеем Михайловичем и князьями Иоанном, Игорем и Константином Константиновичами. С ними же Владимир Палей погиб в Нижне-Семиченской шахте. В одном из писем от близкого человека, адресованном Владимиру Палею из Москвы в июне месяце, имеется тоже упоминание о разговорах того времени: «Здесь все говорят, что по требованию немцев Царскую Семью перевезут в Германию». Действительно, в конце июня официальные советские власти в Москве отдали приказание Екатеринбургу подготовить в Перми поезд для вывоза куда-то Августейшей Семьи. Было ли это результатом «нежного давления» немецкого командования, действительно ли таковое имело искреннее намерение вывезти Царя насильственно к себе на родину или только пользовалось таким требованием как угрозой советской власти?.. Вопросы неразрешенные, но поезд готовился Екатеринбургской советской властью, и готовился, безусловно, для Царской Семьи.
Характерно, что разводящий охранной команды Анатолий Якимов, присутствовавший при расстреле в Ипатьевском доме, говорит, что после того как Царская Семья собралась в нижней комнате и палачи заняли свои места, Янкель Юровский, обратясь к Государю, сказал: «Николай Александрович, Вас родственники хотели спасти, но этого им не пришлось, и мы должны Вас сами расстрелять». Охранник Проскуряков, слышавший об обстоятельствах расстрела от других очевидцев, стоявших поодаль, передает слова Янкеля Юровского в такой редакции: «Ваши родственники не велят Вам больше жить». Та ли или другая была сказана фраза – суть не изменяется: Янкель Юровский определенно указал на какие-то поползновения «родственников». «Родственниками» для полуграмотного Янкеля Юровского были определенно немцы, Вильгельм. Если бы не было в действительности каких-то поползновений, давлений немцев, то зачем было бы Янкелю Юровскому упоминать о них Государю перед убийством? Янкель Юровский – изувер из партии Бронштейна; он отлично осведомлен о всех официальных и тайных деяниях главарей советской власти. Ему не было никаких оснований выдумывать историю о «родственниках» перед совершением преступления.
Трудно допустить, чтобы наврали Якимов и Проскуряков; эти слова Янкеля Юровского были приведены ими в их первых показаниях, данных в разных пунктах разным допрашивавшим судебным лицам и в разное время. Сговора между ними не могло быть, так как после совершившегося убийства пути их разошлись.
Таковы обстоятельства, с которыми встретилось изучение ипатьевского кошмарного преступления и с которыми нельзя не считаться. Официальная советская власть в Москве могла быть под тем или другим давлением немецкого командования в этот именно период своего существования.
* * *
Но пока немцы в России витали в области различных фантастических комбинаций и купались в море своей самонадеянной слепоты, партия энергичного, фанатичного Бронштейна подготовлялась к нанесению решительных ударов: одного – по главному внешнему противнику текущего момента – по немцам; другого – по главному внутреннему, духовно-политическому противнику – по носителям идеологических начал русского народа. Дьявольское счастье, организационные и, главное, агитационные таланты были на стороне изуверов израильского племени, и не слепым, политически бездарным большевикам справа было бороться с этими исторически искусившимися во лжи, хитрости и политической ловкости революционерами мировой славы.
В одной из своих речей Лейба Бронштейн говорит: «Кровавый кайзер и его генералы не из чувства глубокой симпатии вступили с нами в переговоры. Если бы их предоставить собственной воле, то Германия еще неоднократно попыталась бы схватить за горло революционную Россию, и если бы это удалось ей, то Россия погибла бы под аплодисменты буржуазии и наших всех союзников». В этих словах в Лейбе Бронштейне как будто дышит жар русского националиста. Но слово «Россия» употреблено им лишь по моменту. В действительности же он ратует не за Россию, а за революционный Израиль; Россию он сам погубил под аплодисменты немецких генералов и своих революционеров Израиля, а теперь уже революционному Израилю угрожала опасность, и над его защитой и обеспечением ему победы работал Лейба Бронштейн со своими сподвижниками по духу и по расчету. Если в мирное время агитационная работа Бронштейнов сумела загипнотизировать мир, овладеть его волей и воспрепятствовать кому бы то ни было подымать против них голос под угрозой яростных обвинений в черносотенстве, ретроградстве, косности и безнравственности принципов, то в период напряженнейшей борьбы за революционную власть различных социалистических течений, на фоне общей ненависти друг к другу всех партий в одном народе и всех народов между собой, Бронштейнам немного труда надо было, чтобы одержать победу, даже в той критической обстановке, которая сложилась для советской России в то время.
Изуверы-евреи, имея всюду свою агентуру, были отлично осведомлены о внутреннем положении в Германии. Они знали, что немецкие легкомысленные генералы, насадив большевизм в России, успели заразить той же болезнью и свой народ. Они понимали, что при таком настроении немецких масс генералы уже в не в состоянии выступить открыто против советской власти. В их силах оставалось действовать только тайно, закулисно, а потому и революционеры Израиля решили прибегнуть к тому же способу действия, признавая момент благоприятным для нанесения решительных ударов.
6 июля последовал первый громовой удар против немцев. Удачно спровоцированные элементы левых эсеров убили в Москве представителя Германии Мирбаха и подняли слабое восстание против советской власти. Восстание было быстро и кроваво подавлено. Атака была удачной: немцы, ошеломленные дерзостью удара и поколебленные общим для них положением до потери способности противостоять ими же созданной советской власти, отказались от активной борьбы с ней. Поле внешней битвы осталось за партией Бронштейна. Оставалось нанести столь же искусно второй, внутренний, удар.
Началось с гонений на церкви, агитации против религий, с исключения преподавания Закона Божия, установления налогов на иконы, национализации по отдельным областям женщин, детей, преследования родителей за обучение детей молитвам и с колоссального истребления лиц духовного звания. Последнее на Урале вылилось в такие громадные цифры убитых, замученных, задушенных пастырей Церкви и служителей церковных причтов, монахов и монашек, что не могло оставлять никакого сомнения в истинном смысле и действительной цели проводившихся мероприятий. Сам характер истребления принял формы какого-то исключительного изуверства, свойственного только фанатикам древнейших диких, темных сект, верований и религий. Для всякого христианина, не отуманенного дымом предшествовавших революционных социалистических экспериментов 1917 года, не могло не бросаться в глаза, что вдохновителями всех этих разнообразных видов изуверских мучений и истязаний лиц духовного звания должны были быть люди нерусского происхождения, хотя в официальных материалах, касающихся всех этих совершенных «казней» контрреволюционеров и упоминающих об исполнителях казни, фигурируют исключительно имена русского племени.
Революционеры Израиля центральной советской власти приближались к конечной цели. Уже два раза их попытки наложить руку на Помазанника Божия оканчивались неудачей: в первый раз по неосторожности еврея Заславского и во второй раз по честности социалиста Яковлева. В обоих случаях значительным препятствием явились русские люди из народа – охрана из русских людей. Теперь паразиты Израиля решили все это учесть.
В конце июня в Москву был вызван из Екатеринбурга областной военный комиссар и член президиума Исаак Голощекин. Остановился он у Янкеля Свердлова. С его приездом в ЦИКе приступили к обсуждению вопросов о дальнейшей судьбе Царской Семьи, причем официально – по-видимому, решили вывезти ее из Екатеринбурга. Однако одновременно, вероятно, именно в это же время вдохновителями-изуверами было предрешено уничтожить Царскую Семью и других членов Дома Романовых, проживавших на Урале. К уничтожению Царской Семьи, как к совершению акта исключительной революционной идеи, израильские главари, безусловно, подходили с опаской и страхом, вызвавшими нервность и возбужденность, отмеченные даже Саковичем. Причин к этому было две: одна – глубокого внутреннего чувства, другая – внешнего, сознательного характера. Для вдохновителей и руководителей преступлением уничтожение Помазанника Божия и его Семьи было определенным актом борьбы с Богом, основным, историческим импульсом всего их революционного чувства. В этом отношении какими бы они ни были изуверами, в них не мог не родиться тот же страх, который охватил воинов, пришедших от начальников и первосвященников взять Иисуса Христа; когда Он им сказал: «Это Я», – они отступили назад и пали на землю. Как исторические преемники революционеров Израиля, они не могли не чувствовать страха последствий преступления: «Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну». И в этих целях они думали не только об убийстве Царской Семьи, но именно об уничтожении, полагая по своей религии лжи, что физическое, материальное уничтожение может предотвратить воскресение духовное.
И на этот раз первоначально намечалось использовать для уничтожения Царской Семьи предполагавшуюся официальную ее перевозку из Екатеринбурга. Когда при второй попытке обсуждался способ уничтожения в аналогичной перевозке, то рассматривалось два плана: или устроить крушение поезда, или организовать провокационную защиту от мнимого покушения злоумышленников. По-видимому, теперь остановились сначала на втором плане, и для «охраны» поезда был выделен, как и при попытках в Тобольске, особый отряд латышей, мадьяр и немцев из состава того же интернационального голощекинского особого отряда. Для организации же «дела, согласно указаниям центра» в Пермь был командирован из Екатеринбурга пьяница и распутник комиссар Сыромолотов.
С другой стороны, вдохновители и руководители преступления приняли на этот раз меры для ограждения задуманного злодеяния со стороны влияния людей охраны, составленной из простых людей, хотя бы таковыми являлись самые типичные «товарищи» и даже «сознательные рабочие». Русский человек, русский народ – были второй причиной их страха перед лицом подготовляемого ими идейного преступления. Они были совершенно лишены возможности совершить убийство открыто, явно, на глазах массы, не боясь ее, как совершали они тысячи своих других убийств по политически-гражданским и «демократическим» мотивам. Этим обстоятельством резче всего подчеркивается, кто в действительности только и могли быть вдохновителями и руководителями этого антиидеологического преступления против русского народа. Это могли быть только те, для которых Богоискательство духовной натуры русского народа в массе было важнейшей преградой в достижении конечной цели религии лжи и главнейшим объектом для борьбы. Это могли быть только те сотрудники советской власти, которые в своей плоти и крови носили исторический революционный яд борьбы с тем же началом в глубокой древности в своем собственном народе.
Таким выделением личностей вдохновителей и руководителей преступления вовсе не устраняются участие официальной советской власти в уничтожении Царской Семьи и полная ее ответственность перед русским народом в этом злодеянии. Официальная советская власть добровольно и охотно во всей своей массе санкционировала планы и факты преступления и с полной беспринципностью и безнравственностью пошла по путям лжи в дальнейшей истории сокрытия преступления от своего народа и истинного света. Но официальная советская власть руководилась при проведении преступлений этого рода общими низменными, тактическими принципами гражданско-политического характера, тогда как вдохновителями в ее среде должны были быть изуверы, руководившиеся сильными отрицательными идейными началами. Это отделяет в советской власти вдохновителей от вдохновляемых. В этом отношении вдохновители идейного изуверства убийства Царской Семьи выделяются из официальной советской власти.
Трудно установить, опасались ли вдохновители преступления охраны из русских рабочих, состоявшей при Царской Семье в Ипатьевском доме, только потому, что не доверяли вообще русскому человеку из обыкновенных крестьян или рабочих, или же, кроме этого опасения, существовала еще боязнь, вытекавшая из возможного немецкого давления. В последнем случае могла повториться снова история тобольских неудач, т. е. в критическую минуту охрана оказалась бы на стороне Царской Семьи и тех, кто ее вывозил бы по официальному распоряжению советской власти. Тогда приведение в исполнение задуманного преступления сильно осложнилось бы, так как злоумышленникам едва ли удалось бы обмануть охрану.
Как бы то ни было в действительности, но состав и настроение внутренней охраны дома Ипатьева сильно беспокоили в Москве Янкеля Свердлова и Исаака Голощекина, и по этому поводу, вероятно, были секретные переговоры с руководителями в Екатеринбурге, что определенно вытекает из ответа Белобородова Исааку Голощекину от 4 июля, попавшего в материалы следственного производства, в котором он сообщал о произведенных заменах в составе внутренней охраны (полный текст документа приведен в главе 1 настоящей книги). Это беспокойство и вызванная им переписка свидетельствуют также, что задуманный вдохновителями в Москве решительный удар так нервировал их, так подрывал их спокойствие, что они начинали уже как бы не доверять своим агентам (Сафарову, Войкову, Юровскому) в Екатеринбурге и считали нужным вдаваться чрезмерно в детали дела, опасаясь новой неудачи, подобной тобольской.
Но вот обстановка изменилась и сложилась благоприятно для изуверов – решительная победа над немцами 5–6 июля освобождает вдохновителей от необходимости прибегать к сложному плану уничтожения Царской Семьи при перевозке. Частными распоряжениями перевозка откладывается, интернациональная охрана поезда отзывается, и в Екатеринбург помчался сам Исаак Голощекин производить в исполнение новый план уничтожения Августейших узников простейшим, более верным, но и исключительным по изуверству способом. Окончательные детали как самого убийства, так и способов уничтожения тел убитых были, конечно, разработаны уже на месте ближайшими руководителями и исполнителями злодеяния, которые, однако, по-видимому, в силу существовавшей сугубой субординации к бронштейновской организации, представляли каждый свой шаг, ранее его исполнения, на утверждение в Москву. Это можно судить, например, по тому, что даже проект извещения Екатеринбургского президиума о расстреле бывшего Царя передавался еще до совершения убийства, утром 16 июля, на цензуру Янкелю Свердлову, и только по утверждении центральной властью извещение было опубликовано в Екатеринбурге.
В одном из ящиков канцелярского стола в помещении бывшего Екатеринбургского президиума нашелся ценный для истории преступления документ, характеризующий роль главарей-изуверов центра в совершившемся в Ипатьевском доме злодеянии и их причастность к трагедии в Алапаевске и Перми. Это запись разговора по прямому проводу Янкеля Свердлова, по-видимому, с Белобородовым, который вообще посвящался в тайные планы вдохновителей лишь постольку, поскольку это нужно было для проведения вопросов через местные официальные организации, почему, например, он не знал, что убийство в Алапаевске было совершено по телеграфному приказу, подписанному его товарищем евреем Сафаровым.
Вот этот документ:
«Свердлов. – Прежде всего сообщи работа Алапаехи дело рук КОМИСЛ (следственной комиссии исполнительного комитета) или нет?
Ответ. – Сейчас об этом ничего не известно. Производится расследование.
Свердлов. – Необходимо немедленно запросить Мотовилиху и Пермь. Примите меры скорейшему оповещению нас. Что у вас слышно?
Ответ. – Положение на фронте несколько лучше, чем казалось вчера. Выясняется, что противник оголил все фронты и бросил все силы на Екатеринбург, удержим ли долго Екатеринбург, трудно сказать. Принимаем все меры к удержанию. Все лишнее из Екатеринбурга эвакуировано.
Вчера выехал к вам курьер с интересующими вас документами; сообщи решение ЦИК, и можем ли мы оповестить население известным вам текстом?
Свердлов. – В заседании Президиума ЦИК от 18 постановлено признать решение Ур. обл. совдепа правильным. Можете публиковать свой текст; у нас вчера во всех газетах было помещено соответствующее сообщение; сейчас послал за точным текстом и передам его тебе. Пока же сообщаю следующее: 1) держитесь во что бы то ни стало, посылаем подкрепления во все районы; отправляем значительные отряды; надеемся при их посредстве сломить чехов. 2) посылаем на все фронты несколько сот надежной партийной публики из питерских и московских рабочих для специальной работы среди армии, так и среди населения; 3) еще раз напоминаю необходимости обеспечить тыл; 4) сообщу о немцах. После убийства Мирбаха немцы потребовали ввода батальона в Москву. Мы категорически отказали; были на волосок от войны. Немцы теперь отказались от этого требования. По-видимому, войны сейчас не будет.
Больше пока ничего сообщить нечего.
Сейчас передам точно текст нашей публикации».
Дальше идет дословный текст объявления центральной советской власти о «казни Николая Романова», помещенного выше и перепечатанного из № 144 газеты «Уральский рабочий».
Необходимо иметь в виду, что разговор по прямому проводу происходил в присутствии посторонних лиц – телеграфистов и чиновников, – почему оба разговаривавшие сдержанны в выражениях и словах. Так, Свердлов, знавший уже раньше о предстоящем убийстве Царской Семьи, совершенно не касается существа этого преступления, а Белобородов иносказательно сообщает ему о высылке с курьером интересующих центральную власть документов: это Исаак Голощекин, везущий в Москву три таинственных тяжелых ящика, в которых, можно предполагать, были головы несчастных жертв.
Характерен вопрос Янкеля Свердлова о КОМИСЛ: это орган, из которого затем развернулись чрезвычайные следственные комиссии и который в то время был специальным органом партии Бронштейна по выполнению на местах всех необходимых ей террористических актов. Сеть этих органов управлялась непосредственно из центрального органа в Москве, сплошь да рядом минуя исполнительные органы официальной советской власти на местах. Организуя такую сеть для Уральской области, Москва избрала местным ее центром Мотовилихинский завод и Пермь, а не Екатеринбург, почему распоряжения следственной комиссии могли легко не быть известными в административных органах края. Членами именно Мотовилихинской следственной комиссии Алексеем Плешковым, Иваном Бересневым и Жужговым было совершено похищение и убийство Великого князя Михаила Александровича. Поэтому-то знавший об этом Янкель Свердлов и указывает Белобородову, кого надо запросить по Алапаевскому убийству, т. е. кто помимо екатеринбургских деятелей мог совершить преступление. Быть может, Белобородов и знал все обстоятельства, но перед телеграфистами никакого другого ответа Янкелю Свердлову дать не мог, так как официально он доносил в Москву, что Великие князья в Алапаевске похищены белогвардейской бандой.
Приведенный документ лишний раз подтверждает, что вдохновительным центром убийства Царской Семьи и других членов Дома Романовых не могла не быть Москва. «Можете публиковать свой текст», – снисходительно и почти пренебрежительно отвечает Янкель Свердлов председателю Екатеринбургского областного совета Белобородову; мы свое уже опубликовали, и вам сейчас его сообщу, а ваше, если хотите, публикуйте… – вот, кажется, смысл тона вдохновителя Янкеля Свердлова; тон снисходительного, но сознающего свою власть начальника к провинциальному подчиненному.
Они, вдохновители, после удачно совершенного преступления почувствовали свои силы совершенно окрепшими в России. Шайка циммервальдовских революционеров Израиля почувствовала себя полными, свободными и всесильными хозяевами водворения в России царства религии лжи, опыта, не удавшегося их племенным предкам в Израиле. Начался тот неудержимый разгром жизни былой могучей и сильной духом страны, который поверг ее в современное притупленное, придушенное состояние. Началась та бесконечная Вальпургиева ночь, пляска диких и сатанинских социалистических экспериментов, которая бросила обезумевших и изголодавшихся людей в погоне за куском земного хлеба в кровавую антихристову борьбу: брата на брата, отца на сына, сына на мать и матери на дочь. И в триумфе своей победы, упиваясь успехом, вдохновители-изуверы готовы крикнуть России: «Мы распяли вашу Россию, мы распяли вашу идеологию…»
«Если ты Христос – сойди с креста…»
«Истинно, истинно говорю вам, – звучат светлые и благостные, далекие, но вечные слова Иисуса Христа, – если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».
После преступления
Недолго продержалась «столица красного Урала» Екатеринбург в советской власти после совершившегося в ее стенах кровавого, кошмарного преступления. Приближение войск Войцеховского вынудило главарей областного совета бежать в Пермь. С ними же скрылись из города чины чрезвычайной следственной комиссии, большая часть охранников отряда особого назначения и все люди особого отряда Петра Ермакова. Все они, совершив изуверское злодеяние в Ипатьевском доме, умчались продолжать свою преступную деятельность в Перми и ее окрестностях и рассыпались по разным направлениям.
Большая часть областных комиссаров покинула город 24 июля, всего часов за 6 до вступления передовых сибирских и чешских частей, и направилась в подготовленном поезде на Пермь через Богдановичи и Алапаевск, так как Кунгурское направление было уже перехвачено белогвардейскими войсками. Комиссарский поезд, обеспечивая себе по совету Янкеля Свердлова тыл, хитроумно прикрывался от возможных случайностей двигавшимся перед ним эшелоном офицеров Академии Генерального штаба во главе с генералом Андогским. «Пусть расстреляют ученых офицеров, а мы успеем скрыться», – говорили комиссары, достойные творцы новой советской России. Они ехали отдыхая, в веселом настроении и сильно пьянствуя. Один из них, судя по описанию – комиссар Тупетул, член областного президиума и участник совещаний, обсуждавших перевозку Царской Семьи в Екатеринбург, сильно подвыпивши, часто бегал на паровоз и отводил душу в беседе с паровозным машинистом. Рассказывал он ему о себе, делился впечатлениями о пережитых последних днях в Екатеринбурге, поведал и об убийстве Царской Семьи. Рассказывал, как подвыпивший некультурный человек, с подробностями, деталями, упоминал и о деятелях этого преступления, главарях и исполнителях, так что у машиниста, до того стоявшего совершенно в стороне от событий в городе и от деятельности советских представителей, составилось определенное и прочное мнение: «главарь преступления в Ипатьевском доме – это Исаак Голощекин, все от него исходило».
Исаак Голощекин выехал из Екатеринбурга в отдельном вагоне-салоне поздно вечером 19 июля и направился прямо в Москву. Он ехал тем специальным курьером, о котором Белобородов сообщал Янкелю Свердлову в разговоре по прямому проводу и который вез «документы», интересовавшие Янкеля Свердлова. Он вез с собой в салоне три очень тяжелых, не по объему, ящика. Это не были сундуки или чемоданы из числа тех Царских, в которые Янкель Юровский с Никулиным после совершения убийства упаковали разграбленные и похищенные ими из дома Ипатьева вещи Царской Семьи. Это были самые обыкновенные, дощатые, укупорочные ящики, забитые гвоздями и увязанные веревками, которым, не касаясь содержимого в них, совсем было не место в салоне. Здесь же, конечно, они бросались в глаза и не могли не привлечь к себе внимания спутников Исаака Голощекина, сопровождавших чинов охраны и поездной прислуги. Исаак Голощекин заметил это и интересовавшимся поспешил пояснить, что он везет в этих ящиках образцы артиллерийских снарядов для Путиловского завода.
В Москве Исаак Голощекин забрал ящики, уехал к Янкелю Свердлову и пять дней жил у него, не возвращаясь в вагон. С его пребыванием в Москве среди мелких служащих Совнаркома, преимущественно из числа тех американских эмигрантов, с которыми так хорошо была знакома русская военная статистика, распространился слух, что Исаак Голощекин привез в спирте головы бывшего Царя и членов его Семьи, а один, более пессимистически смотревший на прочность советской власти в России, потирая руки, говорил: «Ну теперь во всяком случае жизнь обеспечена; поедем в Америку и будем демонстрировать в кинематографах головы Романовых».
Конечно, такой взгляд на обеспеченную будущность мог быть следствием только слухов и досужей молвы, но, как выразился сподвижник и сотрудник Исаака Голощекина и Янкеля Юровского, доктор Сакович: «Я не верю в расстрел бывшего Государя, но, сталкиваясь с Голощекиным и Юровским, я могу допустить, что, не считаясь ни с чем, они – циники до мозга костей – могли совершить любую гнусность». Отчего бы эти циники не могли совершить и другой гнусности, как совершили первую, и привезти в ящиках Исаака Голощекина головы христианских мучеников Царской Семьи как неоспоримое доказательство для центральных изуверов Израиля факта совершенного убийства? Какие документы, в прямом значении слова, и с какой целью могли бы интересовать Янкеля Свердлова, Нахамкеса и Бронштейна? Документы о заговоре? Но их, как известно, не было, как не было и заговора. Дневники Государя? Но советская власть могла располагать ими и без убийства. Белобородов же в разговоре говорит иносказательно об интересующих документах, ставя их в тесную связь с совершенным преступлением. Какие же это могли быть документы в действительности, и были ли это документы в прямом смысле слова?
Исаак Голощекин провел в Москве пять беспокойных дней; вдохновителям и вдохновляемым главарям советской власти надо было обдумать и решить, что делать, если преступление случайно обнаружится и подымется шум, особенно за границей, так как теперь советская власть уже начинала интересоваться вопросом, что скажут за границей, ибо мечтала раздвигать рамки исповедуемого интернационала. Но для сынов религии лжи нет той внешней или внутренней политической дилеммы, которой они не могли бы разрешить. То же было и теперь. Было решено, что при надобности все преступление будет приписано своим политическим сотрудникам и врагам – левым эсерам, которые будто бы совершили убийство Царской Семьи в целях дискредитировать советскую власть коммунистов.
Через пять дней Исаак Голощекин с четырьмя новыми спутниками вернулся в вагон-салон и поехал с ними в Петроград. Ящиков при нем уже не было. В пути были разговоры и о Царской Семье, причем Исаак Голощекин говорил спутникам, что «теперь дело с Царицей улажено», но особенно по этому поводу не распространялся, так что подслушивавшему удалось еще только услыхать, что тело бывшего Царя было сожжено.
Из Петрограда Исаак Голощекин вернулся в Пермь, где Уральский областной совет снова открыл свои действия, а Исаак Голощекин занял в нем опять должность военного комиссара. Но и в дальнейшем Исаак Голощекин продолжал часто ездить в Москву, где он пользовался большим влиянием в партии Бронштейна. В последний раз он выехал из Москвы в Пермь 24 декабря 1918 года, как раз в день потери большевиками этого города.
Известно, что за время его деятельности в Перми имя его было постоянно связано с различными зверствами, учиненными советскими властями в отношении духовенства Пермсsкой епархии. Он причастен к убийству епископа Гермогена, он же фигурировал и в убийстве епископа Андроника. Это был по всему один из деятельнейших агентов партии Бронштейна, имея повсеместно исключительное значение в чрезвычайных следственных комиссиях, не входя, однако, в их официальный состав. Это был один из наиболее ярких и ярых местных революционеров Израиля, определенно работавший на поприще идейно-религиозной борьбы партии Бронштейна.
* * *
Правой рукой Исаака Голощекина как в самом преступлении, так и в сокрытии тел убитых членов Царской Семьи был Янкель Юровский. После совершения преступления он совместно с Исааком Голощекиным поехал в Москву, но что стало с ним дальше, пока установить не удалось[4].
В 1920 году в заграничной печати появились записки и воспоминания одного англичанина, попавшего после оставления Екатеринбурга сибирскими войсками в плен к большевикам и встретившегося там с Янкелем Юровским. По словам англичанина, Янкель Юровский производил впечатление человека если не сумасшедшего, то сильно нервно потрясенного. Он выказывал признаки страдания манией преследования, сильно пал духом, опустился и в общем являлся очень ярким типом человека с нечистой совестью, совершившего преступление и теперь ожидающего ежеминутно расплаты и наказания за содеянное зло.
14 июля 1918 года в день, когда для Янкеля Юровского уже было известно, что через два дня ему предстоит стать палачом окарауливаемых им Августейших узников, он присутствовал на последнем богослужении, совершенном в Ипатьевском доме для Царской Семьи. Служба прошла в исключительно тесном духовном общении между служившим обедницу протоиереем Сторожевым и молившимися членами Августейшей Семьи. Это было именно то редкое, но полное высокой благости настроение, которое невольно охватывает всех присутствующих и заставляет даже неверующих становиться серьезными, устраняя какие-либо наклонности к шутке, насмешке, издевательству или критике.
Когда после окончания службы отец Сторожев вошел в комендантскую комнату для того, чтобы переодеться, он услышал сзади себя сказанное серьезным тоном слова:
«Ну вот, помолились, и от сердца отлегло». Это говорил Янкель Юровский.
Отец Сторожев ему ответил: «Знаете, кто верит в Бога, тот действительно получает в молитве укрепление сил». Тогда Янкель Юровский, продолжая быть серьезным, сказал: «Я никогда не отрицал влияния религии и говорю это совершенно откровенно».
Не слишком ли много Янкель Юровский взял на себя, решившись стать убийцей Помазанника Божия и его Семьи? Соответствовали ли его силы силам идейного последователя Бронштейна, силам богоборца? Не почувствовал ли он уже после совершения преступления, что он перешел ту грань, за которой человек не может не только исповедовать, но даже говорить о какой либо религии Духа? Сознательно ли он вступил на поприще религиозной борьбы или бессознательно, как слишком обыденный и ограниченный еврей, и стал оружием в руках сильного и безжалостного борца за религию лжи Исаака Голощекина?
Если правду писал англичанин, то в бессознательности принятой на себя непосильной миссии и непосильного преступления становится вполне естественным и неизбежным то состояние, в котором нашел Янкеля Юровского иностранный корреспондент.
To не людской суд, то Божий суд начинался над Янкелем Юровским.
* * *
17 июля утром, выспавшись после совершенного ночью злодеяния, Павел Медведев пришел в дом Ипатьева и застал там полную картину открытого, хамского грабежа. В комнатах, где проживала покойная Августейшая Семья, был полный беспорядок. Царские вещи были перерыты, выворочены и разбросаны повсюду. Драгоценные вещи, камни, золото, серебро лежали кучками на столе и диване в комендантской комнате. В этой комнате теперь находились Исаак Голощекин, Янкель Юровский, Никулин и «латыши»; они разбирали драгоценности и укладывали их в царские же чемоданы.
При виде этой картины злоба и зависть закрались в душу Медведева: «ишь грабители, разбойники; все себе забирают». Он нашел на столе какую-то книгу Священного Писания; приподнял ее… под ней лежали 60 рублей кредитными билетами десятирублевого достоинства. Эти деньги он потихоньку взял себе. На полу поднял три серебряных колечка с записями на них каких-то молитв и несколько носовых платков и тоже взял и то и другое себе. Больше ничего сам не брал из Царских вещей, кроме одной пары мужских носков и одной женской рубашки, еще раньше полученных им от Мошкина. Потом Янкель Юровский позволил ему взять маленькую кожаную сумочку Боткина и в ней несколько пустячных вещиц доктора. Все это он передал 18 июля своей жене, приехавшей к нему по его вызову. В этот же день он получил от Янкеля Юровского 8000 рублей для раздачи их семьям охранников в Сысерте, куда он и уехал вместе с женой.
Вернулся Павел Медведев в Екатеринбург 21 июля и в этот день, сняв охрану с дома, распустил ее: кого домой, а кто записался в Красную армию – на вокзал. Сам до 24 июля проболтался и пропьянствовал в городе, а вечером вместе со старым своим приятелем комиссаром Мрачковским уехал в Нижний Тагил. Там комиссар Сысертского завода Алексей Яковлевич Сафонов взял его к себе в помощники по выпечке хлеба для армии, и он находился при нем до октября.
В октябре его послали «на формировку» в Пермь, но Павел Медведев был уже недоволен властями и служить, как другие, в Красной армии он не желал. Он считал себя обиженным, не оцененным. Он причислял себя к сознательным работникам нового режима, не к грабителям, а его, как всякого хулигана, хотели насильно послать в солдаты. У него были большие заручки; он обратился к военному комиссару Исааку Голощекину, и тот помог Медведеву, дав ему какую-то записку в отдел формирования. Там комиссар еврей Гольдберг, сделав какую-то приписку на записке Исаака Голощекина, послал его в определенный вагон на станцию Пермь-2. В вагоне Медведев нашел несколько неизвестных ему лиц; они повели Павла Медведева к Камскому железнодорожному мосту, показали ему приспособления для взрыва моста на случай надобности и приказали ему находиться на правом берегу Камы в особой избушке и охранять приспособления для взрыва моста. Медведев под фамилией Бобылев поселился в этой избушке и жил там вместе со своим помощником рабочим Сысертского завода Петром Васильевичем Алексеевым. Специальной же охраной моста ведал особый комиссар по фамилии Колегов, при котором состояла команда мадьяр.
23 декабря, накануне занятия Перми войсками генерала Пепеляева, Медведев получил письменное приказание взорвать мост, и ему были переданы принадлежности для взрыва. Затем к нему пришел комиссар 5-го участка службы пути Яковлев и под расписку вручил еще одно предписание взорвать мост. Мост уже был под ружейным огнем наступавших сибиряков. Колегов, Яковлев и Алексеев, равно как и мадьяры, убежали. Медведев никогда не имел дела с подрывными средствами и, вероятно, взорвал бы раньше самого себя, чем мост. Кроме того, сибиряки были уже сзади него, и если бы ему и удалось взорвать мост, то вслед за сим его расстреляли бы на месте белогвардейцы. Павел понял, что советская власть его бросила между двух огней, не жалея его.
Тогда Медведев решил моста не взрывать и добровольно сдаться подходившим сибирякам. Его обыскали, нашли револьвер Нагана, нашли принадлежности для взрыва моста. Но никто его не допросил и не спросили даже фамилии. Вместе с другими добровольно сдавшимися красноармейцами он был сначала помещен в так называемые красные казармы, а потом его командировали на должность санитара в 139-й эвакуационный госпиталь, где 11 февраля 1919 года его разыскал агент следователя Соколова Алексеев, арестовал и 16 февраля привез в Екатеринбургскую губернскую тюрьму.
Здесь Павла Медведева допросили следственные власти. Он представлялся человеком, достаточно развитым для его положения как рабочего. Это типичный русский большевик из фабричной среды. Он не был ни особенно угнетен, ни подавлен. Чувствовалась в нем некоторая растерянность, конечно, понятная в его теперешнем положении. Но она не отражалась на его душевном состоянии. Он владел собой и оставлял своим рассказом впечатление человека себе на уме. Объяснения его сами по себе представлялись совершенно достоверными. Он рассказывал о фактах, как обыкновенно о них говорит человек, когда он говорит правдиво; в главных чертах не было ничего такого, что заключало бы в себе внутренние противоречия и оставляло бы впечатление лживости, выдуманности объяснений.
Только в одном отношении он привирал – когда обрисовывал свою собственную роль, свое собственное участие в деле. Ясно совершенно было, что свое участие он всемерно старался затушевать и свалить часть своей вины на других. В конечном выводе его объяснение – это типичное сознание убийцы в убийстве, учиненном многими лицами с заранее обдуманным намерением и по предварительному уговору; каждый из многих убийц, признавая основной факт преступления и свою юридическую виновность, всячески старался отпихнуться за счет других от своей фактической вины, затушевывая свою роль, замалчивая или отрицая факты, им самим учиненные. Поэтому Медведев упорно отрицал, что он участвовал в расстреле, и даже тогда, когда ему была сделана очная ставка с его женой. Он говорил, что в момент самого расстрела Янкель Юровский послал его на улицу послушать, будут ли слышны выстрелы. Но показания Летемина, Проскурякова, Якимова и жены Медведева определенно устанавливают, что Медведев никуда в это время не выходил и был единственным из охранников, который участвовал фактически в расстреле.
Недолго пришлось Павлу Медведеву просидеть в Екатеринбургской тюрьме; 25 марта того же года он умер от сыпного тифа и 27 марта погребен. Событие это записано в метрических книгах Градо-Екатеринбургской Михайло-Архангельской церкви за 1919 год в ст. № 50 и подписано священником А. Глубоковским.
Так совершился Божий суд над одним из восьми русских палачей, участвовавших в непосредственном расстреле бывшего Государя Императора и его Августейшей Семьи.
* * *
О судьбе следующего палача, зверя-матроса Хохрякова, известно следующее. Хохряков ушел с Красной армией на Тагил, а затем состоял начальником особого карательного отряда, отличался в Перми многочисленными кровавыми, зверскими подвигами по искоренению контрреволюции и империалистов-буржуев. По местным рассказам, Хохрякову приписывается и начальствование командой, покончившей с графиней А. В. Гендриковой, Е. А. Шнейдер и другими.
Во время одного неудачного для него столкновения с белогвардейской командой под Тагилом Хохряков был убит; тело его доставили в Пермь, где состоялось торжественное погребение на Театральной площади в центре города. Как народному герою советского царства ему был воздвигнут особый памятник, изображавший, по рассказам, громадный кулак с зажатым в пальцах красным знаменем. Когда войска генерала Пепеляева заняли Пермь, тело Хохрякова было вырыто из могилы и выброшено в ассенизационные поля, а памятник снесен, и земля на площади выровнена.
Из документов, оставшихся после Хохрякова и написанных им собственноручно, выясняется, что «за время командировки в Тобольск с особым поручением» им было израсходовано 130 242 рубля 15 копеек, и сверх того выдано «т. Родионову начальнику Уральских отрядов, находящихся в г. Тобольске, и коменданту охраны семьи бывшего царя» 10 000 рублей, а всего 140 242 рубля 15 копеек. Из числа оправдательных документов, приложенных к отчету Хохрякова, характерны для истории минувших событий следующие его пометки:
«На пароходе Русь товарищам комиссарам было отпущено 20 ложек, 20 вилок, 20 ножей, 20 тарелок, 5 порций телятины, 2 порции бефстроганов, 3 порции курицы, 1 отбивная, 1 сельтерской…
На покупку сестных припасов как себя так и для прибывающих куреров из Екатеринбурга…
Встреча латышских стрелков. Выдано т. Родионову для расплаты сломовыми извощиками заперевозку сост. Екат. 1 багажа бывшего царя…
Екатеринбургскому отряду находящемуся в Тобольске с особым поручением…
Расписка еврея Заславского в получении 500 рублей “для личных расходов и расплаты по некоторым домам”…
Квитанции от телеграмм посылаемых в Облсовет и Москву». (Сохранена орфография подлинника. – Ред.) Их было послано: в Екатеринбург – 29, в Москву – 4, в Тюмень – 1 и в Ишим – 1.
Для будущей России Хохряков оставил по себе память как об одном из тех кошмарных злодеев, вышедших из Кронштадта, которых едва ли в состоянии забыть русский христианин, переживший ужасы погромов и резни в Кронштадте, Выборге и Севастополе и мрачную эпопею социалистического возрождения России, эпохи Гучков – Керенский – Бронштейн.
* * *
Следующие два изувера-палача, Петр Ермаков и Александр Костоусов, с их сподвижниками: Вагановым, Леватных, Партиным, бросились из Екатеринбурга сначала в Тагил.
Ваганов был вскоре настигнут недалеко от Екатеринбурга своими земляками из Верх-Исетска и растерзан. Прочим удалось уйти и присоединиться к частям Красной армии в Верхотурье. Отсюда Ермаков с Леватных перешли в Пермь, а Костоусов с Партиным – в Кунгур.
Дальнейшие сведения о Ермакове и Леватных чрезвычайно разноречивы: одни говорят, что Ермаков своей жестокостью и безумной дикостью восстановил против себя даже заядлых большевиков и был ими где-то прикончен; другие рассказывают, что Ермаков и Леватных, рассорившись из-за чего-то с большевиками, ушли от них в глубь Сибири, продолжая свою деятельность на больших дорогах. Как бы то ни было, но факт безусловный, что эти природные каторжники, которые выставлялись советской властью как сознательные ее сотрудники из народа, не нашли себе отечества даже на территории большевистского царства, превосходя своим злодейством все, что только можно себе представить.
Костоусов и Партин в Кунгуре поступили в большевистскую разведку и контрразведку и продолжали в них свою кровавую деятельность над местным обывателем и интеллигентом. При отступлении Красной армии Костоусов ушел с ней на Пермь, а затем далее на Вятку, а Партин попал в плен и по приговору военно-полевого суда был расстрелян по обвинению в работе в качестве тайного агента и палача в контрразведке противника. Как участник сокрытия тел членов Царской Семьи он не был допрошен.
* * *
Из числа рабочих Сысертского завода и фабрики Злоказова, служивших в охране дома особого назначения, кроме Павла Медведева, позднее были задержаны в разных местах: разводящий Якимов и охранники Проскуряков, Семенов, Чуркин, Соловьев, Луговой, два брата Болотовых и Савков. Все они самостоятельно уходили из рядов Красной армии и из-под власти большевиков, пробирались к себе на родину и стремились зажить честным заработком, будучи по существу вовсе не большевиками.
Что же это были за люди? Что их толкало делаться добровольно красноармейцами, преступниками, братоубийцами, изменниками вере и слугами изуверов религии лжи? Ведь таких было много, очень много, так много, что здоровые элементы народной массы не смогли взять преобладания над ними, и они повели всю Россию за вожаками из интеллигенции, жидовствующими и социалистами, по пути революции, ее углубления, ее расширения – до пропасти, созданной безумствовавшими революционерами Израиля и их сотрудниками из российских утопистов большевизма.
Виктор Проскуряков, этот охранник-мальчишка 17 лет, активный деятель всех стадий охватившей Россию революции и развала, в своей исповеди-показании говорит: «Я вполне сам сознаю, что напрасно не послушался отца и матери и пошел в охрану. Я сам теперь сознаю, что нехорошо это сделали, что побили Царскую Семью, и я понимаю, что и я нехорошо поступил, что кровь убитых уничтожал. Я совсем не большевик и никогда им не был. Сделал я это по глупости и по молодости. Если я теперь мог чем помочь, чтобы всех тех, кто убивал, переловить, я бы все для этого сделал». Проскуряков, давая показание, плакал и убивался, но в искренность его раскаяния верить особенно не приходилось, так как он не добровольно пришел покаяться и не сразу признался в своем грехе, а лишь после того, как ему стало ясно, что о его службе в охране следствию уже все известно.
Но в его словах как бы есть один из ответов на поставленные выше вопросы – это ссылка на молодость и глупость как на причины, заставившие его стать слепым оружием других людей, людей злой воли.
Если так, то в создании из Викторов Проскуряковых преступников, помимо всех прочих возможных причин, прежде всего повинными являются те, кто его растил, воспитывал, та среда, среди которой протекало его детство, и которые не дали ему достаточно прочных устоев морали, нравственности и, главное, духа веры, могших удержать его от соблазнов и ложных жизненных шагов, когда таковые встретились на его пути. Родители удерживали Виктора Проскурякова, но не смогли удержать. Следовательно, в его 17-летних глазах, во всем внутреннем его содержании родители не обладали той моральной силой авторитета, которая прежде всех других влияний должна была и могла остановить его на краю пропасти.
Если эта природная сила уже отсутствовала по тем или другим причинам, то может ли общество, государство опираться на какие-либо другие влияния, моральные силы, дабы сохранить какую бы то ни было форму своего строя? Если подорваны нравственные устои общества, семьи, своего очага – этой неизбежной и исходной ячейки здорового государственного организма, то революция может привести только к анархии и насилию социалистического коммунизма.
Виновны ли?
Охранник из команды дома особого назначения Иван Николаевич Клещеев после убийства Царской Семьи ушел из Екатеринбурга с Красной армией в Пермь. Там он еще с другими семью охранниками был сначала назначен для охраны комиссара снабжения Горбунова, а затем получил должность вахтенного в интендантских складах на станции Левшино. В первую же неделю своей новой службы Иван Клещеев украл со склада сукно и, пытаясь продать его, попался. Его арестовали, судили и послали на принудительные работы сроком на шесть месяцев.
Иван Клещеев родился в 1897 году в города Шадринске и почти до Февральской революции 1917 года проживал при своих родителях на Крестовоздвиженской суконной фабрике Ушакова близ села Камышинского Екатеринбургского уезда. Отец его, Николай Иванович Клещеев, 52 лет, несколько десятков лет прослужил механиком на этой фабрике. Был он человек не пьяный и не трезвый, а так, как все; работал исправно, аккуратно, добровольно, а в семейном быту был слабый, безвольный, под башмаком у своей жены Татьяны Васильевны, женщины властной, грубой, заносчивой, но души не чаявшей в своем первенце Ванечке. Кроме Ивана были у них еще два сына и две дочери, но баловнем матери оставался Иван, которому с детства она ни в чем не отказывала, прикрывала его проступки и потакала всяким наклонностям и капризам. Любила она его слепо, до сумасшествия.
С детского возраста Иван приобрел дурные наклонности и, будучи еще совсем мальчишкой, начал заниматься кражами. Мать оберегала его от наказаний отца, принимала часто его вину на себя и за него лгала, измышляя оправдания для ненаглядного Ванюшки. Учился он лениво и плохо, также плохо вел себя в школе, так что учителя жаловались на его поведение, но родители к исправлению никаких мер не принимали. В конце концов Ивана, как неисправимого по поведению и ленивого ученика, исключили из сельского училища, где он обучался.
Тогда отец взял его в обучение к себе и приучал к слесарному делу при фабрике Ушакова, где Иван и проработал до совершеннолетнего возраста. Взрослым он не оставлял своего порока – красть, но крал ловко, хитро, не попадался и судим не был. Незадолго до Февральской революции он ушел, под предлогом искать работу, на сторону от своих родителей; несколько времени пропадал в безвестной отлучке от отца и матери и затем объявился в Тюмени в компании босяков, ставши сам таковым. Разыскала его мать, совершенно обезумевшая и потерявшая спокойствие со дня его исчезновения; где она только ни перебывала, куда ни бросалась разыскивать его, всюду изъездила и исходила и наконец нашла в какой-то тюменской трущобе, притоне всяких темных личностей. Нашла, все забыла от радости и, в материнской гордости, привезла домой, на фабрику Ушакова.
Прожив некоторое время при своих родителях, Иван опять ушел от них и поступил на металлическую фабрику Злоказова в Екатеринбурге. Здесь его застал большевистский переворот. Новое направление было по нему: он охотно примкнул к партии большевиков и вскоре, сделавшись ярым красноармейцем, явился предводителем шайки советских грабителей по отобранию и реквизиции имущества у частных владельцев. В феврале 1918 года во главе такой партии хулиганов и грабителей Иван явился в дом к своему бывшему хозяину Ушакову и, ворвавшись ночью, угрожая расстрелом, потребовал от хозяина выдачи оружия, денег, имущества. Затем, подстрекнув рабочих, предъявил Ушакову требование передать и всю его суконную фабрику. Отец Ивана, как человек порядочный, долгое время не склонялся на сторону большевиков, настаивавших на отобрании у Ушакова фабрики, но потом, под убеждениями своего сына и примкнувшей к нему матери, Татьяны Васильевны, во всем сочувствовавшей большевику-сыну, перешел на их сторону и примкнул к группе рабочих, отбиравших от Ушакова фабрику. В руках новых владельцев фабрика прекратила работать, и все жившие ею остались без заработка.
Когда комиссар Авдеев пришел на фабрику Злоказова записать рабочих на охрану Царской Семьи, Клещеев добровольно записался на службу в отряд. Состоя в этой охране, он приезжал неоднократно домой к своим родителям и привозил им разные ценные мелкие вещицы, видимо, украденные в Ипатьевском доме у Царской Семьи. В это время его распущенность и разнузданность достигли крайнего предела: он хвалился среди рабочих фабрики Ушакова и перед своими родителями, что женится на одной из дочерей Николая II и что если она не пойдет за него добровольно, то он силою возьмет ее. Никто его не сдерживал и не противоречил ему; мать его, имевшая большое влияние на мужа, во всем ему потакала, поощряла и даже как бы гордилась лихостью и бесстыдством своего любимого первенца.
Когда большевики, разбитые под Екатеринбургом, бежали на Пермь, и Иван Клещеев был вынужден также бежать с ними, его мать перед новой политической партией старалась бесконечной ложью всячески оградить любимое дитя; распускала сведения, что Ивана красноармейцы увели силой, что он бежал от большевиков, что поступил в ряды белогвардейских войск. Она не знала, что посторонние люди знали о ее сыне больше, чем она, ослепленная своей материнской к нему любовью, которая, не считаясь ни с чем, пыталась только оправдать и спасти его. Сама же, не находя себе места, в жажде утолить безумную тоску металась по всей Западной Сибири, по всем родным и знакомым, по канцеляриям и штабам в надежде, что, быть может, ложь ее может стать правдой, и ее Ваня, какой бы он ни был, окажется здесь. Ведь всю жизнь она только любила своего первенца, всю душу отдала ему, «любила по совести», как она ее понимала.
Вот краткий биографический очерк одного из многочисленных бессознательных деятелей русской революции и участника преступления в Ипатьевском доме. По условиям воспитания и среды он не составляет исключения из ряда большей части таковых же деятелей и преступников. Это люди, вышедшие не из категории детей улицы, оставшихся с малолетнего возраста без семьи, без родителей, без возможности призора и вне нормальных условий материальной жизни. Это люди не из числа полуголодных, полунищенствующих, социально угнетенных обитателей Хитровок, Вяземских лавр и трущоб столичных окраин. Это дети маленьких, обеспеченных честной работой буржуев, имеющих и собственные домики, и свое хозяйство, и постоянный, обеспеченный доход, и отложенную на черный день копейку. Это люди материально обеспеченные, не озлобленные нуждой, не гонимые условиями жизни и не преследуемые неудачной или несправедливой судьбой.
Почему же Иван Клещеев стал с детства красть, и с возрастом порок этот не исчез, а наоборот, страсть к нему развилась? Почему своему балованному положению в семье предпочел стать босяком? Почему бессознательным революционером пошел разрушать жизнь своих родителей? Почему сознательно пошел на преступление? Почему сначала пошел с Гучковым, потом с Керенским, потом с Исааком Голощекиным?
Если бы Иван Клещеев был один такой преступник, пошедший по революционному пути разрушения семьи, общества, государства, святых и светлых идеологических начал своего народа и создавшийся в семье, казалось бы, обеспечивавшей общество и государство от воспитания вора, хулигана, грязного негодяя и гнусного убийцы, можно было бы тогда искать причин в предопределении, в исключении – нет семьи без урода, – в случайности и т. п. Но Иван Клещеев не один: таких, как он, русских людей, вышедших из не преступных семей и с увлечением и охотой пошедших по революционному пути разрушения России, свержения Царя, насилий и преступлений, оказалось много – десятки, сотни тысяч. Они оказались во всех слоях населения, во всех классах, кругах и партиях – от высших руководителей революции до ее красы и гордости – кронштадтской матросни.
Будущая Россия, будущие историки эры жизни русского народа – свержения династии Романовых и трагической гибели Царствовавшей Семьи – будут вправе искать ответа на этот вопрос почему, так как только справедливое и сознательное разрешение его русским обществом может дать народу духовный, жизненный и творческий импульсы к своему возрождению из бездны, куда его повергли массы российских (хочется верить – временного лица) Иванов Клещеевых.
Тогда только объективная и бесстрастная история вынесет справедливый приговор: кто виновен в разрушении России? Кто виновен в подрыве народной идеологии? Кто виновен в отклонении православного русского народа от Христовой веры?
Матрена Ивановна Леватных, 19 лет, православная, добровольно дала показание на своего мужа:
«Я жена видного у нас в Верх-Исетске большевика Василия Ивановича Леватных. Вышла замуж я за Леватных в 1917 году. Женился он на мне вдовым. Я вышла за него «убегом», потому что меня родители за него не отдавали, а тетка уговорила. Венчались мы с ним в церкви, но в единоверческой, а не в православной. Потому так было, что не пожелал он венчаться в православной церкви – не любил православных священников.
Нрав у него был строгий, и разговаривать с ним было нельзя. Царя он не хотел. Когда мы с ним женились и моя мать, бывало, скажет что-нибудь про Царя: «Вот, теперь Царя у нас нет», – он начнет ее ругать за то, что она хотела Царя.
Ничего я не знаю про участие мужа в убийстве Царской Семьи, но по совести могу сказать, что такой зверь, как муж, мог пойти на такое дело. Я с ним не пожелала уходить, когда он убегал перед взятием Екатеринбурга, а теперь, когда красные взяли опять Екатеринбург, я ушла из Верх-Исетска».
Матрена Леватных – жена-ребенок, но тем не менее, не прожив и года с мужем, почувствовала его давление, почувствовала его гнев, сознала, что Василий Леватных зверь, с которым жить дальше невозможно, и… порвала с ним, ушла от него.
Но за год перед этим она также порвала и с родителями, когда захотела выполнить свое желание и не подчиниться уговорам родителей, убеждавших ее не выходить за Василия, как за дурного человека. Мало того, Матрена порвала и с Православной Церковью, лишь бы оградить свои взгляды – «венчаться», – и венчалась, но в единоверческой, потому что Василий не любил православных священников. Что же, родители ей были тоже звери, как Василий, что заставило ее рвать с ними? По-видимому, нет; мать простила дочери «убег» и продолжала ее знать. Значит, сердце у родителей было, и лишь, более опытные, они хотели предупредить несчастье дочери в ее личных неопытных порывах.
Что же было в Матрене Леватных такое сильное, что так легко давало ей поводы рвать с родителями, рвать с верой, рвать с мужем, рвать по существу с тем, что составляет коренные устои семьи, общественной жизни? Что в существе Матрены Леватных давало ей право видеть в муже «по совести» зверя, с которым жить нельзя, а себя, очевидно, считать безгрешной и свободной поступать и «не по совести»?
Не то же ли самое, что толкало Ивана Клещеева и всех других стать преступниками, а матерей Клещеевых, среду, общество – создателями этих преступников, воспитателями начала преступности – ложного «я», ложной совести?
* * *
Когда Павел Медведев поступил в 139-й эвакуационный госпиталь, то здесь вскоре он рассказал сестре милосердия Лидии Семеновне Гусевой, как он состоял в доме Ипатьева в охранной команде, как содержалась там Царская Семья, как относилась к ней охрана и как она была расстреляна. Об этой своей беседе с Гусевой он заявил потом на допросе прокурору Пермского окружного суда Шамарину и агенту Алексееву. Последние, желая проверить показания Медведева и выяснить, почему Гусева о такой беседе с преступником не сообщила в свое время властям, отправились в Надеждинскую общину Красного Креста, где состояла и проживала Гусева.
Их приняла начальница общины Александра Михайловна Урусова, которой прокурор Шамарин объяснил цель своего прихода и просил дать ему возможность видеть Гусеву. На это Урусова заявила Шамарину, что видеть Гусеву он не может, так как она больна. Тогда Шамарин ответил, что он вынужден будет прибегнуть к помощи закона, пригласить врача и освидетельствовать состояние здоровья Гусевой для установления – действительно ли болезнь не позволяет ей дать показание. Только после такого решительного заявления Урусова послала за Гусевой, оказавшейся здоровой.
Лидия Гусева заявила прокурору, что Павла Медведева она действительно знает, но разговаривает с ним редко и лишь по делам службы. Никаких разговоров о судьбе бывшего Императора Николая II и его Семьи она с ним не вела, и Медведев ей по этому поводу ничего не рассказывал.
Этот опрос происходил 13 февраля. Гусевой было объявлено, что она будет предъявлена Медведеву для опознания им – та ли она сестра, которой он рассказывал, или другая.
14 февраля на очной ставке с Гусевой Павел Медведев подтвердил, что рассказывал он именно ей. Тогда Гусева покаялась в своей лжи, объяснив ее тем, что она была сильно взволнована приходом прокурора и агента и, кроме того, была утомлена дежурством на пункте. Не заявляла же, об известном ей преступлении и причастности к нему Медведева властям или вообще кому-нибудь другому… сама не знает, по какой причине, но думала, что об этом разговоре Медведева в госпитале знают и другие.
Лидия Гусева ушла от родителей из дома в сестры милосердия, когда ей было 16 лет; теперь ей 30. Четырнадцать лет она живет самостоятельной трудовой жизнью сестры милосердия, побывав за это время на службе и в земстве, и в городах, и на фронте в германскую войну. Это уже не ребенок, человек не юношеского возраста, а зрелый, опытный, сознательный, не могущий не видеть, что творит. А между тем лжет. Лжет до создания себя преступницей, укрывая убийцу, скрывая известное ей преступление. С ней же лжет и ее начальница Урусова и, как маленькая школьница, лжет так неудачно, что сейчас же изобличается. Обе они не большевички; они сторонницы новой власти, новых политических течений. Страха здесь быть не может.
Что же здесь?
Откуда берет начало эта ненужная, вредная и опасная ложь?
Привычка. Условия обывательской жизни, среда, общество притупили сознание в необходимости жить по чистой совести и утвердили в натуре извращенное понятие о соответствии жизни по ложной совести. Вся жизнь в совокупности воспитала в сердце начало преступности, подрывая моральные основы государственности и приобщая общество к преступлению.
* * *
18 июля 1918 года в Екатеринбурге в театральном зале Исаак Голощекин устроил митинг и на нем объявил, что по постановлению областного совета бывший Царь Николай Кровавый расстрелян, а Семья его вывезена в надежное место. В ответ из рядов собравшейся громадной толпы раздались голоса: «Покажите тело».
Это требование сильно смутило присутствовавших на митинге Сафарова, Войкова, Белобородова, Исаака Голощекина и прочих главарей советской власти. С одной стороны, показать тело они не могли; с другой – толпа, состоявшая из людей, ими воспитанных, ими руководимых, ими созданных, толпа, служившая их силой в революционном движении, им не верила и требовала реального подтверждения голословному заявлению одного из главнейших своих вождей.
За два года революции толпа привыкла ко лжи власти, ко лжи вождей революции. Она шла за разными вождями революции не потому, что верила им, верила их обещаниям, а потому, что каждый атом толпы хотел того же, чего хотел и каждый вождь, – власти для себя, права как своеволия. И чтобы достигнуть этой власти, каждый атом лгал друг перед другом, лгала толпа перед вождями, лгали вожди перед толпой. И все выливали ложь в трескучих словах и громких обещаниях. Максимум этой власти для массы в свое время пообещали Ленин и Бронштейн: все твое – бери. И потому толпа последовательно пошла за ними. Когда перестало существовать то, что можно было брать, а это настало очень скоро, толпа перестала верить и этим вождям.
В этих возгласах из толпы – «покажите тело» – характерно и то, что по существу, они были единственными в ответ на совершившееся событие. Громко ничего другого толпа не высказала, никаким другим возгласом не реагировала. Но позже, когда толпа расходилась, почти вся масса, обмениваясь между собою впечатлениями, высказывала одну и ту же мысль: «Что-то неясное, туманное, недоговоренное есть в заявлении президиума».
Однако громко никто этой мысли не высказал.
Это была бы правда.
Но правды толпа не сказала бы громко и из страха, и по необходимости в обстановке общественной жизни лгать друг перед другом по ложной совести.
* * *
Областной комиссар здравоохранения Николай Арсеньевич Сакович, 36 лет, и заведовавший конторой официального органа Омского совдепа – «Известия» – Семен Георгиевич Логинов, 34 лет. Оба – активные советские деятели.
Их дореволюционное прошлое: Сакович – член Союза русского народа; причислял себя к крайним правым монархистам. Логинов – член партии социал-демократов, меньшевиков-интернационалистов.
Оба семейные; имеют определенное общественное и социальное положение, и в лице своих детей воспитывают и готовят будущих граждан общества.
Революция посадила их на одну скамью подсудимых. Вот что между прочим рассказал каждый из них о себе.
Сакович: «Я ни к какой партии не принадлежал и не принадлежу, но был записан как сочувствующий в партию социалистов-революционеров. Записался я в середине декабря 1917 года. В то время разделения партии не было; я, по крайней мере, не видел и не знал этого разделения.
В январе 1918 года я по предложению партии пошел на съезд крестьянских депутатов с целью познакомиться с разницей программ правых и левых социалистов, так как на этом съезде должна была разбираться программа партии социалистов-революционеров.
На этом съезде мне предложили место заведующего отделом здравоохранения (областного). Я знал, что 195-й госпиталь будет закрыт в близком будущем и я останусь без места; кроме того, мне было ясно, что если я не займу этой должности, то она будет занята кем-либо из рабочих и здравоохранение будет в неопытных руках неспециалиста. Поэтому-то я решил занять эту должность, но не хотел разрешать вопрос самостоятельно, намереваясь спросить мнение врачей; поэтому я и дал условное согласие.
Я не обращался к профессиональному союзу врачей, так как принадлежал к союзу военных врачей, где был перед этим три месяца председателем совета, хотя был членом профессионального союза. Я обратился со своим вопросом на ближайшем собрании союза военных врачей, на котором мне было заявлено, что мое условное согласие на занятие этой должности не подлежит обсуждению в данном собрании. Что означал этот ответ, для меня является неясным и до сего времени.
Спустя около недели меня пригласили на совет комиссаров и предложили мне объявить программу моих предстоящих работ по здравоохранению. Я тогда заявил, что пока я не знаю, буду ли я служить, нового ничего создавать не буду, а лишь буду стремиться поддержать то, что есть, и расширить сеть больниц и амбулаторий. Таким образом, я приступил к фактическому исполнению своих обязанностей. Мне тогда же было предложено подыскать себе помощника, обязательно партийного – или левого социал-революционера, или большевика, – причем назвали этого помощника товарищем комиссара. Я тогда же заявил, что я не хочу и не понимаю названия комиссар здравоохранения и считаю себя областным санитарным врачом, а не областным комиссаром здравоохранения, хотя у меня и была присланная печать из областного исполнительного комитета – печать областного комиссара здравоохранения.
6 марта 1918 года был назначен областной съезд врачей, но он не состоялся за неприбытием врачей. На 15 мая был назначен новый съезд, причем, кроме врачей, на съезд приехали комиссары здравоохранения и представители от Советов рабочих и крестьянских депутатов. Накануне я собрал совещание комиссаров здравоохранения – городского и уездного и страховых касс – Екатеринбургской и городской. На этом совещании я просил выяснить вопрос о том, будет ли съезд аполитическим или политическим, и предложил создать отделы здравоохранения так, чтобы они могли продолжать свою работу при всяких политических переворотах. Меня на этом совещании упрекали в том, что я иду против советской власти, и вынесли постановление, что съезд должен быть политическим и что, если падет большевистская власть, то нечего заботиться о дальнейшей судьбе здравоохранения. Мне пришлось подчиниться.
На съезд собралось около 80 человек. Около 20 представителей большевиков и около 5 левых социал-революционеров составили фракционное собрание, на котором было постановлено: до решения мандатной комиссии решающий голос предоставить тем, кто явился на съезд по группе обязательного присутствия на съезде – это были комиссары здравоохранения (в большинстве не врачи) и представители от советов (не врачи).
Дня через два собралось членов съезда уже человек 135–140. Тогда фракционное собрание постановило, чтобы мандатная комиссия предоставила право решающего голоса лишь тем, кто стоит на платформе советской власти. Этого требования, по мнению собрания, мандатная комиссия не выполнила; был объявлен перерыв заседания, назначено было фракционное собрание, и на фракционном собрании после долгих споров было постановлено – мне как комиссару произвести поправку ошибки, допущенной съездом и заключавшейся в том, что съезд без обсуждения признал действия мандатной комиссии правильными. Я по постановлению фракционного собрания вошел в общее собрание и опросил некоторых членов, признают ли они советскую власть, и признававшим было дано право решающего голоса, а не признававшим – право совещательного голоса. Тогда группа врачей удалилась с совещания».
Логинов: «Мой отец жил в городе Бийске и имел маслоделательные заводы. Я жил при нем и учился в Бийском городском четырехклассном училище, где кончил курс. После окончания училища я поступил в Бийский казенный винный склад. Здесь я прослужил приблизительно полгода и уехал в Иркутск. Отсюда я уехал за границу и поступил в Цюрихе в политехникум. Здесь меня захватила Русско-японская война.
Я возвратился в Россию и поступил добровольцем в 12-й Иркутский запасной батальон. В этой войне я был ранен. После окончания войны я возвратился к отцу; жил у него, но приблизительно в 1908 году уехал в город Троицк Оренбургской губернии с целью приискания заработка, так как с отцом у меня установились натянутые отношения; он пил, мучил семью; из-за этого у нас и пошли с ним нелады. В Троицк же именно я попал потому, что прочитал в газетах какое-то объявление, предлагавшее заработок. Здесь я был хроникером одной газеты, заведовал типографией. В Троицке и его пределах я прослужил до 1915 года.
В этом году я поступил добровольцем в армию, в 19-й Сибирский стрелковый полк, и сразу же был зачислен в команду кандидатов школы прапорщиков. Участвовал я в боях и два раза был ранен, отравлен был газами. В 1917 году я был в стенах школы прапорщиков в городе Омске, где меня захватила революция. 24 июня я получил производство в чин прапорщика.
В то время Омский совдеп издавал свою официальную газету “Известия”, в которой я с целью заработка и работал в качестве сотрудника. После большевистского переворота я стал заведовать конторой этой газеты. Председатель Омского совдепа Косарев, зная, что я по убеждениям не большевик, а разделял убеждения социал-демократов-меньшевиков-интернационалистов, потребовал от меня, чтобы я, заведуя конторой, не саботажничал, а работал в контакте с большевистской властью, на что я изъявил согласие.
Общая разруха жизни меня несколько затянула; я стал играть в карты, проигрался, еще более затянулся и продолжал служить у большевиков в надежде поправить свои материальные дела, так как я уже к этому времени обзавелся семьей – имел жену и ребенка, помогая также и матери, которую бросил отец. Так продолжалось до бегства большевиков из Омска. Вместе с другими деятелями принужден был эвакуироваться из Омска и я. Дней за шесть до падения советской власти в Омске я как офицер был назначен для выполнения некоторых чисто технических функций по охране города, причем в моем подчинении была и милиция. Вот это-то обстоятельство и заставило меня, главным образом, уезжать из Омска вместе с большевиками, так как я опасался мести, особенно в первые дни по очищении города от большевиков.
Приехал я в Тюмень приблизительно 10 июня, и 12 июня я уехал в Екатеринбург. Здесь мне было предложено, как офицеру-специалисту, выехать на фронт. Я уехал в Тюмень, где председатель оперативного штаба Усиевич категорически потребовал от меня, чтобы я отправился на фронт. Всячески стараясь уклониться от этого требования, я в конце концов получил назначение казначея полевого штаба. Все время я находился после этого при штабе 1-й Сибирской армии, отступавшей на Камышлов и затем к Ирбитскому заводу. Здесь приблизительно 30 июля мне было предписано сдать все денежные суммы начальнику хозяйственной части Восточной дивизии Антонову, находившемуся в Алапаевске, что мною и было выполнено приблизительно 1 августа. После этого я выехал в Пермь. Отобраны от меня суммы были потому, что большевики заподозрили меня в неблагонадежности и в попытке бежать от них. Поэтому, когда я прибыл в Пермь, меня арестовала чрезвычайная следственная комиссия. Не имея, однако, никаких доказательств моей вины, она меня освободила.
Пробыв некоторое время в Перми, я решил уехать в Сибирь. Мне удалось уехать из Перми, и 3 сентября я приехал в Курган (пройдя через два фронта). В Сибирь я потому выехал, что в Омске, когда меня эвакуировали большевики, осталась моя семья. Из Кургана я отправился в Иркутск, думая купить здесь товаров для торговли. Но здесь я сильно проигрался в карты. Я вернулся опять в Курган. После этого я решил ехать опять в советскую Россию, думая получить какое-либо дело у большевиков, чтобы иметь в своем распоряжении опять денежные средства. 29 октября я выехал в Уфу, куда прибыл 1 ноября. Отсюда я отправился через Пермь в Москву (снова пройдя через два фронта), где мне и удалось получить довольно значительную сумму. С деньгами я снова пробрался в Сибирь, и приблизительно 18 февраля я прибыл в Екатеринбург (третий переход через два фронта), где и был арестован военным контролем».
Приведенные выдержки из рассказов, могущие служить материалом для характеристики большевистских деятелей из русской народности, выбраны из массы других аналогичных по сути рассказов только потому, что один из авторов приведенных повестей, Сакович, в дореволюционное время причислял себя к монархистам, а другой, Логинов, к противоположному лагерю – социалистам. В революционное время оба оказались в первых рядах активных деятелей, причем Сакович, соответственно общей структуре революционных эволюций, в январе 1917 года был монархистом, в марте того же года объявил себя социал-демократом, в конце этого же года – социал-революционером, в январе 1918 года – стал большевистским комиссаром, а в августе этого года – оказался внепартийным. Логинов же из социал-демократических хроникеров троицкой газетки перешел сначала в сотрудники официального большевистского органа в Омске, а затем – в тайного политического агента Исаака Голощекина в Екатеринбурге и Янкеля Свердлова в Москве по поддержанию связи с главой их тайной организации в Сибири латышом Ильмером. По существу же их характеристик, таких типов в период революции и позже, в среде советских деятелей, было бесконечное число, и во всяком случае гораздо больше, чем сознательных и идейных последователей главарей циммервальдовской шайки, привезенных в Смольный институт в запломбированном вагоне, прибывших с определенной программой – разрушить Россию экономически, низложить ее православный мир и воздвигнуть царство религии лжи.
Оба выведенных представителя советской деятельности – деятели не маленькие, не рядовые работники, а принадлежат к категории активных агентов власти, руководителей большевистского движения, проводников идей, мыслей, форм. Оба они теперь, как говорится, пойманы на месте преступления. Оба знают хорошо, что улики против них так серьезны, что их показания ничего изменить не могут в их судьбе и смертная казнь обоим обеспечена. Их рассказы – это последнее слово, исповедь перед смертью. В подобных случаях люди идеи или отказываются говорить, или если и решаются на слово, то это слово гордо исповедуемой идеи, их светоча жизни, ради которого они боролись на жизнь и смерть, не щадя других и сами гордо и смело идя на эшафот.
А здесь? Каково слово этих людей – представителей сотен и тысяч других таких же творцов революции и сотрудников советской власти?
Прежде всего ложь: ложью пропитанная жизнь, ложью пропитанная деятельность, ложью пропитанное последнее слово. Ложь неискусная, грубая, натянутая; ложью обставлена почти каждая фраза, каждое положение. Ложь маленьких, скверных мальчишек, гадко нашаливших и ищущих ложью обмануть старших. Гнусное, досадное до боли за Русь, за русское имя чувство вызывает эта ложь Саковича и Логинова. Один лжет, как характерно лжет преступник гнусного, но коллективно содеянного преступления; другой лжет, как мелкий уличный воришка, стремящийся доказать, что он не украл, а только взял. И оба в своей лжи совершенно несознательно открывают истинные побуждения, руководившие ими в революционной и большевистской деятельности по разорению России и насилию над своими братьями, в крови и ужасах советского режима. Побуждения, одинаковые у обоих – «мы участвовали в преступлениях над другими, чтобы самим властвовать, жить и есть». При этом оба в своей революционной деятельности увлекаются на борьбу не идеями и принципами социалистических учений, а самыми алчными материалистическими расчетами ловить рыбу в мутной воде.
В период, предшествовавший Великой войне, русская литература пестрела жалобами на упадок в обществе идейности, захватывающих мыслей, порывов и вдохновения. На причины такого явления взгляды разделились: одни считали, что новое оживление мысли находится в прямой зависимости от самой жизни страны; другие, признавая, что по существу это дело внутреннего идейного воспитания, тем не менее полагали, что в известной мере развитие общественного сознания будет зависеть также от успехов политической жизни.
Начало Великой войны, казалось, всколыхнуло общественную мысль; самые разнообразные слои населения, самые противоположные политические партии объединились в одном горячем порыве, в одном великом вдохновении.
Но ненадолго.
Первые же испытания, первая неудача 1915 года разобщили снова все общественные силы, остановили работу живой, идейной мысли; порывы свелись исключительно к беспринципной жажде власти, а вдохновение сконцентрировалось для лжи, которой прикрывалась жажда власти. Потребовался кровавый, безумный период революции и разрушения России, чтобы вскрыть истину и действительное лицо Саковичей и Логиновых, Керенских и Гучковых, Лениных и Бронштейнов, Белобородовых и Ермаковых, Леватных и Клещеевых…
Эта притупленность мысли, эти порывы к власти, это вдохновение во лжи – признаки духовного разложения, духовного падения. Оно естественно привело людей, общество к преступности, к преступлению. Ни Сакович, ни Логинов, ни другие сподвижники не чувствуют в своих поступках моральной стороны; она притуплена так же, как и мысль. Для кого они работают? – это безразлично. Во имя каких идей работают? – тоже безразлично. По каким путям идут? – безразлично. Из их рассказов не видно даже, чтобы их принуждали работать и служить с большевистской властью силой. Напротив, они работают и служат, сознавая хорошо, кто такие сидящие рядом с ними, тоже, как и они, не останавливающиеся ни перед какими преступлениями ради тех начал, которыми руководятся Саковичи и Логиновы: все для себя.
* * *
Сакович и Логинов – из той толпы, которая присутствовала на митинге Исаака Голощекина в театральном зале. По своей интеллигентности они раньше других атомов толпы успели обеспечить за собой власть для себя, чтобы жить и есть, и благодаря этому теперь их положение в советской России обеспечено. Сакович совершенно просто рассказывает, как он достиг этой власти, хотя на пути к ней совершил ряд преступлений самостоятельно или участвовал в преступлениях с другими.
Он изменял политическим принципам соответственно тому, которые из них открывали ему доступ к власти; он изменил офицерской среде, он изменил среде своих коллег-врачей и, ради упрочения своей власти на съезде, предал нескольких врачей в руки большевиков. Он до циничности просто рассказывал, что в начале июля 1918 года советские власти отправляли на рытье окопов лиц состоятельных классов. Комендант Некрасов посылал к нему этих людей для дачи заключения – годны или нет присылаемые к физическому труду. В один из дней, когда он дал освобождение трем лицам подряд, Некрасов ему пригрозил, что если он будет так широко освобождать, то будет сам послан в окопы. Тогда Сакович, «чтобы оградить себя», совершенно перестал давать освобождения.
Так же легко, как и против общества, для ограждения себя, своей власти он совершил преступление против Царской Семьи, участвуя в совещании, обсуждавшем, каким способом покончить с ней, и, конечно, как и другие комиссары, участвовал в голосовании.
Сакович интеллигент, человек с высшим образованием и привилегированного классового положения. Поэтому ложь своего рассказа он прикрывает или умалчиваниями в нужных местах, или туманностью оборота речи, или демагогической риторикой. Но по циничной простоте и беспринципности его суждения ничем не отличаются от точки зрения, например, хулигана Проскурякова, когда последний рассказывал о своей причастности к убийству Царской Семьи:
«На другой день после получки жалованья, значит, во вторник 16 июля до 10 часов утра я стоял на посту у будки около Вознесенского проспекта и Вознесенского проулка. Егор Столов, с которым я вместе жил в одной комнате, стоял тогда в эти же часы на посту в нижних комнатах дома. Кончив дежурство, мы со Столовым пошли попьянствовать на Водочную улицу, к милиционеру 2-й части по имени Адольф, потому что, как мы это знали от него самого, у него был денатурат. Напились мы со Столовым денатурату и под вечер пришли домой, так как нам предстояло дежурить с 5 часов. Медведев увидел, что мы пьяны, и посадил нас под арест в баню, находившуюся во дворе дома Попова. Мы там и уснули.
Спали мы до 3 часов ночи. В 3 часа ночи к нам пришел Медведев, разбудил нас и сказал нам: «Вставайте, пойдемте». Мы спросили его: “Куда?” Он нам ответил: “Зовут, идите”. Я потому говорю, что было это в 3 часа, что у Столова были при себе часы, и он тогда смотрел на них. Было именно 3 часа.
Мы встали, пошли за Медведевым. Привел он нас в нижние комнаты дома Ипатьева. Там были все рабочие-охранники, кроме стоявших тогда на постах. В комнатах стоял как бы туман от порохового дыма и пахло порохом. В задней комнате с решеткой в окне, которая рядом с кладовой, в стенах и в полу были удары пуль. Пуль особенно было много в той стене, что напротив входной двери, но были следы пуль и в других стенах. Там, где в стенах и полу были пулевые отверстия, вокруг них была кровь; на стенах она была брызгами и пятнами, на полу – маленькими лужицами. Были капли и лужицы крови и во всех других комнатах, через которые нужно было проходить во двор дома Ипатьева из этой комнаты, где были следы от пуль. Были такие же следы крови и во дворе к воротам на камнях. Ясное дело, в этой именно комнате с решеткой незадолго до нашего со Столовым прихода расстреляли много людей. Увидев все это, я стал спрашивать Медведева и Александра Стрекотина, что произошло? Они мне сказали, что только что расстреляли всю Царскую Семью и всех бывших с нею лиц, кроме мальчика.
Медведев приказал нам со Столовым убирать комнаты. Стали мы все мыть полы, чтобы уничтожить следы крови. В одной из комнат было уже штуки три – пять метел. Кто именно их принес, я не знаю. Думаю, принесли их со двора, где я их раньше видел. По приказанию Медведева Кронидов принес из-под сарая со двора опилок. Все мы мыли холодной водой и опилками полы, замывая кровь. Кровь на стенах, где был расстрел, мы смывали мокрыми тряпками. В этой уборке принимали участие все рабочие, кроме постовых. И в той именно комнате, где была побита Царская Семья, уборку производили многие. Помню я, что работали тут человека два «латышей», сам Медведев, отец и сын Смородяковы, Столов. Убирал в этой комнате и я. Но были еще и другие, которых я забыл. Таким же образом, т. е. водой, мы смывали кровь во дворе и с камней.
После уборки комнат мы со Столовым пошли было в наше помещение в доме Попова, но нас Медведев посадил опять в баню досиживать арест. Пошли мы в баню и проспали часов до 10 утра. Это, значит, было уже в среду. В 12 часов я стал на пост снаружи у будки на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского проулка. Простоял я два часа. Тут мы со Столовым пошли в город и прошатались до вечера. Знакомых мы никого не видели и никому про убийство не говорили. Вечером мы пришли в казарму, поели и легли спать».
Интеллигент Сакович не отпирался, что он служил у советской власти, но в своем рассказе лгал от начала до конца. 17-летний хулиган Проскуряков рассказал голую правду, но лгал перед этим: сначала упорно отпирался, что служил советской власти, потом признался, что служил, но ничего не знает, и только после долгих бесед с Соколовым, наконец, рассказал, и рассказал правду. В этом разница индивидуальностей советских деятелей из интеллигенции и из пролетариата, но ложь так или иначе является непременным аксессуаром этих деятелей. Затем характерная для них всех общая черта – повествует ли интеллигент или хулиган, рассказывают ли ложь или правду, обязательно выдадут всех, кого только могут, лишь бы оградить себя. Забота о себе ни на минуту не покидает советского деятеля, как не покидала она и деятеля революции с первого ее момента, и всякого политического деятеля последних годов, предшествовавших революции.
Проскуряков, сначала солгавши, заговорил правдиво. Заговоривши правдиво, он каялся в своей преступной деятельности, сознавал свои ошибки, свою подлость, и, хотя, может, делал это не без умысла смягчить сердце судей и облегчить свою участь, но во всяком случае сознал свою низость и глупость вполне искренно, убежденно. Сакович – тот своей мерзости не признает и не желает признавать. Он и лжет в рассказе так, чтобы доказать, что он делал вполне хорошо и иначе не могло быть. Он ни минуты не выказывает раскаяния ни в каком виде и считает, что каяться ему и не в чем, так как вся его беспринципная деятельность есть именно та, которая и должна быть.
Еще Достоевский со свойственной ему глубиной психологического анализа отметил характерную черту русского человека, отличающую его от представителя любой другой европейской нации: «Нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается правило и свет цивилизации, и несчастный кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно…»
Проскуряков и Сакович как раз два применимых к этому анализу типа: в Проскурякове, каков бы он ни был негодяй, все же сказывается природное русскому человеку свойство, что его и оставляет в рядах русского народа, способного вместе с тем, по заключению того же Достоевского, глубоко понимавшего свой народ и верившего в него, «самому светить и всем нам путь освещать», так как, говорит Достоевский, «судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то спасали его в века мучений…» Интеллигент же Сакович утерял уже основное свойство, присущее русскому человеку, – самопознание по совести и перестал быть русским. В нем стерлись черты русского человека, и в своем руководстве революционным движением и позднее советскими порядками он пошел по какому угодно пути, но не по русскому.
Не в этом ли расхождении интеллигента Саковича с основными чертами русского народа кроются причины и сущность той пропасти, о которой столько трактовалось в обществе, литературе и политических течениях дореволюционного периода и которую все склонны были находить между Проскуряковым и Царем, а не видеть ее между собой и народом? И правильно ли искать корень этих причин в условиях бывшей русской политической жизни, в русском народе, в русском Царе и в русском мировоззрении? Не берет ли эта создавшаяся пропасть начало в том одностороннем увлечении европеизмом, так сильно прививавшимся в широких кругах нашей интеллигенции, под ложным стыдом прослыть иначе на мировом рынке отсталыми «варварами», и повлекшим, с одной стороны, ложное познание своего народа, а с другой – игнорирование идеологии своего народа в увлечении европейскими тенденциями социалистических теорий?
* * *
В числе документов, найденных в комнатах, занимавшихся Царской Семьей в доме Ипатьева, оказался между прочим маленький, разорванный на кусочки листок разграфленной синими линиями бумаги, как бы вырванный из тетради, на котором имеется запись черными чернилами и карандашом. Почерк, коим сделана запись, как будто напоминает почерк покойного бывшего Государя Императора Николая Александровича. Содержание записи, представившееся возможным разобрать, следующее:
«…расхищают казну и иноплеменники господствуют. – В бедах отчизны они думают о себе… Чтобы скоро водворилась тишина и благоденствие… насильственное пострижение, тяжелую смерть… Вот, что называется “нет ни праведному венца, ни грешному конца”. Что за времена: всякий творит что хочет. Вот картина настоящего. В народе разврат, Царский престол колеблется и своим падением грозит сокрушить надолго, может быть навсегда могущество и славу русских. На стеклах не легкие узоры, а целые льдины…»
Размер пропуска между словами «благоденствие» и «насильственное» мог бы позволить вставить слова: «в России (или отчизне), Я готов принять». Если в записи были именно эти слова или соответственные им, тo, приняв во внимание сходство почерка, можно было бы сказать с уверенностью, что запись сделана бывшим Царем. Но кому бы она ни принадлежала, автор ее вполне соответственно текущему моменту определяет сущность импульсов, руководивших людьми, и с большой прозорливостью предуказывает последствия господства «иноплеменников» и сосредоточения помыслов только о себе.
Запись, судя по отрывочному содержанию, сделана скорее в период, непосредственно предшествовавший революции, т. е. в период последней напряженной борьбы между общественным политическим настроением, руководимым в то время, как казалось, Государственной думой, и Царским Селом.
Изучение документов, оставшихся после зверски уничтоженной Царской Семьи, многочисленные допросы и опросы лиц, как принадлежавших к составу придворных чинов, оставшихся до последнего момента при Августейшей Семье, так и лиц, случайно или по служебным причинам приблизившихся к ее интимной жизни уже в период самой революции, безусловно, устанавливают, что погибшие Государь Император и Государыня Императрица определенно любили Россию для России, а не для себя, не для своей власти, в политическом значении слова. В своем Помазанничестве Божьем они слишком глубоко и убежденно сознавали свою духовную, идеологическую связь с христианским миропониманием народа, и борьба их была борьбою не за гражданско-политическую власть, а за ограждение идеологического мировоззрения народа, его религиозной святыни, воспитавшейся в нем исторически и глубоко проникшей в корень его существа.
Когда по началу революции казалось, что в развившемся движении против Главы государства принял участие весь народ, этот единственный моральный судья соответствия своего правителя духовной идеологии массы, Царь с болью, но сознательно отрекся от власти и передал ее тому, на кого указали ему руководители движения, как избраннику народа. Оба они, Царь и Царица, отнеслись к постигшей их тяжелой участи с полным спокойствием, вытекавшем из их горячей и искренней веры в Божественность Промыслов в их жизни на земле. Но когда оказалось, что ни руководители свержения Царя, ни общественные силы, казалось, шедшие с ними, не имели за собой в действительности ни воли, ни силы народной массы и не смогли удержать в своих руках своих «завоеваний», то моральные страдания Царя за будущую судьбу родины стали невероятными. Однако до Брестского договора Государь и Государыня все же продолжали верить в скорое будущее благополучие России. Своего возвращения на престол они категорически и искренно не хотели, выражая очень часто эту мысль окружавшим, и мечтали только о спокойной семейной жизни, но обязательно в пределах России. Они совершенно не допускали мысли ни при каких обстоятельствах уехать куда-либо за границу.
После же Брестского договора Государь и Государыня, видимо, потеряли веру в скорое светлое будущее. В это время Государь стал в резких выражениях отзываться о Керенском и Гучкове, считая их одними из главных виновников развала армии. Обвиняя их в этом, он говорил, что тем самым бессознательно для самих себя они дали немцам возможность разложить Россию. На Брестский договор Государь смотрел, как на позор перед миром, как на измену России союзникам. Он заключал свои мысли приблизительно так: и они смели подозревать Ее Величество в измене? Кто же на самом деле изменник?
На главарей большевистского движения Ленина и Бронштейна-Троцкого Государь определенно смотрел, как на немецких агентов, продавших Россию немцам за большие деньги и преследовавших, кроме того, свои специальные темные цели религиозно-социалистического характера мировой опасности. Когда в Тобольск приехал советский комиссар Яковлев, чтобы вывезти Царскую Семью, и из его полуслов стало ясно, что Государя имеют в виду доставить для чего-то в Москву, то бывший Царь, не колеблясь, сказал: «Ну, это они хотят, чтобы я подписался под Брестским договором. Но я лучше дам отсечь себе руку, чем сделаю это». И присутствовавшая при этом Государыня, сильно волнуясь, так как ее любимый сын был в это время в очень опасном болезненном состоянии, добавила: «Я тоже еду с тобой».
Павел Медведев, касаясь условий содержания Царской Семьи в Ипатьевском доме, говорил про них:
«Все члены Августейшей Семьи, кроме Наследника, были здоровы. По внешнему виду Государыня была старее Государя: у нее в волосах заметна была седина. За все время мне пришлось иметь лишь два коротких разговора с Государем. Раз Государь спросил меня, как идет война, куда отправляются войска? Я объяснил ему, что теперь идет война внутренняя, дерутся русские с русскими. Во второй раз, увидя меня в саду рвущим лопухи, Государь спросил, для чего они мне. Я ответил, что они нужны на табак. Никаким оскорблениям и издевательствам Царская Семья со стороны охранников не подвергалась».
Медведев при допросе особенно подчеркивал разницу в отношениях к Царской Семье русских охранников-рабочих и отношениях Юровского и «латышей». Он говорил, что не доверяя русским, Янкель Юровский и «латыши» следили за самими русскими охранниками и не позволяли иметь общений с Царской Семьей, например разговаривать с ней. Именно этим он объяснил, что ему не удалось беседовать более или менее обстоятельно с Царем.
В свою очередь рассказывает про Царскую Семью и Филипп Проскуряков:
«Жизнь свою они проводили так: вставали они утром часов в 8–9. У них была общая молитва. Они все собирались в одну комнату и пели там молитвы. Обед у них был в 3 часа дня. Все они обедали вместе в одной комнате, т. е. я хочу сказать, что вместе с ними обедала и вся прислуга, которая была при них. В 9 часов вечера у них был ужин, чай, а потом они ложились спать. Днем Государь читал, Государыня также читала или вместе с дочерьми вышивала что-нибудь или вязала. Наследник, если мог, делал из проволоки цепочки для своих игрушек-корабликов. Гуляли они в день часа полтора.
Про отношения к Государю и к его Семейству со стороны охраны я могу по сущей совести объяснить следующее: Авдеев был простой рабочий, малоразвитой. Бывал он и пьяненький иногда. Но ни он сам, ни охранники при нем ничем, как есть, Царской Семьи не обижали и не утесняли. Юровский с Никулиным держали себя самих совсем по-другому. При них Царской Семье было хуже. Ну и охранники при Юровском стали себя вести много хуже. О разных безобразиях Сафонова, Стрекотина и Подкорытова Юровскому было известно. О том, как однажды Подкорытов выстрелил в выглянувшую в окно Анастасию Николаевну, ему, Юровскому, я знаю, докладывал Медведев».
По поводу отобрания Юровским от охранников перед расстрелом Царской Семьи револьверов Проскуряков характерно замечает:
«Вот этого я толком понять не могу. Правда это была или нет, я этого доподлинно не знаю, потому что никого из рабочих об этом я спросить не догадался, отбирал ли на самом деле у них Медведев револьверы. Для чего это нужно было, я сам не понимаю; по словам Медведева, расстреливали Царскую Семью «латыши», а они все имели наганы. Я тогда еще не знал, что Юровский еврей. Может быть, он, руководитель этого дела, и «латышей» для этого нагнал, не надеясь на нас, на русских. Может быть, он для этого и захотел постовых, русских рабочих, обезоружить».
* * *
Два показания рабочих-охранников, Медведева и Проскурякова, одинаково свидетельствуют, что в отношениях во всяком случае большей части русских охранников к бывшему Царю и к Царской Семье народной вражды не было. То же подтверждали и другие охранники, да и надписи на стенах дома, оставленные по себе охранниками, говорили о том же. По-видимому, это обстоятельство так ярко проявлялось, что руководители преступления – Исааки Голощекины, Янкели Юровские, Саковичи, Белобородовы, Дидковские, или, так сказать, израильская и российская революционная советская интеллигенция – испугались настроения русских рабочих к сверженному Царю и вынуждены были обеспечить выполнение своего злого умысла обезоруживанием охранников и удалением их от непосредственного соприкосновения с обреченными жертвами. В данном случае это произошло при большевистской власти. Но не тот же ли страх, вероятно, должен был существовать в тайниках душ деятелей и революционеров предшествовавшего периода революции, когда русской землей пытались завладеть Львовы, Керенские, Гучковы и прочие главари «народных движений» без народа, взявшие на себя право свержения Царя именем народа, а совершившие в действительности преступный акт личного произвола, так как народа за ними не оказалось.
Сверженный, заключенный, всецело находившийся во власти большевистских изуверов бывший Царь предпочитает, чтобы ему отрезали руку, чем пойти на какое-либо дело, которое могло бы принести вред национальной чести и свободе России и поставить ее в экономическо-политическую зависимость от немцев. Он истинно русский для такой сделки человек; он верный и честный сын своего народа, и это проявляется даже в его отношении к своим тюремщикам из русского народа. Он и в них продолжает видеть русских христиан, детей русского народа, к которому принадлежит и сам и которого любит не на митинговых и трибунных словах, а на деле, таковым, как его создали история и жизнь. Он и в Медведеве видит прежде всего своего соплеменника, заговаривает с ним и уверен, что из 1000 таких русских рабочих, как Медведев, может быть, только 10–20 не отзовутся просто на слово русского человека, которого они все поневоле чувствуют в нем.
Совершенно верно, что для политически развращенных различными социалистическими и иными лицедеями слова воспитателями рабочих он больше не Царь-Правитель. Он только человек. Но не увидеть в нем истинного русского человека они не могли, так как близкое соприкосновение с ним в охране, с его Семьей, с их жизненным бытом и, главное, с их высокоправославной религиозностью открывало глаза простых людей на сущность натуры бывшего Царя и устанавливало между ними невольно внутреннюю связь по сродству основных, коренных черт народного характера. Этой внутренней связи с русским народом не могли иметь ни Саковичи, ни Логиновы, ни Ленины, ни Гучковы, ни Керенские, ни Львовы, ни один из их сподвижников, активных и пассивных, всего революционного периода 1917 года и предшествовавших ему подготовительных смутных годов.
Сколько должно было быть у бывшего Царя любви к своему русскому народу, сколько великой русской жалости к темноте его, чтобы даже в Екатеринбурге не разувериться в действительных свойствах его натуры и не отвернуться от него, а всегда и при всех тяжелых обстоятельствах стремиться стать ближе к нему, приласкать его, от чистого сердца протянуть ему руку. И в большинстве случаев он не ошибался: простой русский человек его понимал и, кто бы он ни был по испорченности натуры, так или иначе откликался. Царь говорил: «Русский человек – это мягкий, хороший, душевный человек; он многого не понимает, и этим пользуются злые люди. Но на него можно воздействовать добром». Как раз именно такую натуру русского человека он сам и вмещал в себе, а злые люди пользовались этим и… воспользовались окончательно в стремлении к власти, в заботе лишь о своем эгоистическом «я» и в ослеплении своими не русскими политическими принципами. В последнем отношении характерен эпизод, случившийся с комиссаром Панкратовым, как рельефно отражающий сущность политиканствовавших людей того времени, воображавших, что в своем, приобретенном с Запада, социалистическом мировоззрении они лучше знают и ближе стоят к русскому простому народу, чем русский Царь.
Панкратов был прислан в Тобольск Керенским вместо комиссара Макарова. По существу, это был человек не злой, мягкий и безвольный, но, к несчастию, узкий, партийный, идейный социалист. Его главная мысль по приезде в Тобольск заключалась в том, что надо развить и воспитать солдат, чтобы Царской Семье было хорошо среди них. Для этого он стал по-своему развивать солдат охраны, но результаты получились для него совершенно неожиданно чрезвычайно неприятные: вместо просвещения – солдаты начали развращаться; появилась партийность и злоба; солдаты стали хулиганить, – и Панкратов, испугавшись, отступил. Каково же было его удивление, когда, спустя некоторое время, вновь зайдя в помещение солдат, он застал там Государя с Наследником, игравших с солдатами в шашки и мирно беседовавших с ними. При входе его Государь добродушно предложил Панкратову присоединиться к их компании, но смущенный революционер-воспитатель, сконфузившись, поспешил уйти.
* * *
Старик Чемадуров, 10 лет пробывший при Государе Императоре в должности камердинера, незадолго до своей смерти в простом рассказе верного слуги так исторически ценно обрисовал покойного бывшего Царя:
«Камердинеров при бывшем Государе было трое: я, Петр Федорович Котов и Никита Кузьмич Тетеревятников; каждый из нас дежурил при бывшем Государе понедельно. В круг обязанностей дежурного камердинера, кроме обычных, входили: исполнение всех личных приказаний Государя и доклад о всех особых, имевших к нему личный доступ. Без доклада камердинера никто, кроме супруги Государя и его детей, не имел права входить в кабинет Государя.
За время моей почти 10-летней службы при Государе я хорошо изучил его привычки и наклонности в домашнем обиходе и по совести могу сказать, что бывший Царь был прекрасным семьянином. Обычный порядок дня был таков: в 8 часов утра Государь вставал и быстро совершал свой утренний туалет; в 8.30 пил у себя чай, а затем до 11 часов занимался делами, прочитывал представленные доклады и собственноручно налагал на них резолюции. Работал Государь один, и ни секретарей, ни докладчиков у него не было. От 11 до 1 часу, а иногда и долее, Государь выходил на прием, а после часу завтракал в кругу своей Семьи. Если прием представлявшихся Государю лиц занимал более положенного времени, то Семья ожидала Государя и завтракать без него не садилась. После завтрака Государь работал и гулял в парке, причем непременно занимался каким-либо физическим трудом, работая лопатой, пилой или топором. После работы и прогулки в парке – полуденный чай. От 6 до 8 часов вечера Государь снова занимался у себя в кабинете делами. В 8 часов вечера Государь обедал, затем опять садился за работу до вечернего чая в 11 часов вечера. Если доклады были обширны и многочисленны, Государь работал далеко за полночь и уходил в спальню только по окончании всей работы. Бумаги наиболее важные Государь сам лично вкладывал в конверты и заделывал: для отсылки бумаг по принадлежности Государь приглашал дежурного камердинера. Перед отходом ко сну Государь принимал ванну. Кроме того, Государь аккуратно вел дневник и писал иногда до глубокой ночи. Тетради дневников тщательно сохранились, и таких тетрадей накопилось очень много.
В семейном быту Государь не допускал никакой роскоши, и в столе, одежде и домашнем обиходе Государь и вся его Семья придерживались скромных и простых привычек. Отличительной чертой всей Царской Семьи была глубокая религиозность. Никто из членов Семьи не садился за стол без молитвы; посещение церкви было для них не только христианским долгом, но и радостью. Отношения между членами Семьи были самые сердечные и простые, как между Государем и Государыней, так и между родителями и детьми».
Нравственные облики покойных Государя и Государыни обрисовываются более полно в рассказах лиц, случайно ставших близко к интимной жизни Царской Семьи уже в революционный период, т. е. лиц, как бы наблюдавших за жизнью Семьи со стороны и не принадлежавших раньше к придворной среде.
По отзывам всех этих лиц, Государь был человек умный, образованный и весьма начитанный. Он обладал громадной памятью, особенно на имена, и являлся чрезвычайно интересным собеседником. Он хорошо знал историю и любил серьезные исторические книги. Любил он физический труд и жить без него не мог, в этом он был воспитан с детства.
Доброта и простота чувствовались в нем при его обращении с людьми: ни малейшей надменности или заносчивости в нем не было. Он был замечательно предупредителен и внимателен к другим. Госпожа Битнер, случайная учительница в Тобольске, преподававшая русский язык Наследнику, говорит: «Если я иногда по нездоровью пропускала урок, не было случая, чтобы он, проходя утром через нашу комнату, не расспросил меня о моем здоровье. С ним я всегда чувствовала себя совсем просто, как будто век его знала».
В своих потребностях Государь был очень скромен: берег одежду, не позволял себе в этом лишней траты, и сплошь да рядом можно было видеть на нем потертые, но исправно починенные и вычищенные штаны и износившиеся сапоги. Вина он почти не пил: за обедом ему подавались портвейн или мадера, и он выпивал не больше рюмки. Он любил простые русские блюда: борщ, щи, кашу. Был он весьма религиозен, ни ханжества, ни суеверных предрассудков в нем не было. Он был истинный русский христианин по вере и строгий исповедник догматов Православной Церкви.
Не любил он евреев. Не любил, и даже больше – не переваривал, немцев.
Отличительной чертой в его натуре, наиболее его характеризовавшей, было свойство доброты, душевной мягкости. Это был человек замечательно добрый. Если бы это зависело лично от него как человека, он бы не способен был совершенно никому причинить какое-либо страдание. Вот это его свойство и производило сильное впечатление на окружающих. Вместе с тем он был замечательно выдержанный, спокойный и бесхитростный человек. Эти основные отличительные его черты чрезвычайно хорошо воспринимались людьми, с которыми он приходил в соприкосновение. Конечно, людьми, не испорченными душой и мыслями. «Он вызывал у меня чувство, что хочется сделать ему что-нибудь приятное», – говорит один из таких свидетелей. «Сколько лет я жил около него, и ни одного раза я не видел его в гневе», – говорит другой свидетель.
Искусств Государь не знал. Он любил сильно природу и охоту. Без этого он томился и по охоте скучал. Охоту он оставил с началом Великой войны.
Про отношение и чувства Государя к России – нельзя их выразить словами, что он любил Россию. Россия для него была почти тем же, что была христианская вера; как не мог он отречься от христианской веры, так не мог оторваться от России. Чувства Государя и Государыни к России определеннее всего выражаются в словах Государыни: когда после отречения Государь вернулся к Семье, то приближенные в порыве любви к их Величествам хотели выразить сочувствие их страданию. Тогда Государыня, указав на распятие Христа, сказала: «Наши страдания – ничто. Смотрите на страдания Спасителя, как Он страдал за нас. Если только это нужно для России, мы готовы жертвовать и жизнью, и всем».
Государь был слишком доверчив к людям, считая почти всех лучше, чем они были в действительности. Недобропорядочные элементы пользовались его сердечной добротой и снискивали расположение Царя к себе путем возбуждения его жалости. Та же черта была и в характере Государыни. Вследствие этого многие, представляясь гонимыми, укрепляли к себе их расположение и пользовались их заступничеством и покровительством. К числу таковых относился и Распутин, который умело выставлял себя жертвой всевозможных интриг и злой зависти.
В семейном быту Государь всецело подчинялся воле Государыни; он хотел, чтобы хозяйкой в Семье все считали ее. Если к нему обращались с каким-либо семейным или хозяйственным вопросом, он обыкновенно отвечал: «Как жена, я ее спрошу».
«Государыня как была Царицей раньше, так и осталась ею. Самая настоящая Царица: красивая, властная, величественная», – это было общее впечатление и заключение как людей, состоявших при Царской Семье, так и рабочих-охранников из Ипатьевского дома.
Самым характерным отличием в Государыне была именно ее величественность – такое впечатление она производила на всех. «Идет, бывало, Государь, – рассказывают придворные, охранники, все окружавшие их посторонние люди, – нисколько не меняешься; идет Она – как-то невольно обязательно одернешься и подтянешься». Всегда в ее присутствии чувствовалась в ней Царица. Она была умная, с большим характером и весьма выдержанная женщина. Благодаря силе воли она вполне отвечала первенствующему положению в Семье. Но это не был гнет: она была той надежной крышей, под защитой которой жила Семья; она их всех опекала. Но за то, конечно, она сильнее и страдала; у всех на глазах она сильно старела.
Однако Государыня вовсе не была горда в дурном смысле этого слова; этого и не могло быть в ней, потому что от природы она была умна, в душе смиренная, добрая женщина. Черты ее натуры, которые заставляли видеть и чувствовать в ней Царицу, вовсе не были отрицательными чертами, это не являлось результатом надменности, самомнения, жестокой властности – эти качества совершенно в ней отсутствовали. Она была именно величественна, как Царица, величественна в своих чувствах, взглядах и особенно в духовных и религиозных воззрениях.
Государыня была бесконечно добра и бесконечно жалостлива. Именно эти свойства ее натуры были побудительными причинами в явлениях, давших основание людям интриговавшим, людям без совести и сердца, людям, ослепленным жаждой власти, объединиться между собою и использовать эти явления в глазах темных масс и жадной до сенсаций праздной и самовлюбленной части интеллигенции для дискредитирования Царской Семьи в своих темных и эгоистических целях. Государыня привязывалась всей душой к людям действительно страдавшим или искусно разыгрывавшим перед ней свои страдания. Она сама слишком много перестрадала в жизни, и как сознательный человек – за свою угнетенную Германией родину, и как мать – за страстно и бесконечно любимого сына. Поэтому она не могла не относиться слишком слепо к другим, приближавшимся к ней людям, тоже страдавшим или представлявшимся страдающими.
Она сильно и глубоко любила Государя. Любила она, как женщина, полюбившая его с 15-летнего возраста нежной и сильной девичьей душой; как женщина, которая имела от него детей и много лет жила с ним хорошей, согласной жизнью. С мужем у нее были прекрасные, простые отношения. Они оба любили друг друга, и хотя для всех ясно чувствовалось, что главой в доме была она, но не было ни одного вопроса, о котором бы она раньше не посоветовалась с мужем.
Все свободное время, оставшееся от приемов и благотворительной деятельности, Государыня отдавала Семье; посторонним видно было, как сильно она любила свой очаг, своих детей, а из них больше всех Алексея Николаевича. Однако любила она детей не слепо и эгоистично, но уделяя массу чувства, ласки и добра всем окружавшим ее посторонним людям. Письма ее к матери графини Гендриковой, к самой Анастасии Васильевне, к баронессе Буксгевден, к комнатным девушкам Великих княжон, к массе раненых и больных солдат и офицеров переполнены материнской нежностью, лаской, желанием каждому помочь, подбодрить, утешить.
Битнер рассказывает, что однажды у нее с Государыней произошел сильный спор, вызванный несходством оценки побуждений, делавших простого русского человека беспринципным и безжалостным красноармейцем. Государыня, увидя из окна пришедший из Омска какой-то отряд красноармейцев, сказала: «Вот, говорят, они нехорошие. Они хорошие. Посмотрите на них, они вот смотрят, улыбаются. Они хорошие». Битнер стала ей возражать, доказывая, что многого она не видит и о многом ей не рассказывали, скрывая от нее. В результате горячего спора обе женщины расплакались. У Битнер разболелась голова, и она не смогла прийти вечером в этот день к Царской Семье. Государыня прислала к ней камердинера, звала ее и написала письмо, прося Битнер не сердиться на нее. «В этом случае, – говорит Битнер, – она, по-моему, вылилась вся, какая она была».
«В другой раз, – рассказывает еще Битнер, – она однажды спросила сама, посылаю ли я деньги моей матери. Как раз было такое время, когда мне матери послать было нечего. Тогда она настояла, чтобы я взяла у нее денег и послала бы моей матери, хотя в это время денежные дела самой Семьи были очень тяжелы».
Государыня, безусловно, искренно и сильно любила Россию, совершенно так же, как любил ее и Государь. Так же, как Государь, смотрела она и на русский народ: хороший, простой, добрый народ. Это не были слова. Это было глубокое убеждение, проявлявшееся у нее и на деле. Уже будучи арестованной в Царском Селе, Государыня, бывало, выйдет гулять в парк. Ей расстелят коврик, она присядет на него, и сейчас же вокруг собираются солдаты охраны, подсаживаются к ней, и начинаются разговоры. Государыня разговаривала с ними и улыбалась; разговаривала без принуждения себя, и никто ни разу не слышал, чтобы кто-либо из солдат осмелился бы ее обидеть во время таких бесед. В Тобольске многие из хороших солдат перед увольнением приходили к ней и к Государю прощаться, и она обыкновенно благословляла их образками.
Окружавшие удивлялись силе ее ненависти к Германии и Вильгельму. Всегда сдержанная и владевшая собой, она не могла касаться этого предмета разговора без сильного волнения и злобы. Когда она говорила про революцию, еще тогда, когда не было никаких большевиков, она с полным убеждением предсказывала, что такая же судьба постигнет и Германию. Мысль ее при этом была определенная: революция в России – это не без влияния Германии, но за это поплатится сама тем же, что она сделала и с Россией.
«Меня считали немкой, – говорила она. – Если бы знали, как я ненавижу Германию и Вильгельма за все то зло, которое они сделали моей родине».
Никто от нее никогда не слышал слова, сказанного на немецком языке. Она говорила хорошо по-русски, пользовалась французским и чаще английским языком. Дети же даже просто плохо владели немецким языком, и нелюбовь матери к Германии и Вильгельму всецело передалась и детям, которые выказывали ее даже в мелочах. Так, подарки, полученные ими однажды от Вильгельма, они роздали прислуге.
Государыня была сильно религиозной натурой. У такого человека, как она, это не могло быть ни лживым, ни болезненным.
Ее вера в Бога была искренняя и глубокая. Как человек, не терпевший по природе какой-либо лжи, она, приняв Православие, приняла веру не по форме, не по необходимости, а всем сердцем, всем разумом, всей волей. Иной она не могла быть. Ее вера, ее набожность были искренни, глубоки и чисты. Никакого ханжества в ней не было и по натуре не могло быть. По основе христианского учения она верила всем сердцем в силу молитвы, верила до конца.
Чрезвычайно характерное явление обрисовывается различными показаниями свидетелей в свойствах религиозности Государыни. Мужчины считали Государыню истеричной и полагали, что на этой почве в ней развилась религиозная экзальтация. Женщины категорически отрицали наличие у Государыни истеричности и совершенно отвергали возможность болезненного проявления у нее религиозного чувства.
Подробное изучение натуры, характера и психологии покойной Государыни по многочисленным ее письмам приводит к заключению, что суждение женщин в отношении религиозности Государыни, безусловно, соответствует истине. Вероятно, действительно женщины более способны воспринимать веру и религию до конечной глубины, чем мужчины. Ни в одном письме Государыни к кому бы то ни было совершенно не проявляется истеричности. Чистая, глубокая вера в Бога, сопровождаемая всегда бесхитростным, спокойным, здравым суждением рассудка, – вот чем отличаются беседы Государыни с близкими ее сердцу и духу людьми в многочисленной переписке. Никакой экзальтации, никакой искусственности, никакой фальши не чувствуется в ее словах. И только натуры очень хорошие, в свою очередь религиозные, но не способные воспринимать веру до конца, могли видеть в Государыне религиозную экзальтацию и приписывать ей истеричность – болезненное явление, до сих пор не объятое и не исчерпанное наукой.
Настанет время, когда воскресшая Россия и возрожденный искренним раскаянием русский человек скажут свое последнее и окончательное слово о трагически погибших Государе Императоре и Государыне Императрице. Но русский человек дореволюционного периода сказать этого слова не может: он жил и знал Царя и Царицу не теми, какими они были в действительности, а теми, которыми их представляли ему кошмарная интрига, гнусная, продажная печать и грязные слои общества и своя извращенная и притупленная мысль. Общество России питалось сведениями о Царской Семье не от тех, кто знал или мог знать правду о них, а от тех, кто умышленно не хотел знать правды и умышленно искажал ее, если и знал. Не характерно ли то, что когда теперь устанавливается лицо непосредственных вдохновителей и руководителей кошмарного преступления в доме Ипатьева, почвой для особого распространения лжи о Царской Семье была избрана именно ее религиозность?
Здесь, в этой области, ложь была доведена до чудовищно грязных размеров и совершенно непостижимо воспринята громадной массой общества, уверовавшей или, во всяком случае, не противодействовавшей утверждению лжи в темных слоях толпы, и это уже есть преступление чисто русского общества, кто бы ни являлся его вдохновителями и руководителями. Пока в руководящей русской интеллигенции не появится искреннее сознание этой своей вины, до тех пор пропасть между нею и простым народом не исчезнет, а следовательно, и истинного, светлого воскресения России не начнется, так как оружие победившей лжи остается в прежних руках.
Чтобы сознать вину, надо знать правду и поверить в нее. Надо поверить тем окружавшим Царскую Семью людям, которые знали ее непосредственно и любили как людей исключительного христианского начала. Эти люди с полной готовностью рассказали все, что они знали и как и чем объясняли себе явления, которых были свидетелями. Исследование считало необходимым записать для будущей истории их слова полностью.
«Вот теперь я могу сказать, – говорит полковник Кобылинский, комендант при Царской Семье, поставленный на эту должность Керенским и Корниловым, – что настанет время, когда русское общество узнает, каким невероятным мукам подвергалась эта Семья, когда разные газетные писаки с первых и до последних дней революции наделяли их интимную жизнь разными своими измышлениями. Возьмите хоть всю эту грязь с Распутиным. Мне много приходилось беседовать по этому вопросу с Боткиным. Государыня болела истерией. Болезнь привела ее к религиозному экстазу. Кроме того, так долгожданный и единственный сын болен и нет сил помочь ему. Ее муки как матери на почве этого религиозного экстаза и создали Распутина. Распутин был для нее святой. Вот когда живешь и имеешь постоянное общение с этой Семьей, тогда, бывало, понимаешь, как пошло и подло обливали эту Семью грязью. Можно себе представить, что они все переживали и чувствовали, когда читали в Царском все милые русские газеты.
Такой удивительно дружной, любящей Семьи я никогда в жизни не встречал и, думаю, в своей жизни уже больше никогда не увижу».
«Я никак не могу уложить себе в голову, – говорит Битнер, – всего того, что писалось в революцию про эту Семью. Всякий, кто только видел и знал Государыню, ее отношения к Семье и мужу, ее взгляды, вообще знал ее всю, тот мог бы только или смеяться, или страдать. Когда у меня был спор с Государыней и я стала ей говорить, что ей не говорят всего, она между прочим сказала мне: “Мало ли что говорят. Мало ли каких гадостей не говорили про меня”.
Ясно тогда было в связи с другими ее словами и мыслями, что она намекала на Распутина. Я говорила на эту же тему с Волковым, с Николаевой, с которой была очень близка Гендрикова; вот именно это и говорили они все: она верила в силу молитвы Распутина».
«Все это злоба и клевета, – рассказывает камердинер Волков, – что писали нехорошего про Государя и Государыню. В Распутина Государыня верила, как в святого. Кого хотите спросите из близких к ним, и все скажут одно.
Распутина я за все время видел во дворце сам два раза. Его принимали Государь и Государыня вместе. Он был у них минут 20 и в первый, и во второй раз. Я ни разу не видел, чтобы он даже чай у них пил. Государыня относилась к нему, как к святому, потому что она верила в святость некоторых людей. Она его, наверное, уважала. Только однажды она говорила со мной про Распутина, и слова ее были маловажные. Мы ехали на пароходе в Тобольск и, когда проезжали мимо села Покровского, она, глядя в окно, сказала мне: “Вот здесь Григорий Ефимович жил. В этой реке он рыбу ловил и нам иногда в Царское привозил”.
После убийства Распутина она была расстроена и не принимала никого. Но ни малейшего даже намека она ничем не обнаружила на то, что это был человек, про которого можно было бы подумать что-нибудь грязное».
Преподаватель французского языка в должности помощника воспитателя наследника Цесаревича швейцарец Петр Жильяр рассказал следующее:
«Относительно роли Распутина в жизни Царской Семьи я могу показать следующее. Распутин появился у них, должно быть, в 1906 году. Мои многолетние наблюдения и попытка объяснить причину его значения у них довели меня до полного убеждения, которое мне кажется истиной или очень близким к истине, что его присутствие во дворце тесно связано с болезнью Алексея Николаевича. Узнав Его болезнь, я понял тогда силу этого человека.
Когда мать поняла, что ее единственный, ее любимый сын страдает такой страшной болезнью (гемофилия), которую передала ему она, от которой умерли ее дядя, ее брат и ее два племянника, зная, что не будет ему помощи от человека, от науки, она обратилась к Богу. Она отлично знала, что смерть может наступить от этой болезни каждую минуту, при малейшей неосторожности Алексея Николаевича, которая даром пройдет каждому другому. Если он подходил к ней 20 раз в день, то не было случая, чтобы она его не целовала, когда он, подойдя к ней, уходил от нее. Я понимал, что она каждый раз, прощаясь с ним, боялась не увидеть его более…
Мне кажется, что религия ее не дала ей того, что она искала; кризисы с ним продолжались, грозя ему смертью. Чуда, которого она так ждала, все еще не было. Тогда-то, когда ее познакомили с Распутиным, она была убеждена им, что, если она обратится к нему во время болезни Алексея Николаевича, он будет сам молиться и Бог услышит его молитву. Она должна верить в его молитву, и пока он, Распутин, будет жив, будет жив и сын.
Алексею Николаевичу после этого как будто стало лучше. Называйте это как хотите – совпадением, но факты обращения к Распутину и случаи облегчения болезни у Алексея Николаевича совпадали.
Она поверила.
Ей и не оставалось ничего более. В этом она нашла самой себе успокоение. Она была убеждена, что Распутин является посредником между нею и Богом, потому что молитва ее одной не дала ей облегчения. Они смотрели на Распутина, как на полусвятого. Я могу отметить такой факт. Я с ними жил четыре года. Они меня любили. И никогда, ни одного раза они не сказали со мной ни одного слова про Распутина. Я ясно понимал: они боялись, что я как кальвинист не пойму их отношения к Распутину».
Наконец, камер-юнгфера Государыни Мария Густавовна Тутельберг, прослужившая при Александре Федоровне с года ее замужества и до екатеринбургского заключения, оставила следующий исторически ценный рассказ:
«…Потом был убит Распутин. Я помню, что по поводу его убийства я говорила с Ее Величеством и прямо сказала ей, что убийство Распутина – это первый выстрел революции. Ее Величество сказала мне, что революция подготовляется уже давно, что уже с Русско-японской войны идет подготовка недовольства в народе.
Это было возмутительной неправдой, что тогда говорили и что писали потом в русских газетах про Августейшую Семью. Они получали все газеты в Царском, какие тогда выходили. Я однажды сказала об этом Государыне. Ее Величество мне ответила:
«У кого совесть чиста перед Богом, того не может это запачкать».
Распутин попал к Царской Семье впервые, как мне помнится, в Спале. Тогда вся Царская Семья жила там, и с Алексеем Николаевичем произошло несчастье. Он резвился в бассейне и ушибся. У него отнялась тогда одна нога, и ему было очень худо. Его тогда лечили профессор Федоров, доктор Острогорский, доктор Боткин и доктор Деревенько. Ему было настолько худо, что у него очень плохо работало сердце и был плохой пульс. Все опасались за его жизнь, и Алексей Николаевич страдал ужасно, сильно кричал.
Тогда супруга Великого князя Николая Николаевича Анастасия Николаевна указала Ее Величеству на Распутина как на человека, имеющего особую силу – его молитва исцеляет. Ее Величество, как человек глубоко верующий, как мать, страшно любившая сына, пожелала тогда видеть Распутина[5].
Он был у нас, молился о выздоровлении Алексея Николаевича, и Алексею Николаевичу тогда же стало легче. После этого Распутин бывал у нас во дворце неоднократно, но вовсе не так часто, как это говорили. Он бывал у нас тогда, когда бывал болен Алексей Николаевич. Сама я видела его за все время только один раз мельком. Я проходила по коридору и видела, что коридором шел (это было в Царском) простой мужик, в простых сапогах и русской рубашке. Лица его я не помню. Помню только, что у него были темные, блестящие глаза.
Государыня Императрица была глубоко религиозная женщина. Она верила в силу молитвы и верила глубоко, что Распутин наделен даром молитвы, что от его молитвы легче делается Алексею Николаевичу. Вот так Ее Величество и относилась к Распутину. Когда он был убит, Ее Величество была сильно огорчена. Тогда и Его Величество был, вероятно, обеспокоен этим. Он в момент убийства Распутина был в Ставке. Опасаясь за здоровье Ее Величества, Государь тогда экстренно прибыл из Ставки.
Помню, что однажды я высказала Ее Величеству свое некоторое сомнение в личности Распутина. Я сказала Ее Величеству, что Распутин простой, необразованный мужик. На это Ее Величество мне сказала: “Спаситель выбирал Себе учеников не из ученых и теологов, а из простых рыбаков и плотников. В Евангелии сказано, что вера может двигать горами”, – и, показывая на картину исцеления Спасителем женщины, Ее Величество сказала: “Этот Бог и теперь жив. Я верю, что мой сын воскреснет. Я знаю, что меня считают за мою веру сумасшедшей. Но ведь все веровавшие были мучениками”».
«Этот Бог и теперь жив» – это религия православного честного русского человека, религия и Божьих Помазанников русского народа.
Тутельберг, Жильяр, Волков, Чемадуров, Битнер, Кобылинский – люди, близко стоявшие и видевшие жизнь и правду этих Помазанников Божьих, – все в один голос свидетельствуют: это были люди, сильные христианской верой, верой своего народа. Они не боялись клеветы и грязи, потому что совесть их была чиста перед Богом. Они не переставали в простоте Христовой верить в Бога и готовы были стать мучениками за веру своего старого русского народа.
Они и стали для Православной Церкви мучениками, отдав жизнь за воскресение народа.
* * *
А бог тех, кто встал против них? Тех, кто не хотел видеть в их вере Бога русского народа?
Их богом стало – «я».
Для служения своему «я» Клещеев рвет с любовью матери, Матрена Леватных – с верою отцов, Лидия Гусева – с совестью, Сакович – с моралью, Логинов – с честью, Проскуряков – с родителями, Медведев – с честным трудом, Ермаков – с человекоподобием, и все вместе, толпа – с правдой и любовью к ближнему. И вместе с тем все они находят ответ, удовлетворение и объединение в условиях революционной жизни и ее крайнего предела – в советском режиме. Не социалистические принципы, не идеи интернационала, не теории коммунизма Ленина и Бронштейна объединяют их всех вокруг большевиков и утоляют побуждающий импульс их современной мысли…
Это только служение личному «я», и только ему.
Их интернационализм – это колоссальное личное «я»; их коммунизм – ограждение себя; их социализм – служение себе.
Концентрация всех побуждений и чувств к эгоистическому служению своему «я», вероятно, вызвала то притупление индивидуальной и общественной мысли, которое отмечалось еще в дореволюционный период жизни русского общества и русского народа. В силу политических условий, созданных Февральской революцией, революцией не идей, духа и содержания, а революцией форм и персональностей, это служение своему «я», постепенно прогрессируя в развитии личных начал, неизбежно повело как отдельных руководителей, так и массу по нисходящим к бездне путем разрушения всего общественного, государственного и национального. Только при господстве этих личных эгоистических начал в массе революция логически должна была привести через кроваво-кошмарные преступления лета 1918 года к утверждению в России власти, олицетворившей высшую ложь и предел личного эгоизма в образе большевистского режима и большевистской власти.
Чем иным, как не исключительным служением и поклонением перед своим «я», можно объяснить то объединение несовместимого, которое происходит под знаменем советской власти? Чем другим, как не ложным возвеличением своего «я», возвеличением до создания себе из него кумира, до признания непогрешимости этого «я», можно объяснить общую потерю критерия о морали, нравственности, праве и добре, о Боге и совести?
Только постепенное, историческое искажение чистых заповедей учения Христа привело к тому, что новая, материалистическая религия личного «я» могла заглушить в душе людей и деятелей России все прежние святыни и символы религии Единого Бога, подготовляя почву для насаждения в мире безумного царства религии лжи.
Часть II
Глава I
Трагедия и агония
27 февраля 1917 года в городе Петрограде по инициативе представителей народа в лице членов Государственной Думы революционным порядком было низложено правительство Императора Николая II. Об этом насильственном событии российский народ был осведомлен особым извещением Временного исполнительного комитета, выделенного из состава членов Государственной Думы, Председателем коего был Председатель Государственной Думы М. В. Родзянко и членами – избранники народа: Н. В. Некрасов, И. И. Дмитрюков, В. А. Ржевский, Н. С. Чхеидзе, А. Ф. Керенский, П. Н. Милюков, А. И. Коновалов, М. А. Караулов, С. И. Шидловский, В. Н. Львов и В. В. Шульгин. Мотивом такого чрезвычайного антиправительственного деяния Временный комитет выставлял тяжелые условия внутренней разрухи страны, вызванной мерами старого правительства, но о намерении низложить Главу государства и принять на себя Верховное правление страной в этом извещении народных представителей ничего не говорилось.
2 марта 1917 года в особом акте к народу Государь Император Николай Александрович объявил о своем добровольном отречении от престола государства Российского в пользу брата своего Великого князя Михаила Александровича. Мотивом такого решения было выставлено сознание необходимости перехода к конституционному государственному строю, почему Государь Император и заповедовал своему брату править государственными делами в полном единении с представителями народа в будущих законодательных учреждениях.
3 марта того же года Великий князь Михаил Александрович объявил народу, что он примет Верховную власть только в том случае, если на вступление его на Прародительский престол Российского государства будет выражена воля всего народа, которая должна была выявиться через его представителей, созванных в специальное для сего Учредительное собрание. До тех пор Великий князь приглашал всех граждан державы Российской подчиниться Временному правительству, созданному по почину народных представителей Государственной Думы.
Речь идет здесь лишь о формальной стороне актов, объявленных народу, т. е. о том фотографическом, так сказать, впечатлении, которое должна была получить масса российского народа, могшая знать о чрезвычайных событиях, происходивших в Петрограде, лишь по данным этих официальных доходивших до нее актов.
Так как волеизъявления народа на избрание Великого князя Михаила Александровича на Российский престол не последовало, как не последовало и самого открытия Учредительного собрания, то трехсотлетнее царствование династии Романовых на престоле Российского государства прервалось фактически событиями, определенными вышеуказанными актами Главы государства и представителей народа. Всякие дополнительные комментарии к этим основным официальным государственным актам, всякие разговоры, слухи, известия и сплетни доходили, во-первых, далеко не до всей массы населения, а ограничивались лишь кругами городского обывателя и крупных фабричных центров и, во-вторых, принимались постольку, поскольку ум, сердце и воля данной среды или человека желали их принять по своему собственному пониманию, сознанию и разумению. Для главной же массы населения Российского государства, повторяем, события представлялись в том виде, духе и характере, как изложены они были в официальных актах. А в этих последних характерно для всех последовавших событий то, что перемена в Верховном правлении Российской державы последовала как бы в теснейшем контакте и при обоюдном согласии между Верховной властью государства и представителями народа, заседавшими в Петрограде в Государственной Думе, во имя блага государства и народа. Народные представители усмотрели зло в правлении страной, Царь согласился, и обе стороны признали необходимым и соответственным переживаемому времени отказаться от существовавшего самодержавного строя правления и перейти к строю конституционному.
Самодержавие династии Романовых прервалось по решению Главы Дома Романовых и народных представителей, составлявших Государственную Думу.
Но вместе с ним, с Главою, пала и сама династия.
Периоду царствования династии Романовых скромное Московское государство обязано возвеличением до степени великой Российской державы. За эти 300 лет Россия стала величайшей мировой страной, не только по своим размерам, но и по своему государственному и политическому значению. Этим в достаточной мере определяется историческое значение для русского народа периода царствования самодержавной династии Романовых, и этого ее значения из истории России ничто исключить не может. Поэтому представляется вполне естественным, что народные представители Государственной Думы, почин коих отмечается в движении 27 февраля 1917 года и в последовавшем создании Временного исполнительного комитета, являвшиеся образованнейшими и интеллигентнейшими людьми Государственной Думы, не могли себе позволить покуситься официально, перед историей, на самую династию и ограничились выступлением против правительства Державного Главы династии, и только через две недели, 15 марта, под давлением обстоятельств, принося, как члены Временного правительства, присягу, они клялись перед Всемогущим Богом всеми предоставленными им мерами подавлять всякие попытки, прямо или косвенно направленные к восстановлению того строя, который создал великую Державу Российскую, т. е. восстали и против бывшего самодержавного строя Романовской династии.
* * *
В том же 1917 году последовательным ходом событий власть народных представителей Государственной Думы Российской самодержавной монархии унаследовали народные представители советов Российской рабоче-крестьянской социалистической республики. Если руководителями народных представителей Государственной Думы против старого строя являлся преимущественно цвет российской интеллигенции, то в составе вдохновителей народных представителей советской России главная роль принадлежала еврейской социалистической интеллигенции и той части русской интеллигенции, которая была в оппозиции к большинству руководителей Государственной Думы. За народными представителями первой категории пошла революционная часть России, создавшаяся из рядов интеллигентного и буржуазного классов и из служилого командного состава армии. Народные представители второй категории опирались на фабрично-заводской контингент пролетариата и на солдат армии, разошедшихся со своим командным составом.
Среди ожесточенной борьбы гражданской войны между этими двумя группами революционной России около 3 часов ночи с 16 на 17 июля 1918 года в маленькой полуподвальной комнате дома Ипатьева в городе Екатеринбурге был зверски убит отрекшийся от престола Государь Император Николай Александрович вместе со всей своей Семьей. Убийство это совершилось по распоряжению народных представителей новой советской России и приведено в исполнение под непосредственным руководством их местных агентов Исаака Голощекина и Янкеля Юровского.
Убийство это явилось совершенно исключительным с точки зрения как уголовно-криминалистической, так и исторической. Николай Александрович и все члены его Семьи были не только изуверски уничтожены на глазах друг друга при кошмарной обстановке, но еще и сожжены после убийства, дабы даже от их тел не оставалось никаких следов. Николай Александрович и его Семья первая из Державных Семей за всю тысячелетнюю историю Российского государства погибла так непонятно жестоко в среде своего народа и от рук своих бывших подданных. Тем более приходится ужасаться и содрогаться перед этим вечным грехом русского народа, что в глазах массы русского православного мира Государь Император Николай II добровольно подчинился воле народных представителей России, стремясь, по собственному его выражению, облегчить народу в переживавшиеся тяжелые дни теснее объединиться и сплотить все свои силы для достижения «победы, благоденствия и славы». «Да поможет Господь Бог России», – кончал свое обращение к народу бывший Царь, становясь, казалось бы, с этого момента совершенно безопасным для народных представителей новой России.
И тем не менее злое дело совершилось.
Начало ему положили народные представители Государственной Думы, а народные представители советов его завершили.
6 марта 1917 года общественный Кабинет министров, назначенный Временным комитетом Государственной Думы и санкционированный Советом солдатских и рабочих депутатов, объявил, «во исполнение властных требований народной совести, во имя исторической справедливости и в ознаменование окончательного торжества нового порядка, основанного на праве и свободе», амнистию «по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и т. д.». Но уже 8 марта этот общественный кабинет счел необходимым без следствия, суда и приговора арестовать «гражданина Николая Александровича Романова», и не только его, но и всю его Семью, заключить их под стражу, лишить свободы и права и впоследствии сослать под караулом в Тобольск.
15 марта члены этого общественного кабинета: кн. Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, А. И. Коновалов, А. А. Мануйлов, А. И. Гучков, А. И. Шингарев, М. И. Терещенко, И. В. Годнев, В. Н. Львов и Ф. И. Родичев, принося присягу, клялись преклониться «пред выраженною Учредительным собранием народною волею об образе правления и основных законах Российского государства», но в то же время сочли возможным обещать «всеми предоставленными им мерами подавлять всякие попытки, прямо или косвенно направленные к восстановлению старого строя», т. е. свергнутого ими самодержавного строя Романовской династии.
Руководствуясь и под впечатлением доктрин думских политических партий, группировок и блоков, преуспев в политическом состязании с создавшимся в явочном порядке Советом солдатских и рабочих депутатов и получив возможность, по словам декларации, составленной П. Н. Милюковым, «восстановить некоторый порядок», надо думать, что министры Временного правительства полагали принятую ими политическую деятельность в достаточной мере соответствующею желаниям страны и всего народа. «Энтузиазм населения по поводу совершающегося, – пишет П. Н. Милюков, – дает полную уверенность не только в сохранении, но и в громадном увеличении силы национального сопротивления». «Не может быть двух мнений, – говорит профессор К. Соколов, – насчет того, что представляло собою Временное правительство такого состава. Это было то самое министерство общественного доверия, которого тщетно добивался от Николая II думский блок. То, в чем отказывало России безумное упорство Царской власти, дала ей политическая мудрость революции». «Наша родина знает людей, подписавшихся под текстом присяги. Она прислушивалась к их голосам и верила им раньше, когда русскую жизнь властно давили мрак и произвол, она верит им и теперь в эту историческую минуту», – писал журнал «Жизнь и суд», но такие же суждения можно найти почти во всех других периодических изданиях обеих столиц того времени.
По-видимому, либерально-буржуазные круги российской интеллигенции, руководившие с 1905 года политическими настроениями и движением общественной мысли страны, были искренне убеждены, что русский народ перерос формы своего государственного строя и что он стремится к свободе и самоуправлению в государственном отношении. «Путь, который нужно было пройти обширнейшему в мире государству от военного мятежа в столице до торжественного установления республиканской конституции, казался в первые месяцы революции таким легким и коротким» – такое мнение царило в политиканствовавших кругах буржуазной интеллигенции в первое время революции. Воспитавшись на политических течениях и формах Западной Европы, с увлечением следуя теоретически доктринам социальных учений различных умов мира, стремясь к приобщению себя к умственной культуре Европы, русская интеллигентная масса в значительной своей части прониклась убеждением, что русский народ уже пережил дух своего неограниченного самодержавного строя, что за период с 1861 года он уже утратил свои симпатии к монархическим формам и что в уме и сознании народа в достаточной степени культивировались идеи и желания, исповедовавшиеся столичной и подпольной либеральной интеллигенцией. В этом убеждении как бы поддерживала руководителей из народных избранников Государственной Думы и та внешняя обстановка первых дней революции в столице, когда Дума сошла с почвы законности, ослушалась Царя и представилась Временному комитету центром новой власти, власти революционной, желаемой и поддерживаемой страной и иностранными представителями Европы.
«В тот же день утром нижние чины Волынского и Литовского полков вышли на улицу и устроили ряд демонстраций в пользу Государственной Думы… В короткий срок при единодушном настроении всей армии в пользу переворота… рабочее население Петрограда проявило большое политическое благоразумие и, поняв опасность, грозившую столице и стране, в ночь на 2 марта сговорилось с Временным комитетом Думы как относительно предполагаемого направления реформ и политической деятельности последнего, так и относительно собственной поддержки будущего правительства в пределах объявленных им политических намерений… Послы английский, французский и итальянский признали народное правительство, спасшее страну от тяжелой разрухи и восстановившее веру в боевую способность страны и армии. Энтузиазм населения по поводу совершающегося дает полную уверенность не только в сохранении, но и в громадном увеличении силы национального сопротивления». Все это выдержки из той же декларации Временного правительства, составленной П. Н. Милюковым, о которой упоминалось уже выше. Декларация, разосланная «всем, всем, всем», свидетельствовала о глубокой вере ее составителей в свои силы, в правоту совершенного переворота, в народоволие проводимых ими политических и государственных принципов и отмечала солидарность с членами общественного кабинета Временного думского комитета, Совета рабочих и солдатских депутатов и всей армии. Иначе говоря, убеждение «народных избранников Государственной Думы» как бы опиралось на тогдашний мозг страны, на ее нервы и ее физическую силу, каковыми являлись Дума, рабочие и армия. За эти дни в Думе перебывали как все те, кто дышал убеждениями ее большинства, так и вообще все, кому было не лень прогуляться на Шпалерную; там собрались все сидевшие в подпольях передовые интеллигенты, туда тянулись разные рабочие и общественные организации столицы, к ней же, дефилируя по городу, стекались разные запасные и тыловые воинские части, составлявшие гарнизон столицы; в ее залах толпились студенты, мастеровые, крючники, журналисты, чиновники, женщины, мальчишки, дети. «Был великий хаос в Думе, – писал профессор К. Соколов, – но среди шума и криков, за пестрой толпой обывателей, студентов, интеллигентов, простолюдинов несколько храбрых, умных и честных людей день и ночь упорно делали гигантскую организационную работу. Из хаоса революции уже выступали первые очертания нового правительства свободной России».
Укрепившись в своих «убеждениях», 3 марта новое правительство выступило. В глазах интеллигентно-буржуазно-либеральных избранников Государственной Думы оно было революционным и народным. Его образовали: в качестве органа Верховной всероссийской власти – Временный комитет Государственной Думы упомянутого уже выше состава и в качестве исполнительного органа – общественный Кабинет министров, в который вошли: пять членов партии народной свободы, два октябриста, два беспартийных, один член группы центра, один трудовик и один прогрессист.
Таковыми были внешний ход событий революции 27 февраля и строительство «народной революционной власти» на принципах права и свободы. Посредством нескольких обращений Временного комитета и декларации Временного правительства эта внешняя сторона событий, ставшая достоянием «всех, всех, всех», и является официальной историей начала Великой российской революции.
Из дальнейшей официальной истории семимесячной жизни народного революционного Временного правительства известно, что через два месяца общественный кабинет был заменен коалиционным правительством, потом его сменило правительство спасения революции, за ним пришло правительство спасения страны, пытавшееся выявить истинное лицо «земли русской» через московское совещание, что, однако, не удалось, так как «единого настроения» на съезде не создалось… Тогда правительство спасения страны произвело, если можно так выразиться, новый переворот и, отказавшись от присяги, в коей клялось, что форма правления Российским государством будет установлена Учредительным собранием, 1 сентября самостоятельно объявило Россию – Российскою Республикой, возглавляемой директорией «совета пяти» (Керенский, Верховский, Вердеревский, Терещенко и Никитин). При ней в период с 14 по 25 сентября появилось демократическое совещание с президиумом в составе: Авксентьева, Чхеидзе, Руднева, Шрейдера, Каменева, Нагина, Мдивани, Гоца, Беркенгейма, Милютина Исаева, Филипповского, Церетели, Сорокина, Григорьева, Войтинского, Знаменского и Кольцова, – а 7 октября для поддержки нового, пятого по счету, коалиционного Временного правительства Российской республики создался Временный совет Российской республики (предпарламент) с президиумом в составе: Н. Д. Авксентьева, А. В. Пешехонова, В. Н. Крохмаля и В. Д. Набокова.
25 октября в Мариинский дворец, где заседал Совет Российской республики, вошли вооруженные солдаты и матросы и «честью попросили» из него господ членов Совета. Никто даже не знал толком, по чьему полномочию действовала эта вооруженная сила. «Так просто караульный начальник через пристава предложил председателю Н. Д. Авксентьеву “разойтись” в течение получаса, не ручаясь за последствия промедления. Ультиматум был принят».
Власть над Россией Временного правительства унаследовало правительство Советов.
Революционный период власти династии избранников Государственной Думы продержался семь с половиною месяцев. На своем государственном щите эта династия убежденно носила девиз «народовластие», а на ее стяге ослепительно сверкал лозунг «свобода и право».
Но в действительности это была лишь внешняя, официальная оболочка власти и роковое заблуждение и самообман для тех ее адептов, кто верил в правоту своих убеждений.
С первого шага революционного пути – низложения Романовской династии – члены Государственной Думы в глубине своей человеческой совести должны были вполне сознать, что они сохранили народное представительство только по названию, по форме. В революционном мятеже в столице они оказались не вождями движения, не свободными руководителями революции, не правомочными вдохновителями ее путей, а восторженными главарями только своих политических партий без права и свободы. Столичный «народ», который является их единственной силой и действительным фактором для производства революции и переворота, был не с ними… О народе «земли русской» народные представители Государственной Думы имели сведения из провинции от таких же представителей буржуазно-либеральной интеллигенции, к каковой относились и они сами; сведения эти, опиравшиеся на тоже искреннее убеждение, создавали такую же внешнюю, официальную физиономию революции в стране, как и в центре. В действительности и там народ земли русской оказался не с буржуазно-либеральными руководителями. Между страстной и горячей западноевропейской идеологией, руководившей революционной интеллигенцией России, и русским народом «всея земли» 27 же февраля приоткрылась та страшная бездонная, мрачная пропасть отчужденности и духа, которая раньше, в предшествовавший перевороту период, мнилась интеллигенции существующей между русской самодержавной монархией и будто бы переросшим ее русским народом. Напрасно, безусловно, большие умы русской интеллигенции, завидя разверзающуюся пропасть, пытались задержать ее рост, создать через нее переходы, остановить ясно сознававшийся ими надвигающийся ужас… Напрасно многочисленными перестроениями власти, представительства, форм и лозунгов они пытались бороться, удержать свои позиции, ввести революцию в исторически знакомые, теоретически усовершенствованные русла. Напрасно с этой целью к власти привлекались то буржуазно-либеральные представители, то умеренно-социалистические элементы страны; то создавались коалиционные совещания, то демократические советы.
С 27 февраля, с момента крушения той формы, которая в представлении либеральной интеллигенции рисовалась деспотическим правлением, Россия неудержимо катилась в бездну.
Большие умы были западнические, а не русские. Среди интеллигенции было много людей с русской душой, но Дух был не русского христианина.
В настоящей части книги не имеется в виду касаться причин тяжелой драмы, постигшей русскую интеллигенцию в момент достижения ею, казалось бы, возможности осуществить ее идеалы и мечты в политической жизни родины. Краткой историей пережитых дней революции намечается установить лишь факты, освещающие связь между различными событиями этой эпохи, приведшими к кошмарному злодеянию в Ипатьевском доме. Первоначальные руководители революции, став 27 февраля на незаконную почву, конечно, не предвидели ужасной катастрофы, постигшей Царскую Семью 17 июля 1918 года. Они действовали с искренним убеждением, что принесут благо родине и народу; они горели желанием дать еще большее величие своей отчизне путем доведения войны до победоносного конца; они воодушевлены были мечтой своего глубокого и могучего единения со всем народом; их умы были широко насыщены учениями о народовластии; их души были русскими, гуманными, жалостливыми, сентиментальными; они не любили крови, боялись ее, и даже их революция оказалась бескровною. Тем более, конечно, они ни минуты не допускали мысли о возможности пролития крови Царской Семьи.
Но кровь Августейших Православных Мучеников пролилась. Злодеяние совершили изуверы советской власти. И в крови Царя, Царицы и их бедных детей повинна и вся Россия. Повинны и те народные избранники Государственной Думы, которые приняли на себя смелость и дерзновение руководить переворотом, хотя бы таковое руководительство признавалось ими вынужденным силою обстоятельств, сложившихся к моменту выхода революции на улицы столицы.
Заключение это базируется на том основании, что под официальным обликом во внутреннем содержании Февральской революции с первого дня ее возникновения проявился элемент, логически направлявший последовавшие события к кровавому преступлению 17 июля. Этот элемент выразился в роковой непоследовательности между словом и делом всех деятелей несчастной революции. Для руководителей ее, в лице представителей власти Временного правительства, непоследовательность явилась тяжелым искупительным крестом, который давил их во всех начинаниях, коверкал и искажал все пути рассудка и сердца, обращал их в жалких рабов достигнутой власти и в конце концов задавил окончательно.
Этот же элемент непоследовательности между словом и делом обратил членов бывшего Временного правительства в невольных соучастников и подготовителей дикого и изуверского уничтожения свергнутой ими с престола Государства Августейшей Семьи бывшего Императора Николая II. Пусть они были искренни в теоретичности и соответствии своих убеждений, пусть честно и горячо верили в благо своих идей, стремлений и желаний, пусть были крупными умственными величинами русской интеллигенции, и тем не менее слишком ясно, что что-то было ими упущено, что-то не учтено, что-то не согласовано и что-то не понято именно в народе земли русской, что не только разрушило, как смерч, много десятков лет лелеянные мечты, но и повергло народ в бездну и залило на вечные времена святой кровью Православных Мучеников православный русский люд и славную, исключительную историю государства Российского.
Не ради критики и осуждения минувших деятелей интеллигенции, не ради нудного, бесцельного самооплевывания и никчемушного плача Вавилонского приходится копаться в гнойных язвах пережитого времени и выводить на свет Божий минувших деятелей и протекшие картины недалекого прошлого. Настоящие материалы и мысли по истории убийства членов Царской Семьи дерзают пытаться достигнуть иного, большего, великого, чистого и святого. Не для углубления разрушения и падения родины и народа «всея земли» надо смело глядеть в темные стороны Февральской революции, уметь видеть и понимать отрицательные черты событий и руководившей интеллигенции, пытаться проникнуть в бездну падения всей России. Это надо не для политической борьбы различных партий и организаций, не для обострения классовых, кастовых и сословных препирательств и раздоров, не для пассивного оплакивания разбитых надежд, утраченных идей и потерянного прошлого, а для здорового и здравого самопознания, для установления и возрождения духа народа «всея земли», для могучего подъема сил на святую борьбу за свое, за истинное и исконное русское, что никогда не умирало, не умерло теперь и не умрет в будущем, за величественный исторический идеал Святой Троицы на земле, отождествляемый национально сложившейся идеологией русского народа в Духе, смысле и содержании своего Российского самодержавия, освящаемого Христовым учением в православном веровании.
«Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?» – говорит русскому народу учение Христа.
И все духовное существо его, не столько через сознание, сколько через сердце, веру, прониклось этой заповедью Господа. Житейские искушения велики; от них не свободны были и апостолы. Но в пределе народной житейской идеологии лежит именно «слава от Бога»… С этой же идеологией он подходит и к разрешению вопроса о своем государственном строительстве на земле; «а хотят выбирать на Московское государство Царя и Великого князя, кого всесильный Вседержитель Бог изволит и Пречистая Богородица»; «а обирали на Владимерское и на Московское государство и на все великие государства Российского Царствия Государя из Московских родов, кого Бог даст»; «а мы, с Божиею помощью, такому великому и неизреченному Божию милосердию всего государства Московского всякие люди, от мала и до велика, и из городов выборные и не выборные люди, все обрадовалися сердечною радостию, что во всех человецех прошение от Бога и едина мысль в сердца вместилася, что по изволению Божию быть на Владимерском и на Московском государстве и на всех государствах Российского Царствия Государем Царем и Великим князем всея Руси, Великого Государя Царя и Великого князя блаженныя памяти Федора Ивановича всея Руси племяннику, Михаилу Федоровичу, ни по чьему заводу и крамоле; Бог его Государя на такой великой Царский престол изобрал, мимо всех людей, по своей неизреченной милости, и всем людем о его Царском обирании Бог в сердца вложил едину мысль и утверждение… аще бо убо и разнородными мест людми, но едиными рекошя усты, и в дальнем несогласии жития разстоятельстве бысть аки согласен совет во единоравенстве. Изволишя бо смыслом, избраша же словом и учиняша делом, еже добр совет сотвориша, Бе бо убо не человеческим составлением, но Божиим строением. Его же молиша и просишя Государя себе на престол Царствия Московского государства Царя Михаила Феодоровича… начальники же и вси людие, видя над собою милость Божию, начаша думати, како бы им изобрати Государя на Московское государство праведна, чтоб дан был от Бога, а не от человек… и многое было волнение всяким людем; койждо хотяше по своей мысли деяти, койждо про коево говоряше; не вспомянуша бо писания, яко «Бог не токмо царство, но и власть, кому хощет, тому дает; и кого Бог призовет, того и прославит; бывшу ж волнению велию, и никто же смеяше проглаголати, еже кто и хотяше зделати, коли Богу чему не повелевшу и не угодно Ему бысть. Богу же призревшему на православную християнскую веру и хотящу утвердити на Российском государстве благочестивый корень, яко же древле Израильтескому Роду Царя Саула, тако убо и на наши слезы призре Бог и даде нам праведна государя… И положися во все люди мысль, не токмо в вельможи или в служивые люди, но и в простые во все православные крестьяне и в сущие младеньцы, и возопиша все велегласно, что люб всем на Московское государство Михайло Федорович Юрьев».
Таковы памятники идеологии людей «всея земли», оставленные в документах истории России от начала XVII века. Эта идеология для западноевропейского ума кажется мистическою, не земною, труднопонятною, но она чисто русская, религиозно-бытовая. Каковой она была в XVII веке, таковой она осталась и ныне, неизменной, глубоко духовной и глубоко религиозной. Это тот исключительный духовно-психологический склад натуры русского человека «всея земли», который чувствовали Достоевский, Пушкин, В. Соловьев, Мережковский, но которого чуждались и как бы стыдились многие и многие из руководителей интеллигентного класса народа. Это тот внутренний, неулавливаемый и непонятный для всякого иностранца склад, который в его глазах уподоблял русский народ какому-то сфинксу, таинственному существу, чем-то непостигаемому для других народов, высшему их и вместе с тем низшему по всей своей внешней оболочке жизни, умосознанию и культуре. Постигнуть идею русского самодержавия европейцу не по силам, он только боялся ее. Так древний Израильтянин принимал религию в Единого Бога через страх, через боязнь Его гнева, Его Лица.
Но для христианского русского народа его земная религия о власти, его идеология власти покоилась не на страхе и боязни, а на высокой, доведенной до полного совершенства и бесконечной чистоты заповеди о любви. В духовном, предельном идеале русского самодержавия заключена такая же цельная идея о троеличии в одном лице, какая положена была Христом в Его учении о Едином Боге в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – три лица, нераздельно связанные, единосущие в лице Единого Всемогущего Бога. Церковь, Царь и земля – три нераздельных лица в духовной идее русского народа о самодержавной власти Верховного правителя на земле. Внутреннее духовное сознание народа проникнуто их нераздельностью не по форме, не в телесном понятии, как не может быть принимаемо и телесное троеличие Божества, а с точки зрения тех совершенных нравственных принципов и государственных положений, к которым в идеале стремится и которых жаждет внутренняя духовная природа русского народа, способная до конца восприять великое учение Иисуса Христа о любви.
* * *
Большим заблуждением и роковым самообманом было бы утверждение в том мнении, что перерыв династии Романовых в России был обязан исключительно «тяжелым условиям внутренней разрухи, вызванной мерами правительства периода царствования Императора Николая II». Эта причина в историческом отношении не может быть признана удовлетворительной даже для оправдания обстоятельств, вызвавших переворот 27 февраля и повлекших за собой низложение Государя Императора Николая Александровича. Равным образом и самую внутреннюю разруху нельзя приписывать всецело и исключительно мерам правительства бывшего Царя, так как после изменения порядка и воцарения Министерства общественного доверия разруха не только не остановилась, но продолжала развиваться и углубляться с головокружительной быстротой. Внутренняя разруха, переворот 27 февраля, отречение от престола Императора Николая II, революция и падение династии Романовых вызваны были, естественно, более действительными, более серьезными причинами, корни которых кроются не во внешних формах существовавшего государственного строя, не в отдельных лицах династии и привлеченных к исполнительной власти министров и сановников, не в тех или других отдельных случаях насилия власти над личностью, не в той распустившейся молве о гнете, жестокости и произволе правительственных агентов над населением, которая муссировалась умышленно антисамодержавной агитацией, исходившей из рядов той же интеллигенции, а в глубоких потрясениях духовно-социального характера, сопутствовавших почти непрерывавшеюся цепью явлениям государственной жизни русского народа в течение всей эпохи царствования Дома Романовых. Во главе всех потрясений должны быть поставлены явления, подвергавшие Российскую Державу великим искушениям в области идеологического мировоззрения народа на сущность его Верховной власти. Из сущности и свойств этих искушений, отличных друг от друга в различные периоды истории, вытекали уже прочие потрясения, как следствия возникавших противоречий между действительностью государственной жизни народа и его идейными стремлениями.
Тяжелое наследие от предшествовавшей эпохи досталось первому «обраннику» из династии Романовых: пронесшиеся ураганом над русской землей «великая смута и разорение» снесли почти половину населения сел и деревень; города были ограблены, села пожжены, поля вытоптаны и заброшены; толпы нищих, голодных, ограбленных и полуодетых людей бродили из конца в конец страны, неся с собой разбой, грабеж, нужду, болезни и мор. Следующие статистические данные позволяют составить себе хотя приблизительное представление о состоянии Московского Царства в то время: город Вологда в 1627 году, т. е. через 14 лет после Смуты, из 1555 дворов и дворовых мест имел заселенными только 1000 дворов; Устюжна – 275 жилых и 303 пустых двора и дворовых места; Галич – 361 жилой и 258 пустых дворов, из 134 лавок на торгу торговали только 34; Суздаль – 97 жилых и 311 пустых дворов; Бежецк – 134 жилых и 186 пустых дворов. Были такие города, как, например, Дмитров, в котором вовсе не оставалось дворов с городским или тягловым населением. Количество убитых, умерших с голоду, угнанных в плен совершенно не поддается учету.
Царская казна была разграблена ворами и поляками, расхищавшими не только деньги, но и вещи, драгоценности, исторические регалии, церковную утварь. В казне буквально не было даже рубля.
Таково было, в общих чертах, состояние царства, врученного «всею землею» Михаилу Федоровичу Романову.
Прошло триста лет. Громадной настойчивостью и искренней заботой Царей, при исключительном труде и большом самопожертвовании народа «всея земли» Московское царство разрослось и прославилось до великой Российской империи, занимающей одну шестую часть суши всего земного шара. Одновременно с ростом географическим, росло и государственное значение России, приведшее ее в ряды первоклассных великих держав. Прежняя «вотчинная» власть московских Царей возвысилась в Романовской династии до значения власти «народно-государственной», как воплощающей в себе идеологические основы народного мировоззрения, сложившегося в нем ко времени «обирания» на Царство первого из самодержавных Государей Дома Романовых под влиянием многих различных политических и духовных причин всей предыдущей истории России.
Величественно творение Российского государства в эпоху царствования династии Романовых, и история не может отделить этой величественности от творцов творения – Державных Вождей Романовского Дома. С их именами органически связана слава Русского государства, и пытаться умалять их значение в строительстве этого величественного здания было бы равносильно безумию или полной слепоте. Оглядываясь на государственное творчество первых Царей династии Романовых, профессор Платонов говорит: «Всматриваясь во все эти исторические лица, мы видим их личные особенности, отмечаем их слабости, осуждаем их грехи; но ни у кого из них не замечаем и тени своекорыстного эгоизма и пренебрежения обязанностями того высокого сана, который им даровал Бог и вручила “всея земля”. Власть не ослепляла их, как ослепляет она обыкновенного человека; они непоколебимо верили, что власть Им дана от Бога. Отсюда именно отсутствие корысти, отсутствие пренебрежения к своим обязанностям и сознание высокого долга; они знали, что и народ разделяет ту же веру и признает своих Царей “Помазанниками Божьими”, ответственными только перед Богом. Лишь при наличии такого высокого, чистого и светлого понимания власти Царем и его народом, только в этом духовном слиянии «всея земли» от Царя до последнего крестьянина могла проявиться та громадная творческая сила, которая была необходима как для восстановления почти совершенно разоренного Московского Царства, так и для создания Петром Великим великодержавной России и для сохранения ее во все последующее время».
Жизнеспособность великих духовных идей в сердцах людей непостоянна; особенным непостоянством отличается степень их распространения в массе людей, в целом народе страны, образуемом из различных сословий и классов по социальному положению и по степени умственного и духовного развития. Идея под влиянием тех или других причин то вспыхивает ярким пламенем, зажигает все существо человека, заглушает в нем инстинкты личного начала, эгоистические побуждения, бросает его на служение общим задачам, подымает его на великие подвиги самоотречения и жертвы, претворяет обыденного человека в общественного героя и венчает славою победы или венцом бессмертия в памяти потомства, то обратно – напряжение элементов идеи слабеет, она носится человеческим сердцем как форма, как спокойное чувство, она не горит, а тлеет, будничные условия личной жизни выдвигаются над ней, в человеке пробиваются эгоистические начала, внимание сосредоточивается на своих интересах, сухой расчет, злая воля доминируют, идея, требующая веры, заглушается отвлеченными теориями ума. В одних сословиях, живущих более сердцем, идея цветет прочнее, глубже захватывает существо, служит источником утешения и светлых надежд на будущее. В других, живущих рассудком, идея колеблется и меркнет под влиянием холодного анализа, гордыни ума и увлечения земным. То вспыхнет вдруг духовная идея, как зарево во всех людских сердцах, всех сословий и классов, воспламенит, зажжет и объединит их для единодушного порыва и подвига, и тогда совершаются величайшие в жизни народа события, отмечающие великие эры эпохи и эволюции в истории страны или мира. Такие общие вспышки духовных идей редки, их вызывают исключительные обстоятельства. В обычное же время они живут, горят, теплятся, но не пылают, и их приходится ограждать, порой напряженнейшей борьбой, от заманчивых искушений повседневной жизни, расчета, честолюбия и злой воли людей.
В таком же непостоянстве жила и живет духовная идеология русского народа. Тяжелый, но славный долг ограждать ее святость, целость, неприкосновенность и давность выпал за последние 300 лет на носителей этой идеологии от Бога и «всея земли», на Державных Вождей Дома Романовых.
История этой борьбы – это история глубоких потрясений духовно-социального характера в жизни России, в жизни русского народа, о которой упоминалось выше. Цари из Дома Романовых восприняли исторически сложившуюся идеологию о самодержавной власти, а вместе с ней восприняли и исторические заветы последних Московских Царей – быть блюстителями и охранителями духовной власти русских Государей по издревле сложившимся понятиям в земле Русской. Ревностно блюдя Божественность происхождения этой власти, непоколебимо нося в своих сердцах святость великой идеи, они горели ею постоянно и ограждали, как умели, от посягательств на сущность и целость ее. Сила веры вызывала в них твердость, непоколебимость, даже сподвижничество в служении ей, что совершенно непонятно тем людям, которые почему-либо неспособны верить всем сердцем, верить до конца. Слабость человеческая облекала это служение иногда в ошибочные формы, но в чистоте и святости духовной стороны идеи они оставались непогрешимыми и верными своему народу.
Теперь, когда над Россией пронеслась еще более ужасная гроза смуты и разорения, чем гроза начала XVII века, едва ли найдется русский человек с чистым сердцем и сохранившейся совестью, который не сознавал бы всем своим существом, всеми фибрами растерзанной души, что в «безумии» защиты бывшими Царями Романовского Дома самодержавной идеи власти крылась великая мудрость. Но тогда, в период их трехсотлетнего царствования, эта борьба их, в связи с вытекавшими из нее противоречиями в действительности жизни, создала глубокую, сложную историческую трагедию для всего Дома Романовых, постепенное и последовательное развитие которой в общем направлении углубления противоречий привело по воле же Всевышнего Творца к падению династии в феврале 1917 года.
Наиболее напряженным и все глубже обострявшимся периодом указанной борьбы является период правления династии Романовых начиная с начала XIX столетия. В эту эпоху работа мысли русской интеллигенции развивалась по двум диаметрально противоположным путям: западнофильскому и славянофильскому. Особую интенсивность этого увлечения следует видеть в отсутствии в первую половину XIX века крупных представителей мировой мысли в своей русской среде в связи с горячей жаждой и стремлением русской интеллигенции к самоусовершенствованию, к умственному развитию, к просвещению и культурности. С присущим натуре русского человека горением в искательстве истины, света, совершенства русская интеллигенция увлекалась теоретическими учениями великих иностранных мыслителей, политико-экономов, ученых и историков до самозабвения, до крайностей, до слепоты, порой до самоотречения и самопожертвования. Особенно далеко заходили в этом отношении западники. В слепом увлечении чужим они обратили слишком мало внимания на появление со второй четверти XIX века своих великих мыслителей, своих ученых, своих великих психологов и философов, своих могучих историков, которые в своих учениях, мыслях, исследованиях и заключениях исходили исключительно с отправных точек, присущих своему народу: его истории, его психологии, его быта и его души. Европейская мысль до последних дней оставалась довлеющей, руководящей умами и сердцами русской интеллигенции; идеями Запада увлекались не только отвлеченно, но возводили их в непреложные истины, отождествляли религиям и с фанатическим безумием умирали во имя насаждения их и культивирования у себя, в России, в среде русского народа.
Крупных представителей национально-философского понимания славянофильства было немного: Хомяков и отчасти Аксаковы и Киреевские. Остальные представители славянофильского течения, с одной стороны, опирались лишь на общие славянские основания, не являвшиеся присущими исключительно русскому народу и не отражавшие в полной мере его национальных мировоззрений, и с другой – сильно увлекались крайностями, и пути их давали слишком много поводов к обвинению в шовинизме последователей течения. Это привело к тому, что к началу XX столетия славянофильство как национально-государственная мысль почти совершенно заглохло. Западнофильское течение восторжествовало окончательно. Свою народившуюся уже к тому времени школу русской мысли оно почти совершенно игнорировало; оно как бы не верило своим учителям, своим мыслителям, своим пророкам. Слишком все то, о чем они заговорили, отличалось от того, что неслось с Запада. Слишком впиталось уже увлечение западничеством, слишком много было принесено во имя его идей жертв, чтобы так просто отказаться от чужого, сознаться в своих заблуждениях и увлечениях, поверить своим пророкам, своим великим мыслителям и ученым и стать прежде всего на прочную, действительную почву своей русской мысли, русской души и русского духа.
На этой почве в качестве сознательных борцов чисто русской духовной идеологии мысли стояли твердо только призваные к тому Божьим Промыслом Венценосные Вожди русского народа. Поэтому работа западноевропейской мысли, направленная в политическом отношении именно против духа русского самодержавия, сосредоточила все свои реальные силы, свою энергию и злую волю на сокрушении в России династии Романовых. Этой внутренней, напряженнейшей борьбой наполнена вся вторая половина царствования последней династии. Для носителей и охранителей народной идеологии глубина и трагичность борьбы, с одной стороны, и возвышенность ее по силе веры – с другой особенно ярко выявляются из предсмертных слов Императора Николая I и из ответа последней Царицы династии, Императрицы Александры Федоровны:
«Я умираю с пламенной любовью к нашей славной России, которой служил по крайнему моему разумению верой и правдой. Жалею, что не мог сделать всего добра, которого столь искренно желал. Сын мой меня заменит. Буду молить Бога, да благословит его на тяжкое поприще, на которое вступает», – говорил, умирая, Император Николай I.
«Я знаю, что меня считают за мою веру сумасшедшей. Но ведь все веровавшие были мучениками», – говорила Императрица Александра Федоровна.
В то время как русские бояре-западники в исканиях человеческих политических идей о власти и национальном строительстве государства Российского устремили все свои помыслы на Запад, тратили силы и время на изучение и заучивание теорий, доктрин и философии великих европейских мыслителей, скромные труженики, но великие умом и любовью к своему русскому, историческо-духовному стали пытаться доискиваться той же истины в истории своего народа, в его быте, его психологии, его религии. Немного их было, и приняли их не так, как были приняты иноверные боги мысли Западной Европы. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев, Платонов, Ключевский, Чичерин, Мережковский – вот почти и все. Но именно теперь, в переживаемую величайшую смуту и разорение земли Русской, как ясно сказываются гениальность и величие трудов и творчества этих немногих истинно русских мыслителей, ученых, философов, историков и пророков и значение их для русского народа и его будущности! Они просто, точно и неоспоримо прежде всего устанавливают две основные истины: все то, что в интересах политической идеи о власти ищется на Западе, можно было найти в истории своего народа и своей страны, и все то, что мысль бояр-западников пыталась создать в области идеологии о власти, надо черпать из натуры и духа своего народа, а не чуждых народов Западной Европы.
Научное исследование истории Русского государства говорит, что тенденция современных бояр-западников к борьбе с народной идеологией о власти имела своих предшественников в лице князей-бояр и просто бояр, руководившихся тоже человеческой жаждой власти и стремившихся поэтому к учреждению на Руси олигархических принципов власти. Рассказывая об этой борьбе бояр с Иоанном Грозным, профессор Платонов приводит и слова Грозного, определяющие точку зрения Царя на необходимость отстаивать свою власть: «Аще убо Царю не повинуются подовластные, никогда же от междоусобных браней престанут… ими же царствия растлеваются». При этом русский ученый-историк приходит к заключению, что Грозным в этой борьбе руководил не только собственный интерес, но и заботы о царстве: «Он отстаивал не право на личный произвол, а принцип единовластия как основание государственной силы и порядка». Профессор Платонов на основании научного исследования исторических материалов и положений эпохи, предшествовавшей избранию Михаила Федоровича, приходит к определенному выводу, что «если власть Государя опиралась на сознание народной массы, которая видела в Царе и великом князе всея Руси выразителя народного единства и символа национальной независимости, то очевиден демократический склад этой власти и очевидна ее независимость от каких бы то ни было частных авторитетов и сил в стране». Другой русский ученый, Б. Чичерин, выражает народную идею о власти в политическом отношении еще более определенно: «Бояре не раз старались при выборе Царя ограничить его известными условиями. Но эти стремления не находили отголоска в земле, которая справедливо предпочитала самодержавие олигархии».
Совершенно к таким же определенным заключениям приходят ученые-историки и при исследовании идеологии народа на власть с точки зрения ее духовного происхождения. Наиболее ярко выразилась эта народная тенденция в уже приведенных выше выдержках, взятых из документов, относящихся к эпохе избрания Михаила Федоровича Романова. Твердый носитель в себе Христа, русский народ принял в основу своей идеологии о власти глубокий смысл слов Христа, обращенных к Пилату: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Отсюда для православного христианина не могло быть иного понятия о власти, как то, которое было дано апостолом Павлом: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога».
Такая духовная сторона идеологии русского народа в 1613 году не была случайной, навеянной большим угнетением, перенесенным всей землей, общим горем и бедствиями, постигшими народ, когда забываются распри, взаимные раздоры и препирательства, очищаются души, люди становятся возвышеннее в своих стремлениях. Она создалась и жила в душах русского народа, несомненно, в отдаленные времена, так как в древнерусской письменности не раз повторяется воззрение, что Государь русский – Помазанник Божий, почему он «властию достоинства приличен есть Богу». Она передалась во всей полноте и цельности своих составных элементов и в династию Романовых, Цари коей непрестанно пеклись о сохранении, как умели, ее чистоты, силы и высоты нравственного значения. Поэтому «мы охотно верим, – пишет профессор Платонов, – искренности Петра, когда он говорит: “Я приставник над вами от Бога, и моя должность, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Буде добр будешь, но не столько мне, сколько себе и отечеству добра сделаешь; а буде худ, то я истец буду, ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтобы злому и глупому не дать места вред делать”».
Весь этот исторический материал бояре-западники могли при желании и действительной любви к своему народу почерпнуть несравненно ранее, чем он предоставлен был упомянутыми выше русскими учеными. Но надо было бы тратить силы и время, жертвовать жизнью в поисках на Западе истины для русского народа, а нужно было познать свое, поверить в свое и, главное, искренне полюбить свое, чтобы понять всю отчужденность мысли и веры русского народа от идеалов Запада и не пытаться вести его путем насилия над духом. Чего же добивались бояре-западники? К чему стремились и к чему вели Россию?
Теперь вопросы эти уже не требуют ответа.
Но если бы в свое время в сердцах западников жила хоть капля истинной чистой любви к своему народному, веры в исходившее из народа, то еще в 1880 году их разрушительную работу и греховную борьбу с идеологией русского народа остановили бы слова великого пророка земли Русской – Федора Михайловича Достоевского:
«Вы скажете: и “в общественных учреждениях” и в сане “гражданина” может заключаться величайшая нравственная идея, что “гражданская идея” в нациях уже зрелых, развившихся, всегда заменяет первоначальную идею религиозную, которая в нее и вырождается и которой она по праву наследует. Да, так многие утверждают, но мы такой фантазии еще не видали в осуществлении. Когда изживалась нравственно-религиозная идея в национальности, то всегда наступала панически-трусливая потребность единения с единственною целью “спасти животишки”; других целей гражданского единения тогда не бывает. Вот теперь французская буржуазия единится именно с этой целью “спасения животишек” от четвертого ломящегося в ее дверь сословия. Но “спасение животишек” есть самая бессильная и последняя идея из всех идей, единящих человечество. Это уже начало конца, предчувствие конца».
Это Достоевский писал боярину-западнику Грановскому как предупреждение поползновения западников механически насадить в России новые политические формы. В этом предупреждении Достоевский указывает: во-первых, что западноевропейские государственные формы «народу нашему чужды и воле его не пригожи»; во-вторых, что западноевропейские народы, отказавшись от нравственно-религиозных принципов в идее единения, не способны никакими формами достигнуть действительного национального единения: «Были бы братья, будет и братство. Если же нет братьев, то никаким “учреждением” не получите братства»; в-третьих, что является самым серьезным и важным в предупреждении Достоевского, что с исчезновением в национальности нравственно-религиозной идеи в сущности кончается и сама национальность государства, так как вместо нее остается единственное единение во имя «спасения животишек», которое при возникновении первой опасности смотрит «как бы поскорее рассыпаться врознь».
Что же, прав был Достоевский в своей оценке увлечения западничеством или не прав? Разве с «изживанием» нравственно-религиозной идеи в русском народе не пала до невероятно низкой степени его национальность? Разве не представляли собою различные и многочисленные комбинации Временного правительства единений в целях «спасения животишек»? Разве не рассыпались они все врознь при появлении первой же опасности со стороны большевизма 3 июля 1917 года?
Но в даре пророчества предчувствие Достоевского оказалось еще более ясновидящим:
«Да, она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно уже созидавшийся в ней, без Церкви и без Христа (ибо Церковь, замутив идеал свой, давно уже и повсеместно перевоплотилась там в Государство), с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все общее и все абсолютное, этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан. Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь, и если ему не отворять, сломает дверь. Не хочет оно прежних идеалов, отвергает всяк доселе бывший закон. На компромисс, на уступочки не пойдет, подпорочками не спасете здания. Уступочки только разжигают, а оно хочет всего. Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедываемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, жиды, все это рухнет в один миг и бесследно, кроме разве жидов, которые и тогда найдутся как поступить, так что им даже в руку будет работа. Все это “близко, при дверях”. Вы смеетесь? Блаженны смеющиеся. Дай Бог вам веку, сами увидите. Удивитесь тогда». Достоевский верил, что эти волны грядущего разрушения всего прошлого «разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только въявь и воочию обнаружится перед всеми, до какой степени наш национальный организм особлив от европейского. Тогда и вы, господа доктринеры, может быть, схватитесь и начнете искать у нас “народных начал”, над которыми теперь только смеетесь».
Разве не переживает ныне Европа этого пророчества Достоевского 1880 года? Разве все эти Лондонские, Каннские, Генуэзские конференции не попытки единения в целях «спасения животишек»? Даже в отношении роли «жидов» в движении «четвертого сословия» не прав ли был великий пророк русского народа? И далее, разве уже не начала разбиваться волна именно о «наш берег»? Разве не чувствуется, что переживаемое ныне есть еще только начало для Европы? Разве уже не начали «рассыпавшиеся врознь» по всему миру господа доктринеры пытаться хвататься за «народные начала»?
Но как?
Умеренные бояре-западники, демократы-либералы вспомнили теперь о крестьянине-христианине, которому в 1917 году ими было предназначено место служить быдлом, козлом отпущения и пушечным мясом в парламентском строительстве России и красивым флагом-флером для прикрытия политических форм «народу нашему чуждых и воле его непригожих». А теперь?! – Все на крестьянина: для него будущая Россия, в нем таятся силы для возрождения страны, он свергнет большевистское иго…
Ну а кто ими будет править тогда? Вы, господа рассыпавшиеся доктринеры? Опять с вашими формами «народу нашему чуждыми и воле его непригожими»?
Бояре-западники – социалисты пошли теперь еще дальше, чем указанные выше их непримиримые враги бояре-западники – демократы-либералы: «если надо, чтобы для свержения большевизма Россия вернулась к монархии, пусть будет монархия, лишь бы вернуть ее за тот максимальный политический рубеж, через который перешагнули большевики». Прежде всего что это за рубеж? Всякий рубеж в политическом отношении есть ограничение, насилие над свободной волей, понятие, не соответствующее свободе мнения, совести и личности, проповедуемой самим социалистическим учением. Не служит ли это указанием на существование в самом учении какой-то… существенной неувязки, дисгармонии между идеями и их применением? Ну, а затем? Когда Россия вернется снова к монархизму? Вы, господа бояре-социалисты, откажетесь от новых попыток и экспериментов в насаждении в ней форм «народу нашему чуждых и воле его непригожих»?
Нет, не спасти России боярам-западникам – демократам с крестьянами, ни боярам-западникам – социалистам с монархией; не спасти России отдельным сословиям, классам и кастам; не спасти ее каким-либо политическим партиям. Россия не может быть ни пролетарской, ни крестьянской, ни рабочей, ни служилой, ни боярской. Россия может быть только – Россией Христа, Россией «всея земли». Надо прочувствовать это, познать это и поверить в это. Здесь нет ни монархистов, ни кадет, ни октябристов, ни трудовиков, ни социалистов; здесь нет ни классов, ни сословий, ни чиновников, ни генералов, ни офицеров, ни купцов, ни фабрикантов, ни рабочих, ни крестьян. Здесь только одно – национальная Россия с ее исторической нравственно-религиозной идеологией.
За эту-то Россию и боролись Державные Вожди Романовской династии. Боролись как умели, как Бог давал разума, и если грешили в умении, то в духе и идее были велики и святы.
В этой борьбе создалась для династии Романовых тяжелая, сложная историческая трагедия, которая в связи с временным ослаблением во «всея земле» горения идеи привела к смертельной агонии последней царствовавшей Августейшей Семьи.
27 февраля 1917 года началась агония Царской Семьи Императора Николая Александровича и 17 июля 1918 года она закончилась. Семнадцать долгих, тяжелых месяцев шла Царская Семья по тернистому и смрадному пути разложения могучего тела Державы Российской к голгофе Русского государства, не спуская со своих плеч величественного креста религиозно-нравственной идеологии русского народа. Там, близ Ганиной ямы, в районе урочища Четырех Братьев Коптяковского леса служители Антихриста руками русских людей водрузили сей крест России и распяли на нем православную веру, национальную, великую Русь и Державных блюстителей государственного единения русского народа.
Свершилось…
Великая трагедия Романовской династии претворилась в великую мистерию русского народа.
К Михаилу Федоровичу Романову никак нельзя применить определение, что он был «выборный Царь», так как те действия, которые имели место на Земском соборе 1613 года, совершенно не подходят к понятиям о выборах, устанавливаемых правилами и тенденциями современных «гражданских идей»[6]. Да и сама сущность дебатов, происходивших на заседаниях Земского собора, базировалась на почве, совершенно отличной от той, на которую ставятся вопросы в собраниях, представляющих учреждения для установки постановлений «гражданских идей». Насколько можно судить по дошедшим до нас документам современников, а не последующих толкователей и повествователей субъективного характера, дебаты на Земском соборе сосредоточивались не на вопросе «кого избрать», а на вопросе «кто может быть Царем на Руси соответственно тем идеологическим понятиям о власти, которые существовали в то время в русском народе “всея земли”». Понятия эти обнимали собой элементы двух порядков – нравственного и религиозного. К числу первых Земским собором были отнесены: первое – «Царем на Руси может быть только русский»; второе – «Царем может быть только родственник последней династии Ивана Калиты» и третье – Царем может быть только тот, на ком единогласно сосредоточатся желания «всея земли». Элементы второго порядка, в сущности, доминировавшие над всеми вышеустановленными, определяли Божественность взгляда народа на власть: «кого Бог даст», «кого Бог изберет». Земские люди 1613 года, собравшись на «обирание» Государя, предоставляли избрать Царя Господу Богу, ожидая проявления этого избрания в том, что о Своем Помазаннике Он вложит в сердца «всех человецех… едину мысль и утверждение».
С такою верою и с такими единодушными взглядами на Верховную власть России «февраля в 21 день», рассказывает акт Земского собора, «на сборное воскресение пришли в соборную церковь к Пречистой Богородицы честнаго и славнаго Ея Успения, к Митрополиту и ко всему освященному собору мы бояре, и окольничие, и чашники, и стольники, и стряпчие, и дворяне Московские, и приказные люди, и дворяне из городов, и дети боярские всех городов, и головы, и сотники, и атаманы, и казаки, и стрельцы, и гости, и черных слобод и всего Государства Московскаго всяких чинов люди, и с сущими младенцы, и молили Всемилостиваго Бога, и Пречистую Богоматерь, и великих Московских чудотворцев, с великим молением и воплем, чтоб Всемилостивый Бог дал нам на Владимерское и на Московское и на все государства Российскаго Царствия Государем Царем и Великим князем всеа Руси, от племени благовернаго и праведнаго Государя Царя и Великаго Князя Федора Ивановича всеа Русии племянника, Михаила Федоровича Романова-Юрьева».
Здесь, для последующего понимания Всевышним Промыслом определенной мистерии русского народа, весьма важны два, вполне твердо определенных, начала нравственно-религиозной идеологии: Божественность происхождения русской Верховной власти и ее родовая преемственность. Если не уклоняться в более отдаленные эпохи зарождения указанных начал идеологии русского народа, а ограничиться хотя бы эпохой Иоанна III, завершившего объединение Московского Царства и являвшегося вполне определенным носителем идеи Помазанничества Божьего, то следует учесть, что более 500 лет русский народ воспитывался, жил и рос именно в таких понятиях на Верховную власть, совершенно независимо от того, какое название эта власть носила: Великого князя, Царя, Самодержца или Императора. Для него она была всегда и прежде всего от Бога и, как таковая, могла быть только единоличной и абсолютной, а с точки зрения преемственности Помазанничества – родовой наследственной. Божественность власти Верховного Вождя, преступность посягательства на нее настолько впитались в плоть и в кровь народа, что даже по отношению к Василию Ивановичу Шуйскому, случайному Царю Смутной эпохи, поставленному в цари только определенной групой приверженцев, земские люди 1613 года относятся с должным уважением и свержение его признают «общим земским грехом, по зависти диавола».
Утверждению в русском народе веры в Божественность происхождения Верховной власти, с признанием за ней в гражданском понятии абсолютности, неограниченности и единовластия, не помешали издревле существовавшие различные частные течения, возникавшие по причинам чрезвычайно разнообразного характера: личного, социального и даже внешне-иностранного, – и имевшие целью ограничение власти русского Монарха. Издревле же существовала и борьба монархов, охранителей идеологии народной, с посягателями на целость и неизменность власти, и в конечных фазисах этой исторической борьбы народные массы «всея земли» оказывались всегда на стороне охранителей власти в историческом нравственно-религиозном понятии ее, а не на стороне новаторов и узурпаторов этой власти. Свою идеологию русский народ хранил, лелеял и носил более внутренне, в глубине своей натуры, в недрах своей сущности, часто даже не сознавая себя ее носителем, но выявляя ее из своего сердца и духа в периоды высоких национальных подъемов, порой даже непосредственно вслед за поступками и деяниями как бы совершенно противоположных побуждений. Историческая идеология и православная вера тесно объединены в существе русского народа; обеими он гордится, обеим он предан бесконечно, обеим он способен служить до самопожертвования, до полного своего обезличения во имя общего блага и против обеих грешил и грешит в периоды пробуждения в нем материальных, земных желаний и стремлений, руководимых внешними свойствами его натуры, обратными глубоким внутренно-духовным, и вытекающих из его некультурности, неразвитости и духовно-психологической потребности унижать себя до действительного ничтожества, преступности и падения.
Вот к каким выводам о русском народе и его идеологии приводят серьезные научные исследования русских больших ученых в области истории государства Российского, исследования, свободные от западнических, теоретических тенденций и влияний предвзятых и узких рамок различных политических партий и их платформ. Русский человек, русский народ выявляются тогда именно в той орбите зрения, которая была и будет всегда непонятной для Запада и, конечно, неприятной, и неприемлемой для той части россиян западничества, которая или органически, или по тщеславному стремлению к земной власти и «славе от людей» не в состоянии никогда слиться со своим народом «всея земли» для действительно благого служения ему. В этом отношении особенно знаменательно заключение профессора Платонова о Царе Петре и его предшественниках: «Все они были люди старой Руси, чуждые каким бы то ни было теориям властвования, но всею душою болевшие бедами своего народа и всеми своими инстинктами воспитавшие в себе потребность жить в единении “со всей землей”, для общей пользы и блага. Еще более возможно это сказать про Великого Петра. Он знал и видел европейские порядки и сочетал в себе добрые семейные предания с европейским знанием и опытом. Он потому и велик, что свои громадные силы и способности безраздельно отдал, как умел, на служение своему народу и царству, слил себя со всей землей и создал из нее великую мировую державу».
Знаменитые слова великого преобразователя России: «О Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только Россия в благоденствии и славе», сказанные перед Полтавской битвой, стали историческими, и до сих пор сохраняют в русском народе всю свою величественность, силу и значение. Глубокая вера в Божественность власти русского Государя, приводя, с одной стороны, нравственное сознание народа к ее абсолютности, неограниченности и единовластию, с другой – приводит к понятию о нравственном обязательстве монарха служить своему народу и царству как умеет, но всеми своими силами и способностями до конца, т. е. до готовности всегда отдать свою жизнь за благо и славу народа и государства. Этим взаимным нравственным обязательством Царя и народа объясняется слияние их в одно целое, нераздельное, идеологическое понятие о Русском государстве, понятие, освещаемое Божественностью исхождения власти и Помазанничеством на царство Верховного Главы власти. Поэтому слова Царя Петра, что ему жизнь не дорога, а жила бы только Россия, вполне искренни, так как являлись выразителями той идеологии о Верховной власти, которую исповедовал он сам. А так как в то же время они так же понимались и всем русским народом, то в них Царь и народ сливались идейно в одно целое, что и вызвало в сердцах тогдашних русских людей глубокий отклик, создавший необходимое моральное настроение для победы над сильным врагом. По этой же причине слова стали историческими и на вечные времена сохранились в народной массе. Величие их выражалось в том, что Царь готов был отдать свою жизнь за благо своего народа, сила их – в определенно выраженном слиянии Царя с народом в великой общей им идеологии и значение – в горячей вере в исхождение этих нравственных начал от Божественного Промысла и в освящении их этим Промыслом.
Теперь мысль подходит близко к установлению того основания мистерии русского народа, в которую претворилась трагедия династии Романовых через агонию и смерть Императора Николая II и всей его Семьи.
То, что Царь Петр выразил словами перед Полтавской битвой, то Император Николай II со всей своей Семьей агонией и смертью показал на деле – свое идейное слияние с русским народом во имя блага народа, до конца, до смерти, открыв этим русскому народу истинный путь к воскресению и победе над «общим земским грехом, по зависти диаволи» учиненном.
Несомненно, что по гениальности, гражданской твердости воли и характера Царь Петр превосходил Императора Николая II. Но в чем они были равносильны и равнотверды, так это в глубине и искренности веры в происхождение своей самодержавной власти от Бога и в соответствии ее исторической и вечной идеологии русского народа. По степени восприятия религиозно-нравственных начал идеи Божественности власти многое ставит Императора Николая II, как натуру более соответствовавшую по духовной мягкости, уравновешенности и любвеобилию к восприятию чистоты и святости Христова учения, даже выше Царя Петра. Он прекрасно знал историю русского народа, и его любимым научным занятием было изучение этой истории, изучение по капитальным трудам и прямым источникам, о чем свидетельствуют все знавшие его и имевшие соприкосновение с ним в последний год его жизни в Царском Селе и Тобольске. Понимание внутренней духовной натуры своего народа, в связи с полным сознанием его слабостей, его темноты и склонности к крайностям, служили лишь для укрепления в сознании и сердце Императора Николая Александровича твердости и святости охранения в своем высоком звании чистоты и целости нравственно-религиозной исторической идеологии своего народа. Будучи мягким и добрым по натуре, он проявлял необычайную твердость и непоколебимость в отстаивании святости и целости Богом врученной ему и наследственно перешедшей к нему русской исторической Верховной власти. Чем более он видел успех работы «зависти диаволи» в русском обществе и в увлекаемых им массах рабочего пролетариата, тем более становился он упорен в ограждении принятой на себя святыни русского народа и до конца своих дней, до конца своей агонии, зная глубоко свой народ по всему его историческому прошлому, твердо верил, что «это все временное; это все пройдет».
Рассматривая Императора Николая II как носителя и охранителя Божественности происхождения власти Русского государя, нельзя отделять его от его Жены, Императрицы Александры Федоровны. В браке Государя и Государыни вполне оправдались слова Христа: «так что они уже не двое, но одна плоть». Слияние их было действительно полным; верой в святость самодержавной власти и в Помазанничество Божье они горели оба с равной силой и с равным самоотвержением, но своей громадной волей и твердым характером Императрица Александра Федоровна дополняла в природе русского Царя то, чего недоставало в натуре Императора Николая Александровича. Как люди, они тяготились своей властью, своим державным положением, но как Царь и Царица России, унаследовав престол Русского государства и приняв самодержавную, Богом прославленную историческую власть русских Государей, они уверовали в истинность и в соответствие ее идеологии русского народа всею силою своих православных христианских сердец и недюжинных разумов. Слившись друг с другом «в одну плоть», они слились с русской идеей о Верховной власти в одну душу. Они глубоко исповедовали, что высшее право над русским народом, предоставляемое им самодержавною властью, заключается для них в высших обязанностях перед народом: «если только нужно для России, мы готовы жертвовать и жизнью, и всем», – говорила Императрица Александра Федоровна. И это были не слова…
Многое могли бы поведать теперь дневники и письма Государя и Государыни. Но, к великому несчастью русских историков, их забрали в свое время Керенский и Ленин, стремясь найти в них подтверждение лжи и грязи, которыми окружали их клевреты покойную Державную Чету, и оправдание для своих антидинастических, антирусских и антихристианских поступков и действий. По-видимому, эти документы не оправдали надежд гнусных похитителей, и едва ли станут когда-нибудь достоянием исторических исследований. Все же, что до сих пор появлялось в периодической печати в качестве выписок будто бы из названных похищенных документов, является сплошным изделием советских агентов, полным лжи и памфлетов, довольно грубо и безграмотно составленных. Сподвижники и единомышленники Керенского искали в интимных бумагах Государя доказательств для опубликования их народу, что Царь был не русский Царь, что дышал он не Русью, что самодержцем он был для властолюбия, а не для служения всеми силами своими народу русскому на благо «всея земли». Но подтверждения себе они не нашли, а узнали противное и спрятали документы Царя от глаз народа. Ленин и его служители Антихриста похищали дневники Царя и Царицы не для того, чтобы найти в них оправдание для себя и своих действий, а чтобы не оставить народу русскому даже писанного слова Помазанника Божьего после его кончины. Однако отметки и заметки, оставленные покойными Царем и Царицей в прочитанных книгах, в Библии, Евангелии и различных Священных Писаниях, в связи с показаниями свидетелей дают возможность дополнить их облики как представителей власти народно-русской идеологии некоторыми характерными чертами.
Покойный генерал Михаил Васильевич Алексеев рассказывал, что в начале 1916 года Государь Император, будучи в Ставке, три дня носил при себе указ о даровании России конституции. В эти дни он почти не покидал своего кабинета и все время в большом волнении и задумчивости ходил по комнате из угла в угол. Указ этот не был им подписан, но как-то в разговоре с Михаилом Васильевичем Государь сказал: «Я не верю, чтобы конституционное правление принесло благо России. Настоящая тяжелая война требует исключительных мер для поддержания в народе подъема, необходимого для победы, но народ никогда не будет уважать законов, исходящих, может быть, от его односельчан».
В исключительно тяжелое переживавшееся Россией время трудной, затяжной внешней войны, при начавшей сказываться усталости страны и населения, при плохой и несоответственной работе не аппаратов государственного организма, а людей, обслуживавших эти аппараты, чиновничество, общественность и народные представители, составленные из людей, служивших в этих аппаратах, увлекшись западничеством, требовали от Царя а качестве спасительной исключительной меры конституции – перемены формы и ломки тысячелетней идеологии русского народа «всея земли». Прав был Государь, говоря о необходимости исключительных мер для доведения войны до победоносного конца, прав был и в том, что дух русского человека «всея земли» не удовлетворится законами человеческими. Если ему закрыть веру, что он живет по всем «путям к Господу», то он пойдет в обратную сторону, «по путям к диаволу», но будет искать духа, а не формы.
В важных случаях исторической жизни Русского государства Державные вожди народа имели обыкновение созывать соборы. Особенно богата ими эпоха Московских Царей. По своему составу и назначению соборы были разные, но особенной полнотой состава и широтой назначения является Собор 1613 года, получивший по праву название Собора всея земли. Этому Собору Россия обязана сохранением в неприкосновенности своей духовной идеологии о власти, сохранением своей национальности и государственности, восшествием на «прародительский» престол династии Романовых и усмирением «всемирного мятежа», по выражению Царя Михаила Федоровича. Время, переживавшееся Россией в эпоху существования этого Собора всея земли, чрезвычайно схоже с периодом последнего царствования, начиная с 1905 года и по настоящий день, разве только не было тогда интернациональных течений бронштейн-апфельбаумовского направления, но чувствовалось взамен сего влияние жидовствующих, история и роль коих в тогдашней России исследована еще далеко не с достаточной полнотой. Народная же поэзия не исключает их влияния и тогда, и в речь Кузьмы Минина к нижегородцам вкладывает следующие будто бы сказанные им слова:
Освободим мы матушку Москву от нечестивых Жидов, Нечестивых Жидов, Поляков злых!Соборы эти, конечно, совершенно не соответствовали западническим идеям о представительных палатах и парламентских учреждениях ни по своему составу, ни по духу и являются чисто русскими собраниями представителей «всея земли», вполне отвечающими той идеологии о власти, которая была заложена в основу понятия «всей земли», о своем государственном единении. Это были органы практического слияния Царя с народом, когда в важных случаях Царь желал слышать голос «всея земли» непосредственно, а не через агентов своей правительственной власти. Естественно, что такие чисто русские идейные организации получили в учениях бояр-западников очень низкую оценку и эпитеты «изношенных форм седой старины» и т. п. В 1866 году упоминавшийся выше Б. Чичерин в своем труде о народном представительстве писал: «Только в настоящее время, с освобождением крестьян, Россия стала на совершенно новую почву. Теперь она устраивает свой гражданский быт на началах всеобщей свободы и права. Это та почва, на которой стоят все европейские народы, только она может дать настоящие элементы для представительных учреждений». Совершенно справедливое замечание, которое могло бы найти себе полное выявление именно в форме и духе русских соборов «всея земли», но не нашло своего отражения ни в представительных учреждениях народов Европы, ни в скопированных в России Государственных думах и Советах. На Земских соборах свобода мнения отдельных элементов стеснялась только общими для всей массы «всея земли» национальными и государственными понятиями; здесь же, в представительных учреждениях Европы и России последних лет, свобода мнения «избранников народа» замыкается в узкие и деспотические рамки многочисленных политических партий и платформ, а принятые избирательные системы и порядки совершенно не обеспечивают представительным учреждениям «всея земли» выявления мнений даже отдельных сословий. Капитальное исследование истории жизни и деятельности политических партий, произведенное М. Я. Острогорским, приводит к таким поучительным для всех увлекающихся западничеством выводам: «политические партии имели своей задачей поддерживать и развить активность и здоровый интерес к политическим вопросам в народных массах, получивших гражданские права. В действительности не только эта задача не была исполнена, но получился противоположный результат. Чем успешнее шла организационная работа партий, чем дальше и глубже раскидывали они свои щупальца, подчиняя своему влиянию как массу избирателей, так и органы власти, тем более стеснялась личная инициатива, подавлялась свободная отзывчивость народа и вместе с тем падал и общий интерес к политике. Народные представители, члены законодательных палат превратились в безгласных делегатов партий, лишенных свободы личного мнения, в послушных статистов, исполняющих волю партийных лидеров. И в народных массах, и в лучшей части более образованных общественных кругов все более заметно обнаруживаются признаки зловещего индифферентизма к политическим делам и не менее зловещей терпимости к деспотизму партийных вожаков и фальсификаторов общественного мнения»[7].
Если же принять во внимание, что ни русские общественные круги, ни народные массы совершенно не были подготовлены и не имели опыта в тонкостях выборных манипуляций и приемах борьбы политических партий Запада, то приходится прийти к заключению, что «общественные мнения и требования», предъявлявшиеся Государю Императору, как мнения и требования «всея земли», и указывавшие на необходимость ограничения самодержавной власти Царя установлением конституционного управления, едва ли соответствовали действительности и были вполне свободны от работы «фальсификаторов общественного мнения». Умный Государь чувствовал это сердцем; он знал свой народ не таким, каким он, может быть, был в текущий момент, а таким, каким он хотел быть, как на протяжении всей своей истории, так и в будущем. Поэтому Царь не верил в благость конституции для народа. Он смотрел на коренное государственное дело глазами будущего и не мог смотреть на него, как общественные деятели «общественного мнения», глазами только текущей минуты. Поэтому в качестве «исключительной меры» Он понимал не коренную ломку государственного строя в опасный момент жизни народа, а созыв Земского собора «всея земли». Но для проведения этой меры Он не нашел бы тогда сочувствия в «общественном мнении», которое видело спасение в ограничении власти и вовсе не склонно было идти на усиление ее путем «слияния» Царя со «всею землею», как сделали то русские люди 1613 года в период царствования первого Царя из Дома Романовых.
«Он не видел возможности править страною и унять всемирный мятеж без содействия Собора и требовал этого содействия, призывая себе на помощь «всю землю» во всяких делах управления. Иначе говоря, на первых же порах новый Государь хотел править с Собором и не видел в этом умаления своих Державных прав и своей власти. С своей стороны и «вся земля» нисколько не желала умалять власть своего избранника и с послушным усердием шла ему на помощь во всем, в чем могла. Земский избранник и народное собрание не только не спорили за свои права и за свое первенство, но крепко держались друг за друга в одинаковой заботе о своей общей целости и безопасности. Сознание общей пользы и взаимной зависимости приводило власть и ее земский Совет к полнейшему согласию и обращало Царя и «всю землю» в одну нераздельную политическую силу, боровшуюся с враждебными ей течениями внутри государства и вне его». Так пишет Платонов и заключает: «Последующее показало, как глубоко жизненно было дело, сделанное тогда “всею землею”, и как много обязаны были “всяких чинов людям Московского государства” их близкие и далекие потомки…
Успокоение государства совершилось, и замирание на границах было достигнуто. Смутные времена кончились, и общественная жизнь вошла в мирную колею».
Здесь Платонов упускает только одно, что Царь и «вся земля» слились в одну нераздельную политическую силу и не оспаривали друг у друга своих прав и своего первенства не только в силу того, что «понаказались» и «поняли всю необходимость своего единого государства», но главным образом потому, что Царь и «всея земля» объединились ярко вспыхнувшей в них нравственно-религиозной идеей своей национальной государственности. Без этой сильнейшей внутренней духовной спайки и слияния никакие внешние причины не могли бы подвигнуть «всю землю» на такое беззаветное служение своему Царю и родине, а Царя – своему народу, какое было ими проявлено для воскресения великой Руси.
Но даже и после только глубоких слов Платонова делается как-то больно за русских западников, когда, увлеченные своим стремлением ко всему только западному, они в ослеплении отрицают явные факты своей русской истории и пишут: «Земские соборы – дела давно минувших дней; они жили и умерли, наглядно показав собою все свое несовершенство, а под конец и непригодность». Знаменательно, что это заключение было высказано в 1904–1905 годах М. Клочковым в его брошюре «Земские соборы в старину», когда под влиянием неудачной войны с Японией впечатлительность натуры русского человека, легко переходящей от одних крайностей к другим, повела к падению духа и ослаблению сознания во «всея земле» своей национальной нравственно-религиозной идеи и дала толчок русскому западному боярству стремиться к осуществлению своих политических вожделений, «народу нашему чуждых и воле его непригожих»; в это же время Царь мечтал именно о «Соборе всея земли».
Через 12 лет, 27 февраля 1917 года, русское западное боярство стало наконец лицом к лицу с первыми представителями той самой части русского народа, которую оно же воспитывало в своих западнических тенденциях и выставляло в «общественном мнении» как народ «всея земли». И вот здесь вместо «светлых теней будущего» перед их глазами предстала ужасная пропасть, страшная бездна между ними и «всея землей»; и 12-летнее воспитание уже успело закрыть перед духовными очами «всея земли» пути к Господу, и она оказалась довольно прочно стоящей на путях к диаволу. Тогда только вспомнился боярам-западникам доблестный подвиг «последних людей Московского царства» в своей истории, но, не желая сознаться в своем «земском грехе» они и тут не смогли отказаться от западничества и всеми силами души и тела ухватились за идею спасения «своих животишек» через западноевропейское политическое детище – Учредительное собрание, которое, конечно, тоже оказалось «народу нашему чуждым», а потому и провалилось. Во всем этом бояре-западники забыли умышленно или сознательно, что «последние люди Московские» прежде всего «олицетворили идею государства» и, олицетворив ее в лице Государя, не захотели быть безгосударны и малое время. Теперешние же последние люди поступили как раз обратно и прежде всего постарались оставить «всю землю» без идеи о государстве и без Государя, и через это, уже вполне исторически точно, поставили себя в неизбежность «испытывать ужасы собственных междоусобий Смутного времени» и разорения России начала XVII века…
Здесь историческая трагедия династии Романовых подходит к началу агонии Государя Императора Николая Александровича и всей его Семьи.
Основание агонии было построено на обмане и хитрости. Обман заключался в том, что представители «общественного мнения» убедили Государя, во-первых, что они действительные представители народа и выразители мнения «всея земли», и, во-вторых, что только они, принимая во внимание состояние страны, представленное «общественным мнением», смогут привести Россию к победе над внешним врагом и успокоить внутреннюю смуту, при условии отречения Государя от престола, передачи его брату Михаилу и отказа от самодержавия. Хитрость проявилась в том, что, зная мягкость и слабость характера Государя, «народные представители» и бояре-западники предумышленно и злонамеренно отделили его от Императрицы Александры Федоровны для совершения насилия над его волей и духом и исторжения необходимого им акта отречения. Факты не позволяют даже смягчить характер обмана и признать его невольным, непредусмотренным.
В тот самый час и день, 27 февраля, когда члены Государственной Думы собрались в помещении Думы на совещание для организации незаконного Временного исполнительного комитета Государственной Думы с официальной задачей «для поддержания порядка в Петрограде и для сношений с различными учреждениями и лицами», в том же помещении собрались, как было опубликовано в «Известиях», представители рабочих и солдат и несколько общественных деятелей. Составился Временный исполнительный комитет (не думский), который приступил к организации Совета рабочих и солдатских депутатов, для чего и предложил заводам избрать по одному депутату на каждую тысячу рабочих, а войскам – по одному представителю на роту. Возникший таким образом совет на другой день опубликовал воззвание к населению столицы. В воззвании говорилось, что «для успешного завершения борьбы в интересах демократии народ должен создать свою собственную властную организацию…» и что «население должно немедленно, сплотившись вокруг совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами». Из упоминавшейся уже выше декларации, составленной П. Н. Милюковым, явствует, что до 2 марта народным представителям Думы было известно как о создавшемся втором незаконном Временном исполнительном комитете, так и об официальных задачах, принятых им на себя. Следовательно, членам Думы ко 2 марта должно было быть вполне ясно, что их представительство «всея земли» весьма скомпрометировано появлением других представителей «народа», самостоятельно распоряжавшихся организацией «всея земли». Своим же соглашательством, о котором упоминается в той же декларации, с народными представителями «явочного порядка» они санкционировали законность этих именно представителей и умалили свое собственное представительство как членов Государственной Думы. Профессор Соколов в одном из своих «политических обозрений» пишет: «Знаменитый историк французской революции Тэн указывает, что в революционное время толпа, собравшаяся на улице столицы, часто присваивает себе право говорить и действовать от имени народа. Действительно, так обыкновенно возникают самочинные революционные организации, занимающиеся революционным творчеством. Успех таких организаций определяется тем, в какой степени им удается угадать настроение народа и в какой степени их деятельность отвечает его желаниям». День 27 февраля ознаменовался в истории русской революции выступлением двух таких революционных самочинных организаций: Думской и Советской, и на следующий же день выяснилось, что члены Государственной Думы перед 27 февраля не угадали настроения народа, принимая на себя распорядительную власть в возникшем движении, а после 27 февраля – своею деятельностью не отвечали желаниям народа, который по предоставленным ему «завистью диаволи» путям ушел далеко за политические рубежи, «открывавшиеся умственным взорам» народных представителей Государственной Думы.
Обе стороны «всея земли», лишившись идеи государства, желали лишь властвовать друг над другом.
Царство разделилось само в себе…
Поэтому решение членов Государственной Думы сохранить за собой после 28 февраля лицо общественного доверия и народных представителей и выступить с таким лицом 2 марта с требованием перед Государем носило явные признаки обмана.
Умышленность, устанавливаемая фактами в отношении обмана, в равной степени проявилась и в хитрости образа действий самочинных руководителей в первые дни революционного движения в Петрограде, в целях добиться отречения Императора Николая II. История дает еще слишком мало материалов, чтобы установить, кто именно являлись главными вожаками и инспираторами в решении членов Думы сойти с законной почвы 27 февраля, сорганизоваться в самочинный революционный орган и приступить к насильственным действиям против Державного Главы Государства. Официально документы и литература того времени выставляют всюду в качестве первенствующего председателя Государственной Думы М. В. Родзянко, но многое указывает на то, что в этом официальном первенствующем положении М. В. Родзянки было лишь пассивное подчинение воле других, истинных, но скрытых руководителей мнений и действий членов Государственной Думы. М. В. Родзянко сам по себе был истинным и искренним верноподданным и тогда, когда 26 июля 1914 года от лица Думы говорил Государю: «Дерзайте, Государь, русский народ с Вами…», и тогда, когда 26 февраля 1917 года телеграфировал Царю в Ставку: «…Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на Венценосца», и тогда, когда на следующий день передавал по телефону через командира Сводного полка Ресина Государыне Императрице, чтобы она немедленно уезжала с детьми из Царского Села, и на замечание Ресина, что дети серьезно больны, добавил: «Когда дом горит, то детей выносят». Он и остался таковым, сохраняя первенствующее, но малопочетное место в Государственной Думе, когда после 15 марта 1917 года она стала мертвым телом для государственности русского народа.
Истинные, но скрытые вдохновители революционных решений Государственной Думы: Думе не расходиться; всем депутатам оставаться на своих местах, сорганизовать Временный исполнительный комитет, принять на себя право водворения порядка в столице, принять на себя всю исполнительную власть, выявить перед Государем общественное мнение и потребовать его отречения от престола, – конечно, не были вдохновлены верноподданническими чувствами, но не были уверены и в успехе задуманного ими государственного переворота. Они опасались Ставки, не уверенные вполне, что она не откажется поддержать их в решительную минуту; они опасались Царского Села, убежденные, что Императрица сможет удержать Государя от добровольного отречения; наконец, они опасались, и не без оснований, что Государь понимает истинную цену «общественного мнения» и далеко не считает его «мнением всея земли».
Наконец, и главным образом – они испугались революции и больше всего революционного народа.
Начав днем 27 февраля свою деятельность с «революционного творчества», руководители из членов Государственной Думы уже к вечеру того же дня столкнулись с другим самостоятельным «революционным творчеством» со стороны революционного народа. Сознав и почувствовав свою слабость, думским руководителям для спасения «своей революции» и сохранения «своего первенства» пришлось идти на соглашательство с народными руководителями на известных компромиссных условиях. Этим самым они вступили на первую ступень лестницы непоследовательности и противоречия между словом и делом, проявлявшихся затем во всей последующей их деятельности. Прежде всего им стало вполне ясно, что продолжать революцию дальше нельзя, что она опасна более всего для единения «своих животишек», что бездна, открывшаяся их «умственным взорам», требовала или прекратить немедленно революцию, или сознательно лететь в бездну. 28 февраля перед ними открывались две дороги: или, слившись идейно с Царем, повернуть начавшуюся в России революцию на путь к Господу, или, низложив «революционным творчеством» Царя, стать на сторону советов и вести русский народ по пути к диаволу. Ни на то, ни на другое у них не хватало гражданского мужества, да, кроме того, в обоих случаях столь взлелеянная западническая власть уходила из их рук. Что же сказал бы тогда их бог – Запад?
Они решили тогда избрать третий путь, небывалый, не предусматривавшийся ни «совершенными образцами, ни лучшими книжками» Запада, ни историей России. Они решили перехитрить всех; перехитрить «революционный народ», общество, Царя; перехитрить своего бога – Запад. Они решили, прикрываясь именем предводителей народной революции России и оставив государство без идеи о своей государственности, вести революцию к Учредительному собранию путем мирного и хитроумного эволюционного творчества. Никогда, нигде, ни в каком государстве не было проявлено столько внешней бутафории переживавшегося революционного периода, сколько было ее в России в революцию февраля – октября 1917 года, но нигде не было проявлено и столько эволюционной хитрости, чтобы удержать «новое вино в старых мехах», как в России времен революционного Временного правительства.
Отказавшись после 28 февраля от дальнейшего «революционного творчества», Временному думскому исполнительному комитету, естественно, необходимо было, чтобы Верховная власть перешла к нему эволюционным порядком. А для этого необходимо было прежде всего добровольное отречение от престола Государя Императора Николая Александровича. Учитывая вышеприведенные существенные опасения, вдохновителям решений Временного Комитета, кроме использования обмана, пришлось стать на путь хитрости: надо было удалить Государя из Ставки, не дать ему соединиться с Императрицей Александрой Федоровной и инсценировать отчужденность от Царя «всея земли». При наличии такой обстановки, пользуясь мягкостью и слабостью воли Царя, они могли рассчитывать добиться успеха и, вырвав у него добровольное отречение от престола, сделать первый шаг по пути к утверждению эволюционным порядком Верховной власти за собою. Но эволюционный путь ставил революционных руководителей в фальшивое положение как по отношению к революционному движению, так и по отношению к прежнему режиму, который их революция ломала; в сущности, они вынуждены были в этом случае идти хитростью на соглашательство с Царской властью, как вынуждены были прибегнуть к тому же и с революционной властью народа.
Всех этих данных, характеризующих природу, нравственное содержание и «свободу духа и творчества» революционной организации инспираторов из членов Государственной Думы, решивших продолжать неудачно начатое дело революции, вопреки выяснившимся неблагоприятным для них обстоятельствам, приходится касаться только потому, что сущность этих элементов, имея слишком тесное отношение как к трагедии династии Романовых, так и к последовавшей агонии последнего из Державных Вождей этой династии, устанавливает внутреннюю связь между этими двумя историческими обстоятельствами. События 27–28 февраля слишком ясно указали на несостоятельность идеологии русских бояр-западников для культивировки ее на национальной, бытовой и духовной почве народа русского «всея земли». Конечно, не этой только выявившейся несостоятельностью исчерпываются все корни трагедии последней династии и все причины, приведшие к революции 1917 года, но преступное увлечение западничеством, отчужденность от своего исторического пути, ослепление «образцовыми» теориями и формами, «народу нашему чуждыми и воле его непригожими», привели к раздроблению интеллигентных сил страны в тот момент, когда сказалась необходимость противостоять, с должной национальной энергией и государственным единением, страшному напору действительно опасного и сильного противника культурно-христианского мира, его исконного врага, социалистически-антихристового легиона сплоченных сынов религии лжи.
Тем паче невозможно было создать хитроумным эволюционным порядком необходимую для борьбы силу, и Исполнительный думский комитет, лишь затягивая кризис, неизбежно пошел к своей катастрофе. Шаткою же эволюционною тактикою своего правления он вместе с тем создал томительную и тяжелую агонию для Царской Семьи и повел ее последовательными этапами к кошмарной развязке в Ипатьевском доме 17 июля 1918 года. Страшная полуторагодовая агония и ужасный ее конец были столь же неизбежны в истории России и связанной с ней истории трагедии династии Романовых, как неизбежно было вообще падение в бездну «всея земли», отказавшейся, хотя и временно, от своей нравственно-религиозной идеологии.
* * *
Граф Витте в своих записках об истории возникновения известного указа 12 декабря 1904 года, вспоминая одну из своих бесед с Императором Николаем II, пишет: «Во время этого разговора зашла речь о Земских соборах. Я высказал убеждение, что Земские соборы – это такая почтенная старина, которая при нынешнем положении не применима; состав России, ее отношения к другим странам и степень ее самосознания и образования и вообще идеи XX и XVI веков совсем иные». Графа Витте считали образованнейшим русским интеллигентом и выдающимся государственным деятелем своего времени, когда ему было поручено руководительство правительством в труднейший и опаснейший момент государственного перелома в истории русского народа. Теперь, когда в его записках открывается действительная физиономия и содержание этого вершителя судеб России, делается как-то жутко даже за прошлое. В своем ответе Государю о Земских соборах граф Витте оказался и плохим русским историком, и плохим русским националистом, и плохим знатоком русского народа, и достаточно посредственным русским мудрецом, но, безусловно, сильным, самомнительным и увлеченным русским боярином-западником.
Во-первых, расцвет Земских соборов был не в XVI, а в XVII веке, и именно в идейном их значении; во-вторых, территориальное изменение России с XVII по XX век не имеет серьезного влияния на состав представительных органов; новыми элементами по сравнению с XVII веком являлись теперь только окраины – Польша, Литва, Крым, Кавказ, Туркестан и Восточная Сибирь, представители коих не могут оказать подавляющего влияния на доминирующее представительство основного района, ядра России, однородного по составу населения, не изменившегося с XVII века; в-третьих, слаба национальность того государственного деятеля, который в идее внутреннего устройства государства зависит от мнений иностранных соседей; да и какие такие отношения России к другим странам могли повлиять на созыв Земского собора или иного представительного органа? В-четвертых, события 1917–1920 годов ярче всего опровергают голословное заявление графа Витте о значительной, неизмеримой разнице в степени самосознания и образования России в XVII и XX веках. Это грустно, но тем не менее это так, и у графа Витте не было никаких данных выставлять этот довод против Земского собора. Он мог явиться у него лишь как плод собственного теоретического увлечения западничеством без прочного знания своего народа. Да и откуда могли развиться столь успешно самосознание и образование народа, чтобы явиться помехой Земским соборам хотя бы по форме. С 1861 года времени прошло еще слишком мало, кредиты на эту отрасль народного благосостояния, как не могло не быть известно графу Витте, отпускались очень скромные, да к тому же далеко не западническая по духу винная монопольная практика графа Витте над русским народом слишком мало способствовала здоровому развитию народного самосознания и образования. Наконец, в-пятых, и что самое существенное, «вообще об идеях» графу Витте, как западнику, лучше было совсем не говорить. Ведь именно здесь-то, в идеях, в идеях о государственности России и кроется основной корень расхождения увлеченных бояр-западников и русских людей, питающих мысль историей русского народа.
Западники, ставящие в центр своих мировоззрений человека с его земными потребностями, естественно, в вопросах государственности народов не возвышаются в своих идеях выше материальных понятий социального единения человечества, в которых форма и дух этих единений отвечали бы земным стремлениям человека соответственно переменчивым влияниям той или другой эпохи. Такие идеи государственных единений, конечно, неустойчивы, непостоянны и меняются не только веками, но гораздо чаще – через десятки лет, даже годами. Как бы ни прикрывались такие «гражданские» идеи доктринерскими учениями о свободе, братстве и равенстве, но в основе их все же остается стремление малой части доктринеров определенного социального толка данного времени владеть насильственно всем остальным человечеством, что и было причиною бесчисленных политических пертурбаций на Западе за последние века и что привело народы Европы не к идейным государственным единениям, а, как справедливо отмечает Достоевский, к единственно возможному «гражданскому» единению во имя «спасения животишек». На этом пути человечеством руководят не действительные идеи мирового смысла, не великие и вечные идеи одухотворенного значения, а «идейки» революционного или эволюционного порядка, вырабатывающиеся, как показывает история мира, в теоретическом мышлении различных государственных, политических и общественных деятелей народов, лишившихся нравственно-религиозных элементов в основе идей своего мирового существования. Такие народы неизбежно сходили со сцены мировой деятельности и совершенно исчезали с лица земли или продолжали свое существование в состоянии прозябания и медленного, но верного постепенного вымирания.
«Жизнь каждого народа имеет определенный смысл», – говорит Владимир Соловьев в своей книге «Русская идея». В религиозном отношении это истина, подтверждаемая рациональной философией: как не может не быть смысла в существовании одного человека, так не может не быть смысла в существовании общества людей – народа – связанных и соединенных друг с другом прежде всего общностью идеи смысла своего существования на земле. Для русского народа смыслом существования, а отсюда и идеей его государственного единения с древнейших времен исторического зарождения являлись начала религиозного характера, которыми пропитана вся политическая история народа, начиная даже с его легендарного периода существования. Здоровым ли пониманием или больным, сознательно или только чувством (ибо можно многое не сознавать, но чувствовать) воспринимались народною массою эти начала, как руководящие смыслом его существования, – это другой вопрос, но религиозность смысла государственного единения проходит определенной нитью через все многострадальное и многобурное существование русского народа с середины IX века, века появления на мировой арене Руси. Недостаток исторического материала по этому вопросу заставляет остановиться на положении, что в эпоху Древней Руси, до Иоаннов, эта религиозная основа в смысле своего государственного единения принималась в мaccax русского народа более чувством, чем сознанием. Но многие ли и теперь, даже из интеллигентного класса, могли бы подойти к этому вопросу сознательно, с глубоким знанием своей истории? Многие ли останавливались хотя бы на том факте, что время зарождения Русского государства в IX веке совпало с величайшим мировым политическо-религиозным событием – началом разделения Церквей, и почти безусловно в связи с этим событием, связи, трудно улавливаемой теперь лишь по недостатку исторических материалов. Однако достаточно для начала и таких фактов: в 843 году, т. е. за 21 год до времени, с которого принято начинать русскую историю, распалась Великая Империя Карла Великого, создавшаяся на религиозно-нравственных началах Западной церкви. Вслед за сим, около 860 года, возникает распря между Константинопольским Патриархом Фотием и Папою Николаем I, явившаяся началом разделения Церквей и послужившая к усилению миссионерской деятельности со стороны Восточной Церкви, коснувшейся преимущественно славян. Около того же 860 года Хозарский коган, властвовавший в это время над полянами, северянами, вятичами и радимичами, просил Греческого Императора прислать ученых мужей, которые знали бы славянский язык и могли бы вести религиозные споры с иудеями и магометанами. Результатом этого явилось посещение Русской земли славянскими апостолами Кириллом и Мефодием; с этого времени начался перевод Священных книг на славянский язык. Знаменательно, что окончательное разделение Церквей последовало в 1054 году, в год смерти Ярослава Мудрого, когда можно было рассчитывать, что христианство по Восточной Церкви уже крепко утвердилось на Руси. «Таким образом, – пишет историк Белов, – основание Русского государства, крещение Киевской Руси и утверждение в ней христианства совпадает с великим событием разделения Церквей». Нравственно-религиозные корни, легшие в основу этого исторического разделения Церквей, преемственно вошли в основу идеи русского государственного единения. Отсюда в русском народе «всея земли», скорее, через чувство культивировалась великая идея об историческом призвании России и об осуществлении ее на земле, сначала у себя, в форме и духе своего государственного строительства, а впоследствии, в развитии и совершенстве идеи, и во всем мире. Что не человек был издревле центром миросозерцания народа, как стало теперь у западников, а нравственно-религиозные понятия государственного единения, о том много фактического материала дает история России: «не посрамить земли русския, ляжем костьми, мертвым нет сраму», – говорит Святослав. «Зачем губить Русскую землю, поднимая сами на себя которы… Станем жить в одно сердце и блюсти Русскую землю», – советовались в Любече князья. «Бог утаил правду от премудрых, а открыл ее мезеннием владимирцам», – говорит летописец под 1176 годом, когда Владимир (город) отстаивал принцип государственного единения «Божиею Милостью и Пречистая Богоматери», – появляется уже в договорных грамотах великих князей Московских, начиная с Василия Дмитриевича. «О великие князья Владимира, Новгорода и всея Руси! Молитвами вашими помогите мне на отступников православия», – молился Иоанн III над гробами своих предков перед походом на Новгород в задаче объединения всея Руси.
Но определеннее всего, резче, полнее и наиболее ярко нравственно-религиозные начала идеи государственного единения русского народа «всея земли» сказались именно в эпоху расцвета Земских соборов, в эпоху призвания династии Романовых. Об этой идеологии «всея земли» говорилось уже выше, и казалось бы, что для русских людей, живущих своим, реальным, историческим, а не химерами запада, весь трехсотлетний период царствования Романовых показывает, что эта идеология непрестанно продолжала питать мысль и чувства «всея земли», оставалась твердой основой Богохранимой Державы Российской и продолжала жить в сердцах русских людей, несмотря ни на какие потрясения и искушения социально-религиозного характера периода русской истории XVII–XX веков. «Русская идея, мы знаем это, – говорит Соловьев, – не может быть не чем иным, как некоторым определенным аспектом идеи христианской». Как следствие из христианства, русская идея о своем государственном единении оставалась неизменной за все десять веков жизни русского народа и, говоря в 1904 году, что «вообще идеи XVI и XX века совсем иные», граф Витте, если бы он понимал и чувствовал «вообще» идеи своей «всея земли», должен был бы добавить – на Западе. Разговор же его с Государем касался по смыслу и содержанию именно основной идеи российской государственности, а не каких-либо маленьких, временных «гражданских» идеек, что вытекает из заключительных слов Государя: «Да я никогда, ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа».
* * *
3 марта 1917 года народ «всея земли» узнал о добровольном отречении от престола Государя Императора с изменением основного духа своего государственного единения, а затем узнал и об отказе Великого князя Михаила Александровича принять Верховную власть без подтверждения ее Учредительным собранием. Если бы в сознании или чувствах русского народа «всея земли» отсутствовали корни исторической нравственно-религиозной идеи своего государственного единения, смысла своего существования как цельного народа, то, вероятно, после некоторых революционных или эволюционных потрясений и этапов жизнь народа вылилась бы в какие-либо образцовые формы западноевропейского единения и потекла бы по теоретическому руслу всех европейских государств, разделяя с ними и общую их участь буржуазно-социальных единений во имя «спасения животишек». Если бы русский Государь Император Николай II олицетворял в своем лице представительство «гражданской» Верховной власти в той или иной форме, уже давно установившейся в идеях западных государственных единений, то после отречения он покинул бы пределы своего государства, как Вильгельм и Карл, и история «земского греха» русского народа не ознаменовалась бы событиями ужасной агонии и кошмарного конца ее, постигших последнего венценосного Вождя России и его Семью.
Но как исторический смысл жизни народа и вдохновляющие его мировой путь великие идеи являются не плодом рук человеческих, а ниспосылаются ему Божьим Промыслом, так и последствия всенародного греха, совершенного против предначертанных путей «по зависти диаволи», руководятся Им же. Если народ, «земля» познает, почувствует в событиях, руководимых Промыслом, знамение Божье, свет истины, то через искреннее, глубокое раскаяние и могучее творчество в горячей вере своего избранничества ему могут открыться пути к спасению и воскресению. Если же нет – его смысл во всемирной жизни будет утерян навсегда.
Волею Промысла Всевышнего Творца русский народ «всея земли» поставлен перед великими знамениями Промысла – агонией и убийством, совершенных по вине народа над бывшим носителем и охранителем великой религиозной идеи «всея земли», более тысячи лет озарявшей смысл ее существования и ее призвания.
Откроются ли ей пути к истине, раскаянию, творчеству и воскресению?
«Обыватель обыкновенно судит о государстве по чисто внешним признакам. Государство для него это городовой, стоящий на перекрестке и регулирующий движение, это армия, организованная и дисциплинированная, готовая каждую минуту броситься на внешнего или внутреннего врага, это чиновники, хранящие тайны государственной власти, и если он видит все это на своих местах, то ему кажется, что все обстоит благополучно, что государство здорово и могущественно». Так судил о русском обывателе все тот же боярин-западник, профессор Соколов, выдержки из политических обозрений которого приводились уже выше. Он, может быть, вполне искренно верил, что «обыватель» только так и судит о государстве и что для него вполне достаточны только «внешние признаки», а дальше и глубже он и заглядывать не станет. В своем суждении об «обывателе» земли русской он и тысяча еще других таких же бояр-западников полагали, что если «обывателю» сказать, что Царь «малодушен, упрям, слабоволен, лично властолюбив», что окружает себя только «карьеристами и проходимцами», что «драгоценные народные дары бессовестно растрачивались преступными временщиками», что «казнокрадство достигло еще небывалых размеров», что «измена и предательство гнездились в царских покоях», что «случайный шарлатан из полуграмотных сибирских мужиков возвысился до роли наперсника взбалмошной немецкой принцессы, презиравшей Россию и русский народ», что «Россия в ужасе отшатнулась от видения разврата и бесчестия», то «обыватель» удовлетворится только «внешними признаками» новой самочинной государственной власти и не захочет вникнуть глубже, как в то, что творилось раньше, так и в то, что ожидает теперь его государственность. Ведь для этих новых городовых новой власти, охранявших и оправдывавших своими обращениями к «обывателю» земли русской смысл своего существования, в центре всего миросознания были только человек и «гражданские» идейки. Они не хотели, да и не могли видеть в «обывателе» ничего иного, что выходило за пределы своего собственного суждения, своего собственного понимания. Поэтому и отрекшийся от престола Царь стал для них только «гражданином Николаем Александровичем Романовым», и они старались все сделать, чтобы и «обыватель» разделял их мировоззрение по «внешним признакам»; свержение Царя, в глазах массы народа, произошло не насильственно-революционным порядком, а эволюционным, добровольным отречением Государя Николая II в пользу своего брата, актом человеческого миросознания; отказом Михаила Александровича выдвинута исключительность воли человеческой, первенство в идее о власти государственной – власти народной; тотчас по достижении власти Временное правительство горячо стремится вывезти Николая Александровича Романова с семьей куда-либо за пределы его бывшего государства, а когда это не удается, предпринимает все доступные человеку меры для ограждения их от опасности случайных эксцессов.
Но все было тщетно; по их пониманию, злой рок привел все их начинания к кошмарной гибели, к кровавому злодеянию в Ипатьевском доме.
Но кто верит в Бога, кто верит в существование идеи русской государственности от Бога, для того в каре, постигшей Россию, в изуверской смерти, принятой Помазанником Божьим Николаем II и его Семьей, видны великие знамения Промысла Всевышнего Творца.
Для русского народа, для народа, тысячу лет чувствовавшего свое призванничество и олицетворявшего путь к нему через свою идеологию о Верховной власти на земле, в насильственной, мученической смерти Николая II свершилось чудо, чудо таинственное, как чудо последнего искушения диаволом уже распятого Христа: «если ты Сын Божий – сойди с креста».
Если бы Он сошел с креста, сохранилась ли бы Божественность идеи его призвания на земле? Она сошла бы с пути Божественного Предопределения и стала бы на почву человеческого мировоззрения.
Если бы Николай II не погиб насильственно, а спасся, бежал бы после отречения за границу, сохранилась ли бы тогда историческая целость идеи и государственности русского народа, олицетворяемой в Государе, Помазаннике Божьем? На престоле – это был бы Царь в гражданском понятии почетного титула, а вне престола – человек-гражданин, Николай Александрович Романов, и только.
Но Николай II погиб, погиб трагически, мученически, зверски убитый со всею своей Семьей, после чего тела их не закопали просто, как тела обыкновенных других граждан, а сожгли, сожгли без следа, тайком, и скрывая самый факт сожжения.
Почему? Почему нужна была его смерть? Почему нужны были не только смерть, но и уничтожение?
Если русский Царь был обыкновенным «гражданским» Монархом? Если Николай II был обыкновенным гражданином – носителем этого титула? То чем же он был опасен после добровольного отречения от престола? Чем он был так опасен, что его пришлось держать в заточении? Что было в нем такого, что не исчезло ни с отречением от престола, ни с заточением в Тобольске? Почему считали, что только после тайного убийства и уничтожения его, и не только его, но и его жены и детей и всех близких к нему, удастся наконец избавиться от той опасности, которую представлял собою Николай II для новой власти русского народа, для нового государственного строения России на началах, чуждых ее исторической идеологии?
Вот вопросы, которые Промысел Божий выдвинул перед очами русского народа «всея земли» после агонии и смерти Николая II.
Как гражданин, Николай Романов не мог быть опасен ни для кого.
Как Помазанник Божий, он был опасен для западников Временного правительства и страшен для изуверов советской власти.
Люди захотели избавиться от Николая Романова по-своему и создать свое, «человеческое» для смысла жизни русской государственности.
Промысел Божий, направляющий волю и руки человеческие, привел их к кресту распятого Николая II, и как бы говорит: Смотри, познай и раскайся.
Великое, таинственное чудо свершилось перед глазами «всея земли».
Трагедия династии Романовых претворилась в мистерию русского народа.
В пророчествах Достоевского о России есть знаменательные слова, вложенные им в уста умирающего Верховенского, в романе «Бесы»:
«Знаете вы, это чудесное и… необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения… в этой книге… так что я это место еще с детства упомнил. Теперь же мне пришла одна мысль, одно сравнение. Мне ужасно много приходит теперь мыслей; видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, все эти язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Да, эта Россия, которую я любил всегда. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности… и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те, и Петруша… и другие с ним, и я, может быть, первый во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам и дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и “сядет у ног Иисусовых”… и будут все глядеть с изумлением…»
Более 50 лет прошло с тех пор, как Достоевским было высказано это пророчество; безумие России проявилось в полной мере.
Для исцеления бесноватого нужно было чудо Божье и сила веры больного в посланничество Христа.
Безумная Россия пришла к величественной мистерии – мученической кончине Николая II и всей его Семьи; чудо совершилось: развенчанный в гражданина, низверженный и уничтоженный людьми Царь отмечен перстом Промысла Божьего, как Помазанник Божий. Найдет ли в себе народ «всея земли» силу веры принять исцеление и вернуться снова к ногам Иисуса здесь на земле, в горячем стремлении через раскаяние очиститься от всей накипи, мерзости и гноя, накопившихся на Руси «по общему земскому греху и по зависти диаволи».
«Если только нужно для России, Мы готовы жертвовать и жизнью, и всем», – говорили покойные Царь и Царица. Они и отдали свою жизнь для России; они слились на веки вечные с тем русским народом «всея земли», который, как и они, исповедовал одну веру, одну идею, один смысл в русской исторической государственности, и шли, как умели, по одному пути великого предназначения христианского русского народа – к России Христа, через истинный образ Святой Троицы на земле: Веру, Царя и Отечество…
Вернется к ним и русский народ «всея земли».
Глава II
«Божьим изволением» Помазанник
16 февраля 1917 года наследник Цесаревич Алексей Николаевич заболел корью, заразившись ею от одного кадета, приезжавшего к нему из Петрограда, где в то время была сильно распространена в закрытых учебных заведениях эта эпидемия.
Всякая болезнь наследника была большим испытанием и тревогой для всей Царской Семьи и особенно для отца и матери. То, что для всякого другого ребенка его возраста являлось совершенным пустяком, обычной болезнью, то для Алексея Николаевича могло ежеминутно превратиться в серьезное и чрезвычайно опасное состояние, угрожающее смертельным исходом. С 1912 года, когда впервые выяснилось, что организм его заражен гемофилией, этой ужасной, смертельной, наследственной болезнью Гессенского Дома его матери, всякая другая болезнь, простой незначительный ушиб, царапина на почве этой болезни могли стать роковыми для его жизни. Медицина была совершенно бессильна бороться с гемофилией; наука до сих пор не нашла действительных средств для противодействия яду этой болезни, разрушающему венозную ткань в организме; кровеносные сосуды становятся настолько нежными, что всякий пустяк способен вызвать разрыв их и сильное внутреннее кровоизлияние, безусловно, смертельной опасности. При этом болевые ощущения в случаях такого кровоизлияния, по-видимому, были ужасны и доводили Наследника до бессознательного состояния. Пароксизм длился несколько дней и ночей, не отпуская и не ослабевая ни на минуту, вызывая у Цесаревича непрерывавшийся мучительный стон и почти безумное состояние. Вообще он был очень терпелив к физической боли, умел владеть собой и не показывать вида, что страдает, если болезненность не переходила границ ослабления воли. Он даже не любил, чтобы другие замечали, что он страдает, и, как ребенок, сердился на тех, кто замечал, не имея сил сдержать своего страдания. Госпожа Битнер, занимавшаяся с детьми в Тобольске, рассказывает: «Бывало, сидит и начинает отставлять ногу. Видишь это, скажешь: “Алексей Николаевич, у Вас нога болит”. – “Нет, не болит”. – “Да ведь я же вижу”. – “Вы всегда видите – болит, а она не болит”. Так и не скажет, а нога действительно разбаливается. Ему хотелось быть здоровым, и он надеялся на это. Бывало, скажет: «А как Вы думаете, пройдет это у меня?”». Но в дни пароксизмов болезни, впадая в почти бессознательное состояние, он, конечно, уже не мог владеть собой, и стон его мучительно и болезненно отзывался на всей Семье.
Алексей Николаевич был любимцем всей Семьи. Может быть, потому, что он был самым младшим и единственным сыном и братом, но вернее, по свойствам своей натуры и характера. Это был поразительно располагающий к себе ребенок: умненький, восприимчивый, чуткий, ласковый, нежный, но вместе с тем с уже достаточно определившимися волей и характером. Его любила не только вся Семья, по и все окружавшие ее придворные, слуги, солдаты. Он располагал к себе сразу, с первого общения с ним. Поэтому когда он впадал в болезненное состояние, то это чувствовалось во всем доме: все становились озабоченными, тревожными; всех поглощала мысль – как он перенесет болезнь; все старались не шуметь, говорить тише, и хотя внешняя жизнь дома продолжалась в прежнем порядке, но на всем ложился отпечаток как бы печали, общего ожидания страшного, рокового.
Более всех страдали отец и мать; последняя болела кроме того как бы сознанием своей невольной виновности перед сыном. Оба любили сына безгранично. Для обоих в сыне сосредоточился смысл всей личной и Державной жизни. Для обоих в нем явилась как бы милость Господня лично к ним за долголетнее терпеливое ожидание и испытания, перенесенные в эпоху, предшествовавшую его рождению. Для обоих в нем жили их великие радость и счастье видеть прямого, преемственного Наследника Российской Державы. Надо воспринять величественность, полноту и святость их воззрения на Богом дарованную им историческую, «всея земли» самодержавную власть, чтобы понять, какую милость Всевышнего Творца они чувствовали в наличии для России наследственного Помазанника Божья; как для искренно и горячо веровавших христиан рождение сына было для них указанием на «славу от Бога»: «кого изберу, того и прославлю», – так как какая могла быть большая для них на земле «слава от Бога», как иметь Наследника своей земной, Богом возложенной на них задачи, и в его наличии видеть утверждение своего Помазанничества. Такой взгляд, определенно высказывавшийся Царем и Царицей покойной Великой княгине Елизавете Федоровне, ясно обрисовывается многими пометками, оставленными ими в различных принадлежавших им книгах Священного Писания. С другой стороны, наличие Наследника-сына отвечало в полной мере нравственному элементу идеологии «всея земли» о наследственной преемственности Верховной власти, установившейся издревле, и в глазах народа являлось Божьим благословением Державных Родителей.
Но сын был дорог родителям не только в силу удовлетворения их национально-государственной идеологии, но и по чисто русским патриархальным началам хорошей русской семьи, в которых сын-наследник является всегда особенно желанным, дорогим и любимым членом семьи. Вся Царская семья, в своем внутреннем мире, являла собою яркий, характерный образец русской патриархальной семьи, основанной на тесной дружбе и любви между всеми членами семьи, на исключительном почтении к родителям и на глубокой религиозности по духу Православной Церкви. Об этом свидетельствуют многие материалы, приведенные в 1-й части настоящего труда, а потому повторять их снова нет оснований. Надо поражаться только, с одной стороны, развращенностью многих умов русского общества, и с другой – тем непонятным, с человеческой точки зрения, ослеплением русских людей того времени, которые претворили в «общественном мнении» эту чистую, нравственную, глубоко русскую Семью в какой-то бедлам развращенности, деспотичности, гордыни, лицемерия, ханжества и сугубо антинационального содержания. Великий «соблазн» претерпела вся русская земля, допустившая такое безбожное и несправедливое извращение истины и правды, но «горе тем, через кого соблазн, приходит».
«Говорю вам, взыщется им за это».
В этой патриархальной русской Семье с первых лет ее создания с горячей молитвой и человеческой жаждой ожидалась милость Божья – рождение сына. Десять лет родители, по воле Провидения, были обречены нести напряженное испытание, и только на одиннадцатом году явилась милость Всевышнего Творца, и родился давно жданный и заранее горячо любимый Сын-Наследник Алексей Николаевич. Счастье и радость родителей были безграничны: в этот день они почувствовали себя прославленными Богом, как Державные Вожди земли русской, и бесконечно удовлетворенными, как супруги и родители русской патриархальной семьи. Заветная мечта их, десять лет страстно лелеянная, осуществилась. Наследник-Сын заполнил смысл их жизни, как блюстителей государственного единения «всея земли» Великой России и как родителей своей собственной русской семьи. Маленький Наследник Цесаревич стал кумиром своей Семьи; Бог одарил его душу и характер исключительно хорошими свойствами и качествами, что способствовало укреплению общей любви к нему. Он рос в атмосфере постоянного внимания и горячей нежности со стороны всех членов Семьи, сохраняя название «Маленький», данное ему отцом с первых лет Его жизни. «Как я рада за Нику и Алису, – говорила Великая княгиня Елизавета Федоровна. – Истинно Бог послал им эту милость в награду за то зло, которое им пришлось претерпеть за последние годы от «некоторых близких родственников». Теперь они все оставят Государя и Алису в покое». Эти «некоторые близкие родственники» своим интриганством и фарисейством много способствовали утверждению в «общественном мнении» злонамеренных толкований о Царе и Царице и умышленному искажению истинных русских Православных обликов этих мучеников своего царствования и мучеников за идеологию «всея земли».
Но «общий земский грех» в русском народе уже слишком разросся и его не заставило одуматься знамение Промысла Божьего, явленное Российской Державе в рождении Наследника-Сына, так как «пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных», и погибли.
На седьмом году жизни Наследник Цесаревич, резвясь и играя, ушиб себе ногу; у него открылась впервые гемофилия. Трудно передать тот ужас, который ощутился тогда всей Семьей. Родители знали о неизлечимости этой ужасной болезни, от нее, несмотря ни на какие попытки медицины предотвратить неизбежный конец, уже умерли в семье Императрицы несколько ее близких родственников. Они знали, что смерть может наступить каждый день, каждую минуту, что для этого достаточно самой пустой неосторожности, простого ушиба, синяка, они знали, что ничто и никто на земле не в состоянии обезвредить болезнь, предотвратить внезапность смерти, ослабить действие яда. Для них жизнь стала вечным страхом, вечным ожиданием катастрофы, ежеминутным опасением за жизнь сына, опасением потерять его, больше не увидать, больше не услышать живым. Это было бы почти кошмарным состоянием, почти кошмарною жизнью, если бы… если бы не громадная вера, не исключительная религиозность Державных Родителей, которая одна давала Им силу жить дальше и продолжать оставаться непоколебленными и твердыми в вере в бесконечное милосердие Всевышнего Творца и неисповедимость путей Его Промысла. «В Евангелии сказано, что вера может двигать горами, – говорила Императрица. – Я верю, что мой сын воскреснет». По сознательности и глубине веры Государыни можно с убеждением сказать, что слова эти не являлись следствием только душевного побуждения ухватиться за великие заветы веры как за источник отвлеченного утешения там, где уже бессильна была сделать что-нибудь наука и людская мудрость. Для Государыни и Государя вера была не следствием душевной потребности, а сознательным, умом и сердцем постигнутым путем к великому Началу всего в мире, к Творцу его, Всемогущему Богу, через учение прославленного Сына Его Иисуса Христа.
Чтобы проникнуть в глубину сознательной религиозности Царя и Царицы и обнять полноту и целость воспринятой ими духовности начал учения Христа, мало прослушать свидетельства лиц, близко стоявших к ним, мало проштудировать их письма, записки, личную переписку, надо открыть принадлежавшие им книги Священного Писания и страница за страницей, строка за строкой тщательно проанализировать многочисленные отметки, сделанные ими в книгах, из коих некоторые, как Библия и Евангелие, читались, по-видимому, ежедневно и неоднократно. Отрекшись от предвзятостей, созданных молвой и «общественным мнением», подойдя к этой работе с искренним желанием познать, чтя чистоту и святость великих учений, постепенно, шаг за шагом, начинаешь получать представление о величественности, цельности и святости нравственно-религиозного мировоззрения, которыми были проникнуты существа Венценосных Супругов Российского государства. Для исторического изучения трагической гибели Царской Семьи к этой обширной и важной теме еще придется вернуться в 3-й части настоящего труда; здесь же уместно отметить, что, познав теперь, после смерти Царя и Царицы, Их истинный духовный облик, можно лишь позавидовать Их силе веры и преклониться перед той бесхитростностью, простотой, чистотой и мощью религиозных убеждений, с которыми царствовали, жили, страдали, терпели и, наконец, умерли эти поистине великие православные русские люди. Думается искренно, что только чистотой и силой своей веры Они сохранили у Бога пять лет жизни своему Сыну-Наследнику, до знаменательного для истории России и Православной Церкви дня, дня своей общей мученической кончины на Голгофе России.
Но на Их государственную и домашнюю жизнь открывшаяся ужасная наследственная болезнь Наследника Цесаревича наложила, естественно, очень серьезный отпечаток: сознание опасного состояния здоровья любимого Сына, жизнь в постоянном, напряженном ожидании возможной катастрофы не могли не удручать душевного состояния Государя и Государыни и, несмотря на поразительную способность владеть собой и сохранять дисциплину чувств, должны были отражаться, в той или другой мере, как на внешних факторах управления Государством, так и на внутреннем домашнем быту.
В ограждении и ведении исторического завета земли Русской Государь и Государыня были одни; вокруг них не было государственных деятелей, могших смотреть на коренные вопросы глазами будущего, людей широкого национального кругозора. По-видимому, их было слишком мало вообще во всех слоях русского общества, что и показали события 1917 года. Получая в Царском Селе все выходившие тогда журналы и газеты обеих столиц, Государь лично просматривал ежедневно «Русское слово», «Русскую волю», «Речь», «Новое время», «Петроградский листок», «Петроградскую газету» и не мог не видеть той политической распри, которая господствовала между всеми политическими партиями страны, на почве узких партийных счетов и споров, совершенно вне глубоких и истинных интересов русской государственности и блага русского народа. «Все это наносное, нерусское», – говорил Государь, когда его приближенные пытались обратить Его внимание на те или другие политические дебаты, происходившие в Государственной думе по вопросам народоправия и ограничения Верховной власти, или когда министры представляли Ему результаты розысков по работе различных подпольных организаций, направленной против государственной власти. Во всем этом политическом брожении Государю определенно чувствовалось отражение западнических теорий и влияние жидов. После же убийства Столыпина и со стороны министров проявлялось или политическое хамелеонство графа Витте, или ограниченное юнкерство, навевавшееся немецким военным шовинизмом. Дыхания же истинной души русской идеи, русской мысли и отзвуков исторической нравственно-религиозной идеологии русского народа ни в «общественных течениях столиц», ни в министрах, ни в приближенных не чувствовалось. «Наконец я в настоящей России и среди русского народа», – сказал Государь, когда однажды в 1912 году, заблудившись с небольшой свитой на маневрах в болотах под Киевом, оказался на сенокосе среди мужиков и баб, которые провели Его тропами через топи и вывели на проезжую дорогу. В правительственной же и общественной атмосфере столиц и Царского Села Он справедливо не чувствовал России и русского народа «всея земли».
После обнаружившейся у сына-наследника страшной наследственной неизлечимой болезни драгоценное миро русской государственности оказалось в хрупком сосуде, среди жадной и алчной до мира толпы, стремившейся разбить сосуд, но не имевшей куда влить его драгоценное содержимое.
Болезнь сына и идейное государственное одиночество еще более, чем раньше, слили Державных Супругов в единое тело и душу, а сознание отсутствия помощи со стороны людей как в борьбе за жизнь сына, так и в борьбе за жизнь русской Самодержавной идеологии вынудило их сугубо замкнуться в себе и отдать все свои личные силы заботам о Сыне-Наследнике и ограждению целости и святости Богом данной им высокой власти. Это стремление в последние пять лет их царствования потребовало, с одной стороны, напряженного религиозного служения Богу в предельной душевной простоте и сердечной чистоте, и с другой – максимального проявления твердости и силы воли в ограждении целости и полноты русской идеи о государственности. Естественно, что в религиозно-историческом служении объединившихся в одно целое Державных Супругов большее напряжение выпало на более сильную натуру Государыни Императрицы, но за то и страдала она сильнее. Сын стал болеть часто. Во время этих болезней Государыня не отходила от его постели ни днем ни ночью, урывками принимая пищу и урывками забываясь в чуткой дремоте тут же около него в кресле. В таком служении, случалось, проходили недели, но она никому не уступала своего места около сына. Она тихо и нежно гладила голову сына и горячо, преданно молилась, отдаваясь вся молитве и прося милосердия Господа. Только под ее лаской и молитвой сын утихал, как бы получал облегчение от боли и более спокойнее засыпал. Если пароксизм болезни принимал острую, опасную форму, она призывала к молитве за сына и других. Веря до конца в силу молитвы и в предстательство других искренних молельщиков, она верила на этой почве и Распутину, и воспитатель Наследника швейцарец Жильяр по этому поводу говорит: «Называйте это как хотите – совпадением, но факты молитвенного общения с Распутиным и облегчения болезни Алексея Николаевича совпадали». Это было результатом не совпадения, а силы веры, веры в простоте душевной и чистоте сердца; веры, которая двигает горами. Эта вера жила в сердцах Государя и Государыни; она несла облегчение сыну и она сохранила его жизнь до общей кончины Семьи. Это не совпадение, а милость Промысла Божьего для искренно верующих в Него до конца.
Но напряжение, которое Государыня выдерживала в периоды болезни сына в служении ему, страшно отражалось на ее собственном здоровье. После выздоровления Алексея Николаевича Государыня подвергалась сильнейшему упадку сил, приковывавшему ее на значительные промежутки времени к кушетке. Она начала быстро стареть; развились сильнейшие сердечные припадки и, так как с каждой новой болезнью Сына Она снова силой воли обрекала себя на полное служение ему, то в конце концов жизнь ее сложилась так: когда сын был болен, она исполнялась громадной энергией, неутомимостью, почти не знавшей границ, исполняла при больном и днем и ночью все обязанности матери, сиделки, прислуга, почти не покидала его комнаты, сохраняя полное спокойствие и заставляя себя улыбаться сыну, дабы не показать ни ему, ни окружающим своего страшного утомления, и поддерживала во всех других бодрость духа и силу веры в спасение больного. В комнату больного ей приносили есть; она сидела у его изголовья и в промежутки облегчения болезненного состояния сына занималась каким-либо рукоделием или читала сыну его книги и книги Священного Писания. Если ей случалось почему-либо в эти дни выходить на несколько минут из его комнаты, то по ее наружному виду встречавшие ее приближенные никогда не смогли бы заключить, что она уже несколько ночей не спала, почти не питалась и несла в себе невероятную муку страданий за любимого больного сына. Только ее чудные, выразительные глаза горели внутренним, неземным огнем, и чудилось в них, что видят они что-то светлое, ясное, что недоступно взору остальных людей; в них горела вера в чудо… В течение дня Муж, вынужденный пересиливать отцовские чувства и отдавать свое время и внимание служению государству, имел возможность заходить к больному лишь на короткие минуты. Зная, как тяжело ему работать с постоянной тревогой и ежеминутным ожиданием катастрофы, Государыня находила в себе достаточно силы, чтобы поддерживать его и укреплять в высоком служении в течение тех коротких мгновений, когда они встречались у постели больного сына. Она считала это своим священным долгом как жены горячо и беспредельно любимого мужа, как страдающей матери страдающего отца и как Богом соединенной подруги носителя Верховной власти Российского государства. Нежностью и лаской окружала она его в минуты его коротких посещений сына и научила тому же всех детей, дабы поддержать его дух и укрепить в служении государственному делу, постепенно все усложнявшемуся внутренней борьбой с влияниями, направленными со всех сторон против Богом врученной ему Самодержавной власти.
Когда, наконец, Наследнику становилось лучше и опасность проходила, по мере возрастания сил у сына силы матери начинали быстро падать, и в первое время после выздоровления Алексея Николаевича Государыня впадала в совершенно болезненное состояние. Начиналось с сильных сердечных припадков, временами принимавших острую форму. В эти дни она не была в состоянии пробыть на ногах и пяти минут и должна была или оставаться в постели, или лежать у себя на кушетке. С течением времени болезнь сердца приняла постоянный характер, и дни, в которые она могла считаться вполне здоровой, стали все реже и реже. Только необычайной силой воли и громадным сознанием долга перед другими она подымала себя и отдавалась благотворительной деятельности, которая особенно увеличилась с началом Великой войны в 1914 году. Составляя с мужем, по силе религиозности, единое тело и единую душу и восприняв всеми фибрами души и разума вместе с Царем величественность и святость русской идеи о государственности, она совершенно логично не могла относиться индифферентно к вопросу ограждения целости и неприкосновенности русской Верховной власти и всею силою своего ума и воли поддерживала мужа в этой великой, исторической борьбе. Будущая Великая Россия, восстановленная в исторических нравственно-религиозных путях Древней и Московской Руси, воздаст должное Императрице Александре Федоровне за ее верное и Христово служение своему мужу и России в тяжелой драме государственной жизни русского народа последних лет. Но современники этой драмы, по слепоте увлечения своими личными эгоистическими стремлениями к власти и «по зависти диаволи», не в состоянии понять чистоты и религиозной законности побуждений, руководивших ею в борьбе с обстоятельствами времени. Ее обвиняли в личном честолюбии, в жажде власти, в увлечении личными симпатиями и антипатиями, в истеричном ханжестве, в ненависти к русскому народу, ко всему русскому и в преклонении перед Вильгельмом и перед всем немецким.
Ни у Государя, ни у Государыни в натуре совершенно не было личного честолюбия или личной жажды власти, особенно в последние годы царствования. Их личные желания сводились к жажде покоя в кругу своей Семьи, в своем очаге, в среде русского народа, но не столичного общества, а в среде простого, русского, крестьянского и христианского народа. Поставленные же Богом для Верховного служения своему русскому народу, для служения на благо ему, как умели и понимали, всеми силами своего разума и сердца, они считали своей священной обязанностью отказываться от личных начал, от личных желаний и отдаваться всецело своему высокому государственному призванию. То, что другими людьми принималось в Государыне как будто бы за проявление ее личных симпатий и антипатий, – то в ее натуре, в ее мировоззрении вытекало совершенно из иных побуждающих импульсов; Государыня никогда не ставила себя в положение «гражданского» советника своего мужа в общественном понятии этого слова или мирского государственного деятеля, влияющего на то или другое назначение лица по качествам и степени его государственных способностей. Государыня всеми силами своей глубокой религиозной и нравственной натуры поддерживала в Государе и старалась укрепить в народе «всея земли» духовность той высокой Божественной идеологии русского народа, которая исторически сложилась в понятии Помазанничества русского Царя. Она была вся проникнута убежденной верой в истинность и святость Помазанничества Царя на русское Царство от Бога. Не только покушение, но малейшее сомнение в святости носившегося ее мужем, ее Государем Помазанничества от Бога представлялось ей не простым земным преступлением, не только государственным грехом, но кощунством против святыни веры, веры своей, веры народа «всея земли». Это не могло быть ни в коем случае результатом какой-либо истеричной религиозности, каковую хотели в Ней видеть злые люди и каковой в действительности не было, или результатом больного, экзальтированного восприятия веры, преданий Церкви. Это являлось следствием сознательного, глубокого и убежденного исповедования веры в Бога. Вспомните тот ужас и раскаяние Царя Давида, когда он отрезал у Саула край одежды и тотчас же сознал, что даже в этом деянии он покусился на Помазанника Господня. Это место в Библии Государыни было несколько раз отчеркнуто и подчеркнуто; видимо, сущность и глубина чистой веры в Помазанничество Господне, выраженные так просто и ярко в этом месте Библии, всецело впитались в мировоззрение и веру Государыни. Поэтому, например, в известном случае с внезапной отставкой генерала Джунковского, решившегося доложить Государю о безобразном поведении где-то в ресторане Распутина, дискредитировавшего своими пьяными словами Державного Вождя Государства, могли иметь значение не будто бы существовавшие симпатии Государыни к Распутину и антипатии к Джунковскому, как гнусно объяснялось это «общественным мнением», а то, что, по вере и мировоззрению Государыни, не мог быть близким к Помазаннику Божьему тот государственный деятель, который сам, хотя бы только в сердце, допускал мысль, что Помазанничество Господне может быть умалено прикосновением чьих бы то ни было грязных рук. Можно не соглашаться с формами правления, со способами проведения тех или других мероприятий, можно судить о человеческих ошибках и слабостях, но нельзя не преклониться перед величественностью, полнотой и чистотой идеи Государыни о Помазанничестве русского Царя, воспринятой ею из всей сущности исторической идеологии о Верховной власти народа «всея земли».
Твердо уверенные, что именно такая идея разделяется в глубине души всем простым народом Русской земли, Государь и Государыня всю жизнь старались приблизиться к нему, стать фактически ближе к крестьянину, к простому русскому человеку, но, быть может, не знали, как это сделать, а вернее. Им не давали этого сделать те, для которых такое сближение Царя с народом было невыгодно и нежелательно в стремлениях к своим эгоистическим целям. Царь неоднократно пытался найти пути к такому сближению, указывал на возможные формы осуществления его идеи, но «общественное мнение» не допускало слияния Царя с народом, прикрываясь архаичностью и «седой стариной» исторических форм воплощения самой идеи и став на пути между Царем и народом. Если кто заслуживает обвинения в нелюбви к русскому народу, так это именно творцы «общественного мнения» и бюрократические царедворцы, а не Государь и Государыня. «Народ хороший, добрый; его смутили злые люди и жиды», – говорил Государь, а Государыня еще в Тобольске, глядя на красноармейцев, заметила: «Посмотрите, как они улыбаются; говорят, они злые. Разве могут злые так улыбаться… Они добрые, хорошие». Могли ли Царь и Царица, претерпев насилие от этих людей, так отзываться о них, если бы искренно и глубоко не любили русский народ?
Но перед чем историческое исследование обстоятельств, подготовлявших агонию Царской Семьи, останавливается с полным недоумением, так это перед разъяснением вопроса: откуда и как могло сложиться в русском обществе мнение, что Государь и Государыня принадлежали к немецкой ориентации и что Императрица Александра Федоровна питала исключительные дружественные чувства к Императору Вильгельму и была готова «предать» ему Россию. В 1-й части настоящего труда было представлено достаточно следственного материала, устанавливающего вполне определенно отрицательное отношение Державной Четы к попыткам утверждения немецкого влияния в России вообще и, в частности, враждебное отношение Государя и Государыни к Императору Вильгельму. Этими данными определяется «общий земский грех» против религиозных начал самой идеологии русского народа и против нравственных обликов Верховных носителей этой идеологии, но историческая правда возникновения этого общего греха пока еще не поддается освещению. Однако факты позволяют думать, что возникновение и первоначальное распространение этой абсурдной, но злой клеветы исходило не из низших слоев населения, а из высших и что в разные периоды царствования Николая II одиозность и интенсивность клеветы имели и разную степень развития. При этом нельзя не отметить, что сила одиозности клеветы совпадала, с одной стороны, с такими событиями, как бракосочетание Государя и Государыни, рождение Наследника Цесаревича и другие факты династического характера, и с другой – с периодами усиления западнических течений в «общественном мнении». Особенно же сильно одиозность клеветы стала распространяться с момента проявления у Наследника Цесаревича опасной наследственной болезни, достигнув своего апогея к концу 1915 года, когда даже такое событие, как принятие Государем Императором на себя Верховного командования армиями, объяснялось стремлением Императорской Четы идти на сепаратное соглашательство с Германией, для чего требовалось прежде всего ликвидировать существовавший будто бы «заговор Ставки», направленный против Императрицы.
Таким образом, в истории происхождения, существования и развития клеветы намечается как бы два отправных, исходных основания: политическое и династическое. По каждому из этих оснований исследование настоящего времени и при современных условиях может высказать лишь некоторые соображения предположительного характера, в связи с тем крайне ограниченным материалом, которым оно ныне располагает.
В записках графа Витте имеются указания на то, что в начале царствования Императора Николая II отношения между ним и Вильгельмом были натянуты, но в начале 1904 года, благодаря вмешательству в это дело самого графа Витте, отношения улучшились, и между обоими Императорами установилась даже «интимная переписка». В равной мере и отношения Императрицы Александры Федоровны к Вильгельму стали тогда тоже «доброжелательными». Вероятно, в то время графу Витте нужны были эта «интимная переписка» и «доброжелательные» отношения для проведения его «мудрого» плана – союза России, Франции и Германии, столь же «естественного», как союз лебедя, рака и щуки в басне Крылова. Но в тоне повествования мемуаров Витте, писанных в 1907 году, т. е. уже в то время, когда граф вынужден был проживать за пределами России, ясно отражается болезненное состояние не крупной души, задетой положением «не в милости». А так как его «мудрый» план потерпел крушение еще в 1905 году одновременно с крушением проводившихся им тогда же в «общественном мнении» западнических тенденций конституционно-парламентского характера, то не явились ли «интимная переписка» и «доброжелательные» отношения основанием к использованию их в клеветническо-лживом смысле, в целях создания необходимого «общественного давления» на власть в наступавшее смутное время. Во всяком случае знаменательно, что отмеченные воспоминания Витте совпадают по времени с учреждением в России некоторого подобия западнических форм в виде Государственной Думы, преобразованного Государственного Совета и Совета Министров во главе с графом Витте и, наконец, с рождением наследника Цесаревича. Таким предположением отнюдь не имеется в виду обрисовать графа Витте как распространителя и единственного источника создавшейся против Государя и Государыни клеветы, но злобное отношение Витте к бывшему Царю и особенно к Императрице Александре Федоровне, сквозящее во всех его воспоминаниях вопреки его заверениям в обратном, не исключает возможности видеть некоторые основания возникновения злостной клеветы в тех сферах, центром которых являлся в свое время бывший Председатель Совета Министров граф Витте. Совершенно допустимо, что став оттуда в превратном толковании достоянием тогдашних «общественных» кругов и различных политических организаций и многочисленных союзов, клевета разрасталась и распространялась в обществе как средство политической борьбы. По свидетельству самого Витте, «все эти союзы различных оттенков, различных стремлений были единодушны в поставленной задаче – свалить существующий режим во что бы то ни стало, а потому многие из этих союзов приняли принципом своей тактики – «цель оправдывает средства» – и для достижения поставленной цели не брезгали действительно никакими приемами, в особенности же заведомою ложью, распускаемой в прессе».
Историческое исследование, отнюдь, не считает приведенные соображения исчерпывающими основаниями для создания и распространения клеветы в политическом отношении, а признает их лишь как за один из путей возможного возникновения в обществе злостной лжи о германофильстве покойной Царской Четы. Во всяком случае, со смертью Столыпина и с началом в 1912 году нового политического брожения, приведшего к перевороту 1917 года, злостная клевета, за исключением небольшого промежутка времени начала Великой войны, не теряла значения политического оружия и постепенно разрасталась до колоссально-фантастических размеров. Достаточно отметить, что ко времени утверждения у власти Керенского и его компании сила клеветы воспринималась с такой реальностью, что Керенский, нуждаясь в укреплении своих позиций, решил конфисковать личные бумаги и переписку Государя, рассчитывая опереться на документальные факты измены Государя и Государыни русскому народу в пользу Германии.
Само собою разумеется, что в переписке Государя Императора он нашел документы для совершенно обратного заключения.
Совпадение моментов усиления вспышек клеветнических толков с различными фактами династического характера не могло не иметь тесной связи с указанными выше соображениями политического свойства, «не брезгавшими средствами для достижения своих целей». Русские бояре-западники, стремившиеся к развитию самосознания русского народа и к приобщению его к мировой культуре, в большей своей массе по своему собственному развитию были способны лишь к усвоению верхушек европейской культуры, к подражанию ей, а не к творческому участию в мировой работе, сообразно национальному духу русского народа. Поэтому для них главным препятствием для осуществления своих мечтаний в России представлялась существовавшая самодержавная форма правления, которая уже отсутствовала на западе Европы; оторвавшись совершенно от всей истории развития русской государственности, от особенностей русского национального духа, они видели единственный путь к достижению цели в свержении самодержавия и в насаждении в России тех или других форм правлений, принятых в Западной Европе. Было бы, однако, ошибочно в интересах исторической правды остановиться на том заключении, что в затеянной политической борьбе бояре-западники действовали только как ослепленные и увлеченные подражатели западноевропейских политических тенденций, но с чистым стремлением послужить на пользу и благо своему народу. Твердое, определенное, самодержавное царствование Императора Александра III ясно им говорило, что народ русский все свои симпатии отдает до сих пор именно такому характеру правления, почему в попытках ломки этой исторической государственной формы бояре-западники сознательно шли против русского народа, против его интересов и симпатий и естественно должны были встретить в его лице определенного врага своим стремлениям к власти над ним.
Раз, что хотя бы для некоторых политических партий борьба допускала возможность идти сознательно против симпатий народа, то цель становилась не общественной, а личной и, как таковая, не брезгала никакими средствами для своего конечного осуществления: ложь, клевета, извращение фактов, подкуп, провокация – все становилось годным и допустимым «тактикой» борьбы. Поэтому с первых же дней воцарения Императора Николая II клевета не замедлила опутать своей сетью весь период этого царствования и начать свою разрушительную работу в глубоких недрах пролетарских классов. Кто не помнит первой петли этой сети лжи и клеветы, заброшенной в общество в начале 90-х годов в виде повести «Семья Обмановых», помещенной на страницах одной распространенной «передовой» газеты? Кто не помнит тех толков и разговоров, которые возникли в кругах петроградского интеллигентного общества по поводу ранения Наследника Цесаревича Николая Александровича в Японии и Которые ранение это ставили в связь с возможностью для него наследовать престол? Кто не помнит тех злостных наветов, которые распространялись по поводу женитьбы Государя до окончания траура по Отцу, хотя всем было известно, что этого потребовал именно умирающий Александр III?
Такая работа клеветы продолжалась и далее, извращая в своих целях каждый факт государственной и семейной жизни Государя Императора Николая Александровича и его жены и создавая, с одной стороны, невероятно тяжелые моральные условия для жизни и служения России Державной Четы, и с другой – предоставляя жадной до различных интриг, толков и пересудов среды придворных и общественных кругов благоприятную почву для возникновения и культивировки многочисленных партий с разнообразными династическими фантазиями и планами, заглохшими было совсем после определенного закона о престолонаследии Императора Павла I, и особенно в царствование твердого волей Императора Александра III. Как было сказано выше, различные династические течения в высших общественных кругах особенно усилились с проявлением у наследника Цесаревича Алексея Николаевича тяжелой наследственной болезни, повлекшей за собой толки о дальнейшем престолонаследии. Хотя основные законы Империи вполне определенно разрешали этот вопрос в пользу Великого князя Михаила Александровича, но какая-то особая болезнь века, определяемая ближе всего «общим Земским грехом», охватившая, безусловно, к тому времени почти все общественные слои России, уже как бы не удовлетворялась общим законным разрешением вопросов, а считала допустимым искать ответа в своих предположениях, в своих планах, создавая династические партии, группы с теми или другими кандидатами на престол или с временными регентами власти. Россия Императорская XX века как бы собиралась вернуться на пути России Царской XVI века – к борьбе княжат-бояр с Верховной властью, поддаваясь искусной, хитрой и тайной провокации, руководимой политической интригой левых партий. К стыду всех умеренных и правых партий, они одновременно вовлеклись и в злостную политическую клевету, распускавшуюся про Царскую Семью, и, быть может, не желая того сами, способствовали ее расширению и утверждению в общественных массах. Достаточно указать, что пресловутый Распутин пал от рук представителей правых партий, которые этим убийством показали, что придают значение злостной и гнусной клевете, т. е. в глубине своего сердца сомневаются в невозможности осквернения Помазанничества Божия.
«У кого совесть чиста, тот не боится никакой клеветы!» Как величественны эти слова Императрицы Александры Федоровны особенно теперь, когда своей мученической смертью Они доказали на деле искренность и чистоту своей веры в святость Верховной власти от Бога, которую не могут снять с себя ни сами «Помазанные», ни тем паче другие люди.
Божьим изволением, всея земли обиранием и Царским сродством определяется в идее русской государственности самодержавная, наследственная, Верховная власть Романовского Дома. Могла прекратиться прямая наследственность, могла «вся земля» отвергнуть свое «обирание» от погибших Царя и Царицы, но Божья Изволения на земле никто лишить не может, кроме Того, Кто его дает.
Идейное одиночество
К тому времени, когда Наследник Цесаревич заболел корью, вся Царская Семья была в сборе и жила в Александровском дворце Царского Села. Вслед за Алексеем Николаевичем, заразившись от Него, заболели Великие княжны Ольга, Татьяна и Анастасия Николаевны, а через три недели, в начале марта, слегла и Великая княжна Мария Николаевна.
С первых же дней болезнь у Наследника и Ольги Николаевны приняла тяжелую форму, и положение обоих внушало серьезные опасения. Особенно же страшно было, как всегда, за Алексея Николаевича, у которого возобновились болевые страдания гемофилии. Государыня, посвятив себя, по обыкновению, обязанностям сиделки при сыне, вынуждена была оставить на время все свои дела по благотворительности, передав их состоявшему при ней графу Апраксину, а в исключительно важных случаях пользовалась для передачи своих личных указаний еще державшейся на ногах Великой княжной Марией Николаевной. Она покидала комнату сына только для того, чтобы навестить на несколько минут больных дочерей, приласкать их и успокоить в состоянии здоровья Алексея. Вся жизнь дома снова погрузилась в то тревожное состояние, которое вызывалось всегда болезнью Наследника, усугубленное на этот раз еще и серьезным болезненным состоянием других детей. Всех детей пришлось совершенно обрить, так как сразу стал ясен затяжной характер болезни, и дом превратился в лазарет с труднобольными, где все ходили осторожно, стараясь не делать шума, громко не разговаривать и не беспокоить больных.
На этот раз душевное состояние родителей отягчалось еще и причинами государственного характера, так как ежедневно поступали сведения о различных беспорядках и волнениях в рабочей среде, о забастовках и беспорядках на фабриках, заводах и железных дорогах, принимавших все более и более широкие размеры. Все это внутреннее брожение сильно отражалось на работе тыла и жизни в столицах и, перекидываясь в войска фронта, начинало вызывать волнения в частях, случаи неповиновения начальникам, создавая напряженное, нервное состояние в утомленных долгой и нерешительной войной войсках. Последнее особенно заботило и беспокоило Государя и Государыню, так как угрожало прочности фронта и могло быть использовано сильным и хитрым противником. Военные бунты в войсках в 1905–1906 годах показали, как легко войсковые части, утомленные войной или неудовлетворенные ее ходом, поддаются агитации, и из грозных и сильных дисциплинированных организаций быстро превращаются в вооруженную толпу без стойкости и прочной внутренней спайки. Правда, что те же случаи показали, что насколько быстро войсковые части дезорганизуются и превращаются в бунтарей, настолько же быстро с них сходит угар возмущений и они возвращаются к своему первоначальному надежному боевому состоянию. Но в данное время войска находились в тесном соприкосновении с искусным и наблюдательным врагом, который не упустит случая внутреннего ослабления армии и постарается сильным, решительным ударом рассеять окончательно фронт и вывести Россию из рядов своих противников. Такой возможный исход начавшихся в войсках беспорядков угрожал целости российской государственности, и перед этой опасностью все остальные угрозы происходивших внутри страны брожений, вплоть до угроз династических, отходили в глазах Императора и Императрицы на второй план.
В угрозы последнего свойства Царь и Царица не верили; они не допускали мысли, чтобы масса крестьянского населения позволила бы увлечь себя настолько, чтобы поднять руку на Помазанника Божья. «Никогда крестьянин и казак не пойдут против своего Царя», – говорили Они убежденно тем из приближенных, которые пытались представить им происходившее политическое движение, как всенародное, антидинастическое. В этом убеждении Они были тверды настолько же, насколько и в православной вере. Все, что происходило до сих пор в России, представляло собою почти точное повторение того движения, которое было в 1905 году, с той разницей, что свобода внутренних мероприятий была связана состоянием войны с сильным и могущественным врагом, от результатов борьбы с которым зависела вся будущность России. Государь и Государыня чувствовали шаткость, существовавшую в придворных и правительственных кругах, и не рассчитывали на сильную помощь с этой стороны, но в то же время Они не допускали мысли, что Государственная дума не учтет всей важности и серьезности переживаемого благодаря войне момента и в критическую минуту, увлекая за собой здравомыслящую часть России, не придет на помощь Верховной власти государства, как это было в 1914 году. «Не народное это движение, – была их мысль, – это все подпольное, партийное, наносное, не свое, не русское». Но движение было опасно уже потому, что утомление войной сказывалось во всем; и в настроении народных масс и войск, и в дезорганизации работы государственных аппаратов, и в расстройстве фабричной и заводской деятельности страны, и в понижении земледельческой производительности, и особенно в ухудшившейся работе транспорта и подвоза. Все это, в связи с утратой активного импульса войны и необходимостью в то же время продолжать войну во что бы то ни стало, вызывало у Государя и Государыни большое беспокойство и тревогу за ближайшие последствия происходивших волнений в стране, в которых лично им угрожавшие опасности не играли для них никакой роли. В эти дни Царь и Царица менее всего думали о самих себе; все внимание их было сосредоточено на том, чтобы Россия не потеряла способности продолжать тяжелую борьбу на западе.
Тревога за сохранение боеспособности Русского государства доминировала в эти дни над всем остальным, даже над опасением за жизнь горячо любимого Сына-Наследника, состояние здоровья которого к 22 февраля приняло очень опасный характер. Трудно представить себе ту душевную борьбу, которую Государь переживал в эти тяжелые дни государственной и личной жизни: борьбу между долгом Царя и Верховного Вождя армии, с одной стороны, и отца и русского человека «всея земли» – с другой. Напрасно «общественное мнение» полагало, писало и кричало, что Царь живет и действует, ослепленный лживыми докладами «временщиков» и честолюбивых царедворцев. Его окружавших; по книгам, брошюрам, вырезкам из журналов и газет, найденным в вещах Царской Семьи во время следствия об Ее убийстве, видно, что Государь и Государыня проникали в текущие политические события и движения несравненно глубже, чем о том думало большинство представителей интеллигенции и общества, агитировавших в массах против Них, или пассивным отношением способствовавших такой агитации. Допрос свидетелей по делу и лиц, остававшихся при Царской Семье до последней возможности, подтверждают это положение и позволяют составить себе приблизительное представление о глубине национальной и личной драмы, которую перенесла русская Державная Чета в последние двенадцать лет своего царствования, и о тех благородно-национальных чувствах, которые руководили действиями Государя и Государыни в дни 22 февраля – 9 марта 1917 года. Теперь, благодаря следственному производству, благодаря остаткам «вещественных доказательств» истинных образов погибших членов Царской Семьи, благодаря начинающим ныне появляться заметкам и воспоминаниям об Августейших Мучениках, а главное, благодаря испытанным на самих себе последствиям нашего «общего Земского греха», мы не можем не сознаться, что в свое время не знали и не понимали покойных Царя и Царицу. Судили же о них или в ослеплении и увлечении «общественным мнением», или с сознательно лживою и злостною целью.
Настоящее исследование не считает себя в силах и средствах оставить для истории России материалы, исчерпывающие обширность и трагизм драмы, пережитой в своей жизни Государем Императором Николаем Александровичем и Государыней Императрицей Александрой Федоровной. Оно пытается лишь осветить хотя бы те из эпизодов этой драмы, которые непосредственно легли в основание исторических фактов, создавших начало агонии Царской Семьи в указанный выше период конца февраля – начала марта 1917 года и приведших Царя к отречению от Престола в пользу своего брата, с заветом ему править Российским государством на конституционных началах. Этой уступкой народным представителям Государственной Думы покойный Император как бы выказал сомнение в той бесконечной, глубокой вере в истинность для русского народа его исторической нравственно-религиозной идеи о власти, ради целости и святости которой он боролся всю жизнь, как и Его предшественники, и ради которой он перенес столько страданий, мучений и клеветы.
* * *
22 февраля было первым днем острой душевной борьбы Государя Императора в период, предшествовавший его отречению; в этот день долг Самодержца Российского государства одержал в нем победу над долгом отца семьи и влечениями личного начала. Но, кроме того, душевная борьба этого дня в яркой и определенной форме показала, что в интересах будущего блага вверенного ему Богом русского народа важность сохранения фронта, важность сохранения боеспособности армии и важность достижения победы во что бы то ни стало, имела в мировоззрении Императора Николая II преобладающее над всеми остальными государственными вопросами значение, не исключая даже вопросов династического свойства. Несмотря на угрожавшее смертью опасное состояние сына, несмотря на болезнь трех дочерей, уже успевших к этому дню заразиться от брата корью, несмотря на серьезность политического брожения в столице при отсутствии сознававшегося Царем прочного единения и должной твердости среди членов правительственных аппаратов, Государь все же решил утром 23 февраля выехать в Ставку, к войскам, к фронту и личным своим присутствием поддержать стойкость в рядах армий, ободрить в усталости от продолжительной войны и удержать от увлечения соблазнами агитации пораженческого характера. В этом решении Государь нашел сильную духовную поддержку со стороны только Государыни Императрицы, которая убежденно разделяла точку зрения мужа на необходимость его присутствия на фронте, в войсках, тогда как все остальные придворные и приезжавшие с докладами из Петрограда министры стремились отговорить Императора от решения оставить Семью и отдалиться от Правительства. Они не понимали истинных побуждений Царя и, исходя из обстоятельств внешнего характера текущего момента, противопоставляли его отъезду: опасность оставления Семьи среди распущенных войск гарнизона, составленного из политически развращенных запасных частей; возможность использования удаления Царя от столицы враждебно настроенной к власти Государственной думой; возможность перерыва сообщений между Царем и Правительством вследствие усилившегося забастовочного движения на железных дорогах и телеграфах.
Государь остался тверд в своем решении. Он указал, что главная опасность российской государственности теперь на фронте, а не в тылу; что переживаемые волнения и настроения исходят не из народных масс, а являются результатом работы политических партий, преимущественно среди городского населения и служилого полуинтеллигента; что это движение наносное, временное; что опасность изнутри может явиться угрожающей для государственности только в случае насильственных революционных выступлений политических руководителей против существующего государственного строя; но что пока он верит в благоразумие Государственной Думы, которая, по своей интеллигентности, не может не учитывать последствий гражданской войны в тылу, при наличии на фронте могущественного и хитрого противника. Поэтому, проведя весь вечер 22 февраля в комнате тихо стонавшего в забытьи сына и трогательно простившись с Семьей, Государь утром 23 февраля выехал в Могилев, где в то время помещалась Ставка.
И на этот раз, как и раньше, глубокие побуждения, руководившие Царем и Царицей не были поняты ни министрами, делавшими доклады, ни приближенными ко двору кругами петроградского света, ни общественными и политическими деятелями столицы. «Общественное мнение» еще раз сочло нужным укорить Государя в слепоте и упрямстве перед «народными требованиями», в безволии и подчиненности властолюбивой Государыне, «ненавидевшей Россию и русский народ». Внешний факт отъезда Государя из Царского Села был истолкован антигосударственной агитацией, как бегство Царя, бросившего на произвол судьбы «умирающий с голода народ» столицы, и 23 февраля впервые «революция вышла на улицы города». Вечером в этот день Министр внутренних дел доносил Государю, что благодаря «успешным усилиям чинов полиции и воинских нарядов манифестации были прекращены».
В настоящее время, при спокойном и беспристрастном анализе всех приведенных выше выражений, помещенных в кавычках, делается совершенно ясным, что эти выбрасывавшиеся в толпу громко звучавшие фразы, с одной стороны, и стереотипные донесения агентов правительственной власти – с другой, совершенно не отвечали действительным фактам и действительному положению вещей в дни 22–27 февраля. Но настоящее исследование не имеет в виду останавливаться на изучении частностей грустной и печальной слепоты и преступности различных правительственных, общественных и политических деятелей этих дней; для него они имеют значение лишь постольку, поскольку ими знаменуется, что в эти решительные дни, когда безусловно определялась судьба всей будущей российской государственности, Государь Император, с одной стороны, не нашел поддержки ни в агентах правительственной власти, ни в кругах столичных придворных и дворянских классов, ни в политических группировках и организациях Государственного Совета и Государственной Думы, ни в командном составе армии, и с другой – безусловно, никто из перечисленных представителей правительства, общественности и политических организаций не проявил мудрости и прозорливости, чтобы предвидеть последствия отчужденности в эти дни русской руководящей, служилой и правящей интеллигенции от Главы Государства, от действительного носителя идей и желаний действительного русского народа.
Государь Император в кругу русской интеллигенции всех классов и положений был одинок. Одиночество это определяется не тем, что политически все были против Него, а тем, что против Него было меньшинство, но меньшинство активное и сплоченное в увлечении западничеством, а большинство было пассивным и разобщенным ослаблением в сознании истинного духа русской национальной идеи. Но в свою очередь и русская интеллигенция не встретила поддержки со стороны народных масс, и в 160-миллионном море русской народности оказалась одиноко торчащим островком, со своими принципами и формами «народу нашему чуждыми и воле его непригожими». С точки зрения идеи государственного единения, русские люди «всея земли» к началу революции распались как бы на три мира разного духовного содержания: Царь, интеллигенция и народ. Как между первым и вторым, так и между вторым и третьим не было. ни внутреннего понимания, ни внутреннего контакта, откуда теперь, рассуждая чисто теоретически, можно прийти к заключению, что для сохранения целости и боеспособности Государства в 1917 году следовало бы искать слияния первого и третьего миров, для чего прежде всего необходимо было, чтобы второй мир прозрел и сыграл ту роль, какую принял на себя Земский собор «всея земли» в 1613 году уже по восшествии на престол Михаила Федоровича. Но так как такое сословие, а не политическое народное представительство, «народу нашему не чуждое и воле его пригожее», представлялось современным руководителям народа из интеллигентных классов «архаическим» и действия их не обнаружили высокого самоотречения для действительного служения на благо народа «всея земли», то благородный порыв самопожертвования и самоотречения, для сохранения хотя бы на время боеспособности фронта и удержания России от гражданской войны, принял на себя Царь, вопреки своей вере и своим убеждениям, но в единственном стремлении пожертвовать всем личным и человеческим в самодержавном служении горячо любимому русскому народу. Если бы Николай II обладал «государственным гением Царя Петра или Иоанна Грозного, то, быть может, ему единолично, как и им, удалось бы справиться с восставшим против него или слишком пассивным «боярством» Его времени. Он был богат теми душевными качествами, которых недоставало Петру и Иоанну, был мудр и прозорлив в чисто русском складе ума и тверд в своем духовном мировоззрении. Но в то же время Он был в полной мере сыном Христовой веры, не мог быть граждански жестоким и верил, что в предназначенной Ему Промыслом Божьим мировой духовно-идейной борьбе может победить окончательно не физическая сила власти, а пример бесконечной любви власти к своему народу, до готовности отдать за него свою жизнь.
Сознание своего идейного одиночества в кругу русской интеллигенции являлось одним из элементов душевной драмы последнего десятилетия царствования Императора Николая Александровича и Императрицы Александры Федоровны. Это идейное одиночество созналось Государем в полной мере со времени опыта сотрудничества с 1-й Государственной думой. Почувствовав в 1905 году потребность в «слиянии с народом» в целях «укрепления Самодержавия», Государь предложил своим министрам изыскать практическую форму осуществления вполне определенного Его желания «при непременном сохранении незыблемости Основных Законов Империи». Во исполнение такого повеления в Министерстве Внутренних Дел был разработан проект о Государственной думе, который уже при обсуждении его в Совете Министров не встретил единодушного решения по характеру своего внутреннего, общего духа, по содержанию. Тогда в целях обсуждения принципиального вопроса Государь собрал Совещание под своим личным председательством, в состав которого вошли Великие Князья, министры, члены Государственного Совета, высшие заслуженные сановники и несколько лиц ученого мира. При открытии Совещания Государь ясно поставил своим приближенным вопрос: что Он от них хочет услышать, выразив его в следующих словах:
«При обсуждении всякого вопроса, а особенно такого важного, высказываемые мнения расходятся в зависимости от взглядов и воззрений. Так, относительно формы осуществления Моих предначертаний многие находят, что проект Министра Внутренних Дел недостаточно широк, другие, напротив, считают, что этим проектом умаляются права Самодержавия, и потому он опасен для России. Первый и главный вопрос по существу: находится ли проектированный новый закон в полном согласии и правильном сочетании с нашими основными законами?»
Из всех ответов, данных присутствовавшими приближенными по этому основному принципиальному вопросу, только ответ графа А. А. Голенищева-Кутузова затрагивал вопрос в глубоких, коренных основаниях его существа и при этом исключительно с точки мировоззрения русского народа «всея земли» и соответствия его историческим основам Русского государства. Все остальные ответы хотя и не показали единомыслия в принципиальном значении нового закона, но не выходили, по существу, из рамок оснований и принципов западноевропейского духа и западноевропейских образцов, совершенно чуждых 90 % населения Русского государства. Но так как известными оговорками и редакционными поправками в проектируемом законе можно было оградить Самодержавие с формальной стороны, то в результате Государь поверил, своим приближенным и Государственная Дума увидела свет.
Первый же опыт практического применения нового закона показал несостоятельность мнения приближенных Государя: Государственная Дума, являвшаяся учреждением по духу и свойствам выборов не исторически русским, внесла только, как предупреждал Голенищев-Кутузов, «несомненно большую, чем ныне, смуту».
Государь увидел, что его приближенные не понимают ни его, ни того, что хочет народ, ни того, чего добиваются так называемые передовые партии. Он почувствовал всю горечь и ужас своего одиночества среди приближенных, а ждать другого отношения со стороны передовых партий, конечно, не приходилось, так как каждая из них хотела только своего, а не того, что хотелось бы народу.
Желания же последнего, равно как и «слияние Царя с народом», могли вылиться только через исторический сословный Земский собор «всея земли».
В 1914 году, с началом великой мировой войны, проявился несравненно болезненнее еще один симптом одиночества Царя и Царицы в кругах интеллигентной части России.
Всем близко стоявшим к правительственным, высшим служилым и общественным кругам в период, предшествовавший объявлению войны, памятны эти дни по той нерешительности, колебаниям и слабости, которыми характеризовались распоряжения и предположения, исходившие от Государя Императора. Вопреки определенным сведениям о принятии Германией «подготовительного к мобилизации положения», вопреки ультимативным требованиям, предъявлявшимся германским послом нашему Министру иностранных дел, Государь, опираясь на заявления, получавшиеся Им от Императора Вильгельма, не решался на какое-нибудь определенное выступление. Шесть раз за период с 12–17 июля мобилизационный план России переделывался соответственно тем колебаниям и переменам, которые получались из Царского Села. Напрасно предназначавшийся на должность Начальника штаба Верховного главнокомандующего генерал Янушкевич по нескольку раз в день при личных посещениях и по телефону докладывал о достоверных сведениях, получавшихся из Германии, и предупреждал о возможности срыва германским Генеральным штабом мобилизации Варшавского округа; напрасно Министр иностранных дел Сазонов докладывал, что представления германского посла Пурталеса ни по содержанию, ни по тону не согласуются с заявлениями Вильгельма; Государь продолжал колебаться, изменять свои решения и упорно не соглашался на объявление общей мобилизации всех вооруженных сил России. Был даже такой случай, когда 15 июля министрам, Сазонову и Янушкевичу удалось убедить Государя подписать Указ об общей мобилизации, но он был отменен в тот момент, когда уже распределялся по телеграфным аппаратам на главном почтамте для рассылки его по всей России. Наконец, по общему соглашению министров, высших придворных и военных начальников было решено оказать на Государя коллективное давление, для чего в 2 часа дня 17 июля в Мариинском дворце собрался Совет Министров в полном составе и было решено, что Председатель Совета отсюда же по телефону доложит Государю о мнении всего Совета о необходимости немедленно объявить общую мобилизацию.
Государь ответил: «Хорошо. Я согласен».
«Прикажете прислать на подпись указ?» – спросил Горемыкин.
«Указ я могу подписать завтра. Считайте, что он есть и делайте все распоряжения», – ответил Государь.
Помня события 15 июля, среди министров возникло предположение прервать на время, до рассылки распоряжений о мобилизации, телеграфное и телефонное сообщение Александровского дворца с Петроградом. Генералу Янушкевичу рекомендовалось покинуть на это время свою квартиру, а генерал Сухомлинов предполагал, что если с новой отменой мобилизации Государь обратится к нему, то он сошлется на то, что это компетенция генерала Янушкевича. Все чины высших военных управлений (в том числе и автор настоящей книги) ликовали по поводу объявления общей мобилизации и предстоящей войны с Германией.
Все эти события, предшествовавшие объявлению мобилизации, с различными заключениями, суждениями и комментариями разносились по городу и воспринимались «общественным мнением» по-своему и в соответственной политической окраске. Можно сказать с уверенностью, что этот период колебаний и нерешительности Царя был крепко учтен «общественным мнением» и впоследствии лег в основание гнусной клеветы, что колебания Царя и особенно влиявшей на него Царицы вытекали все из тех же личных симпатий Державной Четы к Вильгельму и из общих германофильских тенденций Государя и Государыни. Министры встретили полное сочувствие и одобрение со стороны «общественного мнения» в своей твердости и настойчивости перед Царем, а генерал Сухомлинов удостоился даже грандиозной народной манифестации перед балконом занимавшегося им дома. Политические деятели Государственной Думы обменивались крепкими рукопожатиями с представителями правительства и с политическими своими противниками и все весело и торжественно улыбались друг другу и чему-то радовались, как будто для России наступал светлый, радостный праздник. Трудно сказать, чего в политических кругах «общественного мнения» было больше – сознательного патриотизма или расчетливого политического ликования, по крайней мере, в ответ на обращение правительства к народу по поводу мобилизации на страницах некоторых периодических изданий уже 17–18 июля, наряду с громкими призывами к национальному объединению, появились слова и такого свойства: «Хочется верить, что раз правительство в одном вопросе правильно оценило всю роль и значение общественных сил, оно не остановится, и за первым шагом навстречу обществу будут и последующие. При таких условиях налетевший шквал, быть может, неожиданно окажется для России тем потоком свежего воздуха, который очищает затхлую атмосферу и, вызвав национальный подъем, приведет к оживлению нашей внутренней жизни, к развитию и торжеству прогрессивных начал» (СПб. Курьер. 17 июля). «И если, паче чаяния, нам придется воевать, то мы знаем, что воюем не с немецким народом, а с его правительством, попавшим во власть придворных интриганов, юнкерства и бреттеров в военных мундирах» (Рус. слово. 17 июля). Но едва ли и заметки следующего рода способствовали прочности и долготерпеливому напряжению сознательного патриотизма в народных массах: «Германия рискует всем, Россию же опрокинуть невозможно, даже при самом неблагоприятном для нас стечении случайностей. Можно строить разные предположения о том, сколько месяцев продлится война, но о конечном ее исходе нет двух мнений. Этот исход, рано ли, поздно ли, будет очень печальным для Германии. И с этой уверенностью Россия спокойно ждет будущих событий» (Гол. Москвы. 21 июля). «Германия повторила в объявлении войны России тот жест, какой сделала Австрия в отношении Сербии перед войной. Что это значит? Не хотела ли Германия выразить этим, что она смотрит на Россию и уважает Россию не более и не иначе, чем Австрия – маленький славянский народ? Ближайшие недели и месяцы покажут, так ли всепобедителен немец, как он представляется самому себе» (Нов. вр., 19 июля).
Не подлежит сомнению, что объявление войны вызвало в массе русского народа громадный патриотический подъем не только по форме, но и по глубокому сознанию исторической задачи русского народа. За весь мобилизационный период было только три крупных случая беспорядков среди призываемых, но во всех этих случаях движущим импульсом являлось вино, а не какие-либо политические тенденции. Всякие бывшие до объявления мобилизации забастовки и беспорядки на заводах с объявлением ее прекратились сами собой, сразу. Народ русский, рабочий и крестьянский, с поразительным единодушием и верностью отозвался на призыв своего Государя, не задаваясь совершенно мыслями о том, что будет, когда война кончится. Да они и не могли об этом думать, так как каждый шел с готовностью исполнить свой долг до конца, а для всей массы этот конец представлялся определенно – убьют, и потому большинство думало лишь в пределах – умереть не даром, а победить. От многих тяжелораненых первых шести месяцев войны так и приходилось выслушивать вопрос; когда они приходили в сознание: «А что, наши победили?»
С тем же сознанием исполнить свой долг до конца по призыву своего Верховного Вождя отозвался и наш чудный первый комплект служилой военной интеллигенции, а потому он и не задавался вполне правильно вопросом, что будет после войны; «победить» – вот краткое выражение всех их желаний для будущего России. С верою в правоту, с инстинктом великого исторического призвания России они пошли честно умирать за Веру, Царя и Отечество, памятуя лишь о своем долге и чести защищать ту Великую Россию, которая создала им славу быть сынами первоклассной Великодержавной Империи.
Но среди представителей интеллигенции, остававшейся в тылу, для которой долг до конца не определялся большим вероятием неизбежной смерти, уже с первых дней войны проявлялась тенденция заглянуть в будущее. Особенной характерностью по работе мысли отличались суждения как некоторых представителей правительственной власти, так и особенно представителей оппозиционных партий правительства. «За всю многовековую историю России быть может только Отечественная война, только 1812 год равняется по своему значению предстоящим событиям», – говорил членам Думы Горемыкин 26 июля. «Запасы огнестрельных припасов для войны заготовлены согласно расчетам Особого Совещания Главного управления Генерального штаба 1910 года, и дальнейшей потребности в них Главное артиллерийское управление не предусматривало и не предусматривает» – ответ этого Управления 26 июля на запрос Мобилизационного отдела. «Никто не поручится, что война кончится через три месяца» – резолюция генерала Сухомлинова. Лидер партии Народной свободы Милюков счел нужным предпослать своему патриотическому призыву к объединению такое вступление: «Фракция народной свободы неоднократно говорила в Государственной думе о тех вопросах (польский и еврейский), которые были затронуты двумя ораторами, говорившими с этой кафедры. Ее мнение по этим вопросам всем хорошо известно, и, конечно, никакие внешние обстоятельства не могут изменить этого мнения. Когда настанет время, фракция вновь заговорит о них и вновь будет указывать на единственно возможный путь внутреннего обновления России. Она надеется, что, пройдя через тяжкие испытания, нам предстоящие, страна станет ближе к своей заветной цели». «Мы верим, что на полях бранных великих страданий укрепится братство всех народов России и родится единая воля – освободить страну от страшных внутренних пут», – восклицал Керенский. «В международной солидарности всех трудящихся масс всего мира пролетариат найдет средство к скорейшему прекращению войны, и пусть условия мирного договора будут продиктованы не дипломатией, а самим народом», – заявил Хаустов от имени обеих социал-демократических фракций. Польский представитель Думы заявил: «Пусть пролитая наша кровь и ужасы братоубийственной для нас войны приведут к соединению разорванного на три части нашего народа». «У нас много счетов с прибалтийскими немцами, – заявил представитель латышей и эстонцев, – но мы теперь не будем считаться. Когда пройдут грозные тяжелые дни, мы представим эти счета вашему рассмотрению». «Литовский народ, – говорил Ичас от имени литовцев, – забывает все свои обязанности, надеясь увидеть Россию свободной и счастливой после этой войны, и надеюсь, что литовцы, разорванные надвое, будут соединены под одним русским знаменем». «Мы верим, что на неправого, поднявшего меч, падет меч карающий, правого не оставит Господь, и что вся Россия в этот исторический момент, как и в прежние годы, сплотившись вокруг своего Царя, выйдет из этой борьбы неразделенной, нравственной выросшей, обновленной» – слова Протопопова, будущего Министра внутренних дел…
Конечно, все эти частью легкомысленные, частью узко партийные, частью просто личные заключения потонули в то время в море действительно колоссального общего патриотического подъема страны, которым ознаменовалось объявление войны, и хотя, как писало «Новое время», «угроза начавшегося нашествия бесчисленных немецких полчищ неизмеримо опаснее и батыевского набега, и кратковременного наполеоновского вторжения в Москву», но, с другой стороны, «ощущение братской близости с миллионами людей» наполнило «сердце сладким трепетом какого-то великого головокружительного счастья», в котором проявилась «светлая радость наступивших черных дней». Тем не менее приведенные заключения показывают, что в руководящих правительственных и политических сферах как будто отсутствовало глубокое сознание действительной мировой серьезности предстоящей войны и ее возможных последствий. Слова о таковой серьезности произносились, но глубокой сущностью их не жили. Мысль «прежде всего победить, и победить во что бы то ни стало» доминировала не с достаточной силой; наряду с ней все же сильно по-прежнему занимали людей житейские, будничные мыслишки: «Когда война кончится, будем делать то-то и то-то». В этом отношении чувствовалась резкая разница в настроении тех, кто шел на фронт в бой, т. е. народа, и тех, кто оставался в тылу, руководителей всех ступеней и положений. Для первых предел государственной мысли о будущем ограничивался стремлением победить, для вторых за этим пределом намечались и другие виды, расчеты, надежды, не выходившие однако из рамок личных или партийных стремлений и во всяком случае не носившие отпечатка тревожного, грозного предчувствия последствий войны мирового значения. Опираясь на теоретические расчеты, существовавшие до войны и воспроизведенные на страницах почти всех повременных изданий, мнение большинства общества склонялось к тому, что война протянется 3–6 месяцев, после какового срока для одной из сторон наступит такой колоссальный финансово-экономический крах, что в силу только этого обстоятельства борьба прекратится и жизнь начнет входить в мирные рамки. При этом, так как в силу географического положения воюющих сторон тройственное согласие находилось, казалось, в более благоприятном положении, то в тайниках помыслов довольно прочно ощущалось, что окончательный исход борьбы будет более благоприятен для нас, почему общество и не могло в полной мере сосредоточить свои мысли только на победе, а продолжало думать и о том, что делать после нее.
Все мысли Царя были сосредоточены только на одном: победить. Чего бы ни потребовал этот путь – все принести в жертву, чтобы победить, и победить для России.
Душевное состояние Государя в дни, предшествовавшие объявлению общей мобилизации, было ужасным. Он сам охарактеризовал его такими словами:
«Я никогда не переживал пытки, подобной этим мучительным дням, предшествовавшим войне».
О внешнем отражении этой пытки на лице Государя говорит свидетель Жильяр: «Я был поражен выражением большой усталости на его лице; черты его вытянулись, цвет был землистый, и даже мешки под глазами, которые появлялись у него, когда Он бывал утомлен, казалось, сильно выросли. Глаза его горели, как будто у него был жар».
Некоторую завесу на сущность пытки, переживавшейся Царем, приоткрывает С. Д. Сазонов в своей небольшой заметке-воспоминании, помещенной в предисловии к книге Жильяра:
«В тяжелые дни, предшествовавшие объявлению нам Германией войны, когда всем уже было совершенно ясно, что в Берлине было решено поддержать всею германской мощью притязания Австрии на господство над Балканами и что нам, несмотря на все наше миролюбие, не избежать войны, мне привелось узнать Государя со стороны, которая при нормальном течении политических событий оставалась мне малоизвестной…
Я говорю о проявленном им тогда глубоком сознании его нравственной ответственности за судьбы Родины и за жизнь бесчисленных его подданных, которым европейская война грозила гибелью. Этим сознанием он был проникнут весь, и им определялось его состояние перед началом военных действий…
Помимо всех усилий русской дипломатии найти способ предотвратить надвигающуюся на человечество катастрофу путем примирительных переговоров и посредничества, Государь взял на себя почин настоятельных попыток личным своим влиянием побудить Императора Вильгельма удержать своего союзника от непоправимого шага. Он не был уверен в успехе своих стараний, но совесть его их ему предписывала и он повиновался ее голосу…
Он долгое время не хотел произнести решающее слово, необходимое для приведения русских военных сил на степень подготовленности, вызываемую открытой мобилизацией Австро-Венгрии и скрытыми подготовительными мерами Германии. Колебания эти были поставлены Государю в вину и истолковывались, как проявление присущей ему нерешительности…
Люди, близко видевшие его в эти роковые минуты, не согласятся с подобной оценкой. Она фактически неверна и несправедлива по отношению к нему, как к Правителю и человеку».
Хотя в этих словах Сазонова и не исчерпываются все причины душевной пытки Царя в те исторические дни, но в них ясно указывается на те волнения и сомнения, которые были замечены министром при его частых посещениях Государя в эти дни и которые, следовательно, не могли не бросаться в глаза, несмотря на всю сдержанность и замкнутость Царя в своих беседах с приближенными.
Взорам Сазонова открылось глубокое сознание Государем своей нравственной ответственности за судьбы Родины, которой европейская война грозила гибелью.
Во всех ли случаях или только в случае поражения? Это чрезвычайно важный вопрос, так как им определяется та или другая степень душевной пытки, переживавшейся Царем перед решением утвердить общую мобилизацию.
Настоящее исследование отвечает совершенно определенно, что в период душевной борьбы 12–17 июля Государь с полной ясностью сознавал, что в пределах земных причин и влияний общая европейская война во всех случаях будет грозить гибелью Родине. Острота душевной пытки и происходила от сознания такой неизбежности, с той разницей, что при поражении опасность угрожала вообще самому государственному единению России и ее историческому существованию, а победа должна была потребовать такого исключительного напряжения всех материальных и духовных сил страны и подвергнуть нравственные принципы государственного единения такому исключительному испытанию, при котором создавалась безусловная угроза Родине Императора Николая II.
К таким выводам исследование приходит прежде всего по тем соображениям, что в последствиях грядущей европейской войны Государь видел не только ту опасность, которая грозила государству, России, но и тот ужас, который предстояло испытать вообще всему человечеству. Он не мог смотреть на предстоящую борьбу лишь как на колоссальное, но простое столкновение физических и технических сил стран, создающее обыкновенно угрозу существованию только для побежденного. Борьбу эту Он расценивал значительно глубже, в масштабе тех исторических мировых столкновений, следствием которых являлось коренное перестроение ряда стран, независимо от победы или поражения.
«Борьба будет ужасна, чудовищна, и человечество идет навстречу невообразимым страданиям…» – слова Государыни, разделявшиеся, конечно, всецело и Государем. Вот та прозорливость грядущих событий, которая легла в основание глубокого сознания нравственной ответственности за судьбы Родины, которое почувствовал в Государе Сазонов в дни душевной борьбы, переживавшейся Государем. Именно боль и острота такого сознания должны были наложить на лицо Государя, с момента принятия окончательного решения, тот отпечаток постоянной внутренней мысли о серьезности государственного решения, который отмечает в своих воспоминаниях тот же Сазонов и подтверждают другие свидетели: «У Государя был тот сосредоточенный вид, который я замечал у него со времени объявления войны, и без которого я Его уже не видел вплоть до последнего нашего свидания, за месяц до начала революции. Он сильно похудел, и на висках и в бороде появились в большом количестве седые волосы. Оставались по-прежнему приветливый взор прекрасных, унаследованных от матери глаз и добрая улыбка, хотя она и стала появляться гораздо реже».
Государь вполне отдавал себе отчет в том, что Германия, решившись на войну, не остановится ни перед какими средствами, чтобы достигнуть победы, так как для нее вопрос результата борьбы сводился к вопросу «быть или не быть» германскому государственному единению вообще, и под Императорским флагом Гогенцоллернов в особенности. Государь не ослеплялся социалистическим движением, проявлявшимся за последнее время в народах Германии; он знал, что сила национализма немецкого народа в минуту национальной опасности поборет всякие узкие социалистические стремления и весь народ, как один человек, будет до последней капли крови, до последнего пфеннига бороться за свое отечество, жертвуя своим достоянием, женами и семьями на благо будущей Германии. Он отлично знал Вильгельма, знал, что он «способен на всякие низости», но он знал и то, что Вильгельм был ярким представителем своего народа и, что во имя победы «на всякие низости» за Вильгельмом пойдет и весь народ. Отдавая же должное преимущество немцу перед другими народами Европы в стойкости, твердости и способности переносить лишения, Царь не мог не предвидеть, что предстоящая борьба будет «ужасной, чудовищной» и затяжной, а потому другие народы, с более слабо развитым сознанием национализма, будут подвергнуты большим искушениям и испытаниям в принципах своего внутреннего единения. Если кроме того во внутреннем политическом движении в собственной стране Государь умел видеть влияние жидов, то он не мог сомневаться, что мировой пожар, который вызовет европейская война, темные социалистические силы израильского племени не преминут использовать для своих целей, и силы их прежде всего будут сконцентрированы против самодержавной христианской Империи – России. Борьба могла принять характер не только национальный, но и религиозный, и в этом отношении человечество, решаясь на нее, шло «навстречу невообразимым страданиям».
Вот почему во всех последовавших обращениях Государя к своим приближенным, к представителям народа, к народу, в своих приказах, манифестах и указах он всюду усиленно подчеркивает, что победа нужна для сохранения России как государственного единения, что это сознание должно быть поставлено выше всего: «Помните, что без решительной победы над врагом наша дорогая Россия не может обеспечить себе самостоятельной жизни», – писал Государь 31 декабря 1915 года. «Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца», – говорит он в акте об отречении. «Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот изменник Отечеству, его предатель», – обращается Государь к войскам в своем прощальном приказе 8 марта 1917 года. И в то же время во всех своих обращениях он избегает призыва к победе для защиты Престола, сознавая, что «чудовищная» борьба для достижения победы может потребовать, как он потом говорил генералу Алексееву, «исключительных внутренних мероприятий», которые во имя главнейшей цели – спасения государственного единения России – могут потребовать от него принесения в жертву идее спасения престола. Существование у Государя такого «глубокого сознания» подтверждается не только словами, сказанными впоследствии Государыней: «Он всегда был готов от всего отказаться, если бы имел уверенность, что это на благо России», – но и последовавшим его отношением к событиям после переворота. «В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой, признали Мы за благо отречься от престола Государства Российского…» – писал Государь в акте отречения, принося лично себя в жертву победе во имя сохранения целости Российского государства. «После отречении Моего за себя и за сына Моего от престола Российского, власть передана Временному правительству… Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно нашу Великую Родину, повинуйтесь Временному правительству…» – обращался Царь к войскам, когда престол был принесен в жертву победе за Великую Родину. С какой радостью уже в Тобольске Государь читал Наследнику газетные известий о первых успехах наших войск на Тернопольском фронте; по этому поводу в Семье был отслужен благодарственный молебен. Могло ли все это иметь место, если бы интересы Государственности Российской не стояли в сознании Царя на первейшем, исключительном месте и если бы для обеспечения их Он не предвидел возможности принесения в жертву всего остального.
Государь верил, что нравственно-религиозная идея государственного единения не умрет в русском народе. «Все это временное, все это пройдет и народ снова вернется к прежнему», – говорил Он в Тобольске окружавшим его лицам. Это было как болезнь, которая для выздоровления требует временной перемены климата, временного простого перемещения больного из одного места в другое. Поэтому отречение его от престола нисколько не знаменует, что он убедился в необходимости для русского народа конституционного образа правления и перестал верить в святость и величие русской исторической идеи о власти. Он продолжал ее носить в себе до конца, до своей мученической кончины, причем и большинство охранников, окружавших его в Екатеринбурге, продолжали видеть в нем Царя и не могли себя переделать.
Вот те элементы «глубокого сознания» нравственной ответственности за судьбы Родины, которые обусловливали глубину и болезненность душевной драмы, переживавшейся Императором в дни 12–17 июля, в период, предшествовавший объявлению общей мобилизации. Но они еще не исчерпывали полностью всего того душевного состояния Царя в эти дни, которое Он сам определил словом пытка.
Сознавая ужас возможной европейской войны и, главное, страшный риск, которому подвергалась судьба Родины, Царь считал, что его долг как истинного носителя идеи русского самодержавия, как Помазанника Божья и как человека использовать предварительно все средства в своем беспредельном служении на благо Богом вверенного ему народа, для ограждения его будущей судьбы от исключительного искушения и безусловной опасности, которые несла для него европейская война. Во исполнение своего долга до конца он, презиравший Вильгельма, приглашал его быть арбитром в споре между Россией и Австро-Венгрией по Сербскому вопросу и убеждал оказать влияние на Австрию, дабы удержать ее от непоправимого шага. Но в отношениях своих министров и высших военных сановников к принимавшимся им мерам мирного порядка Государь не чувствовал той глубины сознания опасности для России надвигавшейся бури, которым было проникнуто его мировоззрение, и те настойчивость и нетерпение, с которыми добивались вырвать от него необходимый указ, ясно указывали ему на его одиночество и непонимание Его ближайшими сотрудниками тех действительных побуждений нравственной ответственности за судьбы Родины, которые руководили им в эти тяжелые дни. Такое непонимание Царя приближенными в важных случаях государственной жизни России происходило уже неоднократно. Вернее, это было не непонимание, а неточное усвоение глубины побуждающих причин, глубоких исходных начал мысли, мнения или действий Императора, явившееся вследствие того явления, что с первого дня царствования Императора Николая Александровича в обществе составилось о нем мнение, в большинстве случаев совершенно не согласовавшееся с Его действительным обликом, не только как Самодержца-Правителя, но даже просто как человека, семьянина. Поэтому каждый из докладчиков приближался к Царю с заранее закрытой в себе способностью проникнуть в глубину исходных положений мысли Государя и улавливал лишь ту более внешнюю часть побуждающих причин, существование которой допускалось им в натуре Царя по искаженному и предвзятому представлению о нем. Для Царя же это расхождение с приближенными выявлялось не по форме, а по духу и тем болезненнее отражалось оно на душевном его состоянии. В дни же, предшествовавшие войне, кроме того все внутреннее политическое состояние России находилось в таком бурном положении, что возбуждало в душе Царя мучительный вопрос: сможет ли Россия проявить исключительную твердость, стойкость и внутреннюю спайку, дабы выдержать надвигающуюся ужасную внешнюю угрозу, и не только выдержать, но и победить во что бы то ни стало, какой бы то ни было ценой жертв и лишений. И на этот-то важнейший вопрос недостаточно глубокое сознание приближенными грядущих испытаний и искушений менее всего давало ему удовлетворительный ответ, почему чувство своего одиночества в нравственной ответственности за судьбы Родины превратилось в эти дни в мучительную пытку.
«Вы не поверите, как я счастлив выйти из этой ужасной неизвестности», – сказал он Жильяру, когда после объявления войны на обращение к представителям Государственной Думы он получил ответ ее представителя:
«Дерзайте, Государь, русский народ с Вами и, твердо уповая на милость Божию, не остановится ни перед какими жертвами, пока враг не будет сломлен и достоинство родины не будет ограждено». Сразу прекратившиеся беспорядки и забастовки, волна широкого патриотического подъема, непритворно охватившая массы населения, верноподданнические встречи и манифестации в честь Царя всюду, где он ни появлялся, стройность прошедшей мобилизации и порядок, водворившийся в работе тыла и железных дорог, дали основания Царю ухватиться за желанную веру, что народ инстинктом понял его, проникся его сознанием серьезности предстоящей грозы, и что Государственная Дума является действительной представительницей народа, в которой он найдет опору в то неизбежное время, когда остынет первый пламенный порыв массы, когда появятся первые испытания ужасной борьбы и когда потребуется несравненно больше сознательного патриотизма для сохранения нужного государственного единения в целях преодоления грозных препятствий и поддержания в массах силы убеждения, что только победа может спасти страну от политической смерти.
Но уже в 1915 году, через десять месяцев после начала войны, Государю пришлось убедиться, что и Государственная Дума его не понимает, как не понимали его и министры, и в глубине своего сознания не располагает той прозорливостью последствий ужасной борьбы, которой мучился и страдал за Россию ее Верховный Вождь.
Когда, после первых месяцев блестящих удач на Галицийском фронте и упорнейшей, кровавой борьбы с главнейшим противником в Привислинском крае, выяснилось, с одной стороны, очевидность затяжного хода войны, и с другой – необеспеченность по вине агентов. правительственной власти и деятелей общественных организаций армий различного рода предметами боевой потребности, что в совокупности сильно повлияло на падение активного духа особенно внутри страны, Государю, опираясь на заверения Думы в 1914 году, представилось настоятельно необходимым для вызова новой патриотической вспышки общего единения во имя победы слиться снова с народом через его представителей в Думе.
«Да не будет в России на все время военных действий никаких партий, кроме одной партии – войны до конца; никаких программ, кроме одной – победить. От вас история ждет ответного голоса земли Русской», – передал в своих словах Горемыкин собранной Государственной Думе призыв Государя.
«Государь Император ожидает от всех верных сынов России, без различия взглядов и положений, сплоченной, дружной работы для нужд нашей доблестной армии», – повторил за первым тот же призыв генерал Поливанов.
В ответ Государь услышал громкие слова: «У нас есть выход вместо слов доказать нашу любовь и нашу благодарность не словами, а делом» – ценность коих, как сознательных по текущему моменту, совершенно аннулировались для Государя последовавшими за ними комментариями.
Националист граф В. Бобринский пояснил их: «…Если правительство докажет, что оно действительно обновленное правительство, достойное России, то оно найдет полную с нашей стороны поддержку и полное радостное сотрудничество».
Октябрист Н.В. Савич заявил: «Но прежде чем приступить к созидательной работе, надо проанализировать все причины, вызвавшие неблагоприятные условия… Одно из зол нашей государственности состоит в том, что в то время, как мелкие проступки мелких чиновников караются по всей строгости законов, служебные упущения и служебные преступления высокопоставленных лиц остаются безнаказанными».
Прогрессист Ефремов объявил: «Фракция прогрессистов считает, что критическое положение, в которое старая система управления поставила Россию, повелительно требует изменения самого духа государственного управления и призыва к власти министерства национальной обороны, составленного из людей страны, независимо от их партийности принадлежности, ответственного перед народным представительством».
Кадет Милюков потребовал возвращения из ссылки пяти большевистских руководителей (в числе их был и Лейба Бронштейн) и заявил, что «нужна политика власти, не связывающая живых сил народного почина… которые сразу исправят те функциональные расстройства народной жизни, которые теперь вызваны не столько войною, сколько неумолимым вмешательством власти».
Прогрессист-крестьянин Евсеев потребовал закона о пенсиях, о трезвости «на вечные времена», о земельном наделе, о волостном земстве, о подоходном налоге, о наказании виновных, не оправдавших доверия Государя, и о взятии в армию чинов полиции.
Трудовик Керенский настаивал на том, «чтобы сейчас же были предоставлены права нам, демократии, свободно обсуждать все социальные и политические вопросы, связанные с войной. Для того чтобы выйти из создавшегося положения, необходимо все организационные силы, все средства борьбы и внешней и внутренней передать в распоряжение народа».
Все эти заявления, требования и пояснения указывали лишь на одно, что Дума относилась к текущему моменту совершенно так, как если бы война уже кончилась, так как по существу произнесенных заявлений и требований было ясно, что никакое удовлетворение их не поведет к тому настоятельному единению всей страны и всех партий, которое одно только могло обеспечить победу. Для этого надо было прежде всего, как было в 1914 году, полное самоотречение партийных деятелей от своих политических платформ на весь период дальнейшей войны и патриотическое сплочение их вокруг Царя, независимо от тех или других дефектов агентов правительственной власти. В условной же форме, которой проникнут был тон всех думских речей, этой решимости на политическое самоотречение, на способность действительно принести в жертву все ради победы и связанного с ней сохранения государственности России Государь уже не увидел и почувствовал свое одиночество в прозорливости последствий ужасной борьбы и по отношению к Государственной Думе.
Ему не оставалось другого выбора, как через голову своего Правительства и законодательных палат искать осуществления своего слияния с народом непосредственным приближением к войскам и своим личным присутствием среди них вызвать в армиях необходимое для доведения войны до победного конца усиление патриотического подъема. «С твердой верою в милость Божию и с непоколебимою уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посрамим земли русской», – вписал он сам в приказ о своем вступлении в командование армиями 23 августа 1915 года. Этим самым он сознательно связал судьбу своего трона с происходившей борьбой и с полным мужеством и самоотвержением стал на путь осуществления на деле готовности пожертвовать всем во исполнение лежавшего на нем, как на Самодержавном Правителе Российского государства и как на первом Слуге русского народа, долга. В этот день, по существу решения, он вступал в смертельный бой и, как Царь Петр, мог сказать России: «А о Николае ведайте, что ему жизнь не дорога, жила бы только Россия в благоденствии и славе…»
Если этот Его шаг вызвал в тылу, в правительственной, общественной и парламентской сферах самые разноречивые толкования с общим оттенком недоброжелательного к нему отношения, то в армии и народе жертва, принесенная Царем, была оценена инстинктом народной мудрости и сердца в полной мере в положительном значении. Достаточно вспомнить, что державы Согласия после 23 августа 1915 года имели в своем распоряжении еще целых полтора года, в течение которых право рассчитывать на достижение общей решительной победы оставалось всецело в их руках. За это время дух русских армий быстро восстановился и возрос до состояния первых дней войны, что и проявилось в блестящих новых страницах доблести и активности поведения войск в дни апреля – июля 1916 года, ясно отметивших перелом всей тяжелой войны в благоприятную для тройственного Согласия сторону. Где ни появлялся Царь, он всюду встречал светлое и радостное отношение войск и простого русского народа; Он реально осязал благость своего общения с народом и чувство взаимного понимания, и в этом сознании находил силу бороться с той душевной мукой, которую создали ему правительственные, общественные и политические представители интеллигентных слоев русского общества в тылу. Простыми, но глубоко прочувствованными словами он сам охарактеризовал разницу своего душевного отношения к фронту и тылу:
«Вы не поверите, как тягостно мне пребывание в тылу. Мне кажется, что здесь все, даже воздух, которым дышишь, ослабляет энергию, размягчает характеры. Самые пессимистические слухи, самые неправдоподобные известия встречают доверие и облетают все слои общества. Здесь заняты лишь интригами и происками; там же дерутся и умирают за Родину. На фронте одно чувство преобладает над всем – желание победить; остальное забыто, и, несмотря на потери, на неудачи, сохраняют веру…»
Сознательным риском за трон Царь достиг на фронте необходимого единения Государя и народа для достижения победы во имя блага и целости Российского государства. Там пока между Ним и народом не было никого.
Но только… пока!..
Монарх и подданные в Ставке
Выехав утром 23 февраля из Царского Села, Государь прибыл в Могилев, где была расположена Ставка, на следующий день 24-го в 4 часа 30 минут дня. Тяжелое чувство своего одиночества мучительно давило его за всю дорогу. С ним ехали его любимейшие флигель-адъютанты: герцог Лейхтенбергский, Нарышкин и Мордвинов, но они не могли восполнить ему той пустоты, которую так болезненно он ощущал в идейном расхождении с теми, кто был призван помогать ему в руководительстве государственной жизнью России для доведения ее во что бы то ни стало до победного конца. «Он был сосредоточен в себе, молчалив и неразговорчив со своими спутниками», – рассказывал потом покойный генерал Долгоруков, вспоминая эти дни в разговорах с приближенными, окружавшими Царскую Семью в ее заключении. «Он надеялся еще на государственное благоразумие Думы, на способность ее в важные и тревожные минуты жизни освобождаться от влияния отдельных слишком увлекающихся крайних политически-узких вожаков и слепых обобщений промахов в деятельности правительственных агентов. Правда, надежда эта была слаба, но все-таки тогда он еще верил, что Дума серьезно не проявит инициативы в подстрекательстве толпы на революционные опасные выступления. Он вспоминал патриотические объединения Думы с ним 26 июля 1914 года и особенно 21 февраля 1916 года. Он болел за отношения к переживавшимся событиям отдельных ее членов, не могших даже в эти дни общего духовного подъема отказаться от своих партийных вожделений и смотревших на все поступки правительства только с этой своей узкой точки зрения. Но в общем он все же еще надеялся на Думу.
Наконец, он надеялся еще потому, что в конце концов любил бесконечною любовью всех сынов своего народа, над которым он Божьим Промыслом был поставлен Помазанником, а потому и относился к своим подданным прежде всего исходя из побуждений управлять ими не насилием и злобой, а примером всепрощающей и всеосвящающей любви. «Из нас, людей частных, – говорит Гоголь, – возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже поставлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, Государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосновение будет не жестко его ранам, который один может внести примирение во все сословия и обратить в стройный оркестр государство». Посмотрите, как Император Николай II любил свой народ! Посмотрите, как он относится к своим охранникам в Царском Селе, в Тобольске, в Екатеринбурге! Посмотрите, как он относится к своим тюремщикам из рядов его идейных противников, к Макарову, Панкратову, Авдееву, Никольскому! Посмотрите, как он относится к своим идейным врагам по государственной деятельности, к Керенскому, Милюкову, Витте! Слышал ли кто-нибудь от него хотя бы слово порицания, озлобленности, высказанное против кого-либо из своих подданных! «Эту струну личного раздражения, – говорит он Сазонову, – мне удалось уже давно заставить в себе совершенно замолкнуть. Раздражительностью ничему не поможешь, да к тому же от меня резкое слово звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого». Разве это не есть следствие в Государе той любви, которой Помазанник, по выражению Гоголя, «стремит вверенный Ему народ к свету, в котором обитает Бог» и которую из нас, людей частных, возыметь во всей силе «никто не возможет». Гоголя за эти мысли в свое время бояре-западники причислили к безумцам, сумасшедшим, осудили и постарались, как философа, забыть и заставить забыть его и русское общество. Ну а Пушкин не предшествовал ли в том же безумии Гоголю, проникнув в тайну Помазанничества, в высшее значение Монарха, воспевая:
Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты Сходить под тень долины малой, Ты любишь гром небес, а также внемлешь ты Журчанью пчел над розой алой[8]. Нет, он с подданным мирится, Виноватому вину Забывая, веселится, Чарку пенит с ним одну[9].Разве в этих гимнах Пушкина не ясно определен проникновенный духовный взгляд гения – русского поэта на значение Монарха и Помазанника на земле, приближающееся к образу «Того, Который Сам есть любовь». Бесконечная и беспредельная любовь, живущая в пределах от высот небес до алой розы в долине малой; любовь не карающая, а прощающая и потому веселящаяся. «Евгений Степанович! От себя, от жены и от детей я вас очень прошу остаться», – ответил Кобылинскому Государь на просьбу первого отпустить его, когда в Тобольске власть была вырвана из его рук и он стал лишь объектом оскорблений со стороны большевистской охраны. «Вы видите, что мы все терпим. Надо и вам потерпеть». Высшее терпение – это свойство, взращиваемое беззаветной любовью к людям, к человечеству, побеждающее и в конечном результате торжествующее в борьбе идей, духа. Так пределом терпения в беззаветной любви к человечеству первое христианство победило своих врагов и торжествующе засверкало от края и до края земли.
Поэтому и в борьбе с «грехом всея земли по зависти диаволи» Царь, как умел, исходил от начал той же беспредельной любви к своему народу, идеею достижения которой было проникнуто все его существо, как Богом определенного Помазанника русского народа; в проявлении этой любви он был искренно всегда готов отдать свою жизнь за благо Богом вверенного ему народа, «за други свои».
24 февраля вечером Государь получил из Петрограда сведения, что в городе у продовольственных лавок на почве недостачи хлеба были произведены беспорядки, выразившиеся в побитии нескольких стекол в лавках и магазинах, и что волна фабричных и заводских забастовок, широко разлившись, выразилась выходом толп рабочих на улицу, повлекшим за собою несерьезные столкновения с полицией.
Общий характер событий не выходил из рамок уже не раз бывших в столице рабочих манифестаций и хулиганских выходок отдельных представителей городского пролетариата, но Государя взволновало более всего то обстоятельство, что на уличном митинге на Васильевском острове был задержан оратор, студент психоневрологического института Константин Левантовский, с прокламацией: «Долой войну! Да здравствует мир и социал-демократическая республика!» – и что почти такой же призыв раздался из толпы манифестантов на Невском проспекте около 3 часов дня: «Да здравствует республика! Долой войну! Долой полицию!»; так доносила сама полиция. Это указывало уже на попытки каких-то социалистических руководителей использовать уличные демонстрации толпы в своих специальных целях.
Поэтому его поразило ужасом внезапности и преступности отношение к моменту Государственной Думы, когда 25 февраля Он получил известие, что прогрессивный блок Думы принял резолюцию: «Правительство, обагрившее свои руки в крови народной, не смеет больше являться в Государственную Думу, и с этим правительством Государственная Дума порывает навсегда». Это являлось прямым подстрекательством со стороны большинства Думы бунтовавшей толпы на революционные выступления против власти, на вызов этой толпы стать на путь революции. К тому же он получил донесение Министра внутренних дел, что движением рабочих в столице руководит особый революционный социалистический центр, в состав которого вошло значительное число социалистических депутатов Государственной Думы во главе с депутатом Керенским.
Государю стало ясно, что Государственная Дума, увлеченная крайними элементами, выведена из равновесия и уже не способна отнестись к моменту объективно и государственно. Император понимал, что раз в Думе, по тем или другим причинам, восторжествовали партийные начала, то, в силу существующей политической распри между партиями, Дума уже ни при каких обстоятельствах не сможет проявить того единения, которое необходимо не столько для подавления внутреннего движения, сколько для создания на утомленном фронте новой вспышки патриотического подъема сил. Уличное волнение в том виде, как оно происходило 24 и 25 февраля, само по себе не являлось серьезной государственной угрозой, но возглавленное, хотя бы морально, политическими течениями политически разрозненной Думы, оно могло разрастись в опасные внутренние революционные беспорядки с прямой угрозой боеспособности фронта. Раз что в Думе не оказалось мудрой государственной выдержки и своей резолюцией она стала именно на путь своего объединения с уличными волнениями, то Государь, с точки зрения гражданских взаимоотношений, не видел иного выхода, как в перерыве думских занятий и в опоре в дальнейшем на последний элемент государственной мощи – на армию.
В этот трудный и ответственный момент государственной жизни России единственным советником при Государе был его начальник Штаба, генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. Слишком известный, как выдающийся военный авторитет, чтобы останавливаться много на его характеристике, Михаил Васильевич, опытный и решительный в комбинациях и проведении стратегических операций, был чужд политическим движениям и, так же как и Государь, мягок и любвеобилен в вопросах внутренней гражданской жизни. С государственной точки зрения Государя на оценку последствий настоящей войны, Алексеев по своему стратегическому уму подходил к мировоззрению Императора ближе, чем все остальные его советники и сотрудники. Но, так же как и Государь, он в ужасе останавливался перед принятием решений, могших, хотя бы с слабой долей вероятия, угрожать открытию внутренней кровопролитной и братоубийственной распри в то время, когда все силы и средства должны были быть направлены на сохранение боеспособности фронта. Государь и Алексеев, будучи сами по себе идеально чистыми и честными людьми, склонны были видеть те же качества и в окружавших их сотрудниках, слишком доверчиво относясь к честности и благоразумию исполнителей своих предначертаний. Отсюда их колоссальная доверчивость, неумение разбираться в людях и одиночество в идейном творчестве.
Государь, посоветовавшись с Алексеевым, послал Председателю Совета Министров повеление прервать заседания Государственной Думы и Государственного Совета до апреля месяца, но в то же время, побуждаемый, как Помазанник Божий, господствовавшим в нем надо всем чувством бесконечной любви к своим подданным, не был способен принять «гражданские» крутые меры в отношении отпавших от него в грехе по вере соблазнившихся членов Государственной Думы. Он неохотно согласился на представление генерала Алексеева – подготовить к отправке в Петроград, в случае надобности, от северного и западного фронтов по одной бригаде кавалерии, но приказал их не двигать вперед до его личного указания, тем более что военные власти Петрограда не теряли надежды справиться с уличными беспорядками своими средствами, «прибегая к оружию лишь в крайних случаях».
Исходя из религиозного начала русской идеи и мирового предназначения России, Государь глубоко верил, что в текущий период своей жизни Русское государство руководило Промыслом Божьим и, что если в путях Промысла предусмотрено началам любви одержать в возникшей в настоящее время внутренней смуте победу, то никаким человеческим замыслам и побуждениям не пошатнуть в массах русского народа «всея земли» того исторического идеала, освященного Божественным Духом русского Самодержавного Монарха, которого еще не сознанием, а покуда чутьем признает вся Русская земля. Поэтому он не прервал своих отношений с Родзянко и продолжал идти путями своей веры до тех пор, покуда Родзянко не отказался приехать к нему на свидание 2 марта в Псков. Этот отказ, в связи с определившейся к тому же времени позицией, занятой в борьбе идей. высшим командным составом армий, подсказали Его духовному мировоззрению, что как лично ему, так и всему русскому народу Промыслом Божьим предназначены иные, более тяжелые пути испытаний за «общий земский грех» всея земли. Вот о чем он, вероятно, думал, когда заканчивал свою короткую записку Императрице словами: надо быть готовыми в будущем всему покориться.
26 февраля до 4 часов дня уличные беспорядки в столице не возобновлялись, но зато, в дополнение к выступлениям Думы и социалистического центра 25 февраля, Государь получил сведение, что вечером 25-го произошло бурное революционное заседание Петроградской городской Думы, на котором с речами определенно агитационно-антиправительственного характера выступали члены Государственной Думы Шингарев, Керенский и другие. В заседаниях же социалистического революционного центра, при участии также членов Государственной Думы Чхеидзе, Керенского, Скобелева и других, обсуждался вопрос «о наилучшем использовании в революционных целях возникших беспорядков и о дальнейшем планомерном руководительстве таковыми».
Между тем в это же время в Москве все было спокойно; спокойно было и во всех городах вообще всей России. Ясно было, что бунт в Петрограде имеет характер местный, искусственный и что до выступления на арену «революционного творчества» Государственной Думы уличные беспорядки в Петрограде не могли представляться Государю, да и никому из стоявших вне Петрограда, волнением «народным», возмущением «всея земли», угрожавшим целости государства и боеспособности России продолжать тяжелую и страшную по последствиям внешнюю борьбу. Поэтому крайне удручающее впечатление произвела на Государя телеграмма Председателя Государственной Думы Родзянко, посланная им утром 26 февраля и гласившая следующее:
«Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на Венценосца».
Как чужд был дух всего этого обращения Родзянко его же словам, сказанным всего год тому назад после посещения Государем Императором Государственной Думы: «Великое и необходимое благо для Русского Царства, непосредственное единение Царя с Его народом отныне закреплено еще могучее и сильнее, и радостная весть эта наполнит счастьем сердца всех русских людей во всех уголках земли русской». Здесь народу «всея земли» из стен Государственной Думы прогремело одно из близких его сердцу и духу начал его великой идеи — привет непосредственному единению его, Помазанника Божья, с народом, и всем сердцам народ на фронте откликнулся на этот привет могучей вспышкой своего единения и самоотвержения в славные боевые дни апреля – июля 1916 года. Теперь же жалко трепетала «гражданская» идейка европейского единения «во имя спасения животишек», «народу нашему чуждая и воле его непригожая». Телеграмма Родзянко подтверждала только Царю мысль, что революционное движение идет не снизу, не из народа «всея земли», а сверху, из того страшного морального растления, в которое впали все круги петроградского правительственного, придворного, общественного и политического света. Испытание, ниспосланное России великой войной, оказалось прежде всего не по плечу ее руководящим сферам. Выявлялось то, чего так опасался Государь в период, предшествовавший объявлению войны, – интеллигентные слои не имели в мыслях и сердцах последствий ужасной европейской борьбы во всяком случае ее исхода и жили текущей минутой и текущими житейскими побуждениями. Теперь следовало ожидать, что некоторые члены Государственной Думы, увлеченные ненавистью к существующему самодержавному режиму и к отдельным представителям правительства, используют уличные волнения в столице в целях оказать политическое давление на законную власть и вызвать ее на государственные уступки «фальсифицированному общественному мнению».
Вечером 26 февраля из совокупности донесений военных и правительственных агентов власти Государь увидел, что среди военных начальников Петрограда нет должного единения как между собою, так и с администрацией города, а агенты правительственной власти проявляют признаки полной гражданской слабости и стремление поддаваться влиянию общих политических тенденций думских революционных агентов. Государь в этот вечер долго беседовал с Михаилом Васильевичем Алексеевым, и с уверенностью можно заключить, что именно за эту ночь в нем вполне определились те пути его действий в последующие дни, которые исходили из духовных побуждений и принципов мировоззрения Царя, руководившего им в течение всей его жизни, и особенно в период со времени начала этой последней грозной и ужасной европейской войны. Прежде всего движимый чувством бесконечной любви к своим подданным и помня благие результаты уже бывших примеров, он надеялся, что личная его встреча с Родзянко и другими членами Государственной Думы удержит их от опасного политического увлечения текущего момента и объединит как прежде для совместного изыскания выхода из наступившего тяжелого фазиса упадка духовных сил страны на приемлемых и понятных для народной идеологии началах. Поэтому он решил вернуться в Царское Село, о чем и сообщил Императрице, членам правительства и Председателю Государственной Думы, который, по-видимому, заверил Царя, что выедет к нему навстречу. Смотря на все развертывавшиеся события с точки зрения сохранения государственного единства России и возбуждения ее духовных сил для доведения войны до победоносного конца. Государь в предстоявших изысканиях выхода из создавшегося текущего момента предусматривал возможность изменения порядка образования исполнительного правительственного органа, что и высказывал как генералу Алексееву, так и генералу Иванову. Но понимая, что конституционные тенденции русского интеллигентного общества совершенно не разделяются историческим мировоззрением народа «всея земли», Он допускал найти почву для примирения двух сталкивающихся течений общественной и народной идеи в сохранении инициативы государственного шага за собой, как за Помазанником Божьим, стоящим в чувстве народной массы не только выше всякого своего подданного, но и выше всякого земного закона, управляющего жизнью всего Государства. Государь мог смотреть на этот шаг не как на умаление своей самодержавной власти, освященной Помазанничеством Божьим и врученной его предкам народом «всея земли», а как на новый путь теснейшего единения с народом в тяжелую годину жизни, постигшую землю его народа. И вылиться шаг этот мог не в форме западноевропейских хартий гражданских конституционных взаимных обязательств, а как следствие безграничной любви Помазанника Божия к своему народу, с одной стороны, и как сознательное нравственное обязательство избранников «всея земли» служить всемерно и всепокорно Самодержцу Русской земли на благо и пользу народа «всея земли» – с другой. В Своем Помазанничестве от Бога он так ясно чувствовал отчужденность идей народа от западноевропейских идей руководителей общественной мысли в Петрограде, что даже 2 марта, узнав о самочинном объявлении Председателя Совета Министров князя Львова, Он, страдая за последствия этого антинародного шага руководителей, и движимый чувством любви к своему Отечеству, поспешил утвердить своей властью это незаконное назначение, пытаясь удержать справедливый гнев народа, который неминуемо должен был разразиться над отпавшими от его мировоззрения узурпаторами власти. Но было уже поздно, народ простить не мог…
Руководясь указанной основной идеей изыскания путей для разрешения тяжелых событий момента, Государь естественно отказался от подавления петроградского движения силами извне, так как это должно было неизбежно привести к внутренней вооруженной борьбе, к возможности развития гражданской войны и как следствие этого к ослаблению боеспособности фронта. Мысль такого способа действий была противна всему его пониманию своего служения народу, а потому доводы окружающих о необходимости прибегнуть к вооруженной силе, о вызове для сего надежных частей с фронта не находили у него отголоска, что и послужило причиной обвинения его в нерешительности, в фатализме в поведении этих дней. Это не был фатализм; это была глубокая покорность перед Промыслом Божьим и безропотная вера в благость и мудрость его в вопросе возникшей внутренней идейной борьбы. Его выбор генерала Иванова, человека мягкого и миролюбивого по натуре, в качестве Главнокомандующего Петроградским военным округом, подтверждает эту точку зрения Государя. В личных указаниях, данных в двух беседах с Ивановым, Царь ознакомил генерала со своим желанием разрешить политические вопросы мирным путем и с необходимостью избежать «междоусобицы и кровопролития в тылу фронта». Беспокоясь лишь, в частности, за безопасность своей Семьи, оказавшейся слишком близко к вооруженному мятежу в Петрограде, Государь разрешил двинуть часть предназначенных с северного фронта войск на Царское Село, куда указал прибыть и генералу Иванову. Трагизм начинавшейся агонии Императора Николая II заключался в том, что он в эти тяжелые дни оставался непонятым лицами, Его окружавшими, как это было и во всей его государственной жизни. Все требовали от него теперь, руководясь идеями и образцовыми примерами западноевропейских народов, изменения существующего порядка организации исполнительной правительственной власти, в целях юридического ограничения его самодержавной власти, а Он, побуждаемый высокой любовью, исходившей из его Помазанничества, искал путей для удовлетворения предъявленных к нему требований, в целях морального усиления своего слияния с народом «всея земли», в духе и форме исторических идей своего русского народа. Он действовал, как имущий власть от Бога; от него же ждали поступков и решений только как от Царя – гражданского Правителя; или уступи, или карай силой, если можешь. Он же мог вести свой народ в исторической миссии Помазанничества от Бога только по путям заповедей Того, к Кому по смыслу идеи государственного единения стремится чутьем русский народ «всея земли» – к Христу.
За эти дни своего пребывания в Могилеве, и особенно за день 27 февраля, Государь имел возможность почувствовать, что и в кругу его высшего военного штаба существует тот же гражданский взгляд на его самодержавие, как и в интеллигентных сферах Петрограда; и здесь от него ждали или уступок конституционного характера, или решительных действий военной силой, опирающихся на верные части, находившиеся на фронте. В течение этого дня Государь получил телеграммы от Великого князя Михаила Александровича, Председателя Совета Министров князя Голицына, Председателя Государственной Думы Родзянко и группы выборных членов Государственного Совета. Все эти представления был», в сущности, одинаковыми по содержанию и характеру, и все они заканчивались указанием на необходимость создания нового кабинета министров на парламентских принципах, с установлением ответственности кабинета перед Государственной Думой, иначе говоря – на необходимость дарования России конституции. Совершенно больной и утомленный за день генерал Алексеев хотел послать Государю телеграмму князя Голицына просто с офицером. «Но я сказал генералу Алексееву, – пишет в своих воспоминаниях бывший в то время генерал-квартирмейстером генерал Лукомский, – что положение слишком серьезно и надо ему идти самому; что, по моему мнению, мы здесь не отдаем себе достаточного отчета в том, что делается в Петрограде; что, по-видимому, единственный выход – это поступить так, как рекомендуют Родзянко, Великий князь и князь Голицын; что он, генерал Алексеев, должен уговорить Государя…», и далее: «Я сказал, что если Государь не желает идти ни на какие уступки, то я понял бы, если б он решил немедленно ехать в особую армию (в которую входили все гвардейские части), на которую можно вполне положиться; но ехать в Царское Село – это может закончиться катастрофой».
«Ехать Государю в Царское Село опасно», – сказал генерал-квартирмейстер генералу Воейкову. Мог ли Государь перед опасностью, угрожавшей России, остановиться в Своем христианском служении русскому народу из-за опасности, которая могла угрожать Ему лично? В своем безграничном служении на благо и пользу «всея земли», связав теснейшим образом Свою судьбу с исходом ужасной мировой борьбы идей, мог ли Он думать о Себе, о сбережении Себя, Своей жизни, когда обстоятельства грозно выдвигали смертельную опасность для будущей судьбы России, врученной его охране и ограждению Всевышним Творцом в путях его Божественного Промысла? Высказанные генерал-квартирмейстером мысли не принадлежат вовсе только одному генералу Лукомскому; так же мыслили в то время все мы, те же мысли разделялись и всем высшим командным составом армий, быть может за очень малым исключением тех единичных старших начальников, которые ушли в отставку тотчас по отречении Государя от престола и по переходе власти к Временному правительству; таких было едва ли более десятка человек. Все же остальные были, безусловно, солидарны с мнением генерала Лукомского и носили в себе ту же исключительно гражданскую точку зрения на своего «Помазанника Божия».
Совершенно логично и естественно, что при сложившейся обстановке и выяснившихся взаимоотношениях Царя с его приближенными, Государь стремился вернуться назад в Царское Село. Все существо его в этих ужасно и резко проявившихся условиях идейного и духовного одиночества жаждало поддержки, укрепления, которые он мог найти только у Государыни, его понимавшей, с ним же вместе страдавшей за Россию и с ним же готовой «отдать жизнь на благо и пользу» России. Он стремился туда, чтобы разрешить важнейший вопрос минуты, вопрос острой необходимости своего теснейшего слияния с народом в исторических путях идеологического мировоззрения «всея земли», руководясь исключительным чувством любви, присущей высокому значению русского Монарха. Он стремился к очагу своей духовной силы, чтобы в среде своей исключительной по религиозности Семьи найти укрепление воли и духа и довести свое христианское служение на благо вверенному ему народу до конца.
* * *
Выступление Государственной Думы на «революционном творчестве» началось не 27 февраля, как объявлялось Временным правительством в его декларации, и не вследствие получения указа о перерыве заседании. Сформирование Временного исполнительного комитета было как бы официальным актом революционного выступления Думы, а указ являлся лишь официальным поводом, чтобы оправдать это выступление. В действительности же историческое исследование не может не учесть, что члены-руководители политическим настроением Думы стали на путь «революционного творчества» значительно раньше и практически проявили это уже 25 февраля в заседании городской думы и в том центральном социалистическом органе, из которого 27-го родился совет рабочих депутатов. Подготовительная же работа к такому выступлению на поприще «революционного творчества» началась еще раньше, и в 1915 году некоторые из членов Государственной Думы (Шингарев, Демидов) приезжали на фронты зондировать в штабах почву, как отнесутся войска к подобным выступлениям. Таким образом, можно полагать, что события 27 февраля – 2 марта застали определенную группу членов Государственной Думы не неподготовленной и не случайно «выбранной революцией», как выразился Милюков, а заранее уже преднаметившей как задачи своего «революционного творчества», так и примерный план его осуществления. Попытка достижения своих задач в начале 1916 года эволюционным порядком не увенчалась успехом, как вследствие естественного опасения конституционалистов Думы сотрудничества в своих задачах с социалистами, так главным образом по причине глубоко народного выступления Государя Императора в Государственной Думе, увлекшего чистотой, искренностью и любовью, исходившими от Помазанника Божия, еще сохранявшие благоразумие и сердечность элементы Государственной Думы. Поэтому теперь в стремлении «свергнуть старый режим» конституционалисты заблаговременно объединились с социалистами и, следуя за последними, вопреки своим желаниям, вынуждены были в течение одного дня 27 февраля скатиться с злонамеренного, но любезного им эволюционного пути на чуждый и тернистый для них путь революционный. Их интересам вовсе не отвечало стремление Государя действовать по побуждениям сердца в путях русской народной идеологии и, зная хорошо обаятельное влияние Помазанника Божия на массы, они прежде всего не желали допустить приезда его в Царское Село и его нового, непосредственного соприкосновения с народной массой в том образе, какой он сохранял, хотя бы и через своих собратьев по Государственной Думе. Так как в новом порыве слияния с народом они видели безусловное повторение крушения своих вожделений, и так как в деле понуждения Государя отказаться от своего образа Помазанника во время нахождения его в Ставке они потерпели полную неудачу, то теперь для «спасения своих животишек» им не оставалось ничего другого, как отказаться от своих эволюционных убеждений и, последовав за социалистами, стать на путь «революционного творчества» для утверждения конституционной России.
Вот что официально и совершилось в Государственной Думе утром 27 февраля и что проявилось в создании к трем часам дня Временного исполнительного комитета «для установления в столице порядка и для сношений с учреждениями и лицами».
Но чистого, официального «революционного творчества» у конституционалистов Государственной Думы хватило только на эту более чем скромную задачу. В дальнейшем на революционном поприще, как уже указывалось, они столкнулись с самостоятельным революционным творчеством социалистов и испугались; испугались их в свою очередь и умеренные социалисты, так как, вызвав «народную революцию», ни те ни другие не были в конце концов уверены, за кем пойдет сам народ — за «старым ли режимом», за конституционалистами, за социалистами или за теми, кто поведет народ по пути лжи в бездну. Конституционалисты всех оттенков, как более умные и европейски образованные, сразу поняли опасность дальнейших чисто революционных путей и необходимость как можно скорее остановить революцию, но, будучи исторически и органически европейскими язычниками, они не в состоянии были отказаться от своих созданных людьми божков и вернуться к русской власти от Бога, а потому и стали на ложные пути прекращения революции через обман и хитрость, как указывалось выше. Кроме того уже вечером 27-го, под неприятным впечатлением опасности снизу, в лагере так называемого думского прогрессивного блока, состоявшего из конституционалистов и умеренных республиканцев, проявился определенный партийный раскол, и каждая из партий стала отпираться от инициативы в избрании революционного пути. Вопрос этот до сих пор остается между ними объектом споров и нареканий, хотя все причастные партии могли бы, казалось, всецело утешиться, подобно Милюкову, и по европейской поговорке – «faire bonne mine au mauvais jeu» – подписаться под его выводом: «Мы не хотели этой революции. Мы особенно не хотели, чтобы она пришла во время войны…», но «каково бы ни было ее происхождение, мы ее приемлем, ибо с ней пришла развязка – ликвидация той старой России, против которой мы боролись всю жизнь, и которая привела Россию к катастрофе». Эти слова были сказаны в 1921 году; грустно и больно за этого сына старой России, той самой старой России, которая по исторической правде создала величайшую мировую Российскую Державу:
«Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
Глава III
Императрица. Подвиг. Арест
По отъезде Государя в Ставку жизнь в Александровском дворце в этот день как бы замерла. Государыня Императрица не выходила из комнат Алексея Николаевича и Великих княжон и сношения свои с внешним миром вела или через Великую княжну Марию Николаевну, или через дежурного камер-лакея. Даже фрейлины старались ее не беспокоить, а в исключительных случаях поджидали ее в коридоре, когда она переходила из комнаты наследника в комнату дочерей. Теперь, после отъезда мужа, по выражению ее лица стало заметно, что разлука с мужем в настоящее время для нее страшно тяжела; к мучениям за Россию, за сына прибавилось еще беспокойство за Царя, и она неоднократно осведомлялась, нет ли от него каких-либо известий. Приближенные, получавшие сведения о ходе событий в столице в течение 23 февраля из различных источников, не решались что-либо ей говорить, не желая усложнять и без того ее тяжелого душевного состояния. Она провела весь вечер и всю ночь, не засыпая, у изголовья сына, который большею частью был в забытьи, а приходя в сознание, тихо шептал одно слово: «Мама». Она наклонялась над ним и молча, нежно гладила его голову. Ребенок, видимо, верил в целительное свойство ее ласки и цеплялся за нее.
На другой день по отъезде Государя, т. е. 24 февраля, по телефону из Петрограда позвонил Министр внутренних дел Протопопов и поручил подошедшему к телефону дежурному камер-лакею Императрицы Волкову доложить Государыне, что в Петрограде начались беспорядки на почве недостачи хлеба и что хотя между толпой и полицией произошло несколько столкновений, но он, Протопопов, рассчитывает справиться с волнением и не допустить ничего серьезного.
Известие это взволновало Императрицу неожиданностью недостачи хлеба в столице, и особенно тем, что, миролюбивая по натуре, она страдала всегда за всякую кровь, пролитую во внутренних беспорядках. Поэтому она просила министра пояснить его сообщение и напомнила ему, что Император всегда желает сдержанности в действиях со стороны полиции против невооруженной толпы. Протопопов доложил ей дополнительно, что виновниками событий являются социалисты, которые в целях вызвать рабочих и чернь в столице на революционное движение вели сильнейшую агитацию среди мелких железнодорожников, чем вызвали нарушение правильного подвоза к столице продовольственных продуктов, что и повело к недостаче в городе хлеба. Далее министр сообщил о бурных заседаниях, происходящих в Государственной и особенно в городских Думах, о том, что с трибуны последней депутаты требовали отставки Председателя Совета Министров Штюрмера и, что речи, произносимые в обеих Думах, не способствуют успокоению народа, а поддерживают и подстрекают его на расширение волнения в революционное антиправительственное движение. Однако он успокаивал Государыню, что никаких напрасных кровопролитий не допустит и что войскам приказано прибегать к оружию только в крайних случаях.
В этот же день из Петрограда приезжал гофмейстер граф Бенкендорф и доложил Императрице, что буйства черни и беспорядки в Петрограде руководятся лицами не из среды большинства Государственной Думы, а из особого революционного центра, образовавшегося из социалистических элементов с присоединившимися к ним некоторыми представителями от запасных войсковых частей Петроградского гарнизона.
За этот день состояние здоровья Наследника Цесаревича постепенно ухудшалось; появилось осложнение болезни у Великой княжны Ольги Николаевны, и Государыня должна была напрячь всю силу воли, чтобы держаться на ногах и помогать обоим серьезно больным. Она ни с кем не делилась своими впечатлениями о политических событиях и в напряженном ожидании ждала каких-нибудь известий от мужа, так как сообщение Протопопова об участии в движении железнодорожников заставило Ее опасаться за благополучное следование Императорского поезда.
Вечером от Государя Императора была получена короткая телеграмма, в которой он сообщал о благополучном приезде в Могилев и спрашивал о состоянии здоровья детей.
25 февраля сведения об общем ходе событий в столице были доставлены Государыне опять-таки графом Бенкендорфом. Протопопов сообщил лишь через камер-лакея Волкова, что им арестован Петроградский городской голова Толстой за допущение в стенах Думы явно революционных речей. В этот день Государыня имела разговор по прямому проводу с Государем, причем к аппарату подходила Великая княжна Мария Николаевна. Государь подробно расспрашивал о состоянии здоровья детей и сообщил Императрице, что им издан указ о перерыве заседаний Государственной Думы по причине того, что часть ее социалистических депутатов примкнула к создавшемуся в Петрограде революционному комитету и поддерживает с ним теснейший контакт, принимая в его собраниях деятельное участие.
26 февраля утром Протопопов доложил Государыне через Волкова, что «дела плохи» – горит Суд, толпа громит полицейские участки и пытается освобождать Преступников из тюрем. В течение дня в Александровском дворце стекались со всех сторон сведения, одно тревожнее другого; привозили их разные частные лица и знакомые приближенных. Стало известно, что волнение уже начало захватывать центр города и что войска, которые были привлечены для поддержания порядка, оказывали лишь слабое сопротивление. Между прочим уже в этот день во дворце были получены известия, что Дума решила не подчиняться полученному указу о перерыве заседаний и приступила к организации исполнительного комитета в целях восстановления порядка в столице.
Государыня относилась ко всем этим сведения мужественно, не проявляя ни малейшего страха. Когда Волков доложил ей как слух, что даже казаки в Петрограде волнуются и готовы изменить. Она ответила ему спокойно: «Нет, это не так. В России революции быть не может. Казаки не изменяют». В этот день, по показаниям свидетелей, «состояние здоровья Алексея Николаевича значительно ухудшилось» и Государыня всею силою своей воли борола в себе страдания, вызывавшиеся политическими событиями, чтобы скрыть от Детей переживавшиеся Ею муки и не ухудшить Их здоровья волнениями за Родителей.
Рано утром 27 февраля Председатель Государственной Думы Родзянко вызвал к телефону командира сводного Его Величества полка генерал-майора Ресина и просил его немедленно доложить Государыне, что положение в Петрограде сильно ухудшилось и столица фактически находится в руках революционеров. Возбуждение толпы, подстрекаемой какими-то агитаторами, направлено особенно остро против Царской Семьи, и толпы черни решили двинуться на Царское Село, дабы разгромить Александровский дворец. Родзянко просил Государыню немедленно покинуть дворец и увезти детей хотя бы в Гатчино. Вместе с тем он просил доложить Императрице, что под давлением обстоятельств Дума была вынуждена выделить из своей среды под его, Родзянко, председательством Временный исполнительный комитет, дабы власть в столице не закрепилась окончательно за революционным комитетом, руководящим уличными беспорядками.
Угрожающие дворцу и Семье сведения, по-видимому, не испугали Императрицу. Она спокойно выслушала доклад до конца, а заключительную его часть приняла с облегченным удовлетворением. Пришедшему в это время к Наследнику Цесаревичу Жильяру она, обычно никогда не делившаяся с посторонними своими настроениями, не удержавшись, и как будто с оттенком внутренней радости, сказала: «Дума показала себя на высоте своего положения. Она, наконец, поняла опасность, которая угрожает стране, но я боюсь, не поздно ли». Что же касается до совета Родзянко о немедленном выезде Семьи из Царского Села, то она поручила передать ему, что положение Наследника Цесаревича столь серьезно, что перевозка его грозит почти наверняка смертельным исходом.
Родзянко еще раз подтвердил существование самой серьезной угрозы Александровскому дворцу со стороны необычайно возбужденной вином и грабежами черни и добавил, что «когда дом горит, то детей выносят».
Почти одновременно с докладом Родзянки Императрица получила короткую телеграфную записку от Государя, в которой он сообщал, что приедет в Царское Село на другой день, 28 февраля, в 6 часов утра и что Им для приведения столицы в порядок назначен генерал Иванов. Это известие о скором приезде Царя придало Государыне на предстоявший Ей тяжелый день много внутренней силы. Она радостно сообщила эту неожиданную новость детям, и в ней заметно прибавилось бодрости, несмотря на утомление от предшествовавших четырех бессонных ночей, проведенных у постели больного сына, связанных с мучительным беспокойством за жизнь Алексея Николаевича и за последствия происходящих внутренних волнений для России.
Она не могла тогда предчувствовать, что эта записка от Государя будет последним словом от него впредь до его отречения.
Между тем в течение этого дня в самом Царском Селе началось волнение. Из Петрограда приезжала масса пьяных солдат, дезертировавших из разложившихся уже там войсковых запасных частей, и разносила по городу самые разноречивые сведения, подмывая местные пролетарские элементы на погром магазинов и лавок. Собиравшимися в разных частях города толпами черни было разграблено несколько винных складов и погребов, а когда к революционному угару прибавился и угар винный, толпы народа бросились избивать полицию и отдельно встречавшихся офицеров. В казармах местных запасных войск появились агитаторы, прибывшие из Петроградского совета рабочих депутатов, которые подстрекали солдат не слушаться офицеров и идти вместе с толпой громить Александровский дворец, они же сообщили, что из столицы с этой целью идет 8000 революционеров с пулеметами и броневыми автомобилями.
Бунт принимал обширные и чрезвычайно тревожные размеры. Части тех же запасных войск, вызванные в помощь полиции, или отказывались от активных действий, или даже примыкали к буянившей толпе. Многие, сохраняя оружие, просто разбегались из казарм и рассеивались по городу, прячась по разным притонам и дожидаясь, по-видимому, наступления темноты и прибытия революционных войск из столицы. Во второй половине дня пришедший во дворец из военного лазарета доктор Деревенько принес известие, что все железные дороги Петроградского района заняты революционерами и что не только Семье нет возможности выехать куда-либо из Царского Села, но едва ли сможет приехать даже Государь Император.
К сумеркам погода испортилась: набежали тучи, поднялся резкий ветер и крупными хлопьями повалил снег. Вместе с сумерками и приближением темноты в городе стали раздаваться одиночные ружейные выстрелы, постепенно все учащавшиеся; наконец, часам к 9 вечера ружейная и революционная трескотня стала почти несмолкаемой. Во дворце по телефону получились известия, что 1-й стрелковый запасный полк, убив своего командира полка, подстрекаемый неизвестными агентами, восстал и вышел с оружием и пулеметами на улицы; к нему примкнули запасные пешей артиллерии, толпы местных буйствовавших в течение дня рабочих, разного праздного и темного люда, и вся эта масса вместе с прибывавшими в течение всего дня из Петрограда пьяными и разнузданными грабителями, хулиганами и солдатам и двинулась по направлению к дворцу с целью разгромить его.
Государыня весь день не выходила из комнат больных детей, а придворные старались не беспокоить ее получавшимися различными сведениями-слухами в надежде, что многое преувеличивается и что местными властями будут приняты достаточные меры, чтобы оградить Царскую Семью от непосредственной опасности. Но известие о движении ко дворцу вооруженной толпы бунтовщиков, превышавшей в общем десяток тысяч человек, вызвало среди придворных страшную тревогу, и фрейлина баронесса Буксгевден направилась к Императрице, чтобы доложить ей о неминуемо надвигавшейся грозной опасности, угрожавшей всей Царской Семье.
Как раз в это время Государыня вышла в коридор, направляясь из комнаты наследника в комнату дочерей.
В этот же момент получилось известие, что передовыми партиями бунтовщиков убит часовой Императорской охраны всего в 500 шагах от ограды дворца.
Государыня, стоя в коридоре, выслушала краткий доклад баронессы Буксгевден и, не отвечая ни слова, быстро пройдя через залу, где собрались придворные, подошла к окну, из которого открывался вид на ограду дворца и на улицы, радиусами подходившими к ней из города.
Все эти улицы были запружены вдали темною массою шумевшего народа, озарявшегося временами какими-то факелами. Оттуда доносился сплошной рев не то какого-то пения, не то просто криков многотысячного пьяного люда. От этой толпы отделялись отдельные люди и партии, которые доходили уже почти до самого выхода улиц в дорогу-аллею, окружавшую ограду, причем из передовых рядов слышна была ругань и брань по адресу дворца и его обитателей. Издали доносились выстрелы, переходившие в частую стрельбу и сплошную трескотню, и ясно было по звуку, что стрельба довольно быстро приближается в темноте ко дворцу.
Как раз в этот момент на глазах Императрицы генерал Ресин во главе двух рот Сводного Его Величества полка, составлявших личную охрану Августейшей Семьи, спешно занимал для обороны ограду дворца. К нему торопились с одной стороны матросы части Гвардейского экипажа под начальством Мясоедова-Иванова, а с другой – небольшая горсть конвойцев Его Величества и люди запасной конной батареи под командой полковника Мальцева. Люди рассыпали густую цепь вдоль ограды, заряжая на ходу винтовки и распихивая по сумкам и карманам полученные только что патроны. По спокойствию и хладнокровию солдат, с которыми они готовились к бою, было видно, что настроение всей небольшой группы войск, собравшихся на защиту Царской Семьи, твердое, решительное и верное своему долгу до конца. Но, с другой стороны, было ясно, что горсть людей в 400–500 человек не сможет сдержать напора озверевшей многотысячной пьяной толпы силою оружия, тем более что толпа эта лезла со всех сторон, почти кругом облепляя дворец и примыкавший к нему сад.
Ужасное, кровавое столкновение, казалось, было неминуемо.
Стрельба и рев зверей-громил все усиливались… Толпа быстро приближалась…
В зале дворца царила гробовая тишина. Все замерли в тревожном напряжении ожидания предстоящего ужаса. Все сознавали, что сопротивление охраны будет отчаянным, геройским, но… лишь временным избавлением от того невероятного ужаса, который должен был произойти, когда толпа ворвется внутрь дворца.
Никто не знал, что делать, как спасти Семью от расправы озверевшей черни…
Императрица решительно повернулась от окна. Вид ее с высоко поднятой головой был поразительно величествен, и на лице, отражавшем все следы перенесенных за свою жизнь и за эти последние дни страданий, дышало исключительное по мощи мужество и ясность. Глаза, окинувшие медленным взором всех окружавших ее в зале, горели чудным выражением глубокой веры и поразительным, исходившим от них спокойствием…
На фоне клокотавшей за окном грозы бушевавшей черни все поняли, что стоят сейчас перед каким-то незаметным по величию подвига и долга событием, которое совершит в истории русского народа эта Императрица, мать и православная женщина…
Государыня позвала Великую Княжну Марию Николаевну и старика графа Апраксина и в том же домашнем платье, как была, с открытой головой, быстрым, но спокойным шагом пошла к выходу из дворца туда, к ограде, к готовым к бою солдатам.
Не обращая внимания на надвинувшуюся толпу обезумевшего народа, не могшего не видеть ее в эту минуту, она мужественно и спокойно пошла по рядам солдат, нежно успокаивая их, но настойчиво умоляя не проливать крови своих братьев, не обострять внутренней вражды, внутренней смуты из-за нее, из-за ее детей и Семьи. Она убеждала договориться с восставшими и остановить этим братоубийственную войну.
Она говорила громко и властно и в то же время спокойно и нежно. В эти бурные минуты жизни Русского государства Она открыла себя будущему русскому народу, показав величие Супруги русского Самодержца, знание психологии своего народа, мужество, и отвагу сильнейшего героя и бесконечную доброту и мягкость русского женского сердца.
В рядах взбунтовавшейся толпы и верной охраны оказалось достаточно людей и руководителей, достойно оценивших величественный подвиг Императрицы. Их горячие, пламенные, патриотические речи здесь же, перед воротами дворцовой ограды, их страстный призыв к чести человечества, к благоразумию и чувству сердца подействовали на массу, и возбуждение толпы постепенно улеглось. Стороны договорились и установили нейтральную зону.
Страшная драма не совершилась; братская кровь не пролилась.
Минутная агония Царской Семьи растянулась на 17 месяцев.
Императрица вернулась к себе. С прежней спокойной выдержкой, как будто ничего сейчас ею не было пережито, обошла больных детей, успокоила и обласкала каждого и затем стала пытаться выяснить, где находится Император.
Но все было напрасно; никаких определенных сведений Она получить не смогла. Все отвечали ей, что местонахождение поезда неизвестно.
Государь как бы исчез вместе с Императорским поездом.
С этого момента душевное и волевое напряжение Императрицы превысило ее силы. Воли еще хватало на то, чтобы не показывать окружающим своего страдания из-за неведения о месте нахождения Государя, но наедине с собой она, вероятно, уже не была в состоянии бороться с внутренним чувством беспокойства за участь мужа и сильно плакала, так как приближенные впервые стали замечать на ее лице заплаканные глаза и следы слез.
Только что пережив безусловно смертельную опасность, угрожавшую ей и детям со стороны взбунтовавшейся черни, Государыне, естественно, прежде всего представлялись различные ужасы, которым мог подвергнуться Император во время своего пути из Могилева в Царское Село. Ответы, полученные ею на попытки выяснить, где Царь, как бы подтверждали опасения ее за его жизнь, а тогда, с его смертью, России угрожала бы, по ее мнению, безусловно гражданская война в тылу, которая, конечно, отразилась бы так или иначе на войсках фронта, а следовательно, на всей будущей судьбе Российского государства. Разделяя всецело историческую точку зрения своего мужа на идею государственного единения русского народа, являясь его духовной силой в борьбе последних лет за целость, неприкосновенность и святость идеи, она тем не менее никогда не позволила бы себе принять без Государя какие-либо политические или административные меры того или другого направления, почему ко всем прочим терзаниям присоединялось еще, вследствие неизвестности о судьбе мужа, мучение от сознания бессилия помочь ему в наступившую серьезную минуту, когда, возможно, решалась судьба всей России. Как и Государь, она сознавала опасность всех совершавшихся внутри России движений главным образом с точки зрения влияния этой опасности на сохранение боеспособности государства и вместе с тем, так же как и он, чувствовала и понимала кроме того, что революционные беспорядки заключали в себе угрозу и специально династического свойства. Однако в этом последнем отношении в ней больше всего страдали чувства жены к мужу; здесь, кроме горячей, преданной любви ее к нему, затрагивалось и ее ревнивое отношение к мужу, как к земному отражению религиозного выражения идеи Помазанника Божия. В этой духовной сфере своего мировоззрения Она безусловно способна была принести в жертву не только себя, но и детей, и все, что было в ее средствах и силах, лишь бы оградить его и послужить ему до конца…
Не дождавшись утром 28 февраля Государя, Императрица послала просить прийти к ней князя Павла Александровича.
С Павлом Александровичем у Их Величеств были дружественные отношения до его женитьбы. Он бывал у них часто, запросто, как член семьи. Но женитьба его на Пистолькорс испортила их отношения. Супруга Павла Александровича не была принята ими, почему и Великий князь перестал посещать Их Величества. Однако потом отношения улучшились, и Павел Александрович снова стал приходить один. Но затем, со времени убийства Распутина, Великий князь опять перестал бывать, так как Государыня отказалась принять его, ибо, хотя он и не участвовал непосредственно в убийстве, но о предстоящем участии в нем своего сына знал и не удержал его.
Теперь невероятное беспокойство за судьбу Государя заставило Императрицу забыть все прошлое, и она обратилась к Великому князю. Павел Александрович приехал тотчас же, но ничего определенного сказать о Государе тоже не мог; ему было известно лишь, что Император выехал из Могилева, но на станции Дно поезд был задержан и направлен обратно, кажется, на Могилев. Павел Александрович сообщил Государыне кроме того, что политическое положение настолько серьезно и опасно что, пожалуй, только немедленным дарованием конституции можно еще предотвратить падение династии.
Но что было пользы говорить об этом Государыне? Для нее все сосредоточивалось на одной мысли – где теперь Государь, что с ним? Без него она была ничто. В нем для нее был и бесконечно любимый муж и отец ее детей и бесконечно почитаемый Венценосец ее религиозного мировоззрения. При нем она могла быть громадной духовной силой в борьбе с «завистью диаволи», без него – она ничто. Она в эти дни чувствовала и понимала свое страшное одиночество и переживала в нем все муки, одновременно постигшие ее: болезнь детей, опасное состояние сына, революцию вокруг трона, звериный рев черни вокруг семьи и полное неведение о судьбе мужа. «Мука Императрицы в эти дни смертельной тревоги, – говорит свидетель Жильяр, – когда без известий от Государя она приходила в отчаяние у постели больного ребенка, превзошла все, что можно себе вообразить. Она дошла до крайнего предела сил человеческих; это было последнее испытание, из которого она вынесла то изумительно светлое спокойствие, которое потом поддерживало ее и всю ее Семью до дня их кончины».
В таком мучительном состоянии прошли дни 28 февраля и 1 марта. Только в середине 2 марта к Государыне пришел обер-гофмаршал Бенкендорф и доложил ей, что из Петрограда получены сведения о добровольном отречении Императора, за себя и за сына, от престола в пользу Великого князя Михаила Александровича. Императрица, опасаясь, что эти известия являются лишь плодом слухов, снова послала за Великим князем Павлом Александровичем, который подтвердил ей доложенное Бенкендорфом и сообщил некоторые подробности, сопровождавшие отречение Императора в Пскове.
Государыня не поверила в добровольность отречения. Она знала по себе, что в их жизни важные решения вынуждаются не всегда грубым физическим насилием, а и умышленно-преднамеренным поведением окружающих, подчеркивающих остроту сознания и гнета ужасного идейного одиночества. Она понимала, что в такую жестокую обстановку мог быть поставлен и Царь; она понимала, что он должен был к тому же все время ощущать смертельное беспокойство за участь ее, за участь своей Семьи, находящейся во власти взбунтовавшейся черни. Ей вспомнился этот кошмарный, грозный вечер 27 февраля, когда она тоже оказалась одинокой, хотя и была окружена доброжелательными людьми. А он?.. Он был в эти дни совершенно одинок и даже ее с ним не было.
Отчаяние Государыни превзошло все, что можно себе представить. Но ее стойкое мужество не покинуло ее даже теперь. Она сверхчеловеческой силой воли подавила в себе свое страдание и, как всегда, отдала все свое время служению своим детям, ничем не выдавая перед ними своего состояния, чтобы не обеспокоить их, так как больные ничего не знали о том, что случилось со времени отъезда Государя в Могилев, в Ставку. За эти дни она сильно похудела и состарилась, но наружно сохраняла спокойствие и выдержку; лицо ее побледнело и заострилось, глаза лихорадочно горели, но в них видны были следы частых слез; видимо, она у себя наедине много и горько плакала. Приближенные, желая выказать ей свои симпатии, пытались облегчить ее страдания теплыми и сердечными словами, но она, указывая на распятие Христа, отвечала им:
«Наши страдания – ничто. Смотрите на страдания Спасителя, как Он страдал за нас. Если только это нужно для России, мы готовы жертвовать и жизнью, и всем».
3 марта, наконец, Государыня получила от Государя из Пскова короткую записку, в которой он сообщал ей о своем отречении, прибавляя, что надо быть готовыми в будущем всему покориться.
Последнего тогда Государыня не поняла; оно стало ясным ей через пять дней. Но в общем его записка ее несколько успокоила, так как она узнала, что он жив и, следовательно, вернется к ней. Она горячо молилась в последующие дни и терпеливо ожидала мужа.
* * *
Утром 8 марта в Александровский дворец приехал командующий войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенант Корнилов, в сопровождении лейб-гвардии Петроградского полка полковника Евгения Степановича Кобылинского и личного адъютанта прапорщика Долинского.
В приемную комнату к прибывшим вышел обер-гофмаршал граф Бенкендорф, которому Корнилов сообщил, что он прибыл во дворец по поручению Временного правительства, что необходимо собрать всех лиц Свиты, проживающих сейчас во дворце, и просил доложить Ее Величеству просьбу принять его, генерала Корнилова, и полковника Кобылинского.
Через 10 минут пришедший дежурный камер-лакей доложил, что Государыня Императрица ждет, и повел генерала Корнилова и полковника Кобылинского на детскую половину дворца. При входе в первую же комнату генерал Корнилов увидел Императрицу Александру Федоровну, выходящую из противоположной двери ему навстречу. Ее никто не сопровождал. Генерал Корнилов и полковник Кобылинский остановились и поклонились. Государыня, подойдя к Корнилову, протянула ему руку для поцелуя и кивнула головой незнакомому ей Кобылинскому.
Когда камер-лакей вышел, генерал Корнилов, обращаясь к Императрице, сказал:
«Ваше Величество. На меня выпала тяжелая задача объяснить Вам постановление Совета Министров Временного правительства, что Вы с этого часа считаетесь арестованной. Если Вам что нужно будет, пожалуйста, заявляйте через нового начальника гарнизона, – и он указал рукой на полковника Кобылинского, – которому подчиняется новый комендант дворца штабс-ротмистр Коцебу».
Затем Корнилов приказал Кобылинскому: «Полковник, оставьте нас вдвоем. Сами идите и станьте за дверью».
Полковник Кобылинский вышел.
Тогда генерал Корнилов пояснил Государыне, что настоящее мероприятие вызвано печальной для Правительства необходимостью удовлетворить требование общественного мнения и крайних элементов. Он просил Государыню не беспокоиться, заверяя ее в преданности и такте полковника Кобылинского и в надежности охраны, которая будет назначена для содержания караулов и охраны дворца и Царской Семьи. В заключение он доложил, что Император вернется во дворец вечером на следующий день. После этого Корнилов позвал Кобылинского, представил его Императрице, и оба откланялись. На прощание Государыня протянула руку обоим и, кивнув им, с доброй улыбкой пошла во внутренние покои.
К своему аресту Государыня отнеслась как к вполне естественному и ожидавшемуся ею последствию отречения императора от Престола. Она сразу вспомнила предупреждение Царя в его записке из Пскова и поняла, что именно к этому надо было приготовиться и принять покорно, как и все то, что еще может последовать в дальнейшем. Она поняла, что и эти люди, которые во все царствование мужа боролись с ним за власть и ныне заставили его отдать им ее, сами оказались без власти, без возможности противостать какому-то давлению, которое может заставить их предпринять относительно Царской Семьи еще и другие меры, помимо их воли, помимо их сил. Она почувствовала во всем этом, и в минувшей их борьбе, и в отречении Царя, и в ее аресте, и во всем, что еще предстояло им перенести, Промысел Божий, а не злую волю людей, и поняла, что так должно было быть по воле Его, ее Бога, Всезнающего и Мудрого.
Это чувство, глубоко проникшее во все ее существо, значительно облегчило ей страдания всех предыдущих дней и наполнило ее душу исключительной по религиозности ясностью и светлым спокойствием. Это отразилось сейчас же на ее отношениях ко всем окружающим, которые и почувствовали какой-то величественный покой и мир, как бы исходившие от нее.
Она, видимо, была рада, что для тяжелого дела ее ареста был назначен именно генерал Корнилов, а не кто-нибудь ей не известный. Государь и Государыня были очень высокого мнения о Корнилове, считали его хорошим и честным человеком, исключительным патриотом и героем и доблестным генералом русской армии. В данном случае в Корнилове она видела как бы лицо Временного правительства и была благодарна ему за честность признания своего бессилия, выраженного в мотиве ее ареста. Эту благодарность, создавшуюся в ее душе. Она не смогла не выразить в словах, обращенных к Жильяру, сейчас же по уходе от нее Корнилова:
«Дал бы Бог им (членам Временного правительства) справиться с тяжелой задачей. Народ добрый и хороший, но его подняли сейчас злые люди, пользуясь его «простотой и утомлением от войны».
Но более всего она была обрадована сообщением Корнилова о скором возвращении Императора – значит, его не разлучат с ней, с Семьей. Она считала, что теперь настало время сообщить обо всем происшедшем детям и предупредить их о скором возвращении отца. Самое трудное для нее в этой задаче было говорить о всем наследнику Цесаревичу; Он был еще ребенком, был так привязан к отцу, что невольно мог вывести ее из необходимого спокойствия и она, потеряв сдерживающую силу воли, могла разрыдаться как женщина, как мать, а это сильно взволновало бы больного и могло ухудшить его состояние. Вместе с тем Государыня понимала, что Император вернется в тяжелом душевном состоянии, а потому ей хотелось подготовить ему в среде детей тот семейный уют, покой и ласку, которые облегчили бы Государю перебороть страдания пережитых дней и ужас отречения от престола. Поэтому тотчас по уходе Корнилова она позвала к себе Жильяра и, сообщив ему об ее аресте, добавила:
«Император приезжает завтра, нужно предупредить Алексея, нужно сказать Ему все… Не возьметесь ли Вы сообщить ему, а Я пойду к дочерям».
Вот как рассказывает сам Жильяр о своей беседе с Алексеем Николаевичем.
«Поздоровавшись с Цесаревичем, я сказал ему, что Император завтра возвращается из Могилева и больше не поедет туда.
“Почему”? – спросил удивленно Алексей Николаевич.
Потому, что Ваш Отец не хочет больше командовать армией, – ответил я. Это известие сильно взволновало Его Высочество, так как он любил ездить с отцом в Ставку и проводить время там среди собиравшихся к нему мальчиков его возраста. Выждав некоторое время и дав ему несколько освоиться с первым известием, я продолжал:
“Знаете, Алексей Николаевич, Ваш отец не хочет быть больше Императором”.
Он посмотрел на меня удивленно, желая прочесть на моем лице, что могло случиться. Тогда я, поясняя, добавил ему, что Император очень устал и последнее время у него было слишком много всякого рода неприятностей и затруднений.
«Ах да! Мама говорила, – ответил Цесаревич, – что его поезд был арестован, когда он ехал сюда. Но после папа будет опять царствовать?»
Я объяснил ему, что Государь отказался от престола в пользу Великого князя Михаила Александровича, который также отказался в свою очередь. Я пояснил, что в Петрограде образовалось Временное правительство, которое будет временно управлять страною до созыва Учредительного собрания, которое выскажет мнение народа, и тогда, быть может, Великий князь Михаил Александрович будет избран Царем и вступит на престол.
Он слушал меня чрезвычайно внимательно, видимо, хорошо понимая происшедшую перемену, сильно волновался и весь раскраснелся, но ни слова о себе не спросил.
Я еще раз убедился в скромности этого мальчика, никогда в тяжелые минуты Семьи не думавшего о себе».
Нельзя не отметить здесь слов из показаний госпожи Битнер о Наследнике Цесаревиче:
«Я не знаю, думал ли он о власти. У меня был с ним разговор об этом. Я ему сказала: “А если Вы будете царствовать?” Он мне ответил: “Нет, это кончено навсегда”».
Очевидно, что это убеждение Алексея Николаевича было внушено ему родителями и служит ясным показателем глубокой честности Отца и Матери, доведших принятое на себя обязательство до конца, даже в воспоминании Сына.
* * *
Генерал Корнилов, выйдя от Императрицы, прошел в приемную комнату, где были собраны все наличные чины Свиты, проживавшие во дворце, и, поклонившись всем общим поклоном, сказал:
«Господа, вот новый комендант. С этого момента Государыня, по постановлению Совета Министров Временного правительства, считается арестованной. Кто хочет остаться и разделить участь арестованной, пусть остается. Но решайте это сейчас же. Потом во дворец уже не впущу».
Здесь присутствовали: статс-дама Нарышкина, фрейлины графиня Гендрикова и баронесса Буксгевден, гоф-лектриса Шнейдер, обер-гофмаршал граф Бенкендорф, заведовавший благотворительными делами Государыни граф Апраксин, командир Сводного Его Величества полка Свиты генерал-майор Ресин, лейб-медик Их Величеств доктор Боткин, врач наследника Цесаревича доктор Деревенько и наставник наследника Цесаревича Петр Жильяр.
На слова, обращенные генералом Корниловым к свитским, генерал Ресин тотчас же заявил, что он уходит. Все остальные пожелали остаться и разделить участь арестованной.
Генерал Корнилов объявил, что в 4 часа дня ворота дворца закроются и произойдет смена частей личной охраны революционными войсками. После 4 часов дня все оставшиеся во дворце чины Свиты будут…считаться арестованными и будут подвергнуты тому же режиму, который будет установлен его инструкцией для Августейшей Семьи.
Когда сведения о предстоящей смене достигли Сводного полка, полковник этого полка Лазарев не выдержал и разрыдался перед полком. Он выпросил у генерала Корнилова разрешение пойти проститься с Государыней, а затем, не переставая рыдать, вынес знамя Сводного полка из приемной комнаты дворца в казармы. Большинство офицеров и солдат этого полка плакало и заявило, что готовы по первому слову Государыни защитить Ее. Так как настроение этих доблестных охранников приняло несколько повышенное состояние, то сочли нужным доложить об этом Государыне, которая по телефону передала полку, что он должен безропотно подчиниться распоряжениям Временного правительства и честно служить до конца на благо Родины.
Инструкция, утвержденная в этот день генералом Корниловым и устанавливавшая режим для заключенных, ограничивала свободу сношений Августейшей Семьи с внешним миром. Корреспонденция должна была проходить через руки коменданта дворца. Дворец и парк, к которому примыкал дворец, оцеплялись полевыми караулами. Из дворца члены Августейшей Семьи могли выходить только в парк; гулять в парке разрешалось с утра до наступления темноты. Никаких других ограничений инструкцией генерала Корнилова не устанавливалось. Вмешательство чинов новой комендатуры и охраны во внутренний распорядок жизни Семьи, кроме вышеуказанного ограничения времени выхода из дворца, инструкция генерала Корнилова не допускала.
В 4 часа дня, после смены частей охраны, генерал Корнилов уехал из дворца и закрывшиеся за ним дворцовые ворота замкнули на веки вечные свободу Августейшей Семьи Государя Императора Николая Александровича Романова.
Драма духа. Отречение. Арест
Отъезд Государя из Могилева 27 февраля задержался первоначально сношениями с Петроградом и необходимыми беседами с генералами Алексеевым и Ивановым, а когда, наконец, около 9 часов вечера Император потребовал, чтобы поезд Его был отправлен не позже 11 часов вечера того же дня, Ставка заявила, что по техническим причинам поезд можно отправить не раньше 6 часов утра 28 февраля.
В Петрограде вечером 27 и ночью на 28 февраля шли переговоры между Думским временным исполнительным комитетом и советом рабочих депутатов об условиях, на которых совет соглашался уступить прерогативы власти Думскому Комитету, дабы устранить опасность двоевластия. Хотя окончательное соглашение было достигнуто только к утру 2 марта, но уже на первом совещании выяснилась необходимость устранения Императора Николая II.
Действительно, поезд Государя был отправлен из Ставки в 6 часов утра 28 февраля. В это время комиссаром и распорядителем движения на железных дорогах уже был назначен Временным Комитетом член Государственной Думы А. А. Бубликов, которому подчинились все железнодорожные служащие линий Петроградского района и указания которого в точности исполнялись с утра 28 февраля. Вследствие этого и движение поезда Императора оказалось во власти распорядителей Временного комитета.
Столкнувшись с революционным творчеством социалистов, почувствовав, что распропагандированные пролетарские массы столицы по импульсу низменных инстинктов не только не пригодны, но даже опасны для проведения мало-мальски организованной революций в масштабе ограничения ее в рамках изменения самодержавного строя в конституционно-монархический, к чему только и стремились руководители «цензовых» партий прогрессивного блока, конституционалисты всех оттенков Государственной Думы, как было указано, отказались от дальнейшего проведения своих целей революционным порядком. Но от достижения своих целей они не отказались, а наоборот, представившаяся им опасность возможности развития революции в крайнем социалистическом и даже просто в анархическом направлении заставила их прийти к убеждению, что их долг спасти теперь революцию от этих крайностей, которые слишком очевидно угрожали способности России продолжать внешнюю войну, и остановить анархический ход революции сохранением за собой во что бы то ни стало руководительства событиями. Нельзя не признать, что положение, в котором оказались восставшие против Помазанника земли русской бояре-западники, было ужасно, а потому нельзя не поверить искренности Милюкова, который говорил, что «власть берется нами в эти дни не из слабости к власти». Но нельзя и не признать, что основанием этого положения являлось отступничество русских европейцев-язычников от своего Бога, от «Бога земли русской»; за решение остаться отступниками до конца, за этот свой грех они и понесли заслуженную кару.
Хотя необходимость устранения Императора Николая II была принята как будто всеми конституционалистами, но, как говорит Шингарев, «только исполнение этого решения затягивалось». Затягивалось, во-первых, потому, что, оказавшись перед действительным лицом народной революции», значительная часть бояр-западников боялась этой меры, которая могла не остановить революции в желательных для них пределах, а углубить ее в пользу социалистов, и, во-вторых, по причине того, что, вернувшись к эволюционному порядку достижения своих целей, конституционалистам надо было добиваться добровольного отречения Императора от престола и добровольного изменения им самодержавного строя государства. А так как попытка их добиться этого письменными представлениями в течение 26 и 27 февраля не только не имела желательного для них результата, а, напротив, могла привести к возможности создания для Царя почвы для нового слияния его с народом, то перед ними стал вопрос о необходимости добиваться своих вожделений путем личных переговоров с Государем, которых бояре-западникн также боялись. зная по опыту 1916 года силу исключительного влияния чистоты и благости, исходивших от облика Монарха, как Помазанника Божия. Затем, в-третьих, опасаясь личного влияния Царя, конституционалисты не доверяли друг другу и не могли остановиться на разрешения вопроса, на кого именно возложить миссию личных переговоров с Государем. Родзянко обещал сам выехать на свидание с Царем, но конституционалисты не доверяли прочности Родзянко в конституционных принципах. Кроме того большинство руководителей просто уклонялось от этой миссии, опасаясь принять на себя ответственность в истории России в случае, если отречение Царя поведет не к усмирению революции, а к ее углублению, к вовлечению России в анархию и к утверждению в потомстве определенного заключения, что идеи конституционалистов шли вразрез с идеями народа «всея земли», вследствие чего цели их приводили не к благу родины, а к определенному вреду ей. Нежелание выставить в будущей истории России партийные политические лозунги скомпрометированными, руководители партий уклонялись от сознававшегося ими рискованного шага. Многие, может быть, в глубине своей совести, еще не вполне ослепленной партийностью, сознавали роковое заблуждение, чувствовали преступность увлечения и сожалели о слишком поспешном революционном выступлении в утро 27 февраля, что и сдерживало их внутренней силой от активного участия в вынуждении отречения Царя от престола. Наконец, в-четвертых, конституционалисты не могли прийти к соглашению, кем заменить Николая II. Избрав окончательно эволюционные пути для своей деятельности, они не хотели уклоняться слишком от законной преемственности власти, дабы самим не давать поводов к зарождению в недостаточно объединенном революционном интеллигентном обществе Петрограда тенденций к расколу личного начала и выдвижению различных претендентов по симпатиям разных кругов и салонов. Законным преемником являлся Алексей Николаевич и на нем сходилось мнение большинства конституционалистов, подходивших к вопросу о политической точки зрения. Но с этим именем была связана необходимость разрешения вопроса, а кто будет временно регентом. Кроме того, всем была известна безнадежная болезненность наследника Цесаревича и все отлично понимали невозможность полного удаления влияния родителей на сына. Были партии, выдвигавшие регентом Великого князя Николая Николаевича, другие были за регентство Великого князя Михаила Александровича. Военные элементы революционного общества тогда же стали выдвигать преемником Николая II или Великого князя Михаила Александровича, или Великого князя Дмитрия Павловича. Наконец, с первого же дня революции сам себя начал выдвигать Великий князь Кирилл Владимирович, пытаясь популяризироваться демократичностью своих убеждений и поступков. Словом, единой мысли и решения по этому вопросу в среде бояр-западников не было, и надо было выиграть время, чтобы договориться и остановиться на чем-нибудь одном; нежелательное же для конституционалистов «углубление революции» шло настолько быстро, что пока они успевали договориться по одному вопросу, давление, исходившее из совета депутатов, вынуждало их сдавать свои позиции и перерешать вопрос снова. Наконец, в-пятых, выбитые после своего единственного «революционного творчества» с позиции действительных «народных представителей» революционной России, они нуждались при создавшейся обстановке в некотором времени, чтобы путем условного соглашательства с Советом рабочих депутатов закрепиться хотя бы внешне в положении руководителей «народной революции» и показать Государю солидарность с ними «народной революционной массы».
Вот какими обстоятельствами объяснялась «затяжка» в исполнении решения Временного исполнительного комитета вынудить Императора Николая II отречься от престола.
Исследование не располагало данными, позволяющими прийти к определенному заключению – было ли достигнуто во Временном исполнительном комитете в целом какое-либо формулированное решение по вопросу о преемственности власти, в чем заключалось это решение и явилась ли поездка Гучкова и Шульгина в Псков официальным актом, исходившим от Временного комитета с его полномочиями, или самочинным решением, шагом, соответствовавшим мнениям, вообще тогда обсуждавшимся, но еще не вылившимся в конкретные формы определенного постановления распорядительного органа Государственной Думы. Судя по словам Шульгина: «А.И. Гучков и я решили отправиться в Псков», можно предположить, что поездка была предпринята этими двумя революционными представителями по собственной инициативе. Слова же его: «мы выразили согласие на отречение в пользу Михаила Александровича», казалось, должны были бы опираться на какие-то широкие полномочия, данные им Временным исполнительным комитетом или каким-нибудь другим верховным революционным органом. При отсутствии же таковых полномочий истории придется признать действие Гучкова и Шульгина одним из тех своеобразных революционных явлений, когда руководители уличной толпы присваивают себе право говорить от имени всего народа.
Но если вопрос о правомочиях Гучкова и Шульгина остается пока еще открытым, то в отношении вполне определенного влияния Временного комитета на порядок движения Императорского поезда события 28 февраля и 1 марта не оставляют сомнения. Благодаря техническим причинам, вызвавшим задержку в отправлении поезда из Могилева на 9 часов, Временный исполнительный комитет, во-первых, узнал о намерении Государя вернуться в Царское Село к своей Семье и, во-вторых, получил возможность принять необходимые меры к недопущению свидания Императора с женой и к инсценировке Государю в пути между Могилевом и Царским Селом размеров и характера «народной революции», направленной против Верховного Носителя самодержавной формы правления. В то же время имелось в виду под разными предлогами задержать поезд в пути и этим выиграть время, необходимое как для закрепления своего положения, так и для постановки Царя перед якобы совершившимся по воле народа фактом.
Комиссар Бубликов выполнил задачу блестяще. Императорский поезд следовал, встречаемый, по обыкновению, всюду губернаторами и старшими железнодорожными агентами. Но, прибыв на станцию Дно, Государю было доложено, что дальнейшее следование в этом направлении невозможно вследствие порчи пути восставшим населением. Поезд повернул на Бологое, намереваясь через Тосно выйти к Царскому Селу. На станции Малая Вишера Государю было доложено, что Тосно занято революционными войсками с артиллерией и пулеметами. Внешне получалось такое впечатление, что гражданская и железнодорожная администрация всюду честно выполняет свой долг подданных, но население и войска подняли революцию и занимают враждебное по отношению к Государю положение.
Государь, по свидетельству лиц, его сопровождавших, сохранял в дороге внешнее спокойствие. Приняв в Могилеве определенное решение, он горячо ждал встречи с Родзянко и страстно стремился скорее быть в кругу своей Семьи и с ней вместе разделить будущие испытания и тревогу. Сознание новым актом любви отметить свое Самодержавное служение на благо народу рождало в нем, по-видимому, даже радостное настроение, и он особенно приветливо относился к лицам, обслуживавшим поезд и не принадлежащим к постоянному кругу его приближенных. Во время остановок на станциях он выходил и почти всегда с Долгоруковым ходил взад и вперед по перрону, ласково отвечая на приветствия публики и встречавших его лиц. Он весь был полон предстоящим соединением с Семьей и светлым чувством достижения нового слияния с горячо любимым им своим народом.
Сведения, полученные на станции Дно, было первым жестоким ударом Его бесконечному чувству любви к народу. Он, чистый сердцем сам, поверил этим сведениям. Да и какие основания имел бы он им не верить. Он не считал их направленными только лично против него, как против Самодержавного Монарха. Его, видимо, угнетала мысль об отсрочке свидания с Родзянко и о необходимости терять время на совершение кружного пути, так как ему доложили, что для следования поезда приготовлен путь через Бологое на Тосно. Его удивило только – почему не был избран путь через Псков, Гатчину, вдвое короче первого. Однако стесняясь, как всегда, обременять железные дороги, обслуживавшие фронты, своими поездами, он покорился, и поезда пошли на Бологое.
Когда глубокой ночью с 28 февраля на 1 марта на станции Малая Вишера ему доложили, что Тосно занято восставшими революционерами и следовать дальше в этом направлении нельзя. Он понял… Он понял, что в Петрограде боятся его приезда в Царское Село; боятся влияния на него жены… Ведь о всех циркулировавших в столице гнусных сплетнях он знал очень хорошо. Он понял, что все те, кто писал ему в Могилев о необходимости уступок, находятся всецело под влиянием этих сплетен и боятся его соединения с женой.
И это была правда.
Он понял, что под влиянием этих сплетен и клеветы движение, идущее сверху, направлено лично против него, против Николая Александровича, и против его жены, Александры Федоровны. Что на почве тех же сплетен и той же лжи смущены руководителями войска, рабочие, население Петроградского района. Он понял весь ужас и всю опасность распространения и утверждения этой клеветы в народных массах, в смысле деморализации масс, деморализации утомленного долгой, тяжелой войной народа, тыла, армий. Он понял неминуемость разложения фронта под влиянием яда клеветы, потерю Россией боеспособности для продолжения внешней борьбы, гибель государства, гибель Богом вверенного Ему народа.
И это тоже была правда.
Надо было остановить распространение заразы… Остановить немедленно опасность… Остановить какой бы то ни было ценой…
Но какой?
Он почувствовал, что Промысел Божий требует от него большой жертвы, высшего доказательства своего исключительного служения вверенному народу… предела любви к нему.
Он понял, что как Помазанник Божий и как Царь Русского государства, при обстоятельствах, когда руководящие круги населения, отвергнув Божественность власти, стали между ним и народом «всея земли», он может и должен принести в жертву для будущего блага России самого себя…
В этом безграничном порыве предельной любви к России Государь отказался сразу от всяких личных побуждений, от страстного стремления видеть свою семью и защитить ее от опасности, среди которой она находилась в Царском Селе. Он был в этот момент только русским Помазанником Божьим… Он был только для России.
Дабы приступить сейчас же к выполнению последней жертвы и успокоить прежде всего ослепленных руководителей, он отказался от всякой мысли ехать в Царское Село и приказал передать генералу Алексееву его поручение просить Родзянко приехать на станцию Дно, куда он приказал немедленно вернуть Свой поезд, и откуда, в зависимости от результатов переговоров с Председателем Государственной Думы, он мог направиться или в Ставку, или в Царское Село к Семье, или в Псков, как ближайший пункт, откуда можно было войти в связь со всеми по прямому проводу. Остаток ночи прошел для него в мучительных мыслях за будущую судьбу России.
На станции Дно Государь не встретил Родзянко; ему сообщили из Государственной Думы, что поезд еще не выходил из Петрограда и неизвестно когда Родзянко сможет выехать. Зато Государь узнал о низложении Совета Министров, о сформировании Временного исполнительного комитета, о принятии Комитетом в свои руки «восстановления государственного и общественного порядка», об аресте Комитетом некоторых министров и высших должностных лиц, о возглавлении этого Комитета самим Родзянко и о решении военных властей Петрограда прекратить вооруженную борьбу против Временного исполнительного комитета.
Стремясь как можно скорее провести свою идею и уничтожить почву для продолжения распространения опасной агитации, опирающейся на элементы злостной клеветы, при отсутствии возможности скорой личной встречи с Родзянко, порыв Государя направился, естественно, к Пскову, как к ближайшему пункту, откуда можно было войти в непосредственную связь с Петроградом и Могилевом. Там же от генерала Рузского, главнокомандующего Северным фронтом, он рассчитывал получить и более точные сведения о настроении войск, о степени проникновения в их ряды клеветы, направленной лично против него, а равно и предполагал ознакомить его и остальных главнокомандующих со своим решением идти до предела жертвы и любви, лишь бы удержать фронт от разложения, а страну от гражданской, братоубийственной междоусобицы. Родзянке он приказал сообщить, что едет в Псков, где и будет ожидать его.
Время с момента выезда со станции Дно и до 3 часов 2 марта прошло для Императора в исключительной по силе душевной борьбе, интенсивность коей постепенно возрастала по мере того, как разъяснялось гражданско-политическое положение, создавшееся вокруг носившегося им высокого сана Российского Самодержавного Монарха, соответственно чему все более и более обострялся характер той жертвы, которую он решил принести для спасения своего народа и своего горячо любимого Отечества. Прочувствовать до конца сущность этой душевной борьбы, постигнуть в полной мере ее глубину и духовность, нам, людям не отмеченным Богом, не дано. Мы можем приближаться к ее содержанию лишь через силу веры, очищение помыслов, как подходим к принятию таинства, не имея на себе освящения его совершать. Мы можем приближаться к постижению ее духовности, следуя историческими путями, сложившими идеологию о власти русского народа, следуя по путям мудрости и провидения тех из гениальных русских людей, которым Богом была дарована способность духовными очами и сердцем постигать высшие таинства в их земной жизни. Эти пути, эти идеи гениальных людей для блага русского народа, для смысла русской государственности вечны. Сойти с них, отказаться от них – значило бы отказаться от будущего величия России, тесно связанного с ее славой, славой от Бога, а не от человеков.
Пушкину, прозревшему гением своего ума, что в политическо-гражданском отношении «Государство без полномощного монарха – автомат». Богом приоткрылось и высшее духовное значение Монарха на земле. В упоминавшейся уже выше оде, посвященной Императору Николаю I, гениальная духовная прозорливость Пушкина уподобила высшее значение Монарха древнему Боговидцу Моисею, но Боговидцу не во имя правосудия, каковым был Моисей, а Боговидцу во имя небесной любви, каковым явился на земле Христос. «Тот из людей, – говорит Гоголь, – на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшною ответственностью за них перед Богом освобожден уже от всякой ответственности перед людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самых развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, тот может быть уподоблен древнему Боговидцу, может подобно ему разбить листы своей скрижали, проклявши ветренно-кружащееся племя, которое вместо того, чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, им самим созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у Небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божьей, которая бы все умела простить нам – и забвение долга нашего, и самый ропот наш, все, чего не прощает на земле человек».
Разве Николай II не приближался к образу этого Боговидца по «небесной любви»? Не слышится ли в словах молитвы, найденной в среде его Семьи, эта сила всепрощающей «небесной любви»:
И у преддверия могилы Вдохни в уста Твоих рабов Нечеловеческие силы Молиться кротко за врагов.А в словах акта об отречении:
«Во имя горячо любимой родины призываем всех Наших верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний помочь Ему, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России».
А в словах его прощального приказа войскам:
«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения моего за себя и за сына моего от престола Российского власть передана Временному правительству… Да поможет ему Бог вести Россию но пути славы и благоденствия… Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей Великой Родине. Да благословит Вас Господь Бог и да ведет Вас к победе святой великомученик и Победоносец Георгий» – разве не сверкает небесной чистотой и беспредельностью эта всепрощающая любовь к своему народу, к своей Великой Отчизне. Разве не чувствуется в них тайна той духовной силы, той высшей мощи, которые не даются всем «стоящим внизу» и которые, возвышая Императора Николая II над его «собратией», делали его ревностным и убежденным служителем заповеди о любви Того, Который Сам есть любовь.
Да, он нес тоже в своих руках скрижали, на которых всей историей Российского государства, руководимой Промыслом Божьим, были начертаны величественные слова завета для русского народа всея земли: «Слава и Власть над Тобою – от Бога». Он был отмечен Всевышним Творцом для этой ответственной и тяжелой задачи на земле. Ему, Николаю Александровичу Романову, из многих миллионов людей русского народа было указано Мудрым Промыслом стать на земле, по выражению Пушкина, «выше всех и даже выше самого закона». Почему именно ему? Почему не другому… В этом тайна того чуда, которое видится верующими христианами в руководстве судьбами народов Высшего Промысла. Разве не видится верующему это чудесное руководительство хотя бы в избрании на Царство Михаила Федоровича? Послушайте, как чисто, в духе мировоззрения русского православного народа отмечает это Гоголь: «Как явно тоже оказывается воля Бога – избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведение на престол никому не известного отрока. Тут же рядом стояли древнейшие родом, И притом мужи доблести, которые только что спасли свое отечество: Пожарский, Трубецкой, наконец, князья, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против, никто не посмел предъявлять прав своих! И случилось это в то смутное время, когда всякий мог вздорить и оспаривать, и набирать шайки приверженцев. И кого же выбрали. Того, кто приходился по женской линии родственником Царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле. И при всем том все единогласно, от бояр до последнего бобыля, положили, чтоб он был на престоле. Вот какие у нас делаются дела».
Не дивным ли чудом руководящего Промысла отмечается страшное сродство натур последнего из Романовых Николая II с последним из прямых потомков династии Калиты – Федором Иоанновичем, и не дивно ли сходство обстоятельств царствования этих двух Помазанников Божьих, предшественников великих внутренних смут и разорений земли Русской! Оба они исключительные образы простых русских людей громадной религиозной силы, насыщенной страстным стремлением служить своему народу в путях бесконечной Евангельской любви. Оба умны и мудры, но у обоих страшное превышение духовно-нравственных побуждений над волей и характером в гражданско-политических решениях, у обоих отсутствие этого равновесия является основанием трагедии царствования. Оба становятся жертвами боярских происков и вожделений. Обоим определяются государственные и личные страдания из-за клеветы, которой боярство окружает их жен, и оба, погибая для царствования, порождают величайшие внутренние смуты в своих Государствах, как справедливые искупления вины «за общий земский грех»… Не дивно ли это верующим? Не чудо ли это руководительство Высшим Промыслом судьбами народа нашего? Отвергать руководительство Промыслом русским христианин не может; страницы истории Русского государства слишком явно говорят о воле Промысла.
Волею Божественного Промысла листы скрижали с заветом русскому народу были вручены Николаю Александровичу Романову и со скрижалями в руках он стал Всероссийским Самодержцем Императором Николаем II, Помазанником Божьим земли Русской. «Добрый, хороший, честный и чистый, – говорили о нем свидетели на следствии, – он никому не хотел зла». С открытым сердцем, с горячей любовью он шел навстречу всему, ко всему и ко всем: к приближенному царедворцу и к простому крестьянину и рабочему; к беззаветному служению на благо Богом вверенного ему народа и к ограждению святыни врученного ему великого завета; к выполнению долга Самодержца и Верховного Правителя Государства и к возможности поговорить запросто, слиться, утешить и помочь простому человеку. Здесь, в духовном побуждении подходить ко всему по путям Евангельской любви, он был силен, самостоятелен и постоянен. Движущая сила любви в побуждениях была так величественна и высока, что часто окружавшие его приближенные, придворные, министры, общественные и политические деятели, стоявшая «внизу собратья», не понимали руководивших Государем импульсов, не были способны постигнуть истину и чистоту его побуждений. В духовном свойстве своих желаний он был могуч, велик и самодержавен в полной мере.
«Всегда, бывало, когда обращаешься к нему за практическим разрешением какого-либо вопроса, обыкновенно подумав, он отвечал: «Как жена, я ее спрошу». Так отмечает следствие свойства воли и характера Государя при практическом разрешении гражданских и политических вопросов жизни. Сила и широта его духовных побуждений не вмещались в границах практического проявления им своей воли и характера. Он сознавал это несоответствие. Он чувствовал свою слабость и искал опоры в решениях в других людях. Императрица, разделявшая с ним тайну Помазанничества, понимала его до конца и силой своей воли согласовывала идею решения с широтой и духовностью его побуждений. Дух и идея решения гармонировали и, когда исполнение решения исходило только от них, гармония, чисто звучавшая с высоты престола, вызывала в душе народа величественный трепет и пробуждала его духовные силы на героические подвиги служения своему государственному единению. Так было, например, в день посещения Государем Государственной Думы, так было на фронте и в деревне в день принятия Государем Верховного Главнокомандования.
Но случаи возможности непосредственного проведения ими решений были очень редки и малочисленны. В них как бы проявлялись для верующего христианина народа русского предупредительные знамения руководящего Промысла Божия, указывавшие на единственные верные пути к источнику истины и славы Российского государства. Они затмились и забылись в повседневной массе тех решений, которые исходили от сотрудничества Государя с другими людьми и приводились в исполнение нормальными или государственным или общественным порядком. А в этом сотрудничестве и в этом исполнении гармония между духом, идеей и исполнением не достигалась.
Почему?
Не ищите ответа человеческого, не ищите оснований причин в бесхарактерности и слабоволии Государя в свойствах Самодержца-человека, не ищите их в качествах правительства, по определению Милюкова, «столь глупого, столь бесчестного, столь трусливого и изменнического», не ищите их в мудрости или тупости, в честности или бесчестии лидеров русской политической общественности или руководителей «революционного творчества» Государственной Думы, охарактеризовавших себя собственными словами и своими минувшими действиями.
«Я убежден, что наш Государь Николай II будет бессмертен в памяти народов и в истории именно тем, что Он ввел наше государство в семью государств конституционных» (Гучков, 1909 г.); «Мы избраны самою передовою частью населения Российской Империи, и уже по одному этому мы должны представлять не только узкие местные и групповые интересы, но и интересы всего государства» (Милюков, 1909 г.); «Имею честь явиться к вашему высокопревосходительству. Я нахожусь в вашем распоряжении. Как и весь народ, я желаю блага России. Сегодня утром я обратился ко всем солдатам гвардейского экипажа, разъяснил им значение происходящих событий и теперь могу заявить, что весь гвардейский флотский экипаж в полном распоряжении Государственной Думы» (В. К. Кирилл Владимирович, 1 марта, 4 ч. 15 м. дня, 1917 г.); «Вследствие полного расстройства транспорта и отсутствия подвоза необходимых материалов остановились заводы и фабрики. Вынужденная безработица и крайнее обострение продовольственного кризиса, вызванного тем же расстройством транспорта, довели народные массы до полного отчаяния. Это чувство еще обострилось той ненавистью к правительству и теми тяжкими подозрениями против власти, которые глубоко запали в народную душу. Все это вылилось в народную смуту стихийной силы, а к этому движению присоединяются теперь и войска» (группа выборных членов Государственного Совета, 27 февраля 1917 г.); «Основным лозунгом момента является упразднение старой власти и замена ее новой. В деле осуществления этого Государственная Дума примет живейшее участие» (Родзянко, 27 февраля, 1 ч. дня, 1917 г.); «Весь народ сейчас заключил один прочный союз против самого страшного нашего врага, более страшного, чем враг внешний, против старого режима» (Керенский, 28 февраля 1917 г.); «Прежде всего, православные воины, позвольте мне, как старому военному, поздороваться с вами: «Здравствуйте, молодцы!» (Родзянко, 28 февраля 1917 г.); «Да будет памятен этот день во веки веков» (сказал священник Попов 2-й, благословляя крестом революционные войска 28 февраля); «В последнее время в столице и других больших центрах обнаружилось ослабление подвоза продовольствия по железным дорогам. Это ослабление было в значительной мере временным и вызывалось неблагоприятными условиями погоды и переутомлением служебного персонала… За последние дни одних хлебных грузов ежедневно грузится свыше двух миллионов пудов… За 26 февраля одной муки прибыло 123 тысячи пудов… Таким образом, теперь уже нет никаких оснований тревожиться за обеспеченность столицы продовольствием» (из воззвания комиссара Бубликова 28 февраля); «Признать власть Исполнительного комитета Государственной Думы впредь до созыва учредительного собрания» (председатель собрания офицеров Петрограда полковник Защук, 1 марта 1917 г.); «Аз есмь с вами до скончания века. Аминь. Настало время, когда православное всероссийское духовенство должно подать свой голос в великом народном движении на пути к свету, правде, братской любви и свободе. Православное духовенство Петрограда и всей России призывается к единению с народом. Промедление угрожает православию гневом народа» (Воззвание пастырей, подписанное братством отцов дьяконов города Петрограда); «Я слышу, меня спрашивают – кто вас выбрал? Нас никто не выбирал, ибо если бы мы стали дожидаться народного избрания, мы не могли бы вырвать власть из рук врага. Пока мы спорили бы о том, кого выбирать, враг успел бы организоваться и победить и вас, и нас. Нас выбрала русская революция. Так посчастливилось, что в минуту, когда ждать было нельзя, нашлась такая кучка людей, которая была достаточно известна народу своим политическим прошлым и против которой не могло быть и тени тех возражений, под ударами которых пала старая власть» (из речи Милюкова о новом правительстве, 2 марта, 3 ч. дня, 1917 г.); «Тяжелое переходное время кончилось. Временное правительство образовано. Народ совершил свой гражданский подвиг и перед лицом грозящей родине опасности свергнул старую власть. Новая власть, сознавая свой ответственный долг, примет все меры к обеспечению порядка, основанного на свободе, и к спасению страны от разрухи внешней и внутренней. Неизбежное замешательство, к счастью весьма кратковременное, приходит к концу. Граждане страны! В первую очередь граждане взволнованной событиями столицы должны вернуться к спокойной трудовой жизни. К нормальной жизни должны вернуться и войска. Бдительная охрана ими нового порядка возможна и особенно ценна, когда войска будут готовы по первому зову правительства явиться, куда надобность укажет… 4 марта назначить парад войскам Петроградского гарнизона, который примет Временное правительство» (Приказ Временного комитета Государственной Думы, 2 марта 1917 г.); «Товарищи! доверяете ли вы мне? Я говорю, товарищи, от всей глубины моего сердца, я готов умереть, если это будет нужно. Товарищи, ввиду организации нового правительства, я должен был немедленно, не дожидаясь вашей формальной санкции, дать ответ на сделанное мне предложение занять пост министра юстиции. Товарищи, в моих руках находились представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих Рук… Товарищи, время не ждет, дорога каждая минута, и я призываю вас к организации, к дисциплине, к оказанию поддержки нам, вашим представителям, готовым умереть для народа и отдавшим всю свою жизнь народу» (из заявления Керенского в совете рабочих депутатов, 3 марта 1917 г.).
Основания причин не в воле и власти человеческой… Они принадлежат воле Бога, лежат в Промыслах Всевышнего Творца и руководятся Им. Это тайна Божественной Мудрости, которая непостижима для ума человека и принимается им верою в начало всего от Единого Бога.
И этой Высшей Мудростью было определено нести скрижали Божественного завета русского народа Николаю Александровичу Романову, именно таковому по свойствам, качествам и натуре, каковым он был в своей жизни и в своем государственном служении народу «всея земли». Созданный по человеческой природе для семейной жизни, Государь, как человек, желал только одного – жить в своей Семье покойной жизнью семьянина, и принял тяжелый крест, назначенный ему Богом, с полной покорностью и с твердой верой в силу и руководительство всем Божьяго Промысла; сознавая свою человеческую слабость и немощность. Он по своей духовной силе и вере ни разу не возроптал:
«О Боже! зачем поставил Ты меня Царем!»
В несоответствии величественных духовных побуждений «Боговидца по небесной любви» с слабостями и несовершенствами человеческой натуры крылись основания той страшной душевной борьбы, которую пережил Государь в часы, предшествовавшие отречению. Обстановка последних двух суток, поставившая его в положение полного душевного и физического одиночества, оторвавшая и изолировавшая его не только от непосредственного соприкосновения, но и от возможности сношения с близкими и дорогими ему людьми, постепенно лишала его надежды справиться со своей внутренней неуравновешенностью, которую он так хорошо чувствовал и сознавал в себе и которой мучился и страдал всю свою жизнь. Это не было страдание за себя, за судьбу и участь своих близких, бесконечно и горячо любимых жены, детей; нет, над всеми его чувствами к своей Семье, к своему сыну преобладало одно, сильнейшее и всеобъемлющее чувство, чувство любви к России, к вверенному ему Богом народу. Он страдал за страдания всех своих подданных, за страдания, которые, по сознанию слабости своей воли, могли быть созданы России, народу им самим; он смертельно болел в этом сознании ужасом ответственности за них перед Богом, ужасом своего бессилия избавить, облегчить их страдания, всецело перелить их на себя. Он страдал как человек, но по его духовному совершенству страдания были сверхчеловеческими, «о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек», как говорит Гоголь.
Созданная вокруг него искусственная обстановка «всенародной революции» против него, кровавые сведения о будто бы кошмарных событиях, развивавшихся в столице, ее окрестностях и в других городах государства, распускавшиеся по линиям железных дорог тревожные, панические донесения и доклады ему представителей революционизировавшихся придворных, приближенных, общественных и политических деятелей, представления соблазнившегося «общественным увлечением» высшего командного состава, все и все, со всех сторон, создавали в его воображении развертывающуюся картину анархии, охватывавшую горячо любимый им народ и постепенно все больше и больше разраставшуюся, углублявшуюся, грозившую залить весь тыл страны, перекинуться на фронт и лишить государство всякой возможности продолжать внешнюю борьбу. И по мере того, как в представлении Государя разрасталась картина охватывавшей страну анархии, в нем беспредельно разрасталось пламя «небесной» любви к своему народу, могучей волной расширяя духовные побуждения и желания спасти его, остановить анархию, направить его снова по руслу мира, благоденствия и славы к тому Свету, из источников Которого питалась его собственная великая любовь к своему народу. Чтобы излить народу свою любовь, Государь был готов на все, готов пожертвовать собой, пожертвовать самым дорогим для себя – своей Семьей, своим сыном, пожертвовать жизнью своей и жизнью своей любимой, дорогой Семьи. Не было в нем житейских пределов, человеческих рамок, которые могли бы вместить в себе силу, чистоту и широту той нечеловеческой любви к ближнему, которая в эти часы начала Его агонии исходила и излучалась из величественности духовных побуждений его Самодержавия и его Помазанничества от Бога.
И сознавая свою человеческую слабость, свою немощность найти соответственное решение, он смертельно томился и непостижимо мучился в душевной борьбе и безнадежном одиночестве этих ужасных часов…
На то была Господня Воля.
Решение, не соответствовавшее ни его духовным стремлениям, ни стремлениям Богом данного ему народа, создали люди: Рузский, Родзянко, Алексеев, Гучков, Милюков, Керенский, Голицын, Великие Князья и сотни, тысячи других «собратий» интеллигентного круга, которые не в состоянии были понять его, но кои в создания решения были руководимы волею Промысла Всевышнего. Те же люди были причиною и тех колебаний в решении, которые предшествовали акту отречения и которые наблюдались в первые часы за ним, когда Государь хотел изменить преемственность власти и снова склонялся на передачу престола сыну. Все это не изменяет основного положения – диктуемые формы не соответствовали духу Помазанника.
2 марта в 3 часа 3 минуты дня, еще до приезда, в Псков комиссаров Гучкова и Шульгина, Государь подписал акт об отречении, в котором режущей яркостью сверкает несоответствие отразившихся в нем величественных духовных побуждений с вынужденной от Него идеей и формой решения:
«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно были ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской Нашей армии, благо народа, все будущее дорогого Нашего отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия Наша, совместно со славными нашими союзниками, сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной думой, признали Мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя Верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаем наследие Наше Брату Нашему Великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского. Заповедуем Брату Нашему править делами Государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены (принеся в том ненарушимую присягу[10]). Во имя горячо любимой родины призываем всех Наших верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний помочь Ему, вместе с представителями народа, Вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России».
Но еще ярче блеснуло указанное несоответствие в последнем приказе Императора 8 марта к своим войскам:
«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска.
После отречения моего за себя и за сына моего от престола Российского, власть передана Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага. В продолжение двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы.
Кто думает теперь о мире, кто желает его – тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно нашу Великую Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагам.
Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей Великой Родине. Да благословит вас Господь Бог и да ведет вас к победе святой великомученик и Победоносец Георгий».
Любовью, любовью, бесконечною любовью к Родине и своему народу дышат эти оба исторические акта и больно делается за широкую, всепрощающую и умиротворяющую любовь, втиснутую в рамки жалкой, потрепанной, европейской, человеческой формишки. Как-то читая из сердца выходящие слова Царя, чувствуется уже по одним этим документам, что великая любовь не могла удержаться в узеньких рамочках человеческого измышления и избыток ее должен был вырваться из заграждений, созданных людьми для Российского государства, и могучим потоком докатиться до дальних, глухих сел и деревень страны, до сердец простого крестьянина и простого русского человека, и вызвать в них бурный и гневный протест против тех временных вершителей, которые своими «образцовыми» рамками хотели лишить народ русский благости, святости и чистоты этой великой, «небесной» любви своего Помазанника и Боговидца.
Всей слабостью и немощностью своего человеческого существа Царь чувствовал несоответственность решения и свой великий, но Промыслом положенный ему нести грех. Он чувствовал, что в совершившемся решении только начало отвержения себя во имя будущего спасения народа, начало того решения, которое в конечной последовательности вместит в себе полностью всю силу и широту духовного побуждения отдать всего себя и всех своих на благо и славу Великой Родины. Он чувствовал и верил, что милость Промысла Божьего, потребовав от него еще больших испытаний, даст ему возможность в своей Голгофе вместить наконец беспредельность любви к народу и вернуть ему снова скрижали Божественного завета.
С этой верою и мыслью он понес разбитые скрижали по тернистому, тяжелому пути своей агонии к светлому воскресению Помазанника Божья русского народа «всея земли», в свой судный земной день жизни, 17 июля 1918 года.
* * *
После отречения, послав короткую записку Государыне с извещением об отречении и с призывом покориться в будущем всему, Государь немедля вернулся в Ставку, в Могилев. Все его мысли были полны тем, как примут войска фронта государственную перемену, вызванную его отречением; он хотел быть ближе к ним на случай необходимости подкрепления с его стороны принятого решения, если бы в войсках начались смуты. В глубине души кроме того он страстно жаждал, чтобы ему позволили продолжать служение в рядах армии, как простому сыну своего Отечества, как первому, готовому на деле показать верность новой власти, лишь бы власть эта смогла довести Россию до победного конца. Он не представлял себе, конечно, в чем выразится испытание, которое будет ему ниспослано Промыслом Божьим, но искал путей его, и это стремление продолжать свое человеческое служение своему народу являлось побуждением развить принятое решение, дабы найти выход клокотавшей в нем любви к своей Родине и идти навстречу путям Промысла, как подсказывало ему его чистое и честное сердце. Он ни минуты не думал о том, чтобы покинуть пределы России, как делали в его положении отрекавшиеся Цари европейских конституционных государств. Мысль эта была ему чужда, так как он должен был бы в этом случае порвать со своим народом, а это в религиозно-нравственном отношении совершенно не вмещалось в существе Государя как сына своей Отчизны и как русского человека, отмеченного Богом в Помазанничестве на царство. Он допустил себя до отречения от престола, до отказа от Верховной власти, но не в его силах и власти было снять Божественное отличие, и весь остаток своей жизни, где бы он ни находился, при каких бы условиях ни протекала его тяжелая жизнь, он продолжал ясно чувствовать Помазанничество, относился к людям с чувством величайшей любви, милости и прощения, вытекавшими из этого высокого значения, и сохранил святость и готовность служения своему народу до последнего момента жизни, до последнего предсмертного вздоха.
Как отречение Государя, так и последующая судьба его, руководимые Промыслом Божьим, исходили не от воли его, Боговидца, а от воли людей, исповедовавших славу и власть от человеков. Чудно для будущей истории России сложилась деятельность и судьба этих людей, возомнивших в гордыне своей, как в древности Израиль, возможным вступить на путь Богоборства в задаче своими человеческими законами вести народ к славе и величию. С ними повторилось то же, что постигало и руководителей Богоборства древнего Израиля – вместо свободных граждан они стали рабами своего «гражданства».
В то время как Гучков еще не остыл от триумфального привоза в столицу конституционной хартии и торжествовал, лелея в себе сладкие грезы о славе от человеков, члены уже успевшего создаться Временного правительства и Исполнительного комитета в смертельном трепете за сохранение какого-либо единения «во имя спасения животишек» уже вынуждены были отречься и от царствования Михаила Александровича и от всяких определенных, не только конституционных, но всяких иных государственно-гражданских положений и принципов основания власти. Милюков и прибывший на совещание Гучков пытались протестовать, громили уступчивость своих коллег, клеймили преступностью социалистические увлечения крайностями, но чувствуя, что и на этот раз столь желанная власть уходит из их рук, не отказались принять портфели министров в новом Кабинете. Временное правительство, без Царя и государственности, установилось никем не выбранное, но допущенное милостью кумира дня – совета солдатских и рабочих депутатов, о чем народ был поставлен в известность тоже двумя историческими актами (в приложении).
Поздно вечером 2 марта с трибуны Екатерининского зала новый министр юстиции А. Ф. Керенский говорил солдатам и гражданам: «Товарищи, свободная Россия не будет прибегать к тем позорным средствам борьбы, которыми пользовалась старая власть. Без суда никто подвергнут наказанию не будет…»
Через два с половиною дня, к вечеру 5 марта, Совет Министров постановил: арестовать бывшего Царя, бывшую Царицу, всех их детей и придворных, которые пожелают остаться при них, и заключить их всех под революционным караулом в Александровском дворце. Причины этого непоследовательного поступка власти вытекали из отсутствия власти у власти — поступить с Царской Семьей более по-европейски и из необходимости удовлетворить требование Совета солдатских и рабочих депутатов.
Это произошло именно 5 марта, что определенно подтверждается показанием свидетеля Кобылинского: «5 марта поздно вечером мне позвонили по телефону и передали приказание явиться немедленно в штаб Петроградского военного округа. В 11 часов я был в штабе и узнал здесь, что я вызван по приказанию генерала Корнилова (знаменитого Корнилова, командовавшего тогда военным округом), к которому и должен явиться. Когда я был принят Корниловым, он сказал мне: “Я Вас назначил на ответственную должность”. Я спросил Корнилова: “На какую?” Генерал мне ответил: “Завтра сообщу”. Я пытался узнать у Корнилова, почему именно я назначен генералом на ответственную должность, но получил ответ: “Это Вас не касается. Будьте готовы”. Попрощался и ушел. На следующий день 6 марта я не получил никаких приказаний. Так же прошел весь день 7 марта. Я стал уже думать, что назначение мое не состоялось, как в 2 часа ночи мне позвонили на квартиру и передали приказ Корнилова – быть 8 марта в 8 часов утра на Царскосельском вокзале. Я прибыл на вокзал и увидел там генерала Корнилова со своим адъютантом прапорщиком Долинским. Корнилов мне сказал: “Когда мы сядем с вами в купе, я вам скажу о вашем назначении”. Мы сели в купе. Корнилов мне объявил: «Сейчас мы едем в Царское Село. Я еду объявить Государыне, что она арестована. Вы назначены начальником Царскосельского гарнизона. Комендантом дворца назначен штабс-ротмистр Коцебу. Но вы будете иметь наблюдение и за дворцом, и Коцебу будет в вашем подчинении».
Временное правительство, безусловно, имело стремление вывезти Царскую Семью за пределы России; оно подходило к этому вопросу, во-первых, с гуманитарной точки зрения, и, во-вторых, в целях дискредитирования Государя в глазах массы населения, в которой, как они хорошо сознавали, несмотря на усиленное распространение клеветнической, грязной агитации продолжала жить духовная преданность своему Монарху и большое недоверие к «преимуществам представительного правления». Но на пути этого стремления стояли три препятствия: нежелание Государя оставлять Россию, болезнь всех детей и отношение к вопросу Совета солдатских и рабочих депутатов. Последний, где председателем был Чхеидзе, а его товарищем министр юстиции Керенский, настаивал на заключении Царя и Царицы в Петропавловскую или Шлиссельбургскую крепость. Стремясь оградить Царскую Семью от последнего и учитывая первые два препятствия, Временному правительству удалось договориться с советом на аресте и содержании Царской Семьи в заключении в Александровском дворце, рассчитывая, что, быть может, впоследствии, при упрочении своей власти, удастся разрешить судьбу Царской Семьи в более благоприятном отношении.
Арест Государыни и детей в Царском Селе и Государя в Могилеве было решено произвести в один день 8 марта. Генерал Алексеев рассказывал, что через него Государь был предупрежден, что Временное правительство признает необходимым его переезд в Царское Село и что для обеспечения безопасности этого переезда в Могилев будут командированы делегаты от Правительства для сопровождения поезда до Царского Села, где также охрану всей Царской Семьи Временное правительство принимает на себя.
Государь понял, что его лишают свободы, и с полной покорностью принял решение новой власти, почувствовав в нем даже некоторое удовлетворение своему духовному состоянию. Больно ему было только, как русскому человеку, быть лишенным права продолжать служить своей Родине в рядах ее армии, но в этом лишении он видел начало искупления, которое преднамечалось ему лично Промыслом Всевышнего Творца. Генерал Алексеев говорил, что он поражался в эти дни тем внутренним покоем, которым, видимо, было проникнуто все существо Царя, который заметно волновался лишь тогда, когда с фронта получались сведения о каких-либо антидисциплинарных явлениях в войсках. Он очень хотел дождаться приезда в Могилев назначенного им Верховным Главнокомандующим Великого князя Николая Николаевича, но это тоже ему не удалось.
8 марта утром в Ставку прибыли командированные Временным правительством комиссары: А. А. Бубликов, С. Т. Грибунин, И. И. Калинин и В. М. Вершинин для выполнения постановления об аресте Государя и перевозке его в Царское Село. Лично к Государю они не заявились и его не беспокоили и ограничились сношениями с генералом Алексеевым. Непосредственная их деятельность выразилась в формировании поезда и отборе тех приближенных лиц, коим было предоставлено сопровождать Царя до Царского Села. Поезд в составе 10 вагонов был составлен таким же образом, как обыкновенно составлялся Императорский поезд, с той разницей, что десятым вагоном, прицепленным в конце состава, был включен вагон комиссаров. В пути правительственные комиссары также не беспокоили Государя своими посещениями. Из лиц Свиты сопровождать Царя было разрешено: гофмаршалу князю В. А. Долгорукову, начальнику походной канцелярии Свиты генерал-майору Нарышкину, флигель-адъютанту герцогу Лейхтенбергскому и флигель-адъютанту полковнику Мордвинову. С поездом ехал, кажется, и командир железнодорожного батальона генерал-майор Цабель. Фредериксу, Воейкову и Нилову сопровождать Государя комиссары не разрешили.
Перед своим отъездом из Ставки Государь пожелал проститься с чинами своего бывшего штаба. По распоряжению генерала Алексеева весь офицерский и классный состав Ставки был собран и выстроен в одной большой зале. Общее настроение всех уже было подавленным. Государь вошел, сделал общий поклон и обратился к собранным с прощальным словом. К сожалению, по-видимому, никто из присутствовавших не записал тотчас же подлинных слов Государя и исследование принуждено ограничиться выпиской из воспоминаний генерала Лукомского, вполне, впрочем, в этой части совпадающих с рассказом об этом эпизоде генерала Алексеева.
«Государь вошел и, сделав общий поклон, обратился к нам с короткой речью, в которой сказал, что благо Родины, необходимость предотвратить ужасы междоусобицы и гражданской войны, а также создать возможность напрячь все силы для продолжения борьбы на фронте заставили его решиться отречься от престола в пользу своего брата Великого князя Михаила Александровича; но что Великий князь, в свою очередь, отрекся от престола.
Государь обратился к нам с призывом повиноваться Временному правительству и приложить все усилия к тому, чтобы война с Германией и Австро-Венгрией продолжалась до победного конца.
Затем, пожелав всем всего лучшего и поцеловав генерала Алексеева, Государь стал всех обходить, останавливаясь и разговаривая с некоторыми.
Напряжение было очень большое; некоторые не могли сдержаться и громко рыдали. У двух произошел истерический припадок. Несколько человек во весь рост рухнули в обморок.
Между прочим, один старик конвоец, стоявший близко от меня, сначала как-то странно застонал, затем у него начали капать из глаз крупные слезы, а затем, вскрикнув, он, не сгибаясь в коленях, во весь свой большой рост упал навзничь на пол.
Государь не выдержал; оборвав свой обход, поклонился и, вытирая глаза, быстро вышел из зала».
В этот же день Государь издал свой прощальный приказ войскам фронта, упоминавшийся уже выше, и простился с приезжавшей к нему в Могилев матерью, вдовствующей Императрицей Марией Федоровной.
При отходе поезда из Могилева на вокзал собралось почти все офицерство и масса местного населения. Царила общая тишина; чувствовалось в настроении собравшихся большое сочувствие к отъезжавшему Императору. Когда поезд двинулся, почти все сняли шляпы, а офицеры взяли под козырек. У многих видны были слезы; многие крестили отходящий поезд.
Государь стоял у окна своего вагона и спокойно, но грустно кивал на прощание головой.
Поезд отошел из Могилева в 4 часа 53 минуты дня 8 марта, всего на 53 минуты позже, чем в Царском Селе закрылись ворота за выехавшим из дворца генералом Корниловым, арестовавшим по постановлению Временного правительства Государыню и Царских Детей.
Трагедия Дома Романовых закончилась, и началась агония Царской Семьи Императора Николая II.
* * *
Поезд с арестованным Царем следовал через Витебск, Гатчину, Александровскую и по Царской ветке прибыл в павильон Царского Села 9 марта в 11 часов 30 минут утра.
В пути Государь выходил из своего отделения только в столовую в часы еды. Остальное время он проводил в думах у себя, изредка беседуя с одним князем Долгоруковым. С последним Государя связывали, по-видимому, более глубокие и серьезные чувства, чем простая приближенность по служебной деятельности и верноподданническому отношению князя к Императору. Это казалось особенно как в последовавшей жизни Царя и Долгорукова в состоянии арестованных, так и в одинаковой со всей Царской Семье участи, постигшей Долгорукова. Во всяком случае, преданность Долгорукова была столь исключительной, что может быть поставлена в пример остальным приближенным, сопровождавшим Царя в его переезде из Могилева в Царское Село.
Утром 9 марта, перед подходом поезда к Царскому Селу, Государь собрал всех сопровождавших его придворных и обратился к ним с прощальным словом. Он благодарил их за верную прошлую службу, указал на необходимость беспрекословно подчиниться и повиноваться новому Временному правительству и, пожелав каждому добра в дальнейшей жизни, закончил словами:
«До свидания… Прощайте!»
В последнем слове Царь как бы открывал им правду своих мыслей и своего предчувствия. Он не захотел в последнюю минуту обманывать ни себя, ни своих приближенных. Он чувствовал, что «прощайте» будет более соответствовать истине, почему сейчас же следом обнял и поцеловал каждого, и не только своих приближенных, но и каждого из прислуги, обслуживавшей его поезд в пути.
Почти сейчас же поезд подошел к дебаркадеру Царскосельского павильона. Государь позвал Долгорукова и направился к выходу. Он был одет в этот день в черкеску 6-го Кубанского казачьего пластунского батальона, в черной папахе и пурпурном башлыке на плечах. На поясе висел кавказский кинжал, а на груди – орден Святого Георгия.
Для встречи поезда прибыл на вокзал новый начальник гарнизона полковник Кобылинский. По его свидетельству, на встрече больше никого не было. По рассказам же комиссаров, сопровождавших поезд, на перроне присутствовал еще прапорщик Вачнадзе от местного совета солдатских и рабочих депутатов. По поводу этой встречи полковник Кобылинский между прочим отмечает:
«Я не могу забыть одного явления, которое я наблюдал в то время; в поезде с Государем ехало много лиц Свиты. Когда Государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо, проникнутые чувством страха, что их узнают. Прекрасно помню, что так удирал тогда начальник походной канцелярии Императора генерал-майор Нарышкин и, кажется, командир железнодорожного батальона генерал-майор Цабель. Сцена эта была весьма некрасива». А камердинер Ее Величества Волков, встретивший Государя уже во дворце, добавляет: «По званию и по должности наиболее близкими к Государю лицами были: гофмаршал Долгоруков, обер-гофмаршал Бенкендорф, флигель-адъютанты Нарышкин, Мордвинов, Саблин и герцог Лейхтенбергский.
Нарышкин, Мордвинов и Лейхтенбергский были в поезде Государя, когда Его Величество приехал в Царское Село после отречения от Престола. Приехав во дворец, Государь спросил меня про Мордвинова и Лейхтенбергского: «Приехали ли они?» Я побежал и спросил об этом Бенкендорфа. Бенкендорф мне сказал: «Не приехали и не приедут». Я передал его слова Государю. Он не подал никакого вида и только сказал: «Хорошо». А Мордвинов был одним из любимых Государем флигель-адъютантом.
Таким же любимым флигель-адъютантом был Саблин. Когда в дни переворота ко дворцу стали стягивать войска и пришел гвардейский экипаж, в составе которого находился и Саблин, я видел почти всех офицеров экипажа. Но Саблин не явился и больше Царской Семье не показался».
Грустно и стыдно отмечать подобные явления, но они слишком общи для того больного времени. Для исторического исследования они характерны в том отношении, что ни разу никто из остававшихся при Царской Семье во время Ее ареста и заключения приближенных не слыхал ни от Государя, ни от Государыни, ни от кого-либо из детей слова упрека, порицания или осуждения этим людям за их отношение к Государю с момента его отречения от власти. Это же явление характерно и при оценке того страшного одиночества духа и мысли, в котором находился Государь в своем идейном и духовном служении Самодержавной русской власти и благу Русского народа, несмотря на сонм окружавших трон блестящих «верноподданных» царедворцев. И нет никаких оснований полагать, что какие-либо другие люди из тогдашних интеллигентных слоев были бы иными, лучшими, более духовными, сознательными и искренними. Нет оснований относить это явление к неумелому выбору Государем своих приближенных; из массы иными оказались бы может быть только единицы, которые могли бы честно умереть вместе с Царем, как и погибли Боткин, Долгоруков и Татищев, а остальные были не лучше бывших налицо. Дни переворота говорят об этом сами за себя.
На перроне к полковнику Кобылинскому подошли два представителя Временного правительства, из числа сопровождавших Государя, из коих один был член Государственной Думы Вершинин, и объявили ему, что их миссия кончена и что они передают Государя ему, Кобылинскому. Император вышел из вагона и очень быстро, не смотря ни на кого, прошел по перрону и сел в ожидавший Его придворный автомобиль. С Ним рядом поместился гофмаршал князь Долгоруков, причисливший себя добровольно к арестованным. Вслед за Государем, на другом автомобиле поехал полковник Кобылинский.
В это время у ворот Александровского дворца собрались офицеры новой революционной охраны и взвод отнесшего в этот день охрану 1-го стрелкового гвардейского запасного полка во главе с выборным командиром полка капитаном Аксютой. Все были с красными бантами, а некоторые имели и красные ленты через плечо.
Автомобиль с Государем и Долгоруковым подошел к закрытым и окарауливаемым воротам. Из группы офицеров выдвинулся вперед дежурный офицер прапорщик Верин и громко скомандовал часовым у ворот:
«Открыть ворота бывшему Царю». Ворота открылись и, пропустив автомобиль, закрылись.
Безволием и бессилием руководителей государственного переворота добровольно отрекшийся от престола Император стал государственным преступником и узником, и благодаря тому же безволию и бессилию новой революционной Всероссийской власти открылся неизбежный и логический путь для всей Царской Семьи к конечному его пределу – кровавому злодеянию в Ипатьевском доме.
Государь вышел из автомобиля и, проходя мимо капитана Аксюты, поздоровался:
«Здравствуйте».
«Здравствуйте, господин полковник», – ответил командир революционного полка.
Русский сознательный революционер не признавал Императора, но признавал отрекшегося Императора членом армии, полковником. Это яркий образец безграмотности сознательных исполнителей революции из тогдашнего так называемого интеллигентного класса. Государь до своего отречения был таким же полковником армии, как и подпоручиком, как и фельдмаршалом. Он был Верховным вождем армии, а полковничьи погоны носил только потому, что не хотел расставаться со званием флигель-адъютанта своего Отца. После же своего отречения от престола и сложения с себя Верховной власти он мог стать только русским гражданином, без всякого чина в «гражданском» и человеческом понятии, и, во всяком случае, не полковником революционной армии, к каковой принадлежал капитан Аксюта.
Только посмотрев внимательно на Аксюту, Государь, не останавливаясь, поднялся на крыльцо и прошел на детскую половину. Здесь, в первой же комнате, его встретила Государыня.
Муж и жена обнялись, поцеловались и на минуту застыли. Ни слова между ними, пока они стояли обнявшись в этой комнате, сказано не было. В эти первые мгновения встречи, после столько пережитого, они были только счастливы своим соединением, радостью найти друг друга живыми, и тихая, благодарная Богу улыбка озарила светом их измученные, исстрадавшиеся лица.
Обнявшись, также молча, они прошли в комнату детей.
Глава IV
В заключении. Низложенный царь и революционный народ
С приездом Государя Императора в Царское Село в заключении в Александровском дворце оказались следующие лица:
Государь Император Николай Александрович,
Государыня Императрица Александра Федоровна,
Наследник Цесаревич Алексей Николаевич,
Великая княжна Ольга Николаевна,
Великая княжна Татьяна Николаевна,
Великая княжна Мария Николаевна,
Великая княжна Анастасия Николаевна,
Обер-гофмейстерина Елизавета Алексеевна Нарышкина,
Фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова,
Фрейлина баронесса София Карловна Буксгевден,
Гоф-лектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер,
Гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков,
Обер-гофмаршал граф Бенкендорф,
Заведывающий делами Императрицы граф Апраксин,
Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин,
Доктор при Наследнике Владимир Николаевич Деревенько и
Наставник при Наследнике Цесаревиче Петр Андреевич Жильяр.
Кроме того, в одном из боковых флигелей дворца добровольно проживала Анна Александровна Вырубова и при ней жена Дэна.
Самоотвержения графа Апраксина хватило всего дня на три, не больше. Он очень скоро подал заявление и просил его выпустить, заявив, что все дела здесь во дворце он закончил, а семья у него осталась в Петрограде. По распоряжению Министра юстиции Керенского он был выпущен и уехал немедленно из Царского Села.
Затем впоследствии из перечисленных выше лиц, окружавших Царскую Семью в период ее заключения в Александровском дворце, выбыли по разным причинам следующие лица.
В конце марта или начале апреля, в один из приездов во дворец Керенского была арестована Вырубова, которая только что оправилась от воспаления легких. Основною причиною ее ареста было то исключительное общественное возбуждение, которое создалось в общественном мнении против этой злополучной и несчастной женщины еще в дореволюционное время. Она явилась тоже своего рода жертвой безволия и бессилия новой революционной власти перед давлением голословной клеветы и Совета солдатских и рабочих депутатов. Последним толчком для ареста и заключения Вырубовой в Петропавловскую крепость послужила история с комендантом дворца Коцебу, который, будучи знаком с Вырубовой еще раньше, изредка навещал ее и теперь. Об этих посещениях Коцебу узнали солдаты охраны, и в местном совдепе поднялся невероятный шум по адресу вообще всей Царской Семьи. Полковник Кобылинский был вынужден донести об инциденте генералу Корнилову, который немедленно отозвал Коцебу, а министр юстиции Керенский, особенно доискивавшийся «темных сил», счел необходимым арестовать Вырубову. Вместе с ней увезли в Петропавловскую крепость и госпожу Дан.
Затем 14 мая увезли в госпиталь старушку Нарышкину, заболевшую сильным крупозным воспалением легких. Она была искренно огорчена предстоящей разлукой с Государыней, к которой проявляла горячую привязанность, тем более что ей заявили, что разрешения вернуться назад она не получит. Нельзя не отметить, что старушка простудилась у себя в комнате дворца, где вообще было очень холодно, так как для отопления дворца распоряжением правительства отпускалось слишком мало дров.
Значительно позже, почти перед выездом Царской Семьи в Тобольск, был принужден покинуть дворец верный и старый слуга Императора граф Бенкендорф, у которого сильно заболела жена, проживавшая в Петрограде. Вместо него в круг приближенных поступил генерал Илья Леонидович Татищев, не принадлежавший по своему положению к разряду свитских, но оставшийся глубоко преданным и честным слугою «Своего Государя».
Все остальные лица из перечисленных выше, добровольно подвергнувшие себя аресту вместе с Царской Семьей, оставались при ней вплоть до перевода Семьи уже советской властью в Екатеринбург.
Как уже упоминалось выше, начальником гарнизона и наблюдающим за арестованной Царской Семьей был назначен полковник Кобылинский, которому непосредственно подчинялись коменданты дворца. Полковник Кобылинский был старым офицером действительной службы и перед войной командовал ротой в лейб-гвардии Петроградском полку. С ротой он и выступил в поход. 8 ноября 1914 года в бою под Лодзью Кобылинский был ранен пулей в ногу, причем ранение осложнилось поражением нерва. Эвакуированный для лечения, он вернулся в строй в марте 1915 года и вступил в командование батальоном в том же полку. В июле 1915 года в бою под Гутой Старой Кобылинский был сильно контужен, под влиянием контузии у него развился нефрит в очень тяжкой форме. Признанный вследствие этого негодным к строевой службе, он был назначен в запасной батальон того же полка, где его и застала революция и откуда он был вызван генералом Корниловым на ответственную должность при арестованной Августейшей Семье.
Выбор генерала Корнилова был очень удачен. Кобылинский обладал достаточным тактом, находчивостью и твердостью, чтобы, не подвергая Царскую Семью излишним стеснениям и унизительным ограничениям, обеспечивать ее, насколько только было возможно, от злобных и мелочных придирок различных распущенных революционных людишек, стремившихся порой проявить свою власть над Августейшими узниками. Кобылинский был постоянным буфером между Царской Семьей и наглыми, низкими и резкими выступлениями некоторых особо усердных революционных комиссаров и товарищей и, принимая многое на себя, до максимума смягчал своеволие и глумление этих типов над беззащитными, бессильными Арестованными. Вся Царская Семья и все остававшиеся при ней приближенные искренно полюбили этого достойного ставленника генерала Корнилова и вполне оценили его временами невероятно тяжелое и трудное служение Семье, в единственном стремлении всегда и во всем оградить ее от напрасных оскорблений и сохранить ее интересы.
Первым комендантом дворца, назначенным генералом Корниловым, был штабс-ротмистр Коцебу, пробывший в этой должности всего недели две и ознаменовавший себя только упомянутой историей с Вырубовой. Его сменил ставленник министра юстиции Керенского, полковник Коровиченко, пробывший в этой должности до самого отъезда Августейшей Семьи в Тобольск, т. е. до 31 июля по старому стилю.
Коровиченко кончил Военно-юридическую академию, прослужил после нее определенное время на военной службе и, выйдя в отставку, занялся адвокатурой. При мобилизации он был призван на военную службу. Его связывали с Керенским и Переверзевым личные дружественные отношения и социалистические взгляды. Между прочим, они втроем выступали в известном процессе Бейлиса в качестве защитников.
Это был человек в общем умный и образованный, но крайне нетактичный и просто хамоватый. Узнав Царскую Семью ближе, он, видимо, принужден был отказаться от предвзятых мнений, сложившихся в дореволюционное время, и желал относиться к Ней хорошо, особенно во вторую половину своего пребывания в должности. Однако все выходило у него так неудачно, что невольно он сам закрывал себе доступ к ее расположению. Так, например, на его обязанности лежал установленный Керенским просмотр корреспонденции, адресуемой членам Августейшей Семьи. Желая выказать свое дружественное и благорасположенное отношение, он позволял себе такие неуместные шутки: передает которой-нибудь из Великих княжон адресованное ей письмо и, мило улыбаясь, заявляет: «А Вам пишет такая-то или такой-то»; или вычитает из письма какое-нибудь употребленное в нем выражение, и затем в разговоре с адресатом употребляет это выражение в шутливо-игривом тоне. Выходило глупо и нетактично.
Однако он всячески старался, с своей стороны, оградить Августейших арестованных, особенно узнав их ближе, от попыток некоторых хулиганствовавших солдат и членов местного совдепа задеть Царскую Семью каким-либо оскорбительным отношением или унизительным мероприятием или поступком. Всегда в этих случаях он всецело помогал Кобылинскому, становясь на его сторону и пользуясь, как близкий к министру юстиции человек, своим большим авторитетом. Впоследствии Коровиченко был назначен командующим войсками Туркестанского военного округа, где во время большевистского переворота был зверски замучен новыми товарищами и разорван на куски.
Охрана арестованной Царской Семьи была возложена генералом Корниловым на 1, 2 и 4-й стрелковые полки, бывшие запасные батальоны 1, 2 и 4-го гвардейских стрелковых полков.
Внутренней охраны во дворце не было. Посты располагались лишь снаружи, охраняя весь район, занятый? дворцом и парком, не допуская в него никого без разрешения начальника гарнизона и не выпуская никого из арестованных, кроме докторов Боткина и Деревенько, которым иногда по особым разрешениям позволялось навещать больных в городе. Таким образом, охрана, установленная генералом Корниловым, ограничивала свободу арестованных пределами района дворца, но не стесняла Семьи в ее внутренней, домашней жизни.
Историческое исследование, путем допроса разных свидетелей, старалось насколько возможно полнее выяснить характер отношения охранников к Царской Семье после ее ареста, и вот какие материалы удалось собрать и к каким заключениям представилось возможным прийти в этом чрезвычайно существенном вопросе. Ведь именно здесь, в пределах района Александровского дворца, впервые непосредственно соприкоснулись отрекшийся от престола, грязью и клеветой опороченный бывший Царь и столичный, развращающий, усиленно распропагандированный, революционный солдат-товарищ, бывший сын Самодержавной России. Только низложенным Государь получил возможность увидеть непосредственно того самого ужасного, столичного, революционного, простого русского человека, «творившего революцию» и требовавшего свержения своего Помазанника, которого до сих пор ему предоставляли видеть только через призму донесений, докладов и представлений, исходивших от приближенных, общественных и политических руководителей революции. С своей стороны, и этому «творцу революции» из народа «всея земли» пришлось увидеть своего Самодержца и Боговидца уже в арестованном состоянии; тут только удалось ему подойти к нему непосредственно, а не через хмельной угар революционной агитации и заманчивого понятия о «свободе», которым руководители одурманили в нем образ его Царя, за которого до тех пор он молился в своей православной вере, в своих храмах и церквах.
В первые дни ареста, примерно в течение первых двух-трех недель, солдаты охраны угрюмо, насупившись, исподлобья присматривались к арестованным, к их жизни, поведению, занятиям в саду и на прогулках, к их взаимоотношениям между собою и с приближенными. Можно сказать, что солдаты следили за каждым их шагом, каждым движением, каждым действием, собираясь поодаль в кучки и группы, не приближаясь к ним и стараясь не отделяться друг от друга, а сливаясь в серых общих пятнах небрежно одетых и кое-как накинутых шинелей, с нелепо торчащими углами воротников и в надвинутых до самых бровей серых растрепанных папахах. Располагаясь такими кучками по разным углам парка, между деревьями и вдоль ограды, держась вне обычных для гулянья членов Царской Семьи дорожек, они старались повернуться к гулявшим боком и, несколько пригнув головы, вполоборота, неотступно следили за ними, обмениваясь между собою отрывочными замечаниями, не определявшими внутренних их мыслей, заключений или выводов, а лишь констатировавшими то или другое действие, жест, поступок наблюдаемого: «Пошла к наследнику»; «вон села»; «курит»; «француз идет»; «на пруд пошли»; «она вышла»; «здоровается»…
Так смотрела и держала себя общая серая масса солдат охраны.
Но на фоне этого угрюмо-настойчивого созерцания в этот первый период соприкосновения бывшего Царя и революционизированного простолюдина было немало случаев не просто некорректных и нетактичных поступков солдат, а грубых и неосмысленных поползновений задеть членов Царской Семьи своеобразно воспринятой революционностью, оскорбить особо подчеркиваемой «демократичностью»; в большинстве случаев подобные поступки являлись результатом разнуздавшейся до хулиганства натуры и порой имели целью использовать положение, чтобы безнаказанно пограбить.
Такова общая характеристика отношений солдатской среды к арестованным в этот начальный, острореволюционный, дурманный период государственного переворота.
Отношение офицерской среды охраны в тот же первый период их соприкосновения с Августейшей Семьей, говоря об общей массе, носило иной, если так можно выразиться, более специфический революционный оттенок. Подавляющее большинство этого офицерства было из среды «временных джентльменов», и только по форме, одетой на них, могло причисляться к рядам офицерства, совершенно не соответствуя высокому и ответственному значению офицера армии, как руководителя и носителя духовных и технических принципов военного искусства, военной полезной доблести и правильной военно-боевой организации. Это отнюдь не обозначает, что масса их принадлежала к категории людей безнравственных, беспринципных вообще, без национальных чувств, глупых, тупых, некультурных. Совсем нет. А просто тот элемент населения, из которого на третий год войны наспех «стряпали» младшего офицера (а ведь именно таковыми и были заполнены небоевые, запасные части, «творившие революцию»), частью органически, частью по предшествовавшему состоянию в большинстве случаев или вовсе не мог служить материалом для выработки из него офицера, или нуждался в более продолжительном воспитательно-образовательном подготовительном периоде, чем это было на деле. Ну какой, например, офицер в воспитательно-техническом военном отношении мог получиться из почтенного, уважаемого, честнейшего прапорщика Николая Александровича Мунделя, прожившего до призыва в армию на белом свете 46 лет и добросовестнейшим образом несшего до войны в течение почти всей своей жизни службу в одном из отделений Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей. А ведь в изучаемый период он занимал должность старшего адъютанта штаба той самой 4-й гвардейской резервной бригады, в состав которой входили полки, назначенные нести охрану при Царской Семье.
Конечно, среди этого офицерства были и нравственно-испорченные элементы, и просто дурные, и злые, и вредные для армии люди, и выгнанные из ее рядов по несоответствию еще в мирное время, но общий характер отношений офицерства охраны к Царской Семье в рассматриваемый первый период заключения создавали не они. Общий характер отношений вытекал из общей же необразованности этой так называемой интеллигентной или полуинтеллигентной среды, из которой черпался материал для пополнения колоссальной убыли младшего кадрового состава офицерства и который явился командным элементом в рядах воинских частей – исполнителей революции. Сознательные революционеры, честные партийно-идейные деятели насчитывались среди них единицами, главная же их масса, как и масса солдатская, была только увлечена тем же угаром революции, к которой прибавлялась еще и «мода» на революцию, являвшаяся достоянием интеллигентного класса населения. При отсутствии в них полезных свойств офицерства, их «командное» положение в рядах охраны побуждало их принимать на себя «коноводство» в показном проявлении революционности и демократичности новых революционных войск по отношению к бывшему Царю и его Семье. Искусственная непринужденность поведения в присутствии членов Августейшей Семьи, разгуливание среди них во время их работ в саду, умышленно громкие разговоры между собою и хохот, разваливание на скамейках, выступления с унизительными требованиями якобы от имени солдат, подзуживание часовых не отвечать на приветствия Царя – вот чем наружно проявлялся в этот период характер отношения охранного офицерства к арестованным – явной искусственностью, напускным фальшивым демократизмом и неприличной, глупой и грубой позировкой. Под этой внешней, показной оболочкой трудно определить, каков был внутренний общий характер отношения офицерства, трудно обобщить словом, не вдаваясь в крайности суждения, но было совершенно ясно, что ничего определенного, серьезного и продуманного в отношении как к бывшему Царю, так и вообще к происшедшим событиям во внутреннем мировоззрении охранного офицерства еще не установилось.
Однако при детальном допросе свидетелей и тщательном изучении этого существенного для истории переворота вопроса исследование приходит к заключению, что даже в первоначальный период соприкосновения охранников с Августейшей Семьей приведенные выше характеристики солдатских и офицерских отношений должны приниматься обобщенными лишь условно, с внешней стороны. Приходится отметить, что действительная неприязнь и явная враждебность проявлялись лишь единичными представителями офицерства охраны и абсолютно меньшей частью солдатства. Не останавливаясь на свидетельских показаниях общего характера, а подбирая факты, конкретные показания, является возможным отметить и еще одну особенность, любопытное и знаменательное явление, заключающееся в том, что случаи нагло-революционных или грабительско-хулиганских выходок выпадают почти исключительно на долю офицеров и солдат 2-го полка, в котором к тому времени не оставалось ни одного кадрового офицера и заботливого о части хозяина, благодаря чему люди находились в отвратительных хозяйственных условиях жизни, быта и питания.
Конкретные эпизоды, собранные следователем от свидетелей и очевидцев, так характерны для истинной оценки отношений и так, в сущности, немногочисленны, что исследование считало необходимым для полноты впечатления привести их полностью, как бы наглядно иллюстрируя ими свои выводы и обобщения.
Со стороны офицеров случаи злостной некорректности отмечаются свидетелями только в отношении тех из них, которые получили это звание уже в течение войны и которые принадлежали преимущественно к той категории офицеров, которые на фронте не побывали, а отбывали свою службу в тылу.
Так, однажды, рассказывают свидетели, офицер 2-го полка прапорщик Ерынич явился к коменданту дворца и заявил якобы от имени солдат, что «мы их должны сами видеть. А то они арестованы, а мы их не видим». Это было на второй или третий день по приезде Государя, когда дети еще все болели, почему ни Государыня, ни дети не выходили из дворца в парк и охрана не имела возможности их видеть.
Определенно чувствовалось, что в требовании Ерынича, основанном на уставном положении для караула при арестованных вообще, заключалось стремление причинить Августейшим Узникам умышленное унижение и моральное оскорбление, а быть может, даже только стремление к удовлетворению своего «мещанского любопытства» видеть Августейшую Семью в ее домашней жизни. Никакие доводы рассудка на Ерынича не действовали. Он назойливо и нагло добивался своего, выставляя мотивом, что члены Семьи без их поверки могут бежать из-под ареста, так что охрана узнает только потом, быть может, много времени спустя. Указание на то, что дети больны, никуда выехать не могут, а родители не бросят детей на произвол судьбы, и, следовательно, нет оснований опасаться побега кого-либо, Ерыничем упрямо не принималось. Комендант, уже в то время опасаясь, что в конце концов все может случиться помимо его, путем безнаказанного и наглого насилия через местный совдеп, обратился за разъяснением в Петроград, откуда и последовали соответственные, серединного характера, указания.
Было решено установить такой порядок: когда будет приходить новый караульный офицер для смены кончавшего дежурство, оба вместе будут посещать Государя в присутствии Государыни, причем сменяемый офицер будет прощаться с Царем, а новый здороваться. Но чтобы этот новый порядок был наименее тягостен для Государя и Государыни, было решено всю эту вынужденную процедуру проделывать перед завтраком, когда здоровые узники обыкновенно сходились в столовой.
И вот в тот день, когда охрана 2-го полка сменяла охрану 1-го и очередь быть караульным офицером дошла до Ерынича, последний при выполнении указанной процедуры обнаружил действительную цель, руководившую им в домогательстве видеть бывшего Царя. Когда в этот день перед завтраком по уже установившемуся новому порядку оба офицера явились к Государю, то бывший Царь, по примерам предыдущих смен, прощаясь с уходившим с караула офицером 1-го полка, подал ему руку. Когда же, здороваясь, он протянул руку прапорщику Ерыничу, тот сделал шаг назад и не принял руки Государя, которая повисла в воздухе.
Чрезвычайно страдая от этого впервые проявленного по отношению к нему поступка офицера, Государь подошел к Ерыничу, взял его за плечи обеими руками и со слезами на глазах грустно и тихо спросил его:
«Голубчик, за что же?»
Снова сделав шаг назад, приготовленной заранее фразой, почти скороговоркой, Ерынич ответил:
«Я из народа. Когда народ Вам протянул руку, Вы не приняли ее. Теперь я не подам Вам руки». Повернулся и быстро вышел.
Если бы Государь спросил Ерынича – о какой протянутой народом руке он говорит, то Ерынич, конечно, не смог бы пояснить значения своего заявления. Его цель была, пользуясь своим безнаказанным положением революционного начальника, просто оскорбить, морально ударить бессильного лежачего человека. Кроме того, офицерам типа Ерынича в то время кружило голову стремление отличиться на поприще проявления своей «демократичности и революционности», выдающийся пример чему дал сам Верховный Главнокомандующий генерал Брусилов и что особо ценилось представителями центральной власти в Петрограде и служило самым действительным способом к быстрому выдвижению по революционной иерархической лестнице. И конечно, «демократический» поступок прапорщика Ерынича был особо почтен в местном совдепе и его пример послужил образцом для некоторых солдат охраны, мечтавших, так же как и «товарищи начальники», отличиться на безопасном, тыловом революционном поприще.
Выходка Ерынича нашла себе полную поддержку в лице офицера того же типа прапорщика Домодзянца, которого местный совдеп определил в качестве своего соглядатая при коменданте дворца, прикрыв действительную цель будто бы проявившейся необходимостью коменданту иметь помощника. Этот Домодзянц совместно с Ерыничем подучил некоторых солдат 2-го полка не отвечать на приветствие Государя, который продолжал здороваться со стрелками при встрече с ними во время своих прогулок в парке. Как-то один из таких подученных солдат не ответил на приветствие Царя. Государь, полагая, что стрелок не расслышал, вторично повторил: «Здорово, стрелок». Солдат вторично ничего не ответил. Так как начальство из комендатуры дворца уже ничего не могло поделать с солдатами, то коменданту, во избежание дальнейших инцидентов, пришлось просить Государя не здороваться, и Царь перестал с тех пор приветствовать солдат, пока с течением времени не ознакомился с массой и не приобрел опыта различать их друг от друга по «сознательности».
Вот этими двумя конкретными эпизодами, исчерпываются яркие случаи проявления офицерами поступков революционной тенденции. Очевидно, что другие эпизоды того же типа если и имели место, то не носили такого резко-тенденциозного характера, так как свидетели ничего определенно-фактического не могли больше вспомнить и ограничивались замечаниями общего свойства, указывавшими лишь на то, что отношение и поведение офицеров новой категории вообще значительно отличалось от того, которое существовало в дореволюционное время. Конечно, разница была громадная. Но проявление разницы в отношениях приходится констатировать в то время вообще во всей армии, так что впечатления свидетелей общего свойства не дают прочного материала для суждения о специальном отношении к Царю, а из конкретных случаев свидетели больше ничего вспомнить не смогли.
Со стороны солдат свидетели вспоминают несколько больше определенных случаев, но своим рассказам предпосылают указание на то, что если бы солдаты не подвергались постоянно постороннему влиянию со стороны так называемых «ревнителей углубления революции», появлявшихся время от времени в Царском Селе из Петрограда, то можно сказать, что большинству из охранников не приходило бы в голову подвергать членов арестованной Августейшей Семьи каким-либо «революционным» издевательствам. Но эти «ревнители» являлись какими-то особо озлобленными и мстительными по отношению к несчастным заключенным и вместе с тем необычайно трусливыми при выполнении своих миссий, возлагавшихся на них Петроградом.
Так, еще в самом начале ареста, к коменданту дворца явился какой-то неизвестный господин в полковничьей форме, назвавшийся Масловским, и предъявил письменное требование Петроградского исполнительного комитета совета солдатских и рабочих депутатов. Требование было подписано членом Государственной Думы Чхеидзе и имело надлежащую печать. В нем указывалось, что» комендант должен оказать всяческое содействие предъявителю требования для выполнения последним возложенного на него исполнительным комитетом поручения. Называвший себя Масловским заявил, что по поручению Исполнительного комитета он должен сейчас же взять Государя и доставить Его в Петропавловскую крепость. Полковник Кобылинский категорически заявил Масловскому, что допустить этого он не может. Тогда Масловский сказал:
«Ну, полковник, знайте, что кровь, которая сейчас прольется, падет на Вашу голову».
«Ну что же делать! Падет так падет, но исполнить не могу», – ответил Кобылинский.
Масловский, озлобленный, вышел, но не уехал, а отправился все-таки во дворец. Там его встретил командир 1-го полка капитан Аксюта, которому он предъявил свои бумаги Исполнительного Комитета. Однако заметив, что Аксюта встретил его не особенно дружелюбно, а к бумагам его отнесся с подозрением, он не решился уже повторить ему о цели своей командировки, которую указал Кобылинскому, а заявил, что он желает лишь увидеть своими глазами, здесь ли Государь. Тогда капитан Аксюта обыскал карманы полковника Масловского и, убедившись, что при нем нет никакого оружия, показал ему Государя, проходившего в это время в конце коридора, так, что Масловский Государя видел, но Государь показа не заметил.
После этого осмотра Масловский отправился в местный совдеп и там пытался агитировать среди представителей охраны, но, к счастью, в этот раз наткнулся на более рассудительных солдат 4-го полка, которые охладили его заявлением, что охрана исполняет приказания только Временного правительства.
Были попытки подобных озлобленных углубителей революции действовать и извне, подстрекая к эксцессам против Царской Семьи вообще солдат гарнизона и местный пролетариат. Обыкновенно во время прогулок или работ Государя и детей в парке вокруг ограды собирался разный любопытный, праздный люд, чтобы поглазеть издали на Августейших Узников. Нормально толпа смотрела, делала свои замечания, делилась между собою мыслями и впечатлениями, совершенно не повышая голоса, не хулиганничая и не стремясь, чтобы ее слова долетали до арестованных. К этому через некоторое время все привыкли и присутствие толпы не вызывало ни у кого беспокойства. Но однажды, когда Государь рубил на прудке лед, толпа за решеткой как-то сильно возросла, и из ее среды стали раздаваться отдельные выкрики в виде угроз по адресу продолжавшего работать Царя. В толпе появились шныряющие типы, старавшиеся незаметно перебегать от одной группы собравшихся «товарищей» к другой и подстрекавшие их на производство насилия над Государем. Постепенно шум в толпе разрастался, и отдельные элементы наиболее хулиганского вида стали лезть на ограду, пытаясь проникнуть в парк. Хотя большая часть толпы, по-видимому, не примыкала к демонстрантам и агитаторам, тем не менее охрана, всегда сопровождавшая арестованных на прогулке, всполошилась и поспешила к ограде, где, угрожая штыками и прикладами, стала сгонять чрезмерно разгорячившихся «товарищей» с ограды. Возбужденных агитаторами лиц было однако такое значительное количество, что комендант, из опасения осложнений и не вполне уверенный за стойкость и повиновение ему охраны, просил Государя уйти с прудка, расположенного слишком близко к ограде. Тогда только Государь повернулся к толпе и, окинув ее спокойным взором, ответил:
«Я не боюсь их. Эти честные люди меня совсем не стесняют».
Но комендант настаивал, и тогда Государь, не желая причинять лишней заботы его охране, покорился и ушел.
По свидетельству присутствовавшего при этом инциденте прапорщика Мунделя, «товарищи» из толпы ругались главным образом за чечевицу, которую тогда, за недостатком других круп, выдавали войскам и к которой солдаты еще не привыкли. Других особо выделявшихся настойчивостью крика заявлений как будто и не было, а если и были угрозы другого характера, то из-за первого главного требования они резко не выделялись, почему он, Мундель, их и не разобрал.
Последствием этого эпизода было то, что район прогулок Царской Семьи в парке был ограничен, дабы их не было видно с улицы.
Что же касается до хулиганских грабительских эпизодов внутреннего характера, т. е. производившихся солдатами охраны, то свидетели отмечают следующие характерные поступки, сохранившиеся в их памяти.
Группа солдат 2-го полка, подзуживаемая прапорщиками Ерыничем и Домодзянцем, не зная к нему придраться, изыскивала под разными серьезными якобы предлогами случая причинить какую-либо неприятность членам Царской Семьи. Так, однажды они увидели в руках наследника Цесаревича маленькое игрушечное ружье. Это была уменьшенная винтовка – модель, сделанная специально для Алексея Николаевича Тульским ружейным заводом как игрушка. Она была совершенно безопасна, так как, чтобы стрелять из нее, надо было изготовить совершенно особые патроны, которых не было. Солдаты потребовали отобрания у Цесаревича винтовки под предлогом воспрещения арестованным иметь при себе оружие. Тщетно дежурный офицер доказывал им нелепость их требования, однако чтобы избежать насилия, к которому, видимо, эти типы были вполне подготовлены, он взял у Алексея Николаевича ружье и передал его полковнику Кобылинскому, а последний потом по частям постепенно возвратил ее обратно Наследнику.
Был случай, что один солдат того же 2-го полка проник в коридор, где стоял сундук с некоторыми вещами, принадлежавшими Государыне. Так как это было в ранние часы и никто еще не вставал, то солдату удалось взломать штыком замок и похитить из сундука несколько пледов. Хотел он похитить еще и сапоги Ее Величества, но не справился с колодками и сапоги оставил.
Другой солдат, стоя в парке на часах, увидел пасшихся в саду прирученных диких коз, принадлежавших детям Царской Семьи. Желая ли причинить Им неприятность или желая просто поживиться, он пристрелил одну козу, и когда сменился, унес ее с собой. Об этом случае начальство производило дознание, однако таковое не помешало на следующий же день другому часовому пристрелить вторую козу и тоже унести ее с собой.
Был случай, что целая группа солдат забралась на половину наследника Цесаревича и стала взламывать комнатный ледник. Бывало, просто кто-нибудь из солдат, случайно проходя коридорами дворца, тащил какую-нибудь вещь, попадавшуюся ему на глаза.
Словом, таких мелких, чисто хулиганских или грабительских случаев было достаточно, и все они оставались безнаказанными, так как солдатские комитеты уже тогда прикрывали такие проступки солдат «демократическими» понятиями, что вещи во дворце – «их достояние», и начальство ничего не могло поделать с разнузданностью людей, не сдерживавшейся больше ни формами, ни авторитетом власти. Тем не менее перечисленными случаями исчерпываются все те более выдающиеся эпизоды, запечатлевшиеся в памяти свидетелей, которые позволяют вывести заключение об отсутствии со стороны солдат охраны какой-либо особой враждебности к Царской Семье, как к таковой, общая же распущенность масс, в особенности в первое время революции, являлась нормальным явлением повсеместно. Грязный, немытый, непричесанный вид, небрежно одетая одежда, шныряние без толку из конца в конец, бесконечное лущение подсолнуха, валяние кучами по углам, под заборами и под деревьями, конечно, по сравнению с предыдущим временем казалось чудовищным, но этим выражалось вообще «сознательное» отношение к переживавшимся событиям, а не специально к Августейшим Узникам.
С течением времени, по мере того как офицеры и солдаты охраны, присматриваясь к Царской Семье, получили возможность вынести свое впечатление о простом образе жизни Семьи, о доброжелательном и сердечном отношении к ним же, к охранникам, настроение массы лично к Арестованным начало постепенно изменяться и отдельные революционные выходки и хулиганские поступки стали проявляться все реже и реже. Офицеры и солдаты с любопытством, перешедшим затем постепенно в интерес, присматривались к этим людям, так далеко и недосягаемо стоявшим от них раньше. Постепенно исчезала групповая обособленность солдат, угрюмость их тупого созерцания; подтянулись постепенно и офицеры, как-то сразу перестали бродить среди гуляющих, отошли в сторонку и голоса в беседах приняли нормальную силу в тембр. Царь и его Семья предстали перед ними совершенно в ином освещении, чем представлялись они им раньше, чем рассказывалось на улице, в городке, на митингах и собраниях, чем вообще обрисовывались они вне дворца, вне парка, вне их собственной жизни.
Прежде всего они не могли не заметить той исключительной любви и дружбы, которые существовали между всеми членами этой Семьи; они видели, с какой нежной бережливостью отец или кто-нибудь из дочерей выносил на руках на прогулку больного сына и брата; они видели с какой заботливостью, поддерживая под руки, муж сводил с крыльца слабую здоровьем жену, как дети расстилали ей коврик и как дружно все группировались вокруг, стараясь друг перед другом чем-нибудь помочь, подсобить отцу, матери, брату. Они были поражены простотой обращения Государя с приближенными, с прислугой, а затем с офицерами и солдатами охраны; они ясно почувствовали искренность и непринужденность такого обращения Государя с людьми, и им самим стало легко подходить к нему, приближаться к ним.
Первоначально арестованные могли выходить в парк в течение дня когда хотели; так устанавливала инструкция, составленная генералом Корниловым. Но вскоре под давлением озлобленных и наглых требований представителей Петроградского и местного совдепов, не без участия солдат второго полка, не желавших нести службу охраны в парке в течение всего дня, свобода выхода Царской Семьи в парк была ограничена установлением прогулок только в определенные часы и при определенен, совершенно излишней процедуре унизительного характера. Желавшие гулять в установленные часы члены Царской Семьи и приближенные должны были предварительно собираться все вместе в круглом зале. Сюда также приходил дежурный офицер и караул, назначенный для сопровождения арестованных на прогулке. Дверь открывалась дежурным офицером, и Августейшие Узники выходили в парк, сопровождаемые сзади караулом. Если Семья гуляла или работала, то караул оцеплял часовыми все место прогулки или работ на все время, определенное для гулянья, и никто из арестованных не мог выйти из этого кольца или вернуться во дворец раньше окончания времени, положенного для прогулки.
Так оно в точности и выполнялось, когда в караул заступал 2-й полк. Когда же служба неслась 1-м и особенно 4-м полком, то офицеры и солдаты этих частей, очень скоро присмотревшись к Царской Семье, отказались от буквального следования новым порядкам и зачастую стали сами принимать участие в тех или других работах Царской Семьи в парке. На этой почве сближение солдат с бывшим Царем и его Семьей пошло очень интенсивно; сначала нашлись отдельные солдаты-часовые, которые заговаривали или отвечали на вопросы того или другого из членов Семьи, потом стали присоединяться другие, просто бродившие в парке и наблюдавшие за гулявшими, постепенно стали стекаться к ним кучки, группы солдат, разговоры делались все продолжительнее и продолжительнее, становились интересными и начали принимать общий характер. Беседовали с ними чаще всего Государь и Государыня, особенной любительницей поболтать с солдатами была Великая княжна Мария Николаевна, которая в конце концов изучила семейную хронику почти всех солдат. Сами же солдаты, видимо, интересовались больше всего разговорами с Царем. Русский солдат невероятно ценит, когда старший собеседник, начальник, интересуется его интересами, его условиями жизни; охранники не могли не оценить в этом отношении заботливости и внимания к себе бывшего Царя, который в разговорах постоянно расспрашивал их про домашнее житье-бытье, про деревенскую их жизнь, про нужды и домашние горести. Они стали любить эти беседы, и много было таких, которые заранее собирались в парке в ожидании выхода Семьи и, как только те появлялись, старались так или иначе завязать разговор. Чаше всего инициатива исходила от Государя, потом вступала Мария Николаевна, и беседа быстро развивалась и оживлялась. Постепенно к первым начавшим разговор солдатам подходили другие, сначала молчали, а затем вступали в беседу, затягивавшуюся нередко вплоть до окончания часа прогулки. Когда стало теплее, Государыня тоже выходила гулять. Ей приносили коврик, она садилась где-нибудь, с постоянной рукодельной работой, под деревом, а солдаты собирались вокруг, ложились на траву, и беседа тихо текла, сопровождаемая нежной улыбкой, озарявшей лицо Государыни. Камердинер Волков, рассказывая о подобных беседах арестованных членов Царской Семьи с солдатами охраны, характеризуя отношения к ним солдат, говорит:
«Я не знаю, что это хулиганство или нет. Думаю, что нет, и я не слышал, чтобы кто-либо из них осмелился бы обидеть Их Величество во время таких разговоров. Про солдат в общем я могу сказать, что первоначально в Царском они были хуже настроены. А потом, когда они сами поглядели поближе на Августейшую Семью, то стали относиться к ней лучше».
Так падала завеса между Царем и его бывшим народом. Большинство солдат увидело в бывшем Государе своего «русского человека, простого, доброго, обходительного, умелого и интересного в рассказах, верного в вере», и очень, очень многие начинали понимать несправедливость «начальников» к бывшему Императору. Особенно сильное впечатление на охранников производила замеченная ими высокая религиозность Царя и всей вообще Семьи. «За стол не сядут, не помолившись», – говорили они, чувствовали искренность и чистоту веры этой Семьи, понимали эту веру и в душе разделяли ее. Среди офицеров появились теперь такие, которые через прислугу испрашивали себе на память фотографии Государя, Государыни и детей, и они им не отказывали, давали и снабжали своими автографами. Появились группы солдат, которые в периоды болезней наследника Цесаревича стали стремиться видеть его, не из-за «мещанского любопытства», а по внутреннему, хорошему чувству, воскресавшему в них под влиянием непосредственного соприкосновения со своими поднадзорными и постепенного познания их душ. Их морального и нравственного совершенства.
Конечно, среди массы оставались экземпляры, которые сохраняли тупую враждебность и слепую злобу. Но их было меньше, может быть, даже единицы, которые, не находя себе сочувствия среди массы, перестали проявлять себя отдельными выступлениями. Остальные же, если и не потеряли своего общего «товарищеского вида» и своих «товарищеских» свойств и наклонностей, то в общем стали проявлять достаточно старания, чтобы быть корректными и добросовестными по отношению к членам Царской Семьи и в достаточной степени дисциплинированно несли свои служебные обязанности по охране безопасности Августейших Узников. Это эволюционирование настроения солдатской массы в лучшую сторону продолжалось за все время пребывания Семьи в Царском Селе и затем в первый период жизни ее в Тобольске. Росло понимание и знание массой простого русского солдата-крестьянина своего бывшего Царя и его Семьи, росла и преданность ее к ним. Если за время их взаимного тесного соприкосновения не проявилось еще сознательной сильной любви и сознательного понимания самого взаимоотношения между ними, то инстинктом масса уже близко подходила к истине, что и сделало ее, эту массу, в Тобольске причиной неудачи советской власти, дважды покушавшейся там привести свой злой умысел в исполнение. Наконец, нельзя не отметить и того факта, что в конце концов в Тобольске солдаты 4-го полка предложили Государю воспользоваться днем их дежурства по охране, чтобы бежать из-под власти большевиков, но Царь отказался от этого предложения, пояснив им, что предпочтет умереть в России, чем добровольно покинуть свою Родину и народ.
Вот материалы, которые исследованию удалось собрать по вопросу характеристики взаимоотношения отрекшегося «от престола Государя с первыми исполнителями революции, носившей название «народной революции против ненавистной династии и ненавистного государственного строя». Вывод слишком ясен и определенен и особого пояснения не требует. Чувствовали его и руководители революции из числа более крайних и озлобленных, и из Петрограда постоянно были поползновения ухудшить условия ареста Царской Семьи, контролировать ее содержание и охрану, поверять настроение самой охраны и принять более действительные меры, дабы помешать сближению Царской Семьи с окружавшим ее революционным народом. Справедливость требует отметить, что члены Временного правительства, как Гучков и Керенский, интересовались этим вопросом лишь в первый период ареста, пока для них не выяснилось – для первого, что он жертва собственной мании военного величия, а для второго, что он жертва собственной клеветнической на Царскую Семью агитации. Но тем не менее давление на них действительно «темных сил» революции в отношении тех или других утеснений бывшего Царя продолжалось до конца их «царствования», и любопытный эпизод с арестом Маргариты Хитрово в Тобольске, упоминавшийся в 1-й части настоящего труда, характерно иллюстрирует законность и демократичность новой власти.
Из случаев посещения дворца лицами официальной власти историческое исследование считает, необходимым отметить следующие.
Вскоре после возвращения в Царское Село Государя во дворец приехал генерал Корнилов в сопровождении Великого князя Павла Александровича и Военного министра Гучкова. Никто из них Арестованных не посетил. Генерал Корнилов произвел поверку несения охранной службы, проверил знание охранниками своих обязанностей и обошел помещения, занимавшиеся дежурной частью. При этом посещении Великий князь Павел Александрович интересовался вопросом надежности офицеров и солдат охраны в смысле возможно наибольшего обеспечения покоя арестованной Царской Семьи, а Военный министр Гучков сопровождал генерала Корнилова и ничего не говорил.
Только после этого, через день или два, Гучков неожиданно опять приехал во дворец один. Его «сопровождали, по-видимому, только адъютанты. Приехал он без приглашения и предупреждения с целью видеть Императрицу. Государь и Государыня чувствовали к Гучкову антипатию, что не могло не быть известным и ему, а потому принятие Гучковым на себя еще какой-то миссии к Августейшим арестованным при настоящем Их положении было учтено приближенными не в пользу тактичности и благовоспитанности этого революционного Военного министра. Тем не менее никто из них не услышал ни от Государя, ни от Государыни ни слова порицания по адресу Гучкова после неприятного для них свидания с ним. Когда Гучков шел назад, спускаясь с лестницы, один из офицеров его свиты, будучи сильно выпивши, увидав стоявших на лестнице трех придворных лакеев и, видимо, не разобрав их формы, злобно им крикнул: «Вы наши враги. Мы ваши враги. Вы здесь все продажные». Он кричал во всю глотку с неприличным размахиванием руками, как пьяный. Один из стоявших лакеев ответил ему: «Вы, милостивый государь, в нашем благородстве ошибаетесь». Гучков шел впереди в расстоянии всего нескольких шагов от этого пьяного офицера, но даже головы не повернул на шум, произведенный его свитским спутником, и, сделав вид, что ничего не слышит, быстро вышел из дворца.
Министр юстиции, а позже Председатель Совета Министров Керенский приезжал во дворец несколько раз. Весьма характерным явлением его посещений явилось то обстоятельство, что в его отношениях к арестованным членам Августейшей Семьи замечаются два периода, резко отличающиеся один от другого: первоначальный – до выемки личной корреспонденции и бумаг Государя Императора и последующий – после ознакомления с содержанием этой отобранной переписки.
В первый период Керенский держал себя по отношению ко всем заключенным как судья или прокурор. к подсудимым, преступность коих не подлежит сомнению. Знавший Россию и русский народ постольку, поскольку это необходимо, чтобы быть товарищем присяжного поверенного, он и о Царе и его Семье располагал сведениями постольку, поскольку они изображались и освещались специальной социалистическо-германофильской провокационной и агитационной литературой, почему и смотрел на бывших Царя и Царицу, как на изменников родины, эгоистических деспотов личного начала, покровителей и создателей насилия, произвола и тирании над русским народом. Трудно сказать, какой искренности в этом убеждении было у него больше – искренности социалистического вождя или безграмотного слепца. Но убежден он был, пожалуй, искренно.
В первый раз он приехал во дворец 21 марта, явившись демонстративно в какой-то грязной, засаленной тужурке, надетой поверх черной рубашки навыпуск, без воротничков, но с большой развязностью в манерах, словах и жестах. С видом строгого судьи Керенский обошел все комнаты, проверил наличие всех содержавшихся под арестом, проверил посты, охрану, порядок несения охранной службы в смысле надежности охранения от побега или похищения и затем имел довольно долгую беседу наедине с Государем, в кабинете последнего.
После этого свидания Государь рассказывал, смеясь, Императрице, что Керенский чувствовал себя как-то неловко и был сильно смущен. Он не знал, как себя держать с Государем, и то называл его «Николай Николаевичем», то срывался на «Ваше Величество». Старые служащие лакеи дворца, видевшие на своем веку много людей, посещавших Царскую Семью, тогда же вполне точно определили действительное состояние Керенского в этот первый его приезд во дворец:
«То была не гордыня, а была одна конфузливость и робость».
В следующий раз Керенский приехал 26 марта. На этот раз он был уже в френче и в гетрах; на шее виднелся воротничок, а на руках манжеты. Но он по-прежнему пытался сохранить вид строгого судьи.
Керенский, приехав во дворец, потребовал к себе Кобылинского и Коровиченко. Затем он велел доложить Государю, что просит его принять его вместе с названными лицами. Государь пригласил их всех к себе в кабинет. Здесь Керенский, сохраняя официальный тон, не садясь, заявил Императору, что он должен произвести выемку в его личных бумагах и делах и уполномочивает на этот следственный акт полковника Коровиченко в присутствии полковника Кобылинского.
Государь, не возражая ни слова, подошел к стоявшему в кабинете особому ящику большого размера и открыл его. Бумаг было очень много; все они были разложены по отдельным группам в большом порядке. Указывая на бумаги и объясняя распределение их по группам, по которым они были собраны и уложены в ящике, Государь взял одно письмо, лежавшее, как было ясно видно, не на месте и сказал:
«Это письмо частного характера».
Он вовсе не хотел изъять это письмо от выемки, а просто взял его, как отдельно лежавшее не на своем месте и, кажется, хотел переложить его в ящике на соответственное место. Но Коровиченко, увидев письмо в руках Царя, порывисто ухватился за свободный его конец и, не обращая внимания на попытку Государя объяснить, со словами: «нет, позвольте» стал вырывать письмо. Получилась некрасивая картина: Государь тянет письмо к себе и что-то силится сказать, а Коровиченко – к себе и только твердит, не переставая: «нет, позвольте».
Наконец, Государь, как это заметно было, внутренне возмутился, махнул рукой и со словами;
«Ну в таком случае я не нужен. Я иду гулять», – вышел из кабинета.
Коровиченко долго рылся в ящике и тщательно отбирал бумаги, которые представлялись ему нужными. В конце концов он забрал почти все бумаги и доставил их в Петроград Керенскому. Впоследствии Коровиченко рассказывал, что Керенский и Переверзев полагали найти в личной переписке Императора и в письмах Императрицы необходимые для них документы, которые могли бы скомпрометировать Царя и Царицу интимностью сношений с Вильгельмом и обличить их в измене Родине в пользу немцев, о чем тогда кричали все газеты и в чем были искренно убеждены оба министра. Однако их ознакомление с конфискованным личным архивом Императора совершенно рассеивало эту гнусную клевету и, наоборот, обрисовывало Государя и Государыню как людей, лично враждебно настроенных к Вильгельму и Германии и твердо отстаивавших национальную честь и интересы России.
При ознакомлении министров с личной перепиской Государя не обошлось и без курьеза: Переверзеву и Керенскому в числе телеграмм Государя к Государыне попалась одна с частью зашифрованного в ней текста. Долго бились над секретом шифра; были собраны все самые искусные в Петрограде специалисты и наконец, после больших усилий, дешифровали – Государь зашифровал следующие слова: «целую крепко, здоров».
Однако вся эта наглая и злостная клевета выяснилась для Керенского лишь через два-три дня. В день же выемки бумаг он был убежден в преступности Императора, а потому, пока Коровиченко разбирался в бумагах, он нашел Государя и объявил ему, что, как министр юстиции, он считает необходимым принять некоторые меры пресечения и решил отделить Царя от остальной Семьи, а главное от Государыни Императрицы. Император должен был жить на своей половине, совершенно отдельно от остальной Семьи; видеться с женой и детьми ему разрешалось только во время общего обеда и за вечерним чаем, причем разговаривать между собою они должны были исключительно на русском языке. Наблюдение за точным исполнением сего решения Керенский возлагал на дежурного офицера, который обязан был присутствовать при каждом свидании отца со своей Семьей.
Керенский, в сущности, хотел изолировать на таких основаниях не Государя, а Императрицу, и только настояния более уравновешенных членов кабинета, указывавших на бесчеловечность отделения матери от болевших детей, понудили Керенского отказаться от своего первоначального предположения и принять эту меру относительно отца.
Так последователен был этот министр Временного правительства, на словах проповедовавший о законности, о неприкосновенности личности, а на деле отличавшийся своими незаконно-безнравственными действиями.
Это отделение Императора от Семьи глубоко возмутило Государыню своей абсолютной несправедливостью.
«Так низко поступать с Государем, – сказала она Жильяру, – после того, как он пожертвовал собою и отказался от престола, чтобы избежать гражданской войны… Как это скверно, как это мелочно! Император не хотел, чтобы из-за него пролилась кровь хотя бы одного русского. Он всегда был готов от всего отказаться, если бы был уверен, что это будет ко благу России… Да, надо перенести и эту горькую обиду!»
Хотя Керенский уже через три дня, ознакомившись с личными бумагами Государя, и отменил свое распоряжение об изоляции Царя и Семья снова соединилась в своем дружном и духовном кругу, но все эти эпизоды явились лишь теми последовательными этапами по пути Царской Семьи к своей голгофе, которые логически и неизбежно вытекали из всей предыдущей фальшивой, искусственной и непоследовательной работы руководителей Государственной Думы и общественности по созданию «народной революции» и переворота «государственного порядка».
После этого Керенский приехал во дворец 12 апреля. Он держал себя как ни в чем ни бывало; был чрезвычайно жизнерадостен и представился совершенно другим человеком. Вид суровой Немезиды исчез с него совершенно; он был весел, любезен со всеми придворными и прислугой и непринужден в обращении…
«Доложите, пожалуйста, Государыне, – сказал он дежурному камердинеру, – что я ее приму в кабинете Государя; вот здесь», – указал он рукой на кабинет.
Камердинер пошел и в точности доложил Ее Величеству слова Керенского. Государыня улыбнулась и сказала:
«Я не пойду. Пусть придет в мою комнату».
Камердинер вернулся в кабинет, где ждал Керенский и передал ему ответ Императрицы. Керенский с полной готовностью, вскочив с кресла, на которое было уже уселся, и сказав «хорошо, хорошо», быстро пошел наверх в комнату Императрицы. Говорил он Императрице что-то очень громко, оживленно и весело; было слышно, что в беседе он много и раскатисто хохотал. Государыня потом рассказывала, что Керенский, балагуря, передал ей о дебатах, происходивших в петроградских совдепских кругах по поводу необходимости перевести Царскую Семью в Петропавловскую крепость.
С этого приезда Керенский резко изменил свое отношение к Государю и ко всей арестованной Семье. Когда угар клеветы с него спал и он присмотрелся к этим чуждым до того ему людям, совесть как будто в нем заговорила, и он стал пытаться смягчать условия их жизни, как арестованных, и стараться оградить Их от назойливости и наглости некоторых особо злобных представителей новой революционной власти. Но уже было поздно: он ничего не мог сделать, так как сам не имел, в сущности, никакой власти и мог держаться на колеснице власти, только послушно следуя за теми «темными силами» революции, в рядах которых он сам занимал почетное звание товарища председателя.
Как на характерный эпизод этого безвластия власти нельзя не указать на один маленький случай, когда Керенский в искреннем стремлении услужить Царской Семье должен был почувствовать полное свое бессилие. Когда местный Царскосельский совдеп перестал доверять Кобылинскому, что случилось очень скоро, то, дабы иметь своего постоянного соглядатая во дворце, он назначил, как уже упоминалось выше, в помощь Кобылинскому выбранного из своей среды прапорщика Домодзянца, армянина по происхождению. Это был глупый, грубый и нахальный человек. Он всячески домогался втиснуться как-нибудь во дворец, куда Кобылинский его упорно не допускал. Тогда он стал постоянно торчать в парке в то именно время, когда Семья выходила на прогулку. Однажды, когда Государь, проходя мимо него, по обыкновению встречи с офицером, протянул ему руку, чтобы поздороваться, Домодзянц не принял руки Государя и заявил ему, что он не может по должности помощника коменданта подавать руку арестованному.
Кобылинский об этом поступке Домодзянца сообщил Керенскому. Последний, приехав в Царское Село, посетил местный совдеп и имел разговор с председателем. Во время этого разговора председатель доложил Керенскому:
«Позвольте Вам доложить, господин министр, что вы выбрали в помощники коменданта прапорщика Домодзянца».
На это Керенский ответил ему резким голосом:
«Да, я знаю. Но неужели вы не могли выбрать другое лицо, не такого хама, идиота и дурака?»
Несмотря на столь нелестный отзыв господина министра, местный совдеп не счел нужным изменять своего выбора, и прапорщик Домодзянц остался на своем месте, нахально стараясь попадаться на глаза Керенскому, когда тот посещал дворец.
Назначение этого прапорщика Домодзянца было вызвано вовсе не служебной потребностью коменданта, а явилось результатом той глухой и непримиримой борьбы между членами Временного правительства и советом с. и р. депутатов, которая, несмотря ни на какие внешние, условные соглашения, внутренне ни на минуту не прекращалась начиная с 27 февраля и которая всегда оканчивалась победой совета, фактического распорядителя властью за все время существования Временного правительства. Когда совет узнал, что его противник замышляет вывезти Царскую Семью в Англию и затеял по этому поводу какие-то переговоры с представителями британского посольства, то, не считаясь с официальным признанием власти Временного правительства, он самостоятельно и независимо установил как в Царском Селе, так и на железных дорогах ряд мер, направленных к воспрепятствованию попытке Правительства исполнить свое намерение. К числу этих мер относилось и предложение Петроградского совдепа местному Царскосельскому совдепу назначить в качестве постоянного соглядатая прапорщика Домодзянца. Хотя все эти мероприятия шли совершенно вразрез с волей «законной» власти, но, в силу своего безволия и бессилия, Временное правительство вынуждено было «санкционировать», по выражению известного присяжного поверенного и товарища председателя исполкома совдепа Соколова, незаконные распоряжения Совета солдатских и рабочих депутатов.
Если охранники и представители революционной «законной» власти за время ареста Царской Семьи в Александровском дворце получили возможность присмотреться к личности, характеру, нравственно-религиозному облику бывшего Самодержца и Помазанника Российской Державы, то в свою очередь и Государь получил возможность подойти к значительной массе простого русского человека непосредственно, непосредственно быть в его среде, непосредственно говорить с ним, проникать в его интересы, в его душу, в его мировоззрение. До этой поры между обеими сторонами была стена, стена глухая, трудно преодолимая. Для одной стороны эту стену создало отступничество от веры в свое русское, историческое, идеологическое мировоззрение, а для другой – бюрократизм исполнительной власти и властолюбие боярщины. Теперь верхняя часть стены, созданная исполнительной властью и боярщиной, обвалилась, и стоявшие по обе стороны стены русские люди увидели друг друга. И что же?..
Одни, утратившие веру, взглянув угрюмо и злобно, взглянув, как судьи и обвинители, на представшего перед ними развенчанного Царя, постепенно, по мере знакомства с ним, стали изменяться, стали прозревать, стали делаться лучше, сердечнее, стали интересоваться им, стали заботиться о нем, стремились спасти его. В них вера была помрачена; потом как будто в них начали возрождаться признаки пробуждения веры, элементы морали, нравственности, духа. Они могли вернуться в массе и к вере.
С другой стороны стены стоял Царь, веривший в идею, веривший заочно и в народ. Он пошел к нему спокойно, доверчиво, с протянутой рукой. Один не принял, другой не принял, третий отвернулся, четвертый смутился, но вера Царя была слишком сильна – он не опускал руки. И вот нашелся один принявший руку, за ним – другой, потом – несколько, потом – много, потом… могла быть вся Россия. На тропе, отделенный стеной. Он не ошибался в своей вере: «народ добрый, хороший, его смутили злые люди и жиды…»
В своем кругу
«Обнявшись, с просветлевшими лицами, не обмолвившись еще ни одним словом друг с другом, они пошли в комнату детей».
Так отмечает свидетель встречу Государя с Государыней в первые минуты их соединения в Алексадровском дворце, 9 марта 1917 года, после хотя и не продолжительной, но тяжелой безызвестностью и пережитыми обоими событиями разлуки. Рассказы приближенных и прислуги, окружавших Царскую Семью в период ее ареста, показания свидетелей охраны и комендатуры в различные периоды заключения Семьи в Царском Селе, Тобольске и Екатеринбурге позволяют обрисовать общие, основные, характерные черты, присущие как всей Семье в целом, так и отдельным ее членам, в достаточной степени точности, своеобразности и определенности. Возвращение Отца живым и объединение всей Семьи вместе под одной кровлей было громадным нравственным и духовным утешением для всех ее членов в эти исключительно трагические дни их жизни и не могло не вызвать прежде всего радостного чувства, что их не разлучат и предоставят им, во взаимной поддержке друг друга, проявить любовь и силы, чтобы смягчить горячо любимому отцу и мужу его тяжелые душевные переживания за текущие события и за будущность дорогой для них всех Великой Родины. В этом отношении примером самоотвержения, преданности и заботы о Государе являлась жена и мать, она сумела передать и воспитать в детях те же высокие чувства, сосредоточивавшие внимание и почитание Семьи на отце, несмотря на то, что по силе воли и характера внутренней руководительницей жизни и быта семейного очага оставалась мать.
Весь внешний и духовный уклад домашней жизни Царской Семьи представлял собою типичный образец. чистой, патриархальной жизни простой русской, религиозной семьи. Вставая утром от сна или ложась вечером перед сном, каждый из членов Семьи совершал свою молитву, после чего утром, собравшись, по возможности, вместе, мать или отец громко прочитывали прочим членам положенные на данный день Евангелие и Послания. Равным образом, садясь за стол или вставая из-за стола после еды, каждый совершал положенную молитву и только тогда принимался за пищу или шел к себе. Никогда не садились за стол, если отец чем-нибудь задерживался; ждали его. Когда кто-нибудь из детей обращался к матери по вопросам, касавшимся воспитания, образования или отношений внешнего свойства, мать всегда отвечала: «Я поговорю с отцом». Когда к отцу обращались с вопросом того или другого внутреннего или хозяйственного распорядка или с вопросом, касавшимся всей Семьи, он неизменно отвечал: «Как жена, я поговорю с ней». Оба поддерживали авторитет друг друга и оба по вере сознательно проводили идею «единой плоти и единого духа».
Нормально день их ареста в Царском Селе складывался так: вставали в 8 часов утра; молитва, утренний чай всех вместе, кроме, конечно, больных, еще не выходивших из своих комнат. Гулять разрешалось им два раза в день: от 11 до 12 часов утра и от двух с половиною до пяти часов дня. В свободное от учебных занятий время дня, дома, Государыня и дочери шили что-нибудь, вышивали или вязали, но никогда не оставались без какого-либо дела. Государь в это время читал у себя в кабинете и приводил в порядок свои бумаги. Вечером после чая отец приходил в комнату дочерей; ему ставили кресло, столик, и он читал вслух произведения русских классиков, а жена и дочери, слушая, рукодельничали или рисовали. Государь с детства был приучен к физической работе и приучал к ней и своих детей. Час утренней прогулки Император обыкновенно употреблял на моцион хождения, причем его сопровождал большей частью Долгоруков; они беседовали на современные, переживавшиеся Россией темы. Иногда вместо Долгорукова его сопровождала которая-нибудь из дочерей, когда они поправились от своей болезни. Во время дневных прогулок все члены Семьи, за исключением Императрицы, занимались физической работой: очищали дорожки парка от снега, или кололи лед для погреба, или обрубали сухие ветви и срубали старые деревья, заготавливая дрова для будущей зимы. С наступлением теплой погоды вся Семья «занялась устройством обширного огорода, и в этой работе с ней вместе принимали участие некоторые офицеры и солдаты охраны, уже привыкшие к Царской Семье и стремившиеся выказывать ей свое внимание и доброжелательство.
С течением времени, поправившись от болезней, дети возобновили свои учебные занятия. Так как посещение преподавателями и учителями со стороны, извне, было воспрещено, то родители организовали обучение при посредстве тех придворных лиц, которые разделяли заключение с Семьей. Таким образом, Государь принял на себя преподавание наследнику Цесаревичу географии и истории; Государыня проходила со всеми детьми Закон Божий; Великая княжна Ольга Николаевна занималась с младшими сестрами и братом английским языком; Екатерина Адольфовна Шнейдер преподавала младшим Великим княжнам и наследнику Цесаревичу математику и русскую грамматику; графиня Гендрикова занималась с Великой княжной Анастасией Николаевной историей; баронесса Буксгевден – со старшими Великими княжнами английским языком; доктор Боткин – с Алексеем Николаевичем русской литературой; доктор Деревенько – с ним же естествовещением, а Жильяр – со всеми французским языком.
Из переписки документов, принадлежавших князю Долгорукову и найденных с остатками его вещей в Екатеринбурге в помещении бывшего областного совдепа, видно, что в период ареста в Царском Селе и в Тобольске Государь и Государыня были очень озабочены урегулированием и обеспечением финансовой стороны будущей жизни Семьи и старались тщательно экономить оставшиеся в их распоряжении очень скромные личные средства, сокращая до минимума расходы на свою жизнь. Несмотря на ограниченность средств, отказывая себе, довольствуясь простым столом, Государь и Государыня не прекратили своей благотворительности и старались помогать другим насколько могли; прошения же от разных частных лиц о помощи и поддержке, несмотря на официальное объявление об их низложении и аресте, не прекращали поступать во дворец, и Державная Чета удовлетворяла их в мере своей возможности. Следует отметить, что в делах Долгорукова сохранилась расписка комиссара Панкратова в получении им от бывшего Государя Императора пожертвования на нужды фронта в размере 300 рублей. Между тем в это время средства Семьи были уже настолько исчерпаны, что коменданту охраны приходилось изыскивать способы добыть деньги под свои векселя у частных лиц, чтобы прокормить Семью и состоявших при ней придворных и прислугу. Камердинер Чемадуров показывал, что когда по приезде в Екатеринбург комиссар Дидковский произвел обыск, то у Государя и Государыни денег не оказалось совершенно; у Великой княжны Марии Николаевны нашлось 16 рублей 33 копейки и у доктора Боткина – 280 рублей.
Сношения Царской Семьи с внешним миром после ареста не прекратились; Семья продолжала получать не только прошения о помощи, но и выражения сочувствия, симпатии от далеких людей из провинции, от монастырей и от раненых офицеров и солдат, бывших на излечении в госпиталях Царского Села, где работали в качестве сестер милосердия Государыня и две старшие дочери. Великие княжны продолжали получать письма и от подруг придворного круга, хотя некоторые из этих корреспонденток писали, видимо, с некоторой осторожностью. По этому поводу характерен следующий рассказ полковника Кобылинского:
«Люди трусили обнаружить свои отношения к Царской Семье. Ольгу Николаевну очень любила Маргарита Хитрово. Она часто приходила ко мне и просила передать письма Ольге Николаевне. Свои письма она всегда так и подписывала: “Маргарита Хитрово”. Так же полно в письмах, которые мне приносила Хитрово, подписывалась еще Ольга Колзакова. Но были и такие письма, авторы которых подписывались так: “Лили (Дэн)”, “Тити” (Вильчковская). Я как-то сказал Хитрово: вот Вы прямо и открыто подписываетесь своим именем. Так же подписывается и Ольга Колзакова. А другие скрывают свои имена. Представьте себе, каким-либо образом эта переписка попадет в руки теперешней власти и меня спросят: от кого эти письма? Ведь мое положение передатчика писем станет глупым. Передайте, пожалуйста, авторам этих писем, что я прошу их прийти ко мне. Должен же я знать, кто они такие».
«После этого, – добавляет Кобылинский, – я совсем перестал получать письма от Лили и Тити для Ольги Николаевны».
Но лично Государю пришлось пережить измену почти всех бывших приближенных и любимейших чинов былой Свиты. Перенес он эту измену стойко, мужественно, видя в этом перст Божий, и никто не услышал от Него ни слова упрека и осуждения. В этом отношении сказывается поразительное величие его души, как бывшего Царя и Помазанника Божия Великой России. Так, однажды, когда вместо уходившего Бенкендорфа Керенский предложил ему выбрать заместителя, то его выбор остановился первоначально на Нарышкине, до революции исполнявшем при нем обязанности начальника личной походной канцелярии. Нарышкин, поставленный в известность о выборе Царя, просил дать ему 24 часа на размышление. Об этом доложили Государю.
«Ах так, тогда не надо», – сказал Император совершенно спокойным, сдержанным голосом, в котором не чувствовалось ни осуждения Нарышкину, ни той боли, которую должно было вызвать в Царе это слишком определенное колебание своего бывшего приближенного, и он тотчас же попросил дать знать генералу Татищеву, что он избирает его, хотя Татищев и не принадлежал к свитским.
Все эти факты, раскрывавшие теперь перед Царем истинное содержание и подлинное лицо царедворцев, окружавших его трон и долженствовавших служить ему опорой, конечно, причиняли Государю страшную внутреннюю боль, тем более что теперь он видел воочию, до чего даже в кругу ближайших своих придворных-бояр, он был одинок со своей святой идеей русского народа и в борьбе с «темными силами» боярства, стремившимися дискредитировать его в глазах народной массы, и вырвать из его рук Богом данную ему власть. Он совершенно спокойно принимал то, что писалось про него и про Государыню во всех русских газетах после его отречения и заключения под арест. Он знал, что эти клеветнические, грязные обвинения служили одной из главных сил подпольной агитации, стремившейся восстановить против него и жены общественное мнение и поднять на революционное движение народные массы, а потому появление их в печати после переворота не могло уже причинить его чувствам особенно острой боли. Как-то однажды, значительно позже, Татищев, умиленный картиной семейного дружного очага Царской Семьи и глубокой любовью, существовавшей между всеми ее членами, не удержался и высказал Государю свое восторженное удивление. Император, конечно, не мог не почувствовать некоторой горечи от слов Татищева, этого верного, честного и самоотверженного приближенного, и с присущей Ему добротой и, быть может, с некоторым легким оттенком доброй иронии ответил ему:
«Если Вы, Татищев, который был моим генерал-адъютантом и имели столько случаев составить себе верное суждение о нас, так мало нас знали, как Вы хотите, чтобы мы с Государыней могли обижаться на то, что говорят о нас в газетах?»
Но переживание прямой измены служению Самодержавию и народу со стороны ближайших своих сподвижников и родственников, конечно, не могло не причинить Царю самых острых страданий и мучений, тем более что он любил этих людей, любил искренно и горячо и бесконечно верил их преданности и чистоте привязывавших их к нему чувств. Надо было быть действительно Боговидцем по небесной любви, чтобы иметь силу и добрую волю так до конца прощать людям их прегрешения, ни одним словом, ни одним выражением не осудить этих людей в разговорах с другими и простить им всю ужасную боль разочарования и сомнения, которую не мог не испытать Царь от их измены.
И тем не менее эти личные мучения и страдания были ничто в сравнении с теми страданиями, которые переживал Государь за Россию за все время своего 17-месячного ареста. После отказа Великого князя Михаила Александровича принять власть он хотел сначала верить, что вынудившая его отречение Государственная Дума является действительной выразительницей воли народа в данный момент упадка духовных сил страны и что она сможет повести за собой народные массы к достижению победы во чтобы то стало и вольет в страну приток тех необходимых внутренних национальных сил, которые вернут ей утраченные за предыдущий напряженный период борьбы патриотическую энергию и могучий порыв в сознании спасения в прочном государственном единении. Признавая себя слабым волей и характером в проведении в жизнь решений, соответственных своим духовным идеям и сердечным побуждениям, он мнил увидеть силу в людях новой власти и нового направления, приложенную сообразно тем принципам и задачам государственного единения, которые так настойчиво и убедительно рисовались ему в последнее время всеми представителями общественности, политики и военного командования. Он любил людей, а потому и верил им. Поэтому и в Пскове он поверил утверждениям представителей Государственной Думы, что они справятся с положением и «не предвидят осложнений от перемены строя государственного управления».
В эти первые дни надежды на волю и характер новой власти он продолжал страдать лишь страданием своей душевной борьбы, пережитой в дни 28 февраля, 1 и 2 марта, и, вернувшись в Царское Село, весь ушел в семью, в нежной заботе и любви коей он приобрел силы бороть и терпеть свое внутреннее переживание. В эти дни Царскосельского заключения Государь ни с кем не делился мнениями или впечатлениями о текущих политических событиях. С полной покорностью воле Всевышнего Промысла, он безропотно подчинился всем ограничительным условиям ареста, установленным Временным правительством, и только грубая выходка Коровиченки при выемке его бумаг, видимо, единственный раз вывела его из равновесия, что и было замечено посторонними свидетелями, привыкшими видеть его всегда поразительно выдержанным и умеющим владеть собою.
Обострение страданий за Россию началось несколько позже. Государь получал много газет и с громадным увлечением следил по ним за событиями, развертывающимися в России. Эти сведения не давали ему, конечно, полной картины, а главное, не указывали наглядно на действительный ужас бессилия и безволия новой власти в борьбе с растлевающим страну и народ влиянием «темных сил» революции, вспыхнувшей тотчас же за его отречением от престола. Об этой действительности получавшиеся им газеты в первое время или умалчивали совершенно, или говорили в таких туманных и неопределенных выражениях, что не вызывали в читающем особой тревоги. Но через некоторое время Государь стал получать сведения о фактическом положении дела через своих приближенных, которые, в свою очередь, получали эти сведения от родных и знакомых, остававшихся в Петрограде. Эти сведения, пополняя сообщения газет, начали рисовать в сознании Государя картину истинного положения новой власти, и в связи с этим положением постепенно характеризовали прогрессивный ход анархии в стране и разложения армий на фронте. Вот тогда внутреннее страдание Государя за будущность России стало принимать такую острую и сильную форму, что Он потерял возможность сдерживать себя, и окружающие стали замечать прорывавшиеся наружу сильное волнение и внутренний ужас, охватившие все его существо; сплошь да рядом, не будучи в силах сдерживать свои страдания, он начал делиться своими мыслями и чувствами с окружавшими его приближенными, чего раньше никогда не делал.
Первым доверенным в этом отношении явился князь Долгоруков. Прочтя полученные утром газеты и сведения, Государь уводил Долгорукова на утреннюю прогулку и, ходя быстрыми шагами в отведенном для прогулок районе, делился с ним своими впечатлениями о текущих событиях. Из рассказов Долгорукова остальным приближенным можно судить, что страдание Государя было очень глубоким и сложным. Оно нарастало постепенно, по мере того, как, с одной стороны, Император утрачивал надежду на способность и силу новой власти справиться с своей задачей, и с другой – по мере того, как из бесед и знакомства с охранниками, его окружавшими, он приходил к подтверждению своего духовного убеждения, что масса русского простого народа совершенно не разделяла политических стремлений европейски-увлеченных руководителей Государственной Думы и оставалась тем, чем была испокон веков – «верующею, но легко поддающеюся смуте, на которую надо действовать добром». Глубоко верующий сам, Государь ни минуты не сомневался, что в основе переживавшихся Россией событий лежит воля Промысла Всевышнего Творца, но, как мудрый человек, Он не мог понять, как руководители интеллигентных классов населения могли так увлекаться человеческими идеями и побуждениями, чтобы идти вразрез с историческим, духовно-идеологическим воззрением русского народа, пробуждая в нем не внутренние хорошие и духовные начала, а потакания и возбуждая к жизни только низменные и животные инстинкты внешней натуры малокультурного и несознательного человека. Он понимал, что этот путь будет уклонять русского человека от добра и Христова света, которые инстинктом жили в глубоких недрах его простой души и инстинктивно же вызовут в массах ужасный протест, который, за отсутствием доброго влияния и сдерживающих духовно-национальных принципов, поведет к страшной внутренней распре, вражде и деморализации страны. И как человек, воплощавший в себе сверхчеловеческий запас любви, Государь страдал за будущее русского народа, страдал его страданиями или, вернее, теми страданиями, которые ему предстояло перенести на историческом пути государственной жизни. Он по-человечески мудро оценивал опасность и вред тех или других шагов новой власти, видел ее бессилие, ввести жизнь государства в рамки, не присущие народному духу, и в то же время искренно радовался каждому проблеску возможности ей удержать развал страны и не допустить народных масс до увлечения крайними течениями.
И в ряду общего страдания за Россию его особенно мучили опасения за армию. Знаменитый приказ № 1 был доставлен ему с фронта, почему он знал, что развращающие идеи этого приказа стали достоянием солдатской массы. Он не мог понять, как власть, уважающая себя, здравая и претендовавшая быть властью национальной, могла допустить распространение в армиях приказа, который заведомо должен был привести к разложению солдатских масс, к подрыву авторитета какой бы то ни было власти и к невозможности продолжать борьбу с внешним врагом. В один из дней после получения этого приказа Государь, сильно взволнованный, выйдя из обычных рамок своей сдержанности, встретил Жильяра и, никогда раньше не делясь с ним своими мыслями, горячо и нервно сказал ему:
«Я имею сведения, что генерал Рузский подал в отставку; он хотел перейти в наступление, но солдатские комитеты были с ним не согласны. Если это правда, то армии больше не существует. Какой ужас!.. Ведь это равносильно самоубийству; мы дадим немцам свободу действий. Они раздавят союзников, а потом очередь дойдет и до нас… Я надеюсь лишь на то, что у нас любят преувеличивать. Не может быть, чтобы в два месяцы армия пала так низко».
Тем с большей радостью, искренностью и надеждой на возможность возрождения национальных сил, на возможность упрочения новой власти относился он к таким сведениям, как первоначальные известия о благополучно начавшемся Тарнопольском наступлении. Веселый и счастливый Он приходил по вечерам к постели наследника Цесаревича и с увлечением читал ему последние новости с поля сражения, в которых сообщались данные о трофеях и пленных, захваченных нашими войсками при наступлении. По случаю этих успехов 21 июня во дворце был отслужен благодарственный молебен, и бывший Император не скрывал от окружающих своей радости, что, помимо военного значения победы, «эти успехи укрепят власть Временного правительства и ему, быть может, удастся восстановить снова мощь и дух армии и довести войну до конца с честью». Он весь был проникнут одним чувством любви к Великой Родине и горячо молился, когда провозглашалось многолетие «Временному российскому правительству». У окружавших его в заточении приближенных сложилось вполне определенное впечатление, что Он готов был перенести безропотно и с полной покорностью все самые строгие и унизительные ограничения ареста и все самые тяжелые последствия своего отречения от власти, лишь бы новые люди и новое положение смогли и сумели спасти от окончательной гибели его дорогую Россию и русский народ.
Государь по примеру 1905 года понимал, что значительное участие в распространении клеветнической и политически-зловредной агитации принадлежит Германии и прекрасно организованной ею агентурно-политической сети в России. Ему особенно чувствовалась рука Германии в пацифистических тенденциях, проникших в агитацию со времени его отречения от престола и всегда пользовавшихся для политической атаки принципами самых крайних социалистических течений: «мир без аннексий и контрибуций»; «мир народов, а не правительств»; «мир во имя всеобщего братства» и т. п. лозунгами, выдвинутыми пропагандой в рядах армий на фронте. Ему ясна была и цель, которую преследовала Германия. Это был подлый, низкий способ борьбы, но для Государя он был не неожидан, так как еще до объявления войны он хорошо отдавал себе отчет в том, что Германия не остановится ни перед какими средствами, чтобы остаться победительницей в мировой борьбе народов. Но что ужасало его не менее и что причиняло ему глубокую боль, так это отношение к нему лично со стороны Англии, газеты коей не преминули подхватить почти все гнусные сплетни, создававшиеся в социалистических и германофильских подпольях дореволюционного времени. Он отказывался понимать в этом отношении британское общественное мнение, которое, следовательно, не обнаруживая себя раньше, до его отречения, по чувству условной корректности, разделяло в тайне всю эту гнусность и могло даже простым тайным сочувствием поддерживать революционные стремления социалистических элементов России против него и против существующего государственного строя, слепо содействуя, таким образом, стремлениям Германии ослабить силы своих противников. Государственной мудрости в британском общественном мнении хватило лишь в пределах узконационального торгашеского джентльменства, и представлявшаяся выгодной политическая сделка подвигнула его на рекламирование вслепую ценностей определенно германского и подпольного изготовления. При той честности и лояльности, которые Царь лично проявлял по отношению к союзническим обязательствам и которые он свято проводил во всех своих манифестах, указах и приказах, Он не мог не ужасаться перед этой слепотой и ограниченностью английского общественного суждения, игравшего в руку могущественного и сильного своей государственной национальностью противника и помогавшего разрушительной, анархическо-пораженческой работе в стране и в рядах союзных армий на фронте. Государь не допускал мысли о возможности новой революционной России отказаться от союзнических обязательств, как не допускал ее раньше и для себя, совершенно независимо от личных или общественных симпатий к государственному строю того или другого из союзников. Английская пресса не могла не знать как о тех колоссальных человеческих жертвах, по сравнению с жертвами союзников, которые были принесены русским народом именно в период самодержавного правления Императора Николая II, так и о том, что только благодаря честности и верности русского Монарха принятым на себя обязательствам и только ценою крови русского народа, пролитой безропотно в преданности своему Самодержцу и Помазаннику, союзники были спасены от разгрома в самом начале войны. И поэтому теперь поведение английской прессы, лишенное этичности и государственной мудрости, как бы подчеркивало косвенно пренебрежение к тем кровавым жертвам, которые были принесены русским народом. И Царь страдал именно за эти жертвы, принесенные народом по его требованию и оставшиеся как бы неоцененными теми, кого он спас своей кровью. Он высказал свои мысли только Долгорукову, зная его преданность себе, и зная, что Долгоруков его поймет. Косвенно он дал понять о своем чувстве боли за поведение английской прессы в разговоре с Жильяром, когда указал ему на то, что французская пресса соблюдала полную корректность в отношении его, описывая события, предшествовавшие отречению и самое отречение от престола, чего в английской прессе он не видит.
Его беспредельная любовь к своему русскому народу заставляла его, таким образом, страдать за прошлое, за настоящее и за будущее России. Он страдал, как человек, не могущий подать помощи опасно и остро заболевшему близкому другу, но чувствовавший всеми фибрами своей отмеченной и благословенной Богом души, что истинные пути к выздоровлению, истинные пути к спасению существуют на земле, существуют в глубине натуры русского человека, но находятся не в тех чуждых русскому народу формах и принципах, которые навязывали ему его руководители-бояре. Он страдал за бессилие и безволие других людей спасти положение, дать России возможность выйти победоносной и целой из этой ужасной мировой войны. Он страдал за страдание всего Богом вверенного ему народа, ответственность за которого перед Всевышним Творцом оставалась только на нем одном, и верил, что Промысел Божий даст ему возможность пострадать за Россию до конца и что во Всевышней Мудрости ниспосланных ему и Родине страданиях откроются истинные пути к новой главе и великому служению Христу будущей Великой возрожденной России.
Это величественное страдание наложило на него отпечаток поразительной кротости и мягкости, с которыми он обращался ко всем окружавшим и приближавшимся к нему за последние 17 месяцев его земной жизни. Эти ярко выразившиеся в нем свойства, отмечаемые всеми свидетелями, вплоть до екатеринбургского охранника-зверя Летемина, дали ему страшную силу, которою он побеждал людскую злобу и располагал к себе простых русских людей, которых судьба ставила вокруг него в положение тюремной стражи. Впоследствии создававшиеся благодаря такому положению взаимоотношения между арестованным и его стражей причинили много беспокойства изуверским представителям советской власти и вынудили сынов лжи принять исключительные меры при приведении в исполнение своего гнусного и зверского плана уничтожения Царской Семьи.
Напряжение последних дней, вызванное неведением о судьбе мужа, в связи с беспокойством за состояние здоровья детей, и особенно сына, и волнения за переживаемые Россией события в конце концов совершенно подорвали силы Императрицы, и после возвращения в Александровский дворец Государя она слегла и почти не сходила с постели или полулежачего кресла. Внутреннее потрясение, усиливавшееся стремлением скрыть от детей и окружающих силу своих душевных мучений, отразилось на болезненности сердца, и после нескольких сильных припадков работа сердца приняла характер определенного порока, не допускавшего самых незначительных повышенных движений и физических усилий. Она была в состоянии самостоятельно переходить только из комнаты больных дочерей в комнату Наследника, и до начала апреля не сходила даже в столовую. Все свое время Государыня проводила среди любимых детей и была счастлива, что могла отдаться теперь всецело заботам о муже, Семье и детях и отдохнуть душой от тех тяжелых дней, когда была потеряна связь с Государем и когда она так тревожилась за его участь.
Позже, когда погода стала теплее и силы ее несколько окрепли, при помощи мужа или своих приближенных дам она выходила в установленные дневные часы в парк, и в то время, когда другие члены Семьи занимались различными физическими работами или огородными посадками, она усаживалась где-нибудь под деревом на подстилавшемся ей коврике и, занимаясь каким-либо рукоделием, вела беседы с окружавшими ее офицерами и солдатами охраны. Рукодельничала Государыня постоянно и работала поразительно искусно, быстро и артистически. Обреченная своим болезненным состоянием на неподвижную жизнь, она почти никогда не выпускала какого-либо рукоделия из рук. Пока Семья содержалась в Царском Селе, Императрица продолжала работать различные теплые вещи для больных и раненых и посылала их в местные лазареты и госпитали. Позднее, в Тобольске, она работала различные вещи для своего домашнего обихода, и в вещах, оставшихся от Екатеринбурга и отобранных от различных охранников, оказалось большое количество собственноручных изделий Императрицы самого разнообразного характера. Видимо, она хорошо владела и карандашом, так как в оставшихся вещицах нашлось несколько ее незначительных карандашных набросков, из коих карикатура на Великую княжну Ольгу Николаевну в костюме сестры милосердия являлась вполне художественной и меткой по характерным чертам сходства.
Государыня в отношении сохранения верности со стороны своих приближенных дам была более счастлива, чем Государь; ни одна из окружавших ее дам, составлявших близкий ее круг, в день ареста Императрицы генералом Корниловым не пожелала покинуть дворца, и все они разделили участь своей Августейшей Узницы, как шутливо подписывалась в записках к ним Государыня во все время содержания Семьи в Царском Селе. Старушки Бенкендорф и Нарышкина, вынужденные покинуть дворец из-за действительно серьезного болезненного состояния и преклонного возраста, оставляли Императрицу с большим горем и искренними слезами отчаяния, ясно указывавшими на силу и степень их глубокой, убежденной привязанности к своей бывшей Императрице. В настоящее время исследование, в силу особых условий работы, не имело возможности уделить много времени на специальное изучение переписки Государыни с ее приближенными, могущей установить с полной определенностью те духовно-нравственные начала, которые ложились в основу привязанности и дружбы между Императрицей и теми людьми, которым посчастливилось при жизни Государыни познать истинную возвышенную и одухотворенную натуру этой величественной Императрицы, жены, матери и женщины, так несправедливо и жестоко принятой и понятой в кругах русского интеллигентного общества. Со временем, быть может, историкам русской и чистой души удастся изучить довольно значительный материал по этому вопросу и осветить более глубоко исключительность духовного образа Государыни Александры Федоровны, которой Россия, по воле Всевышнего Промысла, создала полную трагизма Державную жизнь и великий мученический конец ее.
Взгляды Ее на текущие политические события, отношение Ее к народу, были совершенно таковыми же, как и Государя. Как и он, она надеялась первоначально, что Государственная дума сможет справиться с возникшим движением, новыми мероприятиями, соответствующими общему духовному упадку, вызванному напряжением тяжелой и затяжной войны, вызовет необходимый моральный подъем в стране для выигрыша времени и достижения победы над коварным, внешним врагом. Но, как и Император, Государыня понимала, что революция в России была во многом обязана Германии и неоднократно высказывала этот свой взгляд в беседах с приближенными:
«Революция в России – это не без влияния Германии. Но за это она поплатится сама тем же, что она сделала и с Россией».
И потому она считала, что поведение Думы в отношении Царя и вынужденное ею отречение от престола будут только на руку немцам, которые в своей политической работе не откажутся от дальнейших попыток внести смуту в народные массы. Поэтому когда после Тернопольской катастрофы определилось с полной ясностью, что новая власть в России не в состоянии справиться с положением и народ отшатнулся от нее и пошел за крайними течениями по путям развала России, Государыня решительно сознала и высказывала, что жертва, принесенная людям отречением Государя от престола, была принесена не народу в массе, не всей стране, не действительной воле «земли», а ограниченной кучке увлекшихся общественных и политических деятелей, безвольных и бессильных для борьбы с работавшими за кулисами немецкими агитаторами и большевистскими руководителями.
«Его хотят заставить поступить опять не в интересах России, как заставили это сделать уже однажды», – определенно высказалась она, когда приехавший в Тобольск комиссар Яковлев объявил об увозе Царя.
Обстановка, созданная вокруг нее в дни, предшествовавшие революции, захватила и ее, как и Царя, и, увлеченная перспективами опасности, которая угрожала России в случае потери ею способности продолжать мировую войну, и измученная личными переживаниями за участь горячо любимого человека, она первоначально как бы нашла себе некоторое удовлетворение и оправдание в отречении от престола, приведшем к прекращению борьбы за власть в трагические минуты государственной жизни и, главное, к устранению возможного из-за них кровопролития, которое было неминуемо в случае борьбы и внутренней гражданской междоусобицы. Она больше всего опасалась такой братоубийственной войны. Но это самооправдание продержалось очень недолго, только до тех пор, пока еще теплилась надежда, что жертва своей святыней, жертва, отмеченная Божественным Помазанничеством, принесена всему народу, всей земле, хотя бы и согрешившей против своих святых заветов под влиянием временного духовного упадка. Коль скоро эта надежда потеряла всякие основания и бездна между народом и руководителями из общественной среды и Государственной Думы предстала перед Государыней во всей ясности. Она, как сильный и мощный но натуре человек, ни минуты не осталась в прежнем заблуждении и в полной покорности воле Всевышнего Промысла приняла тот тяжелый крест, который накладывала на них ответственность за судьбу Богом вверенного ее мужу народа, того народа, который вследствие изменения государственного строя стал на путь страшного соблазна уклонения от Христова света, исторически озарявшего и руководившего судьбами Русского государства. Слабость временного духовного искушения с нее спала совершенно, и впоследствии она показала, до какого колоссального предела самоотречения и жертвы она способна была дойти в задаче ограждения святыни Помазанничества, покоившейся на челе ее безгранично любимого мужа.
Вся Семья жила в большой дружбе между собою и находила внутри себя любовь и твердость переживать и с терпением и кротостью переносить наступившие для нее дни тяжелого угнетения и унижения, а порой и оскорбления. По свидетельству приближенных, старшие Великие княжны поразительно сознательно и мужественно относились к постигшей их родителей перемене и преданной любовью и поразительной заботливостью старались им облегчить горечь обид и унижений, выпавших на их долю во время заточения.
Из детей наиболее сильной волею и твердостью характера отличалась Великая княжна Татьяна Николаевна. Госпожа Битнер говорит, что «если бы семья лишилась Александры Федоровны, то “крышей” для нее была бы Татьяна Николаевна. Она была самым близким лицом к Императрице. Они были два друга. Она и не была взята Государыней при отъезде из Тобольска, так как на нее был оставлен Алексей Николаевич». А полковник Кобылинский добавляет: «Когда Государь с Государыней уехали из Тобольска, никто как-то не замечал старшинства Ольги Николаевны. Что нужно, всегда шли к Татьяне: “как Татьяна Николаевна”. Это была девушка вполне сложившегося характера, прямой, честной и чистой натуры; в ней отмечалась исключительная склонность к установлению порядка в жизни и сильно развитое сознание долга. Она ведала, за болезнью матери, распорядками в доме, заботилась об Алексее Николаевиче и всегда сопровождала Государя на его прогулках, если не было Долгорукова. Она была умная, развитая; любила хозяйничать и, в частности, вышивать и гладить белье».
Великая княжна Ольга Николаевна представляла собою типичную хорошую русскую девушку с большой душой. На окружающих она производила впечатление своей ласковостью, своим «чарующим», милым обращением со всеми. Она со всеми держала себя ровно, спокойно и поразительно просто и естественно. Она не любила хозяйства, но любила уединение и книги. Она была развитая и очень начитанная; имела способности к искусствам: играла на рояле, пела, и в Петрограде училась пению, хорошо рисовала. Она была очень скромной и не любила роскоши. Битнер говорит: «Мне кажется, она гораздо больше всех в Семье понимала их положение и сознавала опасность его. Она страшно плакала, когда уехали отец с матерью из Тобольска». На всех окружающих производило впечатление, что она унаследовала больше черт отца, особенно в мягкости характера и простоте отношения к людям. Вместе с тем Великая княжна Ольга Николаевна оставляла в изучавших ее натуру людях впечатление человека, как будто бы пережившего в жизни какое-то большое горе. «Бывало, она смеется, а чувствуется, что ее смех – только внешний, а там, в глубине души ей вовсе не смешно, а грустно».
Великая княжна Мария Николаевна была самая красивая, типично русская, добродушная, веселая, с ровным характером, приветливая девушка. Она любила и умела поговорить с каждым, в особенности с простым человеком. Во время прогулок в парке вечно она, бывало, заводила разговоры с солдатами охраны, расспрашивала их и прекрасно помнила, у кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли и т. п. У нее находилось всегда много общих тем для бесед с ними. За свою простоту она получила в Семье кличку Машка; так звали ее сестры и Алексей Николаевич. Говорили, что наружностью и силой она уродилась в Императора Александра III. И действительно, она была очень сильна; когда больному Алексею Николаевичу нужно было куда-нибудь передвинуться, он зовет: «Машка, неси меня». Она легко его подымала и несла. Заболела она корью последней из Семьи; вследствие простуды в исторический вечер 27 февраля болезнь ее приняла особо тяжелую форму, перейдя в крупозное воспаление легких очень сильной степени. Только сильный организм Великой княжны помог в конце концов побороть тяжелую болезнь, но неоднократно положение ее принимало критическое состояние. Во время ареста она сумела расположить к себе всех окружающих, не исключая и комиссаров Панкратова и Яковлева, а в Екатеринбурге охранники-рабочие обучали ее готовить лепешки из муки без дрожжей.
Великая княжна Анастасия Николаевна, несмотря на свои 17 лет, была еще совершенным ребенком. Такое впечатление она производила главным образом своей внешностью и своим веселым характером. Она была низенькая, очень полная, «кубышка», как дразнили ее сестры. Ее отличительной чертой было подмечать слабые стороны людей и талантливо имитировать их. Это был природный, даровитый комик. Вечно, бывало, она всех смешила, сохраняя деланно-серьезный вид. В Семье ее прозвали комичной кличкой – «Швибз».
Про всех Великих княжон вместе полковник Кобылинский говорит: «Все они, не исключая и Татьяны Николаевны, были очень милыми, симпатичными, простыми, чистыми, невинными девушками. Они в своих помыслах были куда чище очень многих современных девиц и гимназисток, даже младших классов гимназии».
Любимцем всей Семьи, как родителей, так и сестер, да и вообще всех людей, соприкасавшихся с Царской Семьей во время ареста, был наследник Цесаревич Алексей Николаевич. Он поразительно располагал к себе всех своей непосредственностью, непринужденностью обращения, приветливостью, веселостью и простотой. Даже Янкель Юровский в Ипатьевском доме проявлял к Алексею Николаевичу признаки расположения и занимался с ним беседами или играл с ним в его игрушки. Это был умный, способный мальчик, но по развитию еще совершенно ребенок, так как постоянное болезненное состояние мешало Его серьезным занятиям и не успело развить в нем любви к учению и книге.
Чрезвычайно интересную характеристику о наследнике Цесаревиче дает Клавдия Михайловна Битнер, приходившая заниматься с ним в Тобольске:
«Я любила больше всех Алексея Николаевича. Это был милый, хороший мальчик. Он был умненький, наблюдательный, восприимчивый, очень ласковый, веселый и жизнерадостный, несмотря на свое частое тяжелое болезненное состояние. Он был способный от природы, но был немножко с ленцой. Если он хотел выучить что-либо, он говорил: “Погодите, я выучу”. И если действительно выучивал, то это уже у него оставалось и сидело крепко.
Он привык быть дисциплинированным, но не любил былого придворного этикета. Он не переносил лжи и не потерпел бы ее около себя, если бы взял власть когда-либо.
В нем были совмещены черты и отца и матери. От отца он унаследовал его простоту. Совсем не было в нем никакого самодовольства, надменности, заносчивости. Он был прост. Но он имел большую волю и никогда бы не подчинился постороннему влиянию. Вот Государь, если бы он взял опять власть, я уверена, забыл бы и простил поступки тех солдат, которые ему были известны в этом отношении. Алексей Николаевич, если бы получил власть, этого бы никогда им не забыл и не простил, и сделал бы соответствующие выводы.
Он уже многое понимал, и понимал людей. Но он был замкнут и выдержан. Он был страшно терпелив, очень аккуратен, дисциплинирован и требователен к себе и другим. Он был добр, как и отец, в смысле отсутствия у него возможности в сердце причинить напрасно зло. В то же время он был бережлив. Как-то однажды, когда он был болен, ему подали кушанье общее со всей семьей, которого он не стал есть потому, что не любил этого блюда. Я возмутилась – как это не могут приготовить ребенку отдельного кушанья, когда он болен. Я что-то такое сказала. Он мне ответил: “Ну вот еще. Из-за меня одного не надо тратиться”.
Я не знаю, думал ли он о власти. У меня был с ним разговор об этом. Я ему сказала: “А если Вы будете царствовать?” Он мне ответил: “Нет, это кончено навсегда”. Я ему сказала: “Ну а если опять будет, если Вы будете царствовать?” Он ответил мне: “Тогда надо устроить так, чтобы я знал больше, что делается кругом”. Я как-то его спросила, что бы тогда он сделал со мной. Он мне сказал, что он построил бы большой госпиталь, назначил бы меня заведовать им, но сам приезжал бы и “допрашивал” обо всем – все ли в порядке. Я уверена, что при нем был бы порядок».
Таковы материалы, которые исследование могло собрать в период своих работ для установления действительной характеристики членов Царской Семьи за период их состояния в заключении после отречения Государя от престола. Конечно, этими данными не исчерпывается полнота и детальность образов трагически погибших Августейших Мучеников, но они были достаточны следствию, чтобы согласиться с общим заключением об этой Семье, сделанным бывшим при Арестованных комендантом полковником Кобылинским в своем следственном показании:
«Про всю Августейшую Семью в целом я могу сказать, что все они очень любили друг друга и жизнь в своей Семье всех их духовно так удовлетворяла, что они иного общения не требовали и не искали. Такой удивительно дружной, любящей Семьи я никогда в жизни не встречал и, думаю, в своей жизни уже больше никогда не увижу».
Ссылка в Тобольск
24 июля по старому стилю, 6 августа по новому, в Царское Село приехал Председатель Совета Министров Керенский. Он вызвал к себе председателя местного совдепа, председателя военной секции Царскосельского гарнизона прапорщика Ефимова (офицер 2-го полка) и начальника Царскосельского гарнизона полковника Кобылинского. Керенский имел опять очень важный, «конспиративный» вид. Чувствовалось, что приехал он с какой-то важной целью и раньше, чем коснуться сути своего приезда, счел нужным обратиться к собранным лицам со следующим предупреждением: «Прежде чем говорить Вам что-либо, беру с вас слово, что все сказанное далее останется секретом».
Присутствовавшие дали слово.
Тогда Керенский объявил, что по постановлению Совета Министров вся Царская Семья будет вывезена из Царского Села; что Правительство не считает это секретом от «демократических организаций и учреждений» и что с Царской Семьей поедет в качестве коменданта и начальника охраны полковник Кобылинский. О том, куда предполагается вывезти Семью, а равно и когда, Керенский ничего не сказал и вслед за указанным заявлением попросил Кобылинского выйти и заперся для ведения каких-то «своих разговоров» с председателем совдепа и с прапорщиком Ефимовым.
Приблизительно через час, переговорив с указанными представителями «демократических организаций», Керенский вышел. Встретивший его полковник Кобылинский просил его указать, когда и куда именно будет вывезена Семья, полагая, что необходимо заблаговременно предупредить Государя и Государыню, чтобы они могли собраться и уложиться. Керенский, ничего опять не отвечая на вопрос о месте назначения Царской Семьи, сказал, что он сам предупредит Семью, и отправился во дворец.
В сущности, вопрос о том, какие в действительности причины понудили тогдашний состав Временного правительства принять решение о вывозе Царской Семьи в Тобольск, до сих пор следует считать открытым. Одно можно сказать с достаточной степенью убеждения, что меньше всего в этом решении могли играть роль причины, вытекавшие из интересов самой Семьи и их стремления гуманитарного характера, так как все последующее отношение Временного правительства к Семье, в период ее содержания в Тобольске, служит лишь подтверждением для обратных выводов (лишение Семьи средств на содержание, оставление охраны без положенного содержания, обыски в Семье, вызванные приездом Маргариты Хитрово, недопущение баронессы Буксгевден к Царской Семье, отозвание Макарова, назначение Панкратова и Никольского и т. п.). Значительно позже, уже в Тобольске, Государыня рассказывала приближенным, что, по рассказу Керенского во время его посещения 24 июля, перевозка Царской Семьи из Царского Села в Тобольск была вызвана будто бы опасением Правительства за безопасность ее в настоящем месте пребывания. Правительство, говорил Керенский, решило тогда взять более твердый курс в управлении страной. Но в то же время оно опасалось, что новый курс может повлечь за собою народные вспышки, с которыми ему, Правительству, придется бороться вооруженной силой, Опасаясь, что эта борьба «может ударить, так сказать, рикошетом» по Царской Семье, Правительство и решило выбрать для Нее иное, более спокойное место для жительства.
Однако даже на Государя и Государыню тогдашние объяснения Керенского произвели впечатление какой-то недоговоренности и неискренности. Керенский во время беседы был очень смущен, старался подчеркнуть свою личную почтительность и предупредительность, но так и не сказал тогда, куда же именно Правительство решило перевезти Семью, что заставило думать, что в то время он и сам еще не знал, куда Правительству удастся переместить арестованных. У Царя и Царицы сложилось мнение, что этот переезд диктовался не столько требованиями безопасности для Семьи, сколько необходимостью «ссылки» ее по каким-то причинам, довлевшим, может быть, над волею и властью Правительства. Нельзя не отметить, что это мнение Государя и Государыни находит себе подтверждение и в том факте, что, когда еще в конце апреля доктор Боткин обращался к Керенскому с указанием, что ввиду состояния здоровья детей, Царскую Семью следовало бы перевезти на юг, в Крым, Керенский признался ему, что это невозможно сделать «по независящим от Правительства причинам». Тем более теперь, в конце июля. Правительство было не свободно в своих решениях и желаниях.
Керенский еще несколько раз приезжал в Царское Село, но по-прежнему скрывал от всех причастных ко дворцу лиц, куда предполагается сослать Царскую Семью, и только после двух-трех настойчивых и убедительных приставаний полковника Кобылинского, указывавшего ему, что Семье необходимо это знать, дабы решить, какие вещи брать с собой, наконец, ответил: «Передайте, что надо побольше брать теплых вещей».
Из этих слов Царская Семья и долженствовавшие сопровождать Ее придворные поняли, что ссылка предстоит в холодные края…
Приблизительно дня за два до отъезда Керенский вызвал полковника Кобылинского, уже принявшего на себя обязанности коменданта, и приказал ему составить охранный отряд, выделив для него по одной сборной роте от 1-го, 2-го и 4-го стрелковых полков и назначив офицеров в роты. По поводу этого формирования отряда полковник Кобылинский рассказывает следующие характерные подробности:
«Назначение нужно было понимать в то время в особом смысле. Конечно, “мы” назначать уже не могли, так как разложение армии зашло слишком далеко. Полковой командир не играл тогда никакой роли; его власть была в руках полковых комитетов. Боясь, что в офицерский состав попадет элемент недостойный, я просил Керенского разрешить мне самому выбрать на каждую роту по 5 офицеров, а уже два (это число офицеров полагалось на роту) пусть выбираются солдатами. Керенский с этим согласился. В тот же день вечером я позвал к себе полковых командиров и председателей полковых комитетов и сказал им: “Предстоит секретная и очень важная командировка; место и цель ее мне не известны. Пусть каждый полковой командир выберет роту в 48 рядов при 2 офицерах”. При этом я передал составленный мною список офицеров, из числа коих надлежало сделать выбор. На эти слова командиры полков и председатели полковых комитетов 1-го и 4-го полков ответили: “Слушаю-с”. Председатель же полкового комитета 2-го полка, конечно, солдат, сказал мне: “Мы уже выбрали. Я знаю, какая предстоит командировка”.
“Откуда же вы можете знать, когда я сам этого не знаю?”
“Мне говорили люди. Мы уже выбрали прапорщика Деконского”.
Этот самый прапорщик Деконский был раньше в 4-м полку. Когда его рота должна была идти на фронт, он отказался идти. За это он был изгнан офицерами из полка. Это решение офицеров подтвердили и солдаты 4-го полка. Тогда 2-й полк принял прапорщика Деконского в свою среду. Уже тогда это был несомненный большевик.
Когда я услышал, что выбран именно он, я сказал председателю комитета, что Деконский ни в коем случае не поедет. Он мне ответил: “Нет, поедет”. Я принужден был отправиться к Керенскому и сказать ему категорически, что, если поедет Деконский, я не поеду, что он, Керенский, как Военный министр, может предупредить эту возможность. Керенский приехал в Царское, вызвал председателя комитета, и пошли у них пререкания. Керенский стоит на своем, председатель отвечает Военному министру: “Деконский поедет”. Рассердившись, Керенский прикрикнул: “Я вам приказываю”. Тот подчинился и ушел. Но когда уже назначенные солдаты узнали, что Деконский не поедет, они тоже отказались ехать, и благодаря этому, в состав попали от 2-го полка наиболее дурные элементы».
Для сопровождения Царской Семьи в ссылку и достоянного пребывания при ней Керенским, кроме полковника Кобылинского, был назначен на должность комиссара при Царской Семье помощник комиссара министерства двора Павел Михайлович Макаров, который сам себя выдавал за социалистического партийного деятеля, пострадавшего при прежнем режиме, а по заключению генерала Татищева, был таким же социалистом, как и он – Татищев. Кроме того, только на время переезда до нового места заключения представителем от Государственной Думы был назначен Вершинин, а в качестве железнодорожного специалиста – инженер Эртель, который раньше ездил всегда с Императрицей Марией Федоровной. Эртель потом проехал прямо во Владивосток с составом Императорского поезда, что послужило основанием для создания легенды о вывозе Царской Семьи за границу через Дальний Восток.
Сверх указанных лиц Керенский приказал сопровождать Августейшую Семью до Тобольска председателю военной секции прапорщику Ефимову, который по доставлении Семьи в место новой ссылки должен был вернуться назад и сделать доклад местному совдепу, что Царская Семья действительно поселена в месте, избранном для ссылки, а не вывезена обманным образом Правительством куда-либо в другое место. Эта командировка и ее задача служат характерным показателем, что в это время правительственная власть в Петрограде совершенно не пользовалась доверием низших органов власти и массы «товарищей», которые считали недостаточным не только слово Председателя Совета Министров, но и посылку комиссара Макарова и представителя Государственной Думы и считали необходимым иметь своего соглядатая.
В состав отряда особого назначения, под начальством полковника Кобылинского, предназначавшегося не только для сопровождения поезда во время пути, но и для несения охраной службы при Царской Семье в новом месте ее ссылки, вошли:
начальник хозяйственной части отряда – капитан Федор Алексеевич Аксюта,
адъютант отряда – прапорщик Николай Александрович Мундель,
делопроизводитель по хозяйственной части – Николай Грельков,
отрядный врач – Владимир Николаевич Деревенько.
Офицеры отряда:
1-го полка: прапорщик Иван Тимофеевич Зима, прапорщик Александр Владимирович Меснянкин (позже Меснянкин ушел и вместо него был прапорщик Петр Набоков).
2-го полка: прапорщик Петр Семенов, прапорщик Николай Пыжов, прапорщик Петр Матвеев.
4-го полка: подпоручик Анатолий Флегонтович Кардин, поручик Александр Васильевич Малышев.
Из этого состава только прапорщики 2-го полка Пыжов и Матвеев были элементами определенно отрицательными. Первый был произведен в прапорщики из старших полковых закройщиков «за заслуги перед революцией», а второй являлся типичным большевиком, произведенным в прапорщики из. фельдфебелей уже в Тобольске приказом Троцкого от 17 ноября 1917 года. Все остальные офицеры не внушали опасений в смысле благонадежности, а Мундень и Малышев заслужили впоследствии общее расположение всех заключенных.
Восстановить полный список нижних чинов, вошедших в первоначальный состав отряда особого назначения, к сожалению, не удалось, так как после смещения комиссаром Хохряковым полковника Кобылинского вся канцелярия отряда попала в руки советской власти и разыскать эти документы не пришлось. Имеются документальные сведения лишь на следующих нижних чинов, выступивших в составе отряда из Царского Села:
1-го полка
Фельдфебель Платонов
Стар. ун. – оф. Любушин
– //– Силаков
– //– Васякин
– //– Мартынюк
– //– Тарабрин
– //– Прищен
– //– Моренов
– //– Сладков
– //– Трефилов
– //– Савин
– //– Любушин
– //– Храмов
– //– Щикулов
– //– Лемовцев
– //– Зарудный
– //– Ширин
– //– Муравьев
– //– Вебендо
– //– Усков
Млад. ун. – оф. Ромашко
– //– Гультяков
– //– Астапчик
– //– Ткаченко
– //– Гультяев
– //– Шацкий
Ефрейтор Орлов
– //– Московскин
– //– Макаров
– //– Огурцов
– //– Трофимов
– //– Кравцов
– //– Скрынников
– //– Лагутин
Стрелок Молев
– //– Копанков
– //– Коробов
– //– Клыгин
– //– Чащин
– //– Кудрявцев
– //– Половников
– //– Калиткин
– //– Кулыгин
– //– Чумаков
– //– Полянин
– //– Кострицын
– //– Лавреньчук
– //– Невзоров
– //– Горшков
– //– Сорокин
– //– Попов
– //– Бобков
2-го полка
Фельдфебель Пламонов
Стар. ун. – оф. Сорокин
– //– Жестков
– //– Зацаренко
Стар. ун. – оф. Злобин
Млад. ун. – оф. Бурков
– //– Брацевский
Ефрейтор Олешин
– //– Курочкин
– //– Матвеев
– //– Плотников
Стрелок Красик
– //– Рысеев
– //– Гартман
Стрелок Соколов
– //– Дюпин
– //– Картин
– //– Борисов
– //– Киреев
– //– Черезов
– //– Грязнов
4-го полка
Фельдфебель Федотов
Стар. ун. – оф. Морозов
– //– Калашников
– //– Шалыгин
– //– Демьяненко
– //– Бордадынов
– //– Резвой
– //– Вятчинкин
– //– Голованов
– //– Черепаха
– //– Гопанюк
– //– Медведев
Млад. ун. – оф. Сильменев
– //– Бацевский
Ефрейтор Ежов
Стрелок Виноградов
– //– Козаков
– //– Поддубок
– //– Гуляев
– //– Рутов
– //– Акиншин
– //– Пилов
– //– Проценко
– //– Жуков
– //– Козлов
– //– Подопригора
– //– Александров
В составе рот 1-го и 4-го полков было еще достаточно солдат кадрового состава из числа бывших на фронте, в боях, и признанных по ранениям негодными для полевой службы, но представлявших остатки былых, хороших людей, дисциплинированных и преданных Царю.
К сожалению, в марте 1918 года последовало распоряжение советской власти об увольнении со службы людей всех старших возрастов, вследствие чего большинство этих хороших элементов, являвшихся надежными унтер-офицерами в ротах, было уволено в запас, а на смену их пришли молодые солдаты, без воинского духа и дисциплины, из распущенных и развращенных запасных батальонов Петроградского округа.
К маю 1918 года отряд особого назначения насчитывал 208 человек. В бумагах комиссара Хохрякова была найдена требовательная ведомость на отпуск содержания «Гвардейскому отряду особого назначения», датированная 12 маем. Ведомость эта адресована «Председателю Тобольского Совета Р.С. и Кр. депутатов и Комиссару по перевозке оставшейся семьи бывшего царя т. Хохрякову». Из содержания ее видно, что в отряде в указанное время состояли следующие люди:
Рота гвардии 1-го стрелкового резервного полка
Чумак Антон
Лебедев Иосиф
Макушин Иван
Белоусов Нестор
Макаров Алексей
Шеповалов Гавриил
Жигай Федор
Мусихин Максим
Мосин Василий
Овсянников Никифор
Голотенко Николай
Апрошко Михаил
Логвинчук Владимир
Рюмик Болеслав
Иевлев Дмитрий
Ведешов Фрол
Тарасов Алексей
Павлов Максим
Константинов Василий
Бороденко Григорий
Бестужев Павлин
Ющенко Феодосий
Корытько Сергей
Миронович Максим
Халезов Иван
Клыгин Андрей
Коненков Георгий
Иванов Павел
Сенкевич Болеслав
Новиков Василий
Салопаев Алексей
Кодоренко Николай
Гринкин Михаил
Кобелев Андрей
Овсюков Василий
Суханов Николай
Шумков Игнатий
Екимов Семен
Куимов Филипп
Гуляев Иван
Борвенко Карп
Кохин Иван
Бобков Иван
Попов Василий
Есин Филипп
Зорькин Алексей
Малыхин Егор,
Орлов Кузьма
Полянин Иван
Филиппов Константин
Будрик Виктор
Горшков Герасим
Михайлов Григорий
Кравченко Ефим
Иванов Егор
Киреев Илья
Тарасов Варфоломей
Щеголев Павел
Медведев Никита
Кочанов Илья
Аникин Иван
Русских Михаил
Евдокимов Григорий
Богомятков Иван
Садырин Иван
Якимов Иван
Лозаков Иван
Набоков Петр
Рота гвардии 2-го стрелкового резервного полка
Матвеев Петр
Бацевский Иосиф
Ткаченко Никифор
Пономарев Иван
Карпенко Павел
Бучнев Иван
Гладиков Василий
Федосеев Гавриил
Казин Семен
Злобин Григорий
Щербинин Илья
Глухов Иван
Поддубик Василий
Локтюшин Никифор
Егоров Павел
Саблин Степан
Шахворостов Евгений
Половников Иван
Кучук Андрей
Борисов Яков
Саукров Иван
Липатников Андрей
Сорокин Андрей
Тумовский Андрей
Осипов Алексей
Дураков Василий
Гусев Александр
Холомцев Николай
Сорокин Степан
Остапчик Максим
Пропей Павел
Красавин Михаил
Морозов Александр
Павлов Яким
Невзоров Василий
Галактионов Григорий
Миронов Степан
Алышев Николай
Высоцкий Петр
Воронцов Георгий
Алехин Иван
Заборский Кузьма
Ларин Яков
Гартман Иван
Белов Алексей
Лакаев Павел
Балашенок Петр
Кострица Федор
Шикунов Филипп
Стрельцов Алексей
Худаев Иван
Макурин Николай
Бик Осип
Яким Никанор
Трошкин Александр
Динтула Лаврентий
Яковлев Аркадий
Игнатенко Дмитрий
Кизилов Сергей
Кравцов Иван
Кустов Сергей
Рысев Дмитрий
Рудниченко Илья
Акиншин Евсей
Ушаков Василий
Виноградов Анатолий
Шумаков Григорий
Киреев Иван
Земков Василий
Протасов Федор
Корб Ян
Хотька Александр
Филатов Захар
Кондратенко Виктор
Самсонов Иван
Шутов Мокей
Кашин Александр
Дюпин Филипп
Рота гвардии 4-го стрелкового резервного полка
Алешин Андрей
Самсонов Алексей
Дмитриев Петр
Куприянов Тимофей
Иванов Иван
Тараканов Иван
Зарудный Михаил
Проценко Василий
Максимочкин Михаил
Медведев Василий
Костырев Федор
Федченко Николай
Бородавка Василий
Тетенькин Николай
Диков Панкрат
Морозов Осип
Комиссаров Михаил
Лобанов Михаил
Ежов Егор
Казаков Михаил
Исаев Борис
Крюков Иван
Колесниченко Иван
Гурьев Николай
Дорофеев Александр
Полухин Василий
Виненко Максим
Казанский Степан
Брагин Ефим
Коновалов Федор
Оселец Кирилл
Карташев Иван
Гаврилин Игнатий
Шабалин Афанасий
Матвеев Михаил
Левицкий Григорий
Гопанюк Александр
Силеменев Захар
Бабурин Григорий
Козлов Максим
Лутиков Алексей
Воронов Александр
Леонов Николай
Кроковяк Игнатий
Ям Ян
Павленко Василий
Донцов Степан
Федоров Михаил
Волков Иван
Пыжов Василий
Шурук Дмитрий
Бардадинов Константин
Дунаев Алексей
Варфоломеев Яков
Черезов Константин
Абросимов Иван
Резинкин Панкрат
Гольцов Петр
Лунин Петр
Леушин Иван
Филонов Михаил
Михайлов Павел
Из той же требовательной ведомости, а равно и из других хохряковских документов видно, что до марта месяца включительно председателем отрядного комитета состоял Киреев Иван, а товарищем его Матвеев Петр. Но с апреля месяца председателем стал Матвеев, а Киреев занял место его товарища. Секретарем комитета был Бобков Иван, а членами – Колесниченко Иван и Тараканов Иван. Председателями ротных комитетов состояли: Чумак Антон, Локтюшин Никифор и Дорофеев Александр; членами – Лебедев Иосиф, Макушин Иван, Овсянников Никифор, Ям Ян, Иванов Иван и Донцов Степан. Должности взводных командиров занимали: Белоусов Нестор, Гуляев Иван, Шикунов Филипп, Карпенко Павел, Гладиков Василий, Пономарев Иван, Федоров Михаил, Шурпук Дмитрий, Гаврилин Игнатий и Матвеев Михаил, а членами хозяйственного комитета были: Бестужев Павлин, Ющенко Феодосии, Якимов Иван, Остапчик Максим, Самсонов Алексей и Павленко Василий. Основной оклад жалования до марта включительно составлял 50 рублей, а потом – 150 рублей в месяц на человека; перечисленные выше должностные лица получали увеличенные оклады содержания: Матвеев 300 рублей, председатели ротных комитетов по 250 рублей, взводные – по 200 руб.
Все эти детали состава охранного отряда имеют тесную связь с условиями жизни и содержания Царской Семьи в Тобольске, а потому исследование и считает необходимым их отмечать. В этом отношении особое значение приобретает состав отряда до марта месяца 1918 года, т. е. до времени появления в Тобольске комиссаров Хохрякова и еврея Заславского, и после этого срока, что необходимо будет учитывать при ознакомлении с событиями, развертывавшимися в период заключения Августейших узников в Тобольске.
Только в день формирования охранного отряда Керенский наконец объявил, что Семья будет перевезена в Тобольск и что отъезд состоится вечером 31 июля по старому стилю. До отъезда оставалось, следовательно, всего дня два-три. Накануне отъезда Он снова приехал в Царское Село и, обходя назначенные в состав отряды роты, напутствовал их следующими словами:
«Вы несли охрану Царской Семьи здесь. Вы же должны нести охрану и в Тобольске, куда переводится Царская Семья по постановлению Совета Министров. Помните, лежачего не бьют. Держите себя вежливо, а не по-хамски. Довольствие будет выдаваться по Петроградскому округу. Табачное и мыльное довольствие натурой. Будете получать суточные деньги».
С этой речью Керенский объехал 1-й и 4-й полки. Когда же полковник Кобылинский, сопровождавший его, напомнил ему, что он забыл заехать во 2-й полк, Керенский ответил: «Ну их к черту», и так и не поехал. Необходимо вообще отметить, что люди 2-го полка, назначенные в роту охраны, были поставлены в худшие условия по сравнению с людьми, выделенными из 1-го и 4-го полков. В то время как полковое начальство и комитеты этих последних озаботились одеть людей с иголочки и обильно снабдили их обмундированием, бельем и прочими предметами экипировки, солдаты 2-го полка, вообще худшие по своим моральным свойствам, вследствие разрухи, существовавшей в управлении полком, были в грязной, потрепанной одежде, старом плохом обмундировании и кое-как экипированы. Впоследствии, в Тобольске, это создало в рядах роты 2-го полка особенно благоприятную почву для более успешного восприятия солдатами большевистской агитации и способствовало скорейшему развращению и разложению этой части Отряда Особого Назначения.
Самому начальнику отряда, полковнику Кобылинскому, на прощание Керенский напомнил: «Не забывайте, что это бывший Император; ни Он, ни Семья ни в чем не должны испытывать лишений». Однако, как будет видно впоследствии, это были только громкие, но пустые слова. Верховная власть того времени постепенно теряла почву под ногами. В конце концов чувствуя, что за удержание власти приходится начинать борьбу с усилившимися крайними течениями, Правительство Керенского, быть может, искренно желая лучшей участи для арестованной Семьи, и решило вывезти ее из слишком беспокойной и опасной зоны политической борьбы в тихое, спокойное место, где она не будет постоянно привлекать внимание крайних элементов. Но выполнить даже и такое скромное желание в настоящем виде оно уже не смогло и было в состоянии удалить Царскую Семью из Царского Села только под условием ссылки в Сибирь, создав тем самым второй этап агонии Августейшим Заключенным в неизбежном пути к конечному и мученическому венцу в Ипатьевском доме.
Как было сказано выше, первое сообщение Керенского Царской Семье о предстоящем переводе ее на жительство в другой пункт произвело на Государя и Государыню впечатление чего-то неискреннего, недоговариваемого. Их Величества объясняли себе это тем, что решение о перемещении Царской Семьи являлось для Правительства Керенского не добровольным, а вынужденным, и Керенскому не хотелось в этом признаться, почему он и был так смущен и неестествен. Тем не менее все во дворце предполагали, что Семья будет перевезена в Крым, о чем еще раньше были разговоры между доктором Боткиным и Керенским. Вся Семья любила Крым и периоды пребывания в Крыму она считала самыми лучшими и счастливыми в Ее жизни. Поэтому Дети отнеслись первоначально к известию о предстоящей перемене в их жизни с некоторой радостью и удовлетворением, тем более что жизнь в Крыму сулила больше спокойствия в смысле удаления от центра беспокойного революционного очага, где постоянно приходилось жить под впечатлением возможности повторения событий конца февраля.
Но вот дня через три полковник Кобылинский принес во дворец известие, полученное от Керенского, что Семья должна запастись возможно большим количеством теплой одежды. Тогда всем стало ясно, что местом нового заключения избран не Крым, а какой-то совсем другой, холодный край – север Европейской России или Сибирь. Всем стало ясно, что предстоявшая им перемена носит характер не перемещения, а ссылки, ссылки со всеми ее последствиями.
У всех сжалось сердце тоской, предчувствием…
Дети в этот день вечером, простившись на ночь с родителями, горько плакали у себя в своей комнате. Теперь боль разлуки с Царским Селом почувствовалась сильнее, чем казалась при мысли о переезде в Крым. Жуть о неведомом грядущем и больше всего жуть за отца прокрадывалась в их души. Они чувствовали определенно, что Царского Села больше никогда не увидят…
В этот вечер родители тоже долго пробыли вместе у себя, тихо беседуя. О чем?.. Никто не знает и не узнает никогда.
«Мы готовы все перенести, если это нужно для блага России», – говорили они. Но эта ссылка… нужна ли она для блага России?
И горячая, убежденная вера в волю Всевышнего Творца, вероятно, успокаивала их сердца, утоляла их страстную жажду блага любимой Родине, ясным ответом… Значит, нужна!
На другой день, собирая и укладывая свои вещи, Государь и Государыня обратили свое главное внимание на то, чтобы взять с собой в предстоявшую им далекую и суровую ссылку все то, что было им особенно ценно и дорого, как реликвии их религиозного понимания своего служения Богу и Единородному Его Сыну Христу. Все, что было у них из этой области их святыни, все до мельчайшего пузырька со святой водой, веточки, вывезенной из Святого места, все было ими захвачено с собой в новое место заключения, и все это было впоследствии собрано в Екатеринбурге во время следственного производства, как брошенное, не представлявшее ценности для изуверов религии лжи.
В смирении перед волей Всемогущего Небесного Отца Государь и Государыня нашли в себе ясный, тихий, светлый луч утешения увидеть самим и внушить своим детям и сопровождавшим их в новую ссылку близким людям, что жизнь в этом далеком, неведомом и холодном Тобольске является заманчивой и желательной, так как даст им возможность еще более насладиться теплом и уютом своего семейного очага, Они утешали приближенных искренним уверение», что жизнь в Тобольске при современных обстоятельствах представляется им более соответственной их положению, чем жизнь в царскосельском роскошном Александровском дворце, где все окружающие привыкли к совершенно другому режиму, чем тот, которым подобает им жить теперь. Но и они, как и дети, ясно чувствовали, что расстаются с Царским Селом навсегда.
30 июля, в день рождения наследника Цесаревича, по просьбе Царской Семьи во дворец была доставлена из Знаменского собора особо почитаемая Августейшей Семьей чудотворная икона Знамения Божией Матери и перед ней был отслужен молебен как по случаю Семейного праздника, так и напутственный перед предстоявшей далекой дорогой.
Перед самым началом службы во дворец приехал тогдашний командующий Петроградским военным округом поручик Кузьмин в сопровождении никому не известного полковника и какого-то штатского типа, чрезвычайно грязно одетого, с грязными немытыми руками и лицом, но который держал себя, однако, чрезвычайно развязно как с самим командующим войсками, так и со встречавшими чинами охраны. Этот штатский всем протягивал свою грязную руку и каждому представлялся: «Позвольте представиться. Тоже сидел в Крестах». Под предлогом поверки караула Кузьмин со своими спутниками явился во дворец и, спрятавшись в комнате, обращенной дверью в коридор, имел терпение целый час ждать пока кончится служба, чтобы хотя бы издали посмотреть на Царскую Семью, когда она будет возвращаться с молебна коридором к себе наверх.
31 июля, в день, назначенный для отъезда, в 11 часов вечера во дворец приехал Керенский. Поезд с Царской Семьей должен был отойти в час ночи на 1 – 14 августа, но рабочие Петроградского паровозного депо, узнав, для какой цели требуются паровозы, отказывались выпустить их из депо, и до 5 часов утра Керенскому, Макарову, Вершинину и Эртелю пришлось убеждать рабочих подчиниться распоряжению Правительства и выпустить паровозы.
Керенский, придя во дворец и узнав, что вся Царская Семья уже готова и в сборе, позвал Кобылинского и сказал ему.
«Ну теперь поезжайте за Михаилом Александровичем. Он у Бориса Владимировича». Это была просьба Государя, хотевшего проститься с братом, которую Керенский нашел возможным исполнить. Но вместе с тем он не счел возможным разрешить Императрице проститься с Великим князем Михаилом Александровичем. Трудно понять, чем руководствовался в данном случае Керенский, тем более что все его отношение к Государыне в этот прощальный вечер совершенно не гармонировало с этим отказом.
«Я поехал, – рассказывает Кобылинский, – в автомобиле. Там я застал Бориса Владимировича, какую-то даму, Михаила Александровича с супругой и Его секретаря, англичанина Джонсона. Втроем (кроме шофера), т. е. Михаил Александрович, Джонсон и я поехали в Александровский дворец. Джонсон остался ждать в автомобиле, Михаил Александрович прошел в приемную комнату, где были Керенский и дежурный офицер. Втроем они прошли в кабинет, где был Государь. Я остался в приемной. В это время вбежал в приемную Алексей Николаевич и спросил меня: “Это дядя Мими приехал”? Я сказал, что приехал он. Тогда Алексей Николаевич попросил позволения спрятаться за дверь: “Я хочу его посмотреть, когда он будет выходить”. Он спрятался за дверь и в щель глядел на Михаила Александровича, смеясь, как ребенок, своей затее. Свидание Михаила Александровича с Государем продолжалось всего минут 10. Затем он уехал».
Керенский сам определил штат придворных и прислуги, которые должны были сопровождать Царскую Семью и оставаться при ней в Тобольске. Он все время, предшествовавшее отъезду, проявлял предупредительность и старался выполнять всякие мелкие пожелания членов Царской Семьи. В вечер отъезда он чувствовал себя как-то особенно беспокойно и много суетился, стараясь быть исключительно любезным и милым. Прощаясь с Царской Семьей, он усиленно повторял, что Семья ни в чем не должна испытывать лишений, что внутренняя их жизнь в Тобольске должна быть обставлена так же, как и Царском, что для этого личные средства Их Величеств остаются в их полном распоряжении. Откланиваясь Их Величествам, Керенский, как всегда, поцеловал протянутую ему руку Государыни, а Государю сказал: «До свидания, Ваше Величество».
Наконец инцидент с паровозами был улажен и в 5 часов утра автомобили подали к подъезду. В первый сели Керенский с Кобылинским. Следом за ними в одном автомобиле вся Царская Семья. Ее эскортировал наряд конных драгун 3-го Прибалтийского полка, держа карабины упертыми прикладами в колени. Поезд был подан да Александровскую платформу Варшавской железной дороги. На перроне платформы никого, кроме отъезжающих, не было. Когда все вошли в вагоны, на платформе остался провожающим один Керенский. Он махнул Эртелю рукой, и поезд медленно тронулся в путь. Было без десяти минут 6 часов утра 1 (14) августа.
Так Мудростью Всевышнего Промысла, руководившей действиями людей вопреки их свободной воле, путь агонии Царской Семьи направлялся к тому великому служению Помазанника Божия своему народу «до конца», который может явиться светочем к воскресению Bеликой Державной России во Христе.
Приложение
От Временного правительства
Граждане!
Временный комитет членов Государственной Думы, при содействии и сочувствии столичных войск и населения, достиг в настоящее время такой степени успеха над темными силами старого режима, который позволяет ему приступить к более прочному устройству исполнительной власти.
Для этой цели Временный комитет Государственной Думы назначает министрами первого общественного кабинета следующих лиц, доверие к которым страны обеспечено их прошлой общественной и политической деятельностью;
Председатель Совета Министров и министр внутренних дел князь Г. Е. Львов.
Министр иностранных дел П. Н. Милюков.
Министр военный и морской А. И. Гучков.
Министр путей сообщения Н. В. Некрасов.
Министр торговли и промышленности А. И. Коновалов.
Министр народного просвещения А. А. Мануйлов.
Министр финансов М. И. Терещенко.
Обер-прокурор Святейшего Синода Вл. Львов.
Министр земледелия А. И. Шингарев.
Министр юстиции А. Ф. Керенский.
В своей настоящей деятельности Кабинет будет руководиться следующими основаниями:
1) Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. п.
2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, опускаемых военно-политическими условиями.
3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.
4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны.
5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.
6) Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.
7) Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении.
8) При сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы, устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам. Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий.
2 марта 1917 года.
Председатель Государственной Думы М. Родзянко.
Председатель Совета Министров князь Львов.
Министры: Милюков, Некрасов, Коновалов, Мануйлов, Терещенко, Вл. Львов, Шингарев, Керенский
От Исполнительного комитета Совета солдатских и рабочих депутатов
Товарищи и граждане!
Новая власть, создающаяся из общественно-умеренных слоев общества, объявила сегодня о всех тех реформах, которые она обязуется осуществить частью еще в процессе борьбы со старым режимом, частью по окончании этой борьбы. Среди этих реформ некоторые должны приветствоваться широкими демократическими кругами; политическая амнистия, обязательство принять на себя подготовку Учредительного собрания, осуществление гражданских свобод и устранение национальных ограничений. И мы полагаем, что в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обязательств и решительной борьбы со старой властью, демократия должна оказать ей свою поддержку.
Товарищи граждане! Приближается полная победа русского народа над старой властью. Но для победы этой нужны еще громадные усилия, нужна исключительная выдержка и твердость. Нельзя допускать разъединения и анархии. Нужно немедленно пресекать все бесчинства, грабежи, врывания в частные квартиры, расхищение и порчу всякого рода имущества, бесцельные захваты общественных учреждений. Упадок дисциплины и анархия губят революцию и народную свободу.
Не устранена еще опасность военного движения против революции. Чтобы предупредить ее, весьма важно обеспечить дружную согласованную работу солдат с офицерами. Офицеры, которым дороги интересы свободы и прогрессивного развития родины, должны употребить все усилия, чтобы наладить совместную деятельность с солдатами. Они будут уважать в солдате его личное и гражданское достоинство, будут бережно обращаться с чувством чести солдата. С своей стороны солдаты будут помнить, что армия сильна лишь союзом солдат и офицерства, что нельзя за дурное поведение отдельных офицеров клеймить всю офицерскую корпорацию. Ради успеха революционной борьбы надо проявить терпимость и забвение несущественных проступков против демократии тех офицеров. которые присоединились к той решительной и окончательной борьбе, которую вы ведете со старым режимом.
Фото с вкладки
Генерал Михаил Константинович Дитерихс сыграл важную роль в раскрытии преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 г.
Герб Романовых
Штандарт Романовых
Текст отречения от престола Императора Николая II
Император Николай II в 1917 г.
Императрица Александра Федоровна
Великая княжна Анастасия Николаевна
Великая княжна Мария Николаевна
Великая княжна Татьяна Николаевна
Великая княжна Ольга Николаевна
Цесаревич Алексей Николаевич
Великий князь Михаил Александрович
Князь Игорь Константинович
Князь Иоанн Константинович
Князь Константин Константинович
Великая княгиня Елизавета Федоровна
Дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге
Здание «Напольной школы» в г. Алапаевске, где содержались под арестом члены Императорской Фамилии
Я.Х. Юровский – комендант «дома особого назначения»
Г.И. Мясников – убийца Великого князя Михаила Александровича
Участники расстрела Царской Семьи
Расстрел царской семьи. Картина неизвестного художника
Шифрованная телеграмма А.Г. Белобородова: «Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации»
Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых в земле Российской, просиявших на Вознесенской горке в Екатеринбурге. В память убиенной Царственной Семьи
Примечания
1
Двустишье из поэмы немецкого еврея Гейне «Царь Валтасар».
(обратно)2
По донесению департамента полиции, доктор Сакович умер в июне 1919 года в Омской тюрьме от скоротечной чахотки. Он умер в тот самый день, когда за ним прибыл караул для отвода его на допрос к следователю Соколову. Он был допрошен раньше Особой следственной комиссией по обвинению в службе у большевиков, а по Царскому делу – лишь в Екатеринбургском уголовном розыске, но очень поверхностно.
(обратно)3
В скобках помещены данные, выяснившиеся и определенные следователем Соколовым.
(обратно)4
По позднейшим сведениям, Янкель Юровский был назначен политическим комиссаром в 27-ю советскую дивизию товарища Айзина (еврей из Челябинска). В конце 1919 года эта дивизия была переброшена на Врангелевский фронт, где Айзин с Юровским и со всем штабом были захвачены белогвардейцами в плен и по приговору полевого суда расстреляны.
(обратно)5
Для исторической точности это место показания Тутельберг необходимо дополнить пояснением других приближенных. Первым браком Великая княгиня Анастасия Николаевна была замужем за герцогом Лейхтенбергским; была очень несчастна в супружестве, сильно страдала. Ища облегчения в глубокой вере, Анастасия Николаевна приблизилась к Государыне, которая ее очень полюбила и всячески старалась утешить и приласкать. Распутина Анастасия Николаевна совершенно не знала. На его религиозное значение и вообще на него ей указала Милица Николаевна, не пользовавшаяся расположением Государыни.
(обратно)6
Напрасно только в этом отношении профессор Ключевский, не смогший вполне отказаться от веяний времени и западничества, пытается найти и «выборность», и «избирательный плебисцит», и т. п.
(обратно)7
Бюллетени литературы и жизни. 1912, № 10.
(обратно)8
Из оды, посвященной Императору Николаю I.
(обратно)9
«Пир Петра Великого».
(обратно)10
Слова в скобках вписаны после беседы с комиссарами.
(обратно)
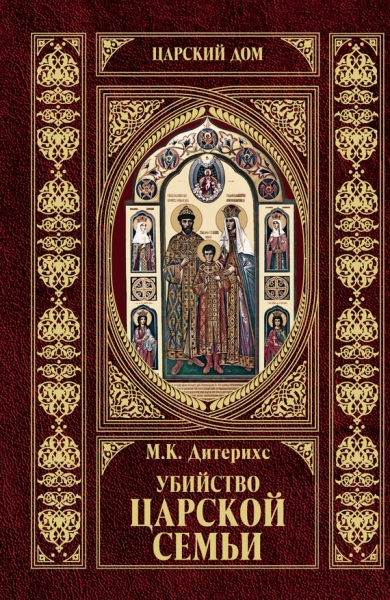




Комментарии к книге «Убийство Царской Семьи и членов Романовых на Урале», Михаил Константинович Дитерихс
Всего 0 комментариев