Павел Иванович Бирюков Биография Л. Н. Толстого. Том 1. 1-я часть
Предисловие к первому изданию
С робостью и благоговением, с сознанием своей слабости приступил я к священному для меня делу, изображению жизни моего учителя, великого старца Льва Николаевича Толстого.
Несколько лет тому назад я был настолько далек от этого дела, что, живя большую часть времени в самом близком соседстве со Львом Николаевичем, проводя в его доме часы и даже целые дни, никогда не делал никаких заметок, никаких записей того, что мне приходилось слышать как от самого Льва Николаевича, так и от окружавших его лиц. Теперь, уже живя в ссылке за свои религиозные убеждения вне России и потому вдали от Льва Николаевича Толстого, я взялся за это важное дело.
Поводом к этому было предпринятое парижским издателем Стоком издание полного собрания сочинений Льва Николаевича на французском языке, для которого я получил предложение доставить проредактированный мною русский оригинал и написать к нему биографию.
Я знал хорошо, что писать биографию живого человека нельзя без согласия его самого и его семьи, и прежде, чем принять это предложение, я обратился к графине Софье Андреевне Толстой с просьбой сообщить мне, не будет ли она против того, чтобы я занялся составлением биографии Льва Николаевича, на что получил ободривший меня, добрый ответ ее; я выписываю здесь из ее письма то, что относится к делу.
«…Конечно, хорошо бы вам заняться биографией; и сам бы Лев Николаевич мог бы еще ответить вам на многое, что вы запросите мне; только надо спешить. Чуть-чуть не угасла всем нам дорогая жизнь. Но теперь, слава Богу, Лев Николаевич хорошо поправляется и опять работает».
Письмо это помечено 19 июля 1901 года и написано тотчас после перенесенной Львом Николаевичем тяжкой болезни.
Не желая беспокоить самого Льва Николаевича и будучи вперед уверен в том, что он не окажет никакого препятствия моей работе, я после вышеприведенного письма дал согласие на сделанное мне предложение и принялся за работу.
Начав знакомиться с материалом и вдумываться в сущность и программу предстоящей работы, я, с одной стороны, не раз ужасался громадности ее, а с другой стороны – все более и более увлекался ею, поглощался ее интересом и уже так сроднился с нею, что считаю ее теперь делом своей жизни, независимо от каких бы то ни было издательских соображений.
Предварительная работа моя состояла в собирании материала для биографии. Такие материалы, или источники для составления биографии Л. Н. Толстого я разделяю на четыре разряда по их важности или достоинству.
К первому разряду я причисляю, во-первых, личные автобиографические заметки самого Льва Николаевича, его письма к разным лицам и выписки из его дневников. Автобиографический материал представляет особенную важность при жизни автора его, так как всякое противоречие, встречающееся в нем, по сравнению со свидетельствами из других источников, может быть разъяснено самим автором и факт восстановлен во всей его полноте.
Ко второму разряду я причисляю различные воспоминания и биографические очерки лиц, близко знавших Льва Николаевича: его родственников, знакомых, бывших в непосредственном сношении с ним. К этому второму разряду я отношу также различные официальные данные и архивные материалы, как например: послужные списки, метрические свидетельства, различные документы учебного начальства, копии с различных судебных и административных дел и т. д.
К третьему разряду я причисляю сочинения о Льве Николаевиче, составленные по другим источникам, а также те сочинения самого Льва Николаевича, к которым надо относиться весьма осторожно в смысле биографическом, так как реальные факты переплетаются в них с работой художественной фантазии.
Наконец, к четвертому разряду я причисляю различные мелкие статьи, а также и целые книги или плохо, бестолково составленные, или такие, авторы которых не заслуживают доверия, но которые все-таки могут иметь некоторую относительную ценность, заполняя иногда пробелы других источников. Перечислять их я не считаю нужным.
Иностранная литература крайне бедна биографическими сведениями о Льве Николаевиче, особенно по отношению к первому периоду его жизни. Поэтому я не выделяю список иностранных источников в особый отдел, а включаю их в общий алфавит.
В конце этого введения приложен список по разрядам всех использованных мною источников на русском и иностранных языках первых трех разрядов.
Сделав первые шаги при разборке полученного мною материала, я почувствовал потребность войти по этому делу в непосредственное сношение с самим Львом Николаевичем, так как много неясных сторон, открывшихся мне, мог разъяснить только он сам. Я долго колебался, стоит ли из-за этого тревожить его, но наконец решил написать ему, сказав, что решаюсь беспокоить его расспросами, зная, что он не отказывает художникам лепить и писать с него и фотографам-любителям делать с него снимки, хотя это и не может доставить ему удовольствия, а потому и я прошу его попозировать для меня, для моего словесного изображения его личности, которое я начал писать, и я получил на это его доброе согласие, которое он выразил в следующих словах в письме ко мне от 2 декабря 1901 г.:
«…Очень рад позировать вам и буду категорически отвечать на ваши вопросы».
Другую важную поддержку оказал мне друг мой В. Г. Чертков, охотно согласившийся открыть мне для работы свой богатый архив частной корреспонденции Льва Николаевича и выписок из его дневников.
Неблагоприятные условия моей работы состояли в том, что я, отрезанный от России каким-то нелепым административным распоряжением, лишен был возможности личного непосредственного общения с тем, жизнь кого я описываю, и лишен возможности работать в русских публичных библиотеках и архивах; это обстоятельство значительно затрудняло мою работу по выборкам из старых журналов, и только благодаря любезности некоторых частных владельцев русских библиотек за границей и благодаря богатству русского отдела в Британском музее, это препятствие было обойдено мною отчасти, но далеко не вполне. Я сделал все, что мог, по совести и разуму, чтобы превозмочь эти препятствия, даже подавал прошение министру внутренних дел о дозволении приехать мне на два месяца в Россию – и получил категорический отказ. Поэтому, конечно, я не могу считать свою задачу исчерпанной до конца.
Что касается до выпускаемого мною теперь первого тома, я должен сказать, что читатели найдут в нем нечто безусловно новое – это воспоминания Льва Николаевича о своем детстве и о своих родных, а также большое количество его частных писем.
Чтобы показать читателю, как трудно было Льву Николаевичу взяться за писание своих воспоминаний, и чтобы показать, как следует относиться к ним, я приведу несколько выдержек из моей переписки с ним по этому предмету.
Я несколько раз писал Льву Николаевичу и близко стоящим к нему людям с просьбой записать хотя словесные рассказы Льва Николаевича о своем детстве, что можно было бы сделать в простой вечерней беседе. Наконец я получил от Льва Николаевича следующее сообщение:
«…Сначала я думал, что не буду в состоянии помочь вам в моей биографии, несмотря на все мое желание сделать это. Боялся неискренности, свойственной всякой автобиографии, но теперь я как будто нашел форму, в которой могу исполнить ваше желание, указав на главный характер следовавших один за другим периодов моей жизни в детстве, юности и возмужалости. Как только оправлюсь настолько, что буду в состоянии писать, непременно посвящу на это несколько часов и постараюсь сделать это».
В одном из следующих писем он пишет мне следующее:
«…Боюсь, что я напрасно обнадежил вас обещанием писать свои воспоминания. Я пробовал думать об этом и увидал, какая страшная трудность избежать Харибды – самовосхваления (посредством умалчивания всего дурного) и Сциллы – цинической откровенности о всей мерзости своей жизни. Написать всю свою гадость, глупость, порочность, подлость – совсем правдиво, правдивее даже, чем Руссо, – это будет соблазнительная книга или статья. Люди скажут: вот человек, которого многие высоко ставят, а он вон какой был негодяй, так уж нам-то, простым людям, и Бог велел.
Серьезно, когда я стал хорошенько вспоминать всю свою жизнь и увидал всю глупость (именно глупость) и мерзость ее, я подумал: что же другие люди, если я, хваленый многими, такая глупая гадина? А между тем ведь это еще объясняется тем, что я хитрее других. Это все я вам говорю не для красоты слога, а совсем искренно. Я все это пережил».
Видя колебания Льва Николаевича и чувствуя всю важность этого дела, я продолжал настаивать и, чтобы дать, так сказать, канву, по которой он мог бы начать вышивать, я послал ему набросанную мною программу его биографии.
В этой программе я принял условную систему деления жизни человеческой на семилетние периоды. Это деление я слышал от самого Льва Николаевича, который когда-то в разговоре при мне высказал мысль, что ему кажется, что, соответственно семилетним периодам физической жизни человека, признаваемым некоторыми физиологами, можно установить и семилетние периоды в развитии духовной жизни человека, так что выйдет, что каждому семилетнему периоду соответствует особый духовный облик.
Резюмируя, таким образом, в кратких словах перечень фактов из жизни Льва Николаевича и расположив его по этим периодам, мы получаем следующую схему:
При самом беглом обзоре этой схемы читатель невольно заметет духовную особенность каждого периода. И схема эта, или канва не осталась без результата. Я получил вскоре от Льва Николаевича письмо, в котором он пишет следующее:
«…Про свою биографию скажу, что очень хочется помочь вам и написать хоть самое главное. Решил я, что могу написать, потому что понял, что интересно бы было и полезно, может быть, людям показать всю мерзость моей жизни до моего пробуждения и, без ложной скромности говоря, всю доброту (хотя бы в намерениях, не всегда по слабости выполненных) после пробуждения. В этом смысле мне и хотелось бы написать вам. Ваша программа семилетняя мне полезна и, действительно, наводит на мысли. Постараюсь заняться этим при первом окончании начатой работы».
Наконец, еще через несколько месяцев я получил драгоценные листки с воспоминаниями, набросанными начерно самим Львом Николаевичем. Я поспешил воспользоваться ими, заменив этими яркими красками бледные места уже начатой мною биографии и, при первом удобном случае, переслал Льву Николаевичу начало моей работы с просьбой высказать свое суждение о ней.
На это я получил письмо, в котором Лев Николаевич, между прочим, писал следующее:
«…Общее мое впечатление то, что вы очень хорошо пользуетесь моими записками, но я избегаю вникать в подробности, так как такое вникание может завлечь меня в работу исправления, которой я не хочу. Так что предоставляю все вам, присовокупляя только то, что в своей биографии, цитируя места из моих записок, прибавьте: из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок».
Я рассказал всю эту историю, чтобы оградить Льва Николаевича от всякой литературной ответственности, и, исполняя его просьбу, привожу эту подчеркнутую фразу как в введении, так и при каждой цитате. Вот при таких-то ободряющих обстоятельствах я продолжал свою работу. Выпускаемый мною 1 том содержит в себе описание происхождения Льва Николаевича, первые периоды его жизни: детской, юношеской и возмужалой холостой жизни, и заключается его женитьбой.
Остановка на этом времени удобна в смысле содержания, так как сам Лев Николаевич считал этот момент началом новой для него жизни. Остановка на этом месте имеет и практическое значение в издательском смысле, так как содержание написанного по размеру составляет обыкновенный том французского издания.
Во втором периоде я надеюсь рассказать о периоде наибольшей литературной славы, семейного счастья и богатства Льва Николаевича, о пережитом им после этого кризисе и рождении его к новой духовной жизни, т. е. годы 1863–1884, соответствующие в жизни Льва Николаевича его летам 35–56.
И, наконец, в третьем томе – ту часть жизни, которой живет теперь Лев Николаевич и которая, надеюсь, на радость нам, не скоро еще кончится.
По справедливому замечанию одного биографа, жизнь Льва Николаевича подобна пирамиде, стоящей вершиной вниз и основанием кверху, продолжающей все расти и расширяться. Пропорционально этому располагается и биографический материал; ничтожное количество при его рождении, доходя до настоящего времени, оно возрастает до необъятности.
Имя Льва Николаевича Толстого избавляет меня от трудной и ответственной обязанности делать его общую характеристику, представлять его публике. Близость к натуре – вот моя единственная художественно-историческая задача.
П. И. БирюковVilla Russe. Onex pres Geneve. Suisse.15 октября 1904 г.Р. S. Я уже закончил составление первого тома, когда, вследствие временного ослабления русских репрессий, я получил разрешение вернуться в Россию. Я воспользовался этим разрешением, съездил туда и пополнил значительно биографический материал первого тома как посредством личного общения с Львом Николаевичем, так и чтением его дневников и переписки, за что приношу мою глубокую благодарность графине Софье Андреевне Толстой, открывшей мне доступ к ценным коллекциям биографического материала, собранного ею и сданного на хранение в московский Исторический музей, в комнату имени Льва Николаевича Толстого.
Весьма вероятно, что работа моя, начатая при более благоприятных обстоятельствах, приняла бы иные, более совершенные формы. Но я не имею возможности вернуться назад и начать сначала и потому оставляю ее такой, какой она есть, сделав только те перемены, которые требовал вновь собранный мною материал после моей поездки в Россию.
Оставляю также и мое введение в прежнем виде, так как оно верно изображает обстоятельства моей работы.
Еще два слова. Надеюсь, читатели поймут те особенные условия, в которых мне приходилось и приходится работать. Я пишу биографию не только живого, но еще бодро и энергично живущего человека, и потому я как биограф не могу сказать последнего слова, дать окончательной оценки этому столь сильно бьющему жизненному потоку.
И потому я должен бы был скромно (и я делаю это вполне искренно) назвать свой труд лишь сборником доступных мне материалов для биографии Льва Николаевича Толстого.
Мне не хотелось задерживать выхода этого первого, более или менее законченного тома, так как я полагаю, что выпуск его в свет может указать обществу на тот центр, куда могли бы стекаться сведения, воспоминания и другие документы о жизни Льва Николаевича. Я буду искренно благодарен за всякую помощь и указания.
П. Б.23 августа 1905 г.Предисловие Л. Н. Толстого к своим воспоминаниям
Друг мой П. Б., взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.
Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только, как тени на картине, присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидал, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда же я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна бы была произвести такая биография. В это время я заболел. И во время невольной праздности – болезни – мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны.
Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении «Воспоминание»:
Когда для смертного умолкнет шумный день, И на немые стогна града Полупрозрачная наляжет ночи тень И сон, дневных трудов награда, – В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне Змеи сердечные грызенья Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, Теснится тяжких дум избыток; Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток. И, с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю.В последней строке я только изменил бы так, – вместо «строк печальных…» поставил бы «строк постыдных не смываю». Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:
6 января 1903 г.
«Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет! Какое бы было мученье, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни! А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознанье, – сознанье, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: х = положительной или отрицательной, большой или малой величине!
Да, великое счастье – уничтожение воспоминания; с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминаний, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное».
Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, – таким был только 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, т. е. рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что вся моя длинная жизнь распадается на четыре периода: тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет, потом второй – ужасные 20 лет, или период грубой распущенности, служение честолюбию, тщеславию и, главное, похоти, потом третий, 18-летний период от женитьбы и моего духовного рождения, который с мирской точки зрения можно бы назвать нравственным, т. е. в эти 18 лет я жил правильной, честной, семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.
И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть, и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни, и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мной в прошедшие периоды.
Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем правдивую, я хотел бы написать, если Бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают не заслуженное ими значение.
Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый, радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет последующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, и, наконец, последний период – моего пробужденья к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.
Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе, во-первых, потому что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому что во время описания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей: Stern'a (его Sentimental journey) и Topfer'a (Biblioteque de mon oncle).
В особенности же не понравились мне теперь последние две части, «Отрочество» и «Юность», в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность, желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, – мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше – главное, полезнее другим людям.
Библиографический указатель
I разряд
1) Краткая биография, составленная самим Львом Николаевичем Толстым по просьбе Н. Страхова для издания Стасюлевича «Русская библиотека», в. IX. Гр. Л. Н. Толстой. Спб. 1879.
2) «Исповедь» Л. Н. Толстого. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, запрещенных в России. Т. 1. Издание «Свободного слова». Christchurch. Hunts. England.
3) Первые воспоминания. Отрывок. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого., изд. 10-е. М., 1897, т. XIII. Впервые появились в сборнике И. Горбунова-Посадова «Русским матерям». М., 1892.
4) Доставленные мне и отданные в мое распоряжение черновые неисправленные записки Л. Н. Толстого.
5) Частные письма Л. Н. Толстого к его родственникам и знакомым.
6) Дневник Л. Н. Толстого.
7) Материалы к биографии Л. Н. Толстого, записанные с его слов С. А. Толстой.
8) Автобиографические рассказы, помещенные в IV томе полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. (Педагогические статьи).
9) «Мои воспоминания 1848–1889» А. А. Фета. М., 1890 (большое количество писем Л. Н. Толстого).
10) Несколько слов по поводу книги «Война и мир». Статья Л. Н. Толстого. «Русский архив», 1868, вып. 3.
II разряд
11) С. А. Берс. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом. Смоленск. 1894 г.
12) Paul Boyer. Chez Tolstoi. Trois jours a lasnaia Poliana. «Le Temps» 27–29 Aout 1901.
13) A. E. Головачева-Панаева. Русские писатели и артисты. Воспоминания 1824–1870 гг. Изд. Губинского. Спб, 1890.
14) Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Полное собрание сочинений. Т. XII, с. 326.
15) Г. П. Данилевский. Поездка в Ясную Поляну. «Исторический вестник». Март 1886 г.
16) Из бумаг А. В. Дружинина. «XXV лет». Сборник, изданный обществом пособия нуждающимся литераторам и ученым. Спб, 1884.
17) Н. П. Загоскин. Гр. Л. Н. Толстой и его студенческие годы. «Исторический вестник». Январь 1894 г.
18) Захарьин (Якунин) Ив. Графиня А. А. Толстая. Личные впечатления и воспоминания. «Вестник Европы». Июнь 1904 г.
19) Р. Левенфельд. Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь и сочинения. Перевод с немецкого А. В. Перелыгиной (с примечаниями гр. С. А. Толстой). М., 1897.
20) R. Lewenfeld. Gesprache mit und uber Tolstoi. Leipzig.
21) E. Марков. Живая душа в школе. Мысли и воспоминания старого педагога. «Вестник Европы». Февраль 1900 г.
22) М. О. Меньшиков. Первое произведение Л. Н. Толстого. Книжки «Недели». Октябрь 1892 г.
23) Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута. Т. 1. Изд. «Русского богатства». Спб., 1900 г.
24) Мнение 105 тульских дворян о наделе крестьян землею. «Современник» 1858 г. Т. 72.
25) Н. Г. Молоствов. Лев Толстой. Критико-биографическое исследование. Под редакцией А. Волынского. Изд. Сойкина.
26) Н. А. Некрасов. Четыре письма к гр. Л. Н. Толстому. «Нива», № 2, 1898.
27) Л. П. Никифоров. Биографический очерк. «Курьер». Сентябрь 1902 г.
28) Кн. Д. Д. Оболенский. Наброски и воспоминания. «Русский архив», 1891.
29) И. И. Панаев. Литературные воспоминания, с приложением писем. Изд. Мартынова. Спб., 1888 г.
30) С. Плаксин. Граф Л. Н. Толстой среди детей. М., 1903 г.
31) В. А. Полторацкий. Воспоминания. «Исторический вестник». Июнь 1893 г.
32) А. Румянцев. Письмо к Д. И. Титову. Изд. Герцена. Лондон, 1857, «Полярная звезда», IV.
33) «Севастопольская песня». Сообщил один из участников в составлении «Севастопольской песни». «Русская старина». Февраль 1884 г.
34) П. А. Сергеенко. Как живет и работает Л. Н. Толстой. М., 1898 г.
35) Евг. Скайлер. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом. «Русская старина». Октябрь 1890 г. Пер. с английского. (Scribnei Magasine, 1889).
36) Тенеромо. Живые речи. Спб.
37) И. С. Тургенев. Первое собрание писем. 1840–1883 гг. Изд. Литературного фонда. Спб., 1885.
38) Д. Успенский. Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого. «Русская мысль». Сентябрь 1903 г.
39) Частные письма родственников и знакомых Л. Н. Толстого о нем.
40) Н. К. Шильдер. Эпизод из Аустерлицкого боя. «Русская старина», 1890, Т. LXVIII.
III разряд
41) Евг. Богословский. Тургенев о Льве Толстом. 75 отзывов. Тифлис. 1894 г.
42) Wilth Bode. Tolstoi in Weimar. Der Saemann. Monatsschrift. Leipzig, Sept. 1905.
43) М. И. Венюков. Песня о Севастополе. «Русская старина». Февраль 1875 г.
44) Кн. E. Г. Волконская. Род князей Волконских. Материалы, собранные и обработанные княгиней E. Г. Волконской. Спб., 1900.
45) Кн. С. Гр. Волконский (декабрист). Записки.
46) Е. Гаршин. Воспоминания о И. С. Тургеневе. «Исторический вестник». Ноябрь 1883 г.
47) П. Д. Драганов. Гр. Л. Н. Толстой как писатель всемирный и распространение его произведений в России и за границей
48) А. Ф. Кони. Биографический очерк «И. Ф. Горбунов» (Предисловие к собранию сочинении).
49) В. Н. Лясковский. Ал. Степ. Хомяков. Его биография и учение, «Русский архив», 1896, 11.
50) В. Н. Назарьев. Жизнь и люди былого времени. «Исторический вестник». Ноябрь 1900 г.
51) Е. Соловьев. Л. Н. Толстой, его жизнь и литературная деятельность. Изд. Павленкова.
52) М. А. Янжул. К биографии Л. Н. Толстого. «Русская старина». Февраль 1900 г.
А также многие газетные заметки и статьи.
Справочные книги
53) Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь.
54) Юрий Битовт. Гр. Толстой в литературе и искусстве. Библиографический указатель. Изд. Сытина. М., 1903 г.
55) Русская словесность с XI по XIX столетие включительно.
56) В. Зелинский. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. М., 1896 г.
Часть I. Происхождение Льва Николаевича Толстого
Глава 1. Предки Л. Н. Толстого со стороны его отца
Графы Толстые – старинный дворянский род, происходящий, по сказаниям родословцев, от мужа честна Индриса, выехавшего «из немец, из Цесарские земли» в Чернигов в 1353 году, с двумя сыновьями и с дружиной из трех тысяч человек; он крестился, получил имя Леонтия и был родоначальником нескольких дворянских фамилий. Его правнук, Андрей Харитонович, переселившийся из Чернигова в Москву и получивший от вел. кн. Василия Темного прозвище Толстого, был родоначальником Толстых (в графской отрасли рода Толстых граф Лев Николаевич числится от родоначальника Индриса в 20 колене).
Один из потомков Индриса, Петр Андреевич Толстой, служил в 1683 году при дворе стольником и был одним из главных зачинщиков стрелецкого бунта. Падение царевны Софии заставило П. А. Толстого резко переменить фронт и перейти на сторону царя Петра, но последний долго относился к Толстому очень сдержанно, и вообще Петр Андреевич долго не пользовался доверием царя: рассказывают, что на веселых пирах Петр любил сдергивать большой парик с головы Петра Толстого и, ударяя по плеши, приговаривать: «Головушка, головушка, если бы ты не была так умна, то давно бы с телом разлучена была».
Недоверчивость царя не была поколеблена и военными заслугами П. А. Толстого во втором Азовском походе (1696 г.).
В 1697 году царь посылал «волонтеров» в заграничное ученье, и Толстой, будучи уже в зрелых летах, сам вызвался ехать туда для изучения морского дела. Два года, проведенные в Италии, сблизили Толстого с западноевропейской культурой. В конце 1701 года Толстой назначен был посланником в Константинополь – на пост важный, но трудный; во время осложнений 1710–1713 гг. Толстой дважды сидел в Семибашенном замке, – поэтому в гербе графов Толстых изображен этот замок.
В 1717 году П. А. Толстой оказал царю важную услугу, навсегда упрочившую его положение: посланный в Неаполь, близ которого в Кастель Сент-Эльмо в то время скрывался царевич Алексей со своей подругой Евфросиньей, Толстой, при содействии Евфросиньи, ловко обошел царевича и путем застращивания и ложных обещаний склонил его к возвращению в Россию. За деятельное участие в следствии, суде и тайной казни царевича, совершенной им по приказанию Петра в соучастии с Румянцевым, Ушаковым и Бутурлиным, Толстой был награжден поместьями и поставлен во главе Тайной канцелярии, у которой в это время было особенно много работы вследствие толков и волнений, вызванных в народе судьбою царевича Алексея. С этих пор Толстой становится одним из самых близких и доверенных лиц государя. Дело царевича Алексея сблизило его с императрицей Екатериной, в день коронования которой – 7-го мая 1724 года – он получил титул графа. После смерти Петра I П. А. Толстой вместе с Меньшиковым энергично содействовал воцарению Екатерины, а потому и пользовался у ней большими милостями. Но с воцарением Петра II, сына казненного царевича Алексея, падение его было неминуемо. Несмотря на свой преклонный возраст – 82 года, Петр Толстой был сослан в Соловецкий монастырь, где прожил недолго и умер в 1729 году.
Сохранился дневник заграничного путешествия Толстого в 1697–1699 годах, – характерный образчик тех впечатлений, какие выносили русские люди петровского времени из своего знакомства с Западной Европой. Кроме того, Толстой составил в 1705 году обстоятельное описание Черного моря. Известны в свое время были также его два перевода: «Метаморфозы» Овидия и «Управление турецким государством».
У него был сын Иван Петрович, который в одно время с отцом был лишен занимаемой им должности (председателя суда) и также сослан в Соловецкий монастырь, где умер незадолго до отца.
Только 26 мая 1760 года, уже при императрице Елизавете Петровне, потомству Петра Андреевича было возвращено графское достоинство в лице внука его Андрея Ивановича, прадеда Льва Николаевича.
«Про Андрея Ивановича, женившегося очень молодым на княжне Щетининой, я слыхал от тетушки такой рассказ. Жена его по какому-то случаю без мужа должна была ехать на какой-то бал. Отъехав от дома, вероятно, в возке, из которого вынуто было сиденье, для того, чтобы крышка возка не повредила высокой прически, молодая графиня, вероятно, лет семнадцати, вспомнила дорогой, что она, уезжая, не простилась с мужем и вернулась домой.
Когда она вошла в дом, она застала его в слезах. Он плакал о том, что жена перед отъездом не зашла к нему проститься».
О деде и бабушке своей со стороны отца Лев Николаевич так рассказывает в своих воспоминаниях:
«Бабушка, Пелагея Николаевна, была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Николая Ивановича Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие о ее характере, она была недалекая, малообразованная, – она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная – сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном – женщина. Кроме того, как дочь старшего в роде она пользовалась большим уважением всех Горчаковых: бывшего военного министра Алексея Ивановича, Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Димитрия Петровича: Петра, Сергея и Михаила Севастопольского.
«Дед мой, Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимал, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное – доверчивый. В имении его, Белевского уезда, Полянах, – не Ясной Поляне, но Полянах, – шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катания, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть и при готовности давать всем, кто просил, взаймы и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупами, кончились тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани.
Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему. Но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения.
В Казани бабушка выдала меньшую дочь, Пелагею, за Юшкова. Старшая же, Александра, еще в Петербурге была выдана за графа Остен-Сакен.
После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее.
Отца бабушка страстно любила и нас – внуков, забавляясь нами. Любила тетушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей, но со своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: «вы, моя милая», – и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой бабушки капризничать: и со своей девочкой, и со своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с ней.
Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным связанным с ней впечатлениям. Первое – это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней, – вероятно, наше восхищение и удивление перед ее мыльными пузырями забавляло ее, – чтобы видеть, как она умывалась. Помню, белая кофточка, юбка, белые старческие руки и огромные поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо.
Второе воспоминание – это было то, как ее без лошади, на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с гувернером Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чащу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша (дворовые камердинеры) ввезли желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы где сами гнули ветки, где Федор Иванович, и удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешники, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались незамеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их, и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянах, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом ореховой листвы, как щелкали со всех сторон, разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи, и как мы, не переставая, жевали свежие, полные белые ядра.
Мы собирали в карманы, подолы и наш кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню; помню, что бабушка, орешник, терпкий запах ореховой листвы, камердинеры, желтый кабриолет, солнце – соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и те могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, который везут Петруша и Матюша.
Самое же сильное, связанное с бабушкой, воспоминание, – это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я узнал его), – остаток старинного барства, барства деда. Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.
Он жил где-то в доме, и целый день его было не видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мои черед ночевать у бабушки, Лев Степаныч со своими белыми глазами, в синем длинном сюртуке с буфами на плечах сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой ли комнате иди в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала эти необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом, на белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника послышался ровный, спокойный голос Льва Степановича: «Продолжать прикажете?» – «Да, продолжайте». – «Любимая сестрица», сказала она, – заговорил Лев Степаныч тихим, ровным старческим голосом, – «расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». «Охотно, – отвечала Шехеразада, – рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехеразада начала так: «У одного владетельного царя был единственный сын…» – очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько был поглощен таинственным видом белой бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучавшие среди темноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампадки. Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка».
По воспоминаниям сестры Льва Николаевича, Марьи Николаевны, у слепого Льва Степановича был такой тонкий слух, что он ясно слышал, как бегают мыши, и знал, куда они бегут. Одним из лакомств для мышей в комнате бабушки было лампадное масло, которое они лизали. И вот ночью, во время равномерного рассказыванья сказки, Лев Степанович вдруг останавливался и таким же спокойным голосом заявлял: «А вот, ваше сиятельство, мышка побежала к лампадке масло лизать». И потом с той же равномерностью продолжал свой рассказ.
Графы Толстые известны на многих отраслях общественной деятельности; мы полагаем, что читателям интересно знать, в какой степени родства находятся некоторые из них по отношению к Льву Николаевичу. Мы упомянем здесь о Федоре Петровиче Толстом, известном художнике, медальере и вице-президенте императорской Академии Художеств, приходившемся родным братом Константину Петровичу Толстому, отцу поэта Алексея Константиновича Толстого, который, в свою очередь, приходился троюродным братом Льву Николаевичу. Бывший министр, Дмитрий Андреевич Толстой, известный своими ретроградными реформами, принадлежал к более дальней родне Льва Николаевича и происходил от их общего предка Ивана Петровича Толстого, сына первого графа Толстого, Петра Андреевича, умершего с ним вместе в ссылке, в Соловецком монастыре.
Надо упомянуть также об интересном человеке Федоре Толстом, прозванном «американцем» и известном своими эксцентрическими авантюрами. В комедии Грибоедова «Горе от ума» есть намек на него в словах: «в Камчатку сослан был, вернулся алеутом». О нем говорит и Лев Николаевич в воспоминаниях о своем детстве. Личность его послужила Льву Николаевичу отчасти материалом для создания в «Войне и мире» типа Долохова. Он приходился двоюродным дядей Льву Николаевичу.
Глава 2. Предки Л. Н. Толстого со стороны его матери
Князья Волконские ведут свой род от Рюрика.
От времен деда, князя Волконского, в Ясной Поляне долго еще сохранялось генеалогическое дерево князей Волконских, написанное на полотне масляными красками. Родоначальник князей Волконских, святой Михаил, князь Черниговский, держит в руке дерево, разветвления которого содержат перечень его потомства.
Князь Иван Юрьевич, в 13-м колене от Рюрика, в начале XIV столетия получил Волконский удел (по реке Волконе, протекающей в теперешней Калужской и отчасти Тульской губ.), и оттого пошел род князей Волконских.
Сын его, Федор Иванович, был убит в Мамаевом побоище в 1380 году. Из дальнейших предков Льва Николаевича назовем его прадеда, князя Сергея Федоровича Волконского, личность которого окружена следующей легендой.
Князь Сергей Федорович Волконский участвовал в Семилетней войне в чине ген. – майора. Во время похода жене его приснилось, что какой-то голос повелевает ей, написав небольшую икону: с одной стороны Живоносного Источника, а с другой Николая Чудотворца, послать ее мужу. Она для того избрала дощечку, приказала написать на ней икону и через фельдмаршала Апраксина доставила князю Сергею. В тот же день курьер привез ему повеление – идти для поиска неприятеля. Сергей Федорович, призвав Бога на помощь, возложил на себя полученный образ. В кавалерийском деле неприятельская пуля попала ему в грудь, но ударила в самую икону и не причинила ему вреда; таким образом икона эта спасла ему жизнь; образ этот хранился после у младшего сына его, князя Николая Сергеевича. Князь Сергей Федорович умер 10 марта 1784 г.
Лев Николаевич, конечно, знал это предание и воспользовался им в «Войне и мире» для изображения религиозного настроения княжны Марии Болконской перед отправлением князя Андрея на войну. Читатели помнят, что княжна Мария упросила брата надеть образок; подавая его князю Андрею, она проговорила: «Что хочешь – думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах…»
Мы видим, как художественная правда переплетается здесь с исторической, и если вторая дает первой характер достоверности, то первая влагает во вторую тот дух жизни, которым так живы все действующие лица «Войны и мира» и который так неотразимо заражает и нас своей жизненностью.
Младший сын Сергея Федоровича, Николай Сергеевич, был дедом Льва Николаевича со стороны матери. Вот что известно о нем из родословной:
Николай Сергеевич, генерал от инфантерии, младший сын князя Сергея Федоровича и княгини Марии Дмитриевны, урожденной Чаадаевой, родился в 1753 г., марта 30. В 1780 г. он находился в свите императрицы Екатерины II в Могилеве, где присутствовал при первом свидании ее с императором Иосифом II. В 1786 г. Николай Сергеевич провожал императрицу в Тавриду. В 1793 г. он назначен был чрезвычайным послом в Берлин по случаю бракосочетания наследного принца, впоследствии короля Фридриха-Вильгельма III. Он умер в 1821 г., февраля 3, в имении Ясная Поляна, где безвыездно прожил последние годы жизни, и которое внук его обессмертил в романе «Война и мир» под названием «Лысых гор». Тело его лежит в Троицко-Сергиевской лавре.
В своих воспоминаниях Лев Николаевич рассказывает нам о своем деде со стороны матери следующее:
«Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его б…»
За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения императора Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.
Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марию. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти, около 1821 года. Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слыхал рассказов об его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к его важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что, хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и в особенности об огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы.
Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более, что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателю, избавляло их от притеснения начальства.
Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи, и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял по аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.
Странная судьба и самым странным образом свела его с той самой Варенькой Энгельгардт, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Федоровича Голицына, получившего вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей, следовательно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына, и оба старые князья разменялись портретными галереями (разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в Андреевской ленте и рыжей, толстой Варварой Васильевной – кавалерственной дамой. Однако сближению этому не суждено было совершиться: жених моей матери, Лев Голицын, умер от горячки перед свадьбой».
Просматривая родословную князей Волконских, я наткнулся еще на одну интересную личность, именно на двоюродную сестру матери Льва Николаевича, княжну Варвару Александровну Волконскую, свидетельницу многих событий, происходивших в доме деда Льва Николаевича. Вот что говорится о ней в родословной:
«Княжна Варвара Александровна Волконская (дочь князя Александра Сергеевича, т. е. племянница деда Льва Николаевича) со смерти матери часто живала подолгу с отцом своим в доме родного брата его Николая Сергеевича. Тут она встречалась с лицами, о коих повествует граф Лев Толстой в своем романе «Война и мир». Подробности о них и о современных событиях живо сохранились в ее памяти до глубокой старости… Под конец жизни она переселилась в село Согалево, Клинского уезда, тоже бывшее вотчиной родителей ее, и тут построила себе домик около самой церкви, в котором жила с несколькими дворовыми старушками, которые не хотели расстаться с ней и с которыми она жила воспоминаниями о прошлом, читая и перечитывая «Войну и мир». Давно забытая всеми, старая княжна осталась предметом уважения и привязанности местных крестьян. Одному случайному заезжему к ней в 1876 году она с любовью рассказывала, как крестьяне деревень, давно проданных и уже перешедших в третьи руки, поднесли ей в день, когда ей стало 90 лет, куль муки и рубль серебром, как бабы поднесли рубль, куриц и холста. Она это рассказывала не только с чувством благодарности, но и гордости, как свидетельство о памяти, оставленной ее родителями среди населения».
«Милую старушку, двоюродную сестру моей матери, я знал. Познакомился я с ней, когда в пятидесятых годах жил в Москве. Устав от рассеянной светской жизни, которую я вел тогда в Москве, я поехал к ней, в ее маленькое именьице Клинского уезда, и провел у нее несколько недель. Она шила в пяльцах, хозяйничала в своем маленьком хозяйстве, угощала меня кислой капустой, творогом, пастилой, какие только бывают у таких хозяек маленьких имений, и рассказывала мне про старину, мою мать, деда, про четыре коронации, на которых она присутствовала. Я же писал у нее «Три смерти».
И это пребывание у нее осталось для меня одним из чистых и светлых воспоминаний моей жизни».
Наконец, назовем еще одно лицо из рода князей Волконских, хотя и не предка Льва Николаевича по прямой линии, но родственника его, князя Сергея Григорьевича Волконского, декабриста. Князь Сергей Григорьевич приходился троюродным братом матери Льва Николаевича и внуком Семену Федоровичу Волконскому, родному брату князя Сергея Федоровича, о котором упоминали выше.
Князь Сергей Григорьевич Волконский родился в 1788 году, участвовал в кампании 1812 года и затем принадлежал к южному тайному обществу; за участие в заговоре декабристов был сослан в Восточную Сибирь, где и оставался 30 лет, пробыв первые годы в каторжных работах, в кандалах, а остальное время на поселении.
Путешествие и прибытие жены его, княгини Марии Николаевны, описано в известной поэме Некрасова.
Брат его, Николай Григорьевич Волконский, по указу императора Александра I в 1801 году принял фамилию Репнина, своего деда со стороны матери, род которого прекратился. «Да род князей Репниных, – как сказано в указе, – столь славно отечеству послуживших, с кончиною последнего в оном не угаснет, но, обновясь, пребудет с именем и примером его в незабвенной памяти российского дворянства».
Князь Николай Григорьевич участвовал во всех походах против Бонапарта и в Отечественной войне. За битву под Аустерлицем награжден орденом св. Георгия четвертого класса. В этом сражении, командуя эскадроном, он участвовал в известной атаке кавалергардского полка, описанной в «Войне и мире», причем был ранен пулей в голову и контужен. Французы подняли его с поля сражения и понесли на перевязочный пункт; узнав об этом, Бонапарт на другой день велел привести его в свою ставку и тут же предложил ему из уважения к его храбрости освободить не только его, но и всех офицеров, бывших под его командой, с условием не воевать в течение двух лет. Николай Григорьевич, поблагодарив за внимание, ответил, что «он присягнул служить своему государю до последней капли крови и потому предложения принять не может».
Вскоре затем, по возвращении из плена, вследствие ран князь был уволен в отставку.
В «Русской старине» 1890 года, т. 68, стр. 209, помещено письмо самого князя Репнина к Михайловскому-Данилевскому (историку Отечественной войны); в этом письме князь Репнин подробно рассказывает эпизод, описанный в «Войне и мире», и приводит подлинные слова своего разговора с Наполеоном. Первая часть этого разговора с точностью воспроизведена в романе «Война и мир».
Глава 3. Родители Льва Николаевича
В своих воспоминаниях Лев Николаевич, описывая своих родителей, следует хронологическому порядку в том смысле, что сначала описывает смутные черты своей матери, дополняя рассказами о ней других, переживших ее членов семьи, а затем уже приводит более точные позднейшие воспоминания об отце и тетках. Мы оставляем этот порядок, чтобы возможно менее менять порядок изложения Льва Николаевича. Из всего рассказа его о матери и отце исключен нами только рассказ о деде Волконском, который и вставлен в свое место, в главе о предках.
«Матери своей я совершенно не помню. Мне было полтора года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета; так что, как реальное физическое существо, – я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знал о ней, – все прекрасно, и я думаю не оттого только, что все говорившие мне про мою мать старались говорить о ней только хорошее, но потому что действительно в ней было очень много этого хорошего.
Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица, от отца до кучеров, представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое, любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо ближе к правде, чем то, когда я видел одни их недостатки.
Мать моя была нехороша собою, но очень хорошо образованна для своего времени. Она знала, кроме русского, на котором она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, – четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, – и должна была быть чутка к художеству; она хорошо играла на фортепиано, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет, – рассказывала мне ее горничная, – но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.
У меня осталось несколько писем ее к отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более других похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата; их равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ.
В брате, – про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем, – я хорошо знал это.
Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся вместе с братом, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно, находя в этом большое удовольствие.
Ту же черту я замечал в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца и его семьи, за исключением разве Татьяны Александровны Ергольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина.
Кроме того, у обоих была еще другая черта, обусловливающая, я думаю, их равнодушие к суждению людей, – это то, что они никогда никого, это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, никогда никого не осуждали. Наиболее резкое отрицательное отношение к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее.
В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало, – это коротенькое житие одного монаха, имевшего заведомо всей братии много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали: он никогда не осудил никого.
Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их.
Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: «несравненная, обожаемая, радость всей моей жизни, неоцененная» и т. д. – были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее.
Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: «ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'etre aupres de toi».
Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаково: «mon bon ami», и в одном из писем прямо говорит: «le temps me parait long sans toi quoiqu'a dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta societe quand tu es ici», и всегда подписывается одинаково: «ta devouee Marie».
Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: «mon petit Benjamin».
Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным (до такой степени расстроенным, что отец даже отказался от наследства) моим дедом Толстым состоянием. Думаю, что мать любила моего отца больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящей же ее любви, как я понимаю, было три или четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с француженкой m-lle Henissienne, про которую я слышал от тетушек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. M-lle Henissienne эта вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Александровича Волконского, деда теперешнего писателя Волконского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой m-lle Henissienne.
Пишет она про свою дружбу по случаю двух девиц, живших у нее в доме: «Je m'arrange tres bien avec toutes les deux, je fais de la musique, je ris et je folatre avec l'une et je parle sentiment, je medis du monde frivole, avec l'autre, je sois aimee a la folie par toutes les deux, je suis la confidente de chacune, je les concilie, quand elles sont brouillees, car il n'y eut jamais d'amitie plus querelleuse et plus drole a voir que la leur: ce sont des bouderies, des pleurs, des reconciliations, des injures et puis des transports d'amitie exaltee et romanesque. Enfm j'y vois comme dans un miroir l'amitie qui a anime et trouble ma vie pendant quelques annees. Je les regarde avec un sentiment, indefinissable, quelquefois j'envie leurs illusions, que je n'ai plus, mais dont je connais la douceur; disons le franchement, le bonheur solide et reel de l'age mur vaut-il les charmantes illusions de la jeunesse, ou tout est embelli par la toute-puissance de l'imagination? Et quelquefois je souris de leur enfantillage» (*).
(* «Я отлично лажу с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дурачусь с одной, говорю о чувствах, пересуживаю пустоту света с другой, любима до безумия обеими, каждая делает мне свои признания, и я их мирю, когда они ссорятся; так как трудно себе представить дружбу более бурную и более странную, чем ихняя. Постоянные неудовольствия, слезы, угощения, брань и вдруг порывы восторженной и романтической дружбы. Словом, вижу, как в зеркале, дружбу, которая оживляла меня и смущала мою жизнь в течение нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно, счастье прочное и действительное зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда все бывает украшено всесильным воображением? Иногда я улыбаюсь их ребячеству».
Третье сильное, едва ли не самое страстное чувство, была ее любовь к старшему моему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать все возможное для наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем, это то, что он задумывается и вместо «bonsoir» или «bonjour» говорит бабушке: «je vous remercie».
Четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь ей к Коко, во время моего рожденья уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки. Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой.
Таков был духовный облик матери в моем представлении.
Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала много.
Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая.
Семья отца состояла из бабушки-старушки – его матери, ее дочери – моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитавшейся в доме дедушки и прожившей всю жизнь в нашем доме, моего отца, учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в «Детстве». Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я, меньшой, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери – кажется, не больше 9-ти дет – была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с ней. Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких знакомых Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещали Ясной Поляны.
Жизнь моей матери проходила вся за занятиями с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как Эмиль Руссо, и рассуждениях о читанном, в игре на фортепиано, в преподавании итальянского языка одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве.
Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно. Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы и дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери положила свою печать на жизнь нашей семьи».
К этой яркой и вместе с тем нежной характеристике своей матери Львом Николаевичем мы должны еще прибавить несколько ценных черт, на которые дают указания некоторые оставшиеся после Марии Николаевны ее писания. Из них, кроме упоминаемых Л. Н-чем, мы укажем на дневник Марии Николаевны от 1810 г. о ее поездке с отцом из Москвы в Петербург.
Дневник этот является также чрезвычайно важным источником для понимания личности самой Марии Николаевны. Озаглавлен он: «Дневная запись для собственной памяти». Начинается же он так:
«1810 г. июня 18 дня выехала я с батюшкой из Москвы с сердцем, исполненным радости, но с тощим кошельком, в котором было только четыре рубли; и эта сумма должна была довезти меня до Петербурга».
Уже в этих немногих строках заключаются ценные штрихи для понимания молодой шестнадцатилетней княжны: она и до ребячливости наивна, и в то же время не по летам рассудительна и самостоятельна. Она наивна, когда думает о своем «тощем кошельке», который должен «довезти» ее до Петербурга, потому что ведь едет она с богатым отцом, но она рассудительна и самостоятельна, потому что, даже «с сердцем, исполненным радости», способна не забывать житейскую прозу. Те же черты выступают перед нами и в дальнейших строках дневника. Так, приехав в деревню Давыдовку к брату Ник. Сергеевича, кн. Александру Сергеевичу, она записывает: «Сестра княжна Варвара показывала мне свои занятия: у нее восемь девок, которые прекрасно плетут кружева». Но эта бросающаяся в глаза склонность молодой девушки обращать внимание на практическую сторону жизни, развитая в ней, очевидно, отцом, далеко не преобладающая в ней черта. Когда Марья Николаевна соприкасается с природой или с искусством, окружающая проза жизни всегда отступает для нее на задний план. В той же самой Давыдовке, осмотрев тамошние места, она делает в своем дневнике такую заметку: «со всех сторон открываются прелестные виды: в лесу есть натуральные гулянья, которые, кажется, будто сделаны искусством». Вообще, все красивое неизменно привлекает ее внимание. Некрасивая сама, она душой живет всегда в красоте, в каких-то мечтах о ней, никогда не забывая при этом полезной стороны наблюдаемых ею явлений. И в этой черте ее явно сказывается влияние отца, эстетическая натура которого не мешала ему быть очень практичным и дельным хозяином. В Твери Марья Николаевна записывает: «Сей город очень регулярно построен и имеет очень хорошие домы». А уезжая из Твери, она делает такое замечание: «Величественная Волга чрезвычайно украшает ее, и я долго любовалась на сию мать Российских рек, которая орошает столько Губерний». Про Новгород она говорит: «Я с удовольствием увидела сей древний город, который был некогда столицею России, часто противился Великим Князьям и участвовал в Ганзеатическом союзе, который играл тогда столь знатную ролю». Наконец, приехав уже в Петербург, она так отзывается о Царском Селе, через который лежал ее маршрут: «сие место привело меня в восхищенье, хотя я только поверхностно могла рассмотреть оное. Сей дворец, огромное и великолепное здание, которое я видела только с одной стороны; сии сады и рощи, в которых гуляла Екатерина, сии беседки, фонтаны наподобие развалин, и обложенные камнем горы, все сие прельщало меня».
Из этого дневника наглядно вырисовывается та серьезность и основательность, с какой воспитывал и развивал свою дочь князь Николай Сергеевич Волконский.
Продолжая свои воспоминания, Лев Николаевич переходит уже к другой эпохе и говорит:
«Все это я описываю по рассказам и письмам. Теперь же начинаю о том, что я пережил и помню. Не буду говорить о смутных, младенческих неясных воспоминаниях, в которых не можешь еще отличить действительности от сновидений. Начну с того, что я ясно помню: с того места и с тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец.
Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. Младший брат его Иленька был ушиблен, стал горбатый и умер в детстве. В 12-м году отцу было 17 лет, и он, несмотря на ужас и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время князь Алексей Иванович Горчаков, близкий родственник моей бабушки, княгини Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командующий чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему в адъютанты. Он проделал походы 13–14 годов и в 14 году где-то во Франции, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж.
Отец в 20 лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, стало быть лет 16-ти, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищенство брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.
После кампании отец, разочаровавшись в военной службе, – это видно по письмам, – вышел в отставку и приехал в Казань; где, совсем уже разорившись, мой дед был губернатором, и в Казани же была сестра отца, Пелагея Ильинична, за Юшковым. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило и всех долгов, и со старой, привыкшей к роскоши матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами.
Отец был среднего роста, хорошо сложен, живой сангвиник с приятным лицом и с всегда грустными глазами. Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее даже слаб. Так что и за его время я никогда не слыхал о телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний; но они, вероятно, были так редки, и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас.
Мы, дети, с учителем возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера, Кривого Кузьму, человека женатого и уже немолодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина, куда он идет, а он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитавшей нас и ненавидевшей телесные наказания, никогда не допускавшей их для нас, а также для крепостных, там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: «Как же вы не остановили его?» Ее слова еще больше огорчили меня… Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем, оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело было совершено.
Возвращаюсь к тому, что я знал про отца и как представляю себе его жизнь. Занятие его составляло хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли отца часто уезжать из дома; кроме того, уезжал он часто и для охоты – и для ружейной, и для псовой. Главным товарищем его по охоте был его приятель, старый холостяк и богач Киреевский, и Языков, Глебов, Исленев. Отец разделял общее тогда свойство помещиков – пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата: Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята, и они же – охотники. Дома отец, кроме занятий хозяйством и нами – детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоявшую по тому времени из французских классиков, исторических сочинений и естественноисторических – Бюффон, Кювье. Тетушка говорила мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтет прежних. Но хотя он и много читал, трудно верить, чтобы он одолел все эти «Histoirs des Croisades» и «Des Papes», которые он время от времени приобретал в библиотеку.
Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованных людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13–15 годов, он был не то, что теперь называется либералом, а просто, по чувству собственного своего достоинства, не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. Он не только не служил никогда, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство государя Николая Павловича.
За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним.
Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас, а иногда, к величайшей радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал читать или разговаривать со стоящим у притолоки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина «К морю»: «Прощай, свободная стихия!» и Наполеону: «Чудесный жребий совершился, угас великий человек», и т. д. Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим.
Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда надевал сюртук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с него свой выезд на охоту мужа в «Графе Нулине». Помню, как мы с ним ходили гулять, и как, увязавшись за ним, молодые борзые, разрезвившись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми набок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как в день охотничьего праздника 1-го сентября мы все выехали в линейке к отъемному лесу, в который была посажена лисица, и как гоняли гончие ее, и где-то – мы не видели – борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли большого соструненного, со связанными ногами серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться, злобно грызя струнку. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: «пущай!» Вилы подняли, волк поднялся, постоял секунд десять, но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушел. Помню, отец что-то выговаривал и, сердито махая руками, возвращался домой.
Самые же приятные мои воспоминания о нем – это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладывания пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен. Сидит, бывало, бабушка со своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки. Рядом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Петровна в своей куртушке с патронами, прядет и стукает клубком изредка по стене, в которой она клубками этими выбила уже ямку. Петровна эта – торговка, почему-то полюбилась бабушке, и она гостит часто у нас и всегда сидит рядом с бабушкой в гостиной около дивана. На креслах сидят тетушки, и одна из них читает вслух. На одном из кресел, продавив в нем себе ямку, лежит черно-пегая Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными черными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушками и тетушками, целуясь рука в руку. Помню раз, в средине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то. Мы все смотрим туда же. Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой, складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смотрит на его, на цыпочках, осторожно шагающую фигуру. Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает, радостно улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую, жилистую руку. Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему до тех пор, пока он не умер».
Эти сведения о родителях, сообщенные самим Львом Николаевичем, мы дополним только некоторыми внешними фактами и историческими документами, которые нам удалось собрать.
Граф Николай Ильич Толстой, отец Льва Николаевича, родился в 1797 году. В хранящемся в архиве Казанского университета деле о принятии в студенты Льва Толстого находится любопытный документ: аттестат о службе его отца, Николая Ильича Толстого.
Мы приведем здесь существенную часть этого акта, датированного 29-го января 1825 года.
«Предъявитель сего подполковник граф Николай Ильич, сын Толстой 3-й, который, как значится из формулярного его списка, 28 лет, имеет орден св. Владимира 4-й степени, из дворян; крестьян не имеет, в службу Его Императорского Величества вступил из губернских секретарей корнетом, 1812 года нюня 11-го в 3-й Иркутский казачий регулярный полк, из коего переведен в Иркутский гусарский полк 1812 года августа 18-го; произведен за отличие в поручики 1813 года апреля 27-го; в том же полку штаб-ротмистром 1813 года октября 7-го. Переведен за отличие в кавалергардский полк тем же чином 1814 года августа 8-го, из оного в гусарский принца Оранского полк, майором, 1817 года декабря 11-ого. Уволен по болезни в отставку с награждением подполковника 1819 года марта 14-го. Определен в Московское военно-сиротское отделение смотрительским помощником 1821 года декабря 15-го. Во время которой службы был в разных походах 1813 г. апреля 2-го и в действительных сражениях неоднократно находился, был в полону до взятия Парижа и за отличие в тех сражениях награжден чином вышеописанным поручиком, штаб-ротмистром и орденом св. Владимира 4-й степени с бантом».
Из того же документа узнаем, что граф Н. И. Толстой оставил службу в военно-сиротском отделении и вышел в окончательную отставку «по домашним обстоятельствам» 8-го января 1824 года.
Выйдя в отставку, граф Николай Ильич Толстой поселился в Ясной Поляне. В ту пору у них был лишь один ребенок, годовалый сын Николай, родившийся в 1823 году. В 1826 году (17-го февраля) родился у них сын Сергей, в 1827 году (23-го апреля) – Дмитрий, а 28 августа 1828 года родился сын Лев.
Непродолжительна была мирная и тихая сельская жизнь Толстых. В 1830 г., произведя на свет дочь Марию (родилась 7-го марта), графиня Толстая вскоре скончалась, оставив мужа с пятью детьми.
По смерти матери воспитанием детей занялась дальняя родственница, вышеупомянутая девица Татьяна Александровна Ергольская, выросшая и воспитанная в доме деда Л. Н-ча, графа Ильи Андреевича Толстого.
В семье Толстых сохранился интересный рассказ из жизни отца Льва Николаевича.
В 1813 году, после блокады города Эрфурта, отец Льва Николаевича был послан с депешами в Петербург; на возвратном пути, при местечке Сент-Оби, он был взят в плен вместе со своим крепостным денщиком, незаметно спрятавшим в сапог все золото своего барина. В течение нескольких месяцев, пока они были в плену, он ни разу не разувался, чтобы не выдать тайны. Он натер себе ногу до раны, но все время и вида не показывал, что ему больно. Зато по приезде в Париж Николай Ильич мог жить, ни в чем не нуждаясь. Он сохранил надолго добрую память о своем преданном денщике.
Прочитав личные воспоминания Льва Николаевича, читатели поймут, что в повести «Детство» изображены родители не Льва Николаевича.
Действительно, насколько нам известно, в отце он изобразил Александра Михайловича Исленева, соседа по имению и приятеля своего действительного отца; мать – лицо вымышленное.
Зато в «Войне и мире» нетрудно угадать полное художественное изображение его родителей в лице графа Николая Ильича Ростова и княжны Марии Волконской.
Начиная со старого графа Ильи Андреевича и кончая воспитанницей Соней, у многих членов семьи Ростовых есть соответствующие действительности типы в семейной хронике Толстых. Точно также ясны и обитатели Лысых Гор. И потому чтение этого романа может дополнить сведения о быте и характере предков и родителей Льва Николаевича.
Часть II. Юные годы (1828–1850)
Глава 4. Детство
«Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне».
Этими словами начинает Лев Николаевич свои воспоминания, и мы считаем должным, приступая к описанию детства, сказать несколько слов об этом замечательном уголке земного шара, которому суждено было приобрести всемирную известность. Каких только гостей не видала у себя Ясная Поляна! Жители Малайского архипелага, австралийцы, японцы и американцы, сибирские бегуны и представители всех европейских наций посещали ее и разносили по всему свету описание ее, слова и мысли великого старца, ее обитателя.
Ясная Поляна, родовое имение князей Волконских, находится в Крапивенском уезде Тульской губ. почти на границе Тульского уезда, в 15 верстах к югу от Тулы. Близ нее переплетаются между собой три большие дороги трех разных эпох: заросшая травой старая Киевская дорога, новое Киевское шоссе и Московско-Курская железная дорога, ближайшая станция которой, Козлова Засека (или просто Засека), находится от дома Льва Николаевича в трех с половиной верстах.
Красивая холмистая местность, окружающая Ясную Поляну, перерезана с востока на запад длинной лентой казенного леса, носящего название «Засеки»; название это указывает на отдельные времена, когда в этом месте славянским племенам приходилось отражать нападения крымских татар и других монгольских племен и «засекать», т. е. рубить лес и делать лесные завалы, естественное и непроходимое препятствие для вражеских орд.
Дома, в котором родился Лев Николаевич, в Ясной Поляне уже нет. Начатый еще дедом, князем Волконским, и достроенный отцом Льва Николаевича, он был продан на своз соседнему помещику Горохову и находился в селе Долгом, верстах в 30-ти от Ясной Поляны. В начале пятидесятых годов Лев Николаевич сильно нуждался в деньгах и поручил одному из своих родственников продать этот дом. Огромный барский дом с колоннами и балконами был продан за сравнительно ничтожную сумму, около 5000 рублей ассигнациями. По письму Льва Николаевича к его брату видно, что ему было очень трудно решиться на это, и он сделал это скрепя сердце по необходимости. В настоящее время в доме этом никто не живет. Он стоит запущенный, с заколоченными окнами. Теперешние два яснополянские дома преобразованы из двух прежних флигелей, стоявших по обе стороны проданного большого дома. Место, где стоял большой старый дом, частью засажено деревьями, частью расчищено под крокет-граунд и площадку, заменяющую в хорошую погоду столовую.
Перед домами теперь цветник, и за ним раскинулся старинный сад с прудом и вековыми липовыми аллеями. Весь сад окружен канавой и валом. При въезде в этот сад стоят две круглые выбеленные кирпичные башни. Около них, по рассказам стариков, во времена деда, князя Волконского, стоял часовой. От этих башен к дому ведет березовая аллея, так называемый проспект. К старинному саду примыкают более молодые фруктовые сады, посаженные уже под руководством самого Льва Николаевича. И вся усадьба, расположенная на холме, тонет в густой роскошной зелени.
О рождении Льва Николаевича, к сожалению, неизвестно никаких интересных подробностей, кроме следующей выписки из метрических книг, приводимой в воспоминаниях Загоскина:
«1828 года, августа 28 дня, сельца «Ясной Поляны», у графа Николая Ильича Толстого родился сын Лев, крещен двадцать девятого числа священником Василием Можайским с дьяконом Архипом Ивановым, дьячком Александром Федоровым и пономарем Федором Григорьевым. При крещении восприемниками были: Белевского уезда помещик Семен Иванов Языков и графиня Пелагея Толстова».
Эта графиня «Пелагея Толстова» была бабушка Льва Николаевича по отцу, Пелагея Николаевна Толстая.
Таковы скудные сведения, дошедшие до нас, о рождении Льва Николаевича Толстого. О первом же детстве его мы знаем уже много интересного.
Редко приходится биографу пользоваться столь ранними автобиографическими сведениями, как пишущему эти строки. В своих «Первых воспоминаниях» Лев Николаевич приводит смутные ощущения пеленания, т. е. ощущения первого года жизни.
Мы приводим здесь эти воспоминания целиком:
«Вот первые мои воспоминания (которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после; о некоторых даже не знаю, было ли то во сне или наяву). Вот они: я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И все это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. – Им кажется, что это нужно (т. е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой. Я не знаю, и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руку, или это пеленали меня уже, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятны мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны.
Другое впечатление – радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это были отруби, и вероятно, в воде и корыте, но новизна впечатлений отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце, с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, засученные руки няни, и теплую, парную, страшенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками.
Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного впечатления, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил и блаженно жил! Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня – только шаг. От новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние. От зародыша до новорожденного – пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них.
Следующие воспоминания мои относятся уже к четырем-пяти годам, но и тех очень немного, и ни одно из них не относится к жизни вне стен дома, Природа до пяти лет не существует для меня. Все, что я помню, все происходит в постельке, горнице. Ни травы, ни листьев, ни неба, ни солнца не существует для меня. Не может быть, чтобы не давали мне играть цветами, листьями, чтоб я не видал травы, чтоб не защищали меня от солнца, но лет до пяти, до шести нет ни одного воспоминания из того, что мы называем природой. Вероятно, надо уйти от нее, чтобы видеть ее, а я был природа.
Следующее за корытцем воспоминание есть воспоминание «Еремеевны», «Еремеевна» было слово, которым нас, детей, пугали, но мое воспоминание о ней такое: я – в постельке, и мне весело и хорошо, как и всегда, и я бы не помнил этого, но вдруг няня или кто-то из того, что составляет мою жизнь, что-то говорит новым для меня голосом и уходит, и мне делается, кроме того, что весело, еще и страшно. И я вспоминаю, что я не один, а кто-то еще такой же, как я. (Это вероятно, моя годом младшая сестра Машенька, с которой наши кровати стояли в одной комнате). И я вспоминаю, что есть положек у моей кровати, и мы вместе с сестрой радуемся и пугаемся тому необыкновенному, что случилось с нами, и я прячусь в подушку, и прячусь и выглядываю в дверь, из которой жду чего-то нового и веселого. И мы смеемся, и прячемся, и ждем. И вот является кто-то в платье и чепце, все так, как я никогда не видал, но я узнаю, что это та самая, кто всегда со мной (няня или тетка – я не знаю), и эта кто-то говорит грубым голосом, который я знаю, что-то страшное про дурных детей и про Еремеевну. Я визжу от страха и радости и точно ужасаюсь и вместе радуюсь, что мне страшно, и хоту, чтобы тот, кто меня пугает, не знал, что я узнал ее.
Мы затихаем, но потом опять нарочно начинаем перешептываться, чтобы вызвать опять Еремеевну.
Подобное воспоминанию Еремеевны есть у меня другое, вероятно, позднейшее по времени, потому что более ясное, но всегда оставшееся для меня непонятным. В воспоминании этом играет главную роль немец Федор Иванович, наш учитель, но я знаю наверное, что еще я не нахожусь под его надзором, следовательно, это происходит до пяти лет. И это первое мое впечатление Федора Ивановича. И происходит это так рано, что я еще никого, – ни братьев, ни отца, – никого не помню. Если и есть у меня представление о каком-нибудь отдельном лице, то только о сестре, и то только потому, что она одинаково со мною боялась Еремеевны. С этим воспоминанием соединяется у меня тоже первое представление о том, что в доме у нас есть верхний этаж. Как я забрался туда, – сам ли зашел или кто меня занес, – я ничего не помню, но помню то, что нас много, мы все хороводим, держимся рука за руку, в числе держащихся есть чужие женщины (почему-то мне памятно, что это прачки), и мы все начинаем вертеться и прыгать, и Федор Иванович прыгает, слишком высоко поднимая ноги, и слишком шумно и громко, и я в одно и то же мгновение чувствую, что это нехорошо, развратно, и замечаю его, и, кажется, начинаю плакать, и все кончается».
К этому времени следует еще отнести рассказ сестры Льва Николаевича, Марьи Николаевны, об их детских играх, переданный ею лично автору этой книги:
«Мы спали втроем, в одной комнате: я, Левочка и Дунечка, и часто играли между собой, составляя особую, меньшую партию, отдельную от старших братьев, живших внизу с гувернером.
Одной из любимейших игр наших была игра в «Милашки». Один или одна из нас изображала Милашку, т. е. ребенка, которого другие особенно ласкали, укладывали спать, кормили, лечили и вообще всячески возились с ним. И этот Милашка должен был по условиям игры подчиняться охотно всем проделкам над ним и беспрекословно исполнять свою роль.
Помню раз во время игры наше огорчение и досаду, когда наш Милашка, которым был большей частью Лев Николаевич, после усиленных баюканий его, действительно заснул. А по расписанию игры он должен был плакать и затем нужно было лечить его, давать лекарства, растирать и т. д., а между тем сон его прекратил нашу игру, вызвав нас от иллюзии к действительности».
«Вот все, – продолжает Лев Николаевич, – что я помню до пятилетнего возраста. Ни своих нянь, теток, братьев, сестер, ни отца, ни комнат, ни игрушек, – я ничего не помню. Воспоминания более определенные начинаются у меня с того времени, как меня перевели вниз к Федору Ивановичу и к старшим мальчикам.
При переводе меня вниз к Федору Ивановичу и мальчикам я испытывал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от вечности), грустно было, поэтически грустно расставаться не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне; я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович; старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе; старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками, и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней; но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознанье того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного. Я все не верил, что это будет. Хотя мне и говорили про то, что меня переведут к мальчикам, но, помню, халат с подтяжкой, пришитой к спине, который на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха, и я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которое я не понимал прежде. Это была тетушка Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая, подпоясывала и целовала, и я видел, что она чувствовала то самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело. Не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело?»
Об этой тетушке, Татьяне Александровне, Лев Николаевич дает следующие интересные сведения в своих воспоминаниях.
«Третье, после отца и матери, самое важное в смысле влияния на мою жизнь, была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушки. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили. Девочек же порешили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка; свернули билетики и положили под образа; помолившись, вынули, и Лизанька досталась Тат. Сем., а черненькая – бабушке. Таничка, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году и воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и, вместе с тем, самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которую она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать то же. «Я сделаю», – сказала она. – «Не сделаешь», – сказал Языков, мой крестный отец, и, тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке», – сказал он. Она вытянула голую руку, – тогда девочки ходили всегда декольте, – и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки, застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.
Такая она была во всем решительная и самоотверженная.
Должно быть, она была очень привлекательная со своей жесткой черной, курчавой, огромной косой, агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «Toinetle, oh, elle etait charmant!»
Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой.
Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери; впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка:
«16 aout 1836. Nicolas m'a lait aujourd'hui une etrange proposition, – celle de l'epouser, de servir de mere a ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refuse la premiere proposition, j'ai promis de remplir l'auire tant que jevivrai».
Так она записала; но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание: у нас были две родные тетки и бабушка, все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это.
У меня были вспышки восторженно-умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее; она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней.
Она была воспитана барышней богатого дома, говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрагивалась до него. Она стала играть только уже тогда, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с нею, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные – крепостные, и обращалась с ними как барыня. Но, несмотря на то, ее отличали от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь, но как бы я не хотел, чтобы это так было – любовь к одному человеку – к моему отцу! Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь.
Она имела по своей любви к нам наибольшее право на нас, но родные тетушки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь от этого не ослабевала. Она жила у сестры, гр. E. А. Толстой, но жила душою с нами, и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умели ценить нашего счастья, тем более, что истинное счастье всегда негромко и незаметно! Я ценил, но далеко не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинах держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти сласти, и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.
Уже когда я был женат, и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда я был в ее комнате, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала мне: «Вот что, mes chers amis, комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, – сказала она дрожащим голосом, – вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь». Такая она была вся с первых времен моего детства, когда я еще не мог понимать…
Комната ее была такая: в левом углу стояла шифоньерка с бесчисленными вещицами, ценными только для нее, в правом – киот с иконами и большим, в серебряной ризе, Спасителем, посредине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к ее горничной.
Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью.
Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни».
Об этом мы будем говорить в своем месте.
Мы уже упоминали в главе о родителях, что повести Льва Николаевича «Детство», «Отрочество» и «Юность» нельзя считать автобиографическими. Но это замечание касается больше внешних фактов и образов, созданных автором для полноты написанной им картины.
Что же касается до изображения внутреннего состояния души ребенка – героя повести, то мы смело можем сказать, что в той или иной форме эти состояния души были пережиты самим автором, и потому мы считаем себя вправе пополнить ими нашу биографию.
Кроме того, мы знаем, что некоторые типы, выведенные в этом произведении, списаны с натуры, и мы упоминаем здесь о них, чтобы пополнить группу лиц, окружавших Льва Николаевича в его раннем детстве.
Так, немец Карл Иванович Мауэр не кто иной, как Федор Иванович Россель, действительный учитель-немец, живший в доме Толстых. О нем же говорит сам Лев Николаевич в своих «Первых воспоминаниях». Эта личность должна была, несомненно, влиять на развитие души ребенка, и надо думать, что влияние это было хорошее, так как автор «Детства» с особенной любовью говорит о нем, изображая его честную, прямую, добродушную и любящую натуру.
Недаром Дев Николаевич начинает историю своего детства с изображения именно этого лица. Федор Иванович и умер в Ясной Поляне, и похоронен на кладбище приходской церкви.
Другое лицо, описанное в «Детстве», – юродивый Гриша, хотя и не действительное лицо, но несомненно, что многие черты его взяты из жизни; по-видимому, он оставил глубокий след в детской душе. Ему Лев Николаевич посвящает следующие трогательные слова, рассказывая о подслушанной вечерней молитве юродивого:
«Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе; просил, чтобы бог простил ему его тяжкие грехи, и твердил: «боже, прости врагам моим!»
Кряхтя, поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой, резкий звук, ударяясь о землю…
…Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи, помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «прости мя, Господи, научи мя, что творити… научи мя, что творити, Господи», с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания… Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.
– Да будет воля Твоя! – вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок.
Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование, но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.
О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога; твоя любовь так велика, что слова сами собой лились с уст твоих, – ты их не поверял рассудком… И какую высокую хвалу ты принес Его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!»
Не имеем ли мы права назвать этого человека первым учителем народной веры, которая овладела душой Толстого после бесплодных скитаний ее по дебрям теологии, философии и положительной науки, и которую он, в свою очередь, просветил светом своего разумения, очищенного и закаленного в борьбе и страданиях, неизбежно сопровождающих всякое искание истины. Некоторые указания на это мы находим в его воспоминаниях.
«Юродивый Гриша, – говорит Лев Николаевич, – лицо вымышленное. Юродивых много разных бывало в нашем доме, и я – за что глубоко благодарен моим воспитателям – привык с великим уважением смотреть на них. Если и были среди них неискренние, были в их жизни времена слабости, неискренности, самая задача их жизни была, хотя и практически нелепая, такая высокая, что я рад, что с детства бессознательно научился понимать высоту их подвига. Они делали то, про что говорит Марк Аврелий: «Нет ничего выше того, как то, чтобы сносить презрение за свою добрую жизнь». Так вреден, так неустраним соблазн славы людской, примешивающийся всегда к добрым делам, что нельзя не сочувствовать попыткам не только избавиться от похвалы, но вызвать презрение людей. Такой юродивой была и крестная мать сестры, Марья Герасимовна, и полудурачок Евдокимушка, и еще некоторые, бывшие в нашем доме.
Подслушивали же мы, дети, молитву не юродивого, а дурачка, помощника садовника, Акима, действительно молившегося в большой зале летнего дома между двух оранжерей и действительно поразившего и глубоко тронувшего меня своей молитвой, в которой он говорил с Богом, как с живым лицом.
«Ты мой лекарь, Ты мой аптекарь», – говорил он с внушительной доверчивостью. И потом пел стих о страшном суде, как Бог отделил праведников от грешников и грешникам засыпал глаза желтым песком…»
Из других второстепенных лиц повести упомянем Мими и дочь ее, Катеньку, «что-то вроде первой любви». Под именем Мими описана гувернантка соседей; а под именем Катеньки – воспитанница, жившая в семье Льва Николаевича, Дунечка Темяшева. Об этой Дунечке Лев Николаевич так рассказывает в своих воспоминаниях:
«Кроме братьев и сестры, с пятилетнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Темяшева, и мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве, мужа тетки Юшкова, странного для детей вида, с черными усами, бакенбардами и в очках (о нем придется много говорить), и моего крестного отца, С. И. Языкова, замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передергивал в самые странные, беспрестанные гримасы, кроме этих и двух соседей, Огарева и Исленева, посещал нас еще дальний родственник по Горчаковым, богач-холостяк Темяшев, называвший отца братом и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной Поляны, в селе Пирогове, и привез раз оттуда поросят с закорюченными колечками хвостами, которых на большом подносе раскладывали на столе в официантской. Темяшев, Пирогово и поросята соединялись у меня в воображении в одно.
Кроме того, Темяшев был нам, детям, памятен еще тем, что играл в зале на фортепьяно какой-то плясовой мотив (он только это и умел играть) и заставлял нас плясать под эту музыку; когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцевать, он говорил, что можно все танцы танцевать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим.
Был зимний вечер, чай отпили, нас скоро должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась об пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях, – это был Темяшев. Что сказал Темяшев отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что это он упал на колени перед отцом потому, что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде говорил с отцом, с тем чтобы отец принял ее на воспитание со своими детьми. С тех пор у нас появилась широколицая девочка, моя ровесница, Дунечка, со своей няней Евпраксеей, высокой, сморщенной старухой, с висячим у подбородка, как у индюка, кадыком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать.
Появление в нашем доме Дунечки связывалось со сложной имущественной сделкой между отцом и Темяшевым. Сделка эта была вот какая:
Темяшев был очень богат. Законных детей у него не было, а было только две девочки: Дунечка и Верочка, горбатая девочка, от бывшей крепостной, отпущенной на волю девушки Марфуши. Наследницы Темяшева были его сестры. Он предоставлял им все остальные свои имения, а Пирогово, в котором он жил, желал передать отцу, с тем чтобы ценность имения – 300.000 (про Пирогово всегда говорили, что это было золотое дно, и оно стоило гораздо больше) – отец передал двум девочкам. Для того, чтобы устроить это дело, было придумано следующее: Темяшев делал запродажную запись, по которой он продавал отцу Пирогово за 300.000. Отец же давал вексель трем посторонним лицам: Исленеву, Языкову и Глебову по 100 тысяч каждый. В случае смерти Темяшева, отец получал именье и, объяснив Глебову, Исленеву и Языкову, с какой целью были даны на их имя векселя, выплачивал 300.000, которые должны были идти двум девочкам.
Может быть, я ошибаюсь в описании всего плана, но знаю я несомненно то, что имение Пирогово перешло к нам после смерти отца, и что были три векселя на имена Исленева, Глебова и Языкова, и опека выплатила эти векселя и первые два передали по 100 тысяч девочкам. Языков же присвоил себе эти, не принадлежащие ему деньги, но об этом после.
Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по пяти лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда к нам пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез. Другое помню о ней, что когда оказалась похищенной одна слива с тарелки и не могли найти виновного, Федор Иванович с серьезным видом, не глядя на нас, сказал, что съел – это ничего, а если косточку проглотил, то может умереть. Дунечка не вытерпела этого страха и сказала, что косточку она выплюнула. Еще помню ее отчаянные слезы, когда они с братом Митенькой затеяли игру, состоящую в том, чтобы плевать друг другу в рот маленькую медную цепочку, и она так сильно плюнула, и Митенька так широко открыл рот, что проглотил цепочку. Она плакала безутешно, пока не приехал доктор и не успокоил всех.
Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких, кроме братских отношений».
Чрезвычайно интересны те сведения, которые дает Лев Николаевич о прислуге, окружавшей его во время детства. Эти сведения служат дополнением того, что описано в повести «Детство». Мы заимствуем эти сведения также из его воспоминаний:
«Прасковью Исаевну я довольно верно описал в «Детстве» (под именем Натальи Саввишны). Все, что я о ней писал, было действительно. Прасковья Исаевна была почтенная особа – экономка, а между тем у нее, в ее маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в ее комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенно счастливой и умиленной откровенности. «Прасковья Исаевна, дедушка как воевал? Верхом?»» – кряхтя спросишь ее, чтобы только поговорить и послушать.
– Он всячески воевал, и на коне, и пеший. Зато генерал-аншеф был, – ответит она и, открывая шкаф, достает смолку, которую она называла «очаковским куреньем». По ее словам выходило, что эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку из лампадки у иконы, а потом зажжет смолку, и она дымит приятным запахом.
Кроме той обиды, которую она мне нанесла, побив меня мокрой скатертью, как я описал это в «Детстве», она еще другой раз обидела меня: в числе ее обязанностей было еще и то, чтобы, когда это нужно было, ставить нам клистиры. Раз утром, уже не в женской половине, а внизу, на половине Федора Ивановича, мы только что встали, и старшие братья уже оделись, а я замешкался и только что собирался снимать свой халатик и одеваться, как быстрыми старушечьими шагами вошла Прасковья Исаевна со своими инструментами. Инструменты состояли из трубки, завернутой почему-то в салфетку так, что только желтоватая костяная трубочка виднелась из нее, и еще блюдечка с деревянным маслом, в которое обмакивалась костяная трубочка. Увидя меня, Прасковья Исаевна решила, что тот, над кем тетенька велела сделать операцию, был я. В сущности, это был Митенька, но случайно или из хитрости, зная, что ему угрожает операция, которую мы все очень не любили, он поспешно оделся и ушел из спальни. И, несмотря на мои клятвенные уверения, что не мне назначена операция, она исполнила ее надо мой.
Кроме той преданности и честности ее, я особенно любил ее, потому что она со старушкой Анной Ивановной казалась мне представительницей таинственной стороны жизни дедушки с «очаковским куреньем».
Анна Ивановна жила на покое, и раза два она была в доме, и я видел ее. Ей, говорили, что было 100 лет, и она помнила Пугачева. У ней были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям.
Няня Татьяна Филипповна, маленькая, смуглая, с пухлыми маленькими руками, была молодая няня, помощница старой няни Аннушки, которую я почти не помню, именно потому, что я сознавал себя не иначе, как с Аннушкой, и как я на себя не смотрел и не помнил себя, какой я был, так не помню и Аннушку.
Так, вновь прибывшую няню Дунечки, Евпраксею, с ее шариком на шее, я помню прекрасно. Помню, как мы чередовались щупать ее шарик; как я, как нечто новое, понял то, что няня Аннушка не есть всеобщая принадлежность людей. А что вот у Дунечки совсем особенная своя няня из Пирогова.
Няню Татьяну Филипповну я помню, потому что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них и для своих семейных представляют только возможность выпрашивания и наследования нажитых денег. Всегда у них моты братья, мужья, сыновья. И такие же были, сколько помню, муж и сын Татьяны Филипповны. Помню, она тяжело, тихо и кротко умирала в нашем доме на том самом месте, на котором я теперь сижу и пишу эти воспоминания.
Брат ее, Николай Филиппович, был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большей частью господские дети, питали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом, и голос у него был ласковый и звучный.
Надо упомянуть и о буфетчике Василье Трубецком. Это был милый, ласковый человек, очевидно любивший детей и потому любивший нас, особенно Сережу, того самого, у которого он потом служил и помер. Помню добрую кривую улыбку его бритого лица, которое с морщинами и шеей было близко видно, и тоже особенный запах, когда он брал нас на руки, сажал на поднос (это было одним из больших удовольствий: «и меня! теперь меня!») и носил по буфету, таинственному для нас месту с каким-то подземным ходом. Одно из сильных воспоминаний, связанных с ним, был его отъезд в Щербачевку, курское имение, полученное отцом в наследство от Перовской. Это было (отъезд Василья Трубецкого) на святках, в то время как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в «пошел рублик».
Про эти святочные увеселения надо тоже рассказать. Святочные увеселения происходили так: дворовые все, очень много, человек 30, наряжались, приходили в дом и играли в разные игры и плясали под игру старика Григорья, который только в эти времена и появлялся в доме. Это было очень весело. Ряженые были, как всегда, медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки-мужчины и мужики-бабы. Помню, как казались мне красивы некоторые ряженые, и как хороша была особенно Маша-турчанка. Иногда тетенька наряжала и нас. Был особенно желателен какой-то пояс с каменьями и кисейное полотенце, вышитое серебром и золотом, и очень я себе казался хорош с усами, наведенными жженой пробкой. Помню, как, глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турка. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами.
В одни из святок, в моем первом детстве, приехали к нам все Исленевы ряженые: отец, дед моей жены, три его сына и три дочери. На всех были удивительные для нас костюмы: был туалет, был сапог, картонный паяц и еще что-то. Исленевы, приехав за 40 верст, переоделись на деревне, и, войдя в залу, Исленев сел за фортепьяно и пропел сочиненные им стихи на голос, который я и теперь помню. Стихи были такие:
С новым годом вас поздравить Мы приехали сюда; Коль удастся позабавить, Будем счастливы тогда!Это было все очень удивительно и, вероятно, хорошо для больших, но для нас, детей, самое лучшее были дворовые.
Такие увеселения происходили первые дни Рождества и под Новый год, иногда и после, до Крещенья. Но после Нового года уже приходило мало народу, и увеселения шли вяло. Так это было в тот день, когда Василий уезжал в Щербачевку. Помню, в углу почти не освещенной залы мы сидели кружком на домодельных, под красное дерево, с кожаными подушками деревянных стульях и играли в рублик. Один ходил и должен был найти рубль, а мы перепускали его из рук в руки, напевая: «пошел рублик, пошел рублик!» Помню, одна дворовая особенно приятным и верным голосом выводила все те же слова. Вдруг дверь буфета отворилась, и Василий, как-то особенно застегнутый, без подноса и посуды прошел через край залы в кабинет. Тут только я узнал, что Василий уезжает приказчиком в Щербачевку. Я помню, что это было повышением, и рад был за Василия, и вместе с тем мне не только жаль было расстаться с ним, знать, что его не будет в буфете, не будет уж он нас носить на подносе, но я даже не понимал, не верил, чтобы могло совершиться такое изменение. Мне стало ужасно таинственно-грустно, и напевы «пошел рублик» сделались умильно-трогательны. Когда же Василий вернулся от тетеньки и со своей милой кривой улыбкой подошел к нам, целуя нас в плечи, я испытал в первый раз ужас и страх перед непостоянством жизни и жалость и любовь к милому Василию.
Когда я после встречал Василия, я видел в нем уже хорошего или дурного, приказчика брата, человека, которого я подозревал, и следа уже не было прежнего, святого, братского, особенно человечного чувства».
Какими-то таинственными, непостижимыми для человеческого разума путями сохраняются впечатления раннего детства, и не только сохраняются, но, подобно семени, брошенному на благодатную почву, растут где-то там, в таинственной глубине душевных недр, и вдруг через много лет выбрасывают на свет божий ярко зеленый росток.
Таким посевом в раннем детстве были игры с младшими братьями старшего брата Николеньки, о сильном влиянии которого на свою жизнь не раз вспоминает Лев Николаевич. Мы знаем об этих играх из его воспоминаний о Фанфароновой горе, о муравейных братьях и о зеленой палочке.
«Да, Фанфаронова гора, – говорит Лев Николаевич, – это одно из самых далеких, милых и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 10–11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного, нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, были прежде всего тонкое, художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе мадам Рэдклиф без остановки целыми часами и с такой полной уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.
Когда он не рассказывал и не читал (он читал очень много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собой и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора.
Так вот он-то, когда нам с братьями было мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми; не будет ни болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями (вероятно, это были моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья). Я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.
«Муравейные братья» были открыты нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня.
Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были: во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие: пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье, легкое: в продолжение года не видать зайца, – все равно, живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн.
Тот, кто исполнит эти условия и еще другие, более трудные, которые он откроет после, того одно желание, какое бы то ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наше желание. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска; Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтоб уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались.
В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей.
Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, верно, слышал о моравских братьях и соединил все это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас.
Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает».
Воспоминание о брате Дмитрии мы относим к юности, а здесь приведем еще отрывок неоконченных воспоминаний о брате Сергее, относящихся также к раннему детству.
«С Митенькой я был товарищем, Николеньку я уважал, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением, – он всегда пел, – его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно это сказать, непосредственностью его эгоизма. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому, непосредственность эгоизма. И за это любил особенно Сережу – слово любил неверно: Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем-то совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная.
На днях он умер; и в предсмертной болезни, и умирая он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был: совсем особенным, самим собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться.
С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание. Он завел кур, цыплят своих, и я завел таких же. Едва ли это было не первое мое вникновение в жизнь животных. Помню разной породы цыплят: серенькие, крапчатые с хохолками, как они бегали на наш зов, как мы кормили их и ненавидели большого голландского петуха, который обижал их. Сережа и завел этих цыплят, выпросив их себе; то же сделал и я, подражая ему. Сережа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал (мне казалось, удивительно хорошо) подряд разных цветов кур и петушков, и я делал то же, но хуже. (В этом-то я надеялся усовершенствоваться посредством Фанфароновой горы.) Сережа выдумал, когда вставлены были окна, кормить кур через ключевую дыру в двери посредством длинных сосисок из черного и белого хлеба – и я делал то же».
Прибавим еще сюда несколько отрывочных воспоминаний, переданных нам Львом Николаевичем, которые, как и большую часть рассказов из его раннего детства, нет возможности поставить в хронологический порядок. Тем не менее было бы жаль упустить их, так как они дают еще несколько драгоценных бытовых черт для характеристики его детской жизни.
«Одно детское воспоминание о ничтожном событии оставило во мне сильное впечатление, это, – как теперь помню, на нашем детском верху сидел Темяшев и разговаривал с Федором Ивановичем. Не помню, почему разговор зашел о соблюдении постов, и Темяшев, добродушный Темяшев, очень просто сказал: «у меня повар (или лакей, не помню) вздумал есть скоромное постом. Я отдал его в солдаты». Потому и помню это теперь, что это тогда показалось мне чем-то странным для меня, непонятным.
Еще событие было – перовское наследство. Памятен обоз с лошадьми и высоко наложенными возами, который приехал из Неруча, когда процесс о наследстве, благодаря Илье Митрофанычу, был выигран. Илья Митрофаныч был пьющий запоем, высокий с белыми волосами старик, бывший крепостной Перовской, великий знаток, какие бывали в старину, всяких кляуз. Он руководил делом этого наследства, и за это он до смерти жил и содержался в Ясной Поляне.
Еще памятные впечатления: приезд Петра Ивановича Толстого, отца Валериана, мужа моей сестры, который входил в гостиную в халате, – мы не понимали, почему это, но потом узнали, что это было потому, что он был в последней степени чахотки. Другое – приезд его брата – знаменитого американца Федора Толстого. Помню, он подъехал на почтовых в коляске, вошел к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли его особенный сухой французский хлеб. Он другого не ел. В это время у брата Сергея сильно болели зубы. Он спросил, что у него, и, узнав, сказал, что он может прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собою дверь. Через несколько минут он вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров; дал тетушке платки и сказал: «Этот, когда он наденет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал». Платки взяли, надели Сереже, и у нас осталось впечатление, что все совершилось, как он сказал.
Помню его прекрасное лицо: бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека.
Третье впечатление – это было посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться».
Далее мы приводим еще одну главу воспоминаний детства, написанную Л. Н-чем и переданную нам уже после отпечатания первого тома:
«В трех верстах от Ясной Поляны есть деревушка Грумонд (так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске, где есть остров Грумонд). Там был скотный двор и домик, построенный дедом для приезда летом. Как все, что строил дед, было изящно, и не пошло, и твердо, прочно, капитально. Такой же был и домик с погребом для молочного скопа. Деревянный со светлыми окнами и ставнями, большой прочной дверью, домик с диванчиком и столом, с большими ящиками, складывавшимся, как пакет, четырьмя сторонами внутрь и так же раскладывавшимся, поворачиваясь на среднем шкворне, так что отвороты эти ложились на углы и составляли большой, аршина в два квадратных, стол. Домик стоял за деревушкой в четыре или пять дворов, в месте, называемом садом, очень красивом, с видом на вьющуюся по долине в лугах Воронку (речку) с лесами по ту и другую сторону. В саду этом был лесок над оврагом, в котором был холодный и обильный ключ прекрасной воды. Оттуда возили каждый день воду в барский дом. Перед оврагом, как продолжение его, большой, глубокий, холодный проточный пруд с карпами, линями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прелестное – и не столько пить там молоко и сливки с черным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при ловле рыбы, но просто побывать там и побегать на гору и под гору, к пруду и от пруда было великое наслаждение. Изредка летом, когда была хорошая погода, мы все ездили туда кататься. Тетушка, папенька и девочки в линейке, а мы четверо с Фед. Ив. в желтом дедушкином кабриолете с высокими крутыми рессорами и с желтыми подлокотниками (других и не было тогда).
За обедом идет разговор о погоде и составляется план, как ехать. В два часа мы должны ехать, в четыре вернуться к чаю. Все готово, но лошадей медлят посылать закладывать: с запада из-за деревни и Заказа заходит туча. Мы все в волнении. Фед. Ив. старается делать строгий, спокойный вид, но мы возбуждаем и его, и он выходит на балкон, на ветер. Седые волосы его на затылке развеваются, в ту же сторону и фалды его фрака, и он значительно вглядывается через перила. И мы ждем его решенья. «Это на Сатинка», – говорит он, указывая на самую большую лиловую тучу. «А это пустой, – говорит он, указывая на другую, идущую с востока. – Ну, что? Wie glauben Sie? Muss varten».
Но туча застилает все небо. Мы в горести. Послали было запрягать, теперь посылают Мишу остановить. Накрапывает дождик. Мы в унынии и горести. Но вот Сережа выбежал на балкон и кричит: «Расчищается, Фед. Ив.! Kommen Sie Blauer Himmel! Wo? Kommen Sie!»
Действительно, между расползающейся тучей голубой кусочек то затягивается, то растягивается, вот еще, еще, но вот блеснуло солнце.
– Тетенька! разгулялось! Правда, ей-богу, посмотрите! Федор Иванович сказал.
Зовут Фед. Ив.; он нерешительно, но подтверждает. Колебание на небе и у тетеньки. Тетенька Т. А. улыбается и говорит: «Je crois, Alexandrine, en effet, qu'il ne pleuvera plus! Смотрите!»
– Тетенька, голубушка, велите запрягать! Пожалуйста, тетенька, голубушка! – кричим больше всех Сережа и я, и помогают нам девочки.
И вот решено опять закладывать. Сам Тихон делает антраша и бежит. И вот мы топчем ножонками на крыльце, ожидая сначала лошадей, потом тетушек. Подъезжает линейка с балдахином и фартуком. Николай Филиппыч правит. Запряжены неручинская гнедая, левая светло-гнедая широкая и правая темная, костлявая, «с крепотцей», как говорит Николай Филиппыч. За линейкой большая гнедая в желтом кабриолете.
Тетенька и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определенно. Федор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Сережа и Николенька; кабриолет так глубок, что за ними садимся мы, я и Митенька, спинами врозь, к бокам ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу: справа старый, слева молодой Заказ, – одно наслаждение. Но вот подъезжаем к горе, круто спускающейся к реке и мосту. «Halten Sie sich, Kinder», – говорит Ф. И., торжественно нахмуриваясь, перехватывает вожжи, и вот мы спускаемся, спускаемся, но в последний момент, шагов 30, Фед. Ив. пускает лошадь, и мы летим, как нам кажется, с ужасной быстротой. Мы ждем этого момента, и вперед уже замирает сердце. Переезжая мост, едем вдоль реки и поднимаемся в гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад и к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут потом так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени дерев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, веселым, счастливым лицам. Прибегает Матрена-скотница, в затрапезном платье, говорит, что она давно ждала нас, и радуется, что мы приехали, и я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радуется Матрене тетенька, расспрашивая ее с участием о ее дочерях, радуются собаки, окружившие Ф. И. (Берфа, лягавая Шарло), прибежавшие за нами, радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой, толстый кусок черного хлеба, раскрывают удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и кринки со свежим цельным молоком. Мы пьем, едим, бегаем к ключу, пьем там воду, бегаем вокруг пруда, где Ф. И. пускает удочки, и, побыв полчаса-часок на Грумонде, возвращаемся таким же путем, такие же счастливые. Помню, один раз только наша радость была нарушена случаем, от которого мы, – по крайней мере, я и Митенька, – горько плакали. Берфа, милая, коричневая, с прекрасными глазами и мягкой курчавой шерстью собака Фед. Ив. бежала, как всегда, то сзади, то впереди кабриолета. Один раз при выезде из Грумондского сада крестьянские собаки бросились за ней. Она бросилась к кабриолету. Фед. Ив. не сдержал лошади, переехал ей лапу. Когда мы вернулись домой, и несчастная Берфа добежала на трех ногах, Фед. Ив. с Ник. Дм., нашим дядькой, тоже охотником, осмотрели ее и решили, что нога переломлена, собака испорчена, никогда не будет годиться для охоты. Я слушал, что говорил Фед. Ив. с Ник. Дм. в маленькой комнате наверху и не верил своим ушам, когда услыхал слова Фед. Ив., который каким-то молодецким решительным тоном сказал: «Не годится. Повесить его. Один конец».
Собака страдает, больна, и ее повесить за это. Я чувствовал, что это дурно, что этого не надо было делать, но тон и Фед. Ив., и Ник. Дм., одобрившего это решение, был таким решительным, что я так же, как и тогда, когда Кузьму вели сечь, когда Темяшев рассказывал, что он отдал в солдаты человека за то, что он в посту ел скоромное, почувствовал что-то дурное, но в виду несомненных решений людей старших и уважаемых не смел верить своему чувству.
Перебирать все мои радостные детские воспоминания не стану, потому что этому не будет конца и потому что мне они дороги и важны, а передать их так, чтобы они показались важны посторонним, я не сумею.
Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве и которое, я думаю, было важно, важнее многих и многих чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви, не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к Богу, чувство, которое я впоследствии только редко испытывал, редко, но все-таки испытывал, благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выражалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья, как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы «муравейные братья», и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу, но это было редко, и мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это (вероятно, это какие-нибудь рассказы о моравских братьях, дошедшие до нас через Николенькину Фанфаронову гору), значило только завеситься от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга.
Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить.
Началось это, как помнится, от игры в дорогу. Садились на стулья, запрягали стулья, устраивали карету или кабриолет, и вот сидевшие-то в карете переходили из путешественников в муравейные братья. К ним присоединялись и остальные. Очень, очень хорошо это было, и я благодарю Бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого».
Это новое упоминание Львом Николаевичем о муравейных братьях показывает нам, какое большое значение он придавал этой игре, полной глубокого общечеловеческого смысла.
Заключим эту главу «Детства» поэтическим воспоминанием Льва Николаевича из его повести:
«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений…
…После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие – но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любви и надежд на чистое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи – единственном человеке, которого я знал несчастным, и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: дай Бог ему счастья; дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать. Потом любимую фарфоровую игрушку – зайчика или собачку – уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастья всем, чтобы все были довольны, и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.
Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви – были единственными побуждениями к жизни?
Где те горячие молитвы? Где лучший дар – те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.
Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?»
Глава 5. Отрочество
К началу отрочества Льва Николаевича пришло время более серьезного учения старших братьев его, Николая и Сергея, и с этой целью семья Толстых осенью 1836 года переехала в Москву и поселилась на Плющихе, в доме Щербачева. Этот дом еще существует и теперь и находится против церкви Смоленской божьей матери; он стоит во дворе, и фасад его составляет острый угол с направлением улицы.
В этом доме они прожили зиму 36 и 37 годов и остались там жить и летом, после смерти отца.
Как-то раз летом 1837 года отец Льва Николаевича уехал по делам в Тулу, и, идя по улице к приятелю своему Темяшеву, он вдруг зашатался, упал и умер ударом; другие предполагают, что его отравил камердинер, так как деньги у него пропали, а именные билеты принесла уже в Москве к Толстым какая-то таинственная нищая.
Когда умер Николай Ильич, тело его из Тулы привезли в Ясную Поляну, и хоронили его сестра Александра Ильинична и старший сын его Николай.
Смерть отца была одним из самых сильных впечатлений детства Льва Николаевича. Лев Николаевич говорил, что смерть эта в первый раз вызвала в нем чувство религиозного ужаса перед вопросами жизни и смерти. Так как отец умер не при нем, он долго не мог верить тому, что его уже нет. Долго после этого, глядя на незнакомых людей на улицах Москвы, ему не только казалось, но он почти был уверен, что вот-вот он встретит живого отца. И это чувство надежды и неверия в смерть вызывало в нем особенное чувство умиления. После смерти отца Толстые оставались лето в Москве, и здесь Лев Николаевич в первый раз, да едва ли и не в последний, жил лето в городе. Сильное впечатление оставили в нем их поездки за город на четверке гнедых, запрягавшихся для этих поездок в ряд без форейтора, красота окрестностей Кунцева, Нескучного и вместе с этим отвратительные запахи от фабричных производств, которые еще тогда портили окрестности Москвы.
Смерть сына совсем убила бабушку, Пелагею Николаевну; она все плакала, всегда по вечерам велела отворять дверь в соседнюю комнату и говорила, что видит там сына и разговаривает с ним. А иногда спрашивала с ужасом дочерей: «неужели, неужели это правда, и его нет?» Она умерла через 9 месяцев от тоски и горя.
Смерть бабушки была для Льва Николаевича новым напоминанием о религиозном значении жизни и смерти. Разумеется, бессознательно, но влияние это было, и очень сильное. Бабушка страдала, под конец у нее сделалась водяная, и Лев Николаевич помнит тот ужас, который он испытал, когда его ввели к ней, чтобы прощаться, и она, лежа на высокой белой постели, вся в белом, с трудом оглянулась на вошедших внуков и неподвижно предоставила им целовать свою белую, как подушку, распухшую руку. Но как всегда у детей, чувство страха и жалости перед смертью сменялось детскими резвостью, глупостью и шалостями.
«В один праздник, – вспоминает Л. Н-ч, – пришел, как всегда, к нам приятель и сверстник, маленький Милютин Владимир, тот самый, который открыл нам, будучи в гимназии, ту необыкновенную новость, что Бога нет (новость, не произведшую большого впечатления). Перед обедом в детской шло веселье, самое дикое и странное, в котором принимали участие Сергей, Дмитрий и я. Милютин и Николай, как более разумные, не участвовали. Веселье состояло в том, чтобы за перегородкой, где стояла ночная посуда, зажигать бумагу в горшках. Трудно себе представить, почему это было весело, но несомненно было чрезвычайно весело. И вдруг среди этого веселья быстрыми шагами входит энергичный и белокурый, мускулистый, маленький гувернер St.-Thomas (описанный в «Отрочестве» под именем St. Jerom'a) и, не обращая внимания на наше занятие, не браня нас за него, с дрожащей нижней челюстью бледного лица говорит нам: «Votre grandmere est moite!»
Помню потом, – рассказывал Лев Николаевич, – как всем нам сшили новые курточки черного казинета, обшитые белыми тесемками плерез. Страшно было видеть и гробовщиков, сновавших около дома, и потом принесенный гроб с глазетовой крышкой, и строгое лицо бабушки с горбатым носом в белом чепце и белой косынкой на шее, высоко лежащей в гробу на столе, и жалко было видеть слезы тетушек и Пашеньки, но вместе с этим и радовали новые казинетовые курточки с плерезами и соболезнующее отношение к нам окружающих. Не помню почему, нас перевели во флигель во время похорон, и помню, как мне приятно было подслушать разговоры каких-то чужих кумушек о нас, говоривших: «Круглые сироты, – только отец умер, а теперь и бабушка».
О гувернере французе Prosper St.-Thomas, о котором мы только что упомянули, у Льва Николаевича сохранилось какое-то смешанное воспоминание доброго и дурного.
«Не помню уже за что, – говорит Лев Николаевич в своих воспоминаниях, – но за что-то самое не заслуживающее наказания St.-Thomas, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к Thomas, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной. Едва ли этот случай не был причиною того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь».
Тем не менее гувернер St.-Thomas относился внимательно к проявлению способностей своего маленького питомца. Он, вероятно, замечал в нем что-нибудь особенное, потому что он говорил про него: «Се petit a une tete, c'est un petit Moliere!»
После смерти бабушки, вследствие запутанности дел по опеке и потому необходимости уменьшить расходы, часть семейства опять переехала в деревню, а именно меньшие: Дмитрий, Лев и Мария с теткой Татьяной Александровной Ергольской, где учителями детей были переменявшиеся немцы-гувернеры и русские семинаристы. Опекуншей же над детьми была графиня Александра Ильинична Остен-Сакен.
Об этой замечательной личности Лев Николаевич так рассказывает в своих воспоминаниях:
«Тетушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остен-Сакен. Партия казалась очень блестящая, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя, может быть, последствия этого брака были благотворны для ее души. Тетушка Aline, как ее звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна со своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какою она 16-летней девушкой изображена на очень хорошем портрете. Вскоре после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в свое большое остзейское имение, и там все больше и больше стала проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которого ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружили его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась. Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибли, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погоню, и гнал кучера. На беду, по проселочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж; он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, а сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетушки, скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди навылет (тетушка показывала мне оставшийся след) и была нетяжелая.
В то время, как она выздоравливала, все еще беременная, лежа у пастора, муж ее, опомнившийся, прибежал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она несчастно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно: он – хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь о ее здоровье, он попросил ее показать ему язык и, когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба; она вырвалась у него, закричала; вбежали люди, остановили и увели его.
С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тетушкой. Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там она родила уже мертвого ребенка. Боясь последствий огорчений от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку. Эта девочка Пашенька, которая жила у нас, была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история ее рождения, но когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки. Тетушка Александра Ильинична, после случившегося с нею, жила у своих родителей, потом у моего отца и потом, после смерти отца, была нашей опекуншей, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыне.
Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения жития святых, беседа со странниками, юродивыми, монахами, монашенками, из которых некоторые всегда жили в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Мария Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Мария Герасимовна была потому, что мать обещала взять ее кумою, если она вымолит у Бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Мария Герасимовна была ее крестною матерью и жила частью в Тульском женском монастыре, частью у нас в доме.
Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыне, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуг, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.
Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к тетушке Александре Ильиничне, рассказывала мне, как она во время московской жизни, шедши к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю делалось горничной. В пище, в одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенно кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества в ее туалете. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах! Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами. Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как отец добродушно смеялся, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она будто вместе с своей кузиной Молчановой ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение.
Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Aline захватила его. Помню ее милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуншей, но все, что она делала, не поглощало ее душу, все было подчинено служению Богу, как она понимала это служение».
Как сказано было выше, меньшие, т. е. Дмитрий, Мария и Лев, с тетушкой Татьяной Александровной жили после смерти бабушки в деревне, а старшие, Николай и Сергей, с опекуншей Александрой Ильиничной оставались в Москве. На лето вся семья соединялась в Ясной. Так прошли 38 и 39 годы и наступил 40-й голодный год; урожай был так плох, что Толстым пришлось покупать хлеб для прокормления своих крепостных крестьян, и средства на это были взяты от продажи имения Неруч, доставшегося им по наследству.
Лошадям был уменьшен корм и прекращена выдача овса. Лев Николаевич помнит, как им, детям, было жалко своих любимых лошадок, и как они бегали потихоньку в крестьянское овсяное поле и, совершенно не сознавая совершаемого ими преступления, обшмыгивали стебли овса, набирали полные подолы зерен и скармливали их своим лошадкам.
Осенью 40-го года вся семья перебралась в Москву, где и провела зиму 40–41 года, на лето же снова вернулась в Ясную. Осенью 41-го года скончалась и их опекунша, гр. А. И. Остен-Сакен.
Александра Ильинична умерла в Оптиной пустыне. В то время, как она была там, дети оставались в Ясной с Т. А. Ергольской. Но когда пришло известие, что Александра Ильинична умирает, Татьяна Александровна уехала туда же. Это время особенно памятно было почти всем детям. Они остались с учителем Федором Ивановичем и со странницей Марьей Герасимовной, полуюродивой. Была у них тогда собака, черная моська, с которой они играли. Сделали ей трон и сажали ее на этот высокий трон, с которого она все прыгала. Но раз прыгнула и вдруг завизжала и поползла под стул. Ее осмотрели, и оказалось, что у ней сломана лапа. Отчаяние было ужасно, все плакали навзрыд. Впоследствии это впечатление слилось с воспоминанием об уединении, с монотонным чтением каких-то псалмов Марьи Герасимовны и с известием о смерти любимой тетеньки Александры Ильиничны.
По смерти Александры Ильиничны ее сестра Пелагея Ильинична, бывшая замужем за казанским помещиком В. И. Юшковым, приехала из Казани в Москву. Туда же осенью переехали и все дети с тетушкой Татьяной Александровной. Старший брат Льва Николаевича, Николай Николаевич, который уже был в это время студентом 1-го курса, обратился к тетеньке со словами: «ne nous abandonne pas, cher tante, il ne nous reste que vous au monde». Она прослезилась и задалась мыслью «se sacrifier». Что она под этим подразумевала – неизвестно, только она сейчас же стала собираться в Казань и для этого вперед заказала барки, которые нагрузили всем, что только можно было вывезти из Ясной Поляны. Дворню тоже всю повезли: столяров, портных, слесарей, поваров, обойщиков и проч. Кроме того, к каждому из братьев Толстых был приставлен крепостной человек в виде слуги, почти одного возраста с ними. Один из этих был Ванюша, сопровождавший потом Льва Николаевича на Кавказ и теперь еще доживающий свой век на покое у своей дочери в Туле.
Льву Николаевичу в это время было 13 лет. Господа с прислугой двинулись в многочисленных каретах и других экипажах и потянулись осенью из Тулы в Казань. Дорогой шла целая жизнь. Останавливались иногда в поле, в лесу, собирали грибы, купались, гуляли. Большое горе было при расставании с тетенькой Татьяной Александровной, которая была в недружелюбных отношениях с тетушкой Пелагеей Ильиничной и уехала после смерти Александры Ильиничны к своей сестре Елизавете Александровне Толстой, в село Покровское. Неприятности между Татьяной Александровной и Пелагеей Ильиничной происходили оттого, что муж Пелагеи Ильиничны в молодости был влюблен в Татьяну Александровну и делал ей предложение, но она ему откатом. Пелагея Ильинична никогда не простила любовь ее мужа к Т. А-не и за это ее ненавидела, хотя на вид у них были самые внешне дружественные отношения.
Отставной гусарский полковник В. И. Юшков оставил по себе в Казани память образованного, остроумного и добродушного человека, но вместе с тем большой руки шутника и балагура, каким он и остался до самой своей смерти. С женой он не ладил, и они не раз живали врозь.
Пелагея Ильинична также оставила по себе в Казани память крайне доброй, хотя и не большого ума женщины. Она была очень набожна и после кончины в 1869 году своего мужа удалилась в монастырь, Оптину пустынь. Затем она жила в Тульском женском монастыре, потом совсем переехала в Ясную Поляну, где уже в глубокой старости заболела и умерла.
В продолжение всей своей долгой жизни она строго соблюдала обряды православной церкви; но на восьмидесятом году, перед смертью, боясь ее, она не хотела причаститься и сердилась на всех за свои страдания, доставляемые ей предчувствием кончины.
Американский писатель Евгений Скайлер, путешествовавший по России в 1868 году и посетивший Льва Николаевича, так рассказывает в своих воспоминаниях о своем знакомстве с семьею Юшковых. Мы приводим эти воспоминания здесь, чтобы потом уже не возвращаться более к этим лицам. С самим Юшковым он познакомился в Казани.
«Я был принят, – говорит Скайлер, – в весьма хорошем и зажиточном доме и подал мою визитную карточку и рекомендательное письмо слуге, который, возвратившись, просил меня немного подождать. Пока я ждал, я заметил, что письмо, еще не распечатанное, положено на стул. Наконец вошел генерал, старый, но крепкого сложения и с выражением большой доброты и симпатии. Он просил меня сесть, сам сел, и после нескольких слов сказал:
– Вы привезли мне, я полагаю, письмо от моего племянника Льва? Где оно?
– Я думаю, что вы на нем сидите.
Он встал, нашел письмо и, протягивая его мне, сказал:
– Будьте так добры прочесть мне его. Я совершенно слеп.
Положение было неловкое, но этому нельзя было помочь; хотя письмо было весьма лестно и благосклонно ко мне, я счел долгом пропустить целый параграф. Теперь я сожалею, что, вместо того, чтобы отдать его старику, я не положил в карман и не сохранил на память. В другой комнате было два фортепиано, и, в ответ на некоторые вопросы, генерал сказал мне, что он всегда был страстный любитель музыки, но что теперь он стар и слеп. Я уговорил его сыграть что-нибудь на память из Бетховена и Моцарта; потом мы пошли в сад и сидели на солнце, и в течение двух часов, проведенных мною у него, он рассказал мне много интересного, но не то, что мне было нужно».
Возвратившись из своей поездки по России, Скайлер в Ясной Поляне познакомился и с самой Пелагеей Ильиничной Юшковой. Вот как он рассказывает об этом:
«На следующее утро, в 4 часа, после передачи мною Толстому рассказа о знакомстве с Юшковым, я был разбужен каким-то шумом в коридоре, когда внезапно дверь моей спальни отворилась, и, полагая, что по какой-то необъяснимой причине слуга вошел, чтобы разбудить меня, я крикнул: «Что такое?» Дверь заперлась, и я услышал голос по-французски: «В кровати моей человек». Дверь вновь отворилась, и какой-то господин появился со свечой в руке и спросил: «Сережа, это ты?» – «Нет, – отвечал я, – я – гость в этом доме». Он засмеялся, извинился и ушел; чуткость моя тогда была так сильна, что я слышал распоряжение, что «она не пойдет в гостиную и будет спать на диване, покуда семейство наверху; она пока может лечь на диване в кабинете графа». Я немедленно сообразил, в чем вся сущность. Я занимал комнату г-жи Юшковой, тетки графа, и был приглашен оставаться там около недели, до ее возвращения. Она вернулась нечаянно, не предварив о том, и привезла с собою подругу. Так как двери в русских деревенских домах редко запираются на ночь, они приехали, не подозревая, что разбудят кого-либо другого.
Я узнал истину, когда Иван принес мне утренний чай, и я тотчас же уложил свои вещи, чтобы быть готовым уехать в тот же день. Когда я сошел вниз в 11 часов к утреннему кофе, я нашел в гостиной г-жу Юшкову одну и должен был представиться сам. Очевидно, ей рассказали, – может быть, для объяснения случившегося, – мою историю прошедшей ночи, потому что она улыбнулась и сказала:
– Так вы были в Казани прошедшей весной и видели моего мужа, который вам говорил, что он совсем слеп. Уверяю вас, что в этом нет ни слова правды. Он видит так же хорошо, как вы и я. Это только одна из его привычек казаться интересным.
Я утверждал, что, по моему мнению, он действительно слеп, но не мог убедить ее. Гр. Толстой впоследствии говорил мне, что хотя она давно уже в разлуке с мужем и не видала его несколько лет, но находится с ним в самых дружеских отношениях».
Укажем теперь на некоторые моменты душевного развития ребенка, изображение которых мы находим в повестях Льва Николаевича, посвященных этому периоду, и которые, по нашему мнению, носят несомненный автобиографический характер.
Одно из свойств ребенка, так часто встречающееся, а может быть особенно развитое в Льве Николаевиче, была самолюбивая застенчивость.
Часто люди разделяют эти два свойства: самолюбие и застенчивость, порицают одно и хвалят другое и наоборот, а между тем это лишь оборотные стороны одной и той же медали; эти два свойства взаимно поддерживают друг друга и относятся друг к другу, как причина к следствию. Человек бывает застенчив оттого, что он самолюбив, и застенчивость увеличивает и укрепляет в нем самолюбие. И это проявляется сначала по самому ничтожному поводу, например, при воспоминании о недостатках свой наружности.
Вот как говорит об этом Лев Николаевич про себя – «Николеньку»:
«Я имел странные понятия о красоте, – даже Карла Ивановича считал первым красавцем в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался; поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня.
…На меня часто находили минуты отчаяния, я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил Бога сделать чудо – превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо».
Как только человек обратит взоры на самого себя, в нем поднимается борьба самых разнородных чувств. Если он человек разумный и нравственный, он должен почувствовать неудовлетворение, это чувство должно вызвать стремление к совершенствованию как с внешней, так и с внутренней стороны. Так как первое не в нашей власти (например, сделать нос тоньше), то, обращая на это свое внимание, человек чувствует невыразимые страдания. Но если его разум силен, он выведет его на путь совершенствования внутреннего и откроет ему путь бесконечного блага.
Вот именно эту борьбу чувств и мыслей мы и можем проследить в ребенке, отроке и юноше, которых изображает Лев Николаевич под видом Николеньки Иртенева, в которого он вкладывает свои богатый и глубокий внутренний мир, рисуя нам его развитие.
Первые годы юности Льва Николаевича проходили под влиянием и в попытках подражать брату Сереже, которого он особенно любил и которым восхищался. Следующая же, более зрелая часть юности прошла под влиянием брата Николая, которого он очень любил, хотя и не так страстно, как брата Сергея, но более уважал.
Просматривая повесть «Детство», мы находим изображение подобного чувства в описании любви Николеньки Иртенева к Сереже Ивину. Вот в каких ярких красках Лев Николаевич изображает эту любовь:
«Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и наяву были о нем; ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его пред собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому что ему надоело чувствовать беспрестанно устремленные на него мои беспокойные глаза, или, просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать».
Под фамилией Ивиных, по утверждению Льва Николаевича, он описывал мальчиков графов Пушкиных, из которых на днях умер Александр, тот самый, который так нравился ему мальчиком в детстве. Любимая игра у них была игра в солдаты.
Вот как изображает Лев Николаевич поворотный пункт в своем развитии, переход от детства к отрочеству.
«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другою, неизвестною еще стороною? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я считаю начало моего отрочества.
Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющая общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это, но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал…»
Рано являются в ребенке философские рассуждения, уже в отрочестве намечающие путь, по которому впоследствии разовьется этот огромный ум и увлечет за собой многих людей:
«Едва ли мне поверят, – говорит Лев Николаевич от имени Николеньки, – какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, – так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.
Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.
Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, – и я три дня, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа в постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.
То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врожденное чувство, – отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь, – и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность – и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.
Но ни одним из всех философских направлений, – продолжает свой рассказ Лев Николаевич, – я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы – не предметы, а образы, являющиеся тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестану думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (neant) там, где меня не было».
«Отрочество» кончается изображением дружбы Николеньки Иртенева с Нехлюдовым.
И самое заключение этой повести в нескольких словах выражает тот идеал человека, которому Лев Николаевич, не переставая, служил в течение всей своей жизни и служит теперь, на закате дней своих:
«Само собой разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, – очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть вполне счастливым…»
Несомненно, что эта наклонность к отвлеченным суждениям, эта робость и застенчивость, это стремление к идеалу, – все эти качества, проявлявшиеся в ребенке, были только простыми элементами, из которых постепенно слагалась гармоническая душа художника-мыслителя. И мы видим теперь лишь полный расцвет этих духовных ростков, заложенных в Льве Николаевиче еще во времена его отрочества.
Воспитанный в патриархально-аристократической и по-своему религиозной среде, Лев Николаевич в детстве своем воспринял своей отзывчивой душой все, что мог, лучшего из окружающей его среды и был искренно религиозен. Намеки на это мы видим в «Детстве». Но эта «привычная» религиозность слетела с него при первом дуновении рационализма.
В своей «Исповеди» он так рассказывает о своем религиозном воспитании, соответствующем этому времени:
«Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей с самого детства и во все время моего отрочества и юности.
Но когда в 18 лет я вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.
Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда не верил серьезно, а имел только доверие к тому, что исповедывали передо мной большие, но доверие это было очень шатко. Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались новостью, позвали и меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное».
Но, конечно, эта рационалистическая критика не могла тронуть основ души его. Эти основы выдержали страшные житейские бури и вывели его на истинный путь.
Интересно свидетельство самого Льва Николаевича о тех литературных произведениях, которые, насколько он помнит, оказали большое влияние на его духовное развитие в период его детства и отрочества, т. е. до 14 лет приблизительно. Вот список этих произведений:
Приведем теперь несколько эпизодов из отроческой жизни Льва Николаевича, частью записанных нами с его слов, частью слышанных от его родственников и, наконец, заимствованных из других источников, уже появлявшихся в печати, к которым мы отнеслись критически, сделав выбор, соответствующий имевшимся в наших руках достоверным указаниям. Рассказы эти нет возможности поставить в хронологический порядок.
«Еще в начале московской жизни при отце, – вспоминал раз Лев Николаевич – у нас была пара своего завода вороных очень горячих лошадей. Кучером у отца был Митька Копылов. Он же был стремянным отца, ловкий ездок, охотник и прекрасный кучер и, главное, неоценимый форейтор. Неоценимый форейтор, потому что, при горячих лошадях, мальчик не мог управляться с ними, старый же человек был тяжел и неприличен для форейтора, так что Митька соединял редкие качества, нужные для форейтора. Качества эти были: малый рост, легкость, сила и ловкость. Помню, раз отцу подали фаэтон, и лошади подхватили, пронесясь из ворот. Кто-то крикнул: «понесли графские лошади!» С Пашенькой сделалась дурнота, тетушки бросились к бабушке успокаивать ее, но оказалось, что отец еще не садился, и Митька ловко удержал лошадей и вернулся во двор.
Вот этот самый Митька, после уменьшения расходов, был отпущен на оброк. Богатые купцы наперебой приглашали его к себе и взяли бы на большое жалованье, так как Дмитрий уже щеголял в шелковых рубашках и бархатных поддевках. Случилось, что брат его по очереди должен был быть отдан в солдаты, а отец его, уже старый, вызвал его к себе на барщинскую работу. И этот маленький ростом щеголь Дмитрий через месяц преобразился в серого мужика в лаптях, правящего барщину и обрабатывающего свои два надела, косящего, пашущего и вообще несущего все тяжелое тягло тогдашнего времени. И все это без малейшего ропота, с сознанием, что это так должно быть и не может быть иначе».
Это было одно из событий, которое много способствовало тому уважению и любви к народу, которое смолоду начал испытывать Лев Николаевич.
Вот два эпизода, рассказанные мне Львом Николаевичем, которые, по его словам, бросили в его молодую душу семена сомнения, неудовлетворенности, недоумения перед несправедливостью и жестокостью людей, тогда еще для него бывших «старшими», «большими», и потому неизбежно служившими известного рода авторитетами. И эти авторитеты уже тогда были поколеблены.
Еще будучи ребенком, он испытал на себе то неравенство, поклонение внешности и презрение ко всему скромному и невидному, которое бывает так чувствительно в детстве и особенно тогда наводит на серьезные мысли и дает толчок душевному развитию.
Одним из таких случаев была елка у Шиповых, куда дети Толстые были приглашены по каким-то отдаленным родственным связям. Они только что лишились отца и бабушки и были сиротами на попечении тетки в довольно трудном материальном положении, и потому представляли мало привлекательного и значительного для светского общества.
На ту же елку были приглашены племянники кн. Горчакова, бывшего военного министра, и Толстые с горечью должны были заметить ту разницу, которая была сделана в выборе подарков для них и для тех, более почетных гостей. Толстым были подарены дрянные дешевые вещички, а тем – роскошные дорогие игрушки.
Другой случай произошел также в Москве.
Раз они пошли гулять по Москве с гувернером-немцем. Из детей были он, Лев Николаевич (9-10 лет), его братья и девочка Юзенька, дочь гувернантки-француженки, жившей у их соседей Исленевых. Девочка эта была очень красивой, привлекательной наружности. Идя по Большой Бронной, они подошли к калитке сада, прилегающего к дому Полякова. Калитка не была заперта, и они вошли, сами робея и не зная, что из этого выйдет. Сад показался им необыкновенной красоты. Там был пруд с лодками, флагами, цветы, мостики, дорожки, беседки и т. д.; они шли, как очарованные, по этому саду. Их встретил какой-то господин, оказавшийся владельцем этого сада, Асташевым. Он любезно поздоровался с ними и пригласил их гулять, катал их на лодке и был так любезен, что им показалось, что они доставляют хозяину сада большое удовольствие своим присутствием. Ободренные этим успехом, они решились через несколько дней опять посетить этот сад. Когда они вошли в калитку, их остановил старик и спросил, кого им угодно. Они назвали свою фамилию и просили доложить хозяину. Юзеньки с ними не было. Старик принес ответ, что этот сад частного лица и посторонней публике вход запрещен. Они удалились с грустью и зародившимся в их душах недоумением, почему хорошенькое личико их подруги может иметь такое сильное влияние на отношение к ним посторонних людей.
А вот несколько рассказов, указывающих на оригинальность, даже эксцентричность его отроческого характера:
«Мы собрались раз к обеду, – рассказывала мне сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна, – это было в Москве, еще при жизни бабушки, когда соблюдался этикет, и все должны были являться вовремя, еще до прихода бабушки, и дожидаться ее. И потому все были удивлены, что Левочки не было. Когда сели за стол, бабушка, заметившая отсутствие его, спросила гувернера St.-Thomas, что это значит, не наказан ли Leon; но тот смущенно заявил, что он не знает, но что уверен, что Leon сию минуту явится, что он, вероятно, задержался в своей комнате, приготовляясь к обеду. Бабушка успокоилась, но во время обеда подошел наш дядька, шепнул что-то St.-Thomas, и тот сейчас же вскочил и выбежал из-за стола. Это было столь необычно при соблюдаемом этикете обеда, что все поняли, что случилось какое-нибудь большое несчастье, и так как Левочка отсутствовал, то все были уверены, что несчастье случилось с ним, и с замиранием сердца ждали развязки.
Вскоре дело разъяснилось, и мы узнали следующее: «Левочка, неизвестно по какой причине (как он сам теперь говорит, только для того, чтоб сделать что-нибудь необыкновенное и удивить других), задумал выпрыгнуть в окошко из второго этажа, с высоты нескольких сажен. И нарочно для этого, чтобы никто не помешал, остался один в комнате, когда все пошли обедать. Влез на отворенное окно мезонина и выпрыгнул на двор. В нижнем подвальном этаже была кухня, и кухарка как раз стояла у окна, когда Левочка шлепнулся на землю. Не поняв сразу, в чем дело, она сообщила дворецкому, и когда вышли на двор, то нашли Левочку лежащим на дворе и потерявшим сознание. К счастью, он ничего себе не сломал, и все ограничилось только легким сотрясением мозга; бессознательное состояние перешло в сон, он проспал подряд 18 часов и проснулся совсем здоровым. Можно себе представить беспокойство и страх, в которое поверг всех домашних этот необдуманный поступок маленького чудака.
Раз ему пришла фантазия остричь себе брови, что он и исполнил, обезобразив этим свое лицо, никогда не отличавшееся особой красотой, что немало сокрушало самого юношу.
Другой раз, – рассказывала Мария Николаевна, – ехали мы на тройке из Пирогова в Ясную. Во время одной из остановок экипажа Левочка слез и пошел пешком. Когда экипаж тронулся, его хватились, но его нигде не было. Кучер с козел увидал впереди на дороге его удаляющуюся фигуру; поехали, полагая, что он пошел вперед, чтобы сесть, когда тропка его догонит, но не тут-то было. С приближением тройки он ускорил шаг, и когда тройка пошла рысью, он пустился бегом, видимо, не желая садиться. Тройка поехала очень быстро, и он побежал во всю мочь, пробежав так около трех верст, пока, наконец, не обессилел и не сдался. Его посадили в карету; он задыхался, был весь в поту и изнемогал от усталости».
Супруга Льва Николаевича, графиня Софья Андреевна, не раз принималась записывать материалы о жизни Льва Николаевича, расспрашивая его о его детстве и слушая рассказы его родственников, которых она застала еще в живых. К сожалению, записки эти неполны и не окончены, но, тем не менее, чрезвычайно ценны. Мы делаем из них несколько выписок, пользуясь любезным разрешением их автора:
«Судя по рассказам старых тетушек, которые мне рассказывали кое-что о детстве моего мужа, и также по словам моего деда Исленева, который был очень дружен с Николаем Ильичом, отцом Льва Николаевича, маленький Левочка был очень оригинальный ребенок и чудак. Он, например, входил в залу и кланялся всем задом, откидывая голову назад и шаркая.
Когда я спрашивала других и самого Льва Николаевича, хорошо ли он учился, то всегда получала ответ, что «нет».
Шурин Льва Николаевича, С. А. Берс, рассказывает в своих воспоминаниях следующее:
«По свидетельству покойной тетушки Льва Николаевича, Пелагеи Ильиничны Юшковой, в детстве он был очень шаловлив, а отроком отличался странностью, а иногда и неожиданностью поступков, живостью характера и прекрасным сердцем.
Моя покойная матушка рассказывала мне, что, описывая свою первую любовь в произведении «Детство», он умолчал о том, как из ревности столкнул с балкона предмет своей любви, которая и была моя матушка девяти лет от роду, которая после этого долго хромала. Он сделал это за то, что она разговаривала не с ним, а с другим. Впоследствии она, смеясь, говорила ему: «Видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтобы потом жениться на моей дочери».
Сам Лев Николаевич рассказывал при мне в семейном кругу, что в детстве, лет 7 или 8, он имел страшное желание полетать в воздухе. Он вообразил, что это вполне возможно, если сесть на корточки и обнять свои колени, при чем чем сильнее сжимать колени, тем выше можно полететь.
Несколько автобиографических рассказов Льва Николаевича можно найти в его «книжках для чтения». Мы заимствуем из них некоторые характерные черты.
В рассказе «Старая лошадь» Лев Николаевич говорит о том, как раз им, четырем братьям, позволили покататься верхом. Им давали кататься только на одной смирной старой лошади, которую звали Воронком. Трое старших братьев, вдоволь натешившись ездой, измучили лошадь, и в таком виде она досталась ему.
«Когда пришел мой черед, – рассказывает Лев Николаевич, – я хотел удивить братьев и показать им, как я хорошо езжу, – стал погонять Воронка изо всех сил, но Воронок не хотел идти от конюшни. И сколько я ни колотил его, он не хотел скакать, а только трусил и заворачивал все назад. Я злился на лошадь, из всех сил бил ее хлыстом и ногами. Я старался бить ее в те места, где ей больнее, сломал хлыст и остатком хлыста стал бить по голове. Но Воронок все не хотел скакать.
Тогда я поворотил назад, подъехал к дядьке и попросил хлыстика покрепче. Но дядька сказал мне:
– Будет вам ездить, сударь, слезайте. Что лошадь мучить!
Я обиделся и сказал:
– Как же, я совсем не ездил. Посмотри, как я сейчас прокачу. Дай, пожалуйста, мне хлыст покрепче. Я его разожгу.
Тогда дядька покачал головой и сказал:
– Ах, сударь, жалости в вас нет: что его разжигать? Ведь ему 20 лет. Лошадь измучена, насилу дышит, да и стара. Ведь она такая старая, все равно, как Пимен Тимофеич. Вы бы сели на Тимофеича, да так-то через силу погоняли его хлыстом, – что же, вам не жалко бы было?
Я вспомнил про Пимена и послушал дядьки. Я слез с лошади, и когда я посмотрел, как она носила потными боками, тяжело дышала ноздрями и помахивала облезшим хвостиком, я понял, что лошади было трудно. Мне так стало жалко Воронка, что я стал целовать его в потную шею и просить у него прощенья за то, что я его бил».
В рассказе «Как я выучился ездить верхом» Лев Николаевич вспоминает, как он отправился с братьями учиться верховой езде в Москве.
Берейтор был очень удивлен его малым ростом, но, видя его решимость, согласился его учить.
«Привели маленькую лошадку. Она была рыжая, и хвост у нее был обрезан. Ее звали Червончик. Берейтор засмеялся и сказал мне: «Ну, кавалер, садитесь». Я и радовался, и боялся, старался так сделать, чтобы никто этого не заметил. Я долго старался попасть ногою в стремя, но никак не мог, потому что я был слишком мал. Тогда берейтор поднял меня на руки и посадил. Он сказал: «Не тяжел барин – фунта два, больше не будет».
Он сначала держал меня за руку, но я видел, что братьев не держали, и просил, чтобы меня пустили. Он сказал: «А не боитесь?» Я очень боялся, но сказал, что не боюсь. Боялся я больше того, что Червончик все поджимал уши. Я думал, что он на меня сердится. Берейтор сказал: «Ну, смотрите ж, не падайте», и пустил меня. Сначала Червончик ходил шагом, и я держался прямо. Но седло было скользкое, и я боялся свернуться. Берейтор меня спросил: «Ну что, утвердились?» Я ему сказал: «Утвердился». – «Ну, теперь рысцой», – и берейтор защелкал языком.
Червончик побежал маленькой рысью, и меня стало подкидывать. Но я все молчал и старался не свернуться набок. Берейтор меня похвалил; «Ай да кавалер, хорошо!» Я был очень этому рад.
В это время к берейтору подошел его товарищ и стал с ним разговаривать, и берейтор перестал смотреть на меня.
Только вдруг я почувствовал, что я свернулся немножко на бок седла. Я хотел поправиться, но никак не мог. Я хотел закричать берейтору, чтобы он остановил, но думал, что будет стыдно, если я это сделаю, и молчал. Берейтор не смотрел на меня. Червончик все бежал рысью, и я еще больше сбился набок. Я посмотрел на берейтора и думал, что он поможет мне; а он все разговаривал со своим товарищем и, не глядя на меня, приговаривал: «Молодец, кавалер». Я уже совсем был на боку и очень испугался. Я думал, что я пропал. Но кричать мне было стыдно. Червончик тряхнул меня еще раз, – я совсем соскользнул и упал на землю. Тогда Червончик остановился; берейтор оглянулся и увидал, что на Червончике меня нет. Он сказал: «Вот те на, свалился кавалер мой!» и подошел ко мне. Когда я ему сказал, что не ушибся, он засмеялся и сказал: «Детское тело мягкое». А мне хотелось плакать. Я попросил, чтобы меня опять посадили, и меня посадили. И я уже больше не падал».
Таким-то образом рос этот замечательный ребенок, вдумчивый, впечатлительный, застенчивый, детски влюбчивый и, в сущности, одинокий по той огромной силе внутреннего анализа, которая таилась в нем и не находила отклика в окружавшей его среде.
Глава 6. Юность
Пять лет прожили Толстые в Казани. Каждое лето все семейство, сопровождаемое Пелагеей Ильиничной, отправлялось в Ясную Поляну, каждую осень возвращалось в Казань.
В доме Юшковой протекла большая половина юности Льва Николаевича Толстого.
Братья Толстые переехали в Казань в 1841 году. Старший брат Николай, перешедший из Московского университета в Казанский, уже в 1841-42 учебном году слушал курс в Казанском университете и был уже на втором курсе второго отделения философского факультета; по этому факультету он благополучно и окончил курс в 1844 году со званием действительного студента. Двое следующих братьев, Сергей и Дмитрий, избрали тот же факультет и то же его отделение, соответствующее современному нам математическому факультету.
Оба брата были приняты в студенты в 1843 году и весною 1847 года одновременно окончили действительными студентами.
Лев Николаевич избрал факультет восточных языков, имея, как кажется, в виду дипломатическую карьеру, и к поступлению на этот факультет усиленно готовился в течение 1842-44 гг. Занятия были нелегкие, так как для вступительного экзамена нужно было иметь подготовку в арабском и турецко-татарском языках, преподававшимся в то время в Первой казанской гимназии. Трудности эти были Львом Николаевичем благополучно превзойдены.
В архивах Казанского университета сохранились все документы, свидетельствующие о поступлении, пребывании и выходе Льва Николаевича из Казанского университета.
Все эти документы тщательно собраны и напечатаны в воспоминаниях Загоскина. Мы приводим наиболее интересные из них.
Лев Николаевич подал прошение о поступлении в университет. Вследствие этого прошения он был допущен к приемному экзамену, который прошел для него не совсем благополучно, как это видно из приводимой ниже экзаменационной ведомости. Вот отметки, полученные графом Львом Толстым на вступительном экзамене:
Закон Божий 4
История общая и русская 1 «Ничего не знал». Примеч. Л. Н. Толстого.
Статистика и география 1 «Еще меньше. Помню, вопрос был: Франция.
Присутствовал Пушкин, попечитель, и опрашивал меня. Он был знакомый нашего дома и, очевидно, хотел выручить: «Ну, скажите, какие приморские города во Франции?» Я ни одного не мог назвать». Примеч. Л. Н. Толстого.
Математика 4
Русская словесность 4
Логика 4
Латинский язык 2
Французский язык 5+
Немецкий язык 5
Арабский 5
Турецко-татарский 5
Английский язык 4
А в деле о приеме Льва Николаевича в студенты сделана заключительная резолюция в виде журнального постановления о том, что граф Лев Толстой экзаменован по отделению восточной словесности, но принятия в университет не удостоен». Тут же приписано определение: «Акты возвратить».
Это происходило весной 1844 года. Лев Николаевич решил просить осенью переэкзаменовки по предметам, отметки за которые были неудовлетворительны.
И вот, в начале августа того же года снова поступает на имя ректора университета следующее прошение, писанное Львом Николаевичем собственноручно:
«Его Превосходительству господину ректору
Императорского Казанского университета,
заслуженному профессору, действительному статскому
советнику Николаю Ивановичу Лобачевскому
от Льва Николаевича графа Толстого
ПРОШЕНИЕ.
В мае месяце текущего года я вместе с учениками первой и второй казанской гимназии подвергался испытанию с целью поступить в число студентов Казанского университета, разряда арабско-турецкой словесности. Но как на этом испытании не оказал надлежащих сведений в истории, статистике, то и прошу покорнейше, Ваше Превосходительство, дозволить мне ныне снова экзаменоваться в этих предметах. При сем имею честь представить следующие документы:
1) метрическое свидетельство из тульской консистории;
2) копия с постановления тульского дворянского депутатского собрания.
К сему прошению означенный выше проситель
граф Лев Николаевич руку приложил».
Августа 3-го дня 1844 года.На прошении отметка:
«Под 4 авг. 1844 г. Допустить к дополнительному испытанию. 4 августа 1844 года. Ректор Лобачевский».
Когда именно и с каким успехом держал Лев Николаевич этот дополнительный экзамен, – неизвестно. Во всяком случае на этот раз дело обошлось благополучно, так как внизу прошения Льва Николаевича подписано определение:
«Толстого принять в университет студентом своекоштного содержания, по разряду арабско-турецкой словесности».
Итак, Лев Николаевич в университете. Но там проводит он лишь учебное время, живет же он в доме своей тетки Юшковой и вращается в кругу ее знакомых. Что же это была за среда, и как могла она влиять на юношу?
В воспоминаниях Загоскина о студенческой жизни Льва Николаевича Толстого говорится, что среда, в которой вращался в Казани Лев Николаевич, была средой развращающей, и что Лев Николаевич должен был инстинктивно чувствовать протест, но по замечанию, сделанному Львом Николаевичем при просмотре этой рукописи, дело было не так:
«Никакого протеста, – говорит он, – я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем, обществе».
Перечисляя далее в своей статье различные неблагоприятные обстоятельства жизни Льва Николаевича, Загоскин выражает удивление нравственной силе Льва Николаевича, сумевшей устоять против всех этих соблазнов. На это Лев Николаевич делает следующее замечание:
«Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью».
«Зимний сезон 1844-45 гг., когда Лев Николаевич Толстой в качестве «молодого человека» стал уже выезжать в свет, был еще более шумен. Балы то у губернатора, то у предводителя, то в женском Родионовском институте, где с особенной любовью культивировала их начальница, Е. Д. Загоскина, частные танцевальные вечера, маскарады в дворянском собрании, спектакли, живые картины, концерты беспрерывною цепью следовали одни за другими. В качестве родовитого, титулованного молодого человека с хорошими местными связями, внука бывшего губернатора и выгодного жениха в ближайшем будущем Лев Николаевич был везде желанным гостем. Казанские старожилы помнят его на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим, но далеко не светским дамским угодником, какими были другие его сверстники «студенты-аристократы»; в нем всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застенчивость; он, видимо, стеснялся тою ролью, которую его поневоле заставляли играть и к которой volens-nolens обязывала его пошлая обстановка его казанской жизни».
Все это, конечно, весьма дурно влияло на учебные занятия, и первые полугодичные испытания оказались не вполне удачными, как о том свидетельствует экзаменационная ведомость, приводимая Загоскиным:
Эта неудача нисколько не изменила образа жизни Льва Николаевича, и он, продолжая веселую светскую жизнь, участвует на масленице вместе с братом своим Сергеем в двух любительских спектаклях с благотворительной целью и исполняет свою роль с большим успехом.
В «Казанских губернских ведомостях» 1845 года есть заметка о том, что упомянутый спектакль «прошел так отчетисто, так прелестно, что во многих местах зрители забывали, что перед ними искусство сценическое, а не сама жизнь».
Казанская газетная хроника увековечила и другое выступление Л. Н-ча в 1846 году. Он принимал участие в живых картинах, поставленных в актовом зале Казанского университета в пользу двух бедных воспитанниц местного Родионовского института. В № 18 «Казанских губернских ведомостей» за 1846 г. мы читаем: «…Стечение публики было самое многочисленное, невиданное доселе; ни один концерт, даже волшебный смычок Серве, не привлекал столько посетителей, и обширная университетская зала не могла вместить в себе всех зрителей». Л. Н. Толстой фигурировал в одной из 19 живых картин. Картина называлась «Предложение жениха». Вот как передает ее содержание газетный хроникер:
«Оркестр играет: «Ну, Карлуша, не робей!..» Старик-рыбак поймал в свои сети молодца и представляет его своей дочери. Простак-детина (граф Л. Н. Толстой) почтительно вытянулся, закинув руки за спину: он рисуется… Отец взял его за подбородок и с простодушно-хитрою улыбкой посматривает на дочку, которая в смущении потупила свои взоры». «Эффект этой картины был необычайный», – добавляет описание. – Раза три требовали ее повторения, и долго не умолкал гром рукоплесканий. Лучше всех был в этой картине А. А. де Планьи (лектор французского языка); чрезвычайно наивен был также и жених, граф Л. Н. Толстой».
Результатом всего этого было то, что Лев Николаевич не выдержал переходного экзамена, и ему бы пришлось остаться на второй год на том же курсе. Сам он так рассказывает об этом несчастном экзамене:
«Первый год я был не перепущен из первого на второй курс профессором русской истории Ивановым, поссорившимся перед тем с моими домашними, несмотря на то, что я не пропустил ни одной лекции и знал русскую историю; кроме того за единицу в немецком языке, поставленную тем же профессором, несмотря на то, что я знал немецкий язык несравненно лучше всех студентов нашего курса».
Но Лев Николаевич не захотел остаться на второй год на том же курсе, а подал прошение о переводе его на другой факультет, а именно на юридический, что и было исполнено.
Зимний сезон 1845-46 годов открылся празднеством по случаю двухдневного (14–16 октября) пребывания в Казани герцога Максимилиана Лейхтенбергского, которому здесь устроен был восторженный прием.
Львом Николаевичем сделана здесь такая заметка:
«В конце этого года я в первый раз стал серьезно заниматься и нашел в этом даже некоторое удовольствие. Сверх факультетских предметов, из которых энциклопедия права и уголовное право заинтересовали меня (немец профессор Фогель на лекциях устраивал собеседования, и помню очень заинтересовавшее меня, о смертной казни); сверх факультетских предметов Меер, профессор гражданского права, задал мне работу: сравнить «Espris des lois» Montesquieu с «Наказом» Екатерины, и эта работа очень заняла меня».
Переходные майские экзамены 1846 г. сданы были Львом Николаевичем удовлетворительно. Он получил на этих экзаменах одну пятерку из логики и психологии, три четверки: из энциклопедии права, истории римского права и латинского языка, и четыре тройки: из всеобщей и русской истории, теории красноречия и немецкого языка, три пятерки за поведение. Средний вывод получился три, и Лев Николаевич был удостоен перевода на второй курс.
В этом же году Льва Николаевича постигла административная кара. Он был посажен в карцер за непосещение лекций истории. Эпизод этот описан в воспоминаниях Назарьева, его товарища по университету, но весьма неточно, хотя разговор, описанный Назарьевым, и соответствует действительности. Пользуясь замечаниями Льва Николаевича, восстанавливаем этот эпизод в более правдивом виде.
Лев Николаевич был посажен в карцер и сидел не в аудитории, как пишет Назарьев, а в карцере со сводами и железными решетками. Вместе со Львом Николаевичем сидел его товарищ. Лев Николаевич принес с собою в карцер спрятанную в голенище сапога свечку и подсвечник, и они провели очень приятно день или два.
Кучер, рысак, лакей и т. д. – все это надо отнести к воображению Назарьева. Разговор же, переданный им, правдоподобен, и мы приводим его из статьи Назарьева:
«Помню, – говорит Назарьев, – заметив, что я читаю «Демона» Лермонтова, Толстой иронически отнесся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежащей возле меня истории Карамзина, напустился на историю, как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет.
– История, – рубил он сплеча, – это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, – что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1563 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, в 1572 году, а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил все это, а не знаю, так ставят единицу. А как пишется история? Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте… – приблизительно в таком роде рассуждал мой собеседник.
Меня сильно озадачила такая резкость суждений, тем более, что я считал историю своим любимым предметом.
Затем вся неотразимая для меня сила сомнений Толстого обрушилась на университет и университетскую науку вообще. «Храм наук» уже не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьезным, он в таком смешном виде рисовал портреты наших профессоров, что при всем моем желании остаться равнодушным я хохотал, как помешанный.
– А между тем, – заключил Толстой, – мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны? – настойчиво допрашивал Толстой.
В этих разговорах провели всю ночь.
Едва забрезжилось утро, как дверь отворилась, – вошел вахмистр и, раскланявшись, объявил, что мы свободны и можем расходиться по домам.
Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, слегка кивнул мне годовой, еще раз ругнул «храм» и скрылся в сопровождении своего слуги и вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделавшись от своего собеседника и очутившись на морозе, среди безлюдной, только что просыпавшейся улицы.
Отяжелевшая, точно после угара, голова была переполнена никогда еще не забиравшимися в нее сомнениями и вопросами, навеянными странным, решительно непонятным для меня товарищем по заключению»
Начало 1846-47 учебного года внесло изменения в условия внешней жизни братьев Сергея, Дмитрия и Льва Толстых. Оставив дом своей тетушки Пелагеи Ильиничны Юшковой, они стали жить на частной квартире, в доме, бывшем тогда Петонди, а ныне принадлежащем Ложкинской городской общественной богадельне. Здесь они занимали пять комнат в верхнем этаже каменного флигеля, до сих пор находящегося во дворе этого дома и в настоящее время занимаемого одним из отделений богадельни.
В январе 1847 года Лев Николаевич еще раз явился на полугодичные экзамены, но не держал всех и, видимо, относился к ним как к пустой формальности. Вероятно, в голове его уже создался план оставления университета. И вскоре, тотчас после пасхальных каникул, он подал прошение об увольнении его из университета.
Вот содержание этого прошения, приводимого в воспоминаниях Загоскина:
«Его Превосходительству
г. ректору Императорского Казанского университета,
действительному статскому советнику и кавалеру
Ивану Михайловичу Симонову
своекоштного студента 2-го курса юридического факультета,
от графа Льва Николаевича Толстого
ПРОШЕНИЕ.
По расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам, не желая более продолжать курса наук в университете, покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать зависящее от вас распоряжение об исключении меня из числа студентов и о выдаче мне всех моих документов.
К сему прошению руку приложил студент граф Лев Толстой.
Апреля 12-го дня 1847 года».Вслед за этим состоялось определение правления:
«Толстого из списков студентов исключить и составить о бытности в университете свидетельство».
В делах университетского архива сохранился и дубликат самого свидетельства, выданного графу Льву Николаевичу Толстому. Это свидетельство любопытно в том отношении, что в нем тонко обойдены университетские неудачи Льва Николаевича и совершенно замолчены причины, вследствие которых он был оставлен на первом курсе восточного отделения. Вот что гласит это свидетельство:
«Объявитель сего, граф Лев Николаевич сын Толстой, получив первоначально домашнее образование и выдержав в предметах полного гимназического курса подлежащий экзамен, принят был в студенты Казанского университета по разряду арабско-турецкой словесности, в первый курс, но с какими успехами в оном курсе обучался – неизвестно, потому что на годичные испытания не явился, почему и оставлен был в том же курсе, и на основании разрешения г. управляющего казанским учебным округом от 13-го сентября 1845 года, № 3919, из разряда арабско-турецкой словесности перемещен в первый курс юридического факультета, в коем обучался с успехами: по логике и психологии – отличными; энциклопедии права, истории римского права и латинскому языку – хорошими; всеобщей и русской истории, теории красноречия и немецкому языку – достаточными; переведен был во второй курс, но с какими успехами обучался в новом курсе – неизвестно, потому что годичных испытаний еще не было. Поведения он, Толстой, во время бытности в университете был отличного. Ныне же, согласно прошению, поданному 12-го текущего апреля, по расстроенному здоровью и текущим обстоятельствам, из университета уволен, почему он, г. Толстой, как не окончивший полного курса университетских наук, не может пользоваться правами, присвоенными действительным студентам, а на основании 590 ст. III тома Свода Законов (изд. 1842 года) при поступлении в гражданскую службу сравнивается в преимуществах по чинопроизводству с лицами, получившими образование в средних учебных заведениях, и принадлежит ко второму разряду гражданских чиновников. В удостоверение чего и дано ему, графу Льву Толстому, сие свидетельство из правления Казанского университета, за надлежащим подписанием и приложением казенной печати, на основании высочайше дарованной Казанскому университету грамоты на простой бумаге».
«Лев Николаевич спешил выездом из Казани, – пишет в своих воспоминаниях Загоскин, – и не стал даже дожидаться окончания его братьями Сергеем и Дмитрием выпускных университетских экзаменов. Наступил день отъезда Льва Николаевича в Москву, через которую он должен был ехать в свою Ясную Поляну. В квартиру графов Толстых, во флигеле дома Петонди, собралась небольшая кучка студентов, желавших проводить Льва Николаевича в далекий и трудный, по условиям сообщения того времени, путь; один из провожавших, рассказывавший мне об этом, до сих пор здравствует в Казани. Как водится, за отъезжающего выпили, насказав ему всякого рода пожеланий. Товарищи проводили Льва Николаевича до перевоза через Казанку, которая находилась в полном разливе, и здесь в последний раз отдали ему прощальное целование».
Мало осталось следа в Казанском университете о пребывании там Льва Николаевича Толстого.
Недавно посетивший этот университет князь Дм. Дм. Оболенский сообщил мне, что в аудитории, где Лев Николаевич слушал лекции, на железной доске осталась надпись «Граф Лев Николаевич Толстой», несомненно, нацарапанная самим Львом Николаевичем во время слушания лекций на месте, где он сидел всегда. Нацарапана или гвоздем, или ножом. Кажется, это единственный памятник о Льве Николаевиче в Казанском университете.
Немецкий биограф Льва Николаевича, Левенфельд, спросил у него, будучи в Ясной Поляне, почему он, при его всегда присущей ему неутомимой жажде знания, оставил университет.
– Да в этом-то, – отвечал граф, – может быть, и заключается самая главная причина моего выхода из университета. Меня мало интересовало, что читали наши учителя в Казани. Сначала я с год занимался восточными языками, но очень мало успел. Я горячо отдавался всему, читал бесконечное количество книг, но все в одном и том же направлении. Когда меня заинтересовывал какой-нибудь вопрос, то я не уклонялся от него ни вправо, ни влево и старался познакомиться со всем, что могло бросить свет именно на этот один вопрос. Так было со мной и в Казани».
То же высказал Лев Николаевич и в следующем замечании:
«Причин выхода моего из университета было две: 1) что брат кончил курс и уезжал; 2) как это ни странно сказать, работа с «Наказом» и «Espris des lois» (она и теперь есть у меня) открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей».
Как выше было сказано, одновременно со Львом Николаевичем слушали университетский курс и старшие его братья: Николай, Сергей и Дмитрий. О первых двух Лев Николаевич вспоминает, рассказывая события из своей детской жизни, помещенные нами в своем месте. Воспоминания же о брате Дмитрии, характер которого более резко проявился в пору его студенчества, мы помещаем здесь, так как в них Лев Николаевич даст нам несколько драгоценных черт того времени:
«Митенька – годом старше меня. Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что он в детстве был очень капризен; рассказывали, что на него находили такие капризы, что он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него; потом также злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Сережу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставили ни малейшего следа, и я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее. Я думаю, даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям, и когда оно такое, его не замечаешь. Оно замечается только тогда, когда не любишь (не не любишь, а боишься кого-нибудь. Так я боялся нищих, боялся одного Волконского, который щипал меня; больше, кажется, никого), и тогда, когда особенно любишь, как я любил тетеньку Татьяну Александровну, брата Сережу, Николеньку, Василия, няню Исаевну, Пашеньку. Ребенком я ничего особенного, кроме детского веселья, не помню о нем. Особенности его проявились и памятны мне уже в Казани, куда мы переехали в 40-м году, и ему было 13 лет. До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ, о которых расскажу я после, и учился хорошо, даже весьма усердно. Помню, учитель, студент Поплонский, дававший нам уроки, определял по отношению к учению нас трех братьев так: Сергей – и хочет, и может; Дмитрий – хочет, но не может (это была неправда); и Лев – не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда.
Так что настоящие воспоминания мои о Митеньке начинаются с Казани. В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться (тоже после расскажу). Не только с Казани, но и еще прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, comme il faut. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, и то, что делал, доводил до пределов своих сил. Когда с ним случилось, что он проглотил цепочку, он, сколько помню, не особенно беспокоился о последствиях этого, тогда как про себя помню, какой я испытал ужас, когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тетенька, и как я торжественно, как бы перед смертью, объявил ей об этом несчастье. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо закут (как весело было!), и какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на эту гору. Кажется, Сережа с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием: как вылез из-под пристяжной, как коренная испугалась и т. п. Митенька же (мальчик лет 9), подошел к проезжему и начал бранить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели садить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить; на языке того времени значило – высечь.
В Казани начались его особенности. Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко; помню, прекрасно перевел Шиллера «Der Jungling am Bache», но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив. Помню, как он раз расшалился, и как девочки пришли в восторг от этого, и мне стало завидно, и я подумал, что это оттого, что он всегда серьезен. И я тоже хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у опекунши-тетушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке дан был Ванюша (Ванюша этот и теперь жив). Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю: кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении.
Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими, большими карими глазами. Он был велик ростом, худ довольно, силен не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной. Особенности его начались со времени вступления в университет. Он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь, и он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни.
В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери, которую знал в Николеньке и которой я был совершенно лишен, – черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда до самого последнего времени не мог отделаться от заботы о мнении людском, у Митеньки же этого совершенно не было. Никогда не помню на его лице той сдерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьезные, спокойные, грустные, иногда недобрые миндалеобразные, большие карие глаза. С Казани только мы стали обращать на него внимание и то только потому, что тогда как мы с Сережей приписывали большое значение comme il faut, внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик: он подергивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука.
Особенность его первая проявилась во время первого говения. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви. Мы жили в доме Горталова, против острога. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на Страстной неделе вычитывал все евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство со священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи; никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, но Митенька тотчас со своим серьезным лицом взял и передал.
Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор; но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое.
Мы, главное Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми; Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над Митенькой). Он только с Палубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам.
Помню один такой случай. Жили мы тогда уже на другой квартире, на углу Арского поля, в доме Киселевского, наверху. Верх разделялся хорами над залом. В первой части верха, до хор, жил Митенька, в комнате за хорами жили Сережа и я. Мы, я и Сережа, любили вещицы, убирали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещицы. Митенька никаких вещей не имел. Одну он взял из отцовских вещей, – это минералы. Он распределил их, надписал и разложил их под стеклами в ящик. Так как мы, братья, да и тетушка с некоторым презрением смотрели на Митеньку за его низкие вкусы и знакомства, то этот взгляд усвоили себе и наши легкомысленные приятели. Один из таких, очень недалекий человек (инженер Ес., не столько по нашему выбору наш приятель, но потому, что он лип к нам), раз, проходя через комнату Митеньки, обратил внимание на минералы и спросил Митеньку. Ес. был несимпатичен, ненатурален. Митенька ответил неохотно. Ес. двинул ящик и потряс их; Митенька сказал: «Оставьте!» Ес. не послушался и что-то подшутил; кажется, назвал его Ноем. Митенька взбесился и своей огромной рукой ударил по лицу Ес. Ес. бросился бежать, Митенька, за ним; когда они прибежали в наши владения, мы заперли двери. Но Митенька объявил нам, что он исколотит его, когда он пойдет назад. Сережа и, кажется, Шувалов пошли усовещивать Митеньку, чтобы пропустил Ес. Но он взял половую щетку и объявил, что непременно исколотит его. Не знаю, что бы было, если бы Ес. пошел через его комнату, но он сам просил как-нибудь провести его, и мы провели его кое-где почти ползком, через пыльный чердак.
Таков был Митенька в свои минуты злобы. Но вот каким он был, когда ничто не выводило его из себя. К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка; не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский). Как она попала к нам, не знаю. Слышал, что ее жалели, ласкали, хотели пристроить даже, выдать замуж за Федора Ивановича, но все это не удалось. Она жила сначала у нас, – я этого не помню; а потом ее взяла тетенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у нее. Так что узнал я ее в Казани. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было все распухлое так, как бывают запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевитыми, без бровей подушками. Также распухшие, глянцевитые, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волосы у ней были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп. Василий Иванович Юшков, муж тетеньки, недобрый шутник, не скрывал своего отвращения к ней. От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И, удивительное дело, мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим; Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось все время, пока мы жили в Казани.
Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер!»
Взглянем теперь на внутренний мир Льва Николаевича того времени, насколько он нам доступен.
Критический возраст человека – юность – вводит его в пучину страстей. Для обыкновенного человека это период увлечения всевозможными чувствами и страстями, искания идеала, период мечтаний и ожиданий и большею частью несбыточных надежд. Можно себе представить те внутренние волнения, которые переживала такая сильная во всех отношениях натура, каким и был, и есть Толстой. В каких противоречиях металась его душа! К каким недосягаемым высотам мысли возносила его крылатая мечта и с какой стремительностью мог он падать, срываясь с этой высоты, увлеченный страстями своей сильной, животной природы!
Указания на эту бурную внутреннюю жизнь юношеского периода мы встречаем в двух сочинениях Льва Николаевича: в «Юности» и в «Исповеди». В первом произведении среди размышлений Николеньки Иртенева мы несомненно встречаем автобиографические черты. Мысли, заимствуемые нами из «Юности», большею частью идеального характера и выражены в прекрасной поэтической форме. Мы приводим здесь только важнейшие:
«Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному совершенствованию, и что усовершенствование это легко, возможно и вечно…
Пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду, захотел прилагать эти мысли к жизни с твердым намерением никогда уже не изменять им. И с этого времени я считаю начало юности.
Мне было в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя все еще продолжали ходить ко мне, и я поневоле и неохотно готовился к университету.
В этот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства. Любовь к «ней», к воображаемой женщине, о которой я всегда мечтал в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы меня все знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя… и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство была надежда на необыкновенное тщеславное счастье, – такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и разливались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир божий. Благой, отрадный голос, сколько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего, и обещавший добро и счастье в будущем, – благой отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?»
Мы знаем, что, к счастью для самого Льва Николаевича и для всех нас, голос этот в нем не замолкал ни на минуту, и до сих пор этот благой голос зовет его и нас и движет нами, направляя нас к светлому, бесконечному идеалу.
Временами мечты эти ярко выражали начала того идеалистического натурализма, который лег едва ли не в основу большей части произведений Толстого.
«Но луна все выше и выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что «она», с обнаженными руками и пылкими объятиями, еще далеко-далеко не все счастье, что и любовь к ней далеко-далеко еще не все благо, и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались выше и выше, чище и чище, ближе и ближе к нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза.
И все я был один, и все казалось, что таинственно-величавая природа, притягивавший к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой любви, мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я – мы были одно и то же».
Интересно взглянуть на список литературных произведении, имевших влияние на Льва Николаевича за период его юности, т. е. приблизительно от 14 до 21 года, и способствовавших выработке подобного миросозерцания.
Вот этот список, служащий продолжением уже приведенного в главе «Отрочество»:
Рядом с этим Лев Николаевич испытывал на себе и тяжелое влияние тех условностей, которым подчинена была его барская жизнь. Одним из таких влияний было так называемое «comme il faut». Он посвящает описанию этого влияния целую главу своей «Юности». Мы берем из нее только самое существенное.
«Чувствую необходимость, – говорит Лев Николаевич, – посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.
Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй род подразделяется еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых – притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали – я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить как мы, когда не умеешь?» – с ядовитою насмешкой спрашивал я его мысленно.
Второе условие comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было уменье кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки.
Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Но ни потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий comme il faut, исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне круга comme il faut, – все это еще было не главное зло, которое мне причиняло это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что comme il faut есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он comme il faut; что, достигнув этого положения, он уже исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей.
В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: кто ты такой? и что ты там делал? – не будут в состоянии ответить иначе, как: «je fus un homme tres comme il faut».
Эта участь ожидала меня».
Как сказал Лев Николаевич в разговоре с немецким биографом Левенфельдом, рядом с учебными университетскими занятиями, вообще мало интересовавшими его, в нем развился интерес к самостоятельной умственной работе, вызванный данной ему темой сравнения «Esprit des lois» Montesquieu с «Наказом» Екатерины.
Дневники Льва Николаевича того времени полны мыслями, заметками и комментариями к этой работе, и рядом с этой работой толпится целый рой мыслей, как будто рассудок, прежде спавший и вдруг пробужденный, принялся за деятельную работу во всех областях своих.
В марте 1847 года Лев Николаевич лежал в казанской клинике по какому-то нездоровью. Досуг болезни, больничное одиночество наводили его на размышления о значении разума.
«Общество есть часть мира. Надо Разум согласовать с миром, с целым, познавая законы его, и тогда можно стать независимым от части, от общества».
Мы видим из этой заметки, что 18-летний юноша уже носил в себе зачатки будущего анархизма.
Замечая в себе проявление страсти к знанию, Лев Николаевич сейчас же спохватывается и, опасаясь уйти в теорию, задает себе вопросы о приложении знания к практике, а главное, к выработке в себе нравственного идеала и нравственного поведения.
Так, он записывает между прочим в своем дневнике того времени (март 1847 г.):
«Я много переменился, но все еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть. Я не исполняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю не хорошо, не изощряю памяти. Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать:
1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что.
2) Что исполняешь, исполняй хорошо.
3) Никогда не справляйся в книге, что забыл, а постарайся сам припомнить.
4) Заставляй постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою.
5) Читай и думай всегда громко.
6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели они не понимают (что они мешают), то извинись и скажи им это».
По поводу своей университетской работы он приходит к тому заключению, что в «Наказе» Екатерины проявляются два начала: революционные идеи современной Европы и деспотизм самой Екатерины и тщеславие ее; последнее начало преобладает. Республиканские идеи заимствованы ею из Монтескье. В заключение Лев Николаевич приходит к тому выводу, что «Наказ» принес больше славы Екатерине, чем пользы России.
Решившись оставить университет и переехать в деревню, Лев Николаевич дает себе обещание заниматься английским и латинским языком и римским правом, вероятно, чувствуя по этим предметам пробелы в своем знании.
Но по мере того, как приближалось время отъезда, планы и мечты о новой жизни расширялись, и, наконец, 17-го апреля 1847 года он записывает в своем дневнике:
«Перемена в образе жизни должна произойти; но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души», и далее:
«Цель жизни есть сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего.
Цель жизни в деревне в продолжение двух лет:
1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет,
2) Изучить практическую медицину и часть теоретической.
3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский.
4) Изучить сельское хозяйство как теоретически, так и практически.
5) Изучить историю, географию и статистику.
6) Изучить математику – гимназический курс.
7) Написать диссертацию.
8) Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи.
9) Написать правила.
10) Получить некоторые познания в естественных науках.
11) Составить сочинения из всех тех предметов, которые буду изучать».
Вся последующая жизнь Льва Николаевича в деревне исполнена таких мечтаний, благих начинаний и серьезной искренней борьбы над самим собой в стремлении к совершенствованию.
С неподражаемою искренностью записывает он всякое уклонение от постановленного правила, всякое падение и снова собирается с силами на новую борьбу.
Отношение к женщинам уже тогда беспокоит его, и вот какой интересный совет дает он себе:
«Смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них.
В самом деле: от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват в том, что мы лишаемся врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и других – как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас; в теперешний же развратный, порочный век – они хуже нас».
Опять мы видим зачатки позднейших взглядов на жизнь.
К этому же периоду относятся также и первые философские опыты Льва Николаевича.
Читая Руссо, Лев Николаевич пишет комментарии к его «Discours». Затем сохранилась его самостоятельная философская статья, написанная в 1846-47 году, т. е. когда ему было 18 лет. Статья эта носит название: «О цели философии». Причем философии дается такое определение:
«Человек стремится, т. е. человек деятелен. Куда направлена его деятельность? Каким образом сделать эту деятельность свободной? В этом заключается цель философии в ее истинном значении. Другими словами: «философия есть наука жизни».
Кроме того, есть наброски на разные темы, как, например: «О рассуждении касательно будущей жизни», «Определение времени, пространства и числа», «Методы», «Разделение философии» и т. д.
К этому времени относится также следующий эпизод, записанный графиней С. А. Толстой:
«Во время студенчества Лев Николаевич раз задумался о том, что такое симметрия, и написал сам на это философскую статью в виде рассуждения. Статья эта лежала на столе в его комнате, когда в комнату вошел товарищ братьев Толстых Шувалов с бутылками во всех карманах, собираясь петь. Он случайно увидал на столе эту статью и прочел ее. Его заинтересовала эта статья, и он спросил, откуда Лев Николаевич списал ее. Лев Николаевич робко ответил, что он ее сам сочинил. Шувалов засмеялся и сказал, что это он врет, что не может этого быть: слишком показалось глубоко и умно для такого юноши. Так и не поверил, с тем и ушел».
Уже этот небольшой рассказ показывает нам, насколько уровень развития Льва Николаевича не соответствовал окружающей его среде и превышал ее.
«Исповедь» Льва Николаевича раскрывает нам его внутренний мир того времени еще с другой стороны – религиозной.
«Помню, – говорит Лев Николаевич, – что, когда старший брат мой Дмитрий, будучи в университете, вдруг со свойственной его натуре страстностью предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую, нравственную жизнь, то мы все и даже старшие, не переставая, поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывающегося брата тем, что и Давид плясал перед ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого не надо принимать. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.
Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, а в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться с ним и самому в собственной жизни никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там вдали от жизни и независимо от нее; если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением.
Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я с 15-ти лет стал читать философские сочинения, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с 16-ти лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я не верил в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или, скорее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать. Не отрицал я и Христа и Его учение, но в чем было Его учение, я тоже не мог бы сказать.
Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать свою волю, – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменялось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собой или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше пред людьми подменялось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других».
И далее начинается то страшное покаяние, которое, обличая грехи Льва Николаевича, в то же время обличает и нашу душу, в большинстве случаев прошедшую через эти дебри разврата, быть может, совершавшегося нами не с такими исполинскими размахами и не со столь искренним сознанием своей неправоты.
«Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни – и трогательную, и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всей душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказывать то, что составляло самые задушевные мои желания, то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли.
Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею женщиной: rien ne forme un jeune homme, comme une liason avec line femme comme il faut; еще другого счастья она желала мне, того, чтобы я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.
Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство… Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.
Так я жил десять лет».
Начало этого бурного десятилетнего периода застает Льва Николаевича в деревне.
К этому времени следует отнести попытки Льва Николаевича хозяйствовать на новых началах, а главное – попытки установления правильных разумно-дружелюбных отношений с крестьянами, которые окончились так неудачно, и неудача которых так ярко изображена в рассказе «Утро помещика». В этом рассказе так много если не фактически, то психологически автобиографического материала, что его можно поставить нам как главу биографии.
Заимствуем оттуда письмо кн. Нехлюдова к своей тетушке:
«Милая тетушка!
Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради Бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть, точно, я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его.
Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если бы вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут со своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтобы объяснить мое намерение.
Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином; а для того, чтобы быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которых вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастью. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и если только Бог даст мне жизни и сил, я успею в своем предприятии…»
Если Лев Николаевич и не писал в действительности этого письма, то, несомненно, подобные мысли и желания обуревали его молодую душу и давали направление его жизни.
Как мы знаем из этого рассказа, попытка Льва Николаевича кончилась неудачей. И оно не могло быть иначе. Искренность Льва Николаевича не могла вынести положения благотворителя своих рабов, т. е. людей, уязвленных в самом ценном для этих людей – их духовном достоинстве.
Лев Николаевич не вынес этого противоречия (а быть «холодным и строгим человеком», как советовала тетушка в своем ответном письме, он не мог), и, воспользовавшись первым удобным случаем, он круто изменил свою жизнь.
Прожив лето в Ясной Поляне, Лев Николаевич осенью того же 47-го года отправился в Петербург, где в начале 48-го года начал держать кандидатский экзамен.
«В 48-м году, – говорит он в своей статье о воспитании и образовании, – я держал экзамен на кандидата в Петербургском университете и буквально ничего не знал и буквально начал готовиться за неделю до экзамена. Я не спал ночи и получил кандидатские баллы из гражданского и уголовного права готовясь из каждого предмета не более недели».
Левенфельду сам Лев Николаевич так рассказывает об этом времени:
«Мне очень было приятно жить в деревне с тетушкой Ергольской, но неопределенная жажда знания снова увлекла меня вдаль. Это было в 1848 году, я все еще не знал, что мне предпринять. В Петербурге мне открывались две дороги. Я мог вступить в армию, чтобы принять участие в венгерском походе, и мог закончить мои университетские занятия, чтобы получить себе потом место чиновника. Но моя жажда знания победила мое честолюбие, и я снова принялся за занятия. Я выдержал даже два экзамена по уголовному праву, но затем все мои благие намерения совершенно рухнули. Наступила весна, и прелесть деревенской жизни снова потянула меня в имение».
Этот период петербургской жизни мы можем более подробно проследить по письмам Льва Николаевича к своему брату Сергею, из которых мы приводим выдержки, имеющие общий интерес.
13 февраля 1848 года он писал брату:
«Я пишу тебе это письмо из Петербурга, где я и намерен остаться навеки… Я решился здесь остаться держать экзамен и потом служить; ежели же не выдержу (все может случиться), то и с 14-го класса начну служить; я много знаю чиновников 2-го разряда, которые не хуже и вас, перворазрядных, служат. Короче тебе скажу, что петербургская жизнь на меня имеет большое и доброе влияние: она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольно расписание; как-то нельзя ничего не делать, все заняты, все хлопочут, да и не найдешь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь, – одному нельзя же.
Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь: «это уж в 20-й раз, и все из тебя пути нет», «самый пустяшный малый», – нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся; прежде я скажу себе: «дай-ка я переменюсь», а теперь я вижу, что я переменился, и говорю: «я переменился».
Главное то, что я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, т. е. быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена; еще этого со мной ни разу не было. Ежели же кто хочет жить и молод, то в России нет другого места, как Петербург; какое бы направление кто ни имел, всему можно удовлетворить, все можно развить, и легко, без всякого труда. Что же касается до средств к жизни, то для холостого жизнь здесь вовсе не дорогая и, напротив, дешевле и лучше московской, исключая квартир.
Всем нашим передай, что я всех целую и кланяюсь, и что летом в деревне, может, буду, может, нет: мне хочется летом взять отпуск и поездить по окрестностям Петербурга, в Гельсингфорс и в Ревель тоже хочу съездить. Напиши мне, ради Бога, хоть раз в жизни; мне хочется знать, как ты и все наши эту новость примут; проси и их от меня писать, я же писать к ним боюсь, – так давно не писал я к ним, что они, верно, сердятся, особенно перед тетенькой Татьяной Александровной мне совестно; попроси у нее от меня прощения».
Увы! этим благим намерениям не сразу суждено было осуществиться. Как ни странно писать это теперь про Льва Николаевича, но тогда брат его с некоторым правом называл его «пустяшный малый», в чем Лев Николаевич и сам ему признавался.
Так, в письме от 1-го мая 1848 года он пишет брату:
«Сережа! Ты, я думаю, уже говоришь, что я «самый пустяшный малый», и говоришь правду. Бог знает, что я наделал. Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там нужного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо! Невыносимо глупо! Ты не поверишь, как это меня мучает. Главное, долги, которые мне нужно заплатить и как можно скорее: потому что, ежели я их заплачу не скоро, то я сверх денег потеряю и репутацию, Мне до нового дохода необходимо 3500 руб. сер.: 1200 в Опекунский Совет, 1600 заплатить долги, 700 руб. на прожиток. Я знаю, ты будешь ахать, но что же делать? Глупость делают раз в жизни. Надо мне было поплатиться за свою свободу (некому было сечь, это главное несчастие) и философию, вот я и поплатился. Сделай милость, похлопочи, чтобы вывести меня из фальшивого и гадкого положения, в котором я теперь, – без гроша денег и кругом должен.
Ты знаешь, верно, что наши войска все идут в поход и что часть (2 корпуса) перешли границу и, говорят, уже в Вене.
Я начал было держать экзамен на кандидата и выдержал два хорошо, но теперь переменил намерение и хочу вступить юнкером в конногвардейский полк. Мне совестно писать это тебе, потому что я знаю, что ты меня любишь, и тебя огорчат все мои глупости и безосновательность. Я даже несколько раз вставал и краснел от этого письма, что и ты будешь делать, читая его; но что делать, прошедшего не переменишь, а будущее зависит от меня.
Бог даст, и я исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком; больше всего я надеюсь на юнкерскую службу: она меня приучит к практической жизни, и volens-nolens мне надо будет служить до офицерского чина. Со счастьем, т. е. ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведен и прежде 2-летнего срока. Гвардия идет в поход в конце мая. Я теперь ничего не могу делать, потому что, во-первых, нет денег, которых мне нужно немного (все, кажется), а во-вторых, два метрические свидетельства в Ясной; вели их прислать как можно скорее. Не сердись на меня, пожалуйста, а то я теперь слишком чувствую свое ничтожество, и исполни поскорей мои поручения, Прощай, не показывай письма этого тетеньке, – я не хочу ее огорчать».
Вскоре и эти планы были оставлены. В одном из следующих писем к брату Лев Николаевич пишет:
«В последнем письме моем писал тебе разные глупости, из которых главная та, что я был намерен вступить в конногвардию; теперь же я этот план оставляю только в том случае, ежели экзамена не выдержу и война будет серьезная».
Вероятно, он не нашел войну достаточно «серьезною», потому что в военную службу не поступил.
Весною он возвращается в Ясную Поляну и везет с собою из Петербурга пьющего талантливого немца-музыканта, с которым он познакомился у друзей своих Перфильевых, и страстно отдается музыке. Этого немца звали Рудольфом.
Затем, до своего отъезда на Кавказ в 1851 году, Лев Николаевич проводит время частью в Москве, частью в Ясной Поляне. Вот тут-то период аскетизма, а потом кутежей, охоты, карт, цыган.
За три года жизни Лев Николаевич действительно перепробовал все, что может быть доступно сильной, страстной, даровитой молодой натуре.
За это время он не писал дневника. Ему было некогда. Только с половины 1850 г. он снова берется за него, и начинает он его, конечно, покаянием и самообличением и выражает желание откровенно записать свои воспоминания об этих «беспутно проведенных 3-х годах своей жизни».
Желая начать правильную жизнь, он составляет себе распределение дня с утра до вечера; хозяйство, купанье, дневник, музыка, еда, отдых, чтение, купанье, хозяйство.
Но, разумеется, эти расписания и правила не выполняются, и в дневнике снова отмечается недовольство собой.
Этот период борьбы с самим собой продолжается целые месяцы, и вдруг прорывается волна бурной страсти, сламывающей все внешние преграды.
Как утопающий хватается за соломинку, так и он, увлекаемый страстями, хватался за разные чувства, которые могли бы его удержать от гибели. Одним из таких чувств было самолюбие.
«Люди, которых я считаю нравственно ниже себя, делают дурные дела лучше меня», – писал он в своем дневнике, и потому эти дурные дела становились ему противны, и он бросал их.
Спокойная жизнь в деревне часто помогала ему, утишая его страсти.
Замечательно, что нравственная, благородная струнка звучала в нем даже в таких пошлых занятиях, как в картежной игре. Это была едва ли не одна из самых сильных страстей его. Но и тут он сдерживает себя правилом чести: «играть только с богатыми», т. е. чтобы выигрыш не мог нанести материального ущерба, унизить, разорить игрока.
Часто не в силах будучи совладать с собой, он приходил в отчаяние, но потом снова ободрялся и записывал в дневнике:
«Живу совершенно скотски, хотя и не совсем беспутно; занятия свои почти все оставил и духом очень упал».
Будучи стесненным в деньгах, он замышлял даже торговое предприятие: хотел снять почтовую станцию в Туле. Это было в конце 1850 года. К счастью, дело это не состоялось, и он избежал, таким образом, многих бедствий, которые причинило бы ему столь несвойственное ему занятие. Размышляя о своих неудачах, он раз записал в своем дневнике:
«Вот причины многих ошибок:
1) Нерешительность, т. е. недостаток энергии, 2) обманывание самого себя, 3) торопливость, 4) fausse home, 5) дурное расположение духа, 6) сбивчивость, 7) подражание, 8) непостоянство, 9) необдуманность».
Зиму 1850-51 года он проводит большую часть в Москве, откуда часто пишет своей тетке в Ясную, рассказывая различные подробности своей жизни. В одном письме он так описывает свою квартиру и вообще внешнюю обстановку жизни.
«II se compose de 4 chambres – une salle a manger, ou j'ai deja un royalino, que j'ai loue, un salon meuble de divans, chaises et tables en bois de noyer et couvene de drap rouge et orne de trois grandes glaces, un cabinet, ou j'ai ma table a ecrire, mon bureau et un divan qui me rappelle toujours nos disputes au sujet de ce meuble et une chambre assez grande pour etre chambre a coucher et cabinet de toilette et par dessus tout cela une petite anti-chambre.
Je dine a la maison avec des щи et du каша, dont je me contence parfaitement. Je n'attends que les confitures et la наливка pour avoir tout selon mes habitudes de la campagne.
J'ai un traineau pour 40 r. arg., c'est un пошевни, une espece de traineau tres a la mode. Serge doit savoir ce que c'est; j'ai achete tout l'attirail pour l'attelage que j'ai pour ce moment tres elegant».
По-видимому, тетушка его очень опасается за его поведение в Москве, дает ему советы и старается оградить от дурного знакомства, так как в следующем письме он ей пишет:
«Pourquoi etes-vous tellement monte contre Islenieff – si c'est pour m'en detourner – c'est inutil puisqu'il n'est pas a Moscou. Tout ce que vous dites au sujet de la perversite du jeu est tres vrai et me revient souvent a l'esprit, c'est pourquoi je crois que je ne jouerai plus. «Je crois», mais j'espere bientot vous dire pour sur.
Tout ce que vous dites de la societe est vrai, aussi comme tout ce que vous dites sunout dans vos lettres – primo parce que vous ecrivez comme m-me de Sevigne et secundo – parce que je ne puis, selon mes habitudes, disputer. Vous dites aussi beaucoup de bon sur ma personne. Je suis convaincu que les louages font autant de bien que de mal. Elles font du bien parce qu'elles maintiennent dans les bonnes qualites, qu'on loue, et du mal parce qu'elles augmentent l'amour propre. Je suis sur que les votres ne peuvent que me faire du bien pour la raison qu'elles sont dictees par une amitie sincere – cela va sans dire, autant que je le meriterai.
Je crois les avoir meritees, pendant tout le temps de mon sejour a Moscou, je suis content de moi».
Он наезжает и в Ясную, откуда снова в марте 1851 года он едет в Москву; вернувшись из этой поездки; он писал в дневнике, что цель приезда в Москву была троякая: игра, женитьба и получение места. И ни одна из этих целей не была достигнута. К игре он тогда почувствовал отвращение, сознавая всю низость этого занятия; женитьбу отложил, потому что налицо не было ни одного из трех известных ему оснований женитьбы: любви, рассудка, судьбы. Места он не мог получить за неимением каких-то нужных для этого бумаг.
В это свое пребывание в Москве он пишет своей тетке Татьяне Александровне, от 8-го марта:
«Dernierement dans an ouvrage que je lisais, l'auteur disait que les premiers indices du printemps agissent ordinairement sur le morale des hommes. Avec la nature qui renait on voudrait se sentir renaitre aussi, on regrette le passe, le temps mal employe, on se repent de sa faiblesse, et l'avenir nous parait comme un point lumineux devant nous, on devient meilleur, moralement meilleur. Ceci quant a moi est parfaitement vrai, depuis que j'ai commence a vivre independamment, le printemps me mettait toujours dans les bonnes dispositions, dans lesquelles je perseverai plus ou moins longtemps, mais c'est toujours l'hiver qui est une pierre d'achoppement pour moi – всегда собьюсь.
Au reste en recapitulant les hivers passes, celui-la est sans doute le plus agreable et le plus raisonnable que j'ai passe. Je me suis amuse, je suis alle dans le monde, j'ai garde des souvenirs agreables et avec cela je n'ai pas derange mes finances, ni arrange – c'est vrai».
Следующее его письмо написано уже по приезде с Кавказа брата Николая. Он пишет между прочим:
«L'arrivee de Nicolas a ete pour moi une surprise agreable, puisque j'avais presque perdu l'espoir de le voir arriver chez moi. J'ai ete si content de le voir, que meme j'ai neglige un peu mes devoirs ou plutot mes habitudes. A present je suis de nouveau seui et seui au pied de la lettre: je ne vai nulle part, ni ne recois personne. Je fais des plans pour le printemps et l'ete, les approuvez-vous? Vers la fin du mois de mai je viendrai а Ясная, j'y passerai un mois on deux et tacherai d'y retenir Nicolas aussi longtemps, que possible et puis d'aller avec lui faire une tournee au Caucase».
И вот среди всей этой бурной смены светских удовольствий, игры, припадков чувственности, увлечений цыганами, охотой, вдруг наступали периоды религиозности и смирения. Так, с усердием исполняя обряд говения, он сочиняет даже проповедь, конечно, оставшуюся не прочитанной.
И тут же замечаются порывы серьезного, художественного писательства. Он замышлял еще в 50 году написать повесть из цыганского быта. Другой замысел того же времени был вызван подражанием Стерну, его «Sentimental journey».
«Сидел он раз у окна задумавшись и смотрел на все происходившее на улице: вот ходит будочник, кто он такой, какая его жизнь? А вот карета проехала, кто там и куда едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их?.. Как интересно бы было все это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу!»
Весь этот переменчивый, опасный период жизни был оборван внезапным отъездом на Кавказ.
Часть III. Военная служба (1851–1856)
Глава 7. Кавказ
Неудачная попытка хозяйничать, невозможность установить желательные отношения с крестьянами и та страстная, опасная жизнь, полная всякого рода излишеств, о которой упоминалось в конце предыдущей главы, побудили Льва Николаевича искать случая изменить свой образ жизни.
Жизнь его была такая безалаберная, распущенная, по его собственному свидетельству, что он был готов на всякое изменение ее. Так, когда будущий зять его (муж сестры) Валерьян Петрович Толстой, будучи женихом, ехал назад в Сибирь окончить там свои дела перед женитьбой и отъезжал от дому, Лев Николаевич вскочил к нему в тарантас без шапки, в блузе, и не уехал в Сибирь, кажется, только оттого, что у него не было на голове шапки.
Серьезный случай к перемене жизни, наконец, представился. В апреле 1851 года с Кавказа приехал старший брат Льва Николаевича, Николай; он служил офицером в кавказской армии, приехал в отпуск и должен был вскоре возвратиться назад. Лев Николаевич ухватился за этот случай и весной 1851 года отправился вместе с ним на Кавказ.
Они выехали из Ясной Поляны 20-го апреля и пробыли недели две в Москве, откуда Лев Николаевич писал своей тетке Татьяне Александровне в Ясную:
«J'ai ete a la promenade de Sokolniki par un temps detestable, c'est pourquoi je n'ai rencontre personne des dames de la societe, que j'avais envie de voir. Comme vous pretendez que je suis un homme a epreuves, je suis alle parmi les plebs, dans les rentes bohemiennes. Vous pouvez aisement vous figurer le combat interieur qui s'engagea la-bas pour et centre. Au reste j'en sortis victorieux, c. a. d. n'ayant rien donne que ma benediction aux joyeux descendants des illustres Pharaons. Nicolas trouve que je suis un compagnon de voyage tres agreable, si ce n'etait ma proprete. II se fache de ce que, comme il le dit, je change de linge 12 fois par jour. Moi je le trouve aussi compagnon tres agreable, si ce n'etait sa salete. Je ne sais lequel de nousaraison».
Из Москвы они поехали через Казань, где посетили В. И. Юшкова, мужа их тетки-опекунши, с которой они жили в Казани, а также друга этой тетки, оригинальную, шумную женщину, директрису казанского института, г-жу Загоскину.
Там, у Загоскиной, Лев Николаевич встретил Зинаиду Модестовну Молоствову, бывшую воспитанницу института, и Лев Николаевич испытал к ней поэтическое чувство влюбленности, которое он, как всегда, по своей застенчивости, не решился выразить и которое он увез с собой на Кавказ.
Там же, у Загоскиной, всегда привлекавшей к себе наиболее комильфотных молодых людей, он встретил и почти подружился с молодым правоведом, прокурором Оголиным, и с ним ездил в деревню к В. И. Юшкову. Оголин был тип нового тогдашнего чиновника.
Лев Николаевич рассказывал, как был поражен В. И. Юшков, привыкший видеть прокурора важным, почтенным, седым, в мундире, с крестом на шее и звездой, когда он увидал Оголина и познакомился с ним в самых странных условиях.
«Когда мы приехали с Оголиным и подошли к дому, против которого была группа молодых берез, я предложил Оголину, пока слуга докладывал о приезде, поспорить, кто лучше и выше влезет на эти березы. Когда В. И. вышел и увидал прокурора, лезущего на дерево, он долго не мог опомниться».
Нежные чувства к Зинаиде Модестовне, увезенные Л. Н-чем на Кавказ, вызвали с его стороны, по приезде его туда, эстафету на имя Оголина такого содержания:
Господин
Оголин,
Поспешите,
Напишите
Про всех вас
На Кавказ,
Здорова ль
Молоствова,
Одолжите
Льва Толстова.
Настроение Льва Николаевича во время этой поездки, как он рассказывал мне, продолжало быть самое глупое, светское. Он рассказывал, как именно в Казани брат заставил его почувствовать его глупость. Они шли по городу, когда мимо них проехал какой-то господин на долгуше, опершись руками без перчаток на палку, упертую в подножку.
– Как видно, что этот господин какая-то дрянь, – сказал Лев Николаевич, обращаясь к брату.
– Отчего? – спросил Николай Николаевич.
– А без перчаток.
– Так отчего же дрянь, если без перчаток? – со своей чуть заметной, ласковой, умной, насмешливой улыбкой спросил Николай Николаевич.
Николай Николаевич всегда думал и делал все не потому, что так думают другие, а всегда сам думал и делал то, что считал хорошим. Так, он выдумал поехать на Кавказ не как обыкновенно, через Воронеж и землю Войска Донского, а на лошадях до Саратова, а от Саратова по Волге до Астрахани и от Астрахани на почтовых в станицу. Так он и сделал.
В Саратове взяли косовушку, уставили в нее тарантас и с помощью лоцмана и двух гребцов поплыли, где парусом, где на веслах, где по течению реки. Путешествие длилось около трех недель, пока приехали в Астрахань. Оттуда Лев Николаевич писал своей тетке:
«Nous sommes a Ascracan et sur noire depart, pour ce qui fait. que nons avons encore un voyage de 400 k. a faire. J'ai passe a Kasan une semaine des plus agreables. Mon voyage jusqu'a Saratoff a ere desagreable, mais en revanche, de la le trajet en petit bateau jusqu'a Astracan – tres poetique et plein de charmes par la nouveaute des lieux et par la maniere meme de voyager pour moi. J'ai ecrit hier une longue lettre a Marie ou je lui pane de mon sejour a Kasan. Je ne vous en dis rien de crainte de me repeter, quoique ja suis sur que vous ne confondrez pas les deux lettres. Je me trouve tres content jusqu'a present de mon voyage. J'ai beaucoup de Lchoses qui me font penser et puis le changement meme des lieux est agreable. En passant par Moscou je me suis abonne, de sone que J'ai beaucoup de lectures que je fais meme en тарантас. Puis comme vous le pensez bien la societe de Nicolas contribue beaucoup a mon contentement. Je ne cesse de penser a vous et a tons les miens; je me reproche meme quelquefois d'avoir quitte сене vie que me rendait si douee votre affection, mais ce n'est qu'un retard et je n'aurai que pins de plaisir a vous revoir. Si je n'etais presse, j'aurais ecrit a Serge, mais je remecs cela an moment ou je serai case et plus tranquille. Embrassez-le de ma part et dites lui que je me repens beaucoup de la froideur qu'il у a eu entre nous avant mon depart et de laquelle je n'accuse que moi».
Чтобы были читателю понятны факты кавказской жизни, входящие в биографию Льва Николаевича, а также в его кавказские рассказы, мы считаем нужным в кратких словах рассказать о том, что надо разуметь под словом «Кавказ».
Московское царство, усилившись настолько, чтобы быть в состоянии бороться с татарскими племенами, стало понемногу оттеснять их на юго-восток и, покорив царства Казанское и Астраханское, пришло в столкновение с дикими горскими племенами, населявшими северные склоны Кавказских гор, и для борьбы с ними к началу 19-го столетия образовало целую линию казацких станиц по левому берегу Терека и по правому берегу Кубани.
С другой стороны, Грузинское царство, находившееся по южную сторону Кавказских гор и до тех пор независимое, с царем своим Гераклием II, в начале 19-го столетия перешло в подданство России. По политическим соображениям покорение горских племен, лежавших между Грузией и Россией, стало неизбежным, и покорение это длилось более полустолетия.
От линии береговых казачьих станиц по Тереку и Кубани русские стали понемногу подвигаться и далее, в предгорья. Но большей частью ограничивались одними лишь набегами; нападали военными отрядами на горские аулы, уничтожали пастьбы, угоняли скот, забирали, насколько удавалось, пленных и с этой добычей уходили назад к своим линиям. Горцы, со своей стороны, также не оставались в долгу: они провожали отступавшие после таких набегов отряды и заставляли их нести большие потери от меткого огня своих винтовок; они укрывались завалами в лесах и узких ущельях, а иногда появлялись внезапно и в самих станицах, производили жестокую резню и уводили в плен к себе в горы мужчин и женщин. Борьба эта иногда временно затихала и, напротив, принимала более кровавый характер, когда на стороне нашего противника появлялись личности, успевавшие объединить под своим началом наиболее сильные и воинственные племена, возбудив их фанатизм проповедью священной войны против неверных. Наиболее затруднений принесло русским и наиболее потерь заставило их понести самое воинственное из кавказских племен – чеченское, живущее на лесистых равнинах правого берега Терека, по течению притоков его – Сунжи, Аргуна и других, и выше, в горных ущельях Ичкерии. С нашей стороны предприимчивость также усиливалась или ослабевала в зависимости от таланта и энергии личности, получавшей главное начальство над военными действиями.
Дело приняло решительный оборот с назначением в 1856 году кавказским наместником князя Барятинского. Пользуясь личным влиянием на императора Александра II, он собрал на Кавказе до тех пор небывалой численности двухсоттысячное войско и значительную долю этих сил направил против Чечни, Ичкерии и Дагестана, объединенных в это время под начальством хорошо известного Шамиля.
Талант, энергия этого вождя, фанатизм, отвага признававших его своим имамом горцев, – все было сломлено под давлением навалившейся на них громадной силы, руководимой ни перед чем не останавливавшимся Евдокимовым: в 1857 году пала перед ним резиденция Шамиля в центре Ичкерии, аул Ведено, а в 1859 году сдался князю Барятинскому и сам Шамиль в своей новой дагестанской твердыне – Гунибе.
Князь Барятинский до назначения своего кавказским наместником является в начале 50-х годов на Северном Кавказе начальником левого фланга кавказской армии.
Вот к этому-то времени относится и появление на Кавказе Льва Николаевича Толстого, и к этому времени и к этой местности относятся события, описанные Львом Николаевичем в его кавказских рассказах: «Набег», «Казаки», «Рубка леса», «Встреча в отряде».
Из Астрахани оба брата поехали на почтовых через Кизляр в станицу Старогладовскую, к месту служения Николая Николаевича. Лев Николаевич явился на Кавказ частным лицом и поселился вместе со своим братом.
Первое впечатление, произведенное на него Кавказом, не было ошеломляющим. Он так описывает его в письме к своей тетке, вскоре по приезде на Кавказ:
«Je suis arrive sain et sauf, mais un peu triste vers la fin du mois de mai dans la Старогладовская. J'y ai vu de pres le genre de vie que mene Nicolas, et j'y ai fait la connaissance des officiers qui font la societe. Le genre de vie n'est pas tres attrayant, a ce qu'il m'a para d'abord, puisque le pays, que je m'attendais a trouver fort beau ne l'est pas du tout. Comme la станица est situee aur un terrain bas, il n'y a bas de point de vue et puis le logement est mauvais de meme que tout ce qui fait le comfort de la vie. Pour ce qui est des officiers, ce sont, comme vous pouvez vous figurer, des gens sans education, mais avec cela de tres braves gens et surtout aimant beaucoup Nicolas.
Алексеев, son chef, est un petit bonhomme белокуренький tirant sur le roux с усиками и бакенбардами, говорящий пронзительным голосом, mais excellent chretien, rappelant un peu А. С. Волков, mais pas cafard comme lui. Puis Б… un jeune officier – enfant et bon enfant, rappelant Петрушка. Puis un vieux capitaine Билковский des kosaks de l'Oural – un vieux soldat simple, mais noble, brave et bon. Je vous avouerai qu'au commencement beaucoup de choses me choquaient dans cette societe, mais je me suis habitue, sans toutefois me Her avec ces messieurs. J'ai trouve un heareux moyea dans lequel il n'y a ni fierce ni familiarite. Au reste en ceci je n'avais qu'a suivre l'exemple de Nicolas».
Но в Старогладовской им пришлось пробыть недолго.
Н. Н. Толстой тотчас по прибытии был послан на очередную службу в укрепленный лагерь Старый Юрт, устроенный для прикрытия больных в Горячеводске, на только что открытых тогда горячих источниках с очень сильными целебными свойствами. Лев Николаевич последовал за ним. Мы заимствуем описание этого места снова из письма Льва Николаевича к его тетке, написанного им по приезде туда, в июле 1851 года:
«Nicolas est parti dans une semaine apres son arrivee et moi je l'y suivis de sorte que nous sommes presque depuis trois semaines ici ou nous logeons dans une tente. Mais comme le temps est beau et que je me fais un peu a ce genre de vie, je me trouve tres bien. Ici il у a des coups d'oeil magnifiques a commencer par l'endroit ou sont les sources. C'est une enorme momagne de pierres l'une sur l'autre dont les unes se sont detachees et torment des especes de grottes, les autres restent suspendues a une grande hauteur. Elles sont toutes coupees par les torrents d'eau chaude, qui tombent avec bruit dans quelques endroits et couvrent, surtout le matin, toute la partie elevee de la monlagne d'une vapeur blanche qui se detache continuellement de cette eau bouillante. L'eau est tellement chaude qu'on cuit dedans les oeufs вкрутую en trois minutes. Au milieu de ce ravin sur le torrent principal il у a trois moulins, l'un au dessus de l'autre qui sont constants d'une maniere toute particuliere et tres pittoresque. Toute la journee les femmes tartares ne cessent de venir au dessus et au dessous de ces monlins pour laver leur linge. Il faut vous dire qu'elles lavent avec les pieds. C'est comme une fourmilliere toujours remuante. Les femmes sont pour la plupan belles et bien fakes. Les costumes des femmes orientates malgre leur pauvrete sont gracieux. Les groappes pittoresques que forment les femmes, joints a la beaute sauvage de l'endroit font un coup d'oeil veritablement admirable. Je reste tres souvent des heures a admirer ce paysage. Puis le coup d'oeil du haut de la montagne est encore plus beau et tout a fait dans un antre genre. Mais je crains de vous ennuyer avec mes descriptions.
Je suis tres content d'etre aux eaux, puisque j'en profite. Je prends des bains ferrugineux et je ne sens plus de donleur aux pieds. J'avais toujours des rhumatismes, mais pendant notre voyage sur l'eau, je crois que je me suis encore refroidi. Je me suis rarement aussi bien porte qu'a present et malgre les grandes chaleurs je fais beaucoup de mouvement.
Ici le genre des officiers est le meme que celui, dont je vous at parle; il у en a beaucoup. Je les connais tous, et mes relations avec eux sont les memes».
Старый Юрт был большой аул в 1500 душ населения, действительно замечательный по своему красивому горному положению. Выше аула в горе бил горячий серный ключ. Температура его была настолько высока, что, по рассказу Льва Николаевича, собака его брата, упавши в ручей, обварилась и околела. Целебные качества этого ключа несравненно выше пятигорских.
Из этого аула Лев Николаевич ездил в набег в качестве волонтера. В нем он пережил чудные минуты молодого, поэтического восторга.
Особенно памятна была ему одна ночь, которую он описал в своем дневнике с такой неподражаемой духовной красотой:
«11 июня 1851 года. Старый Юрт.
Вчера я почти всю ночь не спал; пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которую я испытал на молитве, передать невозможно. Я прочел все молитвы, которые обыкновенно творю: отче, богородицу, троицу, милосердия двери, воззвание к ангелу хранителю, и потом остался еще на молитве. Ежели определять молитву просьбой или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высочайшего и хорошего; но чего, – я передать не могу, хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим, я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил его, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все – и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств – веры, надежды и любви – я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера, – это любовь к Богу, любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное. Как страшно мне было смотреть на всю мелочные, порочные стороны жизни! Я не мог постигнуть, как они могли завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно свое! Я не чувствовал плоти, я был… но нет, плотская, мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустую сторону жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубил мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог.
Вечное блаженство здесь невозможно. Страдания необходимы. Зачем? Не знаю. И как я смею говорить: не знаю! Как смел я думать, что можно знать пути Провидения! Оно источник разума, и разум хочет постигнуть…
Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить его. Благодарю его за минуту блаженства, которая показала мне и ничтожность, и величие мое. Хочу молиться, но не умею. Хочу постигнуть, но не смею – предаюсь в волю Твою.
Зачем писал я все это? Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои; а были так высоки!»
Эти порывы религиозного восторга сменялись часто временами тоски и апатии; так, 2-го июля, живя в том же Старом Юрте, он записывает такие мысли:
«Сейчас я думаю, вспоминая о всех неприятных минутах моей жизни, которые в тоску одни лезут в голову… – нет, слишком мало наслаждений, слишком способен человек представлять себе счастье, и слишком часто так, ни за что судьба бьет нас больно, больно задевает за нежные струны, чтобы любить жизнь, и потом что-то особенно сладкое и великое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен кажусь я себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками и приходить в отчаяние, что у меня левый ус выше правого, и я два часа расправляю его перед зеркалом».
Так как Лев Николаевич, особенно первое время жизни на Кавказе, неохотно расставался с братом, то ему приходилось часто менять свое место жительства. Главная квартира и штаб батареи, где служил его брат, были в Страгладовской, но часто его высылали в Старый Юрт на передовую позицию, и Лев Николаевич сопровождал его.
Этим диким станицам и аулам суждено было стать историческим местом. Здесь выношены были художественные образы первых произведений Толстого и рождены первые плоды его литературного творчества.
Чудная природа Северного Кавказа, и горы, и Терек, и казацкая удаль, и почти первобытная простота жизни – все это в своем гармоническом целом послужило колыбелью этим первым плодам и указало путь всемирному гению, вышедшему на борьбу за идеал, за искание истины, смысла человеческой жизни.
Именно приближение к Старому Юрту Лев Николаевич изобразил в повести «Казаки», так ярко рисуя впечатление, произведенное на него величественной горной кавказской природой:
«Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами, и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же.
– Что это? Что это такое? – спросил он у ямщика.
– А горы, – отвечал равнодушно ногаец.
– И я тоже давно на них смотрю, – сказал Ванюша. – Вот хорошо-то! Дома не поверят.
На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось», – как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, – все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу, и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы… За Тереком виден дым в ауле; а горы… Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы… Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы… Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы…»
В августе он снова в Старогладовской.
Из повести «Казаки», носящей на себе автобиографический характер, мы можем себе составить приблизительное понятие о том, как проводил Лев Николаевич время в станице. Попытки сближения с народом – казаками, охота, созерцание красот природы и непрерывная, никогда не покидавшая этого человека внутренняя борьба, ярко изображенная им в его произведениях – вот жизнь Льва Николаевича, соответствующая этому периоду.
«Отчего я счастлив и зачем я жил прежде?» – говорил себе Оленин, сидя в зелени первобытного кавказского леса.
«Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастья!»
И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье вот что, – сказал он сам себе, – счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человеке вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви – может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение…»
Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно, – все думал он, – отчего же не жить для других?»
Голос любви и тогда уже звучал могучим аккордом в душе молодого человека, едва вошедшего в общественную жизнь.
Но внешние события шли сами за собой, увлекая сильную животную природу человека по привычной для нее дороге.
Станичная жизнь для молодого, страстного человека не обходится без романической любви. Лев Николаевич влюбляется в казачку. История этой любви изображена в его повести «Казаки».
В этой повести ярко обрисованы все стадии этой неудовлетворенной любви, но лучше всего передает о ней сам автор в своем письме к московским знакомым. В этом письме ярко выступают и любовь автора к дикой природе, и страстное желание слиться с ней, и страдания от невозможности этого, потому что автор, по своим культурным привычкам, уже отошел от нее, и между ним и ею образовалась ничем не заполнимая пропасть. Вот самая яркая, существенная часть этого письма:
«Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой: вечные, неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи, вы или я. Коли бы мы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне, вместо моей хаты, моего леса и моей любви, эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это, – мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти усаживания и пересаживания, это наглое сводничанье пар, и эта вечная сплетня, притворство; эти правила – кому руку, кому кивок, кому разговор, и, наконец, эта вечная скука, в крови переходящая от поколения к поколению (и все сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно и поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желания счастья и за меня, и за себя. Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. «Еще он, избави боже, женится на простой казачке и совсем пропадет для света!» – воображаю, говорят они обо мне с истинным состраданием. А я только одного и желаю, совсем пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простой казачке и не смею этого потому, что это было бы верх счастья, которого я недостоин.
Три месяца прошло с тех пор, как я первый раз увидал казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотой гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я ее; но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которую я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с ней и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этой женщиной существует неразрывная, хотя непризнанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет задушевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? – спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству.
После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с ней, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких отношениях она осталась в моих глазах все столь же чистой, неприступной и величавой. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она была ласкова, но большей частью каждым взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день, с притворной улыбкой на губах, я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желании в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь, но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед нем и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить, потому что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал ее то своей любовницей, то своей женой и с отвращением отталкивал и ту, и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женой Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, – кто я? и зачем я? – тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив».
Но Лукашкой он стать не мог, а потому и не мог обрести счастья на этом пути.
В сентябре он пишет своей тетке письмо, в котором уже ясно проглядывает будущий писатель. Что особенно поражает – это его серьезное отношение к выражению своей мысли; вероятно, уже тогда в голове его толпились рои мыслей и образов, и он выбирал те, которые мог изложить на бумаге. Вот как он выражает это чувство:
«Vous m'avez dit plusieurs fois que vous n'avez pas l'habitude d'ecrire des brouillons pour vos lettres, je suis votre exemple, mais je ne m'en trouve pas aussi bien que vous, car il m'arrive fort souvent de dechirer mes lettres apres les avoir relues. Ce n'est pas par fausse home que je le fais. Une faute d'orthographe un pate, une phrase mal tournee ne me genent pas mais c'est que je ne puis pas parvenir a savoir diriger ma plume et mes idees. Je viens de dechirer une lettre que j'avais acheyee pour vous, parce que j'y avals dit beaucoup de choses que je ne voulais pas vous dire et rien de ce que je voulais vous dire Vous croyez peut-etre que c'est dissimulation, et vous direz, qu'il est mal de dissimuler avec les personnes qu'on aime et dont on se sent aime. Je conviens, mais convenez aussi qu'on dit tout a un indifferent, et que plus une personne vous est, chere, plus il у a de choses qu'on voudrait lui cacher».
Чувствуя прилив молодой энергии и не зная, куда девать ее, Лев Николаевич часто рисковал своей жизнью и отправлялся в опасные экскурсии.
Так, раз он отправился в сопровождении своего друга, казака Епишки (в повести «Казаки» описанного под именем Ерошки) в аул Хасаф-Юрт, в горы; эта поездка считалась очень опасной, так как по дороге случались нападения горцев.
Благополучно возвращаясь оттуда, Лев Николаевич встретил своего родственника, Илью Толстого; родственник пригласил Льва Николаевича присоединиться к нему и повез его в квартиру своего приятеля, главнокомандующего кн. Барятинского; таким образом Льву Николаевичу представился случай познакомиться довольно близко с главнокомандующим. Тот выразил ему свое удовольствие и похвалу за веселый и бодрый вид, который главнокомандующий заметил в нем, видя его раз в набеге. При этом он посоветовал ему поскорее подавать прошение о поступлении на службу, так как Лев Николаевич все еще был частным лицом и участвовал в делах добровольно. Лестный отзыв главнокомандующего и советы родственника побудили, наконец, Льва Николаевича ускорить свое намерение, и он подал прошение о принятии его на службу.
Август и сентябрь он пробыл еще в Старогладовской, а в октябре вместе с братом Николаем отправился в Тифлис. Брат его скоро вернулся, а Лев Николаевич остался в Тифлисе для сдачи экзамена и определения на службу. Оттуда он пишет тетке Татьяне Александровне:
«Nous sommes partis effectivement le 25 et apres 7 jours de voyage fort ennuyeux, a cause du manque de chevaux presque a chaque relais et fort agreable a cause de la beaute du pays qu'on passe. Le 1-er de ce mois nous etions arrives.
Tifliss est une ville tres civilisee qui singe beaucoup Petersbourg et reussit beaucoup a l'imiter, la societe у est choisie et assez nombeuse, il у a un theatre russe et un opera italien dont je profile autant que me le permettent mes pauvres moyens. Je loge a la colonie allemande-c'est un faubourg, mais qui a pour moi 2 grands avantages, celui d'etre un fort joli endroit entoure de jardins et de vignes, ce qui fait qu'on s'y croit plutot a la campagne qu'en ville (il fait encore tres chaud et tres beau, il n'y a eu ni neige, ni gelee jusqu'a present) le 2-eme avantage est celui que je paye pour 2 chambres assez propres ici 5 rbs. arg par mois, tandis qu'en ville on ne pourrait avoir un logement pareil moins do 40 rbs arg. par mois. Par dessus tout j'ai gratis la pratique de la langue allemande, j'ai des livres, des occupations et du loisir, puisque personne ne vient me deranger, de sorte qu'en somme je ne m'ennuie pas.
Vous rappelez-vous, bonne tante, un conseil que vous m'avez donne jadis – celui de faire des romans. Et bien! je suis votre conseil et les occupitions dont je vous parle consistent a faire de la litterature. Je ne sais si ce que j'ecris paraitra jamais dans le monde, mais c'est un travail qui m'amuse et dans lequel je persevere depuis trop longtemps pour l'abandonner».
Интересно письмо это тем, что изображает нам, с какой скромностью зарождался этот великий талант, не знавший в то время еще себе цены.
Около двух месяцев Лев Николаевич хворал и лечился и, пользуясь свободным, уединенным временем, писал свою первую повесть. Кроме того, часть времени его уходила на хлопоты по определению его на службу, что было довольно трудно за неимением нужных бумаг.
23 декабря 1851 года он пишет брату Сергею следующее письмо с характерными подробностями тифлисской и станичной жизни:
«На днях давно желанный мною приказ о зачислении меня фейерверкером в 4-ю батарею должен состояться, и я буду иметь удовольствие делать фрунт и провожать глазами мимо едущих офицеров и генералов. Даже теперь, когда я прогуливаюсь по улицам в своем шармеровском пальто и в складной шляпе, за которую я заплатил здесь 10 рублей, несмотря на всю свою величавость в этой одежде, я так привык к мысли скоро одеть серую шинель, что невольно правая рука хочет схватить за пружины складную шляпу и опустить ее вниз. Впрочем, ежели мое желание исполнится, то я в день же своего определения уезжаю в Старогладовскую, а оттуда тотчас же в поход, где буду ходить и ездить в тулупе или черкеске, и тоже по мере сил моих буду способствовать с помощью пушки к истреблению хищников и непокорных азиатов.
Сережа, ты видишь по письму моему, что я в Тифлисе, куда приехал еще 1 ноября, так что немного успел поохотиться с собаками, которых там купил (в Старогладовской), а присланных собак вовсе не видал. Охота здесь (т. е. в станице) – чудо! Чистые поля, болотца, набитые русаками, и острова не из леса, а из камыша, в котором держатся лисицы. Я всего девять раз был в поле, от станицы в 10 и 15 верстах, и с двумя собаками, из которых одна отличная, а другая дрянь; затравил двух лисиц и русаков с 60. Как приеду, так попробую травить коз.
На охотах с ружьями на кабанов, оленей я присутствовал неоднократно, но ничего сам не убил. Охота эта тоже очень приятна, но, привыкнув охотиться с борзыми, нельзя полюбить эту. Так же, как ежели кто привыкнул курить турецкий табак, нельзя полюбить Жуков, хотя и можно спорить, что этот лучше.
Я знаю твою слабость:, ты, верно, пожелаешь знать, кто здесь были и есть мои знакомые и в каких я с ними отношениях. Должен тебе сказать, что этот пункт нисколько меня здесь не занимает, но спешу удовлетворить тебя. В батарее офицеров немного; поэтому я со всеми знаком, но очень поверхностно, хотя и пользуюсь общим расположением, потому что у нас с Николенькой всегда есть для посетителей водка, вино и закуска; на тех же самых основаниях составилось и поддерживается мое знакомство с другими полковыми офицерами, с которыми я имел случай познакомиться в Старом Юрте (на водах, где я жил лето) и в набеге, в котором я был. Хотя есть более или менее порядочные люди, но так как я и без офицерских бесед всегда имею более интересные занятия, я остаюсь со всеми в одинаковых отношениях. Подполковник Алексеев, командир батареи, в которую я поступаю, человек очень добрый и тщеславный. Последним его недостатком я, признаюсь, пользовался и пускал ему некоторую пыль в глаза, – он мне нужен. Но и это я делаю невольно, в чем и раскаиваюсь. С людьми тщеславными сам делаешься тщеславен.
Здесь, в Тифлисе, у меня 5 человека знакомых. Больше я не приобрел знакомств, во-первых, потому что не желал, а во-вторых, потому что не имел к тому случая, – я почти все время был болен и неделю только что выхожу. Первый знакомый мой – Багратион, петербургский (товарищ Ферзена). Второй – князь Барятинский. Я познакомился с ним в набеге, в котором под его командой участвовал, и потом провел с ним один день в одном укреплении вместе с Ильей Толстым, которого я здесь встретил. Знакомство это, без сомнения, не доставляет мне большого развлечения, потому что ты понимаешь, на какой ноге может быть знаком юнкер с генералом. Третий знакомый мой – помощник аптекаря, разжалованный поляк, презабавное создание. Я уверен, что князь Барятинский никогда не воображал, в каком бы то ни было списке, стоять рядом с помощником аптекаря, но вот же случилось. Николенька здесь на отличной ноге; как начальники, так и офицеры-товарищи все его любят и уважают. Он пользуется сверх того репутацией храброго офицера. Я его люблю больше, чем когда-либо, и когда с ним, то совершенно счастлив, а без него скучно.
Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость. Еще можешь с прискорбием рассказывать о том, что на днях убит известный храбрый и умный генерал Слепцов. Ежели ты захочешь знать, больно ли ему было, то этого не могу сказать».
6 января 1851 года, из Тифлиса же, Лев Николаевич пишет замечательное письмо своей тетке, изливая в этом письме всю нежность и любовь к своей воспитательнице:
«Je viens de recevoir votre lettre du 24 Novembre e(je vous у reponds le moment meme (comme j'en ai pris l'habitude). Dernieremem je vous ecrivais que votre-lettre m'a fait pleurer et j'accusais ma maladie de cette faiblesse. J'ai eu tort. Toutes vos lettres me font depuis quelque temps le meme effet. J'ai toujours ete Лева-рева. Avant cette faiblesse me faisait honte, mais les larmes que je erse en pensant a vous et a votre amour pour nous sont tellement douees que je les laisse couler, sans aucune faussehonte. Votre lettre est trop pleine de tristesse pour qu'elle ne produise pas sur moi le meme effet. C'est vous que toujours m'avez donne des conseils et quoique malheureusement ja ne les aie pas suivis quelquefois, je voudrais toute ma vie n'agir que d'apres vos avis. Permettez-rnoi pour le moment de vous dire l'effet qu'a produit sur moi votre lettre et les idees qui me sont venues en la lisant Si je vous parle trop franchement, je sais que vous me de pardonnerez en faveur de l'amour que j'ai pour vous En disam que c'est votre tour de nous quitter pour aller rejoindre ceux qui ne sont plus et que vous avez tant aimes, en disant que vous demandez a Dieu de mettre un terme a votre existence qui vous semble si insupportable et isolee, – pardon, chere tame, mais il me parait qu'en disant cela vous offensez Dieu et moi et nous tous qui vous aimons tant Vous demandez a Dieu la mort, c. a. dire le plus grand malheur qui puisse m'arriver (ce n'est pas une phrase, mais Dieu m'est temoin que les deux plus grands malheurs qui puissent m'arriver, ce serait votre mort ou celle de Nicolas – les deux personnes que j'aime plus que moi-meme). Que resterait-il pour moi, si Dieu exaucait votre (priere? Pour faire plaisir a qui, voudrais je devenir, meilleur, avoir de bonnes qualites, avoir une bonne reputation dans le monde? Quand je fais des plans de bonheur pour moi, J'idee que vous partagerez et jouirez de mon boiiheur m'est toujours presente. Quand je fais quelque chose de bon, je suis toment de moi– meme, parce que je sais que vous serez contente de moi. Quand j'agis mal, ce que je crains le plus – c'est de vous faire du chagrin. Votre amour est tout pour moi, et vous demandez a Dieu qu'il nous separe! Je ne puis vous dire le sentiment que j'ai pour vous, la parole ne suffit pas pour vous l'exprimer, et je crains que vous ne pensiez que j'exagere et cependant je pleure a chaudes larmes en vous ecrivam. C'est a cette penible separation que je dois de savoir, quelle amie j'ai en vous et combien je vous aime. Mais est-ce que je suis le seui a avoir un sentiment pour vous, – et vous demandez a Dieu de mourir! Vous dites que vous Ktes isolee, quoique je sois separe de vous, mais si vous croyez a mon amour, cette idee aurait pu faire contrepoids a votre douleur; pour moi je ne me sentirai isole nulle pan jusqu'a ce que je me sache aime par vous comme je le suis.
Je sens cependant que c'est un mauvais sentiment qui me dicte mes paroles, je suis jaloux de vorre chagrin».
Дальше, в том же письме, он рассказывает случай, интересный как с бытовой, так и с психологической стороны.
«Aujourd'hui il m'est arrive une des ces choses qui m'auraient fait croire en Dieu, si je n'y croyais deja fennement depuis quelque temps.
L'ete а Старый Юрт tous les officiers qui у ecaient ne faisaient que jouer et assez gros jeu. Comme en vivant au camp il est imposs ble de ne pas se voir souvent, j'ai tres souvent assiste au jeu et malgre les instances qu'on me faisait j'ai tenu bon pendant un mois, mais un beau jour en plaisamant, j'ai mis un petit enjeu, j'ai perdu, j'ai recommence, j'ai encore perdu, la chance en etait mauvaise, la passion du jeu s'est reveillee, et en 2 jours j'ai perdu tout ce que j'avais d'argent et celui que Nicolas m'a donne (a peu pres 250 r. arg.) et par dessus cela encore 500 r. arg pour lesquels j'ai donne une lettre de change payable au mois deJanvier 1852.
II faut vous dire que pres du camp il у a un аул qu'liabitenc les чеченцы. Un jeune garcon (чеченец) Sado venait au camp et jouait, mais comme il ne savait pas compter et inscrire il у avait des chenapans qui le trichaient. Je n'ai jamais voulu jouer pour cette raison centre Sado et meme je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il jouat, parce qu'on le trompait et je me suis propose de jouer pour lui par procuration. II m'a ete tres reconnaissant pour ceci et m'a fait cadeau d'une, bourse. Comme c'est l'usage du cette nation de se faire des cadeaux mutuels, je lui ai donne un miserable fusil que j'avais achete pour 8 rb. II faut vous dire que pour devenir кунак, ее qui veut dire ami, il est d'usage de se faire des cadeaux et puis de manger dans la maison du кунак. Apres cela d'apres l'ancien usage de ces peuples (qui n'existe presque plus que par tradition) on devient ami a la vie et a la mort c, a. d. que si je lui demande tout son argent, ou sa femme, ou ses armes, ou tout ce qu'il a de plus precieux, il doit me les donner, et moi aussi je ne dois rien lui refuser. Sado m'a engage de venir chez lui et d'etre кунак. J'y suis alle. Apres m'avoir regale a leur maniere, il m'a propose de choisir dans sa maison tout ce que je voudrais – ses armes, son cheval… tout. J'ai voulu choisir ce qu'il у avait de moins cher et j'ai pris une bride de cheval montee on argent, mais il m'a dit que je l'offensais et m'a oblige de prendre une шашка qui vaut au moins 100 r. arg.
Son pere est un homme assez riche, mais qui a son argent enterre et ne donne pas le sou a son fils. Le fils pour avoir de l'argent va voler chez l'ennemi des chevaux, des vaches; quelquefois il expose 20 fois sa vie pour voler une chose qui ne vaut pas 10 г., mais ce n'est pas par cupidite qu'il le fait, mais par genre. Lе plus grand voleur est tres estime et on l'appelle джигит, молодец. Tantot Sado a 1000 r. arg, tantot pas le sou. Apres une visite chez lui je lui ai fait cadeau de la montre d'argent de Nicolas, et nous sommes devenus les plus grands amis du monde Plusieurs fois il m'a prouve son devouement en s'exposant a des dangers pour moi, mais ceci pour lui n'est rien – c'est devenu une habitude et un plaisir.
Quand je suis parti de Старый Юрт et que Nicolas у est reste, Sado venait chez lui tous les jours et disait qu'il ne savait que devenir sans moi et qu'il s'ennuyait temblement. Par une lettre, je faisais connaitre a Nicolas que mon cheval etant malade, je le priais de m'en trouver un а Старый Юрт, Sado ayant appris cela, n'eut rien de plus presse que do venir chez moi et de me donner son cheval, malgre tout ce que j'ai pu faire pour refuser.
Apres la betise que j'ai fait de jouer а Старый Юрт, je n'ai plus repris les cartes en mains, et je faisais conrinuellement la morale a Sado qui a la passion du jeu et quoequ'il ne connaisse pas le jeu, a toujours un bonheur etonnant. Hier soir je me suis occupe a penser a mes affaires pecuniaires, a mes dettes, je pensais, comment je ferais pour les payer. Ayant longtemps pense a ces choses j'ai vu que si je ne depense pas trop d'argent, toutes mes dettes ne m'embarrasseront pas et pourront petit a petit etre payees dans 2 ou 3 ans; mais les 500 rbs., que je devais payer ce mois, me mettaient au desespoir. Cette belise d'avoir fait les dettes que j'avais en Russie et de venir en faire de nouvelles ici me mettent au desespoir. 1-е soir en faisant ma priere, j'ai prie Dieu qu'il me tire de cette desagreable position, et avec beaucoup de ferveur. «Mais comment est-ce que je puis me tirer de cette affaire?» pensai-je en me couchant. II ne peut rien arriver qui me donne la possibilite d'acquitter cette dette. Je me represemais deja tous les desagrements que j'avais a essuyer a cause de cela».
Как он подаст ко взысканию, как по начальству от меня будут требовать отзыва, почему я не плачу и т. д. «Помоги мне, Господи», – сказал я и заснул.
Le lendemain je recois une lettre de Nicolas a laquelle etait jointe ia votre et plusieurs autresil m'ecrit:
«На днях был у меня Садо; он выиграл у Кнорринга твои векселя и привез их мне. Он так был доволен этому выигрышу, так счастлив и так много меня спрашивал: «как думаешь, брат рад будет, что я это сделал?», что я его очень за это полюбил. Этот человек действительно к тебе привязан».
N'est-ce pas etonnant que de voir son voeu aussi exauce le lendemain meme C. a. d. qu'il n'y a rien d'aussi etonnant que la bonte divine pour un etre nui la merite si peu que moi? Et n'est-ce pas que le trait de devouement de Sado est admirable? Il sait que j'ai un frere Serge, qui aime les chevaiix et comme je lui ai promis de le prendre en Russie quand j'y irai, il m'a dit, que dit-il lui en couter 100 fois la vie, il volera le meilleur cheval qu'il у ait dans les montagnes, et qu'il le lui amenera.
Faites, je vous prie, acheter a Toula un шестиствольный пистолет et de me l'envoyer et une коробочка с музыкой, si cela ne coute pas trop cher. Ce sont des choses qui lui feront beaucoup du plaisir».
Интересен этот рассказ особенно тем, что показывает, какой путь пройден Л. Н-чем в своем духовном развитии. От наивной мистической веры во вмешательство божества в свои картежные и денежные дела и до полной религиозной свободы, исповедуемой им теперь.
Наконец, через несколько дней после этого письма, устроив свои служебные дела, Л. Н-ч возвращается в станицу Старогладовскую. С дороги, со станции Моздок, вероятно, долго ожидая лошадей, он пишет своей тетке длинное письмо, как всегда, полное самых глубоких религиозных мыслей, преисполненное нежности к любимому существу и с мечтами и планами о будущем скромном семейном счастье:
«Вот мысли, которые пришли мне на ум. Я постараюсь передать их вам, потому что я думал о вас. Я очень переменился нравственно, и это со мною уже было столько раз. Впрочем, я думаю, что это со всеми так бывает. Чем более живешь, тем более меняешься; вы человек опытный, скажите, ведь это правда? Я думаю, что недостатки и качества, основы характера, остаются те же, но взгляды на жизнь, на счастье должны изменяться с годами. Год тому назад я думал найти счастье в удовольствиях, в движениях; теперь же, напротив, отдых физический и моральный – это то, чего я желаю. Но я представляю себе состояние покоя без скуки, с тихой радостью любви и дружбы – это для меня верх счастья. Впрочем, очарование покоя чувствуешь только после усталости и радости любви – только после ее лишений. И вот я лишен с некоторого времени и того, и другого, и потому-то я так стремлюсь к ним. Мне нужно быть лишенным их еще на сколько времени? Бог знает. Я не сумею сказать почему, но я чувствую, что это нужно. Религия и опыт моей жизни, как бы мала она ни была, научили меня, что жизнь есть испытание. Во мне она больше, чем испытание, – она есть искупление моих грехов.
Мне кажется, что странная мысль поехать на Кавказ внушена мне свыше. Это рука Божия вела меня, и я непрестанно благодарю Его. Я чувствую, что здесь я стал лучше (это еще немного, потому что я был очень дурен), и я твердо уверен, что все, что может со мной случиться здесь, будет мне на пользу, потому что сам Бог этого захотел. Быть может, это слишком смелая мысль, тем не менее у меня есть это убеждение. Поэтому-то я переношу невзгоды и лишения физические, о которых я говорю (какие могут быть физические лишения для здорового малого 23 лет?), как бы не чувствуя их, даже с некоторым наслаждением, думая о счастье, которое меня ожидает.
Вот как я его себе представляю:
После неопределенного числа лет, – ни молодой, ни старый, я в Ясной, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей. Вы также живете в Ясной. Вы немного постарели, но еще свежи и здоровы. Мы ведем жизнь, которую вели раньше, я работаю по утрам, но мы видимся почти целый день. Мы обедаем. Вечером я вам читаю что-нибудь нескучное для вас, потом мы беседуем: я рассказываю вам про кавказскую жизнь, вы мне рассказываете ваши воспоминания о моем отце, матери; вы мне рассказываете «страшные», которые мы прежде слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами. Мы вспоминаем людей, которые нам были дороги и которых больше нет. Вы станете плакать, и я тоже, но эти слезы будут отрадны: мы будем говорить о братьях, которые будут к нам приезжать время от времени, о дорогой Маше, которая также будет проводить несколько месяцев в году в Ясной, которую она так любит, со всеми своими детьми. У нас не будет знакомых, никто не придет нам надоедать и сплетничать. Это чудный сон. Но это еще не все, о чем я себе позволяю мечтать. Я женат; моя жена тихая, добрая, любящая; вас она любит так же, как и я; у нас дети, которые вас зовут бабушкой; вы живете в большом доме наверху, в той же комнате, которую прежде занимала бабушка. Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начнем ту же жизнь, только переменившись ролями. Вы заменяете бабушку, но вы еще лучше ее: я заменяю отца, хотя я не надеюсь никогда заслужить эту честь. Жена моя заменяет мать, дети нас. Маша берет на себя роль двух теток, исключая их горя; даже Гаша заменяет Прасковью Исаевну. Не будет хватать только лица, которое взяло бы на себя вашу роль в жизни нашей семьи: никогда не найдется столь прекрасная душа, столь любящая, как ваша; у вас нет преемников. Будет три новых лица, которые будут иногда появляться среди нас, – это братья, особенно один, которые часто будет с нами, Николенька, старый холостяк, лысый, в отставке, всегда такой же добрый, благородный.
Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки, как дети будут у него целовать сальные руки (но которые стоят того), как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания о давно прошедшем времени, как вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас; как вы нас – старых – будете называть по-прежнему Левочка, Николенька и будете бранить меня за то, что я руками ем, а его за то, что у него руки не чисты.
Если бы меня сделали русским императором, если бы мне дали Перу, одним словом, если бы волшебница пришла ко мне со своей палочкой и спросила бы меня, что я желаю, я, положа руку на сердце, ответил бы, что желаю, чтобы эти мечты могли стать действительностью.
Знаю, вы не любите загадывать, но что же тут дурного? а это так приятно. Я боюсь, что это слишком эгоистично, что я вам уделил мало места в этим счастье. Я опасаюсь, чтобы прошлые горя не оставили слишком чувствительный след в вашем сердце, и это не помешало бы вам насладиться этим будущим, которое составило бы мое счастье. Дорогая тетенька, скажите, были бы вы счастливы? Все это может случиться, и надежда так утешительна!
Опять я плачу. Почему я плачу, думая о вас? Это слезы радости; я счастлив, умея любить вас. Если бы все несчастья обрушились на меня, я никогда не сочту себя вполне несчастным, пока вы живы. Помнете ли вы нашу разлуку у Иверской часовни, когда мы уезжали в Казань? Тогда, как бы по вдохновению, в самую минуту разлуки я понял, кем вы были для меня и, хотя еще ребенок, слезами и несколькими отрывочными словами я сумел дать вам понять, что я чувствовал. Я никогда не переставал вас любить; но чувство, которое я испытал у Иверской часовни, и теперешнее совсем различны: теперешнее гораздо сильнее, более возвышенное, чем когда бы то ни было.
Сознаюсь вам в одном, чего стыжусь, но должен сказать вам это, чтобы освободить мою совесть. Раньше, читая ваши письма, в которых вы говорили о ваших чувствах ко мне, я, казалось, видел преувеличение. Но только теперь, перечитывая их, я понимаю вас, вашу безграничную любовь к нам и вашу возвышенную душу. Я уверен, что всякий другой, читая это письмо и предыдущее, сделал бы мне тот же упрек. Но я не опасаюсь этого от вас, вы меня слишком хорошо знаете и вы знаете, что, быть может, единственное мое доброе качество это – чувствительность. Этому качеству я обязан счастливейшими минутами моей жизни. Во всяком случае, это о последнее письмо, в котором я позволяю себе выразить столь восторженные чувства, чрезмерные для равнодушных, но вы сумеете их оценить».
Возвратившись в Старогладовскую уже юнкером, в феврале Л. Н-ч идет в поход в качестве «уносного фейерверкера».
В марте он опять в Старогладовской. Интересны несколько мыслей того времени, записанные им в дневнике.
Лев Николаевич замечал в себе три главные страсти, мешавшие ему на пути к поставленному им себе нравственному идеалу. Эти страсти были: игра, чувственность, или сладострастие, и тщеславие. Он так определял и характеризовал каждую из этих страстей:
1) Страсть к игре есть страсть корыстная, понемногу переходящая в привычку к сильным ощущениям. С этой страстью возможна борьба.
2) Сладострастие есть потребность физическая, потребность тела, разжигаемая воображением; с воздержанием она усиливается, и потому борьба с ней очень трудна. Лучшее средство – труд и занятия.
3) Тщеславие – это страсть, наименее вредная для других и наиболее вредная для себя.
Затем встречается такое рассуждение:
«С некоторого времени меня сильно начинает мучить раскаяние в утрате лучших годов в жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. Интересно бы было описать ход своего морального развития; но не только слова, но и мысль даже недостаточна для этого.
Нет границ великой мысли, но уже давно писатели дошли до неприступной границы ее выражения.
Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все».
Эти последние слова суть первое смутное сознание своего призвания. Надо заметить, что эти слова были написаны еще до окончания «Детства» и, стало быть, до получения похвал и поздравлений с успешным началом. Это было внутреннее, независимое сознание в себе той таинственной силы, которая потом выдвинула его как одного из высших представителей морального сознания всего человечества.
В мае месяце он берет отпуск и едет в Пятигорск пить воды и лечиться от преследовавшего его ревматизма.
Оттуда он пишет своей тетке письмо, рисующее картину его душевной жизни и указывающее на не перестающую внутреннюю работу его духовного существа.
«Со времени моего путешествия и пребывания в Тифлисе мой образ жизни не изменился; я стараюсь заводить как можно меньше знакомых и воздерживаться от интимности в тех знакомствах, которые я уже сделал. К этому уже привыкли, меня больше не беспокоят, и я уверен, что про меня говорят, что я чудак и гордец.
Не из гордости я так веду себя, это вышло само собой; слишком велика разница в воспитании в чувствах, во взглядах между мною и теми, кого я встречаю здесь, чтобы я мог находить какое-нибудь удовольствие с ними. Только Николенька имеет способность, несмотря на огромную разницу между ним и этими господами, проводить с ними приятно время и быть любимым всеми. Я завидую ему, но чувствую, что не могу так поступать.
Правда, что такой образ жизни создан не для удовольствий; но ведь и я уже давно не думаю об удовольствиях, а думаю о том, чтобы быть спокойным и довольным. С некоторых пор я вошел во вкус исторического чтения (это было предметом нашего спора, и насчет этого теперь я вполне с вами согласен). Мои литературные работы также подвигаются понемногу, хотя я еще ничего не думаю печатать. Я три раза переделал работу, которую начал уже давно, и я рассчитываю еще раз переделать ее, чтобы быть довольным. Быть может, это будет работой Пенелопы, но это не отвращает меня; я пишу не из тщеславия, но по влечению; в работе я нахожу удовольствие и пользу и потому работаю. Хотя я очень далек от веселья, как я вам писал, но я столь же далек от скуки, потому что занят; но, кроме того, я вкушаю еще более высокое, более сильное удовольствие, чем то, которое могло бы мне дать общество, – это сознание спокойной совести, сознание более высокой, чем прежде, оценки самого себя, сознание движения во мне добрых, великодушных чувств.
Было время, когда я тщеславился моим умом, моим положением в свете, моим именем, но теперь я знаю, я чувствую, что если есть во мне что-нибудь хорошего, и что если есть за что благодарить Провидение, так это за доброе сердце, чувствительное и способное любить, которое оно даровало и сохранило мне. Ему одному обязан лучшими пережитыми минутами и тем, что хотя у меня нет удовольствий и общества, я не только доволен, но часто бываю совершенно счастлив».
В мае месяце он берет отпуск и едет в Пятигорск.
В письме к брату Сергею от 24 июня 1852 года он сообщает характерные подробности пятигорской жизни.
«Что сказать тебе о своем житье? Я писал три письма и в каждом описывал то же самое. Желал бы я тебе описать дух пятигорский, да это так же трудно, как рассказать новому человеку, в чем состоит Тула, а мы это, к несчастью, отлично понимаем. Пятигорск тоже немножко Тула, но особенного рода – кавказская. Например, здесь главную роль играют семейные дома и публичные места. Общество состоит из помещиков (так технически называются все приезжие), которые смотрят на здешнюю цивилизацию презрительно, и господ офицеров, которые смотрят на здешние увеселения как на верх блаженства. Со мною из штаба приехал офицер нашей батареи. Надо было видеть его восторг и беспокойство, когда мы въезжали в город! Еще прежде он мне много говорил о том, как весело бывает на водах, о том, как под музыку ходят по бульвару и потом будто все идут в кондитерскую и там знакомятся – даже с семейными домами. Театр, собрание, всякий год бывают свадьбы, дуэли… ну, одним словом, чисто парижская жисть. Как только мы вышли из тарантаса, мой офицер надел голубые панталоны с ужасно натянутыми штрипками, сапоги с огромными шпорами, эполеты, – обчистился и пошел под музыку ходить по бульвару, потом в кондитерскую, в театр и в собрание. Но, сколько мне известно, вместо знакомства с семейными домами и невесты-помещицы с 1000 душами, он в целый месяц познакомился только с тремя оборванными офицерами, которые обыграли его дотла, и с одним семейным домом, но в котором два семейства живут в одной комнате и подают чай вприкуску. Кроме того, офицер этот в месяц издержал рублей 20 на портер и на конфеты и купил себе бронзовое зеркало для настольного прибора. Теперь он ходит в старом сюртуке без эполет, пьет серную воду изо всех сил, как будто серьезно лечится, и удивляется, что никак не мог познакомиться, несмотря на то, что всякий день ходил по бульвару и в кондитерскую и не жалел денег на театр, извозчиков и перчатки, – с аристократией (здесь во всякой маленькой крепостенке есть аристократия), а аристократия, как назло, устраивает кавалькады, пикники, а его никуда не пускают. Почти всех офицеров, которые приезжают сюда, постигает та же участь, и они претворяются, будто только приехали лечиться, хромают с костылями, носят повязки, перевязки, пьянствуют и рассказывают страшные истории про черкесов. Между тем в штабе они опять будут рассказывать, что были знакомы с семейными домами и веселились на славу; и всякий курс со всех сторон кучами едут на воды повеселиться».
Как видно из письма к тетке, в Пятигорске Лев Николаевич продолжает писать «Детство». Кроме того, постоянная внутренняя работа над самим собой не покидает его.
29 июня он записывает в своем дневнике мысль, которая вполне может служить кратким выражением всего его теперешнего мировоззрения.
«Совесть есть лучший и вернейший наш путеводитель, но где признаки, отличающие этот голос от других голосов?.. Голос тщеславия говорит так же сильно. Пример – неотмщенная обида.
Тот человек, которого цель есть собственное счастье, – дурен; тот, которого цель есть мнение других, – слаб; тот, которого цель есть счастье других, – добродетелен; тот, которого цель Бог, – велик».
Далее встречается такая мысль, развитие которой мы также находим в теперешних произведениях:
«Справедливость есть крайняя мера добродетели, к которой обязан всякий. Выше ее – стремление к совершенству, ниже – порок».
2-го июля 1852 г. Лев Николаевич окончил «Детство» и через несколько дней отправил рукопись в Петербург, в редакцию «Современника».
Первоначальное заглавие этого первого литературного произведения было «История моего детства». Оно было подписано двумя буквами «Л. Н.», и редакция долго не знала имени автора.
В Пятигорске Л. Н-ч виделся со своей сестрой Марьей Николаевной и ее мужем. М. Н. лечилась на водах от ревматизма; по ее рассказам, Л. Н-ч тогда увлекался спиритическими сеансами и верчением столов и занимался этим даже на бульваре, таская туда столы из кофейной.
5-го августа Лев Николаевич покидает Пятигорск и возвращается в свою станицу.
Дорогой он записывает такую интересную мысль, составляющую одну из главных основ его настоящего мировоззрения:
«Будущность занимает нас более действительности. Эта наклонность хороша, ежели мы думаем о будущности того мира. Жить в настоящем, т. е. поступать наилучшим образом в настоящем, – вот мудрость».
7-го августа он приехал в Старогладовскую и, охваченный привычной и любимой им патриархальной простотой казачьей жизни, он записал в своем дневнике: «Простота – вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других». 28-го августа он получает, наконец, долгожданное письмо от редактора «Современника». «Оно обрадовало меня до глупости», – замечает он в своем дневнике.
Вот это знаменитое письмо Некрасова, бывшего восприемником новорожденного таланта:
«Милостивый государь!
Я прочел вашу рукопись («Детство»). Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет побольше живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу вас прислать мне продолжение. И роман ваш, и талант меня заинтересовали. Еще я советовал бы вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо со своей фамилией, если только вы не случайный гость в литературе. Жду вашего скорого ответа.
Примите уверение в истинном моем уважении Н. Некрасов».
За этим письмом через месяц последовало второе, от 5-го сентября 1852 года:
«Милостивый государь!
Я писал вам о вашей повести, но теперь считаю своим долгом еще сказать вам о ней несколько слов. Я дал ее в набор на IX книжку «Современника» и, прочитав внимательно в корректуре, а не в слепо написанной рукописи, нашел, что эта повесть гораздо лучше, чем показалось мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Убеждение в этом для вас, как для начинающего, думаю, всего важнее в настоящее время. Книжка «Современника» с вашей повестью завтра выйдет в Петербурге, а к вам (я пошлю ее по вашему адресу), вероятно, попадет еще не ранее, как недели через три. Из нее кое-что исключено (немного, впрочем)… Не прибавлено ничего. Скоро напишу вам подробнее, а теперь некогда. Жду вашего ответа и прошу вас, если у вас есть продолжение, – прислать мне его.
Н. Некрасов.Р. S. Хотя я и догадываюсь, однако ж прошу вас сказать мне положительно имя автора повести. Это мне нужно знать и по правилам нашей цензуры».Об этом письме Лев Николаевич так отзывается в своем дневнике: «30-го сентября. Получил письмо от Некрасова, похвалы, но не деньги».
А в деньгах он очень нуждался и ждал гонорара за свое первое произведение и, вероятно, писал об этом Некрасову, так как он получил третье письмо от Некрасова, следующего содержания:
30-го октября 1852 г. СПб.
«Милостивый государь!
Прошу извинить меня, что я замедлил с ответом на последнее ваше письмо, – я был очень занят. Что касается вопроса о деньгах, то я умолчал об этом в прежних моих письмах по следующей причине: в лучших наших журналах издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике. Этому обычаю подверглись все доселе начавшие в «Современнике» свое литературное поприще, как-то: Гончаров, Дружинин, Авдеев и др. Этому же обычаю подверглись в свое время как мои, так и Панаева первые произведения. Я предлагаю вам то же, с условием, что за дальнейшие ваши произведения прямо назначу вам лучшую плату, какую получают наши известнейшие (весьма немногие) беллетристы, т. е. 50 р. сер. с печатного листа. Я промешкал писать вам еще и потому, что не мог сделать вам этого предложения ранее, не проверив моего впечатления судом публики: этот суд оказался как нельзя более в вашу пользу, и я очень рад, что не ошибся в мнении своем о вашем первом произведении, и с удовольствием предлагаю вам теперь вышеописанные условия.
Напишите мне об этом. Во всяком случае, могу вам ручаться, что в этом отношении мы сойдемся. Так как ваша повесть имела успех, то нам очень было бы приятно иметь поскорее второе ваше произведение. Сделайте одолжение, вышлите нам, что у вас готово. Я хотел выслать вам IX No «Совр.», но, к сожалению, забыл распорядиться, чтобы отпечатали лишний, а у нас весь журнал за этот год в расходе. Впрочем, если вам нужно, я могу выслать вам один или два оттиска одной вашей повести, набрав из дефектов.
Повторяю мою покорнейшую просьбу выслать нам повесть или что-нибудь вроде повести, романа или рассказа и остаюсь в ожидании вашего ответа,
Готовый к услугам Н. Некрасов.
Р. S. Мы обязаны знать имя каждого автора, которого сочинения печатаем, и потому дайте мне положительные известия на этот счет. Если вы хотите, то никто, кроме нас, этого знать не будет».
Об этом событии Л. Н-ч с обычной скромностью упоминает и в письме к своей тетке Т. А. от 28 октября 1852 г.:
«Приехав с вод, я провел довольно неприятно месяц по причине смотра, который должен был делать генерал.
Маршированья и разные стрелянья из пушек не очень приятны, особенно потому что это полностью расстраивало регулярность моей жизни.
К счастью, это продолжалось недолго, и я снова начал свой образ жизни, который состоит в охоте, писании, чтении и беседах с Николенькой. Я вошел во вкус ружейной охоты, и так как оказалось, что я стреляю порядочно, то это занятие берет у меня 2–3 часа в день. В России понятия не имеют, сколько и какая великолепная здесь дичь. В ста шагах от моего дома я нахожу фазанов, и за какие-нибудь полчаса я убиваю 2, 3, 4. Кроме удовольствия, это упражнение прекрасно для моего здоровья, которое, несмотря на воды, не в очень хорошем состоянии. Я не болен, но я часто страдаю простудой, то болью в горле, то зубами, которые все не проходят, то ревматизмом, так что, по крайней мере, два дня в неделю я не выхожу из комнаты. Не думайте, что я от вас скрываю что-нибудь. Я, как был всегда, так и теперь сильного сложения, но слабого здоровья. Я думаю следующее лето опять провести на водах. Если они не поправили меня совсем, то все-таки мне помогли. Нет худа без добра: когда я нездоров, я более усидчиво занимаюсь писанием другого романа, который я начал. Тот, который я отослал в Петербург, напечатан в сентябрьской книжке «Современника» 1852 года под названием «Детство». Я подписал его Л. Н., и никто, кроме Николеньки, не знает, кто автор. И я не хотел бы, чтобы это узнали».
Сестра Л. Н-ча, Марья Николаевна, рассказывала мне о том впечатлении, которое произведено было этой вещью в их семейном кругу. Они жили в своем имении, недалеко от Спасского Тургенева, который у них бывал. И вот раз Тургенев приехал к ним, привез новую книжку «Современника» и, с восторгом отзываясь о новой повести неизвестного автора, прочел ее вслух. Марья Николаевна с удивлением слушала рассказ о своих семейных событиях и удивлялась, кто бы мог знать эти интимные подробности их жизни. Они настолько были далеки от мысли, что их «Левочка» мог быть автором этой повести, что заподозрили в этом старшего, Николая Николаевича, который обнаруживал некоторые литературные свойства с детства и был прекрасным рассказчиком. Как видно, преданная ему тетенька Т. А. сумела сохранить поверенную ей тайну, которая была обнаружена, кажется, только по возвращении Л. Н-ча с Кавказа.
Итак, судя по второму письму Некрасова, 6-го сентября 1852 года совершилось знаменательное в истории русской литературы событие: вышло в свет первое произведение Л. Н. Толстого.
О впечатлении, произведенном в обществе писателей и читателей этой первой вещью Толстого, вот что рассказывает Головачева-Панаева в своих воспоминаниях:
«Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору, и все интересовались узнать его фамилию. В кружке же литераторов относились как-то равнодушно к возникавшему таланту, только один Панаев был в таком восхищении от «Истории моего детства», что каждый вечер читал ее у кого-нибудь из своих знакомых. Тургенев трунил над Панаевым, уверяя, что все его знакомые прячутся от него на Невском, боясь, чтобы он им и там не стал читать выдержки из этого сочинения, так как Панаев успел наизусть выучить произведение нового автора».
Критика не скоро занялась Толстым. По крайней мере в сборнике критической литературы о Толстом Зелинского, составленном очень тщательно, первая критическая статья помечена 1854 годом. Она была напечатана в «Отечественных записках» в ноябрьской книжке, т. е. через два с лишком года после появления «Детства»; статья эта написана по поводу выхода «Отрочества», и в ней говорится об этих двух повестях.
Приводим здесь краткую, но меткую характеристику первого произведения Л. Н-ча.
«Детство, как обширная цепь разнородных поэтических и безотчетных наших представлений об окружающем, дало автору возможность взглянуть на всю деревенскую жизнь в таких же поэтических чертах. Он выбрал из этой жизни, что поражает детское воображение и ум, а талант автора был так силен, что представил эту жизнь именно такою, как ее видит ребенок. Все окружающее его входит в его повесть настолько, насколько оно поражает воображение дитяти, и потому все главы повести, по-видимому, совершенно разрозненные, соединяются в одно: все они показывают взгляд ребенка на мир. Но большой талант автора виден еще вот в чем. Казалось бы, при такой манере изображать действительную жизнь под влиянием детских впечатлений трудно дать место взгляду недетскому и вполне обрисовать характеры: подивитесь же, когда, по прочтении этих рассказов, ваше воображение живо нарисует вам и мать, и отца, и няню, и гувернера, и все семейство, и нарисует красками поэтическими».
По мере того, как расходились книжки «Современника», распространялся среди читающей публики интерес ко вновь возникающему таланту.
Когда книжки «Современника» с рассказами «Детство» и «Отрочество» дошли до Достоевского в Сибирь, они и на него произвели сильное впечатление. Достоевский в письме к одному знакомому из Семипалатинска просил непременно сообщить, кто этот таинственный Л. Н.
А этот таинственный Л. Н., как нарочно, не хотел открываться и со стороны смотрел на производимый им эффект.
В октябре Лев Николаевич, живя в станице Старогладовской, набрасывает план «Романа русского помещика»; вот главная, основная мысль его: «герой ищет осуществления идеала счастья и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его наводит его на мысль, что счастье состоит не в идеале, а в постоянном жизненном труде, имеющем целью – счастье других».
К сожалению, этот план не был выполнен, но мы находим выражение этих мыслей во многих последующих произведениях Льва Николаевича.
Военная карьера, несмотря на его видное положение, не улыбалась Льву Николаевичу. Он, видимо, тяготился ею и ждал только производства в офицеры, чтобы выйти в отставку. И производство это, как нарочно, не приходило. Поступив на службу, он надеялся через полтора года быть офицером; но вот он прослужил почти год, и в конце октября приходит бумага, из которой он узнает, что ему нужно служить еще три года.
Причиной этой задержки, как оказалось, была неисправность его документов. Графиня С. А. Толстая рассказывает в своих записках следующее:
«Производство Льва Николаевича в офицеры, как и вся его служба, было сопряжено с большими затруднениями и неудачами. Перед отъездом на Кавказ Лев Николаевич жил в Ясной Поляне с тетенькой Т. А. Он часто видался с братом Сергеем, который в то время был увлечен цыганами и их пением. Цыгане приезжали в Ясную, пели и сводили с ума обоих братьев. Когда Лев Николаевич почувствовал, что увлечение может довести его до неблагоразумных поступков, он вдруг, не говоря никому ни единого слова, уехал на Кавказ, не взявши с собой и не озаботясь никакими нужными бумагами».
Эта небрежность или, лучше сказать, ненависть к бумагам не раз доставляла много хлопот Льву Николаевичу.
Потеряв терпение, он написал своей тетке Юшковой жалобу, и той, посредством письма к какому-то сановнику, удалось ускорить дело о производстве Льва Николаевича в офицеры.
24-го декабря того же года Лев Николаевич кончает рассказ «Набег» и через два дня отсылает его в редакцию «Современника».
В январе 1853 года батарея, в которой служил Лев Николаевич, выступила в поход против Шамиля.
В «Истории 20-й артиллерийской бригады» говорится при описании этого похода:
«В одном из орудий главного отряда батарейной № 4 батареи уносным фейерверкером был гр. Л. Толстой, впоследствии автор таких бессмертных произведений, как «Рубка леса», «Казаки», «Война и мир» и др.».
Отряд собрался в крепости Грозной, где, по записи Льва Николаевича, происходили кутежи и картежная игра.
«18-го января, – говорится в «Истории бригады», – отряд возвратился в Куринское. В течение последних трех дней из 7 орудий, входивших в состав колонны, было выпушено до 800 зарядов и из них около 600 из 5 орудий батарейной № 4 батареи 20-й бригады, бывших под командой поручика Макалинского и подпоручиков Сулимовского и Лодыженского, под начальством которых состоял между прочим фейерверкер 4-го класса гр. Л. Толстой. 19-го числа он был командирован начальством с одним единорогом в укрепление Герзель-аул».
Кроме того, Льву Николаевичу пришлось быть в деле и 18-го февраля, и тогда он подвергался серьезной опасности и был на волосок от смерти. Когда он наводил пушку, неприятельская граната разбила лафет этой пушки, разорвавшись у его ног. К счастью, Льву Николаевичу она не причинила никакого вреда. К 1-му апреля Лев Николаевич с отрядом вернулся в Старогладовскую.
С первых шагов своей литературной деятельности Льву Николаевичу пришлось столкнуться с тем нелепым, жестоко-стихийным препятствием, которое вот уже второй век тормозит свободное развитие русской мысли и русского художественного дарования и которое называется цензурой. В письме к брату Сергею, в мае 1853 года, Лев Николаевич пишет:
«Пишу второпях, поэтому извини за то, что письмо будет коротко и бестолково. «Детство» было испорчено, а «Набег» так и пропал от цензуры. Все, что было хорошего, все выкинуто или изуродовано. Я подал в отставку и на днях, т. е. месяца через полтора, надеюсь свободным человеком ехать в Пятигорск, а оттуда – в Россию».
Но в отставку выйти было не так-то легко, и в том же 1853 году летом Лев Николаевич снова подвергся большой опасности и едва избег плена.
Заимствуем подробный рассказ об этом событии из воспоминаний Полторацкого.
«13-го июня 1853 года с 5-ой и 6-ой ротой Куринского и одной ротой линейного батальона, при двух орудиях, я отправился в сквозную оказию до Грозной. После привала у Ермоловского кургана, когда колонны двинулись в путь, я, поравнявшись со срединой вытянутой по дороге колонны, вдруг увидел недалеко от авангарда, налево от верхней плоскости между Хан-Кале и Грозненской башней, конную партию в 20–25 человек чеченцев, стремительно несущихся с уступа наперерез пути колонны. Стремглав бросился я к авангарду и на скаку слышал залп ружейных выстрелов, но, еще не достигнув пятой роты, за сотню шагов, увидел уже снятое с передков орудие и поднятый над ним пальник.
«Отставь, отставь, – там наши!» – кричал я что есть мочи, и, к счастью, успел остановить выстрел, уже направленный в горсть толпившихся на дороге всадников, между которыми, очевидно, попались и наши. Не успел 3-й взвод по приказанию моему броситься вперед и пробежать несколько шагов, как чеченцы пошли наутек степью к Аргуну, и тогда по ним вдогонку были пущены две гранаты. В ту же минуту от места схватки прискакал в колонну растерянный, бледный, как смерть, барон Розен, и почти вслед за ним прибежала без седока гнедая лошадь, по форменному седлу которой артиллеристы признали ее лошадью взводного офицера. В это время из-за мелких по дороге кустов показался и сам артиллерийский прапорщик Щербачев. Молодой и краснощекий 19-тилетний юноша Щербачев, за несколько перед тем месяцев оставивший скамью артиллерийского училища, удивлявший всех своих здоровьем, необыкновенным телосложением и силой, в эту минуту поразил нас. Он шел медленными, но твердыми шагами, не хромая, не охая, и только, когда спокойно подошел к нам, мы увидали, как он дорого поплатился чеченцам. Кровь буквально ключом била из ран его в грудь и обе ноги пулями, в живот ружейной картечью и по шее шашечным ударом. В колонне не было ни доктора, ни фельдшера, пришлось работать ротным цирюльникам, и один из них довольно быстро и ловко принялся за перевязку раненого. Между тем Розен, несколько оправившийся от первого испуга, сумел объяснить, что они впятером поехали от оказии вперед, и что в минуту нападения горцев граф Лев Толстой, Павел Полторацкий и татарин Садо, вероятно, ускакали в Грозную, тогда как Щербачев и он повернули лошадей навстречу идущей колонне. – «Ваше благородие, – прервал артиллерийский солдат, лежащий на высоком возу сена, – там еще на дороге кто-то лежит, и сдается мне, что он шевелится». Я крикнул третьему взводу: «вперед, бегом», и сам бросился по дороге. В пятистах шагах от авангардного орудия лежал убитый знакомый нам вороной конь, а из-под него торчало изуродованное тело Павла. Громко стонал он и отчаянным голосом просил освободить его от невыносимой тяжести трупа. Соскочив с лошади и бросив поводья казаку, я с необычайной силой, одним удачным взмахом опрокинул труп безжизненной лошади и освободил страдальца, исходящего кровью. Все раны были нанесены ему холодным оружием, тремя ударами по голове и четырьмя по плечу. Последние были так жестоко сильны, что буквально разворотили надвое правое плечо, раскрыв всю внутренность… Я послал казака с приказанием всей колонне подвинуться сюда, и здесь уже начались перевязки и приготовление носилок.
Все описанное произошло в течение нескольких минут, давших, однако, возможность нам оказать первую помощь раненым, а грозненской кавалерии выскочить по тревоге из Грозной. Начальник гарнизона, рассмотрев с кургана спокойное положение колонны и уже скрывающихся на горизонте чеченцев, счел излишним за ними гнаться и вернул войска в крепость, но от них отделилось несколько всадников, которые понеслись к нам в колонну, стоявшую от Грозной не более четырех верст. Прискакавшие к нам были Пистолькорс и несколько кунаков его, мирных чеченцев грозненских аулов. Общими силами соорудив для раненых из солдатских шинелей носилки, мы уложили обоих и тронулись вперед. Пистолькорс сообщил нам, что граф Лев Толстой с татарином Садо, хотя и были очень ретиво преследуемы семью чеченцами, но, благодаря быстроте коней своих, оставив им в трофей одну седельную подушку, сами целы и невредимы достигли ворот крепости.
Все пятеро хотели поскорее приехать в Грозную и отделились еще у Ермоловского кургана. Маневр этот, увы, слишком известен на Кавказе! Кто из нас, обреченный на лихом коне двигаться шаг за шагом, в оказии с пехотной частью, не уезжал вперед? Это такой соблазн, что молодой и старый, вопреки строгому запрещению и преследованию начальством, частенько ему поддавался. И наши пять молодцов поступили так же. Отъехав от колонны на сотню шагов, они условились между собой, чтобы двое из них для освещения местности ехали бы по верхнему уступу, а остальные нижней дорогой. Только что поднялись Толстой и Садо на гребень, как увидели от Хан-Кальского леса несущуюся прямо на них толпу конных чеченцев. Не успев, по расчету времени, безнаказанно спуститься обратно, Толстой сверху закричал товарищам о появлении неприятеля, а сам с Садо бросился в карьер по гребню уступа к крепости. Остальные внизу, не сразу поверив известию, и, конечно, не имея возможности сами увидеть горцев, несколько минут провели в бездействии, а когда уже чеченцы (из которых человек семь отделилось в погоню за Толстым с Садо) показались на уступе и ринулись вниз, то Розен, повернув лошадь, помчался назад к колонне и счастливо достиг ее. За ним бросился и Щербачев, но казенная лошадь его скакала плохо, и чеченцы, нагнав его, ранили его и выбили из седла, после чего он пешком добрался до колонны. Хуже же всех оказалось положение Павла. Увидев чеченцев, он инстинктивно бросился вперед по направлению к Грозной, но, тотчас же сообразив, что молодая, изнеженная и чересчур раскормленная лошадь не выскачет в жаркий день до пяти верст, отделяющих его от крепости, – он круто повернул ее назад в ту самую минуту, когда толпа неприятеля уже спустилась с уступа на дорогу, и он, выхватив шашку наголо, очертя голову (как выразился сам), хотел напролом прорваться в колонну. Но один из горцев верно направил винтовку и, выждав приближение Павла, почти в упор всадил пулю в лоб его вороному; он со всех ног повалился и прикрыл его собою. Чеченец с коня проворно нагнулся к Павлу и, выхватив у него из рук в серебро оправленную шашку, стал тащить с него ножны, но при виде бежавшего на выручку 3-го взвода, он полоснул лежащего по голове шашкой и поскакал сам наутек. Его примеру один за другим последовали еще шесть горцев, нанесшие на всем скаку жестокие удары шашками по голове и открытому плечу Павла, который в недвижимом положении, под тяжестью трупа убитой лошади, истекал кровью до самой минуты моего появления».
Из воспоминаний Берса мы узнаем еще одну подробность этого дела, характеризующую Льва Николаевича.
«Мирный чеченец Садо, с которым ехал Л. Н-ч, был его большим другом. И незадолго перед тем они поменялись лошадьми. Садо купил молодую лошадь. Испытав ее, он предоставил ее своему другу Л. Н-чу, а сам пересел на его иноходца, который, как известно, не умеет скакать. В таком виде их и настигли чеченцы. Л. Н-ч, имея возможность ускакать на резвой лошади своего друга, не покинул его. Садо, подобно всем горцам, никогда не расставался с ружьем, но, как на беду, оно не было у него заряжено. Тем не менее он нацелил им на преследователей и, угрожая, покрикивал на них. Судя по дальнейшим действиям преследовавших, они намеревались взять в плен обоих, особенно Садо для мести, а потому не стреляли. Обстоятельство это спасло их. Они успели приблизиться к Грозной, где зоркий часовой издали заметил погоню и сделал тревогу. Выехавшие навстречу казаки принудили чеченцев прекратить преследование».
Этот эпизод послужил Льву Николаевичу основанием для его рассказа «Кавказский пленник».
Ни опасности боевой жизни, ни припадки кутежей и игры, врывавшиеся, как ураганы, в мирную жизнь Льва Николаевича, не останавливают его внутреннего развития, и вскоре после только что описанного случая он записывает такие мысли-правила:
«Будь прям, хотя и резок, но откровенен со всеми, но не детски откровенен без необходимости.
Воздерживайся от вина и женщин. Наслаждения так мало, не ясно, а раскаяние так велико.
Каждому делу, которое делаешь, предавайся вполне. При каждом сильном ощущении воздерживайся от движения, а обдумав раз, хотя бы и ошибочно, действуй решительно».
В половине июля 1853 года Лев Николаевич поехал в Пятигорск и, пробыв там до октября, опять возвратился в Старогладовскую.
Очевидно, однообразная служба начала ему сильно надоедать, и он с томлением ждал перемены в своем образе жизни.
Так он, между прочим, писал брату из Пятигорска 20 июля 1853 года:
«Я уже писал тебе, кажется, что я подал в отставку. Бог знает, однако, выйдет ли и когда она выйдет теперь, по случаю войны с Турцией. Это очень беспокоит меня, потому что я теперь уже так привык к счастливой мысли поселиться скоро в деревне, что вернуться опять в Старогладовскую и ожидать до бесконечности – так, как я ожидаю всего, касающегося моей службы, – очень неприятно».
Такое же настроение проглядывает и в его письме из Старогладовской, написанном в декабре 1853 года:
«Пожалуйста, о бумагах моих напиши поскорее. Это нужно. Когда я приеду? Знает один Бог, потому что вот уже год скоро, как я только о том и думаю, как бы положить в ножны свой меч, и не могу. Но так как я принужден воевать где бы то ни было, то нахожу более приятным воевать в Турции, чем здесь, о чем и просил князя Сергея Дмитриевича, который писал мне, что он уже писал своему брату, но, что будет, не знает.
Во всяком случае, к Новому году я ожидаю перемены в своем образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души. Тургенев прав, «что за ирония в одиночку», сам становишься ощутительно глуп. Несмотря на то, что Николенька увез, Бог знает зачем, гончих собак (мы с Епишкой часто называем его «швиньей» за это), я по целым дням, с утра до вечера, хожу на охоту один с лягавой собакой. И это одно удовольствие, и не удовольствие, а одурманивающее средство. Измучаешься, проголодаешься и уснешь, как убитый, – и день прошел. Если будет случай или сам будешь в Москве, то купи мне Диккенса («Давид Копперфильд») на английском языке и лексикон английский Садлера, который есть в моих книгах».
За это время Лев Николаевич пишет «Отрочество» и заканчивает рассказ «Записки маркера», который и отсылает в редакцию «Современника» с сознанием недовольства поспешностью в работе.
Одно из занятий его того времени было чтение биографии Шиллера.
Возвратившись из недолгой поездки в аул Хасаф-Юрт, Лев Николаевич записывает в своем дневнике:
«Все молитвы, придуманные мною, я заменяю одним «Отче наш». Все просьбы, которые я могу делать Богу, гораздо выше и достойнее его выражаются словами: «Да будет воля Твоя, яко же на небеси и на земли».
Мы уже видели раньше, какие неприятности причиняла Льву Николаевичу неисправность его документов. Отметим еще одну неудачу, постигшую его на Кавказе, из-за этих бумаг.
Вот что он пишет тетушке Т. А. из Пятигорска, в июне 1852 года:
«Я вам не говорил об этом в моем предпоследнем письме, чтобы не повторять вещи, одинаково неприятной для вас и для меня: то, что у меня постоянно является какая-то помеха во всем, что я предпринимаю. Во время той экспедиции у меня был два раза случай быть представленным к георгиевскому кресту, и я не мог его получить по причине опоздания на несколько дней этой проклятой бумаги. Я был представлен за день 18 февраля (мои именины); но должны были отказать за отсутствием этой бумаги. Список представленных был отправлен 19-го, а 20-го пришла бумага. Я вам признаюсь откровенно, что из всех военных наград я имел тщеславие добиваться именно этого маленького крестика, и что это препятствие доставило мне большое горе, тем более, что есть только одна эпоха в году для получения таких наград, и что для меня эта эпоха прошла».
Еще два случая представились ему для получения георгиевского креста, и оба были неудачны.
Заимствую описание этих случаев из недавнего письма Л. Н-ча ко мне, в ответ на мой запрос ему по этому поводу.
«Второй случай был, когда после движения 18 февраля в нашу батарею были присланы два креста, и я с удовольствием вспоминаю, что я – не сам, а по намеку милого Алексеева – согласился уступить крест ящичному рядовому Андрееву, старому добродушному солдату. Третий случай был, когда Левин, наш бригадный командир, посадил меня под арест за то, что я не был в карауле, и отказал Алексееву дать мне крест. Я был очень огорчен».
Так и не удалось Льву Николаевичу получить этого креста. В заключение нашего описания кавказской жизни Льва Николаевича приведем страничку из воспоминаний одного военного, Мих. Алекс. Янжула, служившего в 70-х годах в станице Страгладовской и заставшего еще там свежие следы пребывания Толстого:
«В 1871 году я был выпущен в офицеры в 20-ю артиллерийскую бригаду, в ту же батарею и станицу Старогладовскую, в которой 17 лет тому назад служил и жил граф Л. Н. Толстой. Станица Старогладовская с ее типичными миловидными мамучками и удалыми гребенскими казаками и с «командирским домом, окруженным высокими старыми тополями», описанными графом Толстым в его известной повести «Казаки», знакомы были мне в течение более двух десятков дет. В мое время в станице еще свежа была память о Льве Николаевиче (там все его так называли); там же указывали и старушку Марьяну (героиню повести), и несколько стариков казаков-охотников, которые лично знали Льва Николаевича и вместе с ты охотились на фазанов и кабанов, и один из них, как известно, в 1880-х годах ездил верхом из станицы в Ясную Поляну, чтобы повидать Льва Николаевича. В батарее я застал капитана Фролова (ныне умершего), который знал Льва Николаевича еще фейерверкером и говорил, между прочим, что уже тогда граф обладал замечательной способностью рассказчика, увлекавшего всех своими разговорами».
Там же Янжул приводит краткую характеристику ближайшего начальника Льва Николаевича, его батарейного командира.
«Никита Петрович Алексеев, батарейный командир графа Льва Николаевича, был всеми любим и уважаем за свое добродушие. Он слыл ученым артиллеристом, универсантом, отличался крайней религиозностью, особенно любил бывать в церкви, где по целым часам простаивал на коленях, кладя земные поклоны. К этому нужно еще прибавить, что у Никиты Петровича недоставало одного уха, которое откусила ему однажды лошадь. К странностям Никиты Петровича нужно отнести и то еще, что он не мог спокойно видеть, когда офицеры пили водку, в особенности же, когда это делала молодежь. Между тем, по обычаю того доброго старого времени, все офицеры ежедневно обедали у батарейного командира. И тут Лев Николаевич нередко школьничал, делая вид, что он собирается пить водку. Тогда Никита Петрович серьезнейшим образом начинал убеждать его не делать этого и, по своему обыкновению, предлагал вместо водки конфеты».
Описание кавказской жизни Льва Николаевича было бы не полно, если бы мы не упомянули о его двух товарищах, Бульке и Мильтоне, двух собаках, историю которых он сам рассказал в своих «Книжках для чтения», изложив ее в целом ряде прелестных идиллических картин кавказской жизни, знакомых едва ли не каждому русскому школьнику.
Наконец пришел долгожданный приказ о производстве Льва Николаевича в офицеры.
13 января 1854 года он сдал в станице офицерский экзамен, бывший в то время пустой формальностью, и стал собираться в отъезд.
19-го января он выехал в Россию; 2-го февраля приехал в Ясную Поляну; на пути, длившемся по тогдашнему времени около двух недель, ему пришлось испытать сильную снежную метель, давшую ему, по всей вероятности, сюжет для его рассказа. Короткое время своего пребывания в России он провел в кругу своих братьев, тетки и друга Перфильева.
Его уже ждало назначение в Дунайскую армию, куда он вскоре и выехал, прибыв в Бухарест 14 марта 1854 года.
Закончив описание кавказского периода жизни Л. Н-ча, мы считаем нужным привести его теперешнее мнение об этом времени. Л. Н-ч с большой радостью вспоминает это время, считая его одним из лучших периодов его жизни, несмотря на все уклонения от смутно создаваемого им идеала. По мнению Л. Н-ча, последующая военная служба его, а особенно литературная деятельность, была постепенным нравственным падением, и только возвратясь в деревню и отдавшись всецело школьным занятиям с крестьянскими детьми, он снова почувствовал возрождение и необыкновенный подъем духа.
Глава 8. Дунай и Севастополь
Прежде чем приступить к изложению этого периода, я считаю долгом сказать несколько слов о ходе политических событий, в связи с которыми происходили перемены и в жизни Л. Н-ча.
Шли последние годы царствования Николая. Напряжение власти достигло высшей степени, и угнетение народа и высшего общества уже вызывало глухой протест и в том, и в другом. Как всегда бывает, правительство, инстинктивно чувствуя грозящую ему опасность, бросается полусознательно во внешние предприятия, разряжая потенциально накопленную энергию насилия в кровавой бойне послушного им стада солдат, все воспитание которых и заключается в том, чтобы уметь и хотеть стать поддержкой власти в трудные минуты ее преступной жизни. Народ и общество так же полусознательно бросается на такие бойни, как тоскующий человек ищет во всем безобразии опьянения утоления грызущей его тоски.
И вот Россия, разоренная и развращенная ужасным тиранством Николая I, объявляет войну Турции 4 ноября 1853 года. Первое время русские войска действуют успешно: они вступают в пределы Турции, занимают Молдавию, а черноморский флот под начальством славного Нахимова уничтожает турецкий флот при Синопе.
Тогда в эту войну вмешиваются европейские державы – Англия, Франция, – и начинается знаменитая Крымская кампания, завершившаяся беспримерной в истории геройской защитой Севастополя. И как всегда в таких случаях, наряду с шумными проявлениями внешней жизни, идет внутренняя работа в душевных недрах лучших людей, как среди народа, так и высшего общества, и проявляется в выработке новых идеалов и неизбежно, хотя и слабо, выражается в либеральных общественных реформах. Вот эти-то два явления – разряжение народной энергии в геройских военных подвигах и подъем народного духа в раскрытии новых идеалов – и наложили свой отпечаток на современную этим явлениям творческую деятельность Толстого.
И так как эти два огромные явления тотчас же вступили в противоречие друг с другом, то эта творческая деятельность приняла форму высокой трагической поэзии, чем и отличаются его «Севастопольские рассказы».
Л. Н-ч., как сказано было выше, повидавшись с своими родными, отправился сначала в Дунайскую армию.
По прибытии в Бухарест он пишет своей тетке Т. А. письмо в виде дневника, в три приема, описывая кратко путешествие и первое впечатление приезда.
«13 марта. Из Курска я сделал около 2000 верст вместо 1000, как я предполагал, и я поехал через Полтаву, Балту, Кишинев, а не через Киев, что было бы крюком. До Херсонской губернии был хороший санный путь, но там я должен был бросить сани и сделать 1000 верст на перекладных по ужасной дороге до границы и от границы до Бухареста. Это дорога, не поддающаяся описанию; надо ее попробовать, чтобы понять удовольствие сделать 1000 верст в тележке, меньшей нашей навозной. Не понимая ни слова по-молдавски и не находя никого, кто бы понимал по-русски, при этом платя за 8 лошадей вместо двух, хотя мое путешествие длилось только 9 дней, я истратил больше 200 рублей и приехал почти больной от усталости.
17 марта. Князя не было здесь. Вчера он только что приехал, и я сейчас был у него. Он принял меня лучше, чем я думал, совсем по-родственному. Он обнял меня, пригласил меня каждый день приходить обедать к нему и хочет оставить меня при себе, хотя это еще не решено.
Простите, дорогая тетенька, что я вам пишу мало, – у меня еще голова не на месте. Этот большой, красивый город, все эти представления по начальству, итальянская опера, французский театр, два молодые Горчакова, славные малые… одним словом, я 2-х часов не сидел дома и не думал о своих занятиях.
22 марта. Вчера я узнал, что я не остаюсь при князе, но отправляюсь в Ольтеницу к своей батарее».
Через два месяца он пишет снова уже под другим настроением:
«Вы думаете, что я подвергаюсь всем опасностям войны, а я еще не нюхал пороху и спокойно гуляю по Бухаресту, занимаюсь музыкой и ем мороженое. В самом деле, все это время, за исключением двух недель, которые провел в Ольтенице, где я был прикомандирован к батарее, и одной недели, которую я провел в разъездах по Молдавии, Валахии и Бессарабии, по приказанию генерала Сержпутовского, при котором я состою теперь по особым поручениям, остальное время я оставался в Бухаресте и должен вам откровенно сознаться, этот рассеянный образ жизни, совершенно праздный, очень дорого стоящий, который я веду здесь, мне очень не нравится. Сначала меня задерживала здесь служба, а теперь я остался здесь почти на три недели из-за лихорадки, которую я схватил в дороге, но от которой, благодаря Бога, я достаточно оправился, чтобы дня через 2 или 3 присоединиться к своему генералу, который в лагере под Силистрией. О моем генерале скажу, что он, по-видимому, хороший человек и, кажется, хотя мы и мало знакомы, хорошо расположен ко мне. Что еще приятно, это то, что его штаб состоит большею частью из людей comme il faut; два сына князя Сергея (Горчаковы), которых я здесь встретил, славные малые, особенно младший, у которого, хотя он и не выдумал пороха, много благородства в характере и прекрасное сердце. Я его очень люблю».
Затем мы приводим письмо, которое хотя написано уже из Севастополя, но относится до дунайских событий. Как увидит читатель, письмо это адресовано Львом Николаевичем сначала к тетушке Т. А., а потом к брату Николаю. По нашему мнению, письмо это должно составить страницу в истории России.
«Итак, я буду вам говорить о прошлом, о моих воспоминаниях о Силистрии. Я видел там столько интересного, поэтического и трогательного, что время, проведенное мною там, никогда не изгладится из моей памяти. Наш лагерь был расположен по ту сторону Дуная, т. е. на правом берегу, на возвышенном месте, среди превосходных садов, принадлежавших Мустафе-паше, губернатору Силистрии. Вид с этого места не только великолепен, но для всех нас большой важности. Не говоря уже о Дунае, о его островах и берегах, из которых одни были заняты нами, другие турками, с этой высоты были видны город, крепость, мелкие форты Силистрии, как на ладони. Слышны были пушечные и ружейные выстрелы, не перестававшие ни днем, ни ночью; с помощью зрительной трубы можно бы различать турецких солдат. Правда, что это странное удовольствие – смотреть, как люди убивают друг друга, но тем не менее всякий вечер и всякое утро я садился на свою повозку и целыми часами смотрел, и это делал не я один. Зрелище было поистине великолепно, особенно ночью. По ночам обыкновенно наши солдаты принимаются за траншейные работы, и турки бросаются на них, чтобы помешать им, и тогда надо видеть и слышать эту пальбу. Первую ночь, которую я провел в лагере, этот ужасный шум разбудил и напугал меня: я думал, что пошли на приступ, и поскорее велел оседлать мою лошадь, но те, кто провели в лагере уже несколько времени, сказали мне, что я могу быть спокоен, что эта канонада и ружейная пальба вещь обыкновенная и это шутя называется «Аллах». Тогда я снова лег спать, но, не будучи в состоянии заснуть, я забавлялся с часами в руках, считая пушечные удары, и я насчитал 110 ударов в минуту. А между тем вблизи все это не было так страшно, как казалось. Ночью, когда ничего не видно, это был перевод пороха, и тысячами выстрелов убивали самое большее десятка три с каждой стороны.
Позвольте мне, дорогая тетенька, дальше в этом письме обращаться к Николеньке, так как раз уже я заговорил о подробностях войны, я хотел бы продолжать это, обращаясь к человеку, который бы меня понимал и мог объяснить вам то, что для вас будет не совсем ясно.
Итак, это было обыкновенным представлением, которое мы видели каждый день, и в котором я принимал иногда участие, когда меня посылали с приказаниями в траншеи. Но бывали также и необыкновенные представления, как то, которое было накануне приступа, когда была взорвана мина в 240 пудов пороха под одним из неприятельских бастионов. Утром этого дня князь был на траншеях со всем своим штабом (так как генерал, при котором я состою, находился в его штабе, то я там был), чтобы делать окончательные распоряжения для штурма следующего дня. План штурма, слишком длинный, чтобы я мог здесь его объяснить, был так хорошо составлен, все было так хорошо предвидено, что никто не сомневался в успехе. По поводу этого я должен вам сказать, я начинаю восхищаться князем (впрочем, стоит только послушать, что говорят о нем офицеры и солдаты, я не только никогда не слыхал дурного про него, но его вообще обожают).
Я видел его под огнем в первый раз в это утро. Надо было видеть эту немного комичную фигуру высокого роста, руки за спиной, фуражка на затылке, в очках, с говором, напоминающим индюка. Видно было, что он так был занят общим ходом дел, что пули и ядра не существуют для него; он выставляет себя на опасность с такой простотой, что можно подумать, что он и не знает о ней, и невольно боишься за него больше, чем за себя. И вместе с тем он дает приказания с необыкновенной ясностью и точностью и в то же время внимателен со всяким. Это большой человек, т. е. человек способный и честный, как я понимаю это слово, человек, который всю жизнь отдал на служение родине, и не ради тщеславия, а ради долга. Я вам расскажу одну черту его характера, которая связана с историей штурма, о котором я начал рассказывать. После обеда того же дня взорвали мину, и около 600 орудий открыли огонь против форта, который хотели взять, и этот огонь продолжался всю ночь. Это зрелище и эти чувства никогда не забудешь. Вечером со всей своей свитой князь снова явился, чтобы залечь в траншеи и самому руководить штурмом, который должен был начаться в три часа ночи.
Мы были все там же, и, как всегда накануне сражения, все мы делали вид, что о следующем дне мы не думаем больше, чем о самом обыкновенном, и у всех, я в этом уверен, в глубине души немного, а может быть даже очень, сжималось сердце при мысли о штурме. Как ты знаешь, Николенька, время, предшествующее делу, – самое неприятное, единственное, когда есть время бояться, а боязнь – одно из самых неприятных чувств. К утру, чем ближе подходил решительный момент, тем меньше становилось чувство страха, и около 3-х часов, когда мы все ожидали увидеть букет пущенных ракет, что было сигналом атаки, я пришел в такое хорошее настроение, что если бы пришли и сказали мне, что штурма не будет, мне было бы жалко. И вот ровно за час до начала штурма приезжает адъютант фельдмаршала с приказанием снять осаду Силистрии. Я могу, не боясь обмануться, сказать, что это известие было принято всеми солдатами, офицерами и генералами, как истинное несчастье, тем более что знали через лазутчиков, которые часто приходили из Силистрии и с которыми мне часто приходилось самому разговаривать, знали, что, когда будет взят этот форт, в чем никто не сомневался, Силистрия не могла бы держаться более 2–3 дней. Не правда ли, что если кому-нибудь это известие могло доставить горе, так это князю, который во всю эту кампанию, стараясь вое делать к лучшему, в средине своей деятельности видит, что фельдмаршал вмешивается в его дела, чтобы все испортить. Имея единственную возможность загладить этим штурмом прежние неудачи, он получает отмену в момент начала этого дела. И вот князь ни на минуту не смутился, он, такой впечатлительный, напротив, был доволен, что мог избежать этой резни, которая лежала бы на его ответственности, и во все время отступления, которым он руководил сам, желая уйти с последним солдатом, и которое было произведено в замечательном порядке и точности, – в этом отступлении он был веселее, чем когда-либо. Что много содействовало его хорошему расположению духа – это эмиграция около семи тысяч семейств болгар, которых мы взяли с собой, чтобы их спасти от зверства турок, зверства, которому я, несмотря на свою недоверчивость, должен был поверить. Как только мы оставили несколько болгарских деревень, которые занимали раньше, турки пришли туда и, исключая молодых женщин, годных для гарема, уничтожили все, что там было. Одна деревня, в которую я ходил из лагеря за молоком и фруктами, была таким образом разорена. И вот, как только князь дал знать болгарам, что кто желает – может перейти с армией через Дунай и стать русскими подданными, весь край поднимается, и все с женами, детьми, лошадьми, скотиной подъезжают к мосту. Но так как было невозможно взять их всех, князь был принужден отказать пришедшим последними, и надо было видеть, как это было ему тяжело. Он принимал все депутации, которые приходили от этих несчастных, разговаривал с каждой из них, старался объяснить им невозможность этого, предлагал переправиться без повозок и скотины, беря на себя заботу об их пропитании, пока они не приедут в Россию, платя из собственных средств за частные суда для их перевоза, одним словом, делая все, что возможно, для блага этих людей.
Да, дорогая тетенька, я желал бы очень, чтобы ваше пророчество сбылось. О чем я больше всего мечтаю, это быть адъютантом такого человека, как он, которого я люблю и уважаю от всей глубины моего сердца. Прощайте, дорогая и добрая тетенька, целую ваши ручки».
Среди этих сильных и новых ощущений Л. Н-ч не покидает и своего постоянного занятия, внутренней работы над самим собой; работа эта отражается в записях его дневника.
«7-го июля. Скромности у меня нет. Вот мой большой недостаток. Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-милетнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет; без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил, человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни; наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, а главное – привычек, а оттуда, придравшийся к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26-ти лет прапорщиком почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употреблять на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей, но с огромным самолюбием. Да, вот мое общественное положение.
Посмотрим, что такое моя личность.
Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой.
Я умен, но ум мой еще ни на чем никогда не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового.
Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием, но есть вещи, которые я люблю больше добра, – славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью – первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.
Да, я нескромен, оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете».
Порой его охватывало поэтическое настроение, и он набрасывал художественные картинки.
Он остановился по делу службы в одном маленьком румынском городке, и там вечером он испытал чудное настроение, вылившееся у него в такой записи дневника:
«После обеда я облокотился на балкон и глядел на свои любимый фонарь, который так славно светит сквозь дерево. Притом же после нескольких грозовых туч, которые проходили и мочили ныне землю, осталась одна большая, закрывавшая всю южную часть неба, и какая-то приятная легкость и влажность в воздухе. Хозяйская хорошенькая дочка так же, как я, лежала в своем окне, облокотившись на локти. По улице прошла шарманка, и когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало так грустно-хорошо, что я невольно улыбнулся и долго еще смотрел на свой фонарь, свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева, на дерево, на забор, на небо, и все это мне казалось еще лучше, чем прежде».
Неудачный дунайский поход, отступление войска, скучная штабная жизнь – все это далеко не удовлетворяло Льва Николаевича; он искал более сильной деятельности, более сильных ощущений и перепросился в крымскую армию.
20-го июля, после отступления из-под Силистрии, он уезжает в Крым. Дорога его пролегает через города Текучи, Берладд, Яссы, Херсон, Одессу, Севастополь, куда он прибывает 7-го ноября 1854 года. По дороге он хворает и лежит в больнице, чем и объясняется такой долгий путь.
По прибытии в Севастополь он был прикомандирован к 3-й легкой батарее 14-й артиллерийской бригады.
Здесь его охватывает такая масса новых впечатлений, что он сам не скоро может справиться с ними и, наконец, через две недели, 20-го ноября, пишет брату Сергею:
«Любезный друг Сережа, я, Бог знает, как виноват перед всеми вами с самого начала своего отъезда, и отчего это случилось, сам не знаю; то рассеянная жизнь, то скучное положение и расположение, то война, то кто-нибудь помешает и т. д. и т. д. Главная же причина – рассеянная и обильная впечатлениями жизнь. Столько я переузнал, переиспытал, перечувствовал в этот год, что решительно не знаешь, с чего начать описывать, да и сумеешь ли описать, как хочется. Ведь я тетеньке написал про Силистрию, а тебе и Николеньке я не напишу так, – я бы хотел вам передать так, чтобы вы меня поняли, как я хочу. Теперь Силистрия – старая песнь, теперь Севастополь, про который, я думаю, и вы читаете с замиранием сердца, и в котором я был 4 дня тому назад. Ну, как тебе рассказать все, что я там видел, и где я был, и что делал, и что говорят пленные и раненые французы и англичане, и больно ли им и очень ли больно, и какие герои наши враги, особенно англичане. Рассказывать все это будем в Ясной после или в Пирогове; а про многое ты от меня же узнаешь в печати. Каким это образом, расскажу после, теперь же дам тебе понятие о том, в каком положении наши дела в Севастополе. Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более трех недель подошел в одном месте на 80 сажен и не идет вперед; при малейшем движении его вперед его засыпают градом снарядов.
Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «здорово, ребята!» говорил «нужно умирать, ребята, умрете?», и войска кричали: «умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22.000 исполнили это обещание.
Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-ю французскую батарею, и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде, 24-го, было 160 человек, которые раненые не вышли из фронта. Чудное время! Теперь, впрочем, после 24-го, мы поуспокоились, – в Севастополе стало прекрасно. Неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмет города, и это действительно невозможно. Есть три предположения: или он пойдет на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время. Бомбардирование 5 числа остается самым блестящим, славным подвигом не только в русской, но во всемирной истории. Более 1500 орудий два дня действовали по городу и не только не дали сдаться ему, но не заставили замолчать и 1/200 наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит ее выше всех других; не забудь, что мы с равными, даже меньшими силами, с одними штыками и с худшими войсками в русской армии (как 6-й корпус) деремся с неприятелем многочисленнейшим и имеющим флот, вооруженным 3000 орудиями, отлично вооруженным штуцерами, и с лучшими его войсками. Уж я не говорю о преимуществе его генералов.
Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я убежден) при таких условиях. Надо видеть пленных французов и англичан (особенно последних): это молодец к молодцу, именно морально и физически, народ бравый. Казаки говорят, что даже рубить жалко; и рядом с ними надо видеть нашего какого-нибудь егеря: маленький, вшивый, сморщенный какой-то.
Теперь расскажу, каким образом ты в печати будешь от меня же узнавать о подвигах этих вшивых и сморщенных героев. В нашем артиллерийском штабе, состоящем, как, кажется, я писал вам, из людей очень хороших и порядочных, родилась мысль издавать военный журнал, с целью поддерживать хороший дух в войске, журнал дешевый (по 3 р.) и популярный, чтобы его читали солдаты. Мы написали проект журнала и представили его князю. Ему очень понравилась эта мысль, и он представил проект и пробный листок, который мы тоже составили, на разрешение государя. Деньги на издание авансируем я и Столыпин. Я избран редактором вместе с одним господином Константиновым, который издавал «Кавказ» и человек опытный в этом деле. В журнале будут помещаться описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах. Подвиги храбрости, биографии и некролога хороших людей и преимущественно из темненьких; военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном и артиллерийском искусстве и т. д. Штука эта мне очень нравится: во-первых, я люблю это занятие, а во-вторых, надеюсь, что журнал будет полезный и не совсем скверный. – Все это еще предположения до тех пор, пока не узнаем ответа государя, а я, признаюсь, боюсь за него: в пробном листке, который послан в Петербург, мы неосторожно поместили две статьи, одна моя, другая Ростовцева, не совсем православные. Для этой же штуки мне нужно 1500 р., которые лежат в приказе и которые я просил Валерьяна прислать мне. Так как я уже проболтался тебе об этом, то передай и ему.
Я, слава Богу, здоров, живу весело и приятно с тех самых пор, как пришел из-за границы. Вообще все мое пребывание в армии разделяется на два периода: за границей скверный, – я был и болен, и беден, и одинок, – в границах приятный: я здоров, имею хороших приятелей, но все-таки беден, деньги так и лезут.
Писать не пишу, но зато испытываю, как меня дразнит тетенька. Одно беспокоит меня: я четвертый год живу без женского общества, я могу совсем загрубеть и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю.
Прощай же, Бог знает, когда мы увидимся, ежели вы с Николенькой не вздумаете отъезжим полем завернуть как-нибудь из Тамбова в главную квартиру».
Я привел целиком это замечательное письмо, показывающее, как молод душой был в то время Л. Н-ч, как он был способен увлекаться, и как это увлечение затемняло ему ясное представление о всем совершавшемся вокруг него. Тем с большей силой выступают на этом фоне проблески ясного сознания и пророческого вдохновения.
Очевидно, что, несмотря на силу внешних впечатлений, они не заполняли собой всей души Льва Николаевича, и в уединении, за писанием своего дневника, быть может, в блиндаже 4-го бастиона, он оставался тем же ищущим и стремящимся к идеалу, каким был всегда и есть теперь.
Тогдашнее душевное настроение его вылилось в поэтическую форму и записано в дневнике:
Когда же, когда, наконец, перестану Без цели и страсти свои век проводить, И в сердце глубокую чувствовать рану. И средства не знать, как ее заживить? Кто сделал ту рану? лишь ведает Бог, Но мучит меня от рожденья Грядущей ничтожности горький залог, Томящая грусть и сомненья.23-го ноября он переезжает в Симферополь.
6-го января 1855 года он пишет тетушке Т. А. успокоительное письмо:
«Я не принимал участия в двух кровавых сражениях, бывших в Крыму, но я был в Севастополе тотчас после сражения 24 и провел там месяц. Больше не дерутся в открытом поле по причине зимы, которая очень сурова, особенно теперь, но осада продолжается. Каков будет исход этой войны, один Бог знает, но, во всяком случае, Крымская кампания должна кончиться так или иначе через 3 или 4 месяца. Но увы! конец Крымской кампании не означает конца войны; напротив, кажется, что она затянется надолго.
Я говорил в моих письмах к Сереже и, кажется, Валерьяну об одном занятии, которое у меня было в виду и которое мне очень улыбалось; теперь, когда это уже дело решенное, я могу сказать. У меня была мысль создать военный журнал. Этот проект, над которым я работал в сотрудничестве со многими выдающимися людьми, был одобрен князем и был послан на усмотрение его величества; но так как у нас против всего нового интригуют, нашлись люди, которые побоялись конкуренции этого журнала; быть может, также идея этого журнала не была в видах правительства, – и государь отказал.
Эта неудача, признаюсь вам, мне доставила большое горе и много изменила мои планы. Если, Бог даст, Крымская кампания хорошо окончится, и если я не получу место, которым бы я был доволен, и если не будет войны в России, я покидаю армию и еду в Петербург в военную академию. Этот план пришел мне в голову, во-1-х, потому что я бы не хотел бросать литературу, которою мне невозможно заниматься в этой лагерной жизни, во-вторых, потому что мне кажется, что я становлюсь тщеславен, не то что тщеславен, но мне хочется делать хорошее, а для этого надо быть больше, чем подпоручиком. В-третьих, потому что тогда я увижу всех вас и всех моих друзей. Николенька пишет мне, что Тургенев познакомился с Машенькой, я от этого в восторге; если вы его увидите у них, скажите Вареньке, что поручаю ей обнять его от меня и сказать ему, что, хотя я его знаю только по его писаньям, у меня было бы многое, что ему сказать».
Последующая жизнь прекрасно передана Львом Николаевичем в письме к брату, написанном уже в мае 1855 года, где он дает хронологический перечень фактов своей военной жизни за последнюю зиму 54–55 года.
«Хотя ты, верно, знаешь через наших, где и что я делал, повторяю тебе свои похождения с Кишинева, тем более, что, может быть, для тебя будет интересно же, как я их рассказываю, и поэтому ты узнаешь, в какой я фазе нахожусь – так как уж, видно, моя судьба всегда находиться в какой-нибудь фазе.
Из Кишинева 1-го ноября я просился в Крым отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно напал на меня. Я никуда не просился, а предоставил начальству распоряжаться моей судьбой. В Крыму прикомандировали к батарее в самый Севастополь, где я пробыл месяц весьма приятно, в кругу простых, добрых товарищей, которые бывают особенно хороши во время настоящей войны и опасности. В декабре нашу батарею отвели к Симферополю, и там я прожил полтора месяца в удобном помещичьем доме, ездил в Симферополь танцевать и играть на фортепиано с барышнями и охотиться на Чатыр-даге с чиновниками за дикими козами. В январе опять была тасовка офицеров, и меня перевели в батарею, которая стояла лагерем в 10 верстах от Севастополя на Бельбеке. Там j'ai fait la connaissance de la mere de Кузьма – самый гадкий кружок офицеров в батарее, командир, хотя и доброе, но сильное и грубое создание; никаких удобств, холод в землянках. Ни одной книги, ни одного человека, с которым бы можно поговорить. И тут-то я получил 1500 рублей на журнал, который уже был отказан, и тут-то я проиграл 2500 рублей и тем доказал всему миру, что я все-таки пустяшный малый, хотя предыдущие обстоятельства и могут быть приняты comme circumstances attenuantes, все-таки очень, очень скверно. В марте стало теплее, и приехал в батарею милый, отличнейший человек Бреневский; я стал опоминаться, а 1-го апреля батарея во время самого бомбардирования пошла в Севастополь, и я совсем опомнился. Там до 15 мая, хотя и в серьезной опасности, т. е. по 4 дня через 8 дежурным на батарее 4-го бастиона, но весна и погода отличные; впечатлений и народа пропасть, все удобства жизни, и нас собрался прекрасный кружок порядочных людей, так что эти полтора месяца останутся одним из самых моих приятных воспоминаний. 15-го мая Горчакову или начальнику артиллерии вздумалось поручить мне сформировать и командовать горным взводом в Бельбеке – 20 верст от Севастополя, чем я чрезвычайно до сих пор доволен во многих отношениях. Вот тебе общее описание; в следующем письме напишу подробнее о настоящем».
К этому краткому описанию мы можем прибавить, что шуточный тон письма не соответствует тем серьезным мыслям и чувствам, которые волновали Льва Николаевича за это время.
В его дневнике от 5-го марта 1855 года записано следующее пророчество о самом себе:
«Разговор о божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей религией – вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».
Конечно, человеку, написавшему эти строки пятьдесят лет тому назад и впоследствии с такою силою и твердостью положившему основание для осуществления этой идеи, – такому человеку было место не в артиллерии.
Он это смутно чувствовал, и в его записках время от времени прорывается сознание того, что он создан не для военной, а для литературной карьеры. И он все это время не оставляет своей литературной деятельности. Еще по дороге из Румынии в Севастополь он кончает «Рубку леса», затем еще в Севастополе начинает писать «Юность» и пишет «Севастопольские рассказы».
С 11 по 14 апреля он проводит на 4 бастионе. Сознание опасности вызывает в нем подъем духа, и он обращается к Богу с такой молитвой:
«Боже, благодарю Тебя за Твое постоянное покровительство мне. Как верно ведешь Ты меня к добру! И каким бы я был ничтожным созданием, ежели бы Ты оставил меня! Не остави меня, Боже, напутствуй меня, и не для удовлетворения моих ничтожных стремлении, а для достижения вечной и великой, неведомой, не сознаваемой мною цели бытия».
4-го августа 1855 года Лев Николаевич принимал, хотя и косвенное, участие в сражении при Черной речке. Он спешит успокоить своих родных и в письме к брату от 7-го августа 1855 года, между прочим, пишет:
«Пишу тебе несколько строк, чтобы успокоить за себя по случаю сражения 4-го, в котором я был и остался цел; впрочем, я ничего не делал, потому что моей горной артиллерии не пришлось стрелять».
В то же время, как видно из переписки Л. Н-ча с Некрасовым, он следил за русской литературой и деятельно поддерживал редакцию «Современника», собирая в Севастополе кружок сотрудников. Вот что он пишет Некрасову 30 апреля 1855 г. из Севастополя:
«Милостивый государь, Николай Алексеевич!
Вы уже должны были получить статью мою «Севастополь в декабре» и обещание статьи Столыпина. Вот она. Несмотря на дикую орфографию этой рукописи, которую вы уже сами распорядитесь исправить, ежели она будет напечатана без цензурных вырезок, чего старался всеми силами избежать автор, вы согласитесь, я надеюсь, что статей таких военных или очень мало, или вовсе не печатается у нас, к несчастью. Может быть, с этим же курьером пошлется статья Сакена, о которой ничего не говорю и которую, надеюсь, вы не напечатаете. Поправки в статье Столыпина сделаны черными чернилами Хрулевым левой рукой, потому что правая ранена. Столыпин просит поместить их в выносках. Пожалуйста, если можно, поместите как мою, так и столыпинскую в июльской книжке. Теперь мы все собрались, и литературное общество падшего журнала начинает постепенно организовываться, и, как я нам писал, ежемесячно вы будете получать от меня 2, 3 или 4 статьи современного военного содержания. Лучшие два сотрудника, Бакунин и Ростовцев, еще не успели кончить своих статей. Будьте так добры, отвечайте мне и пишите вообще с этим курьером, адъютантом Горчакова, и с будущими, которые беспрестанно снуют от вас и сюда».
15-го июня он получил в Бахчисарае письмо от Панаева и книжку «Современника» с напечатанным рассказом «Севастополь в декабре». Из письма он узнал, что его рассказ читал государь.
Очевидно, рассказ этот произвел на государя сильное впечатление, так как он приказал перевести его на французский язык. В июне же Л. Н-ч кончил рассказ «Рубка леса» и отослал его в «Современник».
В июле Л. Н-ч заканчивает новый рассказ «Севастополь в мае» и отсылает в редакцию.
С этим рассказом произошло следующее, о чем пишет Панаев Толстому из Петербурга.
«В письме моем к вам, через Столыпина доставленном, я писал к вам, что статья ваша пропущена цензурой с незначительными изменениями, и просил вас не сердиться на меня за то, что надо было прибавить несколько слов в конце для смягчения выражения… Статья «Ночь в Севастополе» была уже совсем отпечатана в 3.000 экземпляров, как вдруг цензор потребовал ее из типографии, остановив выход номера (августовская книжка явилась поэтому в Петербурге 18 авг.), и в отсутствие мое из Петербурга (я на несколько дней ездил в Москву) представил ее на прочтение председателю цензурного комитета – известному вам по Казани – Пушкину. Если вы знаете Пушкина, вы можете отчасти вообразить, что последовало. Пушкин пришел в ярость, напал на цензора и на меня за то, что представляю в цензуру такие статьи, и собственноручно переделал ее. Я между тем вернулся в Петербург и, увидав эту переделку, пришел в ужас – и статью вовсе хотел не печатать, но Пушкин в объяснении со мною сказал, что я обязан напечатать так, как она переделана. Делать было нечего – и статья ваша изуродованная появится в сентябрьской книжке, но без букв Л. Н. Т., которые я уже не мог видеть под ней после этого. Но статья все же была так хороша, что, даже после совершенного уничтожения ее цензурою, я давал ее читать Милютину, Краснокутскому и др. Всем она нравится очень, и Милютин писал мне, что грех, если я лишу читателей этой статьи и не напечатаю ее даже в таком виде.
Не вините же меня, во всяком случае, за то, что статья ваша напечатана в таком виде. Я вынужден был это сделать. Если Бог приведет нам когда-нибудь свидеться (чего я очень желаю), я объясню вам эту историю яснее. Теперь я скажу вам два слова о впечатлении, которое ваш рассказ («Ночь») производит вообще в его первобытном виде на нас, на всех, которым я читал его… О цензуре тут речи нет.
Все находят этот рассказ сильнее первого по тонкому и глубокому анализу внутренних движений и ощущений в людях, у которых беспрестанно смерть на носу; по той верности, с которою схвачены типы армейских офицеров, столкновения их с аристократами и взаимные их отношения друг к другу, – словом, все превосходно, все очерчено мастерски; но все до такой степени облито горечью, все так резко, ядовито, беспощадно и безотрадно, что в настоящую минуту, – когда место действия рассказа – чуть не святыня, больно для людей, которые в отдалении от этого, – рассказ мог бы произвести даже весьма неприятное впечатление.
«Рубка леса» с посвящением Тургеневу появится также в сентябре (Тургенев просил меня очень, очень благодарить вас за память о нем и внимание к нему)… И в этом рассказе, прошедшем сквозь три цензуры: кавказскую (цензор – статс-секретарь Бутков), военную (генерал-майор Стефен) и гражданскую нашу (мой цензор и Пушкин), тронуты типы офицеров и кое-что повыкинуто, к сожалению».
В сентябре Некрасов писал Толстому:
«Милостивый государь, Лев Николаевич!
Я прибыл в Петербург в половине августа, на самые плачевные для «Современника» обстоятельства. Возмутительное безобразие, в которое приведена ваша статья, испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства. Труд-то ваш, конечно, не пропадет… Он всегда будет свидетельствовать о силе, сохранившей способность к такой глубокой и трезвой правде среди обстоятельств, в которых не всякий бы сохранил ее. Не хочу говорить, как высоко я ставлю эту статью и вообще направление вашего таланта и то, чем он вообще силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою стороною в вашем даровании. Эта правда, в том виде, в каком вносите вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с вами того, что с большею частью из нас: не убили в вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России. Вы молоды; идут какие-то перемены, которые – будем надеяться – кончатся добром, и, может быть, вам предстоит широкое поприще. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко. Однако я отвлекся от цели письма. Не буду вас утешать тем, что и напечатанные обрывки вашей статьи многие находят превосходными; для людей, знающих статью в настоящем виде, – это не более как набор слов без смысла и внутреннего значения. Но нечего делать! Скажу одно: что статья не была бы напечатана, если бы это не было необходимо. Но имени вашего под нею нет. «Рубка леса» прошла порядочно, хотя и из нее вылетело несколько драгоценных черт. Мое мнение об этой вещи такое: формою она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; все остальное принадлежит вам и никем, кроме вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких заметок, и весь он нов, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками: о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали вы все, что знаете об этом предмете, – все это будет в высшей степени интересно и полезно. Панаев передал мне ваше письмо, где вы обещаете нам скоро прислать «Юность». Пожалуйста, присылайте. Независимо от журнала, я лично интересуюсь продолжением вашего первого труда. Мы приготовим для «Юности» место в Х или XI книге, смотря по времени, как она получится.
Деньги вам будут на днях посланы. Я поселился на зиму в Петербурге и буду рад, если вы напишете мне несколько строк при случае.
Примите уверение в моем искреннем уважении.
Н. Некрасов».
Но, разумеется, литературные занятия были не главным времяпрепровождением Толстого. Он вел обычную жизнь офицера и был хорошим товарищем, о чем свидетельствуют его современники и сослуживцы.
В воспоминаниях Назарьева приводится подробный рассказ бывшего товарища Толстого по Севастополю, с видимым удовольствием вспоминавшего о нем и о времени, проведенном с ним в одной батарее. Он даже узнавал себя в одном из героев «Севастопольских рассказов».
«Так, скажу, – с блаженной улыбкой повествовал старик, – Толстой своими рассказами и наскоро набросанными куплетами одушевлял всех и каждого в трудные минуты боевой жизни. Он был, в полном смысле, душой батареи. Толстой с нами, – и мы не видим, как летит время, и нет конца общему веселью… Нет графа, укатил в Симферополь, – и все носы повесили. Пропадает день, другой, третий… Наконец возвращается… ну точь-в-точь блудный сын, – мрачный, исхудалый, недовольный собой… Отведет меня в сторону, подальше, и начнет покаяние. Все расскажет: как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник. Даже жалко смотреть на него – так убивается… Вот это какой был человек. Одним словом, странный и, говоря правду, не совсем для меня понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно».
Поведение Льва Николаевича, как храброго офицера, и связи в высших сферах могли обеспечить ему выгодную военную карьеру. Этому способствовало также появление в печати его «Севастопольских очерков», обративших на себя внимание Александра II и императрицы Александры Феодоровны, которая, как рассказывают, плакала, читая первый рассказ; но тот же дар творчества и положил предел этому успеху. Препятствием к блестящей карьере явились «Севастопольские песни». История этих двух песен такая.
В приводимом нами наиболее полном варианте первая из них была напечатана в «Русской старине», по сообщению известного писателя и ученого М. И. Венюкова. Текст песни снабжен следующим его примечанием:
«В 1854-56 годах я находился в Академии Генерального Штаба для слушания военных наук и здесь получил из Крыма, с театра военных действий, от одного из моих прежних товарищей по батарее, Ив. Вас. Аносова, офицера 14-й артиллерийской бригады, список приводимой мною следующей песни:
Севастопольская песня
Как четвертого числа Нас нелегкая несла Горы отбирать, (bis) Барон Вревский генерал К Горчакову приставал Когда под-шафе: (bis) «Князь, возьми ты эти горы. Не входи со мною в ссору, Не то донесу». (bis) Собирались на советы Все большие эполеты, Даже плац-Бекок. (bis) Полицмейстер плац-Бекок Никак выдумать не мог, Что ему сказать, (bis) Долго думали, гадали, Топографы все писали На большом листу, (bis) Чисто писано в бумаги, Да забыли про овраги, Как по ним ходить, (bis) Выезжали князья, графы, А за ними топографы На большой редут. (bis) Князь сказал: «ступай, Липранди», А Липранди: «нет-с, атанде. Нет, мол, не пойду, (bis) Туда умного не надо. Ты пошли туда Реада, А я посмотрю», (bis) Вдруг Реад возьми, да спросту, И повел нас прямо к мосту: «Ну-ка, на уру». (bis) Мартенау умолял, Чтоб резервов обождал, – «Нет, уж пусть идут». (bis) На уру мы зашумели, Да лезерты не поспели, Кто-то переврал. (bis) На Федюхины высоты Нас пришло всего три роты, А пошли полки. (bis) Наше войско небольшое, А француза было втрое И секурсу тьма. (bis) Ждали – выйдет с гарнизона Нам на выручку колонна, Подали сигнал; (bis) А там Сакен-генерал Все акафисты читал Богородице. (bis) Тетеревкин-генерал. Он все знамя потрясал, Вовсе не к лицу. (bis) И пришлось нам отступать …………………. Кто туда водил. (bis)Об авторе этой остроумной шутки-песни Аносов мне писал, – продолжает Венюков, – что общий голос армии приписывает ее нашему талантливому писателю, графу Л. Н. Толстому. «Но ты понимаешь, – писал Аносов, – что об этом предмете говорить с точностью невозможно, хотя бы для того, чтобы не наделать беды Толстому, если сочинитель действительно он».
Позднее, также в «Русской старине», снова напечатана эта песня в приведенном нами варианте, за подписью «одного из участников в составлении «Севастопольской песни».
Вот как этот участник рассказывает ее историю:
«Граф Л. Н. Толстой был действительно одним из участников в составлении этой песни, но не автором всех куплетов, в нее вошедших. Таким образом, не совсем справедливо приписывать ему все это остроумное произведение.
Поэтому, в видах исторической правды, сообщу вам историю происхождения этой песни как очевидец.
Во время Крымской войны часто, почти ежедневно, по вечерам собирались у начальника штаба артиллерии, Крыжановского, чины его штаба и некоторые другие офицеры. Список их помещен далее.
Обыкновенно подполковник Балюзек садился за фортепиано, прочие становились кругом, и куплеты импровизировались. Каждый вносил свою мысль и слово. Граф Л. Н. Толстой также вносил свое, но не все. Поэтому можно сказать, что эта импровизация была дело общее, выражавшее настроение военных кружков.
Вот участники в составлении «Севастопольской песни»: подполковник Балюзек, был после тургайским губернатором, ныне умер, садился обыкновенно за фортепиано; капитан А. Я. Фриде, ныне начальник кавказской артиллерии; штабс-капитан граф Л. Н. Толстой; поручик Вл. Лугинин; поручик Шубин; штабс-капитан Сержпутовский, поручик Шклярский, офицер уланского полка Н. Ф. Козляников 2-й и гусарского полка Н. С. Мусин-Пушкин».
Нам доставлен еще текст другой подобной песни, сложившейся, вероятно, при всех тех же обстоятельствах, хотя немного позднее. Тут же прилагаются и ноты, записанные по памяти Сергеем Львовичем Толстым. В этой песне есть несколько непечатных народных выражений. Где было можно, не изменяя смысла и размера, мы заменили их равнозначащими печатными выражениями, а где нельзя было, поставили точки.
Севастопольская песня На восьмое сентября 1855 г.
Как восьмого сентября Мы за веру и царя От француз ушли. (bis) Князь Лександра адмирал Суденышки затоплял В море-пучине, (bis) Молвил: счастия желаю, Сам ушел к Бахчисараю – Ну вас всех… (bis) Сент-Арно позакопался, Он учтиво обращался, С заду обошел, (bis) И когда бы нам во вторник Не помог святой угодник, Всех бы нас забрал, (bis) А Липранди-енарал Много шанцев позабрал – Все не помогло, (bis) Из-под града Кишинева Ждали войска пребольшова, Войско подошло, (bis) Данненбергу поручили, Его очинно просили Войска не жалеть, (bis) Павлов, Соймонов ходили, Круты горы обходили, Вместе не сошлись, (bis) А Липранди хоть видал. Как француз одолевал, – Руку не подал. (bis) А князьки хоть приезжали, Да француз не испужали, – Все палят с маркел. (bis) Тысяч десять положили, От царя не заслужили Милости большой, (bis) Князь изволил рассердиться, Наш солдат-де не годится, Спину показал. (bis) И в сражение большое Было только два героя – Их высочества. (bis) Им повесили Егорья. Повезли назад со взморья В Питер показать. (bis) Духовенство все просило, Чтоб француз позатопило, Бурю Бог послал. (bis) Была сиверка большая, Но француз, не унывая, На море стоял. (bis) Зимой вылазки чинили, Много войска положили, Все из-за туров. (bis) Посылай хоть нам Хрулева Выжить турка из Козлова, – Наша не взяла. (bis) Просит Меньшик подкрепленья; Царь ему во утешенье Сакена прислал. (bis) Меньщик – умный адмирал, Царю прямо отписал: Батюшка – наш царь, (bis) Ерофеич твой не крепок. От твоих же малолеток Проку ничего. (bis) Царь на Меньщика серчает, Как в ту пору захворает На одном смотру. (bis) И отправился на небо. – Верно, в нем была потреба, Хоть давно пора. (bis) А когда он умирал, Свому сыну наказал: Ты теперь смотри. (bis) Сын же Меньщику писал: Мой любезный адмирал К черту, брат, тебя. (bis) Назначаю я иного – Того князя Горчакова, К турке что ходил. (bis) Много войск ему не надо, Будет пусть ему награда – Красные штаны. (bis)Если вспомнить те обстоятельства, при которых слагались эти песни, все эти ужасы смерти, стоны раненых, кровь, пожары, убийства, наполнявшие собою атмосферу Севастополя, невольно приходишь в удивление перед той силой духа, которая оставляла место для добродушных шуток над самими собой под постоянной угрозой страданий и смерти.
Между тем в кружке петербургских литераторов Толстой приобретал все больше и больше известности. Он покорил Тургенева, одного из первых своих строгих критиков. Читатели помнят рассказ Головачевой-Панаевой, приведенный в предыдущей главе, о том, как Тургенев подтрунивал над Панаевым за его восторги.
В 54-м году он, между прочим, пишет из Спасского Е. Я. Колбасину, одному из сотрудников «Современника»:
«…Очень рад я успеху «Отрочества». Дай только Бог Толстому пожить, а он, надеюсь, еще удивит нас всех – это талант первостепенный. Я здесь познакомился с его сестрой (она тоже за графом Толстым) – премилая, симпатичная женщина…»
Когда же появились «Севастопольские рассказы», то и сам Тургенев приходит в восторг и так выражает его в письме к Панаеву:
Спасское. 10 июля 1855 г.
«Статья Толстого о Севастополе – чудо! Я прослезился, читая ее, и кричал: ура! Мне очень лестно желание его посвятить мне свой новый рассказ. Объявление о «Современнике» я прочел в «Московских ведомостях». Хорошо, дай Бог, чтобы вы могли сдержать ваши обещания, т. е. чтобы проходили статьи, чтобы Толстого не убили и т. д. Это вам поможет сильно. Статья Толстого произвела здесь фурор всеобщий…
Вообще после появления «Севастопольских рассказов» Лев Николаевич становится уже на высоту первоклассных писателей. Интересный отзыв Писемского об этих рассказах приводит А. Ф. Кони в биографии И. Ф. Горбунова.
Около этого же времени, – говорит он, – Писемский, писавший тогда такую замечательную вещь, как «Тысяча душ», угрюмо сказал Горбунову о начинающем «великом писателе земли русской» по поводу «Севастопольских рассказов», отрывки из которых он только что прослушал: «этот офицеришка всех нас заклюет, хоть бросай перо…»
После сдачи Севастополя Л. Н-ч был послан курьером в Петербург. Перед отъездом из Севастополя Льву Николаевичу пришлось приложить свои литературные силы к составлению отчета о последнем сражении. Сам Лев Николаевич так рассказывает об этом отчете в своей статье: «Несколько слов по поводу «Войны и мира»:
«После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне донесение артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем 20-ти донесений – одно. Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли знать».
Бывали во время военной службы у Толстого и столкновения с начальством и сослуживцами из-за его любви к справедливости.
По обычаю тогдашнего времени, командиры частей, и в том числе командир батареи, получая казенные деньги на содержание батареи, могли оставлять себе все, что они сэкономят. Это составляло для большинства командиров порядочный доход и, разумеется, вело ко многим злоупотреблениям.
Толстой, заметив остаток казенных денег при сведении счетов, записал его на приход, т. е. отказался от него. Этот поступок вызвал, конечно, неудовольствие других командиров. Генерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание.
Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях Н. А. Крылов, переведенный в 1856 году в 14-ю батарею, из которой только что выбыл Л. Н. Толстой. В бригаде он оставил по себе память как ездок, весельчак и силач. Так, он ложился на пол, на руки ему ставился в пять пудов мужчина, и он, вытягивая руки, подымал его вверх; на палке никто не мог его перетянуть. Он же оставил много остроумных анекдотов, которые рассказывал мастерски… Графа обвиняли в том, что он проповедовал офицерам возвращать в казну даже те остатки фуражных денег, когда офицерская лошадь не съест положенного ей по штату.
В Петербурге Льва Николаевича ждала иная жизнь, которой он и отдается со всею присущей ему молодой энергией.




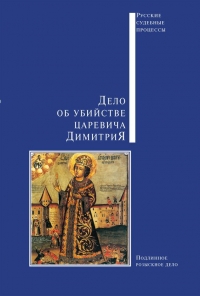
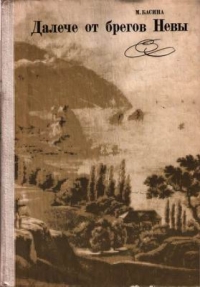



Комментарии к книге «Биография Л.Н.Толстого. Том 1. 1-я часть», Павел Иванович Бирюков
Всего 0 комментариев