Анатолий Бергер Продрогшие созвездия
Поэзия Анатолия Бергера в русской литературе явление особенное. В большей своей части это философская лирика, тёмный мятущийся поиск последней правды в обрывочных сновидениях, в таинствах жизни окружающей природы: жизни неба и земли, моря и суши. И главное — душа человеческая в её взаимоотношениях с течением Времени, с происходящим, но невидимым человеческому глазу бытиём Вселенной. Совсем кратко: взросление души и жизнь Времени — вот суть поэзии Бергера.
Если говорить о частностях — его отличает поразительная зоркость в описаниях природы. Как сказал как-то поэт Игорь Бурихин — он с природой на ты. Он видит то, что не видно, слышит то, что не слышно.
В шестидесятые годы Анатолий Бергер создал цикл «Россия», в котором осмысливал путь и судьбу страны, прозорливо предугадывая времена, через десятилетие пришедшие. С той поры тема России не отпускает поэта. Горько и пронзительно звучат его слова и сегодня, да и былые слова шестидесятых годов так же злободневны сейчас, как и тогда. Глубокое знание мировой истории, живое её воссоздание — примечательная черта поэзии Анатолия Бергера. За стихи 60-х годов удостоился он высшей советской награды — тюрьмы, лагеря, ссылки. Стихи об этих годах одни из самых сильных на подобные темы. Проникновенны его строки о любви.
Проза Анатолия Бергера — его воспоминания, рассказы, пьесы, статьи дополняют его поэзию. Он и здесь превосходно владеет словом, его русским языком заслушаешься. Всё это талантливо, самобытно, неповторимо.
Предлагаемая книга — малое собрание сочинений, избранное, как писали в XIX веке. Поэту в 2013-м году исполнилось 75 лет, и он предъявляет нам итог созданного им за все эти годы.
Тамара Петкевич,
Член Союза писателей России
Шестидесятые
«Уходит время, как уходит поезд…»
Уходит время, как уходит поезд,
И огоньки мерцают вдалеке,
Уходит время, как уходят двое,
В туман и мглу бредут рука в руке.
1962
«Музыка грустная, как старые фотографии…»
Музыка грустная, как старые фотографии,
За душу хватающая чуть не до слёз,
Зимние окна, как эпитафии
Осени, которую ветер унёс.
Деревья, снежной белены объевшиеся,
Машины, скользящие туда-сюда,
Сами себя по кривой объехавшие,
Оставляя два долгих следа,
Будильник, сон берущий приступом,
Как танки врываются в мирные дома,
Всё это старой болезни приступы —
Поэзии, которая сводит с ума.
1962
«От Невской бестолковой бучи…»
От Невской бестолковой бучи,
Где шум, огни и толчея,
К великолепному созвучью
Колонн и неба вышел я.
Там, под квадригой театральной
При свете призрачных лампад
Так по-осеннему опально
Шуршит и облетает сад.
1964
«Изнемогая от жары…»
Изнемогая от жары
И в ней барахтаясь, как в тине,
Провижу в луже я миры,
Как бы оазисы в пустыне.
Разбрызгивая небосвод
И зыбкую архитектуру,
Я чувствую стихов полёт,
Таинственную их фактуру.
Бальзамом ото всех скорбей
Переливается их гамма,
А рядом скачет воробей
И пьёт из лужи той же самой.
1964
«О, брейгелевская зима…»
О, брейгелевская зима,
О, пригородные пейзажи!
Дома стоят, как терема,
Деревья в белом камуфляже.
И птицы чёрные вдали,
Постукивание вагона,
И небо на краю земли
Белёсо, призрачно, наклонно.
Среди прохожих, проводов,
И уплывающего дыма
Молчание глубинней слов
И, как простор, неизмеримо.
1964
«Куда Фонтанка заведёт…»
Куда Фонтанка заведёт,
Темнея сумерками арок?
Её неторопливый ход
Сродни поэме без помарок,
Колеблются в ней деревца,
Дрожат, мерещатся фасады,
И превращеньям нет конца
Старинной призрачной ограды.
И если с берега клонясь,
В своё глядеться отраженье,
С самим собой теряешь связь
И погружаешься в движенье
Воды, забыв на берегу
Дома, деревья, крик ребячий
И самого себя в придачу…
1967
«Нева вздымалась пенисто…»
Нева вздымалась пенисто,
И ветер бил взахлёст,
И волны взъерепенисто
Вставали в полный рост.
Носились чайки с криками
Над тёмною водой,
И было всё уликами
Прощания со мной.
1961
«Он бури жнёт и ветер сеет…»
Он бури жнёт и ветер сеет,
В жестоком кружится снегу…
Я не могу с тобою, Север,
И без тебя я не могу.
Твои продрогшие созвездия
И сопок дальняя гряда —
И наивысшая поэзия,
И безысходная беда.
И сумасшествие метели,
Тумана сумрак и дурман…
Всё это снится не во сне ли,
Всё это явь или обман?
И город мой вдали, как небыль
В мостах и зданиях своих.
Я жив иль мёртв? Я был иль не был?
Я — выбитый из колеи.
1963
«Апрель, морозы взяв с разбега…»
Апрель, морозы взяв с разбега,
Теплом пробился с вышины,
И выступают из-под снега
Приметы северной весны.
Пучки травы, коричневатый
Унылый мох среди камней,
На них лишайника заплаты.
И самый первый воробей.
И моря синее открытье,
Ошеломляющее взгляд…
Весна на севере событье —
О ней всю зиму говорят.
1964,
Баренцево море, остров Витте
«Рассвета слышу леденящий голос…»
Рассвета слышу леденящий голос
И ветра дикий ведьминский полёт;
Я вспоминаю смутный, спящий город,
В котором молодость моя живёт.
Его мосты над тёмною водою
И улицы при свете фонарей,
Старинных зданий колдовство ночное,
И звёзды, как дыхание детей.
Влюблённые, бродяги и поэты
Одни его внимают бытию,
Даря ему шаги и силуэты,
А он им — душу зыбкую свою.
И в тишине таинственной, как небо,
В преддверьи наступающего дня,
Как чудная и призрачная небыль,
Спит город мой, в котором нет меня.
1962,
Заполярье
«Вспоминаются женщины…»
Вспоминаются женщины,
Те, с которыми был,
Их покорная женственность,
Шёпот, шалости, пыл.
Тех ночей недосказанность,
Та непрочность тепла,
Та бессвязность, несвязанность,
Что томила и жгла.
И прощаний обыденность,
И волнение встреч,
Что-то чаялось, виделось,
То, чего не сберечь.
Было начерно, набело,
Страсть, и зависть, и злость,
Только грусть иногда берёт,
Что любить не пришлось.
1963
«Пока слова звучали ни о чём…»
Пока слова звучали ни о чём,
Глаза вели свой разговор безгласный —
Старинный, убедительный и страстный,
Железо всех законов шло на слом,
Шелка трещали, обдавало жаром
Распятых губ, покорной наготы,
А для других на кромке тротуара
Так чуждо говорили я и ты.
1964
Лене
Ничего с собой не поделаю,
Никуда от себя не скрыться,
Я люблю тебя вечность целую,
Ты мне стала ночами сниться.
И прощаю тебе непрошено
Мою муку, тоску и верность,
И души моей, в сумрак брошенной,
Нерастраченную безмерность,
Мои строки, тебя клеймящие,
Осужденье друзей порою,
Потому что ты — настоящая,
И сияет сердце — тобою.
1965
«Я по следам любви…»
Я по следам любви
Ищу тебя упорно,
Ведут следы твои
Меня дорогой торной.
Меж ямин и канав
Измаян я ходьбою,
Кто прав, а кто не прав —
Судить не нам с тобою.
Не плачу и не мщу,
Не путаюсь в причинах,
В кафе тебя ищу,
Среди рядов Гостиных.
Но занят столик наш,
В толпе твой путь неведом,
Да и пустая блажь —
Бежать вслепую следом.
Быть может, ты уже,
Верна своей природе,
На новом рубеже,
На новом переходе.
Чужую колею
Пронзаешь каблучками,
Забыла про мою,
Про всё, что было с нами.
Разлуки тёмной дрожь,
И в ней по-рыбьи бьёшься…
Ты хоть во сне придёшь?
На старый след вернёшься?
1966
«Моих любовных неудач…»
Моих любовных неудач
Смотри, строка, не обозначь,
Ты, интонация, не выдай,
Ты, рифма, не рифмуй с обидой,
Да сгинет скорбь моя во мне,
Как будто это всё во сне.
Поэзия — лихой помощник —
Ей только покажи подстрочник
Пустынной улицы ночной,
Где расставались мы с тобой,
Шум электрички подземельной —
И сумрачность тоски смертельной,
Когда в туннеле скрылся стук
И я один остался вдруг.
1968
«Расстаться — разнести вконец…»
Расстаться — разнести вконец
Сплав изболевшихся сердец,
От неустройств, от неудач,
Обид, ревнивости — хоть плачь.
Расстаться — это значит врозь
Всё то, что пережить пришлось.
Нет, не могу — хоть кровь из жил,
Я не был без тебя, не жил,
Не знал, не ведал, не умел —
Единство душ, единство тел —
От этого нельзя, невмочь
Уйти, сбежать ни в день, ни в ночь.
Любимая, прости. Я вдруг
Представил — ты ушла из рук…
1966
«Друг друга узнают поэты…»
Друг друга узнают поэты
В коловороте городском,
Как будто вправду есть приметы
И нимб старинный над челом.
Идёшь… Размокла мостовая,
И снег слинял и чёрен лёд,
Сосульки, с желобов свисая,
Сорвутся на землю вот-вот.
Шныряет ветер. Никнут крыши,
И прослезились провода,
И в пятнах водяных афиши.
И с окон зимняя слюда
Сошла. Деревья ветви тянут,
И вдруг, посереди дорог
Глаза в глаза внезапно глянут,
Как бы столкнутся гулы строк,
Подспудных замыслов размахи,
И сгинула вся смута дел,
Сквозь лермонтовский амфибрахий
Поющий ангел пролетел,
Свечи заколебался пламень,
Над Русью коршун кружит вновь.
Воспетый и оживший камень
За праведную вопит кровь.
1967
«То окружают знатоки…»
То окружают знатоки,
Говоруны и острословы:
Им препарировать с руки
Летящее, как ангел, слово.
То стихотворцы с мастерком,
В самовлюблённости глухие:
Им с окровавленным виском
Не падать на снега России.
То женщина от слёз темна
Бросает жёсткие упрёки,
Что жизнью жертвует она,
Которой не окупят строки.
То близким уж невмоготу
И тяготит их беспокойство
За будущую нищету
И нынешние неустройства.
Кому — игра, кому — исток
Крутой печали и тревоги,
И праведный потомок строг,
Скупые подводя итоги.
1967
«Я обречён, как волк на вой…»
Поэт обречён на стихи,
Как волк на вой.
Андрей БелыйЯ обречён, как волк на вой,
Переживать строку строкой.
Пока в своём лесу глухом,
Где под ногами бурелом.
И мох, и заячьи следы,
Где — далеко ли до беды —
Кружу без устали, невмочь —
Зубастая крадётся ночь.
Сквозь хряск, и хруст, и вскрик, и стон,
Которые со всех сторон
Доносятся, томясь, спеша,
Бегу. Меня стремит душа
К поляне, где пустынен мрак,
Быстрей мой бег, бесшумней шаг,
И вот над смуглой мглой ветвей
Ребячьих светлых снов светлей
Сияет, плавный бег струя…
И к небу вой подъемлю я.
А завтра снова лес, зверьё,
Жизнь, смерть, и каждому своё.
Но есть во мне иная суть —
Мне только б на луну взглянуть.
На этот блеск над головой…
Я вечно обречён на вой.
Я обречён, как волк на вой,
Перемогать строку строкой.
1966
«Говорят обо мне по латыни…»
Говорят обо мне по латыни,
Точно холод вдруг душу кольнул.
О, лекарственный дух поликлиник!
Не триклиния праздничный гул.
Напряжённость, боязнь и унынье,
И, быть может, судьбы перелом.
Говорят обо мне по латыни,
Шепчет мёртвый язык о живом.
1964
«В самые опасные места…»
Посылать в самые опасные места
(Предписание Николая I начальству Лермонтова на Кавказе, 1840 г.)В самые опасные места —
Жребий твой, поэзия, от века,
Там, где выживет один из ста,
Да и то останется калекой.
В свару императоров и пап,
Воровских притонов мир мытарский,
В когти инквизиторовых лап,
В сумасшествие тюрьмы феррарской.
И на якобинский эшафот,
И на снег кровавый злости светской,
И в тридцать седьмой тот лобный год —
В лагеря «законности советской».
В самую горячку, в самый страх,
В самую лихую передрягу,
Что горит потом огнём в стихах,
Чуть не прожигая вдрызг бумагу.
И из этого исхода нет,
Всё предрешено, как в царской фразе:
«До свиданья, господин поэт.
Доброго пути Вам на Кавказе».
1967
«На полустанке, что за Мгой…»
На полустанке, что за Мгой,
Где пустыри, деревья, снег,
В глубокой полночи глухой
Попал под поезд человек.
Тот поезд шёл во весь опор,
Попробуй-ка останови,
Светил пустынно светофор,
И мёртвый он лежал в крови.
И в тот же час, и в тот же миг,
В иных краях, на всех парах
Шли поезда, и тот же крик,
И та же кровь, и тот же страх!
Статистика внезапных бед,
Проклятие из рода в род,
Нам от неё спасенья нет —
Кто обречён, того убьёт.
Кто и не ведает о том,
И знать не знает ничего,
Что под слепящим фонарём
На рельсах тех найдут его.
1969
«Сердцем чувствую помертвелым…»
Сердцем чувствую помертвелым,
Замирая, едва дыша,
Как душа расстаётся с телом,
Расстаётся с телом душа.
Удержать бы её, да где там,
Сил нет пальцем пошевельнуть,
Час прощания с белым светом,
Не избыть его, не минуть.
В смертном мраке охолоделом,
Над вселенскою пустотой,
О, как страшно остаться телом,
Оболочкой навек пустой.
1968
Из цикла «Россия»
В полевых да охотничьих
Ты названиях, прозвищах,
То по-птичьи бормочущих,
То по-волчьему воющих.
То пахнёт в них пожарищем,
То военною смутою,
То народным мытарищем,
Властью деспота лютою.
То печалью церковною,
Когда медленный звон плывёт,
То долиною ровною —
Посреди неё дуб цветёт.
1967
Монолог летописца
За Русь — родную мати,
За кровь, разор, тугу
Отмсти, отмсти, Евпатий
Проклятому врагу.
Пришли невесть откуда,
Темны, раскосы — страх,
И русскому-то люду
Не снились в чёрных снах.
Казнят младых и старых
И гонят, знай, в полон,
И гибнет Русь в пожарах,
Повсюду плач и стон.
За что напасть такая?
И вот пошла молва —
Жива ли Русь святая?
То, может, татарва
И нынче Русью правит,
Карает слепо, лжёт.
И злое иго славит,
Поклонствуя, народ.
Забыл он Божье слово,
От храма чур да чур,
Чтит идола дурного
Раскосый тот прищур.
И где же Русь, ты, мати,
Чей свет я берегу?
Так мсти же, мсти, Евпатий
Проклятому врагу!
1968
«Кнут солёный, жаровня, дыба…»
Кнут солёный, жаровня, дыба,
Да скрежещет перо дьяка.
И за то, знать, Руси спасибо,
Что стоит на этом века.
Что её — волчий взгляд Малюты,
Беспощадная длань Петра,
И гражданские злые смуты,
И советских казней пора.
Что сынов её — пуля-слава,
Вышка лагерная — судьба,
И приветствовала расправы
Раболепная голытьба.
Но сынам ли считать ушибы,
Им ли слёзы лить на Руси?
Ох, спасибо же ей, спасибо,
Спаси Бог её, Бог спаси.
1966
Декабрист
Отчизны милой Божья суть,
Я за тебя один ответчик,
Легко ли мне себя распнуть
Той, царской, площадной картечью?
Легко ли на помосте том
С петлёю скользкою на шее
Ловить предсмертный воздух ртом,
От безысходности шалея?
Легко ль в сибирских тех снегах,
В непроходимых буреломах
Знать, что затерянный мой прах
Не вспомнит, не найдёт потомок?
Легко ль провидеть, что пройдут
Года, пребудут дни лихие.
Нас вызовут на страшный суд
Дел, судеб и мытарств России,
И нашим именем трубя,
На праведном ловя нас слове,
Отчизна милая, тебя
Затопят всю морями крови.
Свободу порубив сплеча,
Безвинных истребят без счёта,
И снова юность сгоряча
Возжаждает переворота.
Легко ль нам знать из нашей тьмы,
Когда падёт топор с размаху,
Что ей пример и вера мы,
И мы же ладили ей плаху.
1966
«Народовольческую дурь…»
Народовольческую дурь
Забудь, великая держава,
Побалагань, побалагурь,
Твои ведь сила, власть и право.
Ничьё перо уж не клеймит
Устои нового порядка,
Сей грандиозный монолит
Не тронет пуля иль взрывчатка.
Нет прокламаций, баррикад,
Нет эшафота над толпою,
Пустеет грозный каземат
Над невской сумрачной водою.
Колоколам уж не греметь,
И церковь изредка маячит,
Монарх, преображённый в медь,
Навек теперь в былое скачет.
Всё, как написано в трудах
Вождей, и доводы на всё есть —
Сперва за совесть, не за страх,
Потом за страх, а не за совесть.
Зато ни штормов и ни бурь,
Хоть лагеря, расстрелы, пытки…
Что ж, не ропщи, ведь ропот — дурь.
России прошлой пережитки.
1966
«Солдатских писем ворох…»
Солдатских писем ворох,
Осиливший фронтов
Сыпняк, окопы, порох
И нравы унтеров.
Уже почти истлели,
Строку поймёшь едва,
Как бы сквозь вой шрапнели
Доносятся слова.
«Портянкам нету сносу,
Четвёртый год тяну,
Кончайте, кровь из носу,
Тыловики войну!
Измаялись проклятой,
А бабы вести шлют —
Ведь дети — не щеняты,
Все с голодухи мрут».
Трепал тогда державу
Лихой озноб разрух,
Упал орёл двуглавый,
Носились перья, пух.
В глухой неразберихе
Тех толп, очередей,
В партийной той шумихе
Плакатов и вождей,
Сквозь вопли нутряные
Солдат, сквозь плач села —
Маячили России
Грядущие дела.
1968
Народное
Раскулачили страну —
Хоть в кулак свисти,
И на ком искать вину,
Господи, прости!
Нависали над страной
Грузные усы,
Стал грузин всему виной,
Господи, спаси!
Русь в бараний рог согнул,
Страхи да суды,
Дым заводов, грохот, гул
Стройки и страды.
Всё на жилах кровяных,
На седьмом поту,
Сухарях да щах пустых,
Аж невмоготу.
Коли слово поперёк —
Умолкай в земле,
Властью был отвергнут Бог,
Идол жил в Кремле.
Ох, Россия, край-беда,
Смутен путь и крут,
И тридцатые года
За спиной встают.
1966
Памяти Клюева
Страну лихорадило в гуле
Страды и слепой похвальбы,
Доносы, и пытки, и пули
Чернели изнанкой судьбы.
Дымились от лести доклады,
Колхозника голод крутил,
Стучали охраны приклады,
И тесно земле от могил.
И нити вели кровяные
В Москву и терялись в Кремле,
И не было больше России
На сталинской русской земле.
И Клюев, пропавший во мраке
Советских тридцатых годов,
На станции умер в бараке,
И сгинули свитки стихов.
Навек азиатские щёлки
Зажмурил, бородку задрав,
И канул в глухом кривотолке,
Преданием призрачным став.
1967
Смерть Сталина
Как вкопанные, кто в слезах,
Кто в землю невидяще глядя,
На улицах и площадях
Стояли тогда в Ленинграде.
И диктора голос с утра
Над толпами гулко качался,
Стихая печально: «Вчера
Скончался… скончался… скончался…»
Темнели газеты со стен,
И флаги мрачнели, маяча,
И глухо вздымался Шопен
Среди всенародного плача.
И в зимнем пока столбняке
Стыл город и ветры блуждали,
На севере, там, вдалеке,
В бараках за проволкой — ждали.
1967
«Знаю, дней твоих, Россия…»
Знаю, дней твоих, Россия,
Нелегка стезя,
Но и в эти дни крутые
Без тебя нельзя.
Ну, а мне готова плаха
Да глухой погост
Во все дни — от Мономаха
И до красных звёзд.
И судьбины злой иль милой
Мне не выбирать,
И за то, что подарила —
В землю, исполать.
Кто за проволкою ржавой,
Кто в петлю кадык —
Вот моей предтечи славы
И моих вериг.
Не искали вскользь обхода,
Шли, как Бог велел,
И в преданиях народа
Высота их дел.
Погибая в дни лихие,
Оттого в чести,
Что не кинули, Россия,
Твоего пути.
1967
Семидесятые
В горести неизречённой
Н.Н.Б.Горесть неизречённая
Поэма-цикл
I
Я буду объективен в каждом слове,
Пускай былое станет за строкой
И скажет, не боясь ни слёз, ни крови,
На призраки обид махнув рукой.
Ведь есть же что припомнить год за годом,
Была же в этой дружбе Божья весть!
Летели строки — дух не перевесть,
И город вырастал под небосводом,
А деревца на улице твоей
Вздыхали, и трамваи напоследок
Звенели нам во мгле ночных огней,
И дождик был таинственен и редок.
Припомнить ли высоких слов полёт,
О нет, не разговоры — монологи,
И то, что в грозный час произойдёт —
Припомнить ли печальные итоги…
II
По улице мы шли и заглянули
В какой-то двор, не знаю, отчего,
Как бы услышав в голубином гуле
С грядущим голосом строки родство.
Там у стены приземистой и тёмной
Желтея, деревцо тянулось ввысь,
Раскидывая ветки неуёмно,
И ты мне вдруг сказал: «Остановись.
Взгляни — вот лучшее».
И в самом деле,
Узнали будто осень мы в лицо,
А листья золочёные летели,
И медленно дрожало деревцо.
«Вот наши судьбы, наши вдохновенья —
В глухом дворе, у сумрачной стены
Возносим небесам благодаренья,
Но злато строк своих терять должны.
Кто подберёт?»
И мы ушли. И снова
Нас улицы кружили и вели,
Но я твоё навек запомнил слово,
И хмурый двор, и деревцо вдали.
III
Владиславу Ходасевичу
…Судьба поэта в каждой строчке
И точность каждой запятой,
Парижской ночи мрак пустой,
Российские лихие ночки.
На пьяных улицах свистки;
Пайки, плакаты, приговоры
И тяжесть лиры.
Кратки сборы
Из ночи страха в ночь тоски.
Но взяли мы из рук твоих,
Поэт, и злость твою и вздохи,
Тяжёлый груз ночной эпохи
И наш взвалил на плечи стих.
И сеятель недаром твой
Прошёл — зерно, пробив бетоны,
Взошло свободною строкой,
Хоть и слышны порой в ней стоны.
IV
Перекликались замыслы и звуки,
Как древние дозорные костры,
Трамваи шли в тартарары,
И звёзды падали нам в руки,
Твой белый стих в ночи белел,
Пылали церкви, и поэты
шли на расстрел,
И предрекали кровь приметы,
Катились казни по Руси,
Жестокие сбывались сроки —
Как скорбно, Господи спаси,
Перекликались наши строки!
О, как их слушала Нева,
А то вдруг площади, вокзалы,
То финский пригород, то шалый
Шум электрички лез в слова.
А помнишь, в тихом сосняке
Ты белку увидал на ветке
И ей прочёл. И впрямь, к строке
Она склонила слух свой меткий.
«Природа не враждебна нам, —
Ты мне сказал, — мы с нею вместе,
Услышав светлое известье,
Она сияет в лад стихам.
Но жалкую почуяв ложь,
Враз прячется и пропадает,
То бьёт её лихая дрожь,
То в злой озноб её кидает».
И словно бы в ответ листок
Скользнул, кружась, мелькнул и замер…
Перекликанье наших строк!
Как перестук во мраке камер…
V
О, наши ненависти, наши страсти…
Как рассказать?
Вот комната твоя,
Журнальный столик, и листы, и счастье
Совместности, и чаша нам сия.
Дверь на задвижку. Охраняют стены
От милостей родителей твоих,
О, как же наши тайны сокровенны,
И как отчаян, и как звонок стих!
Он небеса пронзает, он свергает
Твердыни зла, но друга два иль три
Его узнали…
Светофор мигает,
Дрожащие мелькнули фонари,
Последний пассажир, на эскалатор
Ступаю я, резиной пахнет гул,
А в воздухе метание метафор
И ритмов всех размашистый разгул.
О, как внезапно пели телефоны,
Как лифты обрывались в глубину!
Но и не только творчества законы
Мы знали, не поэзию одну.
Любимые нас мучили жестоко,
Пустых знакомств томила кабала.
О, нищеты и тусклых служб морока!
Но надо всем поэзия была!
Она превозмогала все напасти,
Летя к звездам с улыбкой на устах…
О, наши ненависти, наши страсти!
А за спиной уже маячил страх…
VI
И грянул гром с тяжёлой силой злобной,
Внезапно, днём весенним, поутру.
Я этот день запомнил так подробно,
Что с памятью о нём, видать, умру.
О, те шаги, заглядыванья в щели,
Те голоса пустые, взгляды те,
И всё взаправду, вьявь, на самом деле,
Не сон лихой, не строчка на листе!
__
Потом Литейный, зданье, что могилой
Назвать бы правильнее, кабинет,
Откуда не выходят, а на нет
Как будто сходят.
И со мной так было.
Лязг ружей. Конвоиры. Лязг ключей.
Бетонный пол. Железной койки вздроги.
О, стих мой милый — вздох души моей,
Мечты мои — и вот теперь итоги.
И ты — бетонный тот же меришь пол
Пустынными шагами, той же дрожью
Дрожит железо койки.
Он пришёл,
Наш общий час — о том и слово Божье
Нам предрекало притчей о зерне,
И о разбойниках, и об Иуде,
О том и строки пели, и во сне
Не зря метались взрывы, стоны, люди…
Припомнить ли ту лобную скамью,
Змею клевет, скользнувшую меж нами…
Тогда-то мы испили — письменами
Предсказанную чашу нам сию.
Ещё и встречи были, и слова,
И даже строки снова, как бывало,
Но каждый понимал, что миновало
То роковое, чем душа жива.
VII
В машине, в клетке той железной
Трясло, мотало нас двоих,
Как бы и впрямь, и вьявь над бездной.
И вдруг ты прочитал свой стих.
В нём город звонко и знакомо
Маячил и сводил с ума,
Сугробов белые изломы
Лепила медленно зима,
__
И сквозь окошко благодарно
Тебе светили купола
За тяжкий жребий твой мытарный
И светлых строк колокола.
И ты умолк, и всё, что било,
И разобщало нас, и жгло,
Перед строкой крутою силой
Во мрак беспамятный ушло.
И только золото собора
И зимний город вдалеке
Печальным отсветом укора
Мерцали мне в твоей строке.
VIII
Последняя встреча. Нары.
Параша в углу. Скамья.
Сумрак суровой кары.
В последний раз ты и я.
Как пронесу сквозь годы
Тот взгляд и тот разговор,
Потолка злые своды.
Двери, глазок в упор.
Прощай. Между нами были
Поэзия, сны души,
Тюрьмы жестокие были,
Допросов карандаши.
Прощай. Сгорело, как хворост,
Счастье, черна беда.
Неизреченная горесть
Нам теперь навсегда.
1974
Красноярский край, пос. Курагино
«Что случилось, что же случилось…»
Что случилось, что же случилось —
С телом впрямь душа разлучилась
В ту проклятую ночь, когда
Била в колокола беда,
И железно койка скрипела,
И краснела лампа, дрожа,
А душа покинула тело —
Не увидели сторожа.
И ключи в замках громыхали,
И гудели шаги вокруг.
Чьи-то шёпоты то вздыхали,
То опять пропадали вдруг…
1974
«То украинскую мову…»
То украинскую мову,
То прибалтов слышу речь —
Тайную ищу основу,
Смысл пытаюсь подстеречь,
Слов не ведая, внимаю,
Лишь догадкой вслед бегу.
(Как бы музыка немая,
Что постигнуть не могу).
Но гляжу на эти лица,
Ярых рук ловлю разлёт,
В складке губ судьба таится,
И прищур рассказ ведёт.
От осколка шрам на шее
И в глазнице голой — тьма —
Эту речь я разумею,
Здесь творила жизнь сама.
День за днём сильнее чую
Суть её, крутой исток —
Азбуку её лихую
Нынче знаю назубок…
1970,
Мордовия
«В умывальной враз на бетон…»
В умывальной враз на бетон
Тяжко рухнул и умер он —
В сырость, грязь, окурки, плевки.
Ржавой лампы ржавая дрожь
Мрачно замершие зрачки
Осветила — страх, невтерпёж…
Как бы в них отразились вдруг
Десятилетья — за годом год
Те ж заборы, вышки вокруг,
Лай собачий ночь напролёт.
То в столовку с ложкой в руке,
То обратно шагал в барак,
И дымил махрой в уголке —
Что ни день — вот так, только так.
О свободе грезил сквозь сон
Да подсчитывал, знай, годки —
В умывальной враз на бетон
Тяжко рухнул — в сырость, в плевки.
Лгали сны — пропал ни за грош,
Кончить срок в земле суждено.
Ржавой лампы ржавая дрожь.
В неподвижных зрачках темно.
1971,
Мордовия
«Господи, Господи, Боже мой…»
Господи, Господи, Боже мой,
Некому строк прочесть,
Поведать о песне сложенной,
Подать звонкую весть.
Шепчу про себя и пестую,
Сам-друг брожу себе с ней,
Незнаемой и безвестною,
Родимою и моей.
1971,
Мордовия
«Осень зимняя. Утро ночное…»
Осень зимняя. Утро ночное.
Ярый ветер и дрожь фонарей.
Злые сны обернулись судьбою —
Что отчаянней их и верней!
Затеряться бы, спрятаться снова
В этих снах, с головой в них пропасть,
Чтоб ни слова из них, ни полслова
Не сбылось. Никакая напасть.
1970, Мордовия
«Как ты снишься отчаянно, Стрельна…»
Как ты снишься отчаянно, Стрельна!
Точно ранишь меня огнестрельно —
То шумящим с разбега заливом,
Плачем чайки и ветра порывом,
То кабиной на пляже безлюдном,
То вдруг псом вороватым, приблудным,
То простором и шорохом парка,
Маятою вороньего карка,
Одиноким вдали пешеходом,
Торопящим строку небосводом…
1971,
Мордовия
«Осень, осень шумит в ушах…»
Осень, осень шумит в ушах,
По земле, знай, травушку стелет,
Лихо листьями каруселит.
Шорох, шелесты что ни шаг…
Прилетали уже скворцы
Напоследок, сорока машет,
Точно тростью, хвостом и пляшет,
Шлёт поклоны во все концы.
Небо сумрачное кругом,
Пахнет сыростью, гарью тянет
И печалью знакомой ранит
Об утраченном враз, о том…
Знаю горесть эту и страх…
А ветра всё злей пробирают
До костей, и листья сгорают…
Осень, осень шумит в ушах…
1970,
Мордовия
«Сновиденья мои ночные…»
Сновиденья мои ночные,
Душу ранящие до дна,
Словно снова вижу Россию
Из столыпинского окна.
Словно снова голые нары,
Горечь пайки да злость ментов,
Да вагона вздроги, удары,
Паровоза утробный зов.
А России разбег короткий,
Деревушки и деревца
Сквозь решётки да сквозь решётки,
Ни начала и ни конца.
1978
«Кончается, кончается, кончается…»
Кончается, кончается, кончается
Последний год из тех шести годов,
А как вначале было не отчаяться,
Когда проклятый скрежетал засов?
И койка всё безвыходнее вздрагивала,
И всё привычнее был звяк ключей,
И всё верней воронка та затягивала,
В которой сам не свой да и ничей.
Кончается, да только память хваткая
То мукой отзовётся, то виной,
То милою погибшею тетрадкою,
То с другом пересылкою ночной.
Кончается, да только сон обрывистый
Присвистнет надзирательским свистком,
Или несём парашу и не вынести,
И что-то там ещё, ещё потом…
1975
«Где корки хлеба да объедки…»
Где корки хлеба да объедки
Баланды в бочках, что ни день,
Не молкнет птичья дребедень —
Как в развесёлой оперетке,
Танцуют, скачут, говорят,
Посвистывают, напевают,
То вразнобой, то все подряд,
То ссоры, драки затевают,
Безостановочно клюют,
Взлетают и опять садятся.
А, может, о цене рядятся?
Знай, покупают, продают?
На этой ярмарке народ
Всё тот же — воробьи, сороки,
Чей хвост трубой, а руки в боки.
Синицы пляшут взад-вперёд,
Ворона, мелкий люд спугнув,
Усядется, кусок послаще
И пожирнее схватит в клюв,
И, глядь, мелькает где-то в чаще…
И так все дни, и месяца,
И годы — тот же свист и говор,
Едва плеснёт отбросы повар,
И нету этому конца…
1973,
Мордовия
Лене
Вышла замуж за тюрьму
Да за лагерные вышки —
Будешь знать не понаслышке —
Что, и как, и почему.
И в бессоннице глухой,
В одинокой злой постели
Ты представишь и метели,
И бараки, и конвой.
Век двадцатый — на мороз
Марш с киркой, поэт гонимый!
Годы «строгого режима»:
Слово против — дуло в нос.
Но не бойся — то и честь,
И положено поэту
Вынести судьбину эту,
Коль в строке бессмертье есть.
Только жаль мне слёз твоих
И невыносимой боли
От разлучной той недоли,
От того, что жребий лих.
1970,
Тюрьма КГБ, Литейный, 4
Сон
Море злое, белый прибой,
Ярый грохот, дальний раскат,
На песке мы одни с тобой,
Я во сне и тому-то рад.
Пена жадная с лёту бьёт,
Как пустынно, дико вокруг!
Хоть бы чайки плач и полёт
Иль бездомного пса испуг…
Никого. Мы одни с тобой.
Мы прижались плечом к плечу.
Море злое, белый прибой…
Я иной судьбы не хочу.
1971,
Мордовия
«Обними меня крепче…»
Обними меня крепче.
Приди
В мои сны.
Ты сумеешь ли это?
Снится мне у тебя на груди
Сон про город и холод рассвета.
Слышу голос знакомый без слов,
Вижу взгляд роковой и наивный.
Ты пришла, ты услышала зов,
Мы с тобой и во сне неразрывны.
1973
«Душа устала. Сникли строки…»
Душа устала. Сникли строки,
Тоска не сгинет ни на час,
И снова женские упрёки
Казнят — уже в который раз.
От их жестокости упрямой
Не уберечься всё равно,
Когда судьбой и кровью самой
Неотделимы вы давно.
И вновь глаза заглянут в очи,
И шёпот скажет обо всём,
И заблестят глухие ночи
Златым Зевесовым дождём.
1973
«Только видеть тебя…»
Только видеть тебя,
держать твою руку в своей,
И пусть носит метро,
пусть автобусы скачут,
И маячит прощальное золото
дальних церквей,
Дни и ночи маячит.
Только видеть тебя,
держать твою руку в руке
И иссохшимся ртом
хватать воздух внезапный и шалый.
Это было
и светит ещё на листке —
Только видеть тебя —
о, Господи Боже, так мало…
1977
Переговорный пункт
То Петропавловск на Камчатке,
То Брянск, то Киев, то Москва —
О, как пронзительны и кратки
Все торопливые слова!
Но в той кабине полутёмной,
К мембране жадно прислонясь,
Страны невиданно огромной
Невидимую чуешь связь.
Сквозь выкрики телефонистки,
Сквозь семафоры, шпалы, дым —
Родимый, дальний голос близкий
Здесь, въявь, наедине с твоим.
1975
«В Сибири татарским прозваньем…»
В Сибири татарским прозваньем
То речка звенит, то сельцо,
Раскосым лихим зазываньем
Пахнёт, как пожаром в лицо.
Ударит о берег Тубою,
Тобратом на горы взбежит,
Тайгою, как древней ордою,
В ночи загудит, задрожит.
1974, Курагино
«Река встаёт и громоздится…»
Река встаёт и громоздится,
Белея медленно кругом,
И лишь у берега дымится
Вода и лезет напролом.
К ней по истоптанному спуску
Идут, сбегают второпях,
И веет стариною русской
От коромысла на плечах.
Виденье призрачной эпохи,
Что разве в сердце и жива,
И вёдра тихие, как вздохи,
Качаются едва-едва…
1973,
Курагино
«Деревеньки мои, деревушки…»
Деревеньки мои, деревушки —
Коромысла весёлого дужки,
А уж вёдрам и шатко, и зыбко,
В каждом солнце играет, как рыбка.
Деревушки мои, деревеньки,
На завалинке старушки-стареньки,
А над рекой то березник, то ельник,
А на плоту Иван Гладких да брательник…
1975
«Дрожью бьющие туманы…»
Дрожью бьющие туманы,
Шатких листьев вороха,
И хозяйка утром рано
Зарубила петуха.
После куры кровь клевали,
Клочья пуха и пера,
Осень отливала сталью
Брошенного топора.
1974,
Курагино
«Задравши хвост, телёнок скачет…»
Задравши хвост, телёнок скачет,
Трава на солнце вновь блестит,
И с курами петух толмачит,
И лёд по речке шелестит.
И лодку сталкивая в воду,
Свой наготове шест держа,
Рыбак кричит мне про погоду,
Про льдины, что плывут, кружа.
1973,
Курагино
«Сегодня утром лист пошёл…»
Сегодня утром лист пошёл —
По всей тайге, куда ни глянешь,
Слетает осени в подол
Медь, золото, багрец, багрянец.
И речка ловит на ходу
И гонит вдаль напропалую
Свою добычу золотую
У всех деревьев на виду.
И под ногами впрямь горит
Земля медлительно и пышно,
И каждый шелест говорит
Так явственно, что всюду слышно.
1974,
Курагино
«Я сослан к вам, леса притихшие…»
Я сослан к вам, леса притихшие
И шелестящая река,
К вам, дальние луга, постигшие
Коровий звон и рёв быка.
К вам, горы, полукругом брошенные
И убегающие вниз,
Да к вам, избушки перекошенные,
Что у забора собрались.
Брожу по берегу отлогому,
По долгим улицам села,
В глаза святому лику строгому
Гляжу сквозь сумерки стекла.
А небо тёмное разостлано
В ночи, в пыланьи звёздных стай,
И звёзды те же, словно сосланы
Со мною вместе в этот край.
1973,
Курагино
«Перестал ходить паром…»
Перестал ходить паром,
Обивает снег пороги,
Баба тыкву на пороге
Рубит длинным топором.
Сыплет семечки на печь,
Разгораются уголья,
Пересыпанная солью
Русская играет речь.
А за окнами бело,
В белом крыши и заборы
И далёкие просторы,
Где вчера ещё мело.
1973,
Курагино
«По Тубе пошла шуга…»
По Тубе пошла шуга,
По судьбе пошла туга,
И парому не пройти,
И до дому нет пути,
Уплывает хмурый лёд,
Убывает птичий лёт,
И снега кругом, снега.
По Тубе пошла шуга…
1974,
Курагино
«Маетный запах бензина…»
Маетный запах бензина.
Окрик вороний скрипуч,
В снежных заплатах равнина
Никнет под тяжестью туч.
Бродят столбы, как слепые,
Крепко держа провода,
Глушь деревенской России.
Будто в былые года.
Даже трусит, знай, лошадка,
Машет возница кнутом,
Пляшут избушки вприсядку,
Тесно толпятся гуртом.
Словно бы не бывало
Бурь, разметавших страну,
И не она погибала,
Перемогая войну.
В том-то, видать, вековая
Правда, судьбы её суть —
Не погибать, погибая,
С давних путей не свернуть.
Только столбов вереница.
Запах бензина вокруг —
Нынешних дней небылица,
Нового времени дух…
1978
«И что нам Блок, когда б не строки…»
И что нам Блок, когда б не строки?
Шут, неврастеник, манекен,
Семейные дурные склоки,
Слепая жажда перемен.
И этот голос монотонный,
И безысходные глаза,
Когда бы на страну с разгону
Вдруг не обрушилась гроза,
Когда бы не сбылись все сроки
Его пророчеств на Руси —
На что нам Блок? И что нам в Блоке?
От бед своих Господь спаси…
1978
«Приснился вождь былых времён…»
Приснился вождь былых времён,
Таинственно и странно было.
Я точно знал, что умер он,
И помнил, где его могила.
— Вы живы? Что произошло?
В газете я читал заметку…
— Газета, знаете ль, трепло, —
Ответил он с усмешкой едкой.
— Но памятник могильный, но
Тот скульптор, с ним едва не драка…
Он удивился, — Вот смешно.
Тот самый! Надо же, однако…
И вдруг растаял, вдруг исчез,
Как будто и в помине не был,
Как призрак или, может, бес,
России роковая небыль.
А я остался наяву
Читать в газетах некрологи,
На ус наматывать молву
И сны разгадывать в итоге.
1978
«Про зиму: «Вновь снегами дарит»…»
Про зиму: «Вновь снегами дарит»,
Про осень: «Рыжая лиса
Метёт хвостом, ушами шарит,
С того и шелестят леса».
Как небо, поле, время года,
Бурлящей речки быстрота —
Так сокровенна и чиста
Родная речь в устах народа.
1974,
Курагино
А.И.Солженицыну
Услышишь русское словцо
Былой еще закваски,
И словно бы пахнёт в лицо
Дыханьем давней сказки.
Там лес дремучий до небес,
Изба на курьих лапах.
И вой: «Кого попутал бес.
Людской я слышу запах!»
Но воин славное копьё
Вознёс над силой адской:
«Молчи, проклятый! Не твоё!
Зазря зубами клацкай.
Над вашей злобой верх возьму,
Осилю все зароки,
Не век, видать, вам править тьму,
Уже подходят сроки».
А злоба тоже не слаба,
Палит огнём и ядом.
И смотрит страшная изба
Кровавым мутным взглядом.
Но не сдаётся богатырь.
Сражается отважно,
За ним России даль и ширь.
А с ней ему не страшно.
1976
«Далёкие тасую страны…»
Далёкие тасую страны,
Как фокусник колоду карт,
Смешав британские туманы
И монте-карловский азарт.
И перекинув мост Риальто
В Канберру или Веллингтон,
Я этим небывалым сальто
Ничуть в душе не удивлён.
Качусь, как перекати-поле —
Кто подберёт, куда прибьёт…
Резон ли перекатной голи
Загадывать что наперёд?
Чужая речь, чужие лица,
Чужой истории черты,
Былое чудится и снится,
Строкой ложится на листы.
Зато строке препоны нету,
И нет над нею топора,
Она летит по белу свету,
Куда несут её ветра.
И уши слушают чужие,
Как в горести глухонемой
Безумно сетует Россия,
Тоскуя по себе самой.
1978
«О, родные письмена…»
О, родные письмена!
Стройный лёт строки скрижальной.
Кто я вам? И чья вина?
Дай ответ, мой предок дальний.
В злом египетском плену,
На реках ли вавилонских,
В жалобах низкопоклонских
Мне искать твою вину?
Иль в повстанце древнем том,
Что за родину и веру
Встал стеной легионеру?
В пепле храма ли святом?
Или брошенного в ночь
Униженья и изгнанья
Осудить за все страданья?
В ступе злобы истолочь?
…А таинственную вязь
Не пойму без перевода…
Голос моего народа…
Где она — меж нами связь?
Но летят в лицо опять
Поношенья и угрозы…
Та же кровь и те же слёзы,
Та ж стезя — за пядью пядь…
1970,
Мордовия
Овидий
Все униженья выпиты до донышка,
Бушуй, ополоумев, понт Эвксинский,
Прочь уноси несчастное судёнышко
От роскоши, красы и славы римской!
Прочь уноси мой голос опозоренный,
Солёную латынь поэм гонимых —
Сияет в ней зовущий и лазоревый
Взор молодости, взор подруг любимых.
И в миг один всё стало дальним, прожитым,
Пугающим, из памяти нейдущим,
О, моря гром — с моим ты слился ропотом,
Как прошлое моё с моим грядущим!
О, грохочи, не умолкай — мне чудится —
Всё повторяешь тех поэм раскаты,
И значит, ничего не позабудется
В игре времён — ни строки, ни утраты…
1974
«Туман над заливом. Набрякли веки…»
Туман над заливом. Набрякли веки.
Чайки и лодки. Пляж. Деревца.
И всё бесконечно, и всё навеки,
И ни начала и ни конца.
Необратимость. Неразрешимость.
Спрятанность солнца. Призрачность дня.
Вечность как вечная необходимость.
Вечность, что в двух шагах от меня.
1978
«Год замешательства…»
46-й год до н. э. в древнем Риме назвали «годом замешательства», ибо в нём было 445 дней.
Год замешательства.
Календаря обломки.
Как жить без времени?
Кто предки, кто потомки?
Где настоящее и будущее где?
Былое чудится кругами на воде…
Слепого неба страх.
Закаты и восходы,
Смятенье звёзд, луны.
Беспамятство природы.
Меж тем на улицах звон,
топот беготни
И крики ярые:
«Отдай нам наши дни!»
Но время кончилось в тот год,
во тьме пропало,
И не вернуть,
и ни конца, и ни начала.
1971,
Мордовия, лагерь
«А когда вспоминается детство…»
А когда вспоминается детство —
Под Уфою бараки в снегу —
Никуда от печали не деться,
И хотел бы — вовек не смогу.
Завывала пурга-завируха,
В репродуктор ревела война,
И преследовала голодуха
Год за годом, с утра до темна.
И ни сказки забавной и звонкой,
Ни игрушек — весёлой гурьбой —
Жизнь пугала чужой похоронкой,
Заводской задыхалась трубой.
Пахло холодом и керосинкой,
Уходил коридор в никуда,
И в усталой руке материнской
Всё тепло умещалось тогда.
1977
«Отталкивая пятками медуз…»
Отталкивая пятками медуз
И на волне вздымаясь то и дело,
Вверяю морю ощутимый груз
Земного человеческого тела.
А над собою вижу небосвод
И в этот миг ему вверяю душу,
И медленный прилив меня несёт
Туда, откуда я пришёл — на сушу.
На призрачную твердь земной коры,
Где каждый шаг весомей с каждым годом,
Где все живём, не ведая поры
Разлуки с морем и с небесным сводом.
1976
«О чём бормочешь, парк старинный Стрельнинский…»
О чём бормочешь, парк старинный Стрельнинский,
И чем сегодня встретишь ты меня?
Деревья одиноки, как отшельники,
Скрипят и стонут, ветви вниз клоня.
Залив застыл. Припорошило трещины
Тяжёлого приземистого льда,
У берега ещё следами меченый,
Белея, он уходит в никуда.
А в парке занесло траву усталую
От холодов и оттепелей враз,
И только слышно перебранку шалую
Ворон, схлестнувшихся в который раз.
И пни торчат, и голый куст качается,
И палых листьев куча на виду,
И ни душа живая не встречается,
Покуда по дорожкам я бреду.
1975
«В конце глухого ноября…»
В конце глухого ноября
Запуталась в траве пороша,
И ветер, холодом бодря,
А то вдруг воробья взъероша,
Гудел, замётывал следы,
Застывшие, канавки, лужи,
Выл в трубах обещаньем стужи —
Наградой за свои труды.
В лесу все выходы-ходы
Снежок маскировал умело,
Лишь старой памятью силён
Тропинкой лиственною, белой
Шуршал мой шаг… Со всех сторон
Пни в изморози да седые
Болотца льдистые — ногой
Чуть ступишь, слышен хруст. Пустые
Черны деревья. Тишь. Покой.
А мне ноябрьской строкой
Поэзия стучится в двери,
И я, ещё себе чужой,
В былые весь уйдя потери,
Боюсь поверить ей, но верю
И снова чувствую судьбой…
Вороний окрик вдалеке,
Пустынный гул аэродромный.
Кругом оживший мир огромный.
О, как вместить его в строке!
«В этом веке я так же случаен…»
В этом веке я так же случаен,
Как в египетских «тёмных веках»,
Бедный житель стандартных окраин —
Вся судьба на тетрадных листках.
А кругом — злая схватка империй,
Подавленье души и ума,
И народ, потерявший критерий,
Позабывший, где свет и где тьма.
Ну да что ж?
Тёмный ельник разлапист,
Сыпет осень свою желтизну,
Как тропинка, уводит анапест
В даль, таинственность и глубину.
1979
«В тот первый час, в тот первый день…»
В тот первый час, в тот первый день
Металась улиц дребедень,
И чудилось мне не на шутку,
Что снится вновь знакомый сон,
А въявь — забор со всех сторон,
И скоро прокричат побудку.
И не могу понять с тех пор —
То впрямь собор или забор?
То всадник ли, гремящий славой,
Иль тёмной вышки страх ночной?
То дрожь трамвая над Невой
Иль злая дрожь колючки ржавой?
1975
«Фонтаны замерли до лета…»
Фонтаны замерли до лета
В холодной глубине земли,
И как старинная монета,
Сверкают статуи вдали.
Без плеска струй осиротела
Их бронза в зябкой тишине,
И грозное Самсона тело,
И злобный лев — всё как во сне.
Зато пугливо белка скачет,
Свистят синицы на лету,
Берёза лист последний прячет,
А он всем виден за версту.
1978
«Мой город осени сродни…»
Мой город осени сродни:
Все эти шпили, купола
И листьев жёлтые огни —
Их не одна ль рука зажгла?
И не один ли гул стоит
Среди соборных тех колонн,
Над крутизной кариатид,
В сплетениях древесных крон?
1976
«Осень мелькнула в Летнем саду…»
Осень мелькнула в Летнем саду,
Качнуло автобус на всём ходу,
Заполыхала вода канала,
Птица спикировала вниз шало,
Снова по городу разнеслась
Весть, что у ветра жёлтая масть,
Снова из уст в уста побежало:
Это не листья во все концы
Враз разлетятся вдруг, а дворцы,
Всадники, набережные, ростралы,
И не во сне, а впрямь, наяву
Рухнут в Фонтанку, в Мойку, в Неву.
И всему этому я виною,
Ибо тогда началось со мною…
1978
«Раскричались чайки и вороны…»
Раскричались чайки и вороны
Сквозь дождя шумящий перекос.
…Словно бы бежал и вдруг с разгону
Стал, как вкопанный, как в землю врос.
И увидел, как черны осины,
Ветви разметавшие вразлёт,
Как залива зыбкая равнина
В даль свою пустынную плывёт.
Как кустарник водит хороводы,
Как темны и одиноки пни,
Как внезапны в смуте небосвода
Самолёта краткие огни.
И изведал, каково деревьям,
Птицам, и заливу, и траве,
Ощутив с печалью и доверьем
Назначенье с ними быть в родстве.
1977
Восьмидесятые
«В проходе тёмном лампочка сочится…»
В проходе тёмном лампочка сочится,
И койки двухэтажные торчат.
Усталого дыханья смутный чад,
Солдатские замаянные лица.
То вздох, то храп, то стон, то тишина.
Вдруг скрежет двери — входит старшина:
«Дивизион — подъём!» И в миг с размаху
Слетают в сапоги. Ремни скрипят.
Но двое-трое трёхгодичных спят,
А молодёжь старается со страху.
«Бегом!» Глухое утро. Неба дрожь.
О, время, ну когда же ты пройдёшь!
И словно мановеньем чародея,
Прошло.
Решётка, нары, и в углу
Параша. Снова лампочка сквозь мглу,
А за оконцем вышки. Боже, где я?
Заборы, лай, тулупы да штыки.
Шлифуй футляры, умирай с тоски.
Кругом разноязыкая неволя,
Я на семнадцатом, на третьем — Коля.
А ты, Россия, ты-то на каком?
А, может, ты на вышке со штыком?
Когда ж домой? Спаси, помилуй, Боже!
Вернулся. Долгожданная пора.
Но не могу сегодня от вчера
Я отличить никак. Одно и то же.
1986
«Не расплескать бы лагерную кружку…»
Не расплескать бы лагерную кружку,
Передавая другу по несчастью,
Пока на вышке нас берут на мушку,
Собачий клык готов порвать на части.
Дымится чай или, верней, заварка,
До воли далеко, проверка скоро,
И лагерные звёзды светят ярко,
Обламываясь о зубцы забора.
1989
«Уже давно свой отбыл срок…»
Уже давно свой отбыл срок,
Тюрьма и ссылка миновали,
А сон лишь ступит на порог —
И всё опять как бы в начале.
Взгляд следователя колюч,
И тени на стене изломны,
В железо двери тяжко ключ
Опять вгрызается огромный.
Железно всё — и унитаз,
И две скрипучие кровати,
Окна в решётке мутный глаз,
Цвет неба, хмурый, как проклятье.
Звучал железом приговор,
И по этапной той железке
Во снах и еду всё с тех пор
Под стук колёс и посвист резкий.
1986
«И снится вновь квадрат решётки…»
И снится вновь квадрат решётки,
Вновь следователь за столом,
Суд долгий, приговор короткий,
Судьбы кровавый перелом.
Который раз на осень глядя,
И перепутав явь и сны,
Одно прошу я, Бога ради,
У бедственной моей страны:
Ни воздаяния за годы
Пропащие, ни мести злу,
А чтобы первый луч свободы
Прорезал вековую мглу.
Но чтоб взаправду это было,
Не как сейчас — от сих до сих,
И встал бы над моей могилой
Мой репрессированный стих.
1988
«Всё кончено ещё тогда…»
Всё кончено ещё тогда,
Давным-давно.
Поди осколки
Те собери… Пришла беда,
За нею сплетни, кривотолки,
Но всё как чья-то тень, фантом,
Жизнь после смерти.
Что сегодня
Мне этот жадный шум о том,
За что я сгинул в преисподней?
И распродажа по частям
Той боли?
Каждый хлыщ проворный
Кричит: «И я! Моим вестям
Внимайте, люди!»
И покорно
Внимают. Господи, спаси!
И не унять невольной дрожи…
Нас распинали на Руси
Для этого? О Боже, Боже!
1989
«Полжизни или, может быть, две трети…»
Полжизни или, может быть, две трети,
Или конец? Всё в Господа руке.
Мне столько суждено на белом свете,
Как муравью на сморщенном листке.
Но он-то делом занят, а не счётом,
Сознаньем смутным не обременён
И не обязан никому отчётом,
А только Богу. В этом счастлив он.
А я всем недоволен, всем измаян,
Чего хочу, и в слово не вложу,
Среди российских северных окраин
Сырой холодной осенью брожу.
А лужи всё темней, всё безнадежней
Взывает зябкий ветер на лету,
И муравей ползёт с отвагой прежней
По сморщенному жёлтому листу.
1984
«Времени песок шершавый…»
Времени песок шершавый
Засыпает без конца
И великие державы,
И на кладбище отца.
Но живущий забывает,
Что туда же канет он,
И в руках пересыпает
Дней минувших Вавилон.
1982
«С годами теченье времени я чувствую, как пламя…»
С годами
Теченье времени я чувствую, как пламя,
Сжигающее слепо день за днём.
Да что там я? Империи сгорали,
Лишь изредка увидим в дальней дали
Тот отсвет, бывший некогда огнём.
Но я ещё хожу под небосводом,
И плоть ещё не сгинула пока,
А пламя всё жесточе с каждым годом
И бездна сумрачная так близка!
Когда сегодняшние Карфагены
Сгорят, и Рим сегодняшний падёт —
В огне последнем огненной Геенны
Что уцелеет? Знать бы наперёд…
Строка стихов? Компьютера решенье?
Бухгалтерские пыльные счета?
Иль ничего… Молчанье и забвенье.
Лишь тьма земли и неба пустота…
1984
«В полёте чаек, чаек, чаек…»
В полёте чаек, чаек, чаек
Всё громче крик, всё плач слышней,
То ввысь уносит невзначай их,
То вдаль швырнув, кружит над ней.
И древней завистью к полёту
(О, снов крылатых тайный зов)
Душа дрожит, забыв заботу
Лишь твердь весь век твердить с азов.
1981
«Всё вытерплю — напасти и тоску…»
Всё вытерплю — напасти и тоску,
Лишь рассказать бы белому листку,
Как изморозь одела ветки эти,
Как тишина лесная глубока —
Пока ещё живу на белом свете.
Пока томлюсь, мытарствую пока.
1985
«Уже рассвета холод отступал…»
Уже рассвета холод отступал,
А ночь ещё замедленно бледнела.
Я просыпался, снова засыпал
И снова просыпался то и дело.
И вдруг в полумгновенье полусна
Я лес увидел. В небе звёзды стыли.
Мы шли с отцом. Темнела тишина.
Уж десять лет прошло, как он в могиле.
И счастливы, что встретиться пришлось,
Мы крепко обнялись.
Мне показалось,
Как будто вспять пошла земная ось,
И смерти нет, а есть любовь и жалость.
Но всё темнее становился лес,
Всё сумрачней смотрел и безысходней,
И вдруг отца не стало. Он исчез…
Вернулся снова в темень преисподней.
А мне осталась памяти тоска
И горькая надежда, что придётся
Нам встретиться, когда меня доска
Укроет, надо мной земля сомкнётся.
1989
«Душа сама себе пророчица…»
Душа сама себе пророчица,
И страшно голос ей найти —
Поёт такое, что не хочется
И слышать. Господи, прости
И упаси.
Зима готовится,
Похрустывают луж края,
Пустынней всё, темней становится,
И всё тревожней дрожь ручья.
Ворона с дерева срывается
И машет крыльями спеша,
В себя всё глубже зарывается,
Клубится небо.
А душа…
Что делать ей? Сосредоточиться
На чём? Себя не обмануть…
Она сама себе пророчица.
Призванье в том её и суть.
1982
«Подкрепи мои силы вином…»
Подкрепи мои силы вином.
Освежи, услади виноградом.
За широким и тёмным окном
Зимний день шелестит снегопадом.
Но забыто вино и окно,
И времён вековые приметы
В тайный миг, когда двое — одно,
Только это и есть, только это.
И о чём бы ни пели века,
И куда б ни влекли крутоверти,
Никогда не умолкнет строка
О любви, не боящейся смерти.
1983
«Уже зимы подходит середина…»
Уже зимы подходит середина,
Деревья все успели облететь.
Ручей застыл — заснеженная льдина.
Лишь медленных следов вороньих сеть.
Но кое-где вода бежит, трепещет,
Туда-сюда гоняет облака,
Как будто бы бросает чёт и нечет
Таинственная тёмная рука.
Так и в судьбе, где страх жесток и тёмен,
Но вновь надежда светит и дрожит,
Как между льдистых, сумрачных разломин
Вода ещё живая ворожит,
Бурлит, шуршит, играет с небом в прятки,
По камням дна проносит синеву —
Всё вечно в ней — загадки и разгадки,
Надеюсь на неё, пока живу.
1982
«Налетает на берег косая волна…»
Налетает на берег косая волна
И обрушивается бурливо,
В этот миг и хотела б настать тишина,
Но слышнее дыханье залива.
Убегающий вдаль голубой полукруг
И небесного тяжесть навеса,
И высокие сосны столпились вокруг —
Удивлённые жители леса.
1981
«Туман, туман…»
Туман, туман…
Ручей не колобродит,
А издали напоминает пруд,
Дождь редкий по воде кругами ходит,
Мелькает желтизна и там, и тут.
Как выбраться из этого тумана,
Из этой медленной глубокой мглы,
Из этого дождя, что неустанно
Шурша, как бы проник во все углы?
Бреду. Куда-то выведет тропинка,
Краснеет мухомор, как семафор.
Вся в крупных каплях прилегла травинка
На глинистый темнеющий бугор.
Кусты торчат. И зябко им и сыро.
Столб отсыревший виден в стороне,
И утки ломкой линией пунктира
Мелькнули и исчезли в вышине.
1983
«Сорока на хвосте…»
Сорока на хвосте
Приносит утром вести
О медленном дожде,
Что топчется на месте.
Полночи в темноте
Он бормотал про что-то —
Сорока на хвосте
Несёт — её забота.
Вовсю шумит ручей,
Все листья отсырели,
И неизвестно, чей
Выводит голос трели —
Синица или чиж,
Или другая птица…
Вдруг наступает тишь,
И длится, длится, длится.
Как будто ни дождя,
Ни ветра не бывало,
Но вновь, чуть погодя,
Всё снова, всё сначала…
1983
«Какие звуки издаёт…»
Какие звуки издаёт
Залив? Быть может, он поёт?
Медлительной игрой шипящих
С шуршаньем шевеля песок…
Такой фонетики образчик
Какой лингвист понять бы смог?
Назад откатываясь снова,
Разбрасывая пены дрожь,
Вдруг из одних согласных слово
Рождая, голубое сплошь?
Иль вдалеке сперва неслышно
Волна волне вослед спеша,
Вся в ореоле пены пышной
Созвучьем гласных хороша.
Но как постигнуть это пенье,
Чья музыка душе близка?
Понять волны произношенье,
Спряженье пены и песка…
1986
Предзимний диптих
I
В ноябрьском березняке
Всё в запустенье и тоске,
Повсюду листьев чернобурых
Шуршащие половики,
Но тишина в деревьях хмурых,
О, как же ветви их легки!
Черны канавки, корневища
Повылезли из-под земли,
Летит ворон крикливых тыща
И пропадает враз вдали.
Вглядишься — на поля уселись,
Как будто с неба пала тьма,
А дальше через поле, через
Дорогу — трубы и дома.
Куда уйдёшь? Да и природе,
Сказать по правде, дела нет
До радостей твоих и бед.
Она не знает о свободе
И о неволе.
Ей сам друг,
Всю вечность быть, а на рассвете
Проснуться завтра — всё вокруг
Белым-бело на белом свете.
II
Утки плавают в полынье,
Ярко селезня оперенье,
Первый снег летит в тишине,
В белом тропы, мостки, строенья.
И к берёзке голой припав,
Вверх ползёт полоска пушисто,
А внизу среди смятых трав
Шелестенье, обрывки свиста.
Так почудилось мне вчера,
Или даже не мне, пожалуй,
А строке, что зима с утра
Налетит неслышно и шало.
Ясновидение стиха
Обмануть не может поэта,
И опавших листьев труха
Белизной повсюду одета.
1983
«Сырая осень на дворе…»
Сырая осень на дворе,
И утки, оттопырив лапки,
Плывут в ручье, а дождь тире
И точки ставит на воде,
Не думая, зачем и где.
Кустов разбросаны охапки,
Ерошит ветер их с утра,
Дорога вязкая пестра.
Сырая осень, туч ряды,
И ни начала, ни конца ей,
И оторвавшись от воды,
Прочь улетают утки стаей,
Их шеи вытянуты в нить
Сквозь дождь, уставший моросить.
1981
«Унылая томительная сырость…»
Унылая томительная сырость,
Такой не помню осени давно,
А в лужи поглядишь — но где же дно?
Где было небо — всё темным-темно,
Куда ж оно и впрямь запропастилось?
Вповалку листья, и трава, склонясь,
Над ними плачет, после битвы словно
На поле брани жены плачут вдовно,
И всё равно теперь — дружинник, князь —
Век вековать одной… Осенней гнили
Меж тем не перейти. Брожу в дожде
И сам уже не знаю — кто я, где,
То явь вокруг или былого были?
1984
«Тревожны сны — тоска и спешка…»
Тревожны сны — тоска и спешка,
Аэродрома гул густой,
Огни и ночь, и высотой
Как будто правит дух ночной,
И тёмной древнею усмешкой
Его черты искажены.
О, Боже, как тревожны сны!
Потом избушка, ветхий двор,
Прибит к забору умывальник.
Сибирский край. О днях тех дальних
Не позабыть мне до сих пор.
Но в снах всё смешано жестоко,
Как, впрочем, в жизни. И опять
Навек уходит время вспять,
Уходит во мгновенье ока.
И остаётся сон да страх —
Всё, что забыто впопыхах.
1989
«Звезда одна-единственная в небе…»
Звезда одна-единственная в небе
Мерцает, раздвигая облака.
Как холодно ей там!
Как древний ребе,
Она пророчит, словно на века.
И в сны мои врывается без спросу,
И вижу я пожары и мечи,
Среди руин пророк длинноволосый
Взывает, и слова, как звёзд лучи.
Он одинок в глухом ряду столетий.
Зол Вавилон и пал Иерусалим.
Но он — звезда ночная на рассвете,
И я во сне рыдаю вместе с ним.
1987
«Иеремия к пораженью звал…»
Иеремия к пораженью звал,
Но речь его была словами Бога.
Накатывался вавилонян вал
Всё яростней, и всё не шла подмога.
«Он притупляет воинов мечи!
Военачальники слабеют духом.
А чьи его слова, ты знаешь — чьи?
Народ же тёмен, верит всяким слухам», —
Князья царю кричали.
И во прах
Пал город, золотой Иерушалаим.
Пожар и разрушенье, смерть и страх,
Изгнание — мы помним всё и знаем.
Господь нещаден в правоте своей,
Иеремия был его устами,
Но если вновь под стенами халдей —
Кто прав — боец с мечом, пророк ли в яме?
1988
«Чёрный всадник на белом коне…»
Чёрный всадник на белом коне
Грозно скачет навстречу волне,
Лупоглазые прожектора,
Тёмных веток глухая игра,
Дивный храм на колоннах своих
Держит древний божественный стих,
Купола отражённо горят,
И фигуры святых говорят.
Всадник скачет отчаянно прочь
От молитв и от мрамора — в ночь,
А куда — не узнаешь вовек,
Только ночь, только небо и снег…
Чёрный всадник на белом коне
По ночной тяжко скачет стране.
1985
«Усобица князей. Коварный…»
Усобица князей. Коварный
Поход на половцев. Бой. Плен.
И снится князю дым пожарный
И грозной треуголки крен.
О, злая гарь, проклятый пепел,
О, безысходная страна!
Опять идти походом в степи
Иль на поле Бородина?
Вельможу ли библиофила
Спросить? Но он хитёр и лжив.
Недаром знаменье сулило,
В ночи недаром кликал Див.
Ещё Господь немало судит
Беды и страха на века,
Но тайной навсегда пребудет
Песнь о погибели полка…
1980
«Окраины моей углы и повороты…»
Окраины моей углы и повороты,
Квадратные дома, горбатые столбы.
Уехать бы куда, да словно жаль чего-то —
Забора, деревца, лихой своей судьбы?
Отсюда увезли на легковой сначала,
А после «воронки», «столыпинский вагон»,
Но снились мне мосты, соборы и ростралы,
Окраин корпуса в мой не врывались сон.
Лишь только иногда во мгле передрассветной
Вдруг электрички стук маячил в тёмном сне,
Далёкий и глухой, прощальный, безответный,
Дома и пустыри мелькали, как в окне.
1989
«Два дерева цветаевских стоят…»
Два дерева цветаевских стоят,
Они ещё с двадцатых уцелели,
С тех дней, когда рубили всё подряд:
Людей, деревья, строки, птичьи трели.
Деревья помнят — ветви и кора,
И корни под землёй, и сердцевина,
Как выходила с самого утра —
Нет, не поэт в тот миг, а мать, Марина.
Опять на рынок, что-то продавать,
Чтоб голод не убил, да не успела.
Строку и дочь выхаживала мать.
Не нам её судить.
И в том ли дело?
Деревьям не забыть.
Она сродни
Была им на земле. Сестрой, быть может.
И повторяют медленно они
её стихи.
Никто им так не сложит.
1987
«Я по мосткам обледенелым…»
Я по мосткам обледенелым,
Дома оставив за спиной,
Спешу к полям пустынно белым
И к лесу, вставшему стеной.
Здесь вороньё на холст небесный
То круг наносит, то черту.
Снежинки падают отвесно,
Подрагивая на лету.
В снегу избушки, как подушки,
Заборами обнесены,
И у калитки две старушки
Стоять готовы до весны.
Собака лает с подвываньем,
Цепь звякает и дребезжит,
И зимним медленным дыханьем
Огромный белый день дрожит.
И больше ничего не надо,
Но вдалеке, как перст судьбы,
Неотвратимая ограда
Кирпично-блочной городьбы.
1988
Игорю Бурихину
Неразборчивый почерк прощанья…
И.БурихинПрошлое, где ты? Достанет ли тщанья
Восстановить, оживить, воскресить
Твой неразборчивый почерк прощанья,
Смутных чернил узловатую нить?
Оба мы душу запродали слову,
Снова Шемякина ждать ли суда?
Ты и ушёл подобру-поздорову,
И замелькали твои города.
Вольно тебе и раскольно, и больно,
Мне ещё горше в российском углу,
Дымным громадам внимаешь ли Кёльна?
Падаю я в петербургскую мглу…
Что чужеродней нас нынче?
Свиданье —
Горький итог, жёлтый лист на ветру,
Твой неразборчивый почерк прощанья
Я никогда уже не разберу.
«В сырую непогодь такую…»
В сырую непогодь такую
Уже не хочешь ничего,
На жизнь свою, как на чужую,
Глядишь, теряя с ней родство,
А смутный дождь напропалую
Косит своё, да всё впустую.
И тротуар промок насквозь,
В нём облака плывут и листья,
У деревца все ветки врозь,
И оттого черней и мглистей
Оно, и дрожь его берёт
И дни и ночи напролёт.
А я — прохожий на земле,
С дождём, и деревом, и тучей,
Пока брожу в осенней мгле —
Всё сумрачней, всё неминучей,
Всё глубже ощущаю связь,
Как будто кровно породнясь.
То, может, мать-земля сыра
Меня зовёт иль от людского
Душа устала, и пора
Пришла — чему — не знаю слова,
Так дождь, и ветка, и трава
Не знают про себя слова.
1980
«Нынче видел я воочью…»
Нынче видел я воочью.
Трудно обходясь без сна —
Медленною звёздной ночью
Пробиралась тишина.
За деревьями во мраке
Тайна длилась и ждала,
Звёзды делали ей знаки,
Полыхая без числа.
Петушиный клич звенящий
Звал в дорогу утра свет.
До поры себя таящий,
Тот молчал ему в ответ.
И текла из дали дальней
Семизвёздного ковша
Всё прозрачней, всё хрустальней
Ночь живая, как душа.
1982
«Я отлучён от леса, от ручья…»
Я отлучён от леса, от ручья
Размокшим январём, февральской лужей,
Брожу по тротуарам, сгоряча
Мечтая о метельной жёсткой стуже.
Но понапрасну, видно.
Всё течёт,
Земля чернит последние ледышки,
Сосульки две иль три наперечёт
У оттепели просят передышки.
И тяжело дыхание строки.
Ей непривычно здесь. Она не в силе
Превозмогать всю будничность тоски.
Торчат дома. Бегут автомобили.
Народ у магазина мельтешит.
С набитою кошёлкою старуха
По улице так медленно спешит.
А о стихах ни слуху и ни духу.
Лишь вдалеке, где тёмен окоём,
Маячит лес, и словно бы маячит
Какой-то звук. Зачем он и о чём?
Пойму ли я сегодня, что он значит?
1989
Девяностые
«Мы прощаем Петру злодейства…»
Мы прощаем Петру злодейства
За сверканье Адмиралтейства,
За Невы гранитный убор,
За Исаакиевский собор.
Что нам те старинные страхи,
Те стрелецкие дыбы, плахи,
И над сыном неправый суд,
И кровавых сотни причуд,
И разгул наводнений шалый…
Смотрят в белую ночь ростралы,
Светит мрамором Летний сад,
В полдень пушки слышен раскат,
А на камне, волне подобном,
Будто с грозным рокотом дробным
Скачет, в небо вздыбив коня,
И ни в чём себя не виня,
Он, смеясь над нашим прощеньем,
Полон яростным вдохновеньем.
1995
«Где пахнет чертовщиной вековой…»
Где пахнет чертовщиной вековой,
Где императора убили в спальне,
Где город меж Фонтанкой и Невой
Ещё заброшеннее и печальней, —
Куда бежать — уже не от него,
От собственной судьбы, ему подобной,
Заброшенной в ничто и в ничего,
Отброшенной, как чей-то камень пробный.
1994
«Что, город мой, с тобой?…»
Что, город мой, с тобой?
Ты на ветру
Дрожишь, гудит Нева, кренятся зданья,
И ворон сел на голову Петру —
Дурное предзнаменованье.
Того гляди, услышишь: «Never more»
И сгинет всё, и древней станет тенью,
И только строк обрывки про узор
Чугунный, про державное теченье…
1990
«Мне город шепчет неустанно…»
Мне город шепчет неустанно,
Хоть всё прощальнее и реже,
На Невском или на Расстанной,
Большой Московской и Разъезжей.
То на мгновенье остановит,
То на ходу бормочет шало,
На позабытом слове ловит,
На том, что было и пропало.
Балконов стройные извивы,
Колонн коринфские причуды,
И льды Фонтанки молчаливы,
И зимние на них этюды.
А он всё шепчет неумолчно,
Всё явственней и безответней,
То в утра миг, то в час полночный,
То зимнею порой, то летней.
1990
«Снова к улицам тянет знакомым…»
Снова к улицам тянет знакомым,
Переулкам, дворам проходным,
Обдаёт чем-то тайным, родным,
Хочет за душу взять каждым домом.
И брожу, и брожу день за днём,
Всё мне чудится — молодость встречу,
Только страшно: а что ей отвечу,
Коли спросит — узнать бы, о чём…
Потому что она-то права,
Да вот жизнь — но с неё разве спросишь,
И прощально слова произносишь,
Понимая, что это слова…
1990
«На краю квадратной льдины…»
На краю квадратной льдины
Селезень уснул,
Убегает Мойка длинно
В петербургский гул.
На одной торчит он лапке,
Яркий, как макет,
Но притом живой и зябкий.
Тает, тает след.
Тёмных зданий отраженья
Рядом с ним сквозят.
Спит. И видит сновиденья.
Ярок их наряд.
1991
«Приснился старый дом…»
Приснился старый дом,
Забытые соседи,
Я вспоминал с трудом
Фамилии на меди
Дощечки под звонком,
Покатые перила —
Всё это стало сном,
Всё это явью было.
Ступеней низкий скат
И вид во двор унылый,
Но иногда закат
Сверкал нездешней силой,
Исаакий из окна
Виднелся на мгновенье —
Глухие времена,
Слепые откровенья…
От молодых тех дат
Остались сны да строки,
Да за окном закат
Сверкающий, далёкий,
Да лестниц полумгла,
Свет жалкий вполнакала.
Всё это явь была…
Всё сном прощальным стало…
1995
«Восемнадцатый век студёный…»
Восемнадцатый век студёный,
Неотапливаемый век.
Холодеют дворцы и троны,
В лёд врастая, кутаясь в снег.
Не познавший водопровода,
Он пиита строкой согрет,
И «На взятье Хотина» ода
В зябких пальцах Елисавет.
1999
«Что значит одиночество, и кто…»
Что значит одиночество, и кто
Дал верное ему определенье?
Песок сквозь пальцы, как сквозь решето,
Струится, бесконечно волн движенье,
Едва не заслоняя окоём,
Торчит валун, и чайка сверху села.
Почувствуем ли мы с тобой вдвоём,
Что то не миг — то Вечность пролетела?
Иль в одиночку каждому дано
Такое испытать, а не иначе?
Гроза всё ближе. Боже, как темно,
Тревоги сколько в чаек резком плаче…
1992
«Весенней ночью снился сон…»
Весенней ночью снился сон,
В котором осень шелестела,
И желтизна со всех сторон,
Колеблясь и дрожа, летела.
И мне в осеннем этом сне
Стихи мерещились, и тоже
Об осени, не о весне,
Шуршанья полные и дрожи.
И пробуждаясь, в первый миг,
Не мог понять я, что случилось.
Был звонок птичий переклик,
И утро яркое лучилось.
Но отзвук строк не умолкал,
Исчезнуть словно бы не вправе,
И жёлтый лист ещё мелькал
Как бы на грани сна и яви.
1993
«Скользя из утренней дремоты…»
Скользя из утренней дремоты,
В которой сны вполоборота
Глядят туманно вслед тебе,
Бормочут о твоей судьбе,
И ты улавливаешь что-то,
И вдруг мгновенно рвётся ткань.
Окно. Деревья. Небо. Рань.
Ищи теперь. Со дна морского
Вылавливай. Но с полуслова
И с полувзгляда не поймёшь
Того, что в снах бросало в дрожь.
1999
«Внезапно прошлое прошло…»
Внезапно прошлое прошло,
И след простыл, как говорится,
Его прощальное тепло
Не греет. Изредка приснится,
И сам не знаешь, что нашло,
И хочется остановиться,
Да где там — день твой длится, длится
День нынешний и всё, что в нём,
Стать торопясь последним днём.
1998
«Мне снилась ночь и небосвод в ночи…»
Мне снилась ночь и небосвод в ночи,
Сверкали зорко звёздные лучи,
В существованье синевы и дрожи
Вплетался неумолчно голос Божий,
И чудилось, он словно диктовал,
И в сновиденья падая провал
Всё безысходней и необратимей,
Я слышал — повторялось чьё-то имя,
И я почти угадывал, а Бог
Произносил как бы за слогом слог…
1991
«Залива буйная игра…»
Залива буйная игра…
Обрушивается на сушу
Крутая пенная гора,
Страх древний наводя на душу.
Стою недвижно, в даль гляжу,
Даль тёмную времён, быть может,
Так просто перейти межу,
И вот он — век, что предком прожит.
И что ж там? Небо и вода,
Куст, с корнем вырванный прибоем,
Но вера в Господа тверда,
И всё земное взято с боем.
И смерть, не прячась за углом,
Как старый враг, готова к схватке,
А море всё шумит кругом,
И волны пенисты и шатки,
Вот-вот достигнут, захлестнут…
И страх прерывистый и ломкий,
Страх неизбывный тут как тут,
Страх вечный в предке и в потомке.
1994
«Здесь все скамейки до единой…»
Здесь все скамейки до единой
В широкой спрятались тени,
И в стройной тишине старинной
Деревья замерли и пни.
И утка в пруд зелёнотинный
Уткнула клюв, вздев хвост картинно —
Стоит торчком,
Торчит молчком.
А за оградою машины
Шумят, мелькая лентой длинной,
И город вертится волчком.
1994
«Залив и одиночество, хотя…»
Залив и одиночество, хотя
Под небом никогда не одиноко,
То налетает ветер, шелестя
Сухой травой и ломаной осокой,
То дальний гул, неведомо мне, чей —
Флотилия там чаек, уток стая,
А здесь воронья горкотня пустая
И словно бы утробный зов грачей.
И шум волны.
Позабываешь даже
О нём совсем. Но вот возник опять,
Вот набегает, вот уходит вспять.
И на мгновенье тишина на пляже.
Но снова гул всё звонче, всё слышней,
Как будто чтенье нараспев былины,
И выплывает стая лебедей,
И не смолкает голос лебединый,
Плывут, плывут… Иль взмоют в небеса?
О, Господи, да это вправду ль птицы?
Неужто, впрямь, им не оборотиться
В царевен? Где ты, девица-краса?
Но нет. Плывут. И замирает пенье.
Опять слышнее чайки, вороньё,
Опять волна бормочет про своё,
И валуны застыли без движенья.
1992
«Гекзаметр вмещает бег волны…»
Гекзаметр вмещает бег волны,
Её паденье на берег и плески,
В хорее — ветер, промельки луны
И вздрагивающие занавески.
Ямб — города пружинистая сталь —
Мосты, автомобили и трамваи,
Анапест — две берёзы, речка, даль,
И тянется над лесом уток стая…
1992
«Валун, похожий на дельфина…»
Валун, похожий на дельфина,
Как бы плывёт темно и длинно,
С него ныряет детвора,
Смех, крики с самого утра —
Сюжет для вазы эрмитажной,
Краснофигурной, звонкой, влажной,
Где в древнегреческой красе
Мелькают персонажи все,
Где скачут по морской дороге
Дельфины, мальчики и боги,
Знай, скачут в наши времена
Нырять день целый с валуна.
1995
«Здесь, на песке, об Одиссее…»
Здесь, на песке, об Одиссее
Припомнишь вдруг вдвоём с волной,
Богов старинные затеи
Грозят разлукой и войной.
Пружинят паруса тугие,
Смертельно манит зов сирен.
Пускай не мы, пускай другие,
Мы душу отдадим взамен!
Но всё рассчитано до точки,
Судьба навек предрешена,
В гомеровой широкой строчке
Война, разлука и волна.
1999
«Прилив. Прибой. Прибрежье…»
Прилив. Прибой. Прибрежье. В этом «при»
Пристанище, прибежище морское.
Бежит волна. По счёту «раз-два-три»
Взметает пену в небо голубое.
И опадает, уходя в песок,
И нет её. Как призрак, как причуда.
О, это «при». Природы древний рок.
Прибрежье, где покой нашла приблуда.
1993
«Новгородский ветер…»
Новгородский ветер — «шелонник»,
Псковский яростный — «волкоед» —
Кто назвал? Найдёшь ли ответ
В меткой строчке старинных хроник?
Иль охотник, знать, у костра,
Слыша волчий вой полуночный,
Молвил скупо да так уж точно —
«Волкоед… Студёна пора…»
Иль рыбак на Шелонь-реке,
Выбирая медленно сети,
Бормотал названия эти,
А рассвет дрожал вдалеке…
1990
«Легко ль на букву подбирать слова…»
Легко ль на букву подбирать слова?
На «щ» попробуй и найдёшь едва:
Щепотка, щука, щит, щенок, щеколда,
Щелчок и щепка, щётка, щур да щи —
Язык перетряхни весь, поищи
Во днях замшелых Дира и Аскольда.
…Щетина, щель…
Не позабыть щегла…
Но как рождалась речь, бралась откуда?
Когда-то немоту перемогла.
Не умерла…
И вправду, Божье чудо.
1992
«А на палубе тишь да гладь…»
А на палубе тишь да гладь,
Дождик мелкий и беспрестанный.
Так и плыть бы, переплывать
Все моря и все океаны…
Да куда там! Сухонь-река
В даль далёкую не заводит,
Всё извилистей берега,
Там луга и корова бродит.
А вдали купола видны,
Крест маячит на небосклоне.
Никуда от родной страны
Не уплыть по реке Сухоне.
1991
«А Курагино моё всё в снегу…»
А Курагино моё всё в снегу,
А Туба моя недвижна, бела,
Жёсткий холод её взял на бегу
Под уздцы, с тех пор стоит, замерла.
И заснежен вдалеке березняк,
В нём с коровами не бродит пастух,
Вороньё там о каких-то вестях
Знай, раскаркалось, летит во весь дух.
А Курагино моё далеко,
Сам не знаю, доберусь ли когда,
Вспоминать сегодня сладко, легко,
А была ведь это ссылка, беда.
1990
«Сон про Украину и Литву…»
Сон про Украину и Литву.
Мазанки и мова всюду. Лето.
Я ещё приеду, поживу.
Наяву. Но сбудется ли это?
Я ещё приеду, погляжу.
Нямунас. Скамейка на опушке.
Я не об Империи тужу,
Не об общей лагерной той кружке,
Два глотка и дальше.
До кости
Проберёт. Что вышки, частоколы!
Но сегодня разошлись пути.
Где Балис и где теперь Микола…
А во сне-то мазанка бела!
И костёл звонит без передышки…
Утром встал — как будто жизнь прошла,
Фонари в окне торчат, как вышки.
1993
«В одиночество-одиночку…»
В одиночество-одиночку
Запереть бы себя и строчку,
Лучше нет убежища нам,
Мгла решётки скроет, как храм,
От мытарища городского,
Где в испуге мечется слово,
Где любой — соглядатай, враг,
Каждый дом, как чумной барак,
По дворам бродит смерть с гранатой,
На груди её крест помятый.
И скребёт мелком по стене:
«Сталин! Дай порядок стране».
1996
«Погадать бы, поворожить…»
Погадать бы, поворожить,
Как назавтра России жить.
Либо красное хлынет зло,
И по первое нам число,
По столыпиным, по Крестам,
По мордовским снова местам,
А кого-то сходу в подвал —
Без кассации, наповал…
Ну а если найдёт вдруг стих,
И останемся при своих —
Постоят без нас лагеря,
Поржавеет колючка зря,
Постареют без нас менты,
Остаканясь, скажут: «Кранты,
Ведь почти что наша взяла.
Ну, народ — не хватает зла,
Не хватает зла на Руси.
Ну, народ — Господь упаси».
1996
«Былого нет, а словно кто-то…»
Былого нет, а словно кто-то
С три короба наплёл и вдруг
Исчез.
И вот теперь забота:
Не позабыть — кто враг, кто друг,
Не позабыть.
И ни полслова
Сказать, не успевая вслед,
Теперь уж в одиночку снова
Шептать себе: «Былого нет».
1994
«Что старик? Только голос и тень…»
Голос лишь и тень — старик.
ЭврипидЧто старик? Только голос и тень,
И со страхом предчувствуешь день,
Когда стих Эврипида далёкий
Камнем ляжет на сердце тебе,
Прозвучит приговором судьбе,
И конец. И сбылись все зароки.
Только голос и тень сквозь века.
Древнегреческого старика
Отличить от живущего ныне
Трудно будет в последний тот миг,
Когда в гроб поспешает старик
По своей стариковской причине.
Только голос и тень, и тоска.
И считай день за днём, как века.
1998
«В чужой стране и карк вороний…»
В чужой стране и карк вороний
Как бы на чуждом языке,
Как объявленье на перроне,
Как чьи-то крики вдалеке.
Чужие надписи маячат
На остановке на любой,
И только цифры что-то значат,
О чём-то говорят с тобой.
Вот так-то: поклоняйся слову,
Молись ему, как божеству,
И вдруг оно не внемлет зову,
Не подчиняется родству,
Бросает посреди дороги,
Посмеивается назло,
И понимаешь ты в итоге,
Что не подводит лишь число.
1993
«Взлетая с грохотом и звоном…»
Взлетая с грохотом и звоном
Над опрокинутым Гудзоном,
Манхэттен вижу я в упор.
Огромных зданий силуэты —
Они грядущего приметы
Или былому приговор?
Они врастают в поднебесье
И чудятся безумной смесью
Грёз ангельских, бесовских снов.
То сатанинское сверканье,
Слепое с Богом пререканье,
Из преисподней адский зов,
То звуки музыки небесной,
Доселе людям неизвестной,
И уши те спешат зажать,
И нет здесь дьявола и Бога,
А черновик того итога,
Которого не избежать.
1993
«Американский океан…»
Американский океан.
Огромный пляж. Простор бескрайний
Захлёстывает, как аркан,
Тебя, и поддаёшься втайне.
Но как знакомо всё! Кричат
И мечутся, и плачут чайки,
Вновь повествуя без утайки
О том, что тыщу лет назад
Известно на земле. Ну чем
Не Стрельна? Парус одинокий.
Давно написанных поэм
Готовые ложатся строки.
А пятьдесят пройти шагов,
И Брайтон загудит жаргоном —
Так вот он — дальних странствий зов,
Заканчивающийся стоном:
«Зачем?»
Грохочут поезда
Над головой, пестрят витрины,
И океанская вода
Дрожит вдали в обрывках тины.
1993
«Век подбирает своих сыновей…»
Век подбирает своих сыновей —
Старый могильщик из пьесы Шекспира:
О, бедный Йорик, ты светоч был мира!
Страшно зиянье улыбки твоей…
Где эти строки и музыка эта,
Ярость актёрская, зала озноб?
Снова кончается смертью поэта
Век, гвозди в рифму вбиваются в гроб.
Кто-то в Нью-Йорке, а кто-то в Париже,
Кто петербургской застигнутый мглой.
Тот, кто остался — возьми же, возьми же
Этот теперь уже голос былой.
Этой строки, этой музыки пенье —
Чудится — не было в мире живей…
Грозных часов замирает биенье…
Век подбирает своих сыновей.
1997
Нулевые
«Ещё двадцатый на табло…»
Ещё двадцатый на табло,
И значит, время не пришло
За «Альфой» вслед воскликнуть «Бэта!»,
От дантовских спастись причуд,
От достоевских тёмных пут,
От Фауста и от Макбета.
Ещё средневековья мгла,
И Гутенбергова игла
Пронзает мозг, и Смерть костями
Стучит и шествует с косой,
И брейгелевский вновь слепой
Ведёт других всё к той же яме,
И до галактик нет пути,
И сколько разуму ни льсти,
Он по привычке лжёт, как прежде,
И, грустно глядя на табло,
Ты шепчешь: «Время не пришло»
И вновь вверяешься надежде.
2000
«Год промежуточный, прощальный…»
Год промежуточный, прощальный,
Чья цифра манит, как мираж,
Упорно чудясь изначальной,
Хоть отвергаешь эту блажь.
Уходит век — последний, наш,
Ему обязаны рожденьем,
Судьбы тяжёлым наважденьем,
И чем ещё ему воздашь,
В тысячелетия вираж
Входя с безмерным напряженьем.
2000
«Стоит большая тишина…»
Стоит большая тишина,
И в ней сентябрьские вздохи
Слышней, и чудится — слышна
Речь уходящей прочь эпохи.
Прощальная, сухая речь
При расставании со всеми,
Тысячелетье — гору с плеч
Угрюмо сбрасывает время.
И смотрит: брать нас иль не брать
С собой в век новый — умирать.
2000
«Пока бежит тысячелетье…»
Пока бежит тысячелетье,
Года отщёлкивая чётко,
Как будто бы погонщик плетью,
Как будто бы танцор чечётку,
А мы, отставшие внезапно,
Замедленное поколенье —
Бредём, как зэки в путь этапный,
Не дни считая, а мгновенья…
2008
«Бери, былое, за живое…»
Бери, былое, за живое,
И память правду-матку режь,
Но небо, небо голубое,
Голубизной меня утешь.
Быть может, пропадут безвестно
Судьба и жизнь, как стих вчерне,
Но там, в голубизне небесной,
В небесной той голубизне…
2007
«Бросил дом. Навсегда ушёл…»
Бросил дом. Навсегда ушёл
В никуда, но только бы прочь.
Бесконечный тянется мол,
Бесконечно тянется ночь.
Катит смертные волны Стикс,
Перевозчик времён старей,
Наступает мгновенье Икс,
Так пускай же пройдёт скорей.
2000
«Мне младенческий облик мой…»
Мне младенческий облик мой
В полутьме мелькнул в сновиденьи,
Сновиденьем и полутьмой
Нарисованный на мгновенье.
На меня он, жмурясь, взглянул
И растаял, и не вернулся.
Я забыл о нём, я уснул,
И тоскуя о нём, проснулся…
2007
«О, память, память! Не оставь…»
О, память, память! Не оставь
На произвол судьбы бесследной —
Поступки пусть восстанут въявь,
Событья, строчек отзвук медный.
Всё то, что было, пело, жгло,
Всё то, что чудилось и снилось —
Пока есть память, не прошло,
Погибло, если позабылось.
2007
«Всё это долгое кино…»
Всё это долгое кино,
Что досмотреть мне суждено,
С полузабывшимся началом,
С мельканьем кадров на ходу,
С отметкой «В надцатом году»,
Да с титром смутным и усталым…
Никто не блещет здесь игрой,
Но главный, роковой герой
Порой пронзает вдруг до дрожи,
И я слежу за ним одним,
Поскольку знаю — вместе с ним
Навек сойду с экрана тоже.
2000
«Звонок из давних, давних лет…»
Звонок из давних, давних лет,
Когда казалось всё манящим,
Рассветом жизни был рассвет
В окне, былое — настоящим.
И жив отец, и мать жива.
И ни казармы, ни решётки.
И первые стихов слова
Так неуверенны, нечётки.
И век, как Вечность — так велик.
И медленно земли вращенье.
И только иногда на миг —
Сон, дней грядущих предвещенье.
2002
«Всё то, что юностью звалось…»
Всё то, что юностью звалось,
Когда-то с места сорвалось,
Как с полустанка поезд,
И безвозвратно унеслось,
Гудком прощальным ввысь взвилось,
И помнится как повесть
О ком-то, может, о тебе,
А, может, о чужой судьбе,
С твоею странно схожей,
В чём перст приметен Божий.
2002
«Я всё внимательней и строже…»
Я всё внимательней и строже
Тот разговор, что начал сам,
Веду, пронзающий до дрожи,
С душой своею по душам.
К чему придём? Судьбой какою
Всё обернётся? Правда в чём?
Мой разговор с моей душою
На тайном языке своём…
2007
«Всё прошло, и не будет возврата…»
Всё прошло, и не будет возврата,
Словно вспыхнул ночной фейерверк
И пропал, и не слышно раската,
В темноте рассыпаясь, померк.
А какие мерещились дали,
И надежд набегали валы!
Но откатывались, пропадали,
Становились добычею мглы.
И стою на ветру холодящем,
Белый снег, белый день, белый свет…
В прошлом, будущем иль настоящем?
Не поймёшь, не расслышишь ответ…
2008
«В образовавшейся лакуне…»
В образовавшейся лакуне
Меж октябрём и ноябрём
Душа расходуется втуне,
Стих скуден, смутен окоём.
Но набирает обороты
Пришедший век на всех парах,
Во все лакуны и пустоты
Вгоняя панику и страх.
И нету места во Вселенной
Среди пространств, среди времён,
Где с мыслью тленной, плотью бренной
Ты был бы спрятан и спасён.
2002
«Ещё так долго до утра…»
Ещё так долго до утра,
И ночь неслышна и сера
Сквозь замершие занавески,
И только всплески, всплески, всплески —
Часов размеренный тик-так,
Времён журчащий зыбкий шаг,
Бесперебойный, беспрестанный —
Взаймы живущим Богом данный.
2000
«Воронку в небе просверлив…»
Воронку в небе просверлив,
Выглядывает шар лохматый
И видит медленный залив,
Прибоя слушает раскаты.
Коснулись облаков края
Черты далёкой окоёма…
Но это то, что вижу я,
Но это то, что мне знакомо,
А взгляд небесный, вековой,
Беспамятный, вселенский, грозный
Сквозь облаков нависших слой —
Что видит он из дали звёздной?
2004
«Сны цветные! Найдёт ли строка…»
Сны цветные! Найдёт ли строка,
В ночь проникнув, разгадку их блеска?
До чего же их поступь легка
Перед тем, как исчезнуть им резко.
Я в сверкающем мире блуждал
Полон силы земной и небесной,
Пробужденья не чуял, не ждал,
Пребывал в тишине бессловесной.
Всё пропало, проснулся едва,
Явь вернулась в свою оболочку,
И печально ищу я слова,
Составляя прощальную строчку.
2009
«Сам с собой поиграй в молчанку…»
Сам с собой поиграй в молчанку,
Посторонним прикинься вдруг…
Снежный лес дрожит спозаранку,
Как приметен его испуг!
Отчего? Ни души повсюду,
Небосвода бледен овал…
Я уйду, я спрячусь, не буду,
Будто вовсе и не бывал,
Только дрожь унять бы лесную,
Этой снежной тревоги блажь…
Я уйду, пропаду, миную,
Я почудился, я не ваш…
2009
«В однообразьи дней моих…»
В однообразьи дней моих
Ловлю внезапные просветы —
Тогда подсказывает стих,
Мелькая, рифма ставит меты.
И возникает на листке
Как будто контур чуть заметный,
Звон раздаётся вдалеке,
И ближе звон ему ответный.
Иная жизнь… Судьбы иной
Изгиб — не встретишь безрассудней…
Неужто сотворённый мной
В глухом однообразьи будней?
2007
«Покуда под дождём…»
Покуда под дождём
Плывёт мой город шаткий,
И смутен каждый дом,
Играя с небом в прятки,
Покуда под дождём
Почти потусторонним
Мы с городом бредём,
Плывём, темнеем, тонем…
2000
«Уже растаял лёд Фонтанки…»
Уже растаял лёд Фонтанки,
Вода бежит во всю длину,
Но зябко, как в японской танке,
Луч солнца трогает волну.
Как будто знает — на мгновенье
Ему дотронуться дано,
Как бы войти в стихотворенье
Летучее, как кимоно.
2002
«Где Николе Исаакий…»
Где Николе Исаакий
Золотой послал сигнал,
Водяные чертит знаки
Убегающий канал.
В городском тяжёлом гуле,
В дымно-медленном дожде
Лики дивные мелькнули,
Замерещились везде,
В окнах, в небе, на воде…
2000
«Сидят вокруг Екатерины…»
Сидят вокруг Екатерины,
И царедворский разговор
Ведут державные мужчины —
Русь берегут, несут ли вздор?
Как ни суди, а каждый славен,
Но уваженья к даме нет.
И лишь Суворов и Державин
Стоят — воитель и поэт.
2009
«Струй крутящихся частокол…»
Струй крутящихся частокол
Посреди тяжёлых громад,
Он почти до неба дошёл,
Видно, нет для него преград.
Хороша ты, дорога ввысь,
В синевы раздолье и даль…
Как бы мы с тобой унеслись!
Да не пустит земли печаль.
2007
Диптих Лене
1
А если бы не встретились с тобой,
И неизвестной ныне нам судьбой
Кружила колея и завивалась,
И не было бы наших дней, ночей,
И наших нескончаемых речей,
Всей жизни, что когда-то нам досталась…
А было б то, что, к счастью, не сбылось,
Чего изведать нам не привелось,
Но чудится, подсказывает кто-то,
Что ты во снах мелькала бы моих,
Метафорой бы в мой врывалась стих,
Звала звездой небесной в даль полёта.
2
Так оказалось, так сошлось —
Любовью первой и последней
Ты стала мне. Нельзя нам врозь,
Всё было бы темней, бесследней,
Звезду не знала бы звезда,
В ночи прополыхав безвестно,
И опустел бы свод небесный
Необратимо, навсегда…
2001, 2003
«Внимая небу, под сосной…»
Внимая небу, под сосной,
Чьи солнцем зажжены иголки…
О, только б ты была со мной —
Взгляд лёгкий, чёткий росчерк чёлки.
Быть может, там, где синева,
Где галактическая вьюга —
Уйдя с земли, найдём друг друга,
Я буду жив, и ты жива.
«Разбросаны судьбою…»
Разбросаны судьбою
В далёкие края…
И только мы с тобою,
И только ты да я.
В стране благословенной,
Где древних предков прах,
Где море длинной пеной
Твердит строку Танах.
Но где грозит могилой,
Но где крадётся вслед
Потомок Измаила —
Двуногий взрывпакет.
А в гул германской речи
И в сказку братьев Гримм
Освенцимские печи
Свой выдохнули дым.
И некуда податься,
И некуда бежать…
Придётся нам остаться
И здесь ответ держать.
Пусть горше и бесследней,
Но правы мы в одном,
Что тот ответ последний
На языке родном…
2006
«Никому не отдам ни за что…»
Никому не отдам ни за что
Тишины моей неповреждённость.
Прохудилось времён решето,
Сон и явь убегают в бездонность.
И нельзя ни на миг задержать
Бесконечную эту лавину.
Это вам не на кнопку нажать,
На экране меняя картину.
Здесь иного закона скрижаль,
Здесь иной правоты верховенство,
Но строки моей, строчки мне жаль,
Тишины вдохновенной блаженства.
2009
«Сквозь бессонницы полумрак…»
Сквозь бессонницы полумрак
Слышу, слышу памяти шаг,
Слышу вздохи и шепотки —
То вдали они, то близки,
Досаждает их бормотьё,
А не спрячешься — всё твоё,
Дни за днями, за днями дни,
Среди ночи будят они,
Как себя от них ни таи —
Все твои они, все твои.
2001
«Ни радио, ни телефона…»
Ни радио, ни телефона
В благословенные те времена,
Но облетала Рим строка Марона,
И поступь цезарева легиона
Из дальней Галлии была слышна.
И грохота грознее,
Звонче звона
Высокая стояла тишина,
Грядущего темнела пелена,
Как стая туч у края небосклона.
2004
«В блеске дня иль в ночном полумраке…»
В блеске дня иль в ночном полумраке
Волнам берег найти нелегко.
— Одиссей! Далеко ль до Итаки?
— Далеко, далеко, далеко…
Хоть с победной войны возвращаться
Или беженцу пристань искать —
Никогда не устанешь прощаться,
Только некому будет прощать…
2006
«И не вспомнить и не забыть…»
И не вспомнить и не забыть,
И никак не определиться,
О, печаль вековая — быть,
О, невнятный страх — не родиться!
Плач младенца, сон старика,
А меж ними полёт и бездна,
Катит волны времён река,
Помощь тонущим бесполезна.
2008
«Жизнь-дублёр пролетает во снах…»
Жизнь-дублёр пролетает во снах,
Никогда на замену не выйдет,
А умру, и посмертный мой прах
Никогда уже снов не увидит.
Плоть Вселенной приникнет к нему,
И пространств, и времён средоточье.
Поплывёт он в безвестную тьму,
Что во снах моих вижу воочью.
2009
«Равенна. Данте. Изгнан навсегда…»
Равенна. Данте. Изгнан навсегда
Флоренцией родной.
В тоске безмерной
Берёт перо.
Строк стройных череда.
Комедия. Часть первая. Инферно.
Я всем отмщу.
Разделите со мной
Мой долгий ад и адские те муки.
Флоренция!
Зову тебя на бой
За всё,
за то, что мы с тобой в разлуке.
2005
«Маму я провожал в больницу…»
Маму я провожал в больницу.
Так отчётливо снился сон.
Это счастье, когда он длится,
И тоска, когда прерван он.
Те мгновенья в полёте кратком,
Те виденья как бы вдали,
Словно на сердце отпечатком
Нестираемым налегли.
Налетевшей явью внезапной
Снова схвачен вдруг, сам не свой —
Будто зэка в вагон этапный
Со свиданья тащит конвой.
2008
«Во сне мне снились зеркала…»
Во сне мне снились зеркала,
Моё мелькало отраженье
Получужое. Ночь плыла
Почти неслышно, без движенья.
Едва себя я узнавал
Как будто нехотя, прощально,
Ныряя в сумрачный овал
Безмерной глубины зеркальной.
Не убывала тишина,
Рассказывая небылицы
Про тёмные причуды сна
И про зеркал ночные лица.
2009
«Я вброд переходил Неву…»
Я вброд переходил Неву,
Что невозможно наяву,
Но было так на явь похоже,
И так темна была вода,
И я неведомо куда,
Брёл, как калика перехожий.
И этот сон я сберегу —
Там, вдалеке, на берегу
Недвижно мать моя стояла,
Объятий нам не разомкнуть…
Темна вода, неведом путь.
Сон, явь… Но разницы так мало.
2009
«Ещё горели фонари…»
Ещё горели фонари,
И первый снег мелькал, маячил,
Как будто фонарям: «Гори, —
Шептал, дрожа. — Я начал, начал.
Зима идёт за мною вслед.
Льды громоздя, лепя сугробы.
Я таю, миг — меня уж нет,
Но самый первый я, особый.
Уже который год подряд
Всё те же страхи и тревоги,
Но утром фонари горят,
Чтобы не сбиться мне с дороги».
2008
«Заполыхали холода…»
Заполыхали холода
Февральской белизны высокой.
Уходит время навсегда,
Навеки, во мгновенье ока.
Ни солнца блеск, ни снегопад
Остановить его не может,
Внезапно повернуть назад,
Вернуть в тот день, который прожит,
Тот день, который ни за что
Смерть не догонит, не захватит,
Не сможет превратить в ничто,
Напрасно только силы тратит.
2004
«Душа затеряна в полях…»
Душа затеряна в полях,
Где ветра буйство и зазнайство,
Где снег и небо на паях
Содержат зимнее хозяйство.
Навек бы ей остаться там,
Забыв о прошлом, о грядущем,
Плыть облаком, припасть к снегам,
Носиться ветром вездесущим.
2003
«Оттого что зима началась…»
Оттого что зима началась,
Обновилась душа на мгновенье —
В белизне есть великая власть,
В льдистом воздухе тайное пенье.
Кто услышал его, кто успел
Не забыть, записать эти ноты —
Для него мир и звонок и бел,
И небесные вспыхнут высоты.
2009
«С берёзами играя в перегляд…»
С берёзами играя в перегляд,
Бреду среди зимы, снежинок дрожи
Который день, который год подряд —
Привычный, примелькавшийся прохожий.
И кто я здесь, и что держу в уме,
Что выведать хочу у перелеска,
Неведомо забывчивой зиме,
Ни воронью, взлетающему резко,
Ни тишине замкнувшихся небес,
Что и сама порой ответа просит.
Я был. Я есть. Я шёл здесь. Я исчез.
Прощально снег шаги мои заносит…
2009
«Снег летит напористо-мелок…»
Снег летит напористо-мелок,
Не спастись от его погонь,
В парке женщина кормит белок,
Им протягивая ладонь.
Как проворно сквозят их лапки,
Как взметаются ввысь хвосты,
Как берёзы над ними зябки,
Ветки голые как пусты!
И орешки с людской ладони
Подбирают белки, спеша,
И снежинки в жадной погоне
Разбегаются, мельтеша…
2008
«Зима, белея, разбежалась…»
Зима, белея, разбежалась,
Установилась тишина,
Снежинка зябкая прижалась
К холодной просини окна.
А мы с тобой всё планы строим,
О зимах прошлых говорим…
Снега лежат тяжёлым слоем,
Простор полей необозрим…
2005
«На стыке зимы и весны…»
На стыке зимы и весны,
Огнистого солнца и снега,
То карканья, то тишины
Глухой, как слова оберега —
Мгновение длится, как день,
То день вдруг мелькнёт, как мгновенье,
Запутанно-зыбкая тень
Деревьев, как сердцебиенье…
2005
«Май приближается к лету…»
Май приближается к лету,
Шустро скворец семенит,
Что-то ему по секрету
Зелень, дрожа, гомонит.
Ярче белеют берёзы,
Шире плывут облака,
И объедаются козы
В чаще сырой ивняка.
Несколько дней календарных,
И убегает весна.
Слов бы найти благодарных,
Чтоб услыхала она.
2004
«За часом час и день за днём…»
За часом час и день за днём —
Меж ними не найдёшь отличий,
Меж облаками синь проём.
Он краток, словно посвист птичий.
Не знающим про времена
Как хорошо — для них всё длится
Одна секунда — лишь одна,
В ней море, облако и птица.
2009
«Путём привычным ночь прошла…»
Путём привычным ночь прошла,
Небесные проснулись сферы,
И где звезда пространство жгла —
Тишь, гладь, голубизна без меры.
И тёмных странствий страх гоня,
Душа вернулась, оживая,
В сиянье голубого дня —
Светящаяся, голубая.
2007
«Пеньем птиц, шелестеньем листвы…»
Пеньем птиц, шелестеньем листвы
Окружён в этом месяце травном.
Неизбывная даль синевы
Вновь в полёте крутом, своенравном.
Но за миг набегут облака,
Жадной молнии блеск промаячит,
И внезапная хлынет река,
Пенья звон в бурном гуле упрячет.
Ни небес, ни земли не видать,
Бесконечная мечется влага,
И былой синевы благодать
Помнит разве что куст-бедолага.
2009
«Я вмешивался в разговор дождя…»
Я вмешивался в разговор дождя
Своей строкой, он отвечал, гудя,
Я бормотал о днях моих летящих,
Он лепетал о листьях шелестящих,
О крыше, дребезжащей в темноте,
В ответ о смертной я шептал черте,
Но утешал он музыкой небесной
С какой-то силой, людям неизвестной.
2004
«Осень замедленней…»
Осень замедленней,
Меньше всё сведений,
Певчих, порхающих,
В небе летающих,
Тропами вязкими,
Травами тряскими
Выйдем куда-нибудь,
Господи, с нами будь.
Как не отчаяться —
Осень кончается.
Июль
Мягкий месяц, названьем своим
Ты атласной подобен подушке,
Риму древнему ты побратим,
И латынь в твоей пенится кружке.
Что тебя в нашу мглу занесло
И в промозглые наши чертоги?
Здесь твоё ненадёжно тепло,
Здесь не благоприятствуют боги.
Но прижился. Белы облака,
И плывёт синева перелеском.
И античные словно века
Обдают в этот миг своим блеском.
2008
«Ноябрь в ноябре…»
Ноябрь в ноябре
Не короток, не длинен.
И в зимней той поре
Нисколько не повинен.
Он с осенью вдвоём
Не друг ни льду, ни снегу,
В туманный окоём
Упёрся он с разбегу.
А что ручей замёрз,
Трава поникла зябко,
И гол берёзы торс,
На пне белеет шапка,
Что иней пал с утра,
Тропинка серебрится —
Природа-то хитра.
Затейница, шутница.
«Жара сменилась непогодой…»
Жара сменилась непогодой.
Небесный свод темней свинца,
Но тянет разразиться одой
Взамен элегий без конца.
Воспеть торжественно и мрачно
Залива длинную волну.
Сырой песок, лесок невзрачный,
Гул, в плен берущий тишину,
Крикливых чаек бег пугливый,
И с элегической тоской
Себя на берегу залива
Воспеть одической строкой.
2002
«Просторна область тишины…»
Просторна область тишины —
Воды и неба обиталище.
Торопит словно бег волны
Бег облаков далёкий, тающий.
И не узнать, куда спешат
Две синевы, два отражения,
Куда уводит небоскат,
Куда волны передвижения.
А тишина настороже —
Разрешено лишь ветру редкому
Про осень, что близка уже,
С густыми пошептаться ветками.
2009
«Шуми, Гомер, волной залива…»
Шуми, Гомер, волной залива,
Свои гекзаметры считай,
Покуда облака лениво
Заходят за небесный край.
Морские медленные байки
Рассказывай из века в век,
Пока цитируют их чайки
И забывает человек…
2003
«Облаков собирается стая…»
Облаков собирается стая,
Загораживая синеву…
Осень, осень, весь век тебя зная,
И зову тебя и не зову.
Но тебе и не надобно зова,
Хмурь рассеется, солнце взойдёт,
И всё золото мира земного
Явишь нам от великих щедрот.
А потом нищета, прозябанье —
И школяр на примере таком
Про сложенье и про вычитанье
Всё поймёт, посмотревши кругом.
2009
«Душа тоскует в межсезонье…»
Душа тоскует в межсезонье,
В осенне-зимнем промежутке,
Где крики горестны вороньи,
Где в сумерках мелькают сутки.
Где чем длинней воспоминанья,
Тем сны прощальней и короче,
Где города теряют зданья,
Где люди дом теряют отчий.
И не с кого спросить ответа —
На то и межсезонье, значит,
И нет ни света, ни просвета —
День прячет ночь, и ночь день прячет…
2007
«Ночной тоски внезапной…»
Ночной тоски внезапной
Что горше и черней?
И ты, как зэк этапный,
Опять в толпе теней.
Опять на пересылке
Конвойный тряс шмотья.
И холодком в затылке
Вменённая статья.
Режим налажен строго,
Жестоки времена…
Чего просить у Бога —
Свободы? Смерти? Сна?
2009
«Среди ноябрьской непогоды…»
Среди ноябрьской непогоды
Проходят дни, а может, годы.
Всё тот же ветер, мокрый снег
И неба смутные разводы…
Проходят дни, а может, годы.
О Господи, проходит век.
И лужи тёмные зияют,
От скуки словно бы зевают,
Пустые разевая рты,
И в них замедленная морось
Сквозь облаков глухую прорезь
Дрожа, сочится с высоты.
И нет конца. Ноябрь всё длится.
Всё те же разговоры, лица
На протяженьи долгих лет.
Как лужа тёмная, зияет
Вселенная, как бы зевает,
Заглатывая белый свет.
2006
«Душа без рифмы, без строки…»
Душа без рифмы, без строки
Живёт сиротски неумело,
Но всё ж мытарствам вопреки
Творит завещанное дело.
Она бы, может, умерла
Давно — отчаявшейся, гневной,
Когда бы не душой была —
Скороговоркой злободневной.
Но ей дана недаром власть,
Высокое предназначенье:
Свой путь пройти и не пропасть
Бесплодно говорящей тенью.
2005
«Что жизнь моя? То сон. То явь…»
Что жизнь моя? То сон. То явь.
То рифмы звон, то скрежет будней.
Судьба, суровый кормчий, правь
Чем правильней, тем безрассудней.
Взбираясь резко на волну
Под хмурой далью небосводной,
Отринув явь, не веря сну,
К звезде взывая путеводной…
2007
«Совопросник века зоркий…»
Совопросник века зоркий,
С ним не ищущий родства —
Сильных мира отговорки
Разбиваю на слова.
Всё на выкрике, на нерве,
Будто гонятся за мной,
И ползут, ползут, как черви,
Обвивая шар земной.
2009
«О, бедная моя строка…»
О, бедная моя строка,
Ведя подсчёт моих печалей,
Была ты на подъём легка.
С тобой играли мы вначале,
Но нынче кончилась игра,
И жить, и умирать пора
Взаправду. Тут не до расчёта,
И не до росчерка пера.
Ну что, небось, примолкла?
То-то.
2008
«Исчёркан жизни черновик…»
Исчёркан жизни черновик,
Порой не разберёшь ни строчки,
Почти не почерк — плач и крик,
Зловещих знаков заморочки.
Здесь — переносов мельтешня,
Подобно пестроте осенней,
О чём-то шепчется, звеня
Всё медленней и незабвенней.
А вот наглядны и легки,
Как на компьютерном экране,
Удачи гордой завитки,
Мгновенные успеха грани.
А дальше снова смута, дрожь,
И спотыкается усталость,
И слов последних не поймёшь,
Быть может, самую их малость.
2003
«Сибирь, Курагино, зима…»
Сибирь, Курагино, зима,
Туба замёрзла, затвердела…
А всё же ссылка — не тюрьма,
Хоть власть об этом не радела,
И здешний — не тюремный люд,
Хоть и знаток того жаргона,
Как выпьют — песни запоют
В дыму махры и самогона
Про Стеньки Разина челны —
Не про колымские зачёты,
Такие, знаешь, певуны,
Говоруны такие, что ты…
2004
«Не убывает снежный март…»
Не убывает снежный март,
Белея зимней сказкой длинной.
Колодой сувенирных карт
Рассыпан пригород старинный.
И что-то чудится вдали,
И взгляд улавливает зоркий…
Валеты. Дамы. Короли.
И банк сорвавшие шестёрки.
2005
«Клубится дыма волчий хвост…»
Клубится дыма волчий хвост
Над обгоревшею избою,
Кругом, как брошенный погост,
Зима. Россия. Мы с тобою.
И снегопад. И тишина.
И больше некуда податься.
А где-то там шумит страна.
Какая? Чья? Не догадаться.
2005
«В стране измаянной и скудной…»
В стране измаянной и скудной
Мы доживаем век свой трудный,
Ожесточенье, жалость, жуть
Мы чувствуем попеременно —
Пришла, явилась Перемена,
Сегодня — не когда-нибудь.
Полна торжественного гула,
Нас на обочину столкнула,
Как старика в толпе амбал,
Не слышно строк — шуршат дензнаки,
Нефть брызжет, бомж бредёт во мраке,
Попы и воры правят бал.
2006
«Сгорел собор. Потеряна планета…»
Сгорел собор. Потеряна планета.
Убийцам — слава, проходимцам — путь.
Что, новый век, ответишь ты на это?
Что в эсэмэске предпочтёшь черкнуть?
Век тёмного фанатика и гея,
Упавших небоскрёбов и попсы —
На Страшный Суд явившись, не робея,
Взамен души — что бросишь на весы?
2006
Десятые
«О небе голубом…»
О небе голубом
Немного знают строки.
В блуждании земном
Хватает им мороки.
Людская суета
Не ведает предела,
И помыслов тщета
До смерти надоела.
Вот звёзды и считай,
Зигзаги их полёта,
Но только невзначай
Не сбиться бы со счёта…
2010
«Всё уходит людское и косное…»
Всё уходит людское и косное
Среди сосен, осин и берёз,
Слышно птичье там, многоголосное,
Шелест веток вдруг ветер донёс.
Не сбежать мне сюда и не спрятаться,
В соловьиную трель обратясь,
Скорый поезд за мною докатится,
И настигнет мобильная связь.
С верхней полки в оконце вагонное
Напоследок ещё загляну —
Только ночь там, глухая, бездонная
Улетает в свою тишину.
2010
«Душа улиткой затаилась…»
Душа улиткой затаилась,
Боится выбраться на свет,
Не помнит, что во сне ей снилось,
Не чает яви дать ответ.
И словно чьей-то ждёт подсказки —
Листвы дрожащей, может быть,
Воды, запутавшейся в ряске,
Ворон, что скачут во всю прыть,
Звенящей тишины просторной,
Всё знающей давным-давно
Про снов и яви бег проворный,
С землёй и небом заодно.
2012
«Я парком шёл. Весна дробила лужи…»
Я парком шёл. Весна дробила лужи,
Ныряя в отражённый небосвод,
Всё было смутно, медленно и вчуже,
Но чудилось — изменится вот-вот.
И вправду резко всё переменилось:
Милиция, скамейка и мертвец —
Он на земле лежал.
Дознанье длилось,
Видать, давно. Замеры делал спец.
Стояли два уазика, набычась,
Виднелись документы на скамье…
О, как же просто человека вычесть
Из общего числа… Причислить к тьме.
Бродяга. Бомж. Невелика утрата.
Сейчас уедут. Всё как бы молчком.
Как сумрачно, прощально, угловато
Край неба в лужу падает ничком.
2010
«Поезд вновь увозит в никуда…»
Поезд вновь увозит в никуда,
И поглядывают косо, вчуже
На меня попутчики, всегда
Присказку твердя одну и ту же:
«Не доехать, не добраться нам.
Ночь кругом и машинист-незнайка».
Я уже давно почуял сам —
Может быть, и правда эта байка?
Всё темней, прощальней за окном,
Знать не знаешь — поздно или рано,
И не выйти, не вернуться в дом,
Нету в этом поезде стоп-крана.
2012
«Деревьев разговоры…»
Деревьев разговоры,
Дрожь листья ворошит.
А век, как поезд скорый,
Безудержно спешит.
Сквозь осени и зимы,
Людских становищ гул
Во мрак непроходимый,
Где правит Вельзевул.
Где нет различий пола
И нет различий зла,
Где не слыхать глагола,
Черна небес зола.
Где роботы маячат,
Где цифры мельтешат,
Где ни о чём не плачут.
Спешат, спешат, спешат…
2011
«В непроглядной тьме небытия…»
В непроглядной тьме небытия
Строчка не блеснёт, звезде подобно.
Лишь Харона проплывёт ладья,
На мгновенье вёсла вздрогнут дробно.
И безвыходная тишина
Дверь закроет на засов железный.
До чего же эта тьма темна,
До чего бездонна эта бездна…
2011
«О чём бы век ни бормотал…»
О чём бы век ни бормотал —
Прислушиваюсь с недоверьем,
Давно дивиться перестал
Его чужим павлиньим перьям.
Вороньей хитрости примет,
Вороньей воровской повадки
Ему не скрыть и тыщу лет,
Хоть люди на обман и падки.
2010
«Шипит волна, в песок впиваясь…»
Шипит волна, в песок впиваясь,
Над нею польской речи шип,
На свой массаж зовёт китаец,
Грек-говорун давно охрип.
А вдалеке нависли горы,
Обёрнутые синевой,
И ни к чему им разговоры
Толпы болтливой мировой.
2010
«Ночи чёрная штриховка…»
Ночи чёрная штриховка,
Дрожь небесной высоты
И привычная сноровка
Человечьей суеты.
В транспортном круговороте,
В беге уличной волны
Все сегодня на учёте,
Все в компьютер внесены.
Ночь не скроет, день не спрячет,
Всё известно наперёд,
В час, когда Господь назначит,
Каин Авеля убьёт.
2010
«Двух летоисчислений…»
Двух летоисчислений
Свидетель и жилец —
В плену своих сомнений
Измаялся вконец.
В сверканье древней веры
Сквозь сумерки веков
В небесные я сферы
Спешу на Божий зов.
Но в суете житейской
Листая календарь,
Цифири европейской
Я слушаюсь, как встарь.
И грозно надо всеми,
Гоня земли орех,
Куда-то мчится Время,
Единое для всех.
2010
«Тяжёлый грезился мне сон…»
Тяжёлый грезился мне сон:
Бродил я в древности глубокой,
Кругом кричали: «Вавилон,
Изгнанничество, воля рока…»
О, как земля была чужда,
Страшны чужие колесницы…
И кто я здесь? И как сюда
Попал? Зачем мне это снится?
Сквозь сон в спасительную явь
Прошусь, как тонущий на сушу,
А Ты, Господь, спаси, наставь
На путь испуганную душу.
2011
«Днём настигала их жара…»
Днём настигала их жара.
А ночи миг летучий краток,
Но эта древняя пора
Искала в слове отпечаток.
Звучание небесных сфер
Так ясно слышалось в пустыне,
Диктанта Божьего размер,
Не умолкающий доныне.
2010
«Скала высокая, как ночь…»
Скала высокая, как ночь
Под небом звёздного разлёта…
Пой, грек, здесь иудей пророчь —
Услышит Бог, запишет кто-то.
Дремотой Вечности объят,
Проснётся мир и встрепенётся,
И звёзды вдруг заговорят
Безумолку, о чём придётся.
2011
«Туман, дымясь и оседая…»
Туман, дымясь и оседая,
И пробираясь меж вершин,
Как Зевса борода седая —
И что древней его седин?
Внизу волна своё бормочет,
И древнегреческий напев
Нам рассказать, быть может, хочет
Про Трою, про Ахилла гнев.
Темнеет небо грозовое
В дрожащей всполохов игре,
И помним только мы с тобою
Про числа на календаре.
2010
«Меж сном и явью миг зубастый…»
Меж сном и явью миг зубастый,
Как будто плоскогубцев щёлк,
Событий, лиц в их смене частой,
Проснувшись, не возьму я в толк.
Но что-то сказано мне было,
Быть может, послано с высот.
Не зря маячило, кружило,
Засасывал водоворот.
И голоса куда-то звали,
И я себя не узнавал,
И резкий щёлк холодной стали.
И яви утренний провал…
2011
«Безмолвие, возьми меня в сообщники…»
Безмолвие, возьми меня в сообщники.
Пускай никто не слышит на земле,
О чём молчат стихов моих подстрочники —
Кусты, деревья, небеса во мгле.
Пусть птицы притаятся, не окликнутся,
И зябкий дождь застынет на лету,
Часы споткнутся и замрут, и свыкнутся,
Что Время им догнать невмоготу.
И солнца зимний отсвет чуть забрезжится
И спрячется обратно в полутьму.
И голос вдруг неслыханный прорежется —
Чей? Божий? Человечий? Не пойму.
2010
«От снов очнувшись вдруг, спеша…»
От снов очнувшись вдруг, спеша
К непостижимой их разгадке,
Внезапно чую, как душа,
Таясь, со мной играет в прятки.
Она-то прозревает, чьи
Мелькают знаки и приметы,
Но не догнать её в ночи,
Как ни взывай: «Ответь же! Где ты?»
2012
«Тяжёлым льдом Нева объята…»
Тяжёлым льдом Нева объята.
И всадник чудится черней,
Как прежде, скачет он куда-то,
Вздымаясь сумрачно над ней.
Под небом, от зимы усталым
И словно падающим вдруг,
Стал город призрачным и малым,
Скрыть не сумевшим свой испуг.
2012
«В тишине, белизною одетой…»
В тишине, белизною одетой,
Проскрипели внезапно шаги.
Между веток открылись просветы,
В небесах полыхнули круги.
После ночи глухой и метельной,
Просыпаясь, очнулся январь,
Огляделся — зима безраздельна,
Снизу снег, наверху киноварь.
Шаг людской, птичий посвист летучий,
Преклонённого леса молчок,
Сочетание зимних созвучий,
Разбегание зимних дорог.
2011
«Побродить среди зимы…»
Побродить среди зимы,
Позабыть утраты,
Взять бы у неё взаймы
Белизны крылатой.
Под сосною снеговой
Постоять немного.
Помолчать вдвоём с зимой
Медленно и строго.
Может, вместе и вздохнём
Над своим уделом:
Долго ль нам ещё вдвоём
Быть на свете белом?
2012
«Зима вокруг меня кружит…»
Зима вокруг меня кружит,
А я средь суеты обычной,
И день, что мною пережит,
Мне вслед взирает безразлично.
Деревья ёжатся в снегу,
Во мгле небесной нет просвета,
Остановиться на бегу
Не может ни на миг планета.
Жизнь убывает, и снуют
Безостановочно и скоро
Снежинки. Сеть над миром шьют,
Не выберешься из которой.
2013
«Мёртвая ворона в урне…»
Голодный француз и вороне рад.
В. Даль. Пословицы русского народаМёртвая ворона в урне,
Сумрак снежной кутерьмы.
Что прощальней и мишурней
Отступающей зимы?
Так, давно, во время оно,
Перепутав день и ночь,
Армия Наполеона
Уносила ноги прочь.
Посреди зимы холодной,
Озираясь наугад,
Был бы впрямь француз голодный
И вороне мёртвой рад.
2012
«Под солнцем марта леденящим…»
Под солнцем марта леденящим
Ещё не чувствуешь весны,
Но посвистом синиц звенящим
Зимы мгновенья сочтены.
Её дыханием усталым
Пронизан чёрно-белый лес,
И пахнет слабым снегом талым,
И зябкой синевой небес,
И горькой памятью, с которой
Век вековать и день, и ночь,
Как зэку с буквой приговора,
Что отменить уже невмочь.
2011
«Всё ярче снег, и луч небесный…»
Всё ярче снег, и луч небесный
Его пронзает до нутра,
Берёзки словно бестелесны,
Белее снега их кора.
Сквозь звон синичий карк вороний
Ракетой пролетает вдруг,
Как будто мир потусторонний
Решился взять нас на испуг.
Но устояла ось земная,
Не сбилась с верного пути —
И мы спаслись, не успевая
Сказать последнее «прости».
2013
«В лесу весна перекликается…»
В лесу весна перекликается
С неуходящею зимой,
Та льдом торчит, снегами мается,
Дуреет от себя самой.
Синицы скачут, прочь высвистывая
Предутренние холода,
Берёз звенящих вера истовая
Бела, как прежде, и тверда.
Небесной высоты проталины,
Синеющие там и тут,
Нежданны словно и нечаянны,
И словно бы чего-то ждут.
2012
«Меня весна подстерегла…»
Меня весна подстерегла
В холодном парке на окраине
И развлекала как могла,
Пел птичий хор, слепило таянье.
Среди огромной синевы
Мелькало солнце, словно сманивая,
И падало в канавы, рвы,
Торча на дне, как складка тканевая.
Сырые тропы вглубь вели,
Темня, ориентиры путая,
Я уходил на край земли,
Всё дальше с каждою минутою.
2010
«От ветра ли холодного…»
От ветра ли холодного,
Апрельски сумасбродного
Упряталась строка?
А всё-таки я выманил,
А выманил — не выронил,
И вот звенит, легка.
С леском перекликается,
То к облаку ласкается,
Летит скворцу вдогон,
Со мной полузнакомая,
А всё же — та, искомая,
Как сбывшийся вдруг сон.
2010
«Всё отсырело в парке старом…»
Всё отсырело в парке старом,
Дождь шёл всю ночь и сгинул вдруг,
И птичьим праздничным базаром
Вмиг зашумело всё вокруг.
Звеня, свистя, перекликаясь,
Торгуясь будто почём зря,
То в стаи в небесах смыкаясь,
То в одиночестве паря,
То посреди ветвей мелькая,
То прячась где-то в глубине,
Весенним утро нарекая
И громко радуясь весне,
Они, чья ночь в дожде тонула,
На пенье наложив запрет,
В пылу приветственного гула
Знать не хотят её чуть свет.
2012
«Возобновились птичьи хоры…»
Возобновились птичьи хоры,
Рванула зелень к небесам,
И лето, будто поезд скорый,
Шумит уже не где-то там,
А ближе, ближе. На перроне
Толпа заждавшихся давно,
И стелется за ним в погоне
Змеящееся полотно.
2013
«Набежала зелёная сила…»
Набежала зелёная сила,
Обступила меня, шелестя,
Словно в детстве. Душа не забыла,
Вот и радуется, как дитя,
Вторит птичьему многоголосью
И готова взлететь в синеву,
Там, где ждут её — милую гостью.
Я же в страхе обратно зову.
2011
«Весна с повадкою зимы…»
Весна с повадкою зимы:
Разбитый лёд, снежинок смута —
Зачем смущаешь ты умы
И не уймёшься почему ты?
Устали люди и земля.
Устала бездна небосвода,
Без устали тебя моля
Не подменять нам время года.
2013
«Булыжником жары огромной…»
Булыжником жары огромной
Июль на плечи давит нам.
Найти бы уголок укромный,
Где тихо, где просторно снам,
Где льдистая вода в баклаге,
Где кот свернулся на печи,
И чистый, чистый лист бумаги,
И голоса как бы ничьи…
2010
«Тяжёлый медленный июль…»
Тяжёлый медленный июль,
То дни жары, то грозы, ливни —
Попробуй, миг подкарауль,
Что строчку кличет всё призывней.
И как фотограф в объектив,
Поймай блеск сумрака летучий,
И струй огнистых перелив,
И жаркий шорох их созвучий,
И неумолчную их дрожь,
Внезапность тишины просторной,
Когда всей грудью ты вдохнёшь
Мгновенный воздух, будто горный.
2011
«О том, что птицы мне поют…»
О том, что птицы мне поют
То хором, то поодиночке,
Не расскажу летучей строчке,
Но отыщу в душе приют,
Где эти посвисты и трели,
То умолкая, то звеня,
Мне всё расскажут про меня,
О чём бы день и ночь ни пели.
2011
«От самого себя устав…»
От самого себя устав,
От немочей телесных,
И день и ночь твержу устав
Державных сил небесных.
Дрожмя дрожащий звёздный свет
В слепом огне полёта,
Пронзая миллиарды лет,
Рассказывает что-то.
А днём, белея, облака
Плывут без остановки.
Гомера древняя строка
Училась их сноровке.
И шум дождя, и гул грозы,
Внезапных молний знаки —
Ученья вечного азы,
Всех судеб зодиаки.
2013
«Как тихо в городе моём…»
Как тихо в городе моём
В неторопливости прогулки,
Когда бредём с тобой вдвоём
И вдруг увидим в переулке
Старинный дом, старинный век,
Приземистый, широкоплечий —
Прервало время, словно, бег,
И словно бы бормочет речи,
О чём — теперь не разберёшь,
Не оживишь, не восстановишь,
Но тайную почуешь дрожь
И тайный смысл на миг уловишь.
2011
«В себя вбирая тишину…»
В себя вбирая тишину,
Плывущую невесть откуда —
Бреду. То на небо взгляну,
То вспомню что-то, то забуду.
А лес, разбросанный кругом,
Живёт своей судьбой всегдашней,
Не занят он грядущим днём,
Не ведает про день вчерашний.
О чём-то небу шепчет вдруг,
На миг молчанье обрывая,
К нему вздымая тыщу рук
С мольбою, как толпа людская.
2011
«Среди синеющих небес…»
Среди синеющих небес
Ютятся облака, белея,
Неощутимые на вес,
Протяжные, как эпопея.
Куда сегодня заведут?
Недвижный их покой неверен.
Вчера лил дождь. Уж так был крут,
Безостановочен, безмерен.
Хоть прячься, хоть беги стремглав,
Взахлёб как будто бы листая
Летящих заготовки глав,
Которым ни конца, ни края.
2013
«В зелёной стороне…»
В зелёной стороне,
Где птиц многоголосье,
Брожу как бы вовне,
Как бы с собою врозь я.
Услышать мне дано
В полёте том звенящем
О канувшем на дно,
О миге настоящем.
Но мною дан зарок
Не разглашать секрета.
Отмеренный мне срок
Я буду помнить это.
2013
«Дождь ночью всё скрипел пером…»
Дождь ночью всё скрипел пером
В черновике своём усталом,
Там явь то притворялась сном,
То чем-то тайным, небывалым.
Но не умел я в темноте
Прочесть, понять, найти отличье,
На миг приблизиться к черте,
Где сна и яви пограничье.
2011
«Не угадаешь в дымке синей…»
Не угадаешь в дымке синей
Дневной дымящейся жары,
В дрожащем небе ломких линий
Слепящей призрачной игры,
Затихшей тишины усталой
И раскалённого песка,
И под платаном тени малой,
Чья благосклонность велика.
2011
«Одуванчики, медуница…»
Одуванчики, медуница,
Длинный медленный аромат,
А ночами смутное снится,
Непонятное, невпопад.
И неведомо что пророчит
Безымянная кутерьма,
Позабыть её утро хочет,
А иначе сведёт с ума.
И начнёшь бормотать невнятно,
Медуницу звать и траву
Пожалеть о судьбе превратной,
Приключившейся наяву.
2013
Лене
Ты уходишь вдоль берега вдаль,
Волны сумрачны, неторопливы,
Распростёрта над нами эмаль,
Чуть заметны её переливы.
Трясогузки пускаются в пляс,
Машет крыльями стая воронья,
Знать бы, чем обернётся для нас
Дня грядущего потусторонье.
Ты ушла, и тебя не видать,
Я остался один с валунами.
Тишина. Вышина. Благодать.
Знать бы только, что сбудется с нами.
2012
«В одиночестве звенящем…»
В одиночестве звенящем
Долгой осени пустой
Жить и жить бы настоящим
Под небесной высотой.
Листья жёлтые считая,
Трогая берёз стволы,
Строки им о том читая —
Дочего ж они белы.
За синичьим пересвистом
Скудной тропкой уходя,
Чуять в сумраке ветвистом
Приближение дождя.
То в тумане растворяться,
Исчезая на лету,
Превращаясь, может статься,
В голубую высоту.
2011
«Стоит распахнутая осень…»
Стоит распахнутая осень,
Летает лист туда-сюда,
Сквозь облаков завесу просинь
Проглядывает иногда.
И ничего не обещая,
Привычно падая во тьму,
Дней скудных пропадает стая —
Век не узнаешь почему.
От них укрыться невозможно,
Лишь вместе с ними вдруг пропасть,
В осенней смуте бездорожной,
Признав её над нами власть.
2012
«В небесах невнятица глухая…»
В небесах невнятица глухая.
Блики света в тёмных облаках.
Страх глядеть, а вспыхнет, полыхая,
И того сильней охватит страх.
Что для неба племя человечье,
Злобой обуянная возня?
Во мгновенье ока все наречья
Станут пеплом в ярости огня.
Пустоты безмерная громада.
Грозная беспамятная мгла —
Что там песни рая, плачи ада
В этом мире, выжженном дотла…
2013
«Спасенья нет. Мы в новом веке…»
Спасенья нет. Мы в новом веке,
И ход времён необратим:
Идут в утиль библиотеки.
Разграблен варварами Рим.
Уже прочёл на мониторе
Посланье Бога Валтасар,
И всё написанное в Торе
Уже превращено в пиар.
Молчи, поэт. Ты — блогер ныне —
Добыча хакера в сети,
Отринь вчерашние святыни —
Никто не сможет их спасти.
Хотя, как страус пресловутый,
Засунув голову в песок,
Ты можешь отдалить минуты
Погибели на краткий срок
2013
«Я у неба ищу защиты…»
Я у неба ищу защиты
От невежественных слепцов,
Торопливой их льстивой свиты,
Их подручных, чей взгляд свинцов.
И с высот — синевы просветы
Из безмерных своих глубин
Шепчут мне: «Всех веков поэты
К нам взывали, не ты один».
2013
«То неведомо, то знакомо…»
То неведомо, то знакомо —
Нет различий, скорее связь,
Далью дальнею окоёма
Убывающей становясь,
Зазывает, томит и манит
В колдовские свои края.
И бредём, хоть знаем — обманет,
За слепую грань бытия.
2013
«Слетают листья с неба…»
Слетают листья с неба,
Вразброс их желтизна —
Лесного ширпотреба
Грошовая цена.
Продешевила осень,
Уж пусто на торгу,
У величавых сосен
Не стребуешь деньгу.
Всё в сумраке, разоре,
И знает млад и стар —
Зима наступит вскоре,
Закроется базар.
2012
«Зима подморозила лужи…»
Зима подморозила лужи.
Черно на провалистом льду,
И скорой предвестники стужи
Ветра задудели в дуду.
И снег во мгновение ока
Засыпал кусты и траву,
Уже прилетала сорока,
Свою стрекотала молву.
Её немудрёные вести
Не красного ради словца,
И я б на сорокином месте
О том же шумел без конца.
2012
«Всё чаще памятью живу…»
Всё чаще памятью живу,
Печалясь жизненным итогом.
Брожу во сне и наяву
По старым тропам и дорогам.
Вот здесь направо бы свернуть.
Да не сбылось, не приключилось.
Судьба наставила на путь,
Душа смиренью научилась.
И не найдёшь, на ком вина,
И правда где? И как зовётся?
Во тьму уходят времена,
И памяти не остаётся.
2012
«Сибирь — печальная любовь…»
Сибирь — печальная любовь.
Два года ссылки в том посёлке,
Где сани на зиму готовь
И жди медведя из-под ёлки.
Здесь лес сплавляли по Тубе,
Скотину содержали в стайке,
И представитель КГБ
Без нас ЦУ давал хозяйке.
И всё. Попал, как птица в сеть.
Тянулся срок, душа томилась.
И впрямь, о чём тут сожалеть?
За что любить — скажи на милость.
2010
«Душа устала от скорбей…»
Душа устала от скорбей,
От суеты унылой —
Пусть ей примером воробей
Послужит шустрокрылый.
В дрожащей тесноте листвы
Без устали мелькает,
Среди сородичей молвы
И сам не умолкает.
Надолго ль жизнь ему дана,
Не вопрошает Бога,
Не отличает явь от сна,
Начала от итога.
И впрямь, душа, пример бери —
И вся скороговорка,
Да уж потом не говори,
Что обманулась горько.
2013
«Предутренним дождём…»
Предутренним дождём
Пропитанная мгла…
Куда же мы уйдём
Внезапно, спрохвала?
Устали на земле
И некуда уйти,
И в потемневшей мгле
Дороги не найти.
И нет проводника,
И нет поводыря,
И годы, как века,
И дни проходят зря.
Давай у деревца
Недолго постоим.
В дороге без конца
Сподручнее двоим.
2013
Лене
Вот существо единственное в мире,
Которое меня на этом свете
Покуда держит. Утреннее небо
Так держит звёзды синевой белёсой,
Им не давая сгинуть, раствориться…
Вот существо, его тепло упорно
Превозмогает, побеждает холод
Глухого одиночества ночного,
Легко проходит сквозь перегородку
Раздельных наших зорких сновидений
И вновь соединяет нас, и снова
Нас двое на земле, да и на небе.
2011
«И явь, и сны перемешались…»
И явь, и сны перемешались
В прощальной памяти моей —
Какие-то дела свершались,
И затевалось сто затей.
Огни небесные сверкали,
Тысячелетье шло на дно.
А я, как зритель в кинозале,
Гадал, чем кончится кино.
Билет ощупывал в кармане —
Измятый, скомканный — хоть брось.
И узнавал вдруг на экране
Всё то, что снилось и сбылось.
2011
«В холодной смуте ноября…»
В холодной смуте ноября
Вставать ни свет и ни заря,
Бродить по сумрачному парку,
На небо пасмурное зря,
Раздумывать: а, может, зря
Раздумывать? Ведь всё насмарку
Пойдёт в каком-то ноябре,
В безжалостной времён игре.
2012
«Земля холодная, сырая…»
Земля холодная, сырая…
Как подбирал народ слова…
И следом, крохи подбирая,
Всю жизнь бреду, ища родства
Средь прилагательных, наречий,
Глаголов, вставших на дыбы,
Метафор древних, как Двуречье —
Рассказчиков моей судьбы.
2012
«Из тесной комнаты привычной…»
Из тесной комнаты привычной,
Где часто дышит циферблат,
Куда доносится частично
Гул уличный, бензина чад.
Где скудный день боится ночи —
Непредсказуемой, чужой,
Обрывистой, как многоточье
За неоконченной строкой,
Где утро брезжит явью бледной
И гонит вновь куда-то прочь,
Я снова ухожу бесследно
В день, шатко падающий в ночь.
2011
«Сны забывчивы, явь упорна…»
Сны забывчивы, явь упорна,
Ночь опять набормочет дню
Неразборчиво, длинно, вздорно.
И опять её обвиню:
— Что ж ты прошлого яму роешь,
Незажившей болью коришь,
Не утешишь, не успокоишь,
Уходя, усмехнёшься лишь?
С настоящим очную ставку
Мне устраивая, шепнёшь:
«Вот тебе и стихи на правку,
Пусть от них пробирает дрожь».
2010
«Оглянешься, а за плечами…»
Оглянешься, а за плечами —
Жизнь, будто взятая взаймы,
Набросок чей-то к русской драме,
Картины ссылки и тюрьмы.
Сны вещие, страны смятенье,
Любовь и бедность, и в столе
Строка, и неприметной тенью
Бреду, как прежде, по земле.
2012
«Жизнь пропадает ни за что…»
Жизнь пропадает ни за что,
Из нечто падает в ничто,
Не удержать усильем воли,
А время убегает прочь —
Ищите ветра в чистом поле.
По старой присказке точь-в-точь.
2012
«Обокраденный бессонницей…»
Обокраденный бессонницей,
Ночь промаялся едва,
Что-то мнилось, длилось, помнится —
То виденья, то слова.
Мне грядущее предсказывая,
Может, правду, может, ложь,
Как считалка многоразовая —
Разве в толк её возьмёшь.
Тишина темнела, вкрадчиво
Занавеской вдруг шурша,
И в томленьи, не понять, чего
От неё ждала душа.
2013
«Наваждения ночные…»
Наваждения ночные
Набегают в тишине,
Отстуки их костяные
Говорят о чём-то мне.
Скачут в мир потусторонний.
Не удержишь тех коней.
Оттого ещё бессонней,
Оттого ещё темней.
Смотрят всадники сурово,
Их известны имена,
И стучат, стучат подковы,
Вздрагивают стремена.
2012
Боратынский и смерть
Ты звал меня, и я пришла,
Ни на мгновенье не замедлив,
Ты горд и ты непривередлив.
Всех прочих я сама звала.
Но ямб твой сух и резковат,
Так называемой плеяде
Ты не товарищ, не собрат,
И не найдёшь в твоей тетради
Пустых уныний, злых страстей,
Невнятных от небес вестей.
И ты меня не убоялся,
Хоть никому я не мила,
Но ты позвал, и я пришла.
Ты мой, но весь мне не достался.
2012
«От повседневности накатанной…»
От повседневности накатанной,
Часов усталой воркотни —
Уйти туда, где в тучах спрятанный
Далёкий диск нам шлёт огни.
Они, пробив завесу мглистую,
К деревьям льнут, дрожат в траве,
И птицы, свой мотив насвистывая
И пребывая в торжестве,
Взлетают ввысь внезапно, мечутся,
И смотришь их полёту вслед,
И словно снится всё, мерещится
В привычной суете сует.
2013
«Среди зелёного раздолья…»
Среди зелёного раздолья
Душе печалиться о чём,
Пернатой доремифасолью
Заслушиваясь майским днём?
И небывалая свобода
В полёте выше всех высот
В прощальной дали небосвода,
Где исчезает небосвод,
Где бездны прячутся от света,
Где замер звук и позабыт,
Где ни звезда и ни планета
Своих не ведают орбит.
2013
«В небе пасмурном даже намёка…»
В небе пасмурном даже намёка
Не отыщешь на майский денёк.
Зябко в парке, темно, одиноко.
Да и сам он совсем одинок.
А вчера поутру не смолкали
Голосистых синиц хрустали.
Голубые мерещились дали,
И на стыке небес и земли
Что-то чудилось, будто пророча,
Будто знак подавая на миг…
Тот, кто видел такое воочью,
В безымянные тайны проник.
2013
«В одиночестве высоком…»
В одиночестве высоком
Тишина души слышней,
И внезапным третьим оком
Тайное провидишь в ней.
Словно чуждые доныне
Постигаешь письмена,
Словно путь забыл в пустыне,
И ведёт тебя она.
Словно в памяти прощальной
То, что бросил, что не в счёт,
С яркостью первоначальной
На мгновенье полыхнёт.
2013
«В своих тетрадях старых роясь…»
В своих тетрадях старых роясь,
Себя былого узнаю —
Как будто провожаю поезд
В судьбу грядущую свою.
Вагоны скорость набирают,
Стучат колёса всё верней,
Ночные сумерки стирают
Дрожь убегающих огней.
А я, помедлив на перроне,
Бреду неведомо куда —
Простой прохожий, посторонний,
Что провожает поезда.
2013
«Возмечтав о тишине…»
Возмечтав о тишине,
В глубину лесную
Ухожу. Отрадно мне,
Вековое чую.
Сосны прочные стоят.
В синеве небесной
Медленный их бродит взгляд —
Странный, бестелесный.
Не расскажут никому
Даже по секрету
Непостижную уму
Божью тайну эту.
Мне узнать её нельзя,
Мне земное внятно:
Меж ветвей дрожат, сквозя,
Световые пятна.
2013
Детство
Родители. 1933 г.
Уже рождались стихи
Сибирь. Курагино. В семье Вагнер, приютившей ссыльного. 1973 г.
Дома. Начало 1980-х
С Леной. 1981 г.
После ссылки
Иерусалим. С лагерным товарищем Я.Сусленским. 1996 г.
Дачное. 1991 г.
Сквозь время
Горы и небо
Презентация книги. Музей А.Ахматовой в Фонтанном доме
Драка
Он был сильнее меня, и я это знал. Маленькие глазки метались над выставленной вперед челюстью, и приземистая голова предводительствовала крутыми, разухабистыми плечами. Руки были короче моих, но мускулы мощнее, и тупые ноги врастали в пол крепче. И он ярился, а я был спокоен. Я лег внизу, а он служил годом больше и требовал моего перехода на верхний ярус (кровати в казарме нарастали друг над другом). Он схватил мою кровать, рванул к себе и она, дребезжа, передвинулась вместе со мною. «Уйди, — сказал я, — всё равно я останусь». «Слазь!» — хрипя, он кинулся на меня, схватил меня за горло, стал валить. Я уперся руками в его плечи, ощущая их напрягшуюся крепость, и рывком поднялся, начиная обретать ритм борьбы, но ещё не вламываясь в самый воздух драки. У меня сильные пальцы и твёрдая кисть, я отцепил его руки от горла и оттолкнул его. Он врезался спиной в печь и заколебался, но смаху сорвался на меня и ударил в лицо. Этого мне и надо было, красная атмосфера драки обволокла меня, и мои руки заработали сами собой. Я бил напропалую, но метко, и пришел в себя раньше его. Мои удары сделали своё дело. Он дышал тяжело и мутно и защищался случайно. Мне удалось подцепить его скулу и, сделав подсечку, бросить его на пол. Презрительно толкнув его ногой, я отошел, но он, зверея, привстал и почти на четвереньках, припадая, перекатился к печке и, схватив топор, наставив его, пошел на меня. Не успев ощутить страха, я незаметно для себя очутился у пирамиды и, выхватив оттуда карабин, отомкнув штык, встал навстречу. «Ну что?» — продышал я, а он пытался диким взглядом запугать меня. Я, уже играя, отвечал тем же, и он медленно опустил топор. Потом отбросил к печке. Я поставил карабин на место. «Другого молодого сгоню, — сказал он, садясь на чужую кровать. — А тебя запомню». «Не стоит, — ответил я, — хорошо, что карабин не заряжен». «Ладно, — пробормотал он и потрогал скулу, — я б с тобой на гражданке поговорил». «На гражданке я б тебя за километр обошел, нужен ты мне, и вообще сравнил». Он впервые как-то глянул на меня, и я почувствовал в этом существе, вникая во всю чуждость его, человеческое понимание и человеческую сродность со мной. Злость прошла. Я хотел уже предложить ему свою кровать, но как-то ощутил, что это будет не то. «Ладно, — густоватым свойским голосом сказал вдруг он, — другого молодого сгоню».
Он понял меня.
1965
Свидетель
Это было в середине нашего с Брауном суда в декабре 1969 года. Дело быстро катилось к концу по накатанным скользким рельсам советской юриспруденции: холодно-беспощадно свиристел голос прокурора Инессы Васильевны Катуковой, готовно гудел тяжёлый низкий голос судьи Исаковой и семафорно подмигивали ему голоса народных заседателей. И слабо, отдалённо, как невнятное объявление в глубине вокзала, слышались, прерываясь на полуслове, нетвёрдые голоса адвокатов, да и замолкали надолго. И совсем уже еле слышно, как говор на перроне, мелькали наши голоса со скамьи подсудимых. Голоса свидетелей наших звучали ещё тише, ещё слабей, порою слышать их было ещё мучительней, чем голоса судьи и прокурора. Но вот настал день, и на маленькую сутулую трибунку свидетеля взошёл он, поразив нас ещё при входе своём в зал.
Сияющий сединами, весь какой-то светящийся, прямой, как воздетый указательный перст, твёрдо глядящий перед собой, он шёл твёрдой и в то же время лёгкой походкой. Широко открытые глаза лучились, губы были сжаты. А было ему тогда девяносто два года. Привезли его из Владимира, куда ездил за ним и брал показания следователь. Это был знаменитый когда-то Василий Шульгин — депутат царской Думы, редактор киевской газеты «Киевлянин», борец с советской властью.
Он выступал сейчас как свидетель Коли Брауна, тот бывал у него во Владимире, читал ему свои стихи. Удивительно было видеть Шульгина, светящегося отсветом начала века, напротив тёмной сплочённой кучки советских судейских. Всё выглядело, как находка кинорежиссера, и фильма этого мне не забыть никогда.
Его спросили о стихах Коли:
— Мы со следователем, очень милым молодым человеком, долго читали стихи Буби (так он называл Колю), но ничего антисоветского в них не обнаружили, — ответил своим медленным, словно шествующим голосом Шульгин.
— А что вам известно о фашистских высказываниях подсудимого, об его нацистских убеждениях? — спросили его.
— Прежде я хотел бы сказать о том, что фашизм и нацизм — разные понятия. Фашизм крайне неприятен, порочен, но при определённых обстоятельствах может быть терпим, нацизм нетерпим ни при каких обстоятельствах, преступен и подлежит самому непримиримому осуждению. Что же касается Буби, то ни фашистских, ни нацистских высказываний я от него никогда не слышал. Да я бы их и не стал слушать.
Он посмотрел на нашу скамью подсудимых, где сидели мы с Брауном, своим твёрдым светлым взглядом. Это были воистину минуты какого-то странного потустороннего счастья в безвыходном нашем настоящем. Мы были потрясены, судейские посрамлены. Присутствующие, наши родные, друзья, знакомые смотрели на Шульгина во все глаза.
Выступление было закончено. Шульгин так же прямо, твёрдо и неуклонно, высоко подняв голову, покинул зал. Вместе с ним ушёл свет, исходящий от него. В зале снова стало темно и безысходно. Россия серебряного века скрылась за дверьми, за окном виднелся век ржаво-железный.
Суд наш ещё быстрее покатился дальше. 15 декабря нам объявили приговор. Скоро уж предстоял этап и лагерь. Шульгина мы больше никогда не видели. Он умер девяносто шести лет от роду во Владимире, похоронен там же.
Р.S. Сейчас я знаю о Шульгине много больше тогдашнего. Сейчас он не чудится мне столь светлым. Но не стал сегодня переиначивать то, что чувствовал вчера.
Этап
Когда меня втолкнули в карцер и дверь проскрежетала по-тюремному, я вспомнил слова Бориса Пэнсона, что каждый зэк должен посидеть в карцере, иначе это и не зэк. «Накликал, чёрт!» Ну ладно, на то и лагерь. Я не подчинился приказу начальника лагеря. Он велел разгрузить машину с опилками, а я был освобождён санчастью от погрузо-разгрузочных работ. Начальник был пьян, бледен и зол. «Ну, пойдём», — сказал он мне в ответ на отказ. «На пять суток его», — буркнул охране. Зэки в рабочей зоне провожали наше шествие любопытными взглядами. Дело шло к вечеру. Меня вывели из рабочей зоны и через весь лагерь повели в карцер. В помещении надзорсостава отняли ватник, шапку. И вот втолкнули в закуток. Три шага вдоль, полтора — поперек. Койка деревянная откидывается на ночь. Пенёк-столик и пенёчек-стул. Ни сесть, ни лечь. От окна холодом веет, от печки в стене — угаром. Книг, газет — нельзя. Даже бумагу на оправку дают не газетную. Еда через день. Что это — понял назавтра. Вечером дали мне ужин — кирзовую кашу и облезлый кусочек рыбы, кусочек черняшки, кружку кипятка, подкрашенного коричневой жижей. На ночь откинули доску. Постели не положено. Так и прокрутился всю ночь на доске от холода и угловатой неприютности голого дерева. Шныри заглядывали в камеру по-волчьему, топотали по бетонному полу в коридоре. Утром — скрежет, крик, топотание снова. На оправку, мытье — минуты три, не больше. «Нечего рассиживаться, не у тёщи в гостях». Сунули в кормушку тёплую воду, уже без жижицы и кусочек хлеба — грамм двести. Это на весь день. Вот тут и пахнуло голодом, слабо ещё, но заметно. Я тот день держался молодцом, сочинял стихи, мерил камеру шагами туда-сюда, писал строки пальцем на пыльном стекле оконца. Два стиха сочинил, вчертил в пыль и ходил дальше, поглядывая на них иногда. За оконцем зарешёченным весна набухала. Я это угадывал, а увидеть нельзя было, решётки плотные, тяжёлые мешали. К вечеру пришла голодная тоска. Мечтал о завтрашней миске баланды как о радости чудесной. Думал, как буду каждый глоток впитывать, вбирать в себя, радоваться следующему за ним, как хлеб стану по крошкам лелеять, каждую крупинку обсасывать. Ночью дерево доски стало чуть ли не родней, так устал за день ходить.
С утра день потянулся, как болото. Ходить я устал, лежать на полу страшно — бетон под тонким настилом, сесть негде. Стой, как лошадь, у стены. Время умерло. Оно вправду иссякло. Осталась тяжесть недвиженья его. И я в ней. И нет этому конца, и начала нет. Так и маялся. Понял истину этого слова — маяться. И наверное, не самое оно точное, есть в нём всё-таки двигательное что-то, маятниковое. А тут недвижимость была, безглаголие, что-то длинное и мутное. И когда принесли миску баланды, наконец-то, я уже и не верил, что время пришло — просто принесли еду, которую ждал, может, тысячу лет ждал, может, жизнь всю. И как я ел эту баланду, как вникал в самую основу состава её! Крупинку всякую, капустинку, картошки уголок чуял, как спасенье. Как хлебные крошки всасывал по одной! Думал, вот теперь-то я узнал цену пище. Теперь понял, как надо есть. Не глотать кусками, не жевать спешно сквозь болтовню и постороннюю мыслишку, а впитывать прямо в кровь свою, в плоть. Так я думал тогда. На собственной шкуре пережив голодные муки, понимал что к чему.
Так дальше и шло. На четвертый день уже не мог стоять долго, не выдержав, ложился на пол. Потом месяца два-три под лопатками болело, дохнул бетон в спину преисподним холодом своим. Когда вышел, наконец, из карцера, полчаса кружило-мотало, товарищи поддерживали за плечи, а то бы упал. Весна уже пришла в Мордовию, чернело, мокрело вокруг. В глазах зелено было и от карцера, и от весны.
Едва очухался от карцера, бросили на этап. Путь в Красноярский край предстоял долгий, сколько-то тюрем придется понюхать, сколько в столыпиных помытариться! Выдали мне мою гражданскую одежду. Я её и не узнал, такой она мне показалась жалкой, чуждой. Пиджачок, заплатанные брюки. Кургузые ботинки, дряблые шнурки — за четыре года совсем отвык, забыл, что и бывают они — шнурки на ботинках. Старая фетровая шляпа, ей лет десять уже было. Всё оставил в рюкзаке, этап — та же тюрьма, даже хуже ещё. В лагерном надо и пройти его. Снова воронок, снова запихнули в стакан, дышать нечем, не видно ничего, только вверху вертушка поворачивается.
Дорога в Потьму славится по лагерям. Мне родные рассказывали, каково по ней и в автобусе. А в воронке каково? Я ещё утром суп съел сдуру. Едва начались кочки, колдобины, подкатило к горлу, пот холодный побежал по вискам. Я стал бешено барабанить в дверь. Солдатня (ребята молодые ещё совсем) сначала отругивалась, но, видно, уловила в моём голосе что-то, испугавшее её. Машина стала, стакан с треском раздвинули. Я вывалился из машины и прямо-таки упал на землю. Меня рвало несколько минут. Кругом стоял высокий зеленый лес. Берёзы, осины, сосны. Тишина. И я, изнемогающий на земле. И солдаты вокруг. «Скорей, скорей, вставай, быстро давай, в машину». И снова пошли прыжки да толчки, да провалы, да встряски. И солдатская горкотня сквозь железную стенку — кто когда в наряд ходил да скоро ли в отпуск.
В Потьме ждала меня радость — лагерные приятели, везли их в Саранск, как меня когда-то, два года назад. Несколько сионистов, украинец, узбек. Разговоры были старые, лагерные. Сионисты говорили о еврейской проблеме, украинец — об украинской, узбек — о ценности национального вообще. Я пытался говорить о поэзии. Но понимал, что собеседникам моим она, в сущности, не нужна. Не до того им в их борьбе и судьбе. Как и миру не до того во все его времена. Грустно всё это, особенно в лагере и тюрьме, где так важно быть среди своих. Ведь кругом вышки, заборы, надзиратели, стукачи. Им-то до поэзии и подавно дела нет; а уж когда есть им до поэзии «Дело», так пиши пропало.
Несколько дней в Потьме прошли быстро. И вот столыпин. Я в отдельном закутке, как особо опасный должен быть один или со своей статьёй. Меня это устраивало. Я устал от всех. На следствии одиночество страшило меня, сейчас радовало. Из других клеток слышались разговоры. «Начальник, воды». «Начальник, в туалет надо. Начальник, ей богу, обоссусь». «Начальник, в коридор нассу, веди, не видишь, не могу больше». «Воды! Волки противные, педерасты!» Вскоре в коридоре появлялся солдат и похаживал вдоль клеток, покрикивая: «Мужики, не борзеть! Сейчас смену сдадим, поведут вас. Не ахай, не ахай, проссышься ещё, не умрёшь». Потом начиналось вождение в туалет. Любопытные зэчьи лица сквозь решётки. Трое солдат, идущие сзади. «Быстрей, быстрей, другие ждут!» Тёплая вода, бегущая, вздрагивая, в кружку, после жёсткой селёдки и твёрдого хлеба булькающая потом в животе, как в грелке. И каждые четыре часа проверка, четыре солдата в клетку — ногами на койку, где ты лежишь, туда-сюда — ничего нет — пошли. Днём ли, ночью ли — всё равно. Головой ляжешь от двери — нельзя, не положено. Только головой к двери, чтобы свет вагонный в глаза и все громы коридора прямо по голове твоей. На то этап.
Рузаевку проехали, меня не высадили. Я и рад, быстрее на место. Получил снова сухим пайком. Следующая остановка — Челябинск. Снова воронок, стакан, и началось кружение по улицам. Сквозь щёлку мелькали дома, кузова грузовиков, фигуры пешеходов. Потом замелькали домики, заборы. Заброшенным, худородным показался Челябинск из воронка. Наконец, подвезли к тюрьме, где-то, видимо, на окраине города, кинули в отстойник (тюремный распределитель). Я стоял у стены среди других зэков. Остальные бродили туда-сюда от параши к двери, кое-кто сидел на корточках у стены. Я обратил внимание на одного, он сидел прямо на полу, в кулаке у него был зажат хлебный мякиш и он ел его прямо из кулака. По жирному чернявому лицу его была размазана дряблая улыбка. Зэки, ходившие мимо, косились на него, что-то говорили по его адресу. Я спросил, кто это. «А это Галька, сука, мы её под нары в вагоне загнали. Ишь, хлеб жрёт с пола обоссанного, у, мразь, противная, гнида». «Как Галька?» — спросил я. «Ну, Генка она, петух это, мы её на х… насаживали в зоне». Я наконец живьём видел педераста, по-лагерному — петуха. (Стукачей, между прочим, зовут козлами — причём тут бедные животные, не знаю). А то, что я видел перед собой сейчас, было не человек, но что-то жидкое, склизкое, словно бы грязь на полу. Ужаснее в жизни своей я ничего не встречал. Вот что могут люди сделать с людьми! Этот несчастный толстозадый парень был в лагере проигран в карты, или продался за кусок сала, или был попросту изнасилован, — всё бывает у бытовиков. Человека ночью хватают с постели, насилуют, и он отныне — пария, подтирка для остальных. У педерастов в лагере особые секции, свой стол в столовой, свои миски и ложки, на этапе они под нарами и не смеют нос высунуть, пока их не позовут. Администрация знает об этом, но мер не предпринимает никаких. Это происходит и по сей день, и сию минуту. Гнусный блатной мир — будь ты проклят! Все эти «суки ссученные», «падлы позорные», которые грозятся остальным всем «шнифты выстеклить», «жопу на свастику порвать»… Ну вот, вывели из отстойника, повели…
В тюрьме первым делом шмон. Маленький капитан с квадратными ушами и коротким носом придирчиво рылся в моих нехитрых пожитках. Я заявил о своей статье, о том, что положено меня содержать отдельно. Он злобно закричал: «Не хочешь с людьми — пойдёшь в подвал». Я ничего против не имел. Вели меня по коридорам прямо-таки в подземелье. Редкие камеры и длинная тёмная стена. Камеры молчали, хотя за дверью в некоторых маячил свет. Наконец, меня привели. Это был глубокий подвал. Оконце маячило у потолка. В камере было четыре койки в два этажа, столик, стул. И я один. За дверью после возни с ключами и шагов упала тишина. Только свет в потолке чуть мигал, словно разговаривая со мной. Я прилёг на одну из нижних коек и вдохнул тишину, одиночество, вечер. Потом был ужин, мысли о будущем, о недавнем прошлом.
На другой день с утра вдруг захотелось мне писать. Авторучку отняли — в тюрьме на этапе не положено, а карандаша у меня не было. Не помню, был ли бумаги листок. Не знаю почему, стал я искать карандаш в камере. Конечно, его не было. Но душа моя взмолилась всей силой о карандаше. Господи, как я хотел найти его! Под кроватями, среди тёмных, цепких их пружин, на батарее, под батареей, на окне, на столе, под столом. Господи, как я хотел найти его! Под каждой ножкой стола, стула, в каждой выбоине пола, снова на столе — неужели же нет? Ведь нужно же мне! И потрясён был до глубины сердца, вдруг увидев огрызочек карандашный в проёме между одной из ножек стола и крышкой его. Огрызочек этот маленький, как продолжение пальца, круглый, с толстым грифельком, с голубоватой, обшарпанной, деревянной шкуркой словно ждал меня, моего душевного моления к нему. Я долго хранил его; только в Сибири и потерял нечаянно, в КПЗ, на шмоне очередном. Несколько стихов в пути начирикал я этим карандашиком. Само его явление во многом побудило меня к сочинению этих стихов, потому что в тюрьме мне не писалось, неба не хватало. Так целый следственный год у меня почти ни строки не было. Между тем, пока я радовался карандашику, наступил обед — баланда челябинская хуже мордовской, хотя баланды эти все «хуже». Едва я покончил с ней, меня крикнули на этап, недолго же поблаженствовал я в челябинском подвале. Снова воронок, снова столыпин. На этот раз без разговоров в одиночную клетку. В путь!
Этап до Новосибирска проходил обыкновенно. Снова крики, визги, ругань, мельтешенье солдатни сквозь решётки. Тёплая вода, грубая селёдка, скудный кирпич хлеба. Иногда над мутным невиденьем оконного стекла открывали солдаты верхнюю щель — и мелькали поля, перелески, стога, стада, избушки, изредка люди, а вдалеке за всей этой картинкой — небо, с разбега метнувшееся за леса, за поля, за даль земную. Это были лучшие минуты в этапной жизни, не входившее в программу явление природы замордованному людьми человеку. Не у всех хватало сил на эту радость.
Везли двух «полосатиков», один из них был болен. Он всё время просился в туалет. Но снисхожденья ему не было. Лейтенант показался раз (мордастый ванёк в мундире), получил от полосатиков матерные проклятья и угрозы и пропал. Солдаты либо молчали, либо, пролаяв свою ругань, уходили. Однако вскоре явились все вместе (правда, без мордастого лейтенанта), открыли клетку, в которой на верхних нарах лежали полосатики, и начали стаскивать их вниз. Здорового свалили быстро, а больной боролся, отчаянно ругаясь. «У, распроебанские волки, козлы вонючие, мрази поганые. Лейтенант, курва, где ты, блядский род, я тебя удавлю!» Обоих полосатиков уволокли куда-то по коридору, видно, в этапный карцер. Злоба этой расправы устрашила обычно шумный вагон. Тихо тарабанил и вздрагивал поезд, переваливаясь на своих утиных, железных лапах. В окнах темь мутная, намертво белесая непроглядная стена стекла — специально по-тюремному закрашенная. Чтобы не видел зэк людей и его не видели. И везли, упрятав, а то ведь кто их знает, людей. Из них ведь, не из кого другого, зэки-то и берутся. Что у них, у людей, на уме — про всех никак не узнаешь, нет таких машин марсианских, всё пока по-земному: «Расскажите всё сами, вы поможете следствию, это облегчит вашу участь, суд учтёт ваше чистосердечное раскаяние. А иначе…» И готово дело, техника старая, но верная. Но всех-то, всех не посадишь на этот стульчик, не спросишь этак вот. Так лучше и спрятать схваченного от людских глаз за железы, за мутные стекла. Пусть орёт, вопит, на решётку кидается. Усмирят. Приглушат. И не таких утихомиривали.
Привезли в Новосибирск. Поезд долго стоял на дальних переездах, в туалет не выводили, воды не давали. Вагон роптал. Наконец, подогнали с какого-то чёрного хода. Людей кругом не было. Потом прошли две женщины, из вагона посыпались крики: «Девка, покажи жопу, иди сюда, я тебя в…у» и одновременно: «Бабы, дайте папирос». Хмуро оглядываясь на наш ощеренный щёлками вагон, две эти женщины — средних лет, бедно одетые — торопливо ушли. Тем более что солдаты орали на зэков и задвигали везде окна. Запах махорки, дорожной серой неухоженности и грязного зэковского белья сразу сильнее бросился в нос. Начинало мутить тошной духотой. Вагон орал и бился, требуя открыть щели.
Я тоже кричал охране, грозил жалобами прокурору. Но всё было зря. Только когда прибыли воронки из города, нас стали высаживать. Меня вывели одним из первых. Было уже сумеречно. Как особо опасного, меня отвели в сторону и прикрепили ко мне отдельного солдата. Этот молодой парень в очках, лет девятнадцати, крепко держал меня под руку. Он был типичный студент-первокурсник, высокий, здоровый, как большинство в этом новом поколении. Очки и добродушное полное полудетское лицо придавали ему сходство с Пьером Безуховым. А держал меня он крепко, и автомат за его спиной сработал бы добротно, стоило мне чего-нибудь там затеять. Этот новейший «Пьер Безухов» живо заработал бы себе отпуск, уложив меня (их так поощряют за стрельбу по зэкам, пытающимся бежать). Так и держал меня этот солдат, пока не пришло моё время лезть в воронок. Задвинутый в стакан, я в щёлку стал наблюдать город. Он показался широким, открытым, шумным. Я впервые после лагеря видел улицы, проспекты — вернее, обрывки их, мелькающие сквозь жалюзи. Рядом в стакане кому-то было дурно, он просил солдата пересадить его, но тот — белобрысый, мужланистый — равнодушно бормотнул ему: «А мне по…ть» — и переставил автомат к другому колену. Вскоре путь кончился. Нас завели в тюрьму. Снова кинули в отстойник. Снова параша и голые стены — ходи, стой или сиди на корточках, как любят сидеть бытовики. Прислонил я рюкзак к стене, сел на него, глянул вокруг. Вдруг заскрежетали знакомым скрежетом двери — подсаживают кого-то, видно. Это в жизни зэка волнующий миг — кого же Бог пошлёт? И страшно и любопытно. Дверь отошла, и один за другим в отстойник повалили полосатики — у меня сердце захолонуло. Кавказские бешеные глаза, монгольские косые скулы, русские приземистые плечи — всего человек восемь. Но было всё, как в доброй сказке. Один из полосатиков первым делом рванулся ко мне — как тебя зовут, кто ты? Я сказал. «Очень хорошо, Толик, ничего не бойся, мы политиков уважаем, я — Магомет-чечен, это все наши ребята хорошие». «Что-нибудь везёшь с собой?» Я показал. «Нет, Толик, не возьмём, у тебя самого мало». «Возьмите, ребята, я от души, знаю, каково вам, слышал о ваших зонах». Мне вправду стало светлее вдруг, и потянуло к этим людям. И монгольские скулы (то был бурят) не страшили, и кавказские глаза согревали, а не бросали в дрожь. А ведь полосатикам есть от чего ожесточиться. Их режим — особый. Как во времена инквизиции, они обряжены в шутовскую полосатую форму, только бубенцов не хватает. Жизнь у них тяжелее, чем у всех нас. На строгом режиме одна посылка и две бандероли в год, одно личное свидание и два общих, а у них одна бандероль и одно общее свидание — и всё. Живут они в камерах, на работу их выводят в другие камеры — каторга из каторг. Зато и держат они себя, как в лагерях говорят — «в наглую», начальство кроют в бога-мать. Оно с ними старается не заводиться, к добру не приводит… Между тем, набрав бумаги, мои сотоварищи стали её жечь в раковине туалета, один держал над огнём кружку с чаем. Бумага чернела, дымилась, дым ходил по камере, ел глаза. Видно, он пополз в коридор, дверь отворилась, в отстойник ворвались менты. Кружка куда-то исчезла с моих глаз, полосатики сгрудились в кучу и на крик надзирателей отвечали пущим криком: «Ничего не знаем, иди, начальник, по-хорошему, всё будет тихо, карцер твой на фую видели». И начальники, хоть и погрозив, но сильно сбавив тон, ушли. Появилась на свет кружка, один из полосатиков голой рукой держал её кипящую у себя за спиной. Я поразился силе его духа. Чай пошёл по кругу, я отказался, отговорившись тем, что вообще не пью. Мне было жаль отнимать у ребят глоток драгоценной для них жидкости. Это их ещё больше ко мне расположило. Они смотрели на меня во все глаза, жадно расспрашивали о воле, о делах международных, обо всём, словно вчера ещё я ходил по Ленинграду, а прошло ведь уже 4 года моего лагерного жития. Они же волокли срока большие — кто 10, кто 15, кто 20 лет. Почти все сидели за убийство, один, армянин, имел семь убийств на счету и был помилован по личному слову Брежнева, до которого добралась его старенькая, жившая в горном ауле мать. Когда пришла пора расстаться с полосатиками, мне и впрямь стало грустно. Меня повели в камеру.
Она была в подвале, но не таком глубоком, как в Челябинске. Камера оказалась длинной, как коридор, на удивление большой. Стояло три койки, но я-то был один! И снова я обрадовался этому. За окном темнел вечер. Стекло было разбито, и поддувало холодным ветром. Но я холода не боялся, я ходил по камере и радовался, какая она большая. За дверью громыхали порой сапоги надзирателя, но я теперь почти не обращал внимания на глазок. Я ходил и думал, что эта камера велика, как прогулочный дворик, а так как из окна дует, то я словно бы на прогулке. Кстати, в Челябинске прогулочный дворик оказался самым большим из всех виденных мной. Туда даже воробьи залетали и глазели на меня, чирикая, очевидно, в мой адрес. Здесь, правда, воробьёв не было. Дуло из окна всё сильнее, и темнело. Наступало похолодание, да и Сибирь дышала, видать, своим студёным нутром. Я стал слегка мерзнуть. Пора было уже спать. Делать нечего, я прилёг на утлый матрас. Железо койки звякнуло подо мной. Лампа вверху светилась тупо, бледно, тоскливо. Укрывшись хиленьким одеялом, я попытался уснуть. Многолетний зэковский навык сработал — это мне удалось. Зэку ведь уснуть — первая радость, поесть — вторая. А всё остальное — срок, который у каждого свой и который каждого давит. Проснулся я от собственной дрожи и зубовного лязганья. Меня трясло всего с головы до ног. Я ничего не мог с собой поделать. Я вскочил с постели, стал приседать, бегать, ходить. Предстояла бессонная ночь в ходьбе, в беготне, в дрожи и зуб на зуб непопадании. Пробегав полчаса или час (а была глубокая ночь уже), я стал барабанить и тулумбасить в дверь. Ногами, кулаками, нажимать на звонок, кричать благим матом. Наконец замаячили шаги и, бетонней всё стуча, приблизились. Кормушка открылась. «Чего блажишь? В карцер захотел?» «Здесь в камере мороз, температура ниже нуля! Это издевательство! Переведите меня в другую немедленно!» Кормушка закрылась. Вскоре, приложив ухо к двери, я услышал голос этого надзирателя. Он по телефону толковал начальству: «В четвёртой камере замерзает. Да, там окно выбито. Говорили же, что не надо сажать в эту камеру. Конечно, уже третий или четвертый случай. Если он до утра дубаря врежет, нам за него не поздоровится». Разговор окончился. Кормушка открылась, заспанное лицо надзирателя показалось в проеме. «В 6 утра переведём. Сейчас некому». «Это безобразие. Здесь ледник». «До шести утра нет никого». Кормушка закрылась.
Теперь большая камера уже не радовала меня. Я бегал и ходил по ней, вглядываясь в бледнеющий за окном отрывок неба. Мне чудилось, что моё упорное вглядывание в эту бледную насупленную ещё ночным омрачением даль как-то раздвигает, рассветляет её, приближает к утру, к свету и моему освобождению от неубывающего этого холода, от этой заброшенности в леденящем сибирском застенке. А за окном бледнело едва-едва. А я всё ходил, бегал, приседал, дрожал, злился, подходил к двери, слушал, но ничего не слышно было. И когда я совсем уже отчаялся, внезапно стукнули шаги у двери, она открылась, ржаво скрежеща, и высокий офицер в очках сказал мне: «Пойдёмте». За ним стоял ночной мой надзиратель, чей телефонный звонок вызволил меня из этой каменной ямы. Мы с офицером шли вдвоём, надзиратель остался на своём месте. Сквозь тюрьму, как показалось мне, сквозь переходы, какие-то перегибы коридоров, лестниц, тупиков мы вышли, наконец, по-моему, несколькими этажами выше в ярко освещённый коридор. Здесь была бельевая, я увидел двух-трёх бабёнок из хозобслуги, они с жадным зэчьим любопытством посмотрели на меня. Вдруг офицер остановился и стал открывать не замеченную мной дверь в стене напротив бельевой. «Входите». Дверь замкнулась. Я не успел даже ничего сказать. Это был настоящий пенал, поставленный вертикально. Метров шести-семи высотой и метр в ширину. Не ляжешь, только сесть можно, и то по-турецки! Вверху, прямо над головой в потолке круглая, яркая лампа. Ни окон, ни вентиляции. Тёплый спёртый воздух. И хоть стало мне тепло, и я сразу ожил, но кошмарность сооружения, куда меня бросили, потрясла меня. Это был словно сюрреальный сон или космическая галлюцинация. А проще говоря, была тюрьма в полном своём явном виде. Я кое-как уселся на полу, прислонился головой к стене. Нажал на звонок. Явилась тут же надзирательница, молодая ещё. «Долго мне здесь мучиться?» «В 9 часов придёт начальство, решит, куда вас. Без них не имеем права». «Здесь дышать нечем». «Подождите, скоро придут». «Дайте воды». «Сейчас». Напившись, я попробовал уснуть, несмотря на духоту и яркий свет. Такова усталость зэковская, что она сквозь всю дьявольщину тюрьмы продирается в сон. Я уснул, проснулся часа через полтора с тяжёлой головой, всем дыханьем своим чувствуя, как не хватает воздуха. Ощущение даже слабого удушья способно довести до сумасшествия. Но надо было терпеть, время шло к девяти. И я терпел. Наконец, дверь открылась. Ещё весь словно стиснутый адским этим пеналом, я шёл за ментом, уже не мечтая об одиночке. Что-нибудь одно: либо люди, либо холод. Уж лучше люди.
Я помню, мы поднялись ещё на этаж и пошли по коридору, густо населённому камерами. Из верхних щелей маячил свет, раздавался особенный, нестройный гул, в котором угадывались зэковские голоса — это был гул тюремного мира, столь теперь близкого мне. У одной из камер остановились, снова огромный ключ в руке у мента, дверь открывается, и я вхожу в камеру. В такой я оказался впервые. Большая широкая камера, вся полная людей. Внизу, вверху густо. Отовсюду лица, пятки, спины человеческие. Я сразу приметил две-три морды, у которых на лбу было написано, кто они такие. Опущенные животные рты, срезанные лобные скосы, маленькие пустые глазки. Я увидел нескольких татар, державшихся вместе, говоривших по-своему, увидел и пару добрых молодцев деревенского вида; самодовольно восседал в углу, петушино откинув голову, представитель кавказского племени — армянин или грузин. Было немало и молодёжи, всего человек тридцать. Два стола, параша, на которую то и дело кто-то взбирался. На стене у двери надписи: статья такая-то, пробыли столько-то, столько-то человек. Самое малое сидели здесь все дней по 8, 10, 15. От такой информации стало тошно. Но что было делать? Камера встретила меня довольно равнодушно. «Политический — какие сейчас политические? Вот при Сталине!» «Не меньше семи лагерей? — Вот как. Что? За стихи? Бывает же». Это были большей частью воры, грабители, убийцы, насильники, хулиганы, спекулянты и даже один алиментщик весьма добродушного вида и говорливый, как воробей. Принесли завтрак. Я обратил внимание, что в камеру дали грязные ложки и зэки сами стали их мыть. «Почему так?» Не успевают, мол. «Нет, ребята, это надругательство, надо в обед отказаться, пусть дают чистые ложки». Мне удалось возмутить человек пять — шесть, потом десять — пятнадцать. Самая мрачная братия, восседавшая на нарах, в смуте участия не принимала и глядела без одобрения. Меня больше всего поддерживал алиментщик, и татары кивнули мне ободряюще. Забренчал, забулькал в коридоре обед. Открылась и наша кормушка. Я отказался от грязных ложек, заявил протест, потребовал начальства. Мне что-то пробурчали, кормушка закрылась. Обед пошёл бренчать и булькать дальше. Минут десять мы в камере шумели и обсуждали свинство администрации. Прошло ещё минут десять. С верхних нар стал доноситься ропот. «Оставят совсем без жратвы, мы не такое видели, чего золупаться с ними, мы за двадцать лет нагляделись, и не таких говорков успокаивали. Ишь, чистоплюи нашлись, раньше руками бы голыми выловил эту баланду из миски, а теперь ложки не подошли». Я увидел, что всё больше хмурых тяжёлых взглядов сходится на мне. Уже и поддерживающие меня вначале примолкли, первый самый из них — алиментщик. За дверью было тихо, обед удалился в другие коридоры. Сердце у меня упало. Не знаю уж, чем бы всё это кончилось, но вдруг совсем близко раздался знакомый бренч, стук, бульканье, открылась кормушка и в неё подали чистые ложки. А за ними миски с баландой. «Ну, вот, — не удержался я, — а уже струсили. Зато теперь, как люди, сможем поесть». Сверху невнятно промычали что-то, но я был счастлив. Моя взяла. Я расценивал этот случай в тот миг как политическую борьбу за достоинство, как наглядный урок уголовникам что такое политические. Как бы там ни было, уважение ко мне повысилось в камере, и так было уже до конца. Один только кавказец поводил в мою сторону недобрым взглядом своих смутных набрякших глаз.
А камера напоминала Содом и Гоморру. Дым ходил волнами, курило зараз человек двадцать. На параше постоянно кто-нибудь восседал. Разговоры в разных углах камеры то вспыхивали, то затихали. Ходить практически нельзя было. Читать тоже, да и нечего. Голова моя болела. Время шло медленно, я томился, и надписи на камерной стене наводили на меня всё большее унынье. Несколько дней в этой камере показались мне веком. Говорить было не с кем. Я слушал. А разговоры не прекращались, как и курение.
— Хорошая там тюрьма — выходить не хотелось.
— А ты, что же — 122-я? Ну, я же вижу, что ты бич, я же вижу. И сколько лет бичуешь? А? По глазам вижу, что бич.
— А она лицо в сторону отворачивает, лежит, как кукла. Что ж я — механически должен, что ли? А люди мне сказали, он в школе с ней и работает. Я взял нож старый, какой попался, пошёл, иду по коридору к учительской — а они навстречу, рядом. У меня свет в глазах замутился, я с ножом на него, она заслонять, я её, потом его. Восемь лет дали, скостили до шести. Сейчас на химию.
— Говорят, другая химия хуже лагеря.
— Бывает. И менты, и бараки, и вышки. А где-нибудь попух — снова в лагерь, а химия эта х… не в счёт.
— Слушай, дарагой, пажалуста, не харкай сюда, пажалуста.
— Ну что, питерянин, ешь селёдку, у меня ещё с этапа осталась (это ко мне). Давно я в Питере не был. Ты, говоришь, политический. X… это всё, детство. Сидишь за тетрадки. И не погулял на воле, как надо. Я? Я и волю, и тюрьму знаю. Туда-сюда. Зато есть что вспомнить. А на воле скучно. Делать там нечего — с работы домой, на верёвочке мотайся всю жизнь.
— Ой, б… где ж я тебя видел (это снова вокруг). Ой, б… да не в Гусь-Хрустальном ли, а? Нет? А чаю пожевать в заначке нету, а? Эх, где ж я тебя видел?
— Эй, политический, давай твою шляпу на ушанку махнём, а? Хочу в шляпе походить на химии. Тебе ж в Красноярский край, там холодно. Смотри, моя шапка крепкая. Велика? X…, ушьёшь. Ну давай, а, давай. Эх, я думал, хоть политические — люди. Раз в жизни хотел шляпу поносить. Не везёт.
— А этот вот парень в групповом изнасиловании участвовал. Их в лагерях зовут — взломщики лохматого сейфа. Не любят их по лагерям.
— А я себе два спутника в х… вживил, пришёл в лагерь, вдул петуху, он, сука, три дня прыгал, корячился, за жопу держался. А как выходить — вырезал. Пожалел бабу. Испортишь ведь её, никто больше не нужен будет, только давай, чтоб х… рогатый. А мне с ней жить ещё, да ей мне передачи носить…
— А я тебе скажу: все эти апостолы — они же все заключённые, как мы. Ты почитай, они все заключённые. Им всем потом вышак дали. Ты почитай, почитай.
— Ну что, начальник, косяка давишь, у нас все дома. Ужин давай, ментовская морда!
И так продолжалось час за часом дня четыре. И когда внезапно открылась дверь и какой-то чин по бумажке прочёл в числе прочих пяти-шести фамилий мою, я возликовал. Скорей бы, скорей. К чёрту эту арифметику — день за три, тут за день вылущат так, что в месяц не залатаешься. В путь, в путь. В Красноярск.
В этом этапе я чувствовал, как устал уже от всей грязной, по-особенному тревожной, дорожной жизни. И лагерь помянешь лихом, а уж этап…
Перед отправкой из тюрьмы, как всегда, был шмон. Солдаты действовали грубо, и я потребовал соблюдения правил, в которых сказано, что наказание не ставит целью унижение заключённого. Я часто тыкал всей ментовской своре в нос эти слова из кодекса, но помогало мало. Хотя и не возражали, даже оправдывались. А делали, как хотели.
И теперь вмешался лейтенант, молодой, полнолицый, глаза с поволокой. «А что это у вас — витамины? Не положено. Для здоровья нужно? Так мы для вашего же здоровья. Ещё отравитесь, а нам отвечать. Нет-нет, по правилам нельзя. Вы же законы знаете, вон как говорите. И ложки нельзя из нержавейки, выдадут вам алюминиевые в Красноярске, не волнуйтесь. Выбросьте ложки (это к солдатам)!» И в таком духе продолжался этот шмон перед отправкой. Наконец снова вагон, снова отстук, выстук, вздрог, покачка, раскачка, свист, гул, рокот. Снова топотанье конвоя в коридоре, зэчий перекрик в клетках, щели над мутью стекла, а в щелях — небо и земля, зелень и синева, в щелях — воля. Конвой в этот раз попался неплохой. Два солдата из трёх прямо-таки симпатизировали мне. Даже жаловались на своего сержанта. «Ты политический? За стихи? А что, пишешь и теперь? Прочти что-нибудь». Я прочел несколько осенних строк, несколько старых, армейских ещё. Понравилось им на удивленье сильно. «Тебе ж печататься надо! Такие стихи, я осень увидел! Хорошо». Щель напротив моей клетки почти всё время была открыта. Я смотрел на Сибирь и находил её совсем русской, просторной и тихой. Так прошло несколько дней, пока не добрались до Красноярска. Довольно быстро пришли за нами воронки. Солдат из красноярского конвоя сразу удивил тем, что предложил пачку чая за наличные — покупайте, мол. Такой торгашеский разворот красноярской охраны был мне несколько внове. Впрочем, я, в отличие от некоторых даже политзэков, был далёк от подобных дел. Чего Бог не дал, того не дал. Между тем привезли в тюрьму. Меня снова повели в подвал и снова в одиночку. На этот раз с окнами всё было в порядке. Я предвкушал одиночество. Первый вечер так и было. Но тюрьма имела недостаток — отсутствие канализации, по крайней мере, в подвальных этажах. Приходилось выносить парашу самому. И вот утром я поднял парашу, чтобы отнести её, и отшатнулся. Под ней лежала дохлая мышь. Этих зверей, да ещё сестер их крыс, я боюсь, как огня. Я вызвал надзирателя. Пришла молодая женщина в форме и тоже дёрнулась вся. «И я их боюсь, сейчас позову девочек из хозобслуги». Девчонка-зэчка из хозобслуги со смехом подхватила мышь за хвост и сделала несколько рывков в мою сторону и даже в сторону надзирательницы. Мы с омерзением откачнулись. После чего они удалились, а я остался в камере, но уже в некотором беспокойстве — соседство мышей мне не улыбалось. Днём водили на оправку, и я заметил в гальюне несколько тёмных юрких теней, метнувшихся по углам, едва я вошёл. А вечером меня, как назло, перевели в другую камеру, как раз напротив гальюна, и начались мои мытарства. В камеру то и дело заскакивали то одна, то две мыши и нахально скакали у стола и около кроватей. Я отломал ножку от стола и попытался заткнуть тоненькую щель между полом и дверью. Но эти чёртовы мыши в эту щель, куда и мизинца не просунешь, проникали, как резиновые, и нагло прыгали, катались и мелькали у двери. Я стучал, топотал на них, они шустрым катом темно промелькивали под дверь, а меня, как магнитом, тянуло смотреть туда, и через минуту-две, вправду, появлялся хвостатый комок, цепко скользил по отвесной двери наверх, скатывался вниз, крутился у двери, норовил ближе к столу. Я стал бить в дверь, звонить, кричать. Огромный надзиратель, наконец, явился на шум. «Здесь антисанитарные условия, мыши в камере». «Вот невидаль — мыши. Не съедят они тебя. А ещё мужик». С этими словами проклятый амбал и ушёл. Я остался с мышами. Не помню, как я и уснул, забравшись на самую верхнюю койку. К великому счастью моему, наутро подняли на этап — а вот куда, я теперь и не знал. В отстойнике шёл разговор о страшных ссылках, где хуже ещё, чем в лагере, где лесоповал и лесосплав. Один парень сказал мне: «Вот ты выйдешь, а денег-то нет. Ясное дело, кого-нибудь опять на уши поставишь». Я разубеждать его не стал.
Этап из Красноярска продолжался всего сутки. Но для меня он тянулся бесконечно, да я и не знал тогда, сколько он продлится. Особенно в этот раз раздражали проверки, которыми одолевал конвой каждые несколько часов. Когда среди ночи они опять ворвались в камеру, стали дубасить сапогами по нарам, по полу, косить прямо в глаза ярким жестоким фонарем, я не выдержал. «Вы палачи, вы пытаете, как фашисты. Ничего не положено — просто издевательство. Куда я денусь из этой клетки? Просто ведёте себя, как фашисты». Солдаты — здоровые, высокие парни во главе с сержантом, который очень походил на былинного богатыря — пошипели на меня: «Ладно, говорите вы много, всё по закону» — и ушли дальше, и я слышал их топот и стук в других клетках. Но утром сержант заявился к моей клетке. «Что же вы, гражданин, нас фашистами назвали, палачами. Какие мы палачи?» Его добродушное лицо Добрыни выражало огорчение, но говорил он с некоторой ядовитостью. «Вы-то сами день рождения Гитлера отмечали, а нас же ещё фашистами ругаете». «Я не отмечал, посмотрите в деле внимательно». «Да мы посмотрели». «Нет, уж посмотрите как следует, я за свои стихи здесь». Сержант ушёл. Однако в следующий раз, проходя, он оглянулся, посмотрел на меня внимательно, а через несколько минут, опять проходя, остановился. «Ну что, гражданин, скоро на место». «Да, видно, так. А куда везут, не знаете?» «Сейчас схожу, посмотрю». Он ушёл и вскоре появился вновь. «В Курагинский район». «Спасибо вам». Я крикнул по вагону — что за район, Курагинский? «Да хороший, — послышались голоса, — не холодно и работа всякая есть». А поезд шёл всё дальше, всё больше углубляясь в Сибирь, в которой предстояло пробыть без малого два года. Потом на остановке привели в вагон хакаса, он, по его словам, ударил кнутом пастуха за какую-то обиду, и теперь ему грозила 206 статья, года два срока. Размашистый разлёт скул, широкие глаза, крутая посадка плеч — так вот они каковы, хакасы, исконные сибирские жители! И впервые за весь этап ко мне в клетку вдруг подсадили политического — это был украинец из 19-го лагеря, я его там видел издали, а знакомы не были. В клетке этапной и познакомились. Срок у него — 6 лет лагеря и 5 ссылки, и туда же, в Курагинский. Это меня обрадовало, не одному лихо мыкать первое время (а позже я ждал в ссылку жену).
И вот остановка, нас выгружают. Газик уже ждёт нас, тоже клетка на колёсах. Я ещё сдуру поздоровался с местными ментами. Мне, конечно, не ответили. И затрясся газик по камням и колдобинам Курагинским. Повезли нас в КПЗ. Камера, как коридор, без окон, дыра вентиляции дрожит в стене. По стене нары, в углу параша. Да три зэка по хулиганке — местные. Один на старуху-соседку вилку поднял, когда пришла учить его уму-разуму пьяного в дым, другой бичевал, третий — пацанёнок лет семи — грабил ларьки на предмет поедания конфет и пития лимонада. Его назавтра и выпустили. С другими двумя мы жили мирно. Целых четыре дня — с 29 апреля по 3 мая — нас держали в этой тёмной норе. Менты вели себя по-разному. Один издевался открыто, орал в кормушку: «Убивать вас надо, политиков сраных, возжаются с вами, лимонятся. Я бы вас вывез в лес и расстрелял на х…» В другой раз он орал: «Гитлер был молодец, правда? — Ты, лысый (это ко мне). Молодец, я его всего одобряю, так и надо, под корень всю нечисть». Он особенно лютовал по утрам, сгонял с параши, злобно ругался.
Но и эти капэзешные дни прошли. К вечеру 3 мая 1973 года нас выпустили из КПЗ. Денег у нас не было (на этапе не положено), прислать должны были из лагеря. И вот, заплатанные, грязные, обременённые рюкзаками и чемоданами, мы вышли на улицу. Кончилась Мордовия лагерная, началась Сибирь ссыльная. Но об этом уже в другой раз.
Сибирь
Рабочие — разрушители старого дома — жгли во дворе костёр. Рядом стоящие высокие деревья они огородили досками, и деревья приобрели музейный вид. Дом был чёрен, гол, обшарпан, окна зияли навылет, в некоторых торчали осколки недобитого стекла. А в садике двора напротив дома хозяйничала зима, ветви деревьев были увешаны снегом и белы, а стволы темны и ещё сумрачней от соседствующей белизны. И между пропадающим, смотрящим в гроб домом и живым ещё садом в тихом белении января — горел костёр. Он широко и внезапно взвивался с земли, огненное вздымание и опадание текло среди поваленных перекарёженных досок, разбитых ящиков, щепья и мусора, текло косматое и длинное полыханье, набегая кверху, то вдруг стелясь по-змеиному по земле, слышно дыша и неубывно сверкая, то враз накренив будто живой рукой стенку ящика, то однообразно стоя в воздухе на одном месте, насылая в высоту искры, мелькающие и гинущие с глаз долой в одно мгновенье. Всё это происходило здесь, в моём городе, в начале 1977-го, а вернулся я из ссылки в конце 1974-го. Причём тут ссылка, лагерь, родной дом? Не знаю. Но вначале было слово — в это я верю. Пусть же это будет слово о костре.
О Сибири вспоминать не в печаль. Хоть и ссыльная, и чужая, а вошла в душу. Первое, что увидел вольным уже взглядом — Тубу, горящую на солнце, и ловкую моторку, стучащую по весеннему речному блеску. Река Туба. Ну, что ж. А была река — Нева.
Туба, Кызыр, Кызыл и Омыл сливаются в одну протоку, как бы трубу, по-татарски Тубу. Так мне рыбак рассказывал. Сидели на брёвнах у воды, а он мне: «У каждой рыбы свой фасон спасенья. Таймень ищет вымоину, под глыбу головой, а невод выше идёт. Щука — на пробой смекает, рвёт невод прыжком. Сиг — поверх прыгает, сигает, и ночью — хоть глаз выколи, а слышно — сиг пошёл. Налим найдёт тетиву хвостом, подлез под неё — переворачивается и ушёл. Кто их учил — а вот, знают».
Как мы с Гришей блуждали в первый день по Курагино — тяжёлая память. Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недоверчивый, выйдет на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, третья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец в огороде, далеко ходить». Вот тебе хвалёное гостеприимство русского народа — воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше — «теперь не война и хлеба не жалко, а уж воды да соли — подавно, их и жалеть нельзя — грех». Но я тогда не в заплатанном брёл с мешком за плечами.
Но вот опять изба — хозяйка, худенькая, востроглазая, тонким голосом — «А вы ссыльные будете?» — «Ссыльные, ссыльные, как узнали?» — «Да уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе». А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает — как у матери, востренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе — поменьше. «Сколько же у вас дочек?» — «Шестеро — от 6 до 19-ти, все, слава Богу, с нами. Мы немцы. Мы сами на высылке с войны ещё».
Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, вошёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поливала, отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам. «Здравствуйте» — рука крупная, тяжёлая, наработанная. — «Якоб, а это жена моя Фрида, проходите в дом». Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набрели в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковородку картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко пахнущей румянисто-белой картошки — пальчики оближешь — это после тюремного-то! Гриша мне шепнул — несколько картошек не доесть надо, так у лютеран принято. Как ни жалко было, а пришлось оставить пару кусочков. Много позже Фрида сказала как-то — «Нам, когда гость не доест — обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал печать своего превосходства.
Постелили нам в комнате Якоба — на полу разостлали шубу мохнатую, ватники, а сверху чистые простыни, подушки, одеяла — честь честью. Двум зэкам с улицы, а за стеной девчонки спят — Наташа, ей лет 19, словно из сказки братьев Гримм, темноглазая, милая, приветливая, с кокетливой молодой угловатостью стулья нам подставляла всё, когда за стол садились; Оля — высокая, блондинистая, в очках, на год моложе Наташи, умная, себе на уме, в родном доме не загостится, а за ними поменьше народец: Лида (это та, которую увидел из-за дверей выглядывающей) — трудолюбивая, мамина дочка, Катя — с женским уже приглядцем на красивое и модное, Маша — сорванец, худышка, непутёвая душа, и Аля шести лет, ласковая, добрая, тоже из сказки, большеглазая, папин мизинчик, последышек, не хотел её папа Якоб, а теперь полюбил, с колен не спускает.
Об этой семье много можно говорить, за два сибирских года видел я от них добра и тепла — на всю жизнь хватит.
Когда вышли мы с Гришей на курагинские улицы, не было у нас ни копейки. Определили нам работу на лесозаводе, столярить. А доехать до этого лесозавода на краю Курагино не на что. Предлагали нам в милиции 20 копеек в долг — мы не взяли. Так пешком и поплелись, часа полтора шли.
Лесозавод этот стоял на берегу Тубы на самом конце Курагино. Здесь Туба огибала островки, поросшие берёзками, и уносилась вдаль среди безлюдных лесных берегов. А лесозавод, хоть стоял у воды, погибал от жажды и пил спиртное, не просыхая. Делали тут чаще всего гробы, но табуретки и столы тоже. Меня определили в ученики столяра — 12 рублей в месяц, а в учителя мне дали местного народного заседателя — ражего молодца по фамилии Шевченко. Тут же по цеху крутились ещё двое, вечно выпрашивая на опохмелку. Клонилась в углах над верстаком молодёжь, мешая размашистые кудри со стружками. Я этой новой мушкетёрской моды тогда не знал и с любопытством примерял к широким крупным русским лицам кудри до плеч — то ли Иванушка из леса вышел, то ли крепостной мужик 1812-го года с оголодавшего пленного француза парик содрал и на себя напялил.
Между тем Шевченко стал объяснять мне азы столярной науки. Очень скоро, почти сразу я понял, что и табуретки даже не сколочу, как надо. Попробовал обтесать ножку — испортил. Рубанком водить, пожалуй, мне понравилось — нравилось выгонять из дерева кудрявую лёгкую стружку, пахнущую свежестью и чистотой. Однако из стружки мебель не сошьёшь. Было ясно, что отсюда лучше уходить. Гриша — так сразу перебрался кочегаром на хлебозавод. Я не знал, куда податься.
На третий день наши милые немцы устроили нас на квартиру к своей соседке — обоих в одну комнату. Но сынок этой женщины — пожарник из милиции — воспротивился. К счастью, Фрида тут же нашла мне комнату, и я перебрался, а Гриша подыскал себе комнату недалеко от вокзала в бараке, благо хлебозавод был рядом.
Я не знал, как мне быть с работой. С лесозавода уйти я решил бесповоротно. Единственно, что брезжило реально — работа грузчика. Но у меня спондилёз, нельзя подымать тяжести, делать резкие движения. И всё же я решил рискнуть. Клин клином, как говорят. Было два варианта — грузчик сельпо и грузчик райпо. В райпо заработки больше — там вагоны, но там тяжелей грузы. В сельпо только продукты, развозить со складов по магазинам Курагино и нескольких близлежащих деревень. Сначала я обратился в сельпо. Тогдашний директор — немолодой человек с умным худым лицом — пожалел, что не нужно ему, и посоветовал обратиться к бригадиру райповских грузчиков Андрею Дуракову. Фамилия эта меня развеселила, но когда я увидел её обладателя, лучше было не смеяться. Коренастый, весь крепкий, ладный, как гриб-боровик, он лицом до мелочи походил на Жана Габена, да и повадкой и взглядом тоже. Услышав мои предложения, он медленно и несуетно осмотрел меня, видно, всё прикинул, оценил и отказал. И спасибо ему — мне пришлось пару раз потом работать с райповскими, и это работа лошадиная, тут надо быть крепышом, вроде самого Дуракова. Я вернулся к директору сельпо. Он подумал, посоветовался с экспедитором — женщиной на вид очень деловой, и меня приняли. Главный довод был — не пьёт, работать будет, ничего, втянется. Так я попал в грузчики.
Хозяйка избы, где я снял комнату, была белоруска. Она сразу после войны подалась в Сибирь за своим любовником, который ещё в поезде переметнулся к другой бабе. Что ж, не ворочаться же. И осела тётя Надя в селе Курагино, обзавелась избой, огородом. Мужа так и не нажила. Один сын остался в Белоруссии, другой женился и жил в Туве в Шагонаре. Тётя Надя — баба хитрая и жадная, но по-сибирски рассыпчатая на пословицу и поговорку. Это меня с ней примиряло. Притом она, хотя и по-своему, но верила в Бога и соблюдала праздники. Мат с молитвой пополам вылетал из её уст, но это было смешно, а не дурно. Вообще, чем больше я узнавал Сибирь по людям, по природе её, тем больше она мне нравилась. Чтобы не описывать всё день за днем — буду вспоминать те эпизоды, о которых хочется сказать словом. Так ведь и жизнь движется, и память живёт, а ежедневность пусть питает перо своим неубывным воссозданием самой себя.
«Было мне тогда 11 лет, пошёл по весне за бурундуками. Слышу в лощине кто-то булькает — не то лошадь, не то корова. Да вдруг увидел — брови огромные, губища, вихри высокие. С испугу больше — выстрелил. Упал сохатый. Я сломя голову прибежал домой, губы дрожат, слова не сказать, отцу что-то бopмочy. Наконец, отец понял, пошли в лес. Увидел отец, ну, говорит, Пантелей, молодец, первый твой сохатый». Старик замолчал. Соседи его что-то одобрительно и понимающе загудели.
Снова донёсся звон стаканов, шорох наливаемой водки. Дело было заполночь, я уже готовился уснуть, но заслушался разговоров из соседней комнаты. Там леспромхозные угощали старика местного, жителя Черемшанки, куда я приехал страховать. Здесь жили лесорубы да охотники. Деревни стояли на берегу Кызыра. Кругом широко темнела тайга. И вот я лежал на койке леспромхозного общежития и слушал разговоры, после которых хотелось жить здесь всегда и забыть про города и тюрьмы.
В Курагинской бане широкие скользкие скамьи приземисто теснились друг к другу. Влажный мыльный пол ловил шаги и ускользал от них. Два грузных крана фырчали и прыскали слабеньким взбрызгом время от времени. От горячего брызга шёл пар, отпугивая подходившего с тазом. Отвернёшь кран, и ярым ходом вбивается в таз вода. Едва успеешь завернуть, а таз уж колыхает светлое море в себе, и переливается оно через край. А пока несёшь к скамье на своё место, выплёскиваешь ещё и ещё. Раз я поддался-таки убегающему из-под ступней полу — с полным тазом шлёпнулся, разлил всё, хорошо хоть не побился сам. На скамьях рядом мужчины, парни мерещились в туманном рыхлом воздухе. Крупный кирпичик хозяйственного мыла елозил в руках, норовя выскользнуть. Жёсткая плоская мочалка неохотно расставалась с впитавшейся в неё мыльной чешуей. Голоса сидящих рядом гудели, погромыхивали тазы, отпрыгивали порой взлёты воды от пола или скамей, когда кто-нибудь окатывался напоследок. Что ж — баня как баня. Извечный инвалид, отстегнувший деревяшку в предбаннике. То слева, то справа спины друг другу трут, покряхтывая и покрякивая. Волосатые, пузатые, дряблые, крутоплечие, красные, белёсые, шумные и тихие. И гул стоит несмолкаемый. На стенах и потолке тяжёлые капли скапливаются, скапливаются, набухают. Чистая вода из таза — как подарок, мутная, поседевшая, клочковатая — нудит вылить её, сполоснуть таз. Ну вот, вроде счистил с себя недельную пыль да грязь. Пора в предбанник.
В предбаннике распаренная, расслабленная тишина. Из бани раздаются, когда отворяется дверь, громы тазов и шелест воды и голоса. Рядом со мной одевается маленький мужичонка, красный, со вздыбленными волосами на картофельной голове. Несколько раз глянув на меня узкими глазками, спросил — откуда я, не видел, мол, раньше меня в Курагине. Я сказал. «О, да я тебя в два счёта устрою, у меня тут все свои. В леспромхоз или на станцию». Я как раз тогда ушёл с лесозавода, грузчиком ещё не стал. Утопающий хватается за соломинку, и мужичонка почудился мне спасителем — когда жизнь бьёт, надеешься на любой случай — авось вывезет.
Вышли из бани на Курагинские тёмные улицы. Мужичонка зазвал в магазин, купил две бутылки с каким-то красным вином. Куда пойти? Я предложил к себе: жена ещё не приехала, тётя Надя как-нибудь примет. Добрели. По дороге мужичонка расписывал, как устроит меня в леспромхоз: «Будешь сучья с брёвен обрубать. Работа не тяжёлая, только приноровиться. Или — с бензопилой лес класть — она сама режет, только, знай, держи её. Что ж — пилу не удержишь?» Я неуверенно соглашался со всеми посулами. Тётя Надя засуетилась, достала солёных огурчиков, я поставил кильку, сала, хлеба. После двух-трёх стопок мужичонка захмелел. Стал обхаживать тётю Надю — мол, выпей, бабка, ещё — чего там! Она же перешла на скамейку у печи, полулежала там. «Выпей, бабка, да спляши, я подыграю». — «Не надо мне играть, я сама гитара. Не возьму больше капли в рот, не проси». Ещё через полчаса мужичонка совсем смяк и, сидя на сундуке, глядя на меня белёсыми жидкими глазками, заплетаясь, плёл: «Хреновая наша жизнь, чёрная. Потому что русский народ — скотина. Ты посмотри, как другие народы живут, любо-дорого. А мы — нажраться и опять нажраться. Беспросветно. Я тебе скажу, ты мне верь, скотина русский народ. Кроме водки, ничего не будет — я тебе говорю». Глядя на него, я чувствовал убедительность этих слов. «Мне бы лечь надо, поспать», — бормотал он. Я испугался — едва я пристроился — и такой постоялец, да и лечь ему негде. «Нет, нет, никак нельзя, я уж тебя провожу, как-нибудь доберёшься до станции!» (он там жил). Он топтался, чуть не падая, бессмысленно моргая, хватая руками стены и воздух. «Как же я, мне переночевать бы…» Но я знал, что тётя Надя внимательно слушает со своей скамейки, хоть и глаз не подымет и голоса не подаст. Еле-еле выволок я своего гостя за калитку, и доплелись мы до остановки автобуса. «Завтра приходи на станцию — устрою», — успел ещё прошамкать он. Разумеется, больше я его не увидел ни завтра, ни послезавтра, и только потом, будучи грузчиком уже, встретил как-то. «Что же ты пропал?» — помню, спросил я. «Да я ждал тебя, это ты пропал». Ничего и не скажешь, с таких взятки-гладки. Тёте Наде я сказал на другой день — обещал, мол, на работу устроить, вот я и привёл его. Она только покачала головой.
Работы грузчика я всё-таки побаивался. Как-никак спина больная, а тут не шутки шутить надо. Но была не была. Работали по двое. Со мной на пару некий Коля — небольшой, ладный, светлый, с быстрым говорком, только бы кудри ему есенинские, и не удивишься, если польётся вдруг из уст «Отговорила роща золотая». Но из его обветренных губ выскакивал чаще всего скороговорочный частый мат. Двое других были народ постарше. Один, Митя, мужик лет 50-ти, коренастый, плотный, хитрован, выпить не дурак, про таких в лагерях говорят: «рыбина та ещё, гнилая». У него заведовала продуктовым магазином жена, мы этот магазин обслуживали. Жена Мити, бывалая баба, звала его за глаза живодристиком, другие бабы называли Митю не иначе как Дуськин — по имени жены. Другой — татарин, забыл имя его, а кличка была Яга-ж, потому что он без конца приговаривал «и Яга ж, Яга ж». Он был жилистый, тёмный, длинный, длиннорукий, глаза жёстко и чёрно блестели. Такая была наша команда — сельповских грузчиков.
С утра приходили мы в управление райпо, ждали машин. Потом начиналась езда — кто куда. Выгоднее всего было возить вино и водку: 100 ящиков погрузить-разгрузить — 1 р. 60 коп. на брата. Если пустые бутылки — всё равно. Ящик с водкой весил 20 кг. А за 100 других ящиков — 1 р. 20 коп., хотя грузы были и тяжелее, и неудобнее. Всего дешевле оценивались сахар и мука — по тоннажу, а мешок сахару тянул на 50 кг. Мучной же — на все 70, а то и 80. И после мучных ездок приходил я домой весь белый, сыпкий, и жена долго выбивала мою спецодежду на заборе, но всё равно въедливая мука гнездилась в щёлках и отворотах куртки и штанов. Всего же хуже была соль, она лежала горами, грузить надо было лопатой в сапогах и брезентухе, иначе разъедало ноги и тело. Да всё равно разъедало.
Так мы и ездили по Курагино, мостились в кузове среди мешков и ящиков. Подъезжали к магазину, выкликали заведующую. Машина задом пятилась к дверям магазина, откидывали борт, и начиналась таска. Если с заднего хода магазина — дело шло быстрей, а если через входную дверь, мешали покупатели — сновали туда-сюда, совались к нам — чего хорошего-то нет ли? А хорошее редко бывало. Мы сами почти не видели.
Мои напарники норовили при каждом удобном случае выпить. Что — водку или вино — им было всё равно. Они и водку звали вином. Я от этих возлияний уклонялся. У меня пытались они брать в долг, и приходилось давать. Иной раз — не отдавали. Пару раз я принужден был попивать с ними, чтобы уж совсем не стать особняком. Так было, помню, когда возили муку, и как ни странно, волохаться с ней под хмельком было намного веселей. Подъезжала машина к складу, бросали на борт доску и по ней взбегали с дощатого ходуном ходящего пола на кузов. Двое грузчиков стояли на кладке (т. е. клали мешки нам на спину), мы — остальные — бегали с мешками по доске, сбрасывали мешки, дымящиеся белёсым взвивом мучным, на кузов и обратно бежали пустые, подставляли готовую спину под жёстко-серого плотного широкого этакого поросёнка, прихватив его за уши и клонясь под ним, бежали на кузов снова. Нагрузив мешков 60, отъезжали и гнали к магазину. Там с кузова один подавал, прямо на спину клал мешок, а другой — чаще всего я — шустро семенил в магазин и сбрасывал мешок, с глухим шлёпом падающий на пол, а позже на другие мешки — уже почти бесшумно, только мучная пыль вздымалась и оседала сразу. В горле першило, в глаза лез мучной мутный пот, но вино работало в жилах, и всё это нелёгкое дело даже ещё и бодрило. Да и сама мужская могута этого труда веселила душу, и усталость долго не брала. Так бывало с мукой.
С вином и водкой было полегче, взял ящик за края и пошёл ставить один на другой, штабель по 5–6 рядов, выше себя вознеся и плотно ставя. Только бутылки позванивали да поигрывали. Веселей всего в работе была выгрузка арбузов. Приходило их много из Средней Азии, и мы грузили прямо из вагонов. Наедались до отвалу, это не возбранялось. Выбирали покруче, поярче, разбивали об пол и сладкую эту весёлую алость брызжущую, развалистую на большие неровные ломти, поедали, вгрызаясь, впивались по уши, только семечки скользко прыгали из губ и мокрой коричневостью поблёскивали кругом. А пёстрые звонкие кавуны навалом громоздились в углу вагона. Мы их конвейером перебрасывали по-вратарски друг другу, а в магазин приехав, по кузову катили, когда верх уже убывал. Ухитрялись себе заначивать и взвешенные с машины. Делалось это так. Сначала взвешивалась машина, а кто-нибудь из грузчиков поменьше ростом прятался в кузове под брезентом. Брезент, как барханы, лежит, его не проверяли. Так килограммов на семьдесят мы надували нашу великую сверхдержаву, и получалось арбузов 5–6 на выбор. Можно было и жену побаловать, и тётю Надю. Такая была грузчикова жизнь сибирская, и продолжалась она полгода.
За это время грузчики иногда менялись, но бессменно трудились Митя и Яга-ж. Постепенно я узнавал о них побольше. Митя попал в грузчики из шоферов. Как и Коля. Водка подвела. А Яга-ж сидел в бытовых лагерях лет 6 по хулиганке. Сиделось ему, видно, не очень муторно, потому что вспоминать любил. Выходило, что он там жил королём, и вся зона только около него и крутилась. И всего было вдоволь. Конечно, он привирал, как любят бытовики, но часть правды была — в этих лагерях на общем режиме уголовнику чем не житьё — каждые два месяца посылка и свидание, срок — половинят, амнистия не обходит. Оттого Яга-ж и захлёбывался рассказами, как в лагерях пил да ел, да жил в своей каморке и горя не знал. Чёрные ордынские глаза поблёскивали, слова торопились, вылетая из прокуренного узкого рта. Ещё и руками помогал. А мы молча слушали — что ж было говорить? Кому тюрьма, а кому — мать родна. Обо мне и Митя, и Яга-ж, и Коля всё знали. Но умели не выказать своего отношения к моей судьбе.
Коля только однажды пьяный стал говорить мне: «Мне Алексей Фёдорович с первых дней сказал: что ты скажешь про политику — всё, мол, передавай. А я говорю ему — я не сука. Парень работает, жена к нему приехала, не пьёт. Так и сказал ему — я, Алексей Фёдорович, не сука. Не был сукой и не буду. А вот Митьку опасайся, он и в милиции работал, он себе на уме». Я Колю словом похвалил, а в душе до конца не поверил ему, потому что знал зэковскую манеру валить на другого свой грех. А психология человеческая везде одна. Впрочем, Митя и не вызывал особого доверия. А вот директор сельпо Алексей Фёдорович мне нравился — по-настоящему умный человек, презирающий бестолковщину и болтовню. И всё-таки туда же, тем же миром мазан. Вот уж воистину — круговая порука подлости. Удивляться-то нечему — а жаль. Да что говорить о службе? К тёте Наде и то приезжал на мотоцикле ведающий мной и Гришей инспектор, она мне не говорила, но однажды он случайно застал меня в избе и забегали его глазки и язык примяк, видно было, не по себе человеку. «Вот заехал поглядеть, как устроились». А тётя Надя быстренько отлучилась в погреб или на огород — как раз нужда пришла. Я стал, по-лагерному говоря, на Табунова переть — работа тяжёлая, а платят мало, с высшим образованием — грузчик. Жена ещё крепче меня на него наседала, так он только крутил головой туда-сюда и всё порывался встать со стула, словно жгло. Но боевая моя Лена, знай, наступала. «Что же это, он затем высшее образование получал, чтобы мешки таскать? Где, в каком кодексе это сказано? В лагере и то работу подбирают, а вам тут наплевать, пусть человек мучается? У меня совсем работы нет в вашем Курагине, так на 100 рублей нам, значит, и жить?» Еле выскочил из избы Табунов, только слышно было, как рванул с места мотоцикл, грохоча. А тётя Надя скоро пришла с огорода — «Вот делать им нечего, здоровые мужики, раскатываются по деревне». Что он у неё спрашивал в прошлые разы, она, конечно, нам не сказала. Только однажды, как-то после нескольких стопок, вдруг повело её — оборотясь на икону Богородицы, перекрестилась круто и, обернувшись к нам, низко клоня над столом лицо, красное от водки: «Вот дети, как перед Богом, так перед вами — ничего я ему не говорила и не ходила к нему. А как пришёл ко мне Толька квартиру снимать, помнишь, я и думаю — отчего не сдать, и немка эта Фрида просит — я хоть её не знаю, а на улице немцев у нас много живёт и все её родня. А после мне старухи говорят — ой, Надя, он ведь ссыльный. Он тебя ночью зарежет и уйдёт, он ведь из тюрьмы. Пошла я к Клане (соседка напротив), говорю ей, — Кланя, я ссыльного пустила, он из тюрьмы. А Кланя мне: «Молчи, Надя, молчи». Вот как было, дети». — «Но видите, тётя Надя, обошлось, не зарезал я Вас. Тюрьма тюрьме рознь, не только воров и грабителей сажают». — «Да вижу, вижу. Вы уж на меня, дети, не сердитесь. Зима без морозов не бывает». Но я знал, что и тёте Наде верить очень-то нельзя, хоть за стопкой не было её добрее и роднее. Но сама ведь говаривала она: «Глаз опризорчив, язык оговорчив». Пословицу не зря народ сотворил, она всё про народ знает на веки веков.
После ухода Коли моим напарником стал парнишка лет двадцати двух, типичный деревенский увалень, круглолицый, конопатый, косолапый, с глазами медового цвета, с льняными спутанными волосами. Звали его Ваня, и имя ему, как нельзя более, подходило. Работать с ним было худо, он оказался бестолков и упрям, неповоротлив и не к месту говорлив. Что меня особенно удивило — его безграмотность, он несколько раз просил меня на почте за него написать адрес и т. п. «Как же ты сам не можешь, ты ведь в школе учился». — «Да мы с дедом на двоих букварь искурили», — ответил мне он, и хотя эта побаска известная, но с ним, похоже, дело так и обстояло. Был он, впрочем, и забавен иногда, а чаще противен самодовольной благоглупостью. Вообще по селу его считали маленько придурковатым и относились с насмешечкой, а порою и издёвкой. Вопросы его ко мне всегда были неожиданны. «Ты что же, как родился в Ленинграде, так и стал в нём жить?» — помню, спросил он меня. И удивился утвердительному ответу. «Там ведь шумно, народу больно много». — «Да, нет, привык уж», — говорил я, сам в этот момент удивляясь, как можно жить в большом, шумном, людном городе. Ваня недавно женился, жена его, бабёнка постарше его, некрасивая и насупленная, несколько раз попадалась мне в Курагине. Появился у него и ребёнок очень скоро после свадьбы, которая, по словам Вани, проходила в долгом и тяжёлом пьянстве, так что жену он нашёл с трудом где-то в чулане только на вторые сутки. Но он-то об этом рассказывал с гордостью, сколько, мол, выпил и как был пьян, и как шатало его от забора к забору, а гости вповалку валялись по избе и на дворе. Любил рассказывать, как лазит, по его слову, на жену — не без этого, — говаривал он, ощеривая широкий рот, морща утиный веснущатый нос и хитро щуря глаза. — «Как же, слазишь раз — другой, не без этого». Эти подробности он сообщал вообще, безотносительно к предмету разговора. Дразнили его, что ребёнок не от него совсем, и даже в глаза говорила, помню, продавщица ему — навещает ли, мол, сынка отец? Ваня на эти задирки свой широкий рот ощеривал уже зло, глазами крысился и глухо бормотал: «Не вам забота» и что-то ещё буркливое под нос. Было в нём уже и стариковского много — байки деревенские повторял он с той же интонацией, что бабки курагинские, и головой кивал и покряхтывал убедительно, и даже в присказке о жене слышалась какая-то замшелость — вот и я, мол, держусь ещё — будто давно пора уже на покой.
Ближе к осени дали нам ещё одного грузчика в помощь — из провинившихся шоферов, — молодого парня по имени Саша. Был он красив, черноглаз, дерзкие брови соболиные сходились почти, и вся ухватка его пленяла силой и сноровкой. Сам он был не курагинский, из какой-то другой деревни. Жизнь деревенскую он любил, любил петь песни старинные и по-русски просторные, в которых, как в зыбке, будто качалась-раскачивалась Русь, любил рассказывать, как у них в деревне народ живёт — лучше, чем здесь, умнее. «Тут вот поросят кормят, как придётся, а после одно сало — куда его — мыло, да и только. А у нас по-другому — неделю кормят его до отвалу, а вторую неделю — впроголодь. И растёт слой мяса на слое сала, так вперемежку и выходит». Вначале мы работали втроём: Ваня, Саша и я. Саша добродушно относился к несообразностям и нелепостям Вани. Когда тот особенно уж простоволосился, да ещё притом стоял на своём, Саша говорил: «У хренового хозяина корова всегда в ненастную погоду телится», на что Ваня, как обычно, что-то тихо отбуркивал под нос. Начальству сельповскому Саша нравился. Тётя Шура, из экспедиторов ставшая уже заведующей, говаривала ему: «Ты, Саша, мараковитый, на тебя надежда, проследи, чтобы всё по уму было». Мы с Сашей старались работать на пару, с Ваней, честно говоря, оставаться не хотелось. Однажды машин не было, дали нам работу на складе — ящики сколачивать — дело грошовое и шумное — колоти побитые ящики, вгоняй гвозди в похилевшее, разъехавшееся дерево, а совсем гниль можно было выбрасывать — мы и поколачивали да громоздили ящик на ящик — тара была, в основном, под водку и вино, так что особой хитроумности не требовалось. Тут же во дворе стоял колодец, и как назло, кто-то из бухгалтеров утопил ведро, и никак было не достать. Тётя Шура обратилась к нам. Ваня, как глянул в колодец — тут же отступился — он ещё и трусоват был ко всему. Обо мне речь не шла — всё-таки 35 лет человеку, неудобно в колодец лазить. Спасовал и шофёр машины, грузившей сколоченные ящики. Саша вызвался сам, по колодезной верёвке спустился в тёмную квадратную булькающую пасть, гулко оттуда зазвякало ведро и раздался голос Саши: «Тяните помалу». Когда вытянули и Сашу и ведро, я с жалостью и удивленьем увидел крупные шрамы у Саши на животе, ближе к солнечному сплетению. Он рассказал, что в деревенской драке засадили ему ножом да ещё провернули там, так что год целый не выпускала его больница, и хирурги не ручались за жизнь. Тогда меня что-то кольнуло — ох, не доживёт парень веку, больно красив да толков, и уж смерть побывала у него на закорках, спасибо отпустила. Саша вскоре женился, жена его, кондукторша на местном автобусе, была беременна уже, когда он уволился из сельпо и устроился монтёром. Ещё через несколько месяцев я услышал, что, будучи в командировке в другом районе, он не поладил с местными парнями, не захотел с ними выпить, и они вечером подстерегли его, когда вышел из избы, и забили кольями. Вещим оказалось моё тогдашнее ощущение у колодца, жаль очень было Сашу и страшновато за предвиденье своё, хоть и знал я, что и самому мне сны мои предрекали, а иногда и на других угадывал я тайную метку. Однажды с женой встретили мы вдову Саши, она катила коляску с младенцем — это был Сашин сын. Мы спросили — будут ли судить убийц. «Нет, не нашли их, следователь был там, спросил да уехал, так всё и осталось. Вот сын растёт, уже на Сашу похож, такой же черноглазый». Какая-то ему будет судьба? — подумал я. И ещё подумал — а вот Ванька пень-пнём, да ещё и с гнильцой — он будет, небось, жить долго и ходить ещё по земле, с которой так рано ушёл Саша.
Когда ударила первая моя сибирская зима и звонко заиграл в воздухе мороз, первым делом отозвался мой спондилёз-радикулит. Приходилось ведь ездить по-прежнему в кузове ветру навстречу, а одевать ватные штаны не стоило — не повернёшься в работе. Пришлось мне обратиться в местную больницу. Проболев дней 10, я вышел и почти на другой или третий день схватило меня опять — поднял ящик с мылом — он под 70 кг — и еле-еле добрёл до больницы — благо магазин с ней рядом оказался. Маленький хакас — местный терапевт — тут же переправил меня к хирургу, хирург к невропатологу, и я, можно сказать, ползал от одного врача к другому. И снова бюллетень. Ясно было, что грузчиком мне больше не быть, спасибо, полгода спондилёз терпел ещё этот опыт. Пришлось увольняться. Жена в Курагине работы не имела, был у неё договор с Красноярским Домом народного творчества на несколько статей о народных театрах края, эти статьи должны были выйти маленькой книжкой, но заплатить ей обещали позже. Мои родители посылали нам ежемесячно продуктовую посылку, да и друзья не забывали, пришло несколько посылок от родителей жены. Платили мы тёте Наде 30 рублей в месяц да ещё за молоко тёте Клане 45 копеек в день, да ещё брали яйца по рубль двадцать десяток — это при зарплате 100–110 рублей. А без неё как? Положение получалось аховое.
Мои родители, узнав, что ушёл я из грузчиков, тут же выслали 60 рублей. Я пошёл в милицию — давайте мне работу подходящую. Но Табунов отказал в помощи сразу — сами ищите. «Так ведь бесполезно, не возьмут, а снова грузить или что-то подобное не могу». — «Как знаете, я вам места искать не буду». — «А в тюрьме, небось, место найдётся?» — спросил я. — «В тюрьме найдётся», — с издёвкой ответил он. Мы с женой решили писать в Москву, в ЦК — пусть помогают в трудоустройстве, соблюдают хоть собственные законы. Продолжалось всё это месяц — ушёл я из грузчиков в конце ноября 1973 г., а в конце декабря вдруг у забора нашего остановился газик — вызывали меня к первому секретарю райкома курагинского. Мы с женой поехали вместе. Вошли в длинный светлый кабинет. За столом сидел немолодой человек с худым жёстким лицом, он предложил нам сесть. Мы уселись довольно далеко от него, на крайние стулья. Лицо секретаря внезапно и резко дёргалось. Потом я узнал, что это след войны. «Вот у меня тут лежит письмо из Москвы — трудоустроить Вас и по исполнении известить. В ближайшие дни найдём Вам работу, но Вы уж не будьте слишком разборчивы». — «Я прошу, чтобы учитывалось состояние моего здоровья». — «Вот потому и будем искать. Через несколько дней дадим Вам знать». Разговор был окончен. Мы поняли с женой, что работа будет, чувствовалась в этом человеке сила, и власть он, видимо, держал в руках крепко. Через день меня вызвали к нему снова. «Мы направляем Вас в Госстрах — агентом». — «Но я знаю об этой работе только из рекламных роликов». — «Это уже кое-что. Научат Вас, ничего сложного нет. Желаю удачи. Идите, я позвонил туда». Так началась для меня новая жизнь — жизнь страхового агента. А прошло курагинской жизни к тому времени полгода. За эти полгода я имел дело не только с местной милицией, куда ходил отмечаться ежемесячно. Наезжал сюда и местный гэбист — чернявый, смуглый, юркий человек. Он и меня, и Гришу запугивал — лагеря, мол, недалеко: только что-нибудь — и снова туда угодите. О себе сказал: «Мы — хозяева этого района». Вызывал он нас несколько раз. Когда я ходил без работы, он как раз снова появился, вызвал меня, а я сразу потребовал помощи в трудоустройстве. «Да что же я могу помочь, и не знаю. Я вот, когда работал на Кавказе, так там люди за деньги устраивались». — «За взятки, значит», — уточнил я. «Ну да, за взятки. Нет, я не к тому говорю, чтобы Вы давали взятку, это там так делают». — «А я и не подумал о такой гадости», — ответил я. На этом разговор и кончился. Вскоре этот гэбист перевёлся из нашего района, но ещё успел повредить моей жене, которая пыталась всё-таки найти какую-нибудь работу в Курагино — хотя бы в местной газете. Из-за вмешательства гэбиста это не удалось.
И вот началась моя разъездная жизнь страхового агента. Нехитрую науку страхования я изучил быстро. Начальник Курагинского Госстраха предложил мне края самые дальние — разбросанные в тайге деревеньки — Черемшанку, Петропавловку, Гуляевку, Жаровск, Тюхтяты и геологический посёлок Тобрат. Ехать из Курагино автобусом 4 часа — 100 километров — до Черемшанки и дальше ещё до Жаровска километров 20, а до Тобрата ещё 10 примерно, лесом. Четыре часа тряс и встряхивал меня автобус, а мимо бежали леса, поля, иногда мелькала речка среди зарослей и кустов. Безлюдье, и размашистая дорога, когда только стоящие столбиком суслики вдруг обрывались ничком и сломя голову удирали прочь, да вороны грузно вздымались и, шатко маша крыльями, скрывались в лес, вдруг оживала присутствием разбредающегося стада коров, около которых прыгал, взлаивая, сторожевой пёс, а подальше маячил на лошади пастух с длинным кнутом в руке. Потом вырастали первые избушки, дворы, огороды, где согбенные бабки копошились на гряде и изредка оглядывались на пыхтящий, вперевалку удаляющийся наш автобус, потом показывался единственный магазин с зарешёченными окнами и толпящимися на крыльце мужиками, дети разбегались с дороги и любопытно глядели нам вслед, перебегала дорогу собака, до того смирно сидящая у калитки, а мы катили да катили себе, и пропадала позади деревня с её дымной снежной медленной жизнью, и снова маячили поля, перелески, и леса, леса, леса смешанные вначале, а потом хвойные, хвойные — сосна, ель, кедр да пихта — таёжные края, сибирские, настоящие.
Уже ближе к Черемшанке ехали совсем среди леса, и стоящие вдоль дороги высокие поднебесные сосны, широко раскидистые, стряхивали иногда снежную мягкую россыпь прямо перед автобусом. Но вот — въезжали в хороводье изб, чуяли дымный дух, слышали собачий звонкий перелай и останавливались у леспромхозного общежития, как и вся деревня стоящего на берегу тёмной, быстрой, дремучей реки Кызыр. На другом берегу темно громоздилась тайга, и кругом, куда ни глянь — тайга, тайга, тайга. Оставив нехитрый свой пожиток в леспромхозном общежитье, я начинал поход — шёл из избы в избу, пока не обходил всю деревню. А она была не так-то и мала — дворов 70. Вначале стеснялся, но люди в этих местах сами просят страховать скот и дома, потому что с них всё равно взимается обязательная государственная страховка, а вкупе с добровольной в случае чего можно получить хоть какое-то возмещение. В деревни эти порой забредает медведь, да и скотина сама может пропасть, и пожары бывают. А от несчастного случая рабочие леспромхоза тоже не прочь застраховаться — техника безопасности почти не соблюдается в тайге, и подрубленная лесина падает куда Бог пошлёт — только поглядывай. И вот захожу я в первую избу, перешагнув через лежащую на крыльце мохнатую собаку, на всякий случай почмокав ей. Она, впрочем, и в ус не дует. Куры во главе с петухом, сначала суматошно врассыпную кинувшиеся от меня с беспокойным кудахтаньем, затем любопытно поглядывая мне вслед, семенят в сторону крыльца, а петух, качая багряно-чёрно-карим сверканьем хвоста и кланяясь султанским горделивым гребешком, дерзко запрыгивает на крыльцо, тревожно прокудахтав при этом, и пытается устремиться в избу, но я захлопываю перед ним дверь, а сам стучусь к хозяевам. Вхожу. Изба выглядит бедно — воистину: печь да полати, стол, табуретки, на плите горшки да чугунки, висит на верёвке всякое тряпьё — по-здешнему всё это вместе — «шабалы», то есть имущество. На стене фотографии — покойник в гробу и родня вокруг. Кошка спрыгивает с полатей, потягиваясь, мягко проходит в угол. Хозяева предлагают сесть. Начинается разговор. Вся деревня почти состоит из двух фамилий — Бояндины да Якушевы. Бояндины — коми-пермяки, Якушевы — мордва. В начале столетия с голодухи покинули они родные земли и пришли сюда, в Сибирь. «Я тут, под сосной и родилась», — говорит старуха в крайней избе у самого леса, — «Как стали здесь отец да мать, я в тот день и увидела свет Божий. С той поры тут и живу». Мордва — народ невысокий, чернявый, широколицый, крепко сбитый, будто рубленный с пня, да подкороченный при этом и сверху и снизу, как деревянные их идолы древних времён. Говорят только по-русски, родной речи почти не помнят. Пермяки посветлей волосом, поуже в кости, оттого в лице резче выдается северная раскось, а в языке ещё слышен отголосок присвистывающей тонкоголосой речи предков. Народ всё работящий, приветливый, знающий как жить на земле, и сумрачной широкой тайге — родня. И вот идёт разговор о страховке. «Да, надо скот страховать, надо. Летом вот шатун приходил, напал на корову, стал драть её, да рвёт, измясил всю да ошалел от крови, семь коров и задрал, и телёнка с ними. Надо застраховать — пишите нас». Так и в других избах. Несколько раз только одинокие старухи отказывались: «Пенсии 20 рублей, милок, а уж за муку отдала 15 рублей, как жить — Бог его знает. И страховать-то нечего, только вот кур и держу, весь мой скот». Что я мог сказать ей? Подивиться только в который раз долготерпению народа, который и такие гроши умеет преобразить в хлеб насущный. И шёл я дальше, по другим избам. Так, за год почти, много их обошёл, видел и бедность, верёвкой подпоясанную, и разгул вприсядку, видел жизнь сибирской деревни. Видел уставленный сплошь пустыми водочными бутылками коридор общежития геологов в Тобрате, смутную бродячую их жизнь от похмелья до похмелья, от длинного рубля до узкого горлышка. Разговаривал со старообрядцами, баптистами, со стариками и старухами сибирскими, каждое слово которых — золото. Всё это жаль разматывать в мимолётных записках, об этом хочется сказать полновесно. Надеюсь, когда-нибудь я это сумею.
Весна 1977 — январь 1978
Пизанская башня
Мне нужно было попасть в деревню Петропавловку, которая находилась недалеко от Черемшанки, но пешком не дойдёшь, да ещё вечером. Зима клонилась к весне, но в Сибири и март ещё изрыт метелями, а апрель перемешивает снег и лёд, и первые чёрные лужи в распутицу такие, что не дай Господи — бывает, ни пройти, ни проехать. Но страховать-то надо, а в апреле как раз сроки подходят. Впрочем, тогда, кажется, кончался март, белело ещё по-зимнему. Я стоял у магазина, выяснял — как же мне попасть в Петропавловку, на автобус я уже не угадывал, машин не было видно, но могли быть проездом. Вдруг подкатил мотоциклист в шлеме, худолицый, с той острой раскосью, которая здесь, в Сибири, отличает коми-пермяков от мордвы, чьи лица словно бы написаны хоть и северной, но более широкой кистью. «А вот из Петропавловки человек», — сказали мне. Я обратился к нему: «Вы скоро в Петропавловку?» — «Да полчаса пробуду ещё», — ответил он. «Возьмёте меня, я из Госстраха?» — «Можно». — «Вот спасибо. Так я вас здесь подожду». Он кивнул. Я ждал больше обещанного; темнело, коровы, мыча, уже разошлись по дворам, последние куры копошились среди улицы, перебалтываясь и переступая всё ближе к своим изгородям, и вот, наконец, появился мотоциклист, он так и ходил в шлеме, не снимая его. «Сейчас поедем, — сказал он, — к своим заходил». — «Не знаете, где можно переночевать в Петропавловке? — спросил я. — Поздно будет возвращаться сюда». — «Да у меня и можно». Я поблагодарил.
Мы познакомились. Его звали Саша, а фамилия Бояндин, как у многих пермяков в этих местах. Поехали. Мотоцикл сразу взял скорость, разбежались по краям ели да сосны, дорогу с маху уносило под колёса, ветер свистел в ушах. Я слегка держался за Сашины бока, разлёт наш мне нравился. Скоро повернули с грунтовой дороги на лесную, мотоцикл пошёл подпрыгивать да бодать то вправо, то влево среди колдобин и кочек, и быстроты поубавилось. Но до деревни было уже недалеко, уже маячил впереди скотный двор, широко окружённый низкой косой изгородью. Мы благополучно объехали юзом несколько луж, дно которых льдисто мутнело, но впереди была главная — во всю дорогу. Она пристыла, и по этой горбатистой белеси Саша и решил проехать, рвануть с ходу во всю мотоциклову силу. Едва мы чуть не на дыбах ворвались в середину, послабевший верх осел, и мы вместе с мотоциклом провалились в белёсую скользкость, и ноги мои по колено хватили ледяного внезапного холода. Саша был в сапогах и спрыгнул с седла чуть в сторону. Я с трудом вытянул ноги, со всхлипом расставшиеся с этой ванной, хорошо хоть не весь окунулся, да и сумка с документами цела осталась. Еле мы вырвали мотоцикл, отяжелевший от льдистой воды, на сухой лесной грунт, кое-как поехали дальше. Саша оправдывался: «Первый раз здесь засел, всегда проносило».
Наконец, замызганные, замёрзшие въехали в деревню. Сашина изба стояла на самом краю её, и огород сбегал вниз, к лесу. А передом изба повернулась к реке, которая бежала здесь, суживаясь и мелея и пропадая вдали. Саша закатил мотоцикл под навес, мы вошли в избу. Огромная печь, на полатях — шестки, увешанные тряпьем, широкая деревянная кровать, в углу — образ Спасителя, буфет — редкость в деревне. К нам подбежал малыш лет пяти, большеглазый, крутолобый. «Мой сынок», — сказал Саша. Худенькая, проворная старушка вынырнула словно из печи: «Где пропадал, до темноты бегаешь». — «Да мы в луже, что перед коровником, засели, обсушиться надо, — говорил Саша. — Вот человек страховать приехал, переночует у нас. Вешайте носки на печь», — посоветовал он мне. «Ой, да плита уж холодная и ужина-то нет», — приговаривала старушка. С кровати поглядывало на нас ещё одно маленькое существо. «А это кто, дочка младшая?» — спросил я. «Да, она сейчас болеет у нас, а то и песню споёт, и стихи расскажет, такая затейница», — сказала старушка. Девочка глядела тихо и жалобно. И мальчик внимательно и приветно также посматривал на меня. «Хорошие дети», — сказал я. «Мать вот в больнице, — ответил Саша, — скоро уж дома будет, соскучились они».
Мне хотелось что-то сделать для Саши. «Промокли мы, — сказал я, — может, возьмёте в магазине пол-литра, а то не простыть бы. Вот деньги — ладно?» — «Не надо ему пить, ну его», — возразила старушка. «Так видишь же, что ноги у нас мокрые, не будет нам вреда, если по стакану», — сказал Саша. «Вы не опасайтесь, — обратился я к Сашиной матери, — я вообще не пью, да и нельзя мне на службе, тут случай такой». — «Да я вижу, вы человек серьёзный, коли надо, то пусть сходит, Бог с ним». Саша уже исчез за дверью. «Красивая у вас икона, старая, видно», — обратился я к старушке. «Да, старая, старая, от матери досталась, а ей от бабки ещё, а молодые и не глядят на неё». — «Время такое», — сказал я. «Безбожное время, всё сами знают и не слушают меня, я маленькую у них нянчу, а после еду к старшему сыну в Тюхтяты, у него три года сына нянчила. Так и катаюсь всё. Меня здесь люди «легковушкой» зовут». — «Надо же, — засмеялся я. — Но вам с Сашей хорошо?» — «Больной он диабетом, в позапрошлый год с мотоцикла упал, побил себе всё. Каждый день на уколах да в больницу в Курагино ездит за инсулином. Там и дочь моя живет с мужиком. Саше пить-то вредно». — «А я и не знал», — испугался я. «Да ничего, разобойдётся. Вы, я вижу, человек хороший».
Вернулся Саша. «Ну что, обсушились немного? — спросил он. — Давайте, садитесь к столу, чем Бог послал». — «Не повредила бы вам водка», — сказал я. Саша глянул на мать: «Наговорила уже. Да ничего не будет, я сегодня колоться не стану, водка же частично заменяет». На столе появились солёные огурцы, сало, хлеб. Я достал колбасу из сумки. Старушка нам подавала. «А вы что ж?» — спросил я. «Я ела уже, на меня не глядите». С печи спрыгнул серый с серебринкой, длинный и развалистый кот, медленно подошёл к нам. «А, Бусик, проснулся, наконец, — приветствовал его Саша, — сутками спит. Ленивей его не видел, мыши по нём бегают». — «Но сало-то услышал», — сказал я, бросив коту кусочек колбасы. Он, урча, стал грызть её. Мы выпили ещё по разу. «Вот и согрелись», — сказал я. «Да никогда я в этой луже не застревал, может, от тяжести, что двое, и провалился», — снова начал Саша. «Конечно, вдвоём-то тяжелей. Ничего, зато будет что вспомнить». — «А с вами хорошо ездить. Легко сидите, не боитесь, — проговорил вдруг Саша. — Вот шурин мой, так его клонит и туда и сюда, перепрыгается весь, неспокойно ему». Я хотел сказать Caшe, что впервые в жизни сел на мотоцикл, но почёл это лишним. Водка вскоре была выпита, старушка убрала остатки закуски, пора было спать. Саша постелил мне на сундуке под иконой, сам он спал с дочкой на кровати, бабушка с внуком улеглись на печь.
Перед сном я вышел во двор. Огромное тёмное небо стояло над деревней, яркими пригоршнями полыхали на нём звёзды. Тишина раскинулась во всю ширь. В курятнике вдруг закопошились куры, послышалось приглушённое прикудахтывание, тут же умолкшее. Стайка словно в ответ задышала, затёрлась, но тоже на миг. Избы темнели, темно пропадал лес вдали. Я вернулся в комнату.
Утром я встал рано. Саша с детьми ещё спал, но старушка уже шуршала по избе и позвякивала ухватами и горшками.
Я быстро собрался и пошёл по избам страховать. Деревня оказалась совсем невелика, урожай мой был скуден. Радовал только светлый чистый день. Запомнилась по-настоящему мне лишь высокая прямая седая старуха, которая просила застраховать дом. Рядом сгорел её сосед, он с горя на изменившую ему жену напился вдрызг и валялся среди стаканов и окурков уже под столом, когда один из окурков разгорелся, и от него пошло по всей избе. Дело было поздно, дом выгорел начисто, сам хозяин едва выбрался и отполз к чужой изгороди, благо ветра не было. Протрезвев, он убрался совсем из Петропавловки и не подавал вестей. А старухе теперь каждую ночь снилось пламя. «Да такое большое, — с испугом говорила она, — как забудусь, пламя шумит — беда! Хоть застраховать от греха». Пройдя ещё пару изб, я повернул назад. Вечером через Петропавловку шёл автобус на Курагино, у меня оставалось ещё часа три. Я вернулся к Саше. Он уже возился в столярке, малыш его бегал по двору, кругом разгуливали куры под началом петуха, из стайки слышалось хрюканье. «Вот столярничаю, — сказал Саша, — буфет видел в избе? Сам сделал». — «А где научился?» — спросил я Сашу (мы после вчерашней водки стали на «ты»). «Да нигде, меня отец научил, он столяр был, и дед столярничал ещё там, в Коми». — «Хорошо научили они тебя — буфет отличный», — сказал я. «Да я и людям делаю, пенсия-то маленькая, а жена в овощеводческой бригаде, там с трудоднями слабо. Пошли обедать». Я не отказался. На этот раз старушка сварила похлёбку на солонине, но сытную и острую. «Это я по-нашему, по-пермяцки, — ответила она мне на похвалу. — Молодые-то и забыли всё, и говорить-то не говорят, и писать не знают по-нашему. Вот письмо пришло оттуда, а они и прочесть не могут». Она вынула из божницы и показала мне письмо, мелкая колючая вязь которого сразу обвеяла меня чем-то далёким, загадочным и грустным.
Поев, мы с Сашей пересели на диван. «Вот и столярничаю, и мотоцикл лажу, ещё с коляской есть», — начал опять Саша. Ему, видно, хотелось одобрения или просто понимания. Выброшенный несчастным падением из обычной жизни деревни, он словно бы утверждал себя. «Так это же замечательно, — сказал я, — ты самородок». — «А вот смотри, видишь — что это?» — Саша достал старый журнал «Наука и жизнь» и, развернув, показал мне снимок. «Вижу, вижу, это падающая башня в Пизе». — «Да, я давно о ней думаю. Итальянцы конкурс объявили по всему миру — кто даст проект её спасения». — «Я знаю». — «И никто не догадывается, как это просто». — «Как же? — спросил я. — Неужели ты догадался?» — «Попробовал», — улыбнулся Саша. «Ну расскажи, расскажи», — просил я. «Да надо изнутри сделать подкоп, поставить сваи и залить бетоном, и будет держать до потопа». — «Действительно просто, — удивился я, — ты хоть послал свой проект куда-нибудь?» — «Послал, — вздохнул Саша. — В «Науку и жизнь». Но ответили, что Италия прекратила приём зарубежных проектов, принимает только итальянские. Вот и вся недолга». — «Жаль, очень жаль», — только и ответил я. «Да ничего, — махнул он рукой. — Бог с ним. Я вот всё хлопочу, чтоб мумиё достать, говорят, помогает от диабета лучше всего. Обещали из Киргизии привезти. Животные-то вылечиваются им, бродят в горах и лижут его, а мумиё — это же слёзы камней, оно миллионы лет скапливается и висит где-нибудь в скалах. И не достать бывает». — «Ты знаешь, Саша, у нас с женой есть подруга в Москве, у неё друзья альпинисты. Мы спросим у неё, может, она нам пришлёт, если добудет. Она такая, что пришлёт». — «Хорошо бы», — сказал Саша. Надо было мне уезжать. Мы распрощались, я поблагодарил Сашу и его мать за гостеприимство. Они звали в гости в следующий приезд. «Надя будет, — говорил Саша, — всё путём сделаем». Я уехал.
В сентябре опять подошли сроки страховки в Петропавловке, и я решил из Черемшанки заехать туда. В этот раз со мной была жена. Её подруга откликнулась на нашу просьбу и прислала мумиё.
Среди бела дня жёлтым осенним лесом, просторным и лёгким, мы пошли пешком в Петропавловку. Сойка, сопровождая нас, перелетала с дерева на дерево, резким криком оповещая всех вокруг. Кругом шуршало, шелестело, золотясь, шаталось в воздухе и с лёту пикировало к ногам. А мы шли, вдыхали в себя осень, Сибирь, тишину. Я показал Лене глубокую колдобину, где мы провалились весной. Наконец, открылся скотный двор, а за ним и Сашина изба.
Мы отворили калитку. Дети сразу узнали меня и бросились навстречу. Девчушка была здорова и весела. За ними показался Саша. «Приехали, а я уж думал — забыл ты». — «Да нет, помню». — «Он о вас много рассказывал», — сказала Лена. Маленькая молодая женщина, почти девочка, вышла на наш разговор. «А вот и Надя». — «Вот тебе и на, а я думала — это старшая сестра малышей», — шутливо заговорила Лена. Разговор сразу пошёл лёгкий и открытый. Мы отдали Саше мумиё, что ещё больше расположило к нам и его, и Надю. «Ну что — поросёнка или гуся?» — обратился к нам Саша. «Да жалко: не стоило бы». — «Нет, нет, всё равно заколем. Ну, Надя, ты хозяйка, что скажешь?» — «Поросёнка и курёнка», — рубнув рукой воздух, авторитетно заявила Надя. «Лови цыплёнка», — приказал мне Саша. Я двинулся к гуляющим по двору курам. Они вначале только покосились на меня, перебормотнувшись, но едва я подошёл ближе, петух скандально, по-сумасшедшему прокричав, растопыря крылья и голенасто выкинув шпористые свои ходули, трепыхаясь, ударился прочь, а куры вслед — кто куда, заходясь в кудахтанье. Я выбрал одну и пустился за ней. Но она от меня полубегом-полулётом, клювом и крыльями вперёд, крича караул, бежала сломя голову то к калитке, то к избе, то в сторону отошедших недалеко кур, которые вместе с ней, вопя, снова начали метаться направо и налево. Уже почти схватив беглянку у огорода, я не удержал её, и она снова, судорожно возопив, ринулась прочь. Саша, к тому времени приготовивший на дворе костёр и посуду и следивший за моей охотой, в которой помогал и его сынок, срезая куре углы убега, сказал мне: «Погоди, сейчас». Он вошёл в курятник, куда от греха подальше забралось несколько кур, оттуда раздался короткий вскрик, выбежали и замелькали туда-сюда куры, и вышел Саша с добычей в руках. Кура помалкивала, косясь круглым чёрным выпуклым глазом на белый свет. Подойдя к пеньку, Саша поднял одной рукой топорик с земли и без замаха коротко чикнул по куриной шее. Голова упала на землю, ткнувшись гребешком, а тушку с открытой, как трубка, шеей, из которой капала кровь, Саша оставил на пеньке. «Зови Лену, — сказал он, — Надя в магазин ушла, скоро будет». — «А бабушка где?» — спросил я. «В Тюхтятах, у тех внуков». Лена начала ощипывать куру, а Саша, взяв нож, сел на землю около бегающих поросят, похрюкивающих и роющихся вокруг. «Сколько им?» — спросил я. «Да месяца по два». — «Может, хватит цыпленка, — сказал я, — жалко как-то». — «Вот ещё, — возразил Саша, — а на что ж их кормить?» Белый, тупорылый поросёнок, тонко хрюкая, пробегал мимо, но на полдороге Сашина рука с ножом остриём вверх, как из-под земли, очутилась под ним, и нож ударил под левую переднюю ножку и тут же вынырнул из широкой ранки. «Пусть побегает, — сказал Саша, — сам упадет». Поросёнок, слабея, тяжко дыша, стал над землёй, ножки подогнулись, он ткнулся рыльцем в землю. Видеть это было страшновато. «На то и кормим, — словно бы услышал меня Саша. — Что ж с ними ещё делать?»
Он начал разделывать поросёнка. Едва Лена опустила в кастрюлю курицу, ей уже был дан поросёнок, розовый и чистый. Саша отошёл в сторону, а я наблюдал работу Лены и подавал ей всё, что она просила, в общем, был на подхвате. Все звери двора — куры, свинья с поросятами, кот Бусик, тёлка, недавно купленная, — все подошли к Лене, совались к костру, нюхали кровь и брошенные внутренности своих собратьев, а при возможности старались утащить их. Бусик уже дрался за куриные потроха с курицей, пытавшейся у него их отнять; свинья, чавкая, пожирала что-то, отхрюкиваясь от кур и мотая рылом. Одна тёлка смотрела смирно.
Подошёл Саша, поправил костёр, отогнал животных: «А ну, брысь, ишь припёрлись, не видали вас». Появилась Надя. Обед был готов, я достал водку, привезённую с собой. «Приезжайте к нам в Ленинград, — говорили мы с Леной, — там своими глазами Исаакиевский собор увидите, он не хуже Пизанской башни. Да и не падает притом», — добавили мы. «Ох, хотелось бы, так хотелось бы, — вздохнул Саша, — да больно дорога денежная». — «Может, сделаешь пару буфетов, скопишь», — сказал я. «Да нет, не хватит. Я бы пошёл к архитекторам, показал свой проект спасения башни. Видно, всю жизнь тут прожить придётся». — «А нам здесь нравится!» — воскликнул я. «И мне», — подтвердила Лена. «Это вы здесь ненадолго, а так бы Ленинград во сне видели каждую ночь». — «Я и вижу», — призналась Лена. «Вот то-то и оно. А я Пизанскую башню часто во сне вижу, вообще Италию». Надя покачала головой: «Всегда он такой». — «Хороший», — улыбнулся я.
Обед подходил к концу. Никогда в жизни я не ел такого свежего бульона, такой нежной поросятины. Уже веяло вечером, день уходил. Дети ложились спать, разбрелись по курятникам и стайкам звери, успокаиваясь после столь жестокого и сытого для них дня. Бусик давно валялся на печи, и им можно было размахивать туда-сюда, что и делал Сашин Вовка, а кот не просыпался и даже глаз не открывал. Легли спать и мы после долгих пререканий — кому на кровати: хозяева укладывали нас, а мы их, в конце концов, они настояли на своём и сами улеглись на полу.
Утром надо было уезжать. «Пишите нам, — говорили мы с Леной, — и приезжайте в Ленинград». — «Может, когда и сможем», — кивал головой Саша. Мы уехали.
Через несколько месяцев в декабре кончилась моя ссылка. Ленинград превратился в явь. От Саши и Нади писем не было, но в следующем году наша бывшая хозяйка тётя Надя, с которой мы изредка переписывались, сообщила, что Саша умер, доконал его диабет. Жена его, Надя, нам так и не написала. Единственное, что я могу сделать сейчас для Саши — рассказать о нём что запомнил.
Жаль, что не помогло ему мумиё.
1978
Стрелы огненные
(В.Ходасевич и Н.Берберова)
Не верю в красоту земную И здешней правды не хочу, И ту, которую целую, Простому счастью не учу. По нежной коже человечьей Мой нож проводит алый жгут: Пусть мной целованные плечи Опять крылами прорастут. 27 марта 1922 г.«Пока мы были в Москве, в Союзе писателей на Тверском бульваре был литературный вечер, и там Ходасевич читал свои новые стихи («Не верю в красоту земную», «Покрова Майи потаённой», «Улика», «Странник прошёл») — стихи о любви, и Гершензон, и Зайцев, и Лидин, и Липскеров, и другие (не говоря уже о брате «Мише» и его дочери, Валентине Ходасевич, художнице) с нескрываемым любопытством смотрели на меня» (Нина Берберова «Курсив мой»).
Это была удивительная любовь — удивительная и для неё и для него. Она, только что отвергнувшая Гумилёва, молодая, пробующая перо, и где — среди лучших поэтов, среди страшных времён, среди «окаянных», по Бунину, дней, и он — поэт, мастер, в эти дни, в эти времена в «божьи бездны соскользнувший».
«Все слушали стихи мои» — эти страшные дни, эти тёмные годы для его поэзии вершинные, его строки сияют, как никогда. Он едва выбрался из болезни, голода, нищеты, а пожалуй, ещё и в них, как в болоте, но стихи рождаются, великие стихи России, великие стихи тех дней. И вот эта встреча… Но свела их поэзия, и под её причудливым звонким знаком жила их любовь.
«Мне запомнился вечер в понедельник 21-го ноября. Из Зубовского (Институт истории искусств — А.Б.) я пришла в Дом искусств в класс К.И.Чуковского и там, как и все, читала «по кругу» стихи». «Я пригласила Анну Андреевну, — говорила Ида (Наппельбаум, поэтесса, дочь фотохудожника, на квартире которой проходили литературные понедельники). — И я встретилa Ходасевича. Он тоже обещал прийти».
«Эта фамилия, — пишет Берберова, — мне ничего не сказала, или очень мало. Поздно ночью, когда мы шли домой, (Чуковский (Николай, сын Корнея Чуковского) — А.Б.) жил на Спасской, и нам было по пути) он говорил мне, размахивая руками: «Голубушка! Вас сегодня похвалили! Как я рад за Вас! Папа похвалил сначала. А теперь — Владислав Фелицианович. Замечательно это! Какой чудный день!» (Ида шепнула мне, когда я уходила: «Сегодня твой день»).
Там, сидя на полу, я «по кругу» читала:
Тазы, кувшины расписные Под тёплым краном сполосну, И волосы, ещё сырые, У дымной печки заверну. И буду девочкой весёлой Ходить с заложенной косой, Ведро носить с водой тяжёлой, Мести уродливой метлой.И так далее. Так, что даже Ахматова благосклонно улыбнулась (и надписала мне экземпляр «Анно Домини»), впрочем, ничего не сказав, а некто, которого почему-то звали «Фелициановичем», объявил, что насчёт ведра и швабры — простите, метлы — ему понравилось. Ну а если бы нет? — думала я — Если бы ни этот Фелицианович, ни Корней Чуковский не похвалили бы меня? Тогда что? Ничего не изменилось бы всё равно! У Ходасевича были длинные волосы, прямые, чёрные, подстриженные в скобку, и он сам читал «Лиду», «Вакха», «Элегию» в тот вечер. Про «Элегию» он сказал, что она ещё не совсем кончена. «Элегия» поразила меня. Я достала его книги «Путём зерна» и «Счастливый домик». 23-го декабря он опять был у Иды и читал «Балладу». Не я одна потрясена этими стихами. О них много тогда говорили в Петербурге. Но кто был он? По возрасту он мог принадлежать к Цеху, к «гиперборейцам» (Гумилёву, Ахматовой, Мандельштаму), но он к ним не принадлежал. Ходасевич был совершенно другой породы, даже его русский язык был иным. Кормилица Елена Кузина недаром выкормила этого полуполяка. С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем — и может быть, насмерть. Сейчас, сорок лет спустя, «наше время» имеет другие обертоны, чем оно имело в годы моей молодости, тогда это было: крушение старой России, военный коммунизм, НЭП как уступка революции мещанству, в литературе — конец символизма, напор футуризма, через футуризм — напор политики в искусство. Фигура Ходасевича появилась передо мной на фоне всего этого, как бы целиком вписанная «в холод и мрак грядущих дней».
Итак, она встретила Поэта. Кого же встретил он? Как тут ответить? Он встретил свою последнюю любовь — вот, пожалуй, точный ответ. Но он, поэт, заранее предчувствовал всё. Вот отрывок из его письма к А.И.Ходасевич (брошенной жене):
«Офелия гибла и пела» — кто не гибнет, тот не поёт. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернёт меня. Я зову с собой — погибать. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль её. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то просится на дорожку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают». (от 3-го февраля 1922 года).
Да, он понимал всё, предчувствовал. Но что это меняло? Любовь вела своими путями. Зима 1921–1922 года зябкими созвездиями осеняла их.
«Был один вечер, ясный и звёздный, когда снег хрустел и блестел, и мы оба — Ходасевич и я — торопились мимо Михайловского театра куда-то, а в сквере почему-то устанавливали большие прожектора, в лучах которых клубилось наше дыхание, перекрещивались лучи, словно проходили сквозь нас, вдруг освещая в ночном морозном воздухе наши счастливые лица — почему счастливые? Да, уже тогда счастливые».
Берберова пишет далее: «Он (Ходасевич — А.Б.) видел меня далеко-далеко, когда поджидал мой приход, различая меня среди других на широком тротуаре Невского, или следил за мной, когда я уходила от него: поздним вечером — чёрной точкой, исчезающей среди прохожих, глубокой ночью — тающим силуэтом, ранним утром — делающей ему последний взмах рукой с угла Екатерининского канала. Несмотря на свои тридцать пять лет как он был ещё молод в тот год!». И опять «Курсив мой»: «Перемена в наших отношениях связалась для меня со встречей 1922-го года». Выразительно рассказав об этой встрече в Доме Литераторов, Берберова пишет в конце: «На рассвете он провожает меня домой с Мойки на Кирочную, и в воротах дома мы стоим несколько минут. Его лицо близко от моего лица, и моя рука в его руке. И в эти секунды какая-то связь возникает между нами, с каждым часом она будет делаться всё сильней».
Это важное признание. Период благоговения, нечто от обожания гимназистки недосягаемого учителя уже позади, это уже совместность и равность чувств и переживаний. Хотя, конечно, совместность была, но равность… Может, в иные мгновения и она была, но только в иные мгновения. Он полюбил навсегда. Она полюбила сейчас. Но они этого не знали. Только могли догадываться. Вот тогда-то и появились стихи «Не верю в красоту земную», тогда-то и окружающие стали замечать что-то.
Вот свидетельства Николая Чуковского, ровесника Нины Берберовой, как и она, начинающего поэта:
«Я был так далёк от мысли, что между Ходасевичем и Ниной может быть роман, что заметил его, вероятно, до смешного поздно. Нину познакомил с Ходасевичем я, и ходила она к нему вместе со мной. И когда я кое о чём стал догадываться, я испытал неприятное чувство. То, что Ходасевич влюбился в Нину, мне казалось ещё более или менее естественным. Но как Нина могла влюбиться в Ходасевича, я понять не мог».
Далее Чуковский продолжает всячески недоумевать по этому поводу. Ему, мальчишке, в сущности, казалось диким, что не очень молодой, не слишком красивый, болезненный человек оказался любим юной красивой девушкой. Да и где ему было понять, что он знал в эти годы о странностях сердца человеческого, а женского в особенности, говоря словами Лермонтова, который, впрочем, сказал эти слова в молодости. Но то был Лермонтов. Николай Чуковский ещё и ревновал Берберову, хотя в мемуарах своих в этом не признается, что вполне простительно.
Тем ценней свидетельство очевидца: «Тайный их роман, о котором вначале знал только я, развивался так пылко и бурно, что, разумеется, скоро о нём догадались многие. Нина вся как-то одурела от счастья, Ходасевич посветлел, подобрел, и очки его поблескивали куда бойче и веселей, чем раньше. Он на несколько месяцев спрятал свой трагизм и даже временно стал относиться к мирозданию значительно лучше. Впрочем, счастье его было не безоблачным. Он самым жалким образом боялся своей Анны Ивановны. Она, как водится, долго ничего не подозревала, и он смертельно страшился, как бы она не догадалась. В начале лета он вместе с ней и пасынком уехал куда-то на дачу, и тут ему и Нине понадобился я. Через меня шла вся их тайная переписка. Ходасевич надписывал конверт на моё имя, и я, получив письмо, нёс его, не вскрывая к Нине, на улицу Рылеева. Нинины ответы посылались в конвертах, надписанных моей рукой. В середине лета Ходасевич сбежал с дачи, явился к Нине и увёз её в какую-то глухую деревню на берегу Ладожского озера. В страхе перед Анной Ивановной он обставил этот побег так, что кроме меня ни один человек на свете не знал, где он находится. В течение полутора месяцев я служил им единственной связью с внешним миром. Свои обязанности поверенного и друга я исполнял честно и с увлечением. Они оба платили мне пылкими выражениями дружбы и благодарности. Вернувшись в город, он немедленно связался с Горьким и с помощью Горького стал поспешно хлопотать об отъезде за границу. В конце 1922 года он уехал в Берлин вместе с Ниной».
Так видели некоторые современники эту любовь. Надежда Мандельштам тоже кольнула Ходасевича в своих воспоминаниях. Поведение его по отношению к Анне Ивановне, преданно выхаживающей его, меняющей ему повязки во время заболевания фурункулёзом, любившей его по-настоящему, вызывало, конечно, протест, но что люди знают о любви, ослепляющей душу? И всегда ли она, такая любовь, в ладах с моралью и даже, увы, с человечностью? Безумство любви — это не метафора, это констатация того, что происходит. Можно сколько угодно обвинять Ходасевича, но какой в этом смысл? Да и кто вправе судить? А речь ведь идёт притом о поэте, одном из лучших русских поэтов. Что он мог поделать с собой, он, сам назвавший встречу с Ниной, хотя и шутя, катастрофой. Но банальность сентенции о доле правды в каждой шутке не отменяет, однако, и точности этой банальности. Да, катастрофа, ибо рушилось прошлое, а разрушение — всегда катастрофа, но и счастье, которое было подарено ему судьбой.
Предоставим слово Анне Ивановне, которую мы уже упоминали. Это будет не последний разговор с ней, но сейчас о том, что происходило в 1922 году. В кратких воспоминаниях Анны Ивановны рассказ об этом периоде начинается так: «В 1921 году в стенах Дома искусств появилась начинающая поэтесса Нина Берберова. Молодая, с типично армянской наружностью». Затем Анна Ивановна пишет, что друзья намекали ей, что Владя увлечён Берберовой. «Но я этому мало верила, так как за одиннадцать лет нашей совместной жизни мы ничего не скрывали друг от друга. Через месяц я вернулась из санатория днём. Влади не было дома, но на столе стояла бутылка вина и корзиночки из-под пирожных. Когда пришёл Владя, я спросила: «С кем ты пил вчера вино?» Он сказал: «С Берберовой». С тех пор наша жизнь перевернулась. Владя то плакал, то кричал, то молился и просил прощения, и я тоже плакала. У него были такие истерики, что соседи рекомендовали поместить его в нервную лечебницу. Я позвала невропатолога, который признал его нервнобольным и сказал, что ему нельзя ни в чём противоречить, иначе может кончиться плохо. Временами он проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если он не видел её дня два-три, то кричал и плакал. И я сама отправлялась к Берберовой, чтобы привести её к нам для его успокоения». Далее Анна Ивановна рассказывает о том, как Ходасевич обманул её, говоря, что скоро вернётся из поездки в Москву по делам, но весточку от него она получила уже с дороги за границу, куда он уехал вместе с Берберовой. Отдадим должное благородству и высокому сердцу Анны Ивановны Чулковой. Ходасевич бросил её больную туберкулёзом (она и в санатории была туберкулёзном), без работы, без денег и с «ужасными душевными страданиями». Письмо Ходасевича с дороги начиналось так: «Моя вина перед тобой так велика, что я не смею просить прощения». Что ж тут скажешь? Нечего сказать. Ходасевич и Берберова покинули Россию или вернее, совдепию. Впереди была чужбина.
Пока наши герои пересекают границу прошлого и будущего, родины и чужбины, расскажем о них до «стрел огненных», до катастрофы. Расскажем о прошлом, чтобы потом вернуться к будущему, которое неуклонно и неопровержимо вырастает каждый миг из настоящего.
Сперва о нём, о Поэте. Владислав Фелицианович Ходасевич родился 16 (28) мая 1886 года в Москве. Отец его был сыном польского дворянина (одной геральдической ветви с Мицкевичем), бегавшего «до лясу» в 1833 году, во время польского восстания. Дворянство у него было отнято, земли и имущество тоже. Отец Владислава мечтал о живописи, учился в Академии художеств, но его постигло разочарование, и он занялся фотографией. Между прочим, фотографировал семью Льва Толстого. Что-то воплотилось в поэзии сына — и живописной, и остро-фотографичной одновременно. Мать была дочерью известного в конце ХIХ века выкреста Я.А.Бравмана, хулившего религию отцов — иудаизм на радость черносотенцам, чьим духовным братом он отныне сделался. Но Софья Яковлевна, мать Владислава, воспитывалась в польской семье и стала католичкой, что передалось и младшему сыну, будущему поэту.
Ходасевич писал в конце жизни: «По утрам, после чая, мать уводила меня в свою комнату. Там над кроватью висел в золотой раме образ Божьей Матери Острофамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал «Отче наш», потом Богородицу, потом «Верую». Потом мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи. То было начало «Пана Тадеуша» (Нина Берберова «Памяти Ходасевича»).
Однако этот полуполяк-полуеврей стал истинно русским поэтом, чьи строки — неотъемлемая часть русской поэзии. Недаром тульская крестьянка Елена Кузина вскормила его, и ей посвящено замечательное стихотворение «Не матерью, но тульскою крестьянкой». С детства Владя любил балет и даже мечтал о карьере танцовщика, но помешало слабое здоровье. Стихи он начал сочинять рано. Так случилось, что он попал в Третью московскую гимназию, в один класс с Александром Брюсовым, братом знаменитого уже в те годы Валерия Брюсова. Тогда же подружился он с Виктором Гофманом, известным впоследствии поэтом. Так Ходасевич попал в окружение символистов, можно сказать, с младых ногтей.
Однако вернёмся к хронологии жизни Владислава Фелициановича, ибо наш предмет настолько же поэзия, насколько и жизнь поэта.
Окончив гимназию, Ходасевич поступил в Московский университет сначала на юридический, но затем, совершенно естественно, перевелся на историко-филологический. Уже тогда было ясно, что главное — поэзия. И вот — первая любовь. В 1905 году Ходасевич женится на одной из первых московских красавиц — Марине Рындиной — молодой богачке, своевольной и взбалмошной. Вот уж удивлялись люди (николаи чуковские тех дней) — некрасивый, болезненный, начинающий поэт — и красавица из красавиц, Наталья Гончарова начала ХХ века, да ведь Ходасевич в 19 лет — не Пушкин в зените славы… Но такова судьба этого удивительного человека — в него влюблялись прекрасные женщины (и Анна Ивановна Чулкова тоже ведь была хороша собой), не только слово повиновалось ему, как змея заклинателю (перефразируя строки Ахматовой о Лермонтове), но и души женские. Ей, Марине, посвящен первый сборник стихов «Молодость», ещё наивный, подражательный, от которого поэт, как и от следующего «Счастливого домика», впоследствии отказывается (а кстати, «Счастливый домик» был посвящен Анне Ивановне). И первая, и вторая любовь оказались не настоящими, как и сборники стихов, им посвященные. Поэзия и любовь у него были связаны общим кровообращением. И настоящие стихи пришли с настоящей любовью (на несколько лет раньше любви, но так ли это важно?).
С Мариной Ходасевич пробыл недолго — всего два года, уже в 1907 году она бросила его, уйдя к С.К.Маковскому, поэту и искусствоведу. Ходасевич переживал разрыв с ней тяжко, зарубка на сердце осталась навсегда. Да и жизнь была трудной — литературная подёнщина, переводы, журналистская работа.
1910–1911 годы проходят под знаком «царевны» — Е.В.Муратовой — разведённой жены автора «Образов Италии» Павла Муратова. Ей посвящены блестящие венецианские строки из второй баллады («Мне невозможно быть собой»). Но уже в конце 1911 года начинается любовь с Анной Ивановной Чулковой, младшей сестрой писателя Г.И.Чулкова. Это была любовь-дружба, что так согревает и помогает в жизни, но не всегда, видно, насыщает душу. По крайней мере, в случае Ходасевича. Пожалуй, он разлюбил уже Анну Ивановну ко времени встречи с Берберовой, а благодарность — она не заменяет любви, хотя жертвенные натуры порой способны предпочесть её любви. Но не таков был Ходасевич, да и кто из поэтов? Что-то никто не приходит на ум.
Вот письмо Г.И.Чулкова сестре — Анне Ивановне от 6-го июня 1922 года:
«Милая Нюра!
Твоё невесёлое письмо мы получили. Я очень понимаю, что у тебя есть причины для печали и мне очень тяжело сознавать это, но всё это для меня не является неожиданностью. Это можно было б предвидеть с первых же дней вашего союза, т. е. твоего и Владислава Фелициановича. Кто из вас виноват больше — не берусь судить. Но сама ты говорила, что уже несколько лет вы не живёте, как муж с женой. А если так, зачем же преувеличивать несчастье? Я убедился, что Владислав Фелицианович изрядно противоречит сам себе и уклоняется от простой правды. Я бы на твоём месте плюнул бы на всякие истерики и трезво подумал о том, как почище и складнее устроить свою жизнь…»
А вот свидетельство самой Анны Ивановны от 2 декабря 1911 года — Н.Я.Брюсовой, сестре Валерия и Александра, бывшего мужа Чулковой. Анна Ивановна пишет о Ходасевиче:
«Мы давно были очень дружны… А вот как пришла и когда пришла любовь — не знаю. Знаю, что люблю Владю очень, как человека, и он меня тоже. Нет у него понятия о женщине как о чём-то низшем, и благодаря этому всё гораздо проще и понятней… Кроме того, помогаю Владе — выписываю ему стихи для какого-то сборника… Знаешь, даже согрешила сама: написала два стихотворения, конечно, очень нескладно. Ещё новость: научилась любить небо. Это большое счастье».
А вот что писал Ходасевич в день смерти отца своей приятельнице Н.И.Петровской:
«Ныне под кровом моим обитает ещё одно существо человеческое. Если ещё не знаете, кто — дивитесь: Нюра… Милая Нина! Я — великий сплетник. Но молчал о словах, которые слышал целых полтора года. Во дни больших терзательств мне повторяли их снова — и стало жить потеплее. Тогда я сдался. Вы хорошо сказали однажды: женщина должна быть добрая. Ну вот, со мной очень просто добры и нежны. По человечески, не по-декадентски! Ныне живу, тружусь и благословляю судьбу за мирные дни».
Но эти мирные дни в 1921 году были позади. Берберова была уже в Петербурге.
И теперь о Берберовой.
Берберова пишет, что её дед со стороны матери «принадлежал к вольнолюбивому тверскому земству, а лицом был совершенный татарин». В дальнейшем она документально подтверждает принадлежность материнского рода к татарам, что, впрочем, в России далеко не редкость. Фамилия матери была Караулова.
Дед же Берберовой со стороны отца был потомком армян, давно уже живших в России, в Крыму. Потом они перебрались в Ростов. Отец Берберовой учился в Москве. Красоту Нина унаследовала от него — большие чёрные глаза, тонкие черты лица.
Девочкой Нина росла своевольной, совсем не церковной, очень наблюдательной и приметливой. Память у неё с детства была блестящая. И думать она тоже умела уже с детства. Кроме того, она очень рано поняла ценность и необходимость одиночества. Это была сильная личность — многие романтические милые обманы мира она отринула очень рано. Такие люди рождаются для великих порой дел, но в обыденной жизни могут быть жестоки и безжалостны. Зато они честны, они не скрывают, не прячут себя. Всё это важно знать читателю, ибо в дальнейшем отношения Ходасевича и Берберовой и развивались под знаком её душевного Зодиака, любовь её не переменила.
Стихи пришли к ней в юности и, как у многих начинающих, первой любовью был Лермонтов. Потом гимназия, Уайльд и Метерлинк, Гамсун и Ибсен, Бодлер и Ницше, Анненский и Тютчев. И наконец, символисты, и на счастье, ей явились они не в книгах только, она — современница Серебряного века, вошла в него, как в родной дом. И встретила в этом доме Ходасевича.
Итак, впереди была чужбина. Здесь необходимо широко процитировать Берберову. То, что она пишет в «Курсиве», очень важно для понимания причин её и Ходасевича отъезда за границу и конечно, их отношений в то время.
«Ходасевич принял решение выехать из России, но, конечно, не предвидел тогда, что уезжает навсегда. Он сделал свой выбор, но только через несколько лет сделал второй: не возвращаться. Я следовала за ним. Если бы мы не встретились и не решили тогда «быть вместе» и «уцелеть», он, несомненно, остался бы в России — нет никакой даже самой малой вероятности, чтобы он легально выехал за границу один. Он, вероятно, был бы выслан в конце лета 1922 года в Берлин вместе с группой Бердяева, Кусковой, Евреинова, профессоров: его имя, как мы узнали позже, было в списке высылаемых. Я, само собой разумеется, осталась бы в Петербурге. Сделав свой выбор за себя и меня, он сделал так, что мы оказались вместе и уцелели, то есть уцелели от террора тридцатых годов, в котором почти наверное погибли бы. Мой выбор был он, и моё решение было идти за ним. Можно сказать теперь, что мы спасли друг друга».
Это очень важные слова. Можно сколько угодно доказывать, что да, трезвый расчёт и логика диктовали тот же выход, что спасаться надо было всей мыслящей, творческой России, потому что большевизм — это смерть или рабство, но люди часто так слабы, нерешительны. Так влекут фантомы собственной мифологии, и кто может им противостоять? И любовь, как некая внешняя сила, как и в самом деле, смерч, ураган, схватила их и унесла в другую землю, под другое небо. И спасла их, хотя нелегким было это спасение. Разлука с родиной, для поэта особенно, кровоточаще мучительна. Он теряет язык, что бы там ни говорили апологеты эмиграции. Да, страдание ностальгии рождает великую поэзию, музыку, живопись. И в случае Ходасевича так было. И в случае Мицкевича и Словацкого, Байрона и Шелли, и конечно, Цветаевой и Георгия Иванова, и Набокова, и наконец, Бродского. Но не эмиграция рождает поэта. Тут другое. Бердяев однажды написал: «Обогащает не самое зло, обогащает та духовная сила, которая пробуждается для преодоления зла». Вот этой силе мы обязаны «Европейской ночью», но зло, о котором говорил Бердяев, всё же заставило замолчать великого поэта за десять лет до смерти — представить подобный вариант у Пушкина, Пастернака — всё лучшее ими создано в последние 10–25 лет — ужасно даже подумать об этом. Но случилось то, что случилось. Ходасевич и Берберова покинули Россию.
Первым городом за границей, где остановились наши герои, был Берлин. Здесь поначалу было много русских эмигрантов. Берберова перечисляет массу фамилий — среди них В.Шкловский, Нина Петровская и поэт Минский — не только Серебряный век, но и осколки ХIХ века. Ближе всего к Ходасевичу и Берберовой — Андрей Белый, но мелькают имена и Цветаевой, и Эренбурга, и Зайцева, и Муратова, и многих других. Теперь влюблённым не надо скрывать своих отношений — потерянным, неустроенным, лихорадочно мятущимся людям не до них в чужой стране, в чужом, тяжко-огромном городе, «мачехе российских городов».
Ходасевичу и здесь пишется. Рождаются стихи «Европейской ночи» — «С берлинской улицы вверху луна видна», «Берлинское». Язык жёсток, как дантовский «чёрствый хлеб изгнания», точность убедительна, как слова умирающего, Нет, и не было в русской поэзии подобной точности, подобной горечи, подобной жёсткости. Ни пафоса, ни плача, ни полутона — интонация выразительна, как взгляд летящего в бездну, — взгляд, а не крик. Одиночество, отчаяние — и ни слова о любви. Но что же говорить о любви, если она здесь, рядом, если она держит тебя за руку, если она шепчет тебе в ответ твои же слова… Счастливая любовь не рождает стихов — таково её свойство. В конце жизни, как я уже говорил, Ходасевич почти не писал стихов. Но всё-таки несколько строк вырвалось у него и среди них стихи о любви к ней — Берберовой уже после разлуки: «Нет, не шотландской королевой» и ещё одно полушуточное, но такое грустное «К Лиле». Горькую цену пришлось заплатить за эти стихи. Но не будем забегать вперёд.
Итак, жизнь за границей. Чужие стены, чужой воздух. Но кругом ещё пока много близких, милых лиц, звучит родная русская речь, и в чьих устах — Андрея Белого, Муратова, Горького.
Здесь мы должны идти по следам Берберовой, её замечательно талантливый путеводитель крестного пути эмиграции «Курсив мой» ведёт безошибочно. Она рассказывает об А.Белом, мы видим этого как бы танцующего безумный свой танец жизни и судьбы гениального человека. А вот о других. Я цитирую:
«Летом 1923 года он (А.Белый — А.Б.) приезжал в приморское местечко Преров, где жили Зайцевы, Бердяев, Муратов и мы. Шёл дождь. Мы играли в шахматы с Муратовым и вели долгие разговоры, потом топили печку, ходили гулять на берег Балтийского моря в плащах. Под ветром и дождём, вечером смотрели в кино «Доктора Марбург». У Зайцевых, как всегда, было светло, тепло и оживлённо, с тяжёлой тростью Н.А.Бердяев выходил на свою ежедневную прогулку в дюны».
Быт ещё не мучает, не продавливает душу, дух воистину дышит, где хочет. А Германия начала 20-х для русской эмиграции пока ещё гостеприимна. Ходасевич и Берберова вместе, их любовь как бы легализована, признана окружающими. У неё рождаются стихи. Она слышит, как шумит ей в уши не только Балтийское море, нет, Серебряный век, спасшийся от большевистского потопа на клочке Европы, шумит вокруг! Как она всё запомнила!
Вот одна из её блистательных зарисовок:
«Более светскими местами были те кафе, где играл струнный оркестр и качались пары, где у входа колебались, окружённые мошкарой, цветные фонарики, под зеленью берлинских улиц. Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотц штрассе. Все мы — бессонные русские — иногда по утрам бродим по этим улицам…»
Но мучительность бытия (не быта пока ещё — бытия человеческого) порою ломилась в дверь. Вот в гостях у них Нина Петровская, брошенная возлюбленная В.Брюсова, давний друг Ходасевича, так сильно воссозданная им в «Некрополе», воистину жертва декадентства как способа жизни, «бедная Нина», наркоманка, алкоголичка, вся поглощённая своим прошлым. Берберова пишет: «Ночью она не могла спать, ей нужно было ещё и ворошить прошлое. Ходасевич сидел с ней в первой, так называемой «моей» комнате. Я укладывалась спать в его комнате, на диване. Измученный разговорами, курением, одуревший от её пьяных глаз и кодеинового бреда, он приходил под утро, ложился около меня замерзший (ночью центрального отопления не было), усталый, сам полубольной». И дальше: «Просматривая записи Ходасевича 1922–1923 годов, я вижу, что целыми днями, а особенно вечерами, мы были на людях». Я думаю, не только они — Ходасевич с Берберовой, но все почти эмигранты тогда были на людях — волны чужбины окружали, но свой круг спасал, был маленькой, но живой, подлинной Россией.
Какое-то время наши герои провели в гостях у Горького, с которым дружил Ходасевич, в Херингодорфе на берегу Балтийского моря, а позже на Капри (воспоминания Берберовой дополняет знаменитый очерк Ходасевича о Горьком). Может быть, это была для Берберовой и Ходасевича не самая романтичная и трепетная пора их любви, но несомненно, самая насыщенная впечатлениями духовными, литературными, незабываемыми.
Берберова рассказывает о поездке в Венецию, «где я (пишет она — А.Б.) сначала подавлена, а потом вознесена увиденным. Я только частично участвую в его переживаниях, я знаю, что он сейчас смешивает меня с кем-то прежним, а позже такие строчки, как
Пугливо голуби неслись От ног возлюбленной моей,мне будет естественно делить с его возлюбленной (Женей Муратовой) 1911 года. У меня, тем не менее, отчетливое сознание, что «моё», и что не «моё». Его молодость не моя. Для меня и своё-то прошлое никогда не стоит настоящего, он же захвачен тем, что было здесь тринадцать лет тому назад (и что отражено в стихах его второго сборника «Счастливый домик»), и ходит искать следы прежних теней, водит и меня искать их. И мне становятся они дороги, потому что они — его, но я не вполне понимаю его: если всё это уже было им «выжато» в стихи, то почему оно ещё волнует его, действует на него?» Очень важные слова. Здесь и разгадка во многом того, что произойдёт в дальнейшем, а произойдёт расставание, Берберова уйдёт от Ходасевича, ибо прошлое для неё «никогда не стоит настоящего», хотя бы там, в прошлом, был Ходасевич. А в настоящем — увы, но не будем забегать вперёд.
После поездки в Италию, после венецианской сказки и римских походов с Муратовым они оседают в Париже. Париж для них всё-таки будни, наступает подлинный эмигрантский быт, и только творчество, любовь преображают его в бытиё. «Поселили нас с Ходасевичем на седьмом этаже, в так называемой комнате для прислуги, под крышей, всю комнату занимала огромная не двуспальная, а трёхспальная кровать. В окна была видна Эйфелева башня и сумрачное парижское небо, серо-чёрное. Внизу шли угрюмые, дымные поезда (тогда ещё существовала там железная дорога). На следующий вечер был балет в театре Шан-в-Элизе. Потом ночь на Монмартре. А на следующий день я нашла квартиру, вернее, комнату с крошечной кухней, на бульваре Распай. Почти наискось от «Ротонды». Там, в этой квартире, мы прожили четыре месяца. Ходасевич целыми днями лежал на кровати, а я сидела на кухне и смотрела в окно».
Я так подробно цитирую «Курсив мой» потому что то, о чём пишет Берберова, напоминает древнегреческие силлогизмы, а их нельзя пересказывать. Быт не бытие — словно говорит она, чувствуете, как любовь уходит, уходит, как волна, но песок ещё влажен, влажен и пахнет морем. Ловите этот запах, впитывайте его, ибо он исчезнет, ночь поглотит его, а новый день почти забудет о нём. Париж, Париж…
«Мы с ним (Ходасевичем — А.Б.) ходим по городу. Лето. Жарко. Деваться некуда. Мы ходим вечерами или даже ночами, когда город медленно остывает, затихает… Вдвоём и в одиночку мы бродим». Берберова роняет важное признание: «Слишком сильно надавила на меня внезапная наша бедность».
Момент и вправду был трудный. 1924 год. Россия для них закрыта. Там большевистская власть всё сильнее и тюремнее. Ходасевичу обратной дороги нет. Берберова пишет о тех отчаянных днях: «Ходасевич, измождённый бессонницей, не находящий себе места: «Здесь не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу, не могу жить и писать». Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный «личный» или «частный» ад вокруг себя, и как тянет меня в этот ад, и я доверчиво шла за ним… Я леденею от мысли, что вот, наконец, нашлось что-то, что сильнее и меня и всех нас. Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России — и умоляет меня умереть вместе с ним».
Страшные слова, страшные признания. «Сильна, как смерть, любовь», но и смерть сильна, как любовь. Кто кого пересилит. Можно понять Берберову — более слабая женщина могла поддаться мольбам любимого, и что тогда? Берберова сама пишет, что у неё «чугунное нутро». Слава Богу, оно их спасло в тот раз. Потом — иначе. Но сейчас — опять слово Берберовой.
«Окончательно переезжаем мы в Париж в апреле 1925 года. Теперь он смирился… Он знает, что у него нет выбора, ехать больше некуда и, значит, все задачи сами собой разрешены: надо жить здесь, надо жить, надо. И нет нам другой дороги, как в тесный и грязноватый Притти — отель на улице Амели, не раз с тех пор описанный в мемуарах иностранной богемы — в частности, в одной из книг Генри Миллера. Тут мы начинаем нашу жизнь в Париже. Тут мы получаем документ «апатридов», людей без родины, не имеющих права работать на жалованье, принадлежать к пролетариям и служащим, имеющим место и постоянный заработок. Мы можем работать только «свободно», как люди свободных профессий, то есть сдельно, такое нам ставят клеймо. Тут мы научаемся делить один артишокный листик на двоих, делить пополам каждую заработанную копейку, делить обиды, делить бессонницы… В электрической кастрюле можно было вскипятить воду для трёх чашек чая, и среди ночи, когда не спалось, мы пили чай, сидя на кровати рядом, и опять не спали, говорили без конца, что-то решали и всё не могли решить (а жизнь каждое утро принималась решать за нас). Иногда он плакал, ломал руки, и я пугалась настоящего, а о будущем в те ночи и не думала: какая это роскошь — думать о будущем».
Быт уничтожал бытие жадно и безжалостно. Но Ходасевич тогда ещё писал свои стихи, рыцарь ещё сражался своим огненным мечом с фосфорисцирующим скелетом Смерти. Но как же отчаянны эти стихи! Вот гениальное «Перед зеркалом»:
Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вот тот — это я? Разве мама любила такого, Жёлто-серого, полуседого И всезнающего, как змея? Разве мальчик, в Останкине летом Танцевавший на дачных балах, — Это я, тот, кто каждым ответом Жёлторотым внушает поэтам Отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры Всю мальчишечью вкладывал прыть, — Это я, тот же самый, который На трагические разговоры Научился молчать и шутить? Впрочем, так и всегда на средине Рокового земного пути: От ничтожной причины — к причине, А глядишь — заплутался в пустыне, И своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками На парижский чердак загнала. И Вергилия нет за плечами, — Только есть одиночество — в раме Говорящего правду стекла. 18–23 июля 1924, ПарижВот «Баллада»:
Мне невозможно быть собой, Мне хочется сойти с ума, Когда с беременной женой Идёт безрукий в синема. Мне ангел лиру подаёт, Мне мир прозрачен, как стекло, А он сейчас разинет рот Пред идиотствами Шарло. За что свой незаметный век Влачит в неравенстве таком Беззлобный смирный человек С опустошённым рукавом? Мне хочется сойти с ума, Когда с беременной женой Безрукий прочь из синема Идёт по улице домой. Ременный бич я достаю С протяжным окриком тогда И ангелов наотмашь бью, И ангелы сквозь провода Взлетают в городскую высь. Так с венетийских площадей Пугливо голуби неслись От ног возлюбленной моей. Тогда прилично шляпу сняв, К безрукому я подхожу, Тихонько трогаю рукав И речь такую завожу: «Pardon, monsieur», когда в аду За жизнь надменную мою Я казнь достойную найду, А вы с супругою в раю Спокойно будете витать, Юдоль земную созерцать, Напевы дивные внимать, Крылами белыми сиять, — Тогда с прохладнейших высот Мне сбросьте перышко одно: Пускай снежинкой упадёт На грудь спалённую оно». Стоит безрукий предо мной И улыбается слегка, И удаляется с женой, Не приподнявши котелка. 1925Эти стихи — сама Вечность в «бедной комнате» парижской бедной улицы. Впервые в русской поэзии так пронзительно, так безжалостно-точно скудные приметы жизни возвышаются до Божественных высот, становятся явлением высокой поэзии, входят в несменяемый строй русского языка. Для нас сегодня эти строки искупают всё. Что нам до жизни поэта? До его мук, болезней, страданий. «И было мукою для них что людям музыкой казалось», — писал когда-то Иннокентий Анненский, сам испивший ту же горькую чашу. Ходасевича стихи спасали всё-таки. Берберову спасала молодость и характер. Но всё труднее, всё труднее это спасение вдвоём.
Снова приходится цитировать «курсив»: «Он (Ходасевич — А.Б.) встаёт поздно, если вообще встаёт, иногда к полудню, иногда к часу. Днём он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда сидит в редакции «Дней». Возвращается униженный, раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно… Ночами Ходасевич пишет. Я сплю, прижав к груди его пижаму, чтобы она была тёплой, когда он захочет её надеть. Я просыпаюсь — у него в комнате свет. Бывает, что я утром встаю, а он ещё не ложился. Часто ночью он вдруг будит меня: давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать. Я клюю носом, после кофе или чая он иногда засыпает, иногда нет… Быта не было. И не могло быть. Да мы и не хотели его. Но я помню, что два ощущения были свойственны мне в те годы: чувство свободы и чувство связанности. Первое было в тесной зависимости от моей жизни в западном мире и моей собственной молодости, от книг, которые я читала, от людей, с которыми я встречалась и сближалась, со всем моим внутренним ростом и с тем, что я писала тогда. Чувство связанности (или несвободы) было соединено со всем, что касалось моей судьбы вне России, Ходасевича, нашего «дома», времени и места моих дней и лет. Это чувство связанности держало меня неделями в каком-то необъяснимом умственном застое, тоске, страхе. За страхом всегда, как сторож каждого моего шага, стояла бедность, тревога (пополам с болью) быть вдвоём, сознание, что мы оба находимся в мучительной зависимости друг от друга. Он не скрывал её от меня, я не скрывала от него. Обыкновенные мерки «мужа» и «жены», «брата» и «сестры» были бы к нам неприложимы. Ткань жизни ткалась днями и ночами, ночи зависели от дней. То, что снилось — переходило в реальность, то, что мелькало при свете — в бессонницу, преображалось в раздумья. Четыре стены, два человека. Они открыты друг другу (потому что между ними сверкает не только «духовная», но и «физическая» близость). Как много таинственного «всходит» в этой жизни вдвоём, когда видишь, как ткётся самая основа существования — из шума в тишину, из толпы в одиночество, из ночи в день и из дня в ночь. Как много «всходит» потом и как много теряется и пропадает, оставив только лёгкий след, который вдруг начинает таинственно жить в тебе вторым пластом. Первый — всегда со мной, а этот второй я могу только изредка ухватить, он ускользает от меня. Я прислушиваюсь к нему, но бывают дни, когда его не слышно вовсе…»
Пожалуй, нигде в книге Берберова так не откровенна, как в этих строчках. И надо сказать — она удивительно точна, она по-своему права в каждом слове, хотя слово «быт» она понимает обывательски, как нечто устроенное, при чём можно «быть». Но не будем спорить с ней. Она права в том, что самодостаточна. И в том, что в своей любви равна сама себе. И Ходасевич, видевший, по словам его предыдущей жены Анны Ивановны, людей насквозь, это знал, и никаких иллюзий у него не было. Но есть всё-таки иллюзии любви. Они сильней всего, хотя их тоже можно пережить. Если переживёшь.
И Ходасевич недаром однажды сказал Берберовой: «В общем, тебе никто не нужен, ведь так!» — «Ты нужен», — ответила она. «До поры до времени». Он всё понимал, всё предугадывал. Но что было делать? Жизнь сама всё решала, как всегда было на земле, и как всегда на земле будет. А пламенеющая надпись на древней ниневийской стене проступала всё явственней.
Берберова пишет: «Он (Ходасевич — А.Б.) много кашлял. У него (уже тогда) бывали долгие боли где-то глубоко внутри. Доктор М.К.Голованов (лечивший его даром) щупает его и говорит, что это, вероятно, печень, но диеты не даёт, потому что никакой диеты Ходасевич держать не может: он всю жизнь (кроме голода революционных лет) ест одно и то же: мясо и макароны. Ни салата, ни супа, ни фруктов, ни всего того, что обыкновенно дают больным. Через год возобновляется фурункулёз. Голованов делает уколы, но они не помогают. Он прописывает пилюли — безрезультатно. Больному надо менять бельё через день». Берберова уже говорит о нём «больной». Горько читать эти страницы. Не всякая женщина способна на самопожертвование, не всякая любовь жертвенна, да и не давали Ходасевич и Берберова такой клятвы. Осуждать не приходится.
Они пока ещё вместе. Она ещё не уходит. Но часы уже начали свой отсчёт. Двадцатые годы — годы их встречи, любви, отъезда из России — кончаются. Начинаются тридцатые — неотменные годы чужбины, её мытарств и метаний, её неизбывных будней. А будни — страшней всего на свете. Единственное спасение — творчество. Но:
Нелёгкий труд, о Боже правый, Всю жизнь воссоздавать мечтой Твой мир, горящий звёздной славой И первозданною красой.И поэту всё тяжелее «падать вниз головой». Берберова пишет: «Он болеет, он падает духом. Он говорит, что высыхает и не может писать стихи… Он уходит иногда на весь день (или на всю ночь) в свои раздумья»… Читаешь «Курсив» и чувствуешь по интонации, по звукам замирающее шествие уходящей любви. Удивительное явление — слово. Оно выдает. В него нельзя спрятаться. Да Берберова и не пытается. Она, надо отдать ей должное, честна и открыта, она пишет правду, может быть, не всю, что-то остаётся внутри, но кто потребует всего, до изнанки? Только Бог на Страшном Суде. А нам, смертным, и того, что сказано — довольно. Она разлюбила его. И хотя на многих страницах она пишет, что всё происходило медленно, что «трещина» возникла как-то внезапно, но без видимых причин — это не так интересно, это понятно. Ей нужны эти строки, они — внутреннее самооправдание. Всё-таки от «мраморов Каррары» к «трухе» без самооправданий не уйти. Даже ей — Нине Николаевне Берберовой. И она пишет, как он человечески становится ей в тягость, пишет о том «полубезумном восторге» быть без него, Ходасевича, хотя берёт в кавычки этот восторг. И вот, наконец, она произносит эти слова: «Теперь я знала, что уйду от него, и я знала, что мне надо это сделать как можно скорее, не ждать слишком долго». Ей кажется, что ему будет гораздо больнее знать, что она ушла к кому-то. И уходя к кому-то, она пишет, что уходила ни к кому. Такое женское, такое человеческое, такое змеиное лицемерие.
Н.В.М.(Н.В.Макеев), к которому ушла Берберова, был просто эмигрант из преуспевающих, человек не литературный. Ходасевичу это было, наверное, легче. Ведь Марина Рындина уходила к Маковскому, не к Макееву всё-таки. Потом развелась и с ним, как Берберова с Макеевым в 1945 году. Она ушла. Она покинула его, оставила одного с его страхами, отчаянностями, воспоминаниями, снами.
«В открытом настежь окне он стоял, держась за раму обеими руками, в позе распятого, в своей полосатой пижаме». Был апрель 1932 года. Так кончилась эта любовь. Впрочем, нет, она кончилась его смертью в 1939 году. Берберова записала подробно его последние дни, часы. Она выполнила долг перед потомками, спасибо ей за это. Не во имя любви, во имя Вечности. Это тоже чего-нибудь стоит. Тяжко цитировать эти записи. Как записи очевидцев умирания Пушкина. Но всё-таки одну цитату надо привести. Их последнее прощанье.
«Я осталась с ним. Это было в пятницу, 9-го июня, в 2 часа дня. Я знала (и он знал), что до операции я его уже не увижу. «Быть где-то, — сказал он, заливаясь слезами, — и ничего не знать о тебе!». Я что-то хотела сказать ему, утешить его, но он продолжал: «Я знаю, я только помеха в твоей жизни… Но быть где-то в таком месте, где я ничего никогда не буду уже знать о тебе… Только о тебе… Только о тебе… только тебя люблю… Всё время о тебе, днём и ночью об одной тебе… Ты же знаешь сама… Как я буду без тебя… Где я буду? Ну, всё равно. Только ты будь счастлива и здорова, езди медленно (на автомобиле). Теперь прощай». Я подошла к нему. Он стал крестить моё лицо и руки. Я целовала его сморщенный жёлтый лоб, он целовал мои руки, заливал их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые острые плечи. «Прощай, прощай, — говорил он, — будь счастлива. Господь тебя сохранит».
Владислав Фелицианович Ходасевич умер 14 июня 1939 года. Нина Николаевна Берберова умерла в 1993 году. Она пережила его на 54 года. Это больше, чем он прожил на земле.
P.S. Может быть, надо добавить ещё несколько слов, чтобы не создалось впечатления, что главной в их союзе была она — Нина Берберова. Между прочим, опять же опираясь на её слова в «Курсиве». Она пишет об их жизни:
«И прежде всего я вижу в ней полное отсутствие какой-либо конкуренции между «ею» и «им». Что бывает почти всегда и у всех: Ходасевич и я — люди одной профессии, но нет и не может быть моего с ним соперничества, ни на людях, ни когда мы вдвоём, с первой нашей встречи и до последнего его часа не было мысли о возможности хотя бы когда-нибудь для меня сравняться с ним. Он — всегда первый, сомнений в этом нет, нет борьбы за первенство. Нет спора, это — непреложный факт нашей жизни. Я иду за ним, как ходят женщины на шаг позади мужчины в японском кино, и я счастлива ходить на шаг позади него…»
И дальше: «Он возвращается в своё «ничтожество», то есть к себе домой, ко мне, к нам».
Так чувствовала она, так знала она. Это её признание расставляет все точки над i. Да иначе и быть не могло. Поэт всегда впереди своих самых близких на один шаг — но этот шаг — в бессмертие.
Последнее слово всегда за настоящими стихами. А они будут звучать вечно.
Внезапные заметки
* * *
Вчера утром видел на берегу моря, прямо у волны, мёртвую чайку. Она лежала распластанная, спрятав голову под крыло, словно спала, и была в ней какая-то спящая тишина, и не было страшной тёмной покорности, которая всегда так явственна в мертвецах. Волны иногда дотрагивались до неё, как подруги до своей недавней товарки, и во всей бесконечной привычной игре моря не было ни скорби, ни даже умиротворенного сожаления. Чайка всё глубже вникала в мокрый песок. Серые перья торчали длинно и чуть взъерошенно, слегка потрепанные волнами. Солнце из далекой светящейся впадины между рыхло-белеющими облаками бросало иногда свой луч на чайку, но не тревожило её сна. Другие чайки были далеко, у тёмно-синей грани моря и неба, как белая сеть, то вздымались, то снова ложились на воду. Они не помнили о ней, она — о них. Редкие сосны на берегу стояли молча, изредка покачиваясь на ветру. Но уже каркали на ветвях, слетаясь на даровую добычу, тяжёлые, тёмные, внимательные вороны.
* * *
Мысль о древнем Китае не такая, как о древней Индии, или Египте, или Вавилоне. Китай уже тогда — это целое человечество. И человечество это и ужасно, и величественно. И правота его сильна, и неправота его мучительна. Человечество это никогда не знало Бога. Оно поклонялось мудрости, заключенной то в жёстких житейских высказываниях Конфуция, то в нарочито расхлябанных гримасничающих сентенциях Лао-цзы, то в тюремно-позвякивающих директивах легистов. И ни в одном слове всех этих мудростей не было Бога. Была государственная убедительность, страшное до глубин понимание человека, мёртвая одномерная регламентация его духа и тела — и не было Бога. В единстве этого народа всегда маячила смутная раскосая маска рабства, но проникновения в самую суть людской природы поражали, и нельзя было найти середины в этой бездне азиатской тайны. Это глубинное понимание существа жизни, тёмное, корневое, как у дерева, презрение к смерти. Это покорная вечная привычка к труду и неимоверная адская жестокость, ювелирное мастерство литературы и живописи и чиновничье чванство одуревших от власти выскочек. Это гениальное открытие благости одиночества — о, уплывающая в никуда, затерянная в дальних заводях маленькая лодка отшельника! И бесконечные дикие войны во все почти дни необозримой истории этого народа. Это оболваненные толпы на площадях, славящие очередного владыку. Так что же ты, Китай, что? Кто ты на земле? Так многообразна твоя природа, что мысль человеческая не охватит тебя, как любого завоевателя, ты и её растворяешь в себе, и мечется она в вечном поиске тебя.
* * *
Лондон — не город для туристов. Его солидные здания, благородные мосты, широкие парки создают впечатление уверенности, ухоженности, значительности. И вдруг под небом выпрыгивает яйцо — огромное, нелепое, стеклянное. Улицы, несмотря на активное движение, кажутся замедленными, строгими. Люди, подобные экспонатам этнографического музея — всех расцветок, но улыбаются, показывают дорогу, охотно останавливаются на наши неуклюжие вопросы. Английские памятники — словно ожившие парадоксы. Вот грустный Карл Первый, а неподалеку, почти напротив — его казнитель Кромвель. Вот Ричард Львиное Сердце на притормозившем коне, а рядом Черчилль с его набыченной летящей походкой, манящий стариной Тауэр, скромный Букингемский дворец, а рядом шикарный парламент, когда-то ратовавший за умеренность и пуританскую скромность. Вестминстерское Аббатство — уставший от посетителей Некрополь. Вы топчете камни, под которыми лежат Байрон и Киплинг — вечная слава Англии, а над ними возвышается, пугая пошлой горделивостью, лакействующий Саути, смиренный Вордсворт и много неизвестных нам пышных мертвецов.
Обитель Генриха Восьмого — одновременно грозное и уютное гнездо хищной птицы. Он и сам тут пролетает, заговаривая с прохожими и покрикивая на пажей — женолюб-женоубийца.
В Национальной галерее блуждаешь между Рембрандтом и Вермеером, ранними итальянцами и поздними голландцами. Да и кого там только нет! В Британском музее бродишь среди Древности — Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция, Рим. Узнаешь Вечность в лицо, радуешься Софоклу, Александру Великому, Киру. И это всё Лондон.
2009
* * *
Библиотечный институт, девичий заповедник, унылое напряжение бесконечных лекций, сухие лица преподавателей. Как горестно, наверное, себя чувствовало (если бы могло) старинное здание над Невой, здание, из окон которого видна была площадь с мифологическим Суворовым, с летящим вдаль Марсовым полем. Да и сам город, обозванный партийной кличкой крикливого радикала. Каково ему было? Этим дивным дворцам, мостам, памятникам, всей этой великой причуде Петра, брошенной в скудные советские будни.
Век только ещё перевалил за половину. Что маячило впереди? На дворе стояла непоколебимая советчина, чуть ли не вчера ещё умер главный палач и каратель страны, и многие ещё не отёрли слёзы, многие ещё и не думали возвращаться с его похорон. И молодость наша едва начинала расправлять крылья в горьком, застоявшемся воздухе тех лет.
2012
* * *
Ночные сны — подножный корм поэта. На исходе ночи, когда сумрак её ещё спаян с прозрачным дуновением рассвета — их время, их царство. Не всегда они дарят сам сюжет стихотворения, но ощущение, из которого рождаются строки — почти всегда, если не успела стереть его безжалостная резинка отдёрнутой занавески или разорвать визгливая пила-ножовка будильника. Но что же в этих снах? Записывать их — занудное дело, хотя Ремизов этим и занимался. Изучать — туманное занятие, хотя Фрейд много преуспел в этом. Лучше всего — рождать из них строки. В снах память запечатлевает самые живые и единственные свои отзвуки. Всё скрытое и глухое, тёмное и невнятное проявляется в них, как внезапный неотвратимый негатив. В снах душа наша вещает, как дельфийский оракул, или это не душа, а Некто, скрытый тайной завесой. Вещие сны давно тревожат человечество. Библия полна ими. Сны фараона косвенно повлияли на судьбу еврейского народа, приведя его в Египет. Сны Иакова и Навуходоносора, сны пророков и царей. Жена Цезаря во сне предупреждена была о его гибели так же, как жена Александра II через много столетий. Сны — вечные рассказчики, бессмертная Шахразада человечества. Поэту, одарённому снами, они великое подспорье. Хотя и мучают, и мытарят, и сводят с ума. Но без них погасли бы ночи и омертвели бы рассветы… И этой ночью снились мне сны, и утром написал я стихотворение.
1986
* * *
В поэте поёт природное, человеческое только поправляет.
1973
* * *
Поэта учит талант Поэта учит язык Поэта учит народ Поэта учит поэт Поэта учит мудрец Поэта учит судьба Поэта учит Бог1999
* * *
Нельзя научить писать стихи, можно научить писать стихами.
1987
* * *
Современники обожают мёртвых поэтов и посмертные произведения. Даже у Пушкина, у которого слава опережала удачу при жизни, нашли в столе «Медный всадник».
1980
* * *
Литература древней Греции и Рима была по сути своей эпической. Лирика едва пробивалась сквозь железные затворы и скрепы эпоса. Поэты вдохновлялись древними мифологическими сюжетами, только «Фарсалии» гениального Лукана — исключение.
* * *
В «Ромео и Джульетте» гибнут почти все молодые — и яркий Меркуцио, и яростный Тибальт, и сам светлый и сильный Ромео, и благородный Парис, и сияющая Джульетта. Остается только Бенволио, самый бесцветный. Старость торжествует свою победу. Грустное торжество.
1983
* * *
Россия дважды подвергалась великим влияниям — византийскому православию и Петровскому европеизму. В 1917 году было разрушено и то, и другое.
Возродится ли?
1984
* * *
Александр Первый — внук Екатерины Второй, Николай Первый — сын Павла Первого. В этом разница между ними.
1996
* * *
Географическая отдалённость страны превращается в историческую.
1979
* * *
Где наша мудрость, потерянная ради знаний? Где наши знания, потерянные ради информации?
* * *
Насильственное добро порождает противовесом зло, которого могло бы не быть без этого насильственного добра.
* * *
Цивилизация есть мировой договор об определённой степени лицемерия.
* * *
Сказать это «клёво» — означает почувствовать себя рыбкой на крючке, проглотившей наживку, сказать «прикольно» — почувствовать себя насекомым, насаженным на булавку ловким энтомологом. Слова — убийцы.
* * *
Многие в России живут в семидесятых годах двадцатого века, но это не вечная молодость — это вечная старость.
* * *
Самое грустное, что в двадцать первом веке нам предстоит прощание не с двадцатым, а с девятнадцатым веком, он остается вдали, как видение, как восемнадцатый век для двадцатого.
1999
* * *
Время — понятие, предполагающее непрерывную текучесть. Поэтому реально существует только настоящее, воспринимаемое нами. Прошлое застывает, утрачивает текучесть, следовательно, перестает быть временем, сливаясь с пространством. Прошлое есть пространство, пройденное нами.
1997
* * *
Мне кажется, через тысячу лет люди перестанут слышать эмоциональную музыку XIX века, отринут, быть может, вообще человеческие эмоции, но чистый звук Баха они услышат.
* * *
Уйти от поэтического многословия XIX века, от настороженной готовности к разрушению — XX, уйти в XXI век — к самому себе, к диктующей точность точности.
* * *
Музыка XVI–XVIII веков поёт, музыка XIX века разговаривает, музыка XX века кричит. В XXI веке музыка утратила мелодию, живопись — рисунок, поэзия — смысл. Утвердилось царство голого короля, беспамятных снобов, жреческого междусобойчика, литературных самозванцев.
1982
* * *
Величественная наивность Пастернака.
* * *
«Три мушкетёра» Александра Дюма — рыцарский роман XIX века.
2013
* * *
Современная режиссура — это маркиз де Сад ставит спектакль в сумасшедшем доме.
2013
* * *
Я люблю читать книги, в которых примечания не менее интересны, чем основной текст.
* * *
Когда в конце восьмидесятых и девяностых годах XX века в Россию хлынула лавина запрещённого, можно было видеть, как по-другому люди читают «1984 год» и «Архипелаг Гулаг». В согбенные советские годы многие спасались этим чтением, сейчас же удовлетворяли любопытство. И в этом таилась опасность. Люди стали терять сопротивляемость Злу, и оно вскоре из полумёртвого превращалось в полуживое. Теперь надежда на Интернет, прообразом которого, видимо, был Самиздат.
2013
Моралите об Орфее
Участвуют:
Орфей (с лирой в руке)
Власть (с мечом)
Богатство (позванивающее золотом)
Ложь (с кривым зеркалом)
Страх (трясущийся с головы до ног)
Наслаждение (с апельсином в руке)
Вера (с крестом в руке)
Иные атрибуты соответствуют средневековым, например, крест и апельсин, иные автор привносит от себя. Действие происходит в раннем средневековье. Сцена представляет собой тёмную площадь, слабо освещённую редкими громоздкими фонарями. Вдали силуэты смутных зданий. Сумрачно. Все, кроме Орфея, по-античному светлого, темны, но в Вере есть ангельские блики, а в Наслаждении — странные отсветы.
Акт I
Орфей: Куда я попал! Какая смутная тишина. Как огромны и темны эти жилища вдали. Какая пустынность в этой тишине. И кто эти странные существа? Я не видывал ещё таких ни в родной гористой Родопии, ни в скитаниях на Арго по косматым морям, ни в страшном царстве Плутона.
Ложь: Ты попал в прекрасные времена настоящей свободы и справедливости, в новый мир, сокрушивший твой несправедливый жестокий мир античности.
Орфей: Но вокруг темно и пустынно, и вы не похожи на славных сыновей такого мира. И за что вы сокрушили мой мир, да и откуда он, этот новый мир?
Власть: Мне не нравится то, что он говорит. Не отрубить ли ему голову? Многие говорили намного меньше его, а где они теперь?
Страх: Да, да, страшись, певец, разговор будет короткий. Они постучат — тук-тук, потом войдут, скажут: «Именем короля», оба в чёрном, тупые глаза, сжатые рты, грузные руки, а ты пойдёшь за ними…
Ложь(перебивая): Перестань! И ты, Власть, уймись. Это ж певец, он неизвестно откуда взялся, посмотри, как он одет. Но он красиво говорит, у него в руках дивный инструмент. Он будет петь нашим хмурым толпам, и они размякнут, их тяжёлые лица осклабятся, и они пойдут от него довольные и добрые. И назавтра ещё будут помнить об этом пенье, и тебе не придётся махать мечом, а мне подсовывать им кривое зеркало, а Страху трястись и пугать их.
Орфей: О чём вы говорите? Я ничего не пойму. И зачем я здесь? У меня были разные приключения в жизни. Я испытал опасности скитаний, стройное счастье любви, безмерную радость искусства. Когда я пел в Тартаре, пройдя Тирейские ворота, бросил свой камень Сизиф и сел на него, остановилось колесо Иксиона, встала вода, охватившая Тантала, и перестал он глотать, захлёбываясь, и даже Цербер опустил три главы свои и замер. И Плутон не отказал мне тогда и отдал мне мою любимую Эвридику. Но даже счастливая любовь недоверчива, и мы боимся исполнения своих желаний. И я оглянулся, не вынес запрета, и пропала жена. Так дважды я лишился любимой. И нужно ли было мне идти за ней и просить Аида, раз любовь по природе своей жестока и не знает удовлетворения.
Наслаждение: Да, певец, ты прав. Любовь жестока и лжива, и никогда не знает удовлетворения, но его знаю я. Меня зовут Наслаждение. Суть моя в разнообразии. Женщины ведь совсем иные существа, чуждые человеку, и соединиться с одной из них надолго — значит, утратить часть себя и забыть о многом. Твоя душа будет перемалываться в маленькой, но безостановочной мельнице странного устройства — то, что казалось тебе высоким, окажется несерьёзным, то, что справедливым — эгоистичным. Твоя самоотверженность будет принята за слабость, и на ней будут играть, твоя открытость — за хитрость, и ты будешь наказан за всё, что не годится для зубцов этой мельницы. Тебе будут пробираться в душу, обещать рай, а оказавшись в душе, повергнут её в ад. Нет, твоя жена правильно сделала, что умерла, едва прожив два месяца со свадьбы (Я ведь слышало о тебе). И правильно ты оглянулся в Аду, то певческая твоя природа победила в тебе и настояла на высокой судьбе. Разнообразия, Орфей, разнообразия, иных женщин, и тогда ты обновишься с каждой.
Орфей: Но ведь вскоре после того меня разорвали вакханки, и кончились мои песни. Нет, с Эвридикой я знал стройное счастье любви, и в душе моей звучала ещё одна лира, подобная этой. А до того я был одинок, я томился без любви, и мир для меня был неполон. Мне порой не хватало устойчивости. О, милая Эвридика, ты дала моим песням новые тона и звучанье, я стал добрее к людям и увидел в них нечто, до того неведомое мне.
Вера: Мне нравятся твои речи, чужеземец. Ты не отступаешь от своего и веришь в то, во что веришь. И хоть для тебя, видно, чужд этот крест, мне по душе то, что ты говоришь.
Власть: Ну, хватит вам болтать и выяснять непонятные для меня вещи. Что это за человек, почему у него в руках лира, а не лопата, почему он одет так вызывающе и в разговорах не упоминает обо мне, о нашем прекрасном времени и новом мире, о нашем великом средневековье? Отвечай.
Ложь: Подожди, ты опять испугаешь его.
Страх: Да, да они постучат — тук-тук-тук, потом войдут, скажут: «Именем короля», оба в чёрном, тупые глаза…
Ложь: Да подожди ты, он вправду умрёт от страха, как многие. Дайте ему сказать.
Акт II
Орфей: Я ничего не понимаю. Кто же вы всё-таки такие, отчего ты с мечом в руке так уверен в своей силе, а ты с кривым зеркалом — в своём зеркале? Что это за площадь, что это за ночь, что это за новые времена?
Власть: Вот ты узнаешь, что это за времена, если будешь так много болтать, как болтал до сих пор. Кому интересны твои любовные дела, если они чужды духу нашего времени. Наши женщины не попадают в ад, их путь только в Рай.
Ложь: Подожди. Послушай меня, певец. Наше время сурово, но прекрасно. Всё, что мы сделали, мы сделали своими руками, ты видишь эти постройки вдали, эти мосты, улицы, фонари. Мы работаем на себя. И наши люди сумрачны на вид, но светлы внутри. Им надо петь понятные, воодушевляющие их песни, и ты прекрасно сможешь это делать на своей лире. А мы уж тебя наградим всем, чего тебе будет не хватать, лучше, чем в твоей пышной Элладе.
Орфей: Но и в моей Элладе люди работали на себя, на кого же ещё?
Ложь: Они работали на богачей, эксплуатировали рабов.
Орфей: А вы куда дели рабов?
Ложь: Рабы все на воле. Так теперь не называется никто в нашем великом средневековье.
Орфей: Значит, вы тоже из рабов?
Ложь: Да, мы вышли из рабов и горды этим.
Орфей: И я попал во времена правления рабов, времена, о которых боялись вещать самые страшные провидцы Эллады.
Власть: Тебя, видно, это пугает, жалкий анахронизм.
Страх: Да, пусть тебя это страшит. Тебя поведут вниз по лестнице, и прохожие будут отшатываться и пугливо убегать дальше…
Ложь: Перестаньте. Вы дудите одно и то же. Он всё поймёт, этот наивный древний певец. Ты будешь помогать нам воспитывать наших людей, мы же не заставим тебя работать. Ты видишь, мы сами не работаем, а сколько у нас помощников, которые тоже не работают и помогают нам. У одних мечи, у других кривые зеркала в руках. И никто из них не работает, но всех щедро оделяет вот этот с кошелём в руках.
Богатство (позваниваязолотом): Да, я богато. Послушай, если ты сделаешь, как тебе говорят, многие умрут от зависти, глядя на твою жизнь. Ты будешь жить в одной из великолепных построек со всеми удобствами, которых не знало ваше грубое время. У тебя будут собственные лошади и кучера, лучшие харчевни будут тебе по карману, лучшие женщины пойдут с тобой, стоит только поманить их.
Наслажденье: Да, в наше время золото для женщин — главное.
Богатство: Ты будешь ездить по всему миру, говоря, конечно, то, что тебе положено, летом и зимой ты будешь жить на своей вилле или выезжать в южные края и купаться в море под сладким солнцем. Ты оденешься по моде, твою лиру можно сделать хоть золотой и всячески изукрасить её, а одну струну на ней ты сможешь приспособить не для воспитанья хмурых толп, встающих из-за верстака и возвращающихся с серпом в руках с полей, а для себя и некоторых, нуждающихся в таком звоне. Он будет успокаивать их лёгкий зуд по иным временам. И даст им возможность гордо поглядывать на этого дрожащего беднягу.
Страх: Да, да, на меня гордо поглядывают, но до поры до времени, да… Они постучат — тук-тук…
Ложь: Перестань. Ну что ж, певец, ты понял, куда попал? Понял, что это за площадь, что это за ночь, что это за новые времена?
Орфей: Кажется, да. Мне страшно, человек с кривым зеркалом, мне страшно, человек с мечом, мне страшно, человек с золотом.
Страх: Ха-ха-ха!
Вера: Ничего, есть ещё я. Я держусь во все времена, и меня не убить. Ты видишь крест у меня в руке, с ним шли на костёр и на пытку и не отступались от своего. Крест — это символ человеческого сердца, которое бьётся в груди, а не отражается в кривом зеркале. И все, в ком оно бьётся ещё, помнят обо мне и знают меня. Есть ещё люди среди хмурых толп и в красивых жилищах, в ком жива совесть и кто не смирился. Даже среди рабов есть такие сердца, Орфей, даже в наше время средневековья и лжи.
Орфей: Я певец, я воспевал сквозные узоры и поросшую сумраком шкуру морей и лужайку, где прячутся с милой. Меня заслушиваются птицы и звери, деревья и ручьи, и даже грозный призрачный Аид сиял от моих песен. Но я в силах создавать музыку, когда она сама рождается в груди и сама ищет вольного проявления. Как можно иначе? Разве это заменишь звоном монет, разве на это подействует трусливая дрожь? Никакое кривое зеркало не преобразит дурную песню в дивную, и никакой меч не убьёт прекрасной песни. Так я пою и так я живу. Иного не знаю и не могу.
Власть: Ну, погоди же.
Акт III
Ложь: Ты твёрдо решил, певец? Пора раскаяния будет долгой.
Орфей: Господи, куда я попал? Самые страшные провидцы моих времён не предрекали такого и убоялись бы своих прорицаний. Я истерзан болью по Эвридике, тело моё рвут вакханки, а тут эта площадь, эти фонари, эти люди… Где моя мраморная Эллада, моё античное солнце? Тогда не было этих тёмных одежд, кривых зеркал и ржавых мечей. Никто не трясся от страха, у кого спокойная совесть и чистая душа. Когда это всё погибло под ударами этих хмурых толп и ватаг рабов? Когда разрушен был мрамор, и на смену ему пришли кирпич и железо? Я не был при этом, почему я должен отвечать за всё?
Вера: Ты попал сюда, и у тебя нет другого выхода. Раз ты родился на свет когда-то, ты должен отвечать за всё — и за то, что было до тебя, и за то, что творится при тебе, и за то, что случится в грядущем. Таков твой жребий, если ты не обманут кривым зеркалом и в тебе жива совесть.
Богатство: Орфей, Орфей! У тебя будут чудесные комнаты, роскошные виллы, лошади. Ты будешь ездить на юг и на запад, и куда хочешь. Тебя будут переписывать на лучшей бумаге государственные переписчики.
Наслаждение: Лучшие женщины будут с тобой, прелестные, как лани Родопских гор. А что лучше женщин, Орфей? Ведь без них нельзя человеку. И ты будешь пить сладостные вина, которых не было в Элладе. Соглашайся, сила не так уж страшна, зеркало не так уж криво. А золото всегда есть золото. Оно не обманет. Послушай что тебе говорят, мы ведь не так глупы. Главное, ты будешь всё-таки петь.
Орфей: Но это будут не мои песни. И потом, этим ржавым мечом убивали тех, кто любил бы моё пенье, если бы слышал. Да и признать кривое зеркало за настоящее я не могу. Я Орфей, я пел аргонавтам, меня слушая, потрясено было царство Плутона, и сам Цербер опустил три главы свои и замер, и бросил свой камень Сизиф и сел на него, и встала вода, охватившая Тантала, и перестал он глотать её, захлёбываясь…
Ложь: Довольно. Ты знаешь, куда ты попал, и кто мы. Нам не нужны твои песни, хоть заслушивались их деревья и ручьи, звери и птицы. Нам нужны наши песни. Смотри, Власть уже машет мечом, а Страх трясётся всё пуще. Решай же.
Орфей (трогая струны лиры): Лира — мой ответ, музыка — моя правда, пенье — мой жребий.
Власть: Тогда берегись! (Подступает к нему с мечом)
Орфей: Что тебе нужно от меня?
Власть: Ты пойдёшь со мной, это будет куда страшнее твоего Аида.
Орфей: Не тронь мою лиру.
Власть: Ха-ха-ха. Твоя песенка спета, певец.
Орфей: Мне страшно.
Вера: Не бойся.
Орфей: Дайте пройти мне по площади, глянуть на сумрачное небо, на слабые блики ночных фонарей…
Страх: Да, страшись, певец, разговор будет коротким. Они постучат — тук-тук-тук, потом войдут, скажут: «Именем короля», оба в чёрном, тупые глаза, сжатые рты, грузные руки. Ты пойдёшь с ними, тебя поведут вниз по лестнице, и прохожие будут отшатываться и пугливо убегать дальше. И тебя приведут за железную решётку, и ты будешь спать на железе, по тебе будут шнырять крысы, со стен будет сочиться сырость, а наутро начнётся пора пыток. Тебе будут вырывать ногти, углями обжигать пятки, не давать спать дни и ночи…
Власть: Хватит, не предвкушай того, что придёт своим чередом. Пошли, певец. И можешь бросить лиру, она тебе уже ни к чему. Это не царство Плутона.
Ложь: Ах, наивный древний певец, почему не послушался меня, я ведь так умна и убедительна, и уговорила столь многих.
Богатство: И меня, я так хорошо звеню.
Наслаждение: И меня, ведь всё равно нет ничего лучше женщин и чудных вин.
Вера: Древний чужеземец, я осеню тебя.
Власть: Пошли, пошли.
КОНЕЦ
1968
Посмертная ремарка
Драма в пяти картинах с прологом и эпилогом
Действующие лица:
Граф Роджер Рэтленд
Елизавета Сидней — его жена
Граф Генри Ризли Саутгемптон
Граф Роберт Девере Эссекс
Шакспер — актер
Бен Джонсон — драматург
Призрак принца Гамлета
Дворецкий в замке Бельвуар
Пролог
Дом графа Эссекса в Лондоне. 8 февраля 1601 года. Эссекс, Рэтленд, Саутгемптон.
Эссекс: Ну, всё, друзья. Дом окружён. Войска лорда-адмирала подкатывают пушки. Нам не продержаться. Всё, друзья, всё.
Рэтленд: Граф, мы должны продержаться, люди сбегаются к Вашему дому, они помогут нам.
Саутгемптон: Нет, Роджер, сэр Роберт прав, народ разбегался, видя нас на улицах Сити. Наши шпаги больше не нужны — единственные наши помощники. Дом окружён, нас убьют очень скоро. Это не беда, ещё одно сражение, ещё одна смерть — на этот раз твоя собственная, но не вечно же нам жить, пора и честь знать.
Эссекс: Да, друзья, всё, время пришло. Мы хорошо повоевали на земле, посмотрим каково на небе. Такова участь дворянина, господа, не в своей же постели нам умирать, как какой-нибудь пуританин-буржуа.
Рэтленд: Граф, нам надо ещё попытаться, надо. Иначе тюрьма, допросы, плаха. Вы верно сказали, Генри, шпаги — наши помощницы. Мы прорвёмся. А здесь мы мишени, они разнесут нас в клочья.
Эссекс: С нами здесь женщины, они погибнут, мы должны спасти их.
Саутгемптон: Как же это возможно, Роберт? Пушки лорда-адмирала не столь галантны, они не снимают перед дамами шляп.
Рэтленд: Я понял графа, Генри. Я понял Вас, Роберт, мой великий друг. Вы готовы идти на переговоры. Вы бросаете им свою жизнь. Это в духе древних рыцарей, наших нормандских предков, господа. Так же поступил бы и славный Филипп Сидней.
Эссекс: Я поставлю условие — мы сдаёмся, если они выпускают женщин. Это будет наше условие — единственное. Лучше было бы погибнуть в бою, но придется на плахе.
Саутгемптон: Королева не простит нас. Шотландия не поможет. Бог отвернулся от нас. Никто не поможет.
Эссекс: Никто, никто. Скажите мне, Роджер, королева, Сесил, сэр Фрэнсис Бэкон — все знают, что Вы автор Ричарда II?
Рэтленд: Королева и горбун — да. Сэр Фрэнсис — нет. Актёрам ничего не будет, им дали 40 шиллингов на представление. Сцену низложения они, кажется, не сыграли. Для королевы это важно.
Эссекс: Для королевы и, дай Бог, для Вас. Я надеюсь на Вашего дядю. Он сумеет спасти Вас.
Рэтленд: Я не боюсь за себя, граф, я боюсь за Вас и Генри. Наша дружба выстоит и на эшафоте, но жизней наших не убережёт. Вот это горько.
Эссекс: Вы должны жить, Роджер. Вы должны написать о нас, тогда мы воскреснем. Мы не будем жить, но мы должны быть — вот в чём наше назначение. Страшнее всего не быть. А жить — что ж. Мы пожили, господа. Мы прожили не одну жизнь, не так ли?
Саутгемптон: Я слышу предупредительный выстрел. Пора прощаться, друзья.
Эссекс: Да, я иду к лорду-адмиралу. Мы спасём женщин, королева — женщина, она поймёт нас. Прощайте, друзья, я люблю вас. Ваше перо, Роджер, пройдёт вечность, как бы она ни была огромна. Вечность огромна, друзья. Прощайте.
Сцена I
Замок Бельвуар. В покоях на кровати под балдахином лежит Рэтленд. Рядом сидит Елизавета. Сидней. 1612 год. Июнь.
Елизавета: Снова итальянская лихорадка? Тебя снова трясёт и колотит, и лекарство снова не помогает?
Рэтленд: Да, снова. Снова, как тогда — жар тела в жаре лета. Я чую, как первый пересиливает второго. Но третий — жар Преисподней пересилит и его.
Елизавета: Не шути так. Я боюсь. Я каждый раз боюсь этих приступов.
Рэтленд: Не бойся, шуткой только и отгонишь Главного шута на земле — Смерть. И лихорадка моя такой же шут, как я — она трясёт меня вовсю, я трясусь, почти как от смеха. Это вылечивало меня не раз, ты знаешь. Мы лечимся смехом. Не смертью же лечиться, не правда ли?
Елизавета: Роджер, я боюсь. Тебе надо укрыться теплее. Я распоряжусь сейчас.
Рэтленд: Всё пройдет, как та бешеная морская буря. О, эта северная буря. Вот когда трясло, вот когда било смертным боем. Море было огромной клокочущей смертью. Но я ведь спасся. И Калибан мой никуда не делся. Мы должны ему его очередные 44 шиллинга, не забудь.
Елизавета: Да будь они прокляты вместе с ним! Этот вечный обман, эта жалкая плата за обман! Эти сребреники этому пьяному ничтожеству. По сравнению с ним Иуда — почти человек.
Рэтленд: Да, почти человек. Но не он же всё придумал. Он занавес, за которым всё скрывается. И останется скрытым навсегда.
Елизавета: Зачем ты всё это придумал? Зачем втянул в эту игру? Зачем эта игра? Зачем обманывать Время? Ты думаешь обмануть Вечность? Но это страшно — обмануть её. Ты можешь обмануть только Время. Но не себя, меня, наших друзей. И за что такое наказанье, за что? Скрывать свой гений под грязным гримом мелкого актёришки? Прятать драгоценный камень в тряпье простолюдина? А ты знаешь, что он промышляет ростовщичеством? Он выбивает налоги из своих односельчан, он преследует их. А потомство будет презирать тебя. Они, слушая Гамлета в своих театральных креслах, вскричат: «Как же мерзок ростовщик, его породивший!». О, Роджер, Роджер!
Рэтленд: О, Елизавета, Елизавета! Но в этом-то вся соль! Зачем им Рэтленд, если есть Гамлет, есть Лир, есть Макбет? Я создал их, а те, кто слышит их, видит их, внимает им, пусть создают меня. Зачем им моя итальянская лихорадка, зачем Саутгемптон, Эссекс, страшная ночь ареста, Тауэр, позвякивающее золотом спасенье, королевская милость, датское пьянство и чревоугодие? Зачем им всем мы с тобой, наша любовь-нелюбовь, этот замок, эта кровать? Кинем им актёришку, ростовщика, мытаря, скупца и подонка! Пусть подавятся, пусть отплёвываются столетье за столетьем, но не лезут мне в душу. Она — моя. А то, что я сочинил — их. Но моя жизнь — моя, моя смерть — моя! Моя, я не сочинял её! Пусть допытываются у Бога! А у меня не допытаются. И ты не выдашь меня, и друзья не предадут. Так я хочу, дорогая.
Елизавета: Успокойся. Ты весь горишь, ты сгораешь. Я сама принесу питьё, лекарство. И не говори без конца о смерти, я не смогу остаться на земле без тебя. В нашей любви-нелюбви, нашей жизни-смерти мы одно. Я приду сейчас. Я приду.
Сцена II
Там же. Рэтленд бредит.
Рэтленд: Какая жара, какой душный ветер, будто несущий в себе пустыню. Зачем эта Италия на меня свалилась! Я не выдержу её. Падуя, Падуя, падая, падая… Я падаю, Господи, помоги мне! Лабиринты университетских аудиторий. Чопорные мантии… Эти глупые студенческие шляпы… Как поживаете, господа Розенкранц и Гильденстерн? Вы разыгрывали меня. Я помню. Посмеивались надо мной, я помню. Где вы сейчас в своей Дании, дальней Дании… Падуанская жара, проклятая лихорадка. Елизавета, Елизавета! Джульетта, очнись, Джульетта! Зачем ты уснула раньше меня, ты ещё совсем девочка, тебе ещё рано! А мне уже пора. Я иду. Вечность прохладна, Вечность пахнет колодцем. Вечность вылечит меня от малярии. Вечность вылечит меня от смерти. Джульетта, ты выпила моё питьё, ты поторопилась. Ты спишь, моя девочка, тебе не проснуться… Елизавета, Елизавета. Не пей, это питьё моё! Розенкранц и Гильденстерн разыгрывали меня, а теперь их самих разыгрывают на подмостках. Кто смеётся последним, а господа? Дания, Дания, холодная, как это питьё. Италия, Италия, горячая, как эта подушка. Падуя, поди прочь, Падуя! Из Вероны в Венецию, здания плывут, как корабли. Плывущий Город, я плыву вместе с тобой. Елизавета, я тогда уже любил тебя, девочку с голубыми глазами. Венеция с голубыми каналами… Елизавета, я люблю тебя. Джульетта, это я, проснись, лихорадка трясёт меня, я сейчас упаду рядом с тобой и мы вместе уплывём в тёмной гондоле по голубой воде. Эта гондола — Смерть, эта вода — Вечность. Из Вероны в Венецию, из Венеции в Вечность. Как мне писалось тогда, как метала и мотала меня малярия! А сейчас ещё злее, в сто тысяч раз злее! Не выпускает из когтей. Ещё глоток этого горького питья. Господи, дай мне сна, ниспошли тишины. Дальше — тишина… Я хочу спать… (Засыпает).
Сцена III
Лондон. Харчевня «Сирены». Шакспер и Бен Джонсон за столом. Вино в графинах и кружках. Сумрачно.
Бен Джонсон: Ну и что он тебе сказал на это?
Шакспер: Что эта старая кукла понимает? Я снова повторил, что буду играть только благородных персонажей. Я дворянин, а не простой гаер на подмостках. Не хочу прыгать по сцене Калибаном. Ариэль — ещё куда ни шло.
Бен Джонсон: Да, ты Ариэль! Такой же ты Ариэль, как английский дворянин. Тут уж ничего не скажешь. Но благодарить-то ты должен твоего Бога-Создателя, Отца, Сына и Святого Духа, который тебе в сыновья годится. Он тебе и дворянство смастерил, и все твои роли, и все будто бы твои пьесы, все твои подмостки, Шакспер, всё — он.
Шакспер: Ну и что? Я не просился, я не лезу в учёные мужи, плевать я хотел на эту учёность, на эту латынь, от которой разит смердящим трупом. Они в своем Бельвуаре и бродят, как неживые, среди размалёванного хлама на стенах, среди своих книжных толп. Ни пройти, ни повернуться, ни слова сказать. Плевать я хотел на всё это.
Бен Джонсон: Плевать-то ты мастак. Однако денежки берёшь, руки не отсыхают. А учёность хаешь по убогости твоей крестьянской. Я тоже не в замке родился, а знаю, как говорили и Нерон, и Юлий Цезарь, да и Гомера пойму, коль заговорил бы со мной, хоть и гекзаметрами. А ты только трактирщика нашего и поймёшь и то, пока под стол не свалился.
Шакспер: Под столом и тебе приходилось валяться. А латынью своей жестяной меня не забьёшь, от твоего Сеяна люди бегут из театра, как от зачумлённого.
Бен Джонсон: Врешь, мясник страдфордский! Знаешь ты о Сеяне, как же! Иди скотину забивать! Скоро, скоро кончится твоя карьера.
Шакспер: С чего это ей кончаться? А мясником отец мой был, а не я. И не буду никогда, у меня земля своя есть, не то, что у тебя.
Бен Джонсон: Ладно. Был я недавно в Бельвуаре у леди Елизаветы. Плохо милорду, плохо совсем. Итальянская немочь треплет его хуже тауэрского тюремщика. Боится миледи за него, плачет, мечется, как неприкаянная.
Шакспер: Да что ты! Вот беда. Как бы не помер, болеет, правда, частенько. А она всё убивается над ним, не выживет без него. А мне они 44 шиллинга моих не выплатили в этот раз ещё.
Бен Джонсон: Тебе только о шиллингах твоих забота, будь они неладны. А умрёт граф, и останемся мы, драмоделы английские, как стая без вожака. Кто о нас вспомнит без него? У него в каждом слове и Англия, и Рим, и Рай, и Преисподняя. Воистину владыка языка.
Шакспер: Да, только бы не помер. Прошлый раз сказал мне: «Пока я жив, ты мой Калибан, я твой Просперо, и остров наш не уйдёт на дно морское. А умру, потонем, но ты вынырнешь, Шакспер, ты долго будешь на плаву, а я под водой, как звезда небесная. Кто заглянет на дно, может, и догадается, а кто не заглянет, с тобой будет знаться».
Бен Джонсон: Да уж, с тобой, куда ж без тебя. А Калибан ты настоящий, это точно он тебя определил на веки вечные. Давай-ка, выпьем за него, за великого волшебника, за то, чтобы остров его не утонул никогда.
Шакспер: Выпьем, выпьем, на то и вино, чтобы пить. А только я не Калибан, в жизнь играть его не соглашусь. Дворянину не пристало таких персонажей изображать. На то есть простолюдины.
Бен Джонсон: Да уж, куда им. А что, Вильям, не страшно тебе перед лицом Божьим предстать будет, ведь и после смерти всё гаерствовать станешь. Перед Сатаной куда ни шло, он сам из ангелов во тьму адскую пал, а перед Богом-то как? Ведь вся жизнь твоя — сплошная ложь. Чужое место занимаешь, чужим воздухом дышишь, чужим словом пользуешься. Не страшно, а? Только правду скажи, если сможешь.
Шакспер: Да что ты за исповедник такой выискался! Стану я перед тобой рубаху рвать на груди, как же! Сам-то забыл, как в тюрьме, в железах сидя, из нашей английской честной веры в католики перелез? Не побоялся Бога, не погнушался Сатаны? А меня им пугаешь. Меня милорд сам позвал, сам всё это придумал, сам плату назначил. Ему и ответ держать перед очами Божьими. А моё дело малое. Я как родился, так и помру, меня ни Бог, ни люди не осудят. Коли захотел милорд, значит, так ему надо было: имя моё скудное взять взамен своего гордого. Я не от норманнов злых род веду, как его Светлость. Мы чесальщики овечьей шерсти да мясники. А и с нами Англия не пропадет.
Бен Джонсон: Экий ты патриот, оказывается. Я и не знал. Что ж ты такой патриот налоги с бедняков нынче выколачиваешь, ростовщиком заделался, свою же английскую кровь сосёшь, как паук? Как же, держи карман шире, не пропадёт с тобой Англия!
Шакспер: Я честно веду дела, я в тюрьме, как ты, не сидел, веру не менял. А умрёт, не ровен час, господин мой — чем мне жить? Побираться что ли по харчевням да на папертях? Это ты со своей латынью пристроишься у судейских или у попов, а мне, что ж, пропадать? Нет, братец Бен, не обманешь. Я своё дело знаю, меня Бог не обидит.
Бен Джонсон: Обидит, не обидит — один Он и знает. А милорду Рэтленду плохо, бредит, стонет, леди Елизавета плачет, унять слёз не может. Горько мне, Шакспер, горько! Осиротеем мы с тобой, чует моё сердце.
Шакспер: Не накликай, Бен, не накликай, накличешь ещё на наши головы. Ну, выпьем, давай, вино-то хорошее. Жаль оставлять. Давай уж до дна.
Сцена IV
Замок Бельвуар. Рэтленд на постели. Галлюцинация. Появляется призрак принца Гамлета.
Рэтленд: Кто ты? Отзовись! Кто ты?
Призрак: Следуй за мной.
Рэтленд: Я не могу, я болен. Я знаю тебя, я создал тебя, ты — Гамлет.
Призрак: Ты создал всех вокруг, но где же ты? Тебя нет, я есть, а тебя нет. Где ты, отзовись!
Рэтленд: Я здесь, я здесь, я иду за тобой.
Призрак: Ты не двигаешься с места, тебе и шагу не ступить. Тебя нет. Я есть, а тебя нет. Я не могу увести тебя. Ты остаешься навсегда.
Рэтленд: Нет, я — это ты, ты — это я. Мы пойдём вместе. Кто нас различит?
Призрак: Каждый идущий за нами видит меня и не видит тебя. Ты сделал это! Ты предпочёл не быть. Ты ответил на мой вопрос.
Рэтленд: На мой вопрос, Гамлет, на мой! Ты моя тень, мой призрак, моё слово.
Призрак: Нет, это ты моя тень, но никто не видит тебя, ты мой призрак, но никто не обернётся, чтобы приметить тебя. Твоё слово уже не твоё. Ты продал его за 44 шиллинга. Почём нынче в Англии слово? За сколько пенсов можно сторговать призрак? Ты продал меня ничтожеству, не умеющему читать. Ты заложил меня ростовщику, и заклад останется у него навеки. Я отомстил за отца, а кто отомстит за меня? Кто отомстит за Офелию, бедную девственницу, не познавшую солёной сладости плоти? Тебе ведь не впервой губить дочерей человеческих, а, разве нет? Слышишь, как плачет леди Елизавета? За что ты погубил её? Ты заставил меня погубить Офелию, а сам погубил Елизавету. Я убил Клавдия, я убил Лаэрта, ты — убил всех нас. Но Клавдий хотел власти, хотел славы, хотел женщину — мою мать, он страшен, но он человек, а ты? Ты отверг славу, отверг женщину, ты отверг себя. Ты не отвергнешь только смерть. Она тебе за всё отомстит. Она — твой Гамлет, не я.
Рэтленд: Боже мой, я не могу больше. Неужто есть правота в его безумных речах? Или они не безумны, я безумен, я! Или он? Господи, почему так? Я не могу иначе. Ты создал меня таким. Я не хочу отдавать им свою жизнь, этим жрущим в харчевне, я не хочу, чтобы они перемалывали своими жадными зубами каждый мой жест, каждый мой вздох, чтобы они мусолили своими жирными губами каждый мой поступок. Не хочу! Хватит им тебя, Гамлет, моё созданье, тебе ведь не больно, ты — тень, ты — призрак, ты уходишь с подмостков и нет тебя. Нет! Нет! Нет!
Призрак: Есть! Есть! Есть! Ты пропал, Рэтленд, ты пропал. Ты убил твою прекрасную жену, ты обманул всех, ты хотел обмануть Бога своей игрой, но Бога обмануть нельзя. И Шакспер-актёришка будет смеяться над тобой столетье за столетьем за твой смех над ним сегодня. Ты обманул себя, а Бога не обманешь.
Рэтленд: Пропади, сгинь, исчезни! Зачем я сочинил тебя, зачем я прочёл Бельфорэ, зачем король послал меня в Данию, в это салютующее себе самому пьянство? И эта дьявольская буря, это дьявольское море, эти смертельные скалы, эти смертельные волны! Я спасся, чтобы написать ЭТО. А он, призрак, казнит меня за всё, что я сделал в жизни. За то, что я сделал его. Он казнит меня за всё, он кладёт мою голову на плаху, он примеривается, как палач, чтобы попасть с первого удара. И попадает, он знает, где больно. Он недаром поминает Елизавету. ОН ЗНАЕТ. Елизавета, простишь ли ты меня? Простишь ли?
Сцена V
Бельвуар. Рэтленд на постели. Елизавета. Сидней. 25 июня 1612 г.
Рэтленд: Кажется, всё, Елизавета. Мне так плохо, как никогда ещё не было. Я даже не скрываю от тебя. Не думал, что Италия меня доконает. Не думал, что так скоро.
Елизавета: Подожди, подожди, врач говорил, что ещё есть тень надежды. Подожди.
Рэтленд: Тень скрылась, призрак сгинул, видения пропали. Осталась явь, грубая материя, жёсткая действительность. И только мы с тобой ещё играем, ещё доигрываем нашу пьесу, а суфлирует Смерть, знаменитый суфлер. От его подсказки не уйти.
Елизавета: Роджер, подожди, останься, ты ещё не дописал последнюю пьесу, не оставляй меня, Роджер, ты же знаешь, я уйду вслед за тобой. Пожалей меня.
Рэтленд: Я уже не могу. Она тащит меня, тащит изо всех сил. Проклятая, она тащит меня, эта лихоманка, она не отпускает. Елизавета, запомни, похороны должны быть тайными. Никто не должен видеть моё лицо, никто не должен оплакивать. Всё должно быть скрыто от людей, от этих неотвязных соглядатаев. Ты слышишь? Ты сделаешь это? Я прошу тебя, это просьба умирающего, её нельзя не выполнить. Слышишь?
Елизавета: Роджер, я знаю, я иду с тобой. Смерть не страшнее жизни, я знаю, знаю. Никто не увидит наших лиц, никто. Ты не подарил мне человеческой любви, Роджер, ты даришь мне смерть, как твой Гамлет твоей Офелии. Но я благодарна тебе. Ты не скрыл от меня твой гений, я помню наизусть твои строки. Это, быть может, стоит любви, стоит жизни. Я не виню тебя, я пошла на это, я люблю тебя, я умру с тобой.
Рэтленд: Нет, позже, позже! Хоть на несколько дней, но позже. О, Господи! Но ты ведь так молода, зачем умирать? Останься, останься, Лиззи! О, если бы избавиться от болезни, если бы вернуться к тебе! Всё было бы иначе, я люблю тебя, я любил тебя.
Елизавета: Как сорок тысяч братьев любить не могут? Увы, Роджер, поздно. Всё кончено. Пьеса разыграна, занавес опускается, публика расходится, свет гаснет навсегда. Мы уходим за кулисы, а там Смерть. Она вылезла из суфлёрской будки, она ждет. Она дождется. Любовь без любви, трагедия без автора, похороны без плача, прощание без прощания. Эту пьесу, Роджер, ты сыграл сам, здесь тебе не понадобился Шакспер. Только я одна твой соавтор, но так ведь было всегда.
Рэтленд: Елизавета, прости меня. Теперь уж поздно, всё кончено. Мы уходим со сцены жизни, но на сцене Вечности мы ещё сыграем, всё только начинается, Елизавета. А сколько зрителей, сколько зрителей! Столетья, столетья, столетья. Шекспир, Страдфорд, Шакспер, 44 шиллинга… А он расписаться не умеет! Вот смех-то, я буду смеяться в гробу над всем этим вечным дурачьём, этим пошлым вечным дурачьём. Его ведь не переубедишь никогда, до скончания времён! О, Господи, как смешно, я буду смеяться, я не перестану никогда.
Елизавета: А я плакать, плакать, я не перестану никогда, я буду плакать над твоей и своей жизнью, твоей и своей смертью, над этой страшной игрой в жизнь и смерть, игрой, которая не окончится никогда, игрой, которую ты проиграл, Роджер, проиграл всё, что имел — себя, меня, проиграл Время и Вечность, проиграл судьбу, а кому — актёришке, ростовщику, ничтожеству. А для чего — так, ни для чего — игры ради, а сейчас уже поздно, всё, конец. Роджер, Роджер, почему ты умолк, ответь мне, Роджер, Роджер, прости меня, не умирай, прости! О, Боже мой, он умер. Я осталась одна. Я и мои слёзы. И всё. Всё и навсегда (плачет). Да, я буду теперь плакать всегда, я предрекла себе, теперь я буду плакать. Он — смеяться, я — плакать. Навеки вечные. Как ты хотел, Роджер. Я скоро приду к тебе, до свиданья, мы увидимся там. Я буду плакать, ты — смеяться. Ты ждёшь меня. Я иду.
Эпилог
Замок Бельвуар. Июль 1612. Дворецкий. Шакспер.
Шакспер: Сэр Роджер звал меня? Как здоровье его Светлости, как здоровье леди Елизаветы?
Дворецкий: Сэр Роджер умер, господин Шакспер. Леди Елизавета не пережила его Светлости и ушла вслед за ним через несколько дней. Они уже в земле, их нету на свете, господин Шакспер. Я выполняю их последнюю волю — здесь 44 шиллинга. Это последние, господин Шакспер. Вы сделали своё дело. Вы сыграли свою роль. Леди Елизавета просила перед смертью передать Вам её последнюю просьбу — покиньте Лондон, вернитесь в Страдфорд. Не вспоминайте об его Светлости и миледи, господин Шакспер, забудьте о них, забудьте навсегда. Не говорите никому, храните тайну, Вам порученную. Вам хорошо платили, господин Шакспер, да Вам и невыгодно выдавать сэра Роджера, зачем Вам это? Вы выполните последнюю волю леди Елизаветы, не так ли, сэр?
Шакспер: Да, я сделаю. Я вернусь домой. Хватит игры, хватит театра. Пора делом заняться. Я никому не скажу, я-то не скажу. Но знают другие, не я один. А я не проболтаюсь, будьте покойны. Уговор дороже денег. Я могу идти, сэр?
Дворецкий: Да, можете, господин Шакспер. Тайну не выдаст никто, она пребудет вовеки. Всё кончено, господин Шакспер, прощайте. Всё кончено, возвращайтесь в Страдфорд, доживайте свой век. Доживайте свой век, господин Шакспер, не думайте ни о чём. Всё кончено, прощайте. Всё кончено.
КОНЕЦ
1996
Пером вечности
Судьба Тютчева удивительна. «Насквозь поэт», по слову Хомякова, он совершенно не заботился о своих стихах, не думал о своём поэтическом пути, был далёк от литературной жизни своего времени. И притом был едва ли не лучшим поэтом XIX века, если иметь в виду чисто художественную ценность строк, меткость метафор, божественную точность эпитетов. Что это? Ещё одна загадка творчества, феномен гениальности? Об этом стоит задуматься.
И в самом деле: для нас — главное поэзия Тютчева, погружаясь в неё, мы делаемся сопричастны чуду, всё остальное — интересно, не более. Что нам до его литературного пути, до его житейских перипетий? Есть строки, лучше которых порой не сыщешь на земле — и довольно. И всё-таки… Всё-таки…
Тютчев был на 4 года моложе Пушкина, на 11 лет старше Лермонтова. Казалось, он предназначен судьбой стать одной из звёзд Пушкинской плеяды, быть вместе с Боратынским, Жуковским… Может статься, что-то подобное и произошло бы, но история не знает сослагательного наклонения.
Совсем ещё юношей Тютчев покидает Россию на долгие два десятилетия. Дипломатическое поприще не было, конечно, эмиграцией, но для поэта уход из языковой среды, из литературного процесса своего времени всегда мучителен и даже трагичен. Но кто знает, чего хочет Бог? Языковая среда затягивает, не даёт взглянуть на неё со стороны, литературный процесс приучает к своим штампам, своему господствующему направлению, к моде, наконец. От всего этого был избавлен Тютчев. И поэзия его развивалась по своим внутренним законам, соприродно его духу.
Язык был в нём самом, как позже в Бунине, да и дядька его Хлопов не давал забыть исконное русское слово, к которому с деревенского помещичьего детства был приучен Тютчев. Конечно, отрыв сказывался. Я думаю, отсюда диковатые ударения в стихах, головоломные порой обороты.
Ведь французский, по свидетельству Льва Толстого, Тютчев знал лучше русского, в немецкой языковой среде вращался постоянно. Беседы с Шеллингом, с Гейне даром не прошли. Но смелые опыты с размерами стихов, прихотливые изгибы ритма — несомненно, от чтения Гёте, Гейне, Ленау. Таких изгибов и размеров тогда не знала русская поэзия, да и позже не знала, до времён Блока. Что же касается непогружённости в литературный процесс… Вдали от литературных споров, литературной борьбы Тютчев не должен был ничего писать из полемики, его вдохновение питалось чистыми истоками, Геликон его был не замутнён. Это не значит, что поэту так и надо жить, у каждого своя судьба, но для Тютчева-поэта жизнь за границей оказалась не губительной, скорее даже полезной.
Но вот он возвращается. И ничего не меняется. Он по-прежнему не интересуется судьбой своих стихов, отзывается о них пренебрежительно, именует их виршами, писание их — бумагомаранием.
Что это? Обида на современников, почти не знающих его? Но поэту важнее отзывы сотоварищей по цеху. Ещё в 1836 году Тютчев от Гагарина узнаёт о восторженном приёме его стихов Жуковским, Вяземским, «должном», по словам Гагарина, отношении к ним самого Пушкина. Но Тютчев реагирует, по крайней мере, внешне достаточно спокойно, светски вежливо, я бы сказал.
Брюсов приводит его строки из письма Гагарину. Не правда ли, странно после восторгов Жуковского и Вяземского называть свои стихи «бумагомаранием»? Однако называет.
Тут какая-то затаённая боль, едва уловимая горечь. Трудно всё-таки принять его слова за чистую монету.
Но, увы, и через много лет они повторяются, когда речь идёт о только что изданном сборнике его стихов. Даже нам, из другого столетия, другого тысячелетия больно читать такое. Не верить… Но нет оснований. Вспомним известные эпизоды о диктовании дочери гениального стихотворения «Слёзы людские».
Вернувшись домой, весь промокший, пока камердинер раздевает его, он диктует эти великие строки. А если бы дочери не было дома? Записал бы он «Слёзы людские»? Или забыл, как, вероятно, не раз случалось? Или другой случай — после служебного заседания за ним подбирают клочок бумаги — а там великолепные стихи. Невольно вспоминаешь Хлебникова, который тоже бросал бумажки со стихами куда попало, а Бурлюк ходил за ним и подбирал. Но Хлебников был человек, скажем так, вообще странноватый. Тютчев же, говоря медицинским языком, реагировал вполне адекватно.
Когда ему в лицо говорили, какой он замечательный поэт, как гениальны его стихи, он, по слову современника, «весь сжимался». И снова охватывает странное чувство. А может быть, поэту так и надо?
Вспомним русскую поэзию 40–60-х. Нарочитая прозаизация стихотворной речи, жёсткие интонации, какое-то разговаривание стихом или утомительная слащавость, заигранные перепевы. Некрасов, Плещеев, Каролина Павлова, Аполлон Григорьев, с одной стороны, Майков, Полонский, Щербина — с другой, позже родственный Фет, но в целом всё чуждо. Вот хотя бы одна строчка Аполлона Григорьева, замечательного, кстати, поэта: «Он вас любил, как эгоист больной». Могла ли такая строчка «затесаться» в стихи Тютчева? Никогда, ни при каких условиях.
И дело не в тягучей интонации, не в невероятном для поэтической мысли сочетании «эгоист больной». Дело в другом. Григорьев писал пером русского литературного XIX века, второй его половины. Тютчев писал пером Вечности. Вот в этом всё дело. И поэтому, как пушкинский Моцарт, разбрасывал свои божественные создания где попало, и сжимался, когда слышал восхваления своим стихам.
Поэтому держался особняком, был далёк от поэтов, от журналов, от критики. Но был зато близок к поэзии. Был самой поэзией. Здесь, мне кажется, разгадка тайны Тютчева.
Судьба русского поэта в эмиграции
(На примере В.Ф.Ходасевича)
Изгнание — вынужденное пребывание где-нибудь.
Эмиграция — вынужденное или добровольное переселение из своего отечества в другую страну.
Ожегов. Словарь Русского языка.
Эмиграция и изгнание — синонимы, и Даль и Ожегов в этом сходятся. Правда, эмиграция ещё бывает добровольной. Увы, не такой была судьба русских поэтов в двадцатом веке.
Но сначала вспомним о временах древних, когда слова такого «эмиграция» не было, а изгнание было, да ещё как. Вот — Древняя Греция. Феогнид из Мегары. Аристократ, изгнанный плебсом — подлыми, как он сам пишет. Феогнид — поэт, но ещё и воин. Он полон желания отомстить, взять реванш. Он не просто хочет вернуться, он хочет вернуть родину не только себе, но своим единомышленникам, соратникам. Такие были и в России через много веков. Послушайте Феогнида:
Странствуя, быть мне пришлось и в богатой земле сицилийской, Быть и в евбойских пришлось лозами красных садах, В Спарте счастливой я был, тростниковым омытой Евротом, С лаской и честью везде гостя встречали друзья, Всё же ничем я не мог усладить огорчённого сердца, Всё ж не нашёл ничего родины милой милей. Феогнид из Мегары. ЭлегииИзгнание Овидия — иное. Его попросту выгоняют из Рима, не слушая жалоб и стенаний. Беда рухнула на него, как кирпич с крыши на уличного прохожего — неожиданно и страшно. Овидий не воин, да и не было у него противоречий с Римом, с Августом. Он просто, выражаясь языком совсем другого века, «попал в историю». Тем не менее, судьба всех изгнанников похожа — либо гнев, либо плач, либо проклятия, либо мольбы, а чаще и то и другое.
Ежели кто-нибудь там об изгнаннике помнит Назоне, Если звучит без меня в Городе имя моё, Пусть он знает: живу под созвездиями, что не касались Глади морей никогда, в варварской дальней земле, Вкруг сарматы, народ дикарей и бессы и геты — Как унижают мой дар этих племён имена. Овидий. Элегии и малые поэмыИ в другом месте:
Ссыльного участь, поверь — неизбывный источник для жалоб; В этих стихах не я — участь моя говорит. Овидий. Элегии и малые поэмыСразу отметим, что ссылка и изгнание — вещи всё-таки разные, сослать ведь могли и в пределах отечества. Главный пример — Пушкин.
В средние века клеймо изгнанничества настигает поэтов не менее часто. Судьба Данте всем известна. В сущности, «Комедия», особенно «Ад», для того и написана, чтобы расквитаться с врагами, изгнавшими поэта из родной Флоренции.
Ближе к нашему времени покинуть Англию вынуждают Байрона, и хотя здесь случай другой, поэт не впадает в отчаяние, не полыхает гневом, но презрение и горечь переполняют его. Байрон, в чьих жилах текла норманнская кровь, был склонен к путешествиям, к авантюрам, он считал себя гражданином мира. Но, «простясь, как добрый враг с моей страной», он всё же тоскует по ней, эта тоска угадывается, хотя строки, казалось, говорят иное:
Я изучил наречия другие, К чужим входил не чужестранцем я. Кто независим, тот в своей стихии, В какие ни попал бы он края, — И меж людей и там, где нет жилья, Но я рождён на острове Свободы И разума — там родина моя, Туда стремлюсь! И пусть окончу годы На берегах чужих, среди чужой природы, И мне по сердцу будет та страна. И там я буду тлеть в земле холодной — Моя душа! Ты в выборе вольна. На родину направь полёт свободный, И да останусь в памяти народной, Пока язык Британии звучит. Д.Г.Байрон. Сочинения в трех томах, том 1Настоящий поэт и не может чувствовать и мыслить иначе. Такова же была судьба Шелли.
А теперь переходим к главной теме — к поэту Владиславу Ходасевичу и его судьбе. До Октября 1917 года, который сам Ходасевич назвал катастрофой, он был уже известным поэтом и не помышлял об эмиграции. Но катастрофа произошла. И в эти же годы поэта посетила настоящая любовь, и вот это страшное — революция и прекрасное — любовь причудливо сплелись и изгнали — увели его из России. Был 1922 год. Здесь необходимо процитировать ту, кого полюбил Ходасевич, Нину Берберову — «Курсив мой», её воспоминания, главную её книгу:
«Ходасевич принял решение выехать из России, но, конечно, не предвидел, что уезжает навсегда. Он сделал свой выбор, но только через несколько лет сделал второй: не возвращаться. Я следовала за ним. Если бы не встретились и не решили тогда «быть вместе» и «уцелеть», он, несомненно, остался бы в России — нет никакой даже самой малой вероятности, чтобы он легально выехал за границу один. Он, вероятно, был бы выслан в конце лета 1922 года в Берлин, вместе с группой Бердяева, Кусковой, Евреинова, профессоров: его имя, как мы узнали позже, было в списке высылаемых. Я, само собой разумеется, осталась бы в Петербурге. Сделав выбор за себя и меня, он сделал так, что мы оказались вместе и уцелели от террора тридцатых годов, в котором почти наверное погибли бы. Мой выбор был он, и моё решение было идти за ним. Можно сказать теперь, что мы спасли друг друга».
Они вырвались. Впереди была чужбина.
Первым городом за границей, где остановились наши герои, был Берлин. Здесь поначалу много эмигрантов. Чужие стены, чужой воздух. Но кругом ещё пока много близких, звучит родная русская речь и в чьих устах. Быт ещё не мучает, не продавливает душу, дух воистину дышит, где хочет. А Германия 20-х для русской эмиграции пока ещё гостеприимна. Ходасевич и Берберова вместе. У него рождаются стихи, она слышит, как шумит ей в уши не только Балтийское море, нет, Серебряный век, спасшийся от большевистского потопа на клочке Европы, шумит вокруг.
Поездка в Италию. Жизнь в гостях у Горького в Херингсдорфе на берегу Балтийского моря, а позже на Капри, Прага, где сдружились с Мариной Цветаевой. И, наконец, Париж, и наступают будни, подлинный тяжёлый эмигрантский быт, и только творчество и любовь преображают его в бытие.
Разлука с Родиной, для поэта особенно, мучительна. Он теряет язык, что бы там ни говорили апологеты эмиграции. Да, ностальгия рождает великую поэзию, музыку, живопись. И у Ходасевича так было. И в случае Мицкевича и Словацкого, Байрона и Шелли, и, конечно, Цветаевой и Георгия Иванова, и Набокова, и, наконец, Бродского. Но не эмиграция рождает поэта. Тут другое. Бердяев однажды написал: «Обогащает не само зло, обогащает та духовная сила, которая пробуждается для преодоления зла». Вот этой силе мы и обязаны «Европейской ночью», но зло, о котором говорил Бердяев, всё же заставило замолчать великого поэта за десять лет до смерти.
Нищета. Иногда голод и холод. Тесный и грязноватый отель на улице Амели. Постоянные болезни. Документ «апатридов», людей без родины, не имеющих права работать на жалование, принадлежать к служащим и пролетариям, имеющим место и постоянный заработок.
Россия для них закрыта. Там большевистская власть всё сильнее и тюремнее. Ходасевичу обратной дороги нет. Берберова пишет о тех отчаянных днях: «Ходасевич, измождённый бессоницами, не находящий себе места: «Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу жить и писать». Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный «личный» или «частный» ад вокруг себя и как тянет меня в этот ад, и я доверчиво шла за ним… Я леденею от мысли, что вот, наконец, нашлось что-то, что сильней и меня и всех нас. Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России — и умоляет меня умереть вместе с ним».
Страшные слова, страшные признания. Быт уничтожал бытие жадно и безжалостно. Но Ходасевич тогда ещё писал стихи, рыцарь ещё сражался своим огненным мечом с фосфоресцирующим скелетом Смерти, горечь и муку переплавляя в гордые слова осознания места поэзии в мире, всему, что отнято, противопоставляя собрание сочинений Пушкина в восьми томах:
Я родился в Москве. Я дыма Над польской кровлей не видал, И ладанки с земли родимой Мне мой отец не завещал. России — пасынок, а Польше — Не знаю сам, кто Польше я. Но: восемь томиков, не больше, — И в них вся родина моя. Вам — под ярмо поставить выю Иль жить в изгнании, в тоске. А я с собой свою Россию В дорожном уношу мешке. Вам нужен прах отчизны грубый, А я где б ни был — шепчут мне Арапские святые губы О небывалой стороне.Памятник
Во мне конец, во мне начало. Мной совершённое так мало! Но всё ж я прочное звено: Мне это счастие дано. В России новой, но великой, Поставят идол мой двуликий На перекрёстке двух дорог, Где время, ветер и песок…В эмиграции особенно угнетающе на Ходасевича действовала двойственность жизни — необходимость зарабатывать хлеб насущный и духовная необходимость — творить. Как пишет исследователь поэзии Ходасевича Н.А.Богомолов: «Эта невозможность соединить газетную подёнщину, выполняемую неизвестно для кого, и серьёзное творчество послужили для Ходасевича сигналом того, что с этого времени не только поэт-Орфей, поэт-пророк никому не нужен, но и всякие серьёзные занятия литературой должны уйти в прошлое. В письме к Берберовой от 16 августа 1932 года он пишет: «Думаю, что последняя вспышка болезни и отчаяния были вызваны прощанием с Пушкиным (речь идёт о несостоявшемся не по вине Ходасевича замысле биографии Пушкина). Теперь и на этом, как на стихах, я поставил крест. Теперь нет у меня ничего. Значит, пора и впрямь успокоиться и попытаться выуживать из жизни те маленькие удовольствия, которые она ещё может дать, а на гордых замыслах поставить общий крест» (Н.Богомолов. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича в книге «Владислав Ходасевич. Стихотворения»).
Тяжело ему было видеть и политическое оглупление не только русской эмиграции, но и европейской интеллигенции. Левое помешательство захватывало Европу (увы, и сейчас ещё, в 2013 году, не отпускает). Но тогда… Во Франции Ромэн Роллан, Андре Жид и многие, многие. С их подачи верили советской России, Горькому и ему подобным. Знаменитое письмо русских писателей 1928 года об ужасах советской жизни, о подавлении творчества, о всеобъемлющей цензуре никак не подействовало на «просвещённый мир». Ему попросту не придали значения, не поверили. И Ходасевичу, Бунину, Мережковскому, Зинаиде Гиппиус — тем, кто ещё сохранил честь и совесть, кто видел, что происходит — было особенно тяжко на европейской земле. Люди убежали от зла и вдруг почувствовали, что зло проникает в окружающих, одурманивает их. Как в каком-нибудь научно-фантастическом рассказе Брэдбери, который ещё появится через десятки лет. А они — Ходасевич, Бунин, Мережковский и иже с ними — почувствовали это в реальной жизни — здесь и сейчас. Эмиграция предавала в самом главном — они ей доверились, а она не верила им, не слушала, верила врагу.
Это было тяжким разочарованием, ещё одним из многих на дороге изгнанничества.
Не выдержав испытания бытом, болезнями, страданиями Нина Берберова ушла от Ходасевича в 1932 году.
За последние десять лет жизни поэтом написаны воспоминания, статьи и всего несколько стихов. Необратимо, неотвратимо повлияла на Ходасевича эмиграция, разбив его сердце, но как прекрасны, как эстетически безупречны эти «осколки» — стихи «Европейской ночи».
* * *
Сквозь облака фабричной гари Грозя костлявым кулаком, Дрожит и злится пролетарий Пред изворотливым врагом. Толпою стражи ненадёжной Великолепье окружа, Упрямый, но неосторожный, Дрожит и злится буржуа. Должно быть, не борьбою партий В парламентах решится спор: На европейской ветхой карте Всё вновь перечертит раздор. Но на растущую всечасно Лавину небывалых бед Невозмутимо и бесстрастно Глядят: историк и поэт. Людские войны и союзы, Бывало, славили они; Разочарованные музы Припомнили им эти дни — И ныне, гордые, составить Два правила велели впредь: Раз: победителей не славить. Два: побеждённых не жалеть.Эти стихи — предостережение, которое не услышали. Уже через 16 лет после его написания разразилась вторая мировая война, порвавшая карту Европы. Владислав Фелицианович Ходасевич умер за несколько месяцев до её начала — 14 июня 1939 года. Он не успел последовать правилам, провозглашённым в собственных строчках. Но это завет будущим поэтам. Да, в сущности, всем людям, которому, увы, не последовали и вряд ли последуют.
Ходасевич понимал, как важно помнить прошлое и предугадывать будущее. Но ещё важнее ощущать настоящее частью себя. Без этого нет поэта. Берберова почти сразу узнала в нём человека «раненного нашим временем». Как поэт он был, по крайней мере, где-то с 1914 года поэтом двадцатого века, наследником Блока, которого другой поэт XX века — Николай Заболоцкий считал поэтом века XIX, впрочем, в своём суждении будучи не совсем прав. Блок третьего тома уже во многом поэт нашего времени, а поэма «Двенадцать» послужит ему пропуском в XX век, а, может, кто знает, и в XXI. Но стихов «Европейской ночи» из двадцатого века изъять невозможно. Они его плоть и кровь. И с двадцать первым аукаются.
Берберова была поэтессой незаметной, но одна её строка помнится: «Мы не в изгнании, мы в послании».
И это во многом относится и к Ходасевичу. Его судьба, его путь — это воистину послание к нам сегодняшним. И отношение к большевизму, шире говоря, к левым течениям XX века. Это всё чрезвычайно актуально. Сколько людей ещё обманываются этими затхлыми иллюзиями. И самое страшное, когда эти люди стоят во главе государств, решают судьбы мира.
Другой поэт-изгнанник Георгий Иванов блистательно заклеймил их:
Рассказать обо всех мировых дураках, Что судьбу человечества держат в руках.И Марина Цветаева почуяла двадцатый век по-настоящему в эмиграции, в предвоенной Европе:
Ползёт подземный змей, Ползёт, везёт людей, И каждый со своей Газетой (со своей Экземой!). Жвачный тик, Газетный костоед. Жеватели мастик, Читатели газет — Кто чтец? Старик? Атлет? Солдат? Ни черт, ни лиц, Ни лет. Скелет — раз нет Лица: газетный лист!И опять Ходасевич, опять «Европейская ночь»:
Звёзды
Вверху — грошовый дом свиданий. Внизу — в грошовом «Казино» Расселись зрители. Темно. Пора щипков и ожиданий. Тот захихикал, тот зевнул… Но неудачник облыселый Высоко палочкой взмахнул. Открылись тёмные пределы, И вот — сквозь дым табачных туч — Прожектора зеленый луч. На авансцене, в полумраке, Раскрыв золотозубый рот, Румяный хахаль в шапокляке О звёздах песенку поет. И под двуспальные напевы На полинялый небосвод Ведут сомнительные девы Свой непотребный хоровод. Сквозь облака, по сферам райским (Улыбочки туда-сюда) С каким-то веером китайским Плывёт Полярная Звезда. За ней вприпрыжку поспешая, Та пожирней, та похудей, Семь звёзд — Медведица Большая — Трясут четырнадцать грудей. И, до последнего раздета, Горя брильянтовой косой, Вдруг жидколягая комета Выносится перед толпой. Глядят солдаты и портные На рассусаленный сумбур, Играют сгустки жировые На бедрах Etoile d‘amour, Несутся звёзды в пляске, в тряске, Звучит оркестр, поёт дурак. Летят алмазные подвязки Из мрака в свет, из света в мрак. И заходя в дыру всё ту же, И восходя на небосклон, — Так вот в какой постыдной луже Твой День Четвёртый отражён!.. Не лёгкий труд, о Боже правый, Всю жизнь воссоздавать мечтой Твой мир, горящий звёздной славой И первозданною красой.Язык жесток, как дантовский «чёрствый хлеб изгнания», точность убедительна, как слова умирающего. Ни пафоса, ни плача, ни стона, ни полутона.
Интонация выразительна, как взгляд летящего в бездну, взгляд, а не крик.
И возникает вечный вопрос искусства — что важнее — жизнь или творчество? Каждый решает по-своему, но настоящий поэт решает так, как Ходасевич. И трагедия эмиграции дивно преобразуется в бессмертные стихи. И мы, жалея человека-Ходасевича, сочувствуя его судьбе изгнанника, упиваемся его поэзией, понимая в душе, что не будь эмиграции — не было бы этих стихов. Странный, жестокий цинизм нашей психики — мы внутренне уже не согласны с другим поворотом судьбы поэта, мы принимаем это как факт искусства, эстетическое побеждает человеческое, и, в сущности, на этом и держится настоящее искусство. И это выбор поэта, выбор творца. А, значит, и наш выбор.
Закончить я хочу словами Ходасевича из его письма к бывшей жене А.И.Чулковой:
«Офелия гибла и пела» — кто не гибнет, тот не поёт. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернёт меня. Я зову с собой — погибать. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль её. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то просится на дорожку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают…»
Автобиография
Я родился 5 сентября 1938-го года в Ленинграде.
Отыщу ли я себя в том дальнем, полузабытом, что называется, прошлым? Дом на Большой Московской и сейчас стоит. После капитального ремонта он упрочился, будто возвысился. Улица поделилась надвое — половина пешеходная, а другая, близкая к дому, прошита транспортом насквозь. Каково нашим бывшим комнатам, таким нашим тогда? Что видно из кухни — маячит ли вдалеке тёмным поднебесным золотом Исаакий? А что во дворе, где метался мяч, где с криками бегали, забивали голы? Нет двора, разошёлся в разные стороны, пусто, превратился в проход к следующему дому, выставленному окнами на Разъезжую. И жизнь, в те годы такая всамделишная, такая всеми своими извилистыми корнями привязанная к земле, такая вбитая в тротуар — где она? Где соседские мальчишки, с которыми играл, возился, мотался, перекрикивался, сговаривался, — где? Где Володька Шостакович, родной племянник композитора, Володька, чей отец издали особенно похож был на маленького, упрямо спешащего куда-то гения? Где Юрка Браверманн — высокий, чернявый, сильно бьющий по мячу в мои вратарские владения? Где братья Якунины — Женька, Володька, а старший Юрка погиб, карабкаясь по водосточной трубе на 5-й этаж, обожгла губы глупая сигаретка, дёрнулась рука, скатилась ступня с покатой железяки и всё — разом, навсегда — в смерть, в кровь. И не только они — кого помню. Но и те, кого не помню, да и не знал — все исчезли, пропали для меня теперешнего, как и я для них.
А когда вспоминается детство — Под Уфою бараки в снегу — Никуда от печали не деться, И хотел бы — вовек не смогу. Завывала пурга-завируха, В репродуктор ревела война, И преследовала голодуха Год за годом, с утра дотемна. И ни сказки забавной и звонкой, Ни игрушек — весёлой гурьбой — Жизнь пугала чужой похоронкой, Заводской задыхалась трубой. Пахло холодом и керосинкой, Уходил коридор в никуда, И в усталой руке материнской Всё тепло умещалось тогда.Из того времени запомнился один случай. Жили мы голодно, в бараке, как многие тогда. Однажды я занимался тем, что бросал камешки куда-то на чердак, они рикошетом разлетались в разные стороны. Я был очень увлечён, ничего кругом не видел. И вдруг всё оборвалось — откуда-то набежали люди, схватили меня, потащили. Всё было, как в страшном сне. Оказывается, мимо шла женщина с бутылкой молока, и камешек разбил бутылку. Родители, конечно, возместили ей стоимость бутылки с молоком, но до сих пор я чувствую ужас, хлынувший тогда в душу. Близкое к тому ощущение я испытал через много лет. И тоже всё было, как во сне — набежавшие смутные злые люди, их крики и внезапность моей вины перед ними. И тот ужас, хлынувший в душу. А тогда продолжалась эвакуация, Уфа, зима.
Потом помню 9 мая 1945 года. Небо пылало. Мерцало, переливалось. Мы стояли с мамой, держась за руки, и смотрели на него. Кругом был полуразрушенный город, хмурые лестницы. В наш дом в блокаду попали две бомбы. Рассказывали, что сосед с четвёртого этажа брился, и ему оторвало голову с намыленными щеками. Девочка из нашей квартиры на пятом этаже была на кухне, пол провалился, но она оказалась под столом и приземлилась, как под крышей, без повреждений. Этот «юнкерс» летел бомбить Витебский вокзал, но промахнулся и попал в наш дом. Его сбили. Пилотом была женщина.
Помню тёмный запах послевоенной поры. Всё было втёмную — город, люди, трамваи… Инвалиды-обрубки на катящихся квадратных досках. Каково им было смотреть снизу на нас… Как курили они свой беломор, окурок не отцеплялся от дымящихся губ, торчал, ходил дымными кругами. И пахло помесью этого дешёвого дыма, тяжёлого мужского пота, пахло мертвецкой и шалманом. И шум, шум — гудки, дребезг трамваев, крики, треск, утробный накат уличного репродуктора.
Школа, разбегающиеся друг от друга коридоры, сдвинутые парты в тесных классах, мы за партами, запуганное пространство, засунутое в тёмное время, и дёргаются детские голоса, бубнит голос учительницы. Я сижу, пишу диктуемое учительницей, кто-то сзади тычет мне в затылок ручкой, хватаю пенал, оборачиваюсь, бац по стриженой голове обидчика, тот в слёзы, головой свалился на парту, меня наказывают. А я знаю, что я прав, а он виноват, я злюсь на несправедливость, я чую враждебность людей — с тех пор навсегда. Школа — это недоспанное утро, хмурая, торопливая улица, страх, что вызовут к доске, хоть урок знаю, соперничество с прочей малышнёй, а малышня злая, звериная, не прощающая слабости, не прощающая ничего.
Дома хорошо. Но вижу, вижу тесноту нашей комнаты, где втроём — папа, мама, я, а дедушка с бабушкой в другой комнате, но у них своё житьё, хоть и связанное с нашим не всегда доброй ниткой. И соседи — одна комната — Павел Иванович и Анна Сергеевна — люди совсем чуждого мира, хоть говорим на одном языке, живём в одном доме, в одной квартире. Люди из другой комнаты — и это тоже навсегда.
Комната дедушки и бабушки — большая, широкая, 31 метр (наша — 26 метров). У дедушки с бабушкой посредине комнаты круглый, большой, как карусель, стол, у окна швейная машинка «Зингер», бабушка — отличная портниха, к ней ходят заказчицы, важные, по моему детскому разумению, дамы, стоят перед трюмо, вглядываются в себя, клонятся туда-сюда, бабушка булавками пришпиливает их к неровному, не готовому ещё платью, кружится по-портняжьи около с булавками в губах. Слышу порой обрывки разговора для меня непонятного. Азбука чужого ремесла — всегда чужой язык, мне тогда зачем он? Бабушка крепкая, кряжистая, умелая, работящая. С шести утра порой слышится жёсткий шелест её швейной машинки, чьё название так певуче, а голос так отрывист, нетерпелив, твёрд. Дедушка — высокий, тонкий, седой давно уже не работает, а когда-то был счетоводом, но славился, по словам мамы, не мастерством, а честностью. Дом вела бабушка, да и содержала их семью, а дедушка ходил в булочную, но большей частью слонялся из комнаты в комнату, к нам пробирался без стука, чем вызывал скрытое недовольство и папы и мамы. Почти всё время моей жизни на Большой Московской с дедушкой и бабушкой жил их младший сын Евсей, но все называли его Геся, хотя это женское уменьшительное еврейское имя. Потом он привёл жену, потом появился сын.
C той поры, как живу — знаю — два человека любят меня на земле, любят неотпускающей любовью, те двое, из чьей плоти и крови я слеплен, те двое, чья встреча высекла мой огонёк из сумрака нежизни. И как страшно сознавать сейчас, что говорить о них нужно в прошедшем времени, что их огоньки ушли, догорев, в тот самый сумрак, из которого когда-то они высветили меня, и моей горькой памяти отныне хранить мгновения их жизни, пока и меня не сдует ветер будней.
Папа — среднего роста, силач, в молодости спортсмен, чемпион Урала по прыжкам в длину, бегу, шахматист первой категории, участвовал в первенстве страны. Какие крепкие руки были у него, когда он поднимал меня над землёй, какими крупными казались стёкла его очков, каким широким, раскидистым чудился его лоб. Первые детские воспоминания — мне год, я в кроватке, и он целует, тискает меня, и я смеюсь ему в ответ, мы давно не виделись и радуемся встрече, и чувство этой радости я помню, а больше из тех лет не помню ничего — лет до четырёх-пяти.
Мама — нежная, мягкая, красивая, её улыбка обнимала меня всего, её голос казался сотканным из доброты и ласки, и ещё музыки, потому что она пианистка. Пианино — чёрное, прочное, вздымающееся от пола к стене, как крыло прекрасной птицы. А звуки, сбегающие с чёрно-белых гладких клавиш — они говорят маминым голосом, но что-то совсем иное, о чём-то своём, но и моём, и мамином, и папином, и о том, что за окном небо, летящее в высоте, и крыши соседних домов, смутно поглядывающие на землю.
А моё детство между тем окончилось, трудный возраст подростка крутил и мял мою душу. Учиться становилось всё горше, полюбил я только древнюю историю и чувствовал ещё какое-то притяжение слов и скоро (в 13 лет) стал писать стихи.
Первые почти строки: «Хотел бы я поэтом быть, среди стихов прекрасных жить, и чтоб вокруг меня они всё озаряли, как огни». Но самое первое стихотворение было другое — корявое, длинное, сейчас напрочь не помню. Но помню, что лежал больной в простуде и как-то сами собой, толкаясь и мешая друг другу, выпрастывались слова, первые мои слова, за которыми вслед потом столько ещё слов…
После школы я пытался поступить в Ленинградский университет на исторический факультет. Увы, это не получилось. В университет косяком шли люди из союзных республик и автономий, инвалиды, пришедшие из армии. Я недобрал баллов. Год пропадал, и родители пристроили меня помогать библиотекарше в 321-ю школу, где я учился с третьего по восьмой класс. Работал я бесплатно. Радовало только то, что школа эта была в прошлом первой гимназией Петербурга. Там были чудесные книги — большие, как церкви, тома Ивана Забелина «Домашний быт русских царей», «Домашний быт русских цариц». Там я впервые прочёл Иннокентия Анненского, прижизненные издания его стихов, поразивших меня пронзительной подлинностью переживаний, острой точностью слова, горькой трагической нотой и какой-то непередаваемой пряностью. Я понял, что встретился с настоящей поэзией, что после Золотого века в русской поэзии и вправду был Серебряный. Там же я познакомился с поэзией Бальмонта, который увлёк меня музыкальностью и неумолкающей лиричностью. Я уже был знаком и с Брюсовым и, конечно, с Блоком, но восприятию их, особенно Блока, вредила советская школа, навязывающая свои убогие штампы.
Тогда же, в 1956 году (или 57-м?) я прочёл в «Иностранной литературе» баллады Франсуа Вийона в переводе Эренбурга, и они навсегда остались со мной. Вообще я всю жизнь словно бы плачу долги своей юности, по сей день. Тогда же я начал собирать книги и горжусь своей библиотекой — моим прибежищем и другом в трудную минуту.
Между тем время шло. На следующий год я поступил в Библиотечный институт. А что было делать? В технические вузы я не пошёл бы под угрозой чего угодно, я совершенно был не способен к точным наукам, а гуманитарных вузов больше не было для меня. В педагогический институт имени Герцена я идти не хотел, не хотел стать педагогом, школа мне осточертела на всю оставшуюся жизнь. Но в библиотечном институте не было военной кафедры, и это мне через 4 года тяжко аукнулось.
Библиотечный институт был довольно скучным девичьим заведением. Правда, при выходе из гардероба на лестнице вас встречали мраморные юноша и девушка, но они куда-то пропали ещё в советские времена, видно, оскорбили высокий вкус кого-то из партийных начальников. Впрочем, пропавший без вести мраморный юноша ненамного увеличил бы наш куцый мужской контингент.
Но нет худа без добра — в институте было несколько очень хороших преподавателей. Древнерусскую литературу вёл Кононов. Я забыл многие имена и его имя-отчество в том числе. Но как он читал! У него было два образования — филологическое и театральное, и он изображал в лицах то Фролку Скобеева, то Ерша Ершовича. Это было чудно. С тех пор люблю всей душой русскую литературу средневековья, её мощный полнозвучный слог, её гулкий голос, жёсткую хитрецу и гневную настоятельность. Прекрасно читали свои курсы преподаватели зарубежной литературы и русского двадцатого века — Таманцев и Раскин.
В библиотечном институте учиться мне было легко — многое из литературы, из истории я знал не хуже преподавателей, скучны были только типично библиотечные предметы — библиотековедение, библиография.
Но главным была поэзия. Мне, наверное, повезло: я проходил свой поэтический путь в русской поэзии от Кантемира и Тредиаковского к Державину, а дальше к Жуковскому и дальше, дальше, но не отбрасывал бывших кумиров, они все оставались со мной. Лермонтов был не только юношеской любовью, как у многих, он остался со мной на всю жизнь, как и Пушкин, конечно. Тогда же пришёл черёд Боратынского с его гордой суховатостью, с его жёсткой проникновенностью. Помню, как поразил при первом прочтении Тютчев, как приковал к себе навсегда Фет с его дивным воссозданием русской природы. Подходила пора и поэтов двадцатого века, но об этом позже.
Нам, детям сталинского застенка, называемого тогда жизнью, случилось читать мировую литературу в переводах лучших поэтов, которым зажали рот, и они отдавали свой дар великим иноземцам. Данте в переводе М.Лозинского, Шекспир в переводе Б.Пастернака и того же Лозинского, Гёте в переводе Пастернака, Байрон в переводе Т.Гнедич. Да и само искусство перевода необыкновенно выросло в те годы. Воистину оправдались строки А.Майкова — «чем гуще мрак, тем ярче звёзды».
Байрон в переводах Вл. Левика, упомянутой уже Т.Гнедич, В.Жуковского, А.К.Толстого стал любимейшим моим поэтом. Конечно, и жизнь его, весь его прекрасный облик поэта-героя, красавца-воина — всё покоряло меня.
Десятилетним мальчиком я прочёл взахлёб «Три мушкетёра» и заболел Францией XVII века, Францией звонкой шпаги и блистательных диалогов. Наверное, сто раз перечитывал я Дюма. Где-то лет 14-ти прочитал я «Преступление и наказание» — самую, быть может, искреннюю книгу Достоевского, где в разных героях двоится-троится его страшноватая, тёмная душа. «Война и мир» меня забрала всего, обволокла с головы до ног правдой каждого слова, жеста, движения. И хотя как-то не верилось в такое быстрое преображение Наташи в примерную родительницу, а Пьера в домовитого хозяина, да и послероманные рассуждения разочаровывали, но всё прощалось великой божественной силе творца. И многих я тогда прочёл — и французов, и англичан, и дальних, и ближних, но уже подходило время не книг, а жизненных перипетий.
За четыре года обучения в библиотечном институте меня посылали, как и прочих студентов, в колхоз, где хозяйничала бедность и голодуха (в первые же дни у меня украли домашние припасы — сливочное масло, колбасу, ещё что-то). Люди там и вправду света божьего не видели — ещё солнце едва всходило, они уже вкалывали в коровниках, свинарниках, на полях. Только в конторе начальство начинало копошиться попозже. Там мы помогали собирать картошку, работали на прополке. Я писал тогда: «Борозде ни конца и ни краю, и зелёной молясь звезде, умираю я, умираю, умираю на борозде». Ощущение, конечно, паническое, но верное. Девчонки справлялись как-то шустрее, бывало, разогнёшься, подымешь голову и видишь, как впереди быстро передвигаются их чёрные фигурки в резиновых сапогах и капюшонистых куртках. А с неба дождь, сырость, хмарь, пасмурь…
После второго курса послали нас на целину, аж на три месяца, было очень тяжело, вставали в 7 утра. Работали до трёх ночи — что делать — уборочная. Я работал на комбайне копнителем, грузчиком на машине, разгружая силос, недолго на току. Это было в Казахстане, село Бахмут. Там впервые встретил я ссыльных немцев. Их в 12 часов выслали с Волги в 1941 году.
Жили мы в саманных домиках, кругом была степь. Я писал: «Как в степи человек одинок — ни людей, ни домов, ни дорог, только дали, и дали, и дали, и горит — огонёк ли? звезда ли? на далёкой последней черте, недоступной подобно мечте».
В последний институтский год послали на стройку в самом Ленинграде. Мне пришлось красить крышу на седьмом этаже огромного дома, и я вдоволь нахлебался страха высоты. Красили мы вдвоём с рабочим парнишкой, девчонки же институтские работали в неотделанных комнатах дома, циклевали, штукатурили, красили.
Скоро окончил я институт, получил диплом библиотекаря-библиографа высшей квалификации, хотя таковым себя не чувствовал. Да и вообще верный способ разлюбить книги — работать библиотекарем, отчего я от этой работы бежал, где было возможно, как чёрт от ладана.
1962 год. Мне здорово писалось в этом году. Я никуда не совался с печатанием, но как-то несколько моих стихов попали в руки А.А.Прокофьеву, сыну известного поэта. Саня Прокофьев, как его называли вокруг, сидел тогда в «Смене» и ведал стихами. Один мой стих особенно ему пришёлся по душе: «Синее небо и бездонней, и дышит свежестью сирень, и ощущаешь всей ладонью пушистый, тёплый майский день». «Вот настоящая поэзия», — говорил он. Но, увы, Саня неожиданно умер, отравился каким-то зельем.
К тому времени у меня появились друзья, которым я читал каждое новое стихотворение, друзья, мнением которых я дорожил. Это были учившийся вместе со мной в библиотечном, но на факультете культпросветработы Коля Браун — сын известных поэтов Николая Брауна и Марии Комиссаровой, и Андрей Бабушкин, яркий, красноречивый, писавший прозу и понимавший в литературе как мало кто. Коля Браун знал русскую поэзию от корней (ещё бы, в такой семье родился). Он обладал прекрасным чувством русского языка и был человеком разнообразных способностей — и литературных, и живописных, и музыкальных, да ещё и спортивных. В таком кругу мне писалось хорошо, и молодое вдохновение бурлило вовсю. Но, увы, жизнь советская с этим не считалась. Я не поехал по распределению в Псковскую область в детскую библиотеку, пытался устроиться в Ленинграде, работал на заводе «Электросила» браковщиком. Но, как я уже написал раньше, в библиотечном институте не было военной кафедры, и вот в том же шестьдесят втором году меня забрали в армию.
26 июня надлежало явиться в военкомат, имея при себе ложку и кружку, и ясно было, что этот день последний. Меня провожали отец, мать и друг детства Витя Стукин, и тоска разлуки была общей и безраздельной. Деться от неё было некуда. Шли утром, город едва проснулся, народ мелькал у магазинов. Свернули с Большой Московской на Разъезжую, потом на Загородный и через проходной двор прямо выходили к военкомату. На пути встретилась похоронная процессия — небольшая и неторжественная, и как потом узналось, — провожали поэта Анатолия Мариенгофа. Это почудилось знаменательным, как и всё почти в эти последние дни. А когда подошли к военкомату, узнали, что отъезд переносится на завтра, и это было как отсрочка казни. Словно Мариенгоф попросил оставить тот день ему одному. И возвращались домой с тем же сдавленным чувством разлуки, ни есть, ни пить, ни думать ни о чём не хотелось. Отец ушёл на работу и мать, кажется, тоже. А что делал я — дай Бог памяти — не вспомнить. Вроде звонил кому-то, сообщал о дне задержки. Дедушка и бабушка не удивились, у них была своя жизнь, и часы в их комнате шли тихо и крадучись, как всегда. И ночь прошла, ещё одна ночь, наверняка последняя, а та, предыдущая, оказалась предпоследней, хотя в душе давно была зачёркнута крест-накрест.
27 июня тот же путь. На этот раз ничего не спасло, и пришлось забраться в тесный автобус, наскоро обняв провожающих, и долго потом ловить их лица последним взглядом из автобусного окна, отгородившего меня от моих родителей, от друга, стоявшего вместе с ними, от болезненно любимого в момент последней разлуки города.
Я попал в Заполярье, в войска ПВО (как говорили солдаты — погоди выполнять — отменят или ещё пуще — п-ц вашему отпуску). Армия давалась мне тяжело. Чуть не каждую ночь мне снились крыши домов, что виднелись из нашего окна. Зимой они снились в снегу, летом смотрели светло и железно, осенью смутно и сумрачно. Тысячу раз мне мерещились улицы, фонари, набережные, подъезды, огни машин. Я ловил себя то на Невском, то на Ямской, то на Разъезжей, то на мосту, где медленно темнели старинные цепи. А наяву — стояли койки в два этажа, мерцала лампочка, маячил телефон у двери и фигура дневального рядом. Толпа солдат в столовой, шум, дребезг и торопливость мисок, ложек. По слову Велимира Хлебникова, мой ритм не совпадал с армейским ритмом. Единственное, что нравилось — бывать в карауле. Я видел ночь глаза в глаза.
Второй год службы я отбывал на острове Витте, между Белым и Баренцевым морем. Оно шумело, набегая на скалы, громоздясь пепельно и огромно. Тундра разбегалась по острову, темнея мхами и валунами. Порою в небе играло северное сияние. Это было дивно. В небе сияли и переливались словно нотные знаки, и музыка взаправду звучала. Но люди кругом — что ж, другого и быть, наверное, не могло. Было тяжко, тоскливо. Но стихи я писал, и это мне здорово помогало. И сказать правду — солдатчина излечила меня от упоения собственной тоской и одинокостью. Я почуял, что могу и побороться с жизнью. Я стал приглядываться к окружающему, осознав вдруг его способность существовать и без меня.
В те же годы я внезапно почувствовал что-то ранее незнаемое — однажды ночью на посту, под небом, среди морского гула, — для меня это был знак Божьего присутствия, и с тех пор то мгновение всегда со мной. Спасибо папе — пока я служил, он купил Библию у знакомого священника — старинный том 1886 года. Я и раньше читал Библию, наша квартирная соседка Анна Сергеевна давала мне почитать её, и я упивался этим удивительным, ни с чем не сравнимым чтением. А уж после — и теперь — с этой книгой я неразлучен.
Вот строки:
О, Север, Север звероватый — Топорща редкие леса, Вздымая смутные закаты, Ты глянул мне глаза в глаза. Под завывание метелей И снега злую крутоверть Теперь познаю в самом деле Судьбу суровую, как смерть.Или:
Преследовал меня Полярный круг, То налетал, то вновь кружил вокруг, Дурманом вьюг, морозом леденящим, Немой и страшной темнотой ночей Брал на испуг, пугая предстоящим, Стучал в висках всё злей и горячей.Или:
Были женщины, зрелища, строки, Звёзды, зданья, ночная Нева, Милый город, какой ты далёкий, Как затерянных писем слова.В армии я видел те пороки советского строя, что и дома возмущали меня, но здесь всё выступало острее. Впервые я понял, где живу (до того — скорее, чувствовал) в 1956 году. Знаменитое письмо к съезду, выступление Хрущёва многим раскрыло глаза. Но в отличие от многих, мне сразу стало ясно, что не Сталин породил систему, а система породила Сталина. В те годы появились первые стихи, удостоенные в дальнейшем хищного внимания КГБ.
А ведь в 1953 году, когда умер Сталин, я был свидетелем огромной скорби огромной страны. Помню тёмные толпы на улицах, траурный тяжёлый голос диктора из репродуктора. Помню, в 321 школе нас собрали в актовом зале, вышел директор школы Макарий Георгиевич. Согбенный, худой человек начал говорить скудным голосом о смерти великого, незабвенного, осёкся, заплакал, повернулся, сутулясь. Стал ещё меньше и ушёл прочь, растворился во времени. А мы слушали, понурясь, кто-то всхлипывал, кто-то в голос заплакал в унисон директору.
Но то время было уже позади. В 1962 году удалось прочесть «Один день Ивана Денисовича». Словно набат прозвучал над страной. А какое диво русского языка вдруг ожило перед нами. Я тогда почувствовал, как сродни этот голос древнерусскому звуку, и с тех пор живу с этим ощущением.
Но вернёмся к армейским годам. Служба моя — стартовым номером пусковой установки, набегался я за эти 2 года и 3 месяца на позицию, где стояли ракеты. Всего 200 миль от морской границы с Норвегией, а Норвегия — член НАТО. И вот подымается самолёт с норвежского аэродрома, берёт курс в нашу сторону, а нас будят среди ночи — обувайся, одевайся, беги, до позиции метров 200, а ракета должна быть боеготовна за 5 минут. А зимой снег, лопаты — метр на метр, — бери больше, кидай дальше.
А в сотоварищах ребятки простые. Всё начальство — от ефрейтора до комбата — украинцы, за лычку готовые тебя загонять, и никуда не денешься. А всё жизнеобеспечение — сами, на своём горбу — и уголь, и дрова, и продукты. Островок — что поделаешь. Увольнительных нет, даже на губу не отправить, на месте и отбывали всякие наказания.
Но, как и всё в жизни, прошли мои армейские годы. Взошло солнце ДМБ. 26 августа 1964 года, по ощущению, самый счастливый день моей жизни. В этот день прилетел я из Мурманска в Ленинград, светлым чудесным утром шёл по любимому городу, и казалось мне, что снова снится сон, и не дай Бог пробужденья. Но, к счастью, это была явь.
За два с лишним года армейской мороки были и радостные просветы. В это время в 1962 году вышел сборник ленинградских поэтов «И снова зовёт вдохновенье». Там был напечатан впервые мой стих «К поэзии», откуда и была взята строчка, ставшая названием сборника. А уже на излёте службы в «Дне поэзии» Ленинграда за 1964 год появилось моё стихотворение «К музыке». Здесь помог Коля Браун, который отнёс несколько моих стихов в редакцию этого ежегодника, где сам Александр Прокофьев поставил жирную одобрительную птичку своим толстым красным карандашом на этом стихотворении (так рассказал мне потом Коля). И возвращался я почти известным поэтом, что, конечно, шутка, но радость моих была нешуточной.
Боже, как я радовался возвращению! Город, словно омытый разлукой, сверкал, сиял. Блестел передо мной. Я заново знакомился с дворцами, мостами, с могучей, вечно торопящейся куда-то Невой, с разбегающимися улицами, переулками, чьи названия звенели в душе там, на Севере среди сопок, кустарников, мхов. Всё отзывалось стихами и звало к стихам. И мне писалось, писалось.
От Невской бестолковой бучи, Где шум, огни и толчея, К великолепному созвучью Колонн и неба вышел я. Там под квадригой театральной При свете призрачных лампад Так по-осеннему опально Шуршит и облетает сад.Но кроме стихов, вокруг ещё была проза жизни, с которой надо было ой как считаться. На работу поступить было непросто. Я узнал, что в библиотеке Эрмитажа нужны работники, и конечно, помчался туда. Увы, устроиться можно было только временно, взамен болеющих сотрудников. Из Эрмитажа, по-моему, здоровые люди не увольнялись. Директором библиотеки был Матвей Александрович Гуковский, замечательный учёный, специалист по итальянскому Возрождению, много лет проведший в сталинских лагерях, родной брат литературоведа Григория Александровича Гуковского, знатока поэзии русского XVIII века. Григорий Гуковский погиб в лагерях, Матвей Александрович, к счастью, вернулся. Маленький, очень подвижный, седой, весь какой-то игрушечный человек, он успевал всё — заведовать кафедрой в университете, председательствовать в обществе «СССР — Италия», бывать во вверенной библиотеке (не слишком часто), быть женатым на женщине вдвое моложе себя, не пропускать интересных концертов в филармонии и ещё много чего. Мне он очень нравился.
У Матвея Александровича был помощник — некто Иван Фёдорович Коробочко (на самом деле не Иван, а Авель, да и отчество приобрёл вслед за чужим именем чужое), но дело было не в этом. Человек он был неприятный, отталкивающий, к искусству отношение имел весьма приблизительное. В библиотеке я видел порой людей замечательных, среди них — Льва Николаевича Гумилёва. Он ещё до меня, сразу после лагерей какое-то время работал в библиотеке Эрмитажа, в подвале. Так вот, Лев Николаевич говаривал об упомянутом Коробочко: «Дайте мне горящую головню, я убью этого Авеля». Захаживали в библиотеку Эрмитажа многие работники музея, я слышал волнующие меня разговоры о сказочной тогда для меня Венеции, о галереях Рима, Парижа, Лондона, Мадрида. Мало было надежды в советской западне увидеть когда-нибудь всё это въяве.
Тогда был Эрмитаж. Утром часов в 9 я шёл по залам второго этажа в библиотеку, притулившуюся как-то сбоку в коридоре. Было ещё по-утреннему сумрачно, и я на ходу обменивался взглядами то с Марсом и Венерой, ведущими свой сокровенный разговор на известной картине, то с гордыми испанцами на полотнах Риберы и Веласкеса. Это всё было прекрасно, но зарплата была грошовая — 44 рубля в месяц. А время шло, больные выздоравливали, и мне пришлось уходить.
Потом я работал в институте растениеводства библиотекарем, в патентном отделе института гидротехники имени Веденеева, всё было мне не по душе, отрывало от поэзии.
В армии на островке мы совсем не видели женщин, а молодость требовала своего. Вереница необязательных знакомств — спутница любой юности.
Вспоминаются женщины, те, с которыми был, Их покорная женственность, шёпот, шалости, пыл. Тех ночей недосказанность, та непрочность тепла, Та бессвязность, несвязанность, что томила и жгла.Но вскоре я встретил Лену, и всё стало по-иному. То была обычная молодёжная вечеринка — 1 мая 1965 года. Мой приятель Эмиль Гермер, его знакомая Матильда, его друг Володя, ещё две девушки. Встреча была у метро «Чернышевская». Невысокая черноволосая женщина с большими карими глазами с интересом посмотрела на мою соломенную шляпу, которую я сдуру надел тогда при модном болоньевом плаще. Мне даже показалось, что в глазах её сверкнула задорная искорка.
Потом танцевали и много говорили. Говорили, конечно, и о стихах. И я почувствовал некий духовный отзыв. Я пошёл провожать Лену. Мы шли до Фонтанки, где она снимала комнату, по притихшему весеннему городу, я повёл её давно облюбованным мной переулком, где дома стояли напротив друг друга так близко, что переулок казался коридором, и каблучки Лены звучали как-то особенно звонко и торопливо. Маме я сказал, что встретил красавицу и умницу, что раньше в моих приключениях как-то не совпадало.
Мы стали видеться, ей понравились мои стихи, я почувствовал необходимость этих встреч. Что ж тут долго говорить — сейчас 2012 год, мы уже 47 лет вместе, и я смело могу сказать, что та встреча в 1965 году самая важная в моей жизни, то счастье, которое не каждому выпадает. Но пожениться сразу мы не могли, бедность отодвигала то, что должно было свершиться. Всё равно мы были вместе.
Свежий ветер шестидесятых годов ещё дул в паруса страны, хотя зловещие предзнаменования давали о себе знать. Я писал стихи, которые, наверное, опасно было читать малознакомым людям, но не писать, не читать их я не мог. Друзья собирались у меня по пятницам, я читал, мы обсуждали стихи и окружающую жизнь.
Тогда я написал цикл стихов «Россия». Многие из них я и сейчас включаю в свои книги:
Кнут солёный, жаровня, дыба, Да скрежещет перо дьяка, И за то, знать, Руси спасибо, Что стоит на этом века. Что её — волчий взгляд Малюты, Беспощадная длань Петра, И гражданские злые смуты, И советских казней пора. Что сынов её — пуля-слава, Вышка лагерная — судьба, И приветствовала расправы Раболепная голытьба. Но сынам ли считать ушибы, Им ли слёзы лить на Руси? Ох, спасибо же ей, спасибо, Спаси Бог её, Бог спаси.Андрей Бабушкин говорил, что большевизм не маска на лице России, это её настоящее лицо во всей его неприглядности. Что нас ждёт в будущем — национальная рознь, политический раздрай или подлинная свобода? Тогда мы могли только догадываться. Сейчас видно, что эти догадки были недалеки от истины.
Меня почти не печатали, одно только стихотворение «Костёр» появилось в сборнике «Молодой Ленинград» за 1966 год. Мы читали взахлёб в самиздате — Солженицына, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, старых авторов — Замятина, Ремизова, «Последние стихи» Зинаиды Гиппиус, издания начала 20-х годов — Шпенглера «Закат Европы», Фрейда. Но уже шли процессы Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанского. Отбывал ссылку Иосиф Бродский. При этом власть иезуитски печатала обрезанные тексты Пастернака, Цветаевой, Булгакова.
Что-то тёмное, безоговорочное близилось. Я это чувствовал. Стихи мои, казалось, предупреждали меня. Но какая молодость внемлет предупреждениям судьбы? 16 января 1969 года мы с Леной поженились. 15 апреля 1969 года в 8 утра твёрдый, продолжительный звонок в дверь нашей квартиры в Дачном разрушил не только сон её обитателей — он разрушил нашу жизнь на долгие 6 лет.
Вошедшие люди — они были тёмные и глухоголосые — заполнили комнату. «Нам нужен Анатолий Бергер». Я был нездоров тогда, накануне в поликлинике продлил бюллетень, на ночь мне делали горчичники. Я привстал на кровати. В ордере на обыск меня подозревали в сношениях с неким Мальчевским, о котором я слышал впервые. Начался обыск. Обыскивали вещи, простукивали стены. Открыли пианино и совались в переплетение его музыкальных рёбер и жил. Отца не было дома, мама, посеревшая лицом, молчала. Я поймал её взгляд — огромный и стонущий. Жена села рядом со мной на кровати, обняла за плечи. Меня снедала тревога. Я спорил с темнеющими по комнате людьми, говорил о недоразумении, о том, что детективное и дефективное недаром подобны на слух. Телефон отключили, перед тем, как пустить меня в туалет, обыскали. Мне предложили ехать на Литейный для выяснения. Не веря ещё во всю силу несчастья, я согласился. Я даже не взял из дома денег, даже не попрощался по-настоящему с мамой и женой. Я только помахал им рукой. «Победа» повезла меня прочь от дома. Обыск продолжался.
Дорогой я смотрел на город, но не прощально, как из армейского автобуса. Я еще не верил в беду. Почему-то в сердце запело на миг горделивое сиянье. Но это было недолго.
Коридоры КГБ мало чем отличались от коридоров других учреждений, и снующие люди и хлопающие двери были, как всюду. Меня ввели в кабинет под номером десять. Допрашивал меня капитан по фамилии Кислых. И кабинет был скучен и хмур, как в любом учреждении, только на окнах чернели решётки. Меня спрашивали о друзьях, об их занятиях. Но чаще других — о Коле Брауне. Это меня внутренне задело, я что-то почуял, но так отдалённо! За эти ответы мне не стыдно. Кислых укорял меня в неоткровенности. Я заметил, что он нажимал кнопку на столе, отчего приходил другой человек на смену, в одиночестве меня не оставляли. Все вели себя по-разному. Один молчал, углубившись в бумаги. Другой — белобрысый, в модной японской куртке — вёл любовный разговор по телефону. Мне запомнилась фраза: «Галочка, я Вас категорически приветствую». Меня она сходу резанула неприятной чужеродностью. Сторожил меня и кто-то грубый с кряжистым лицом, он сказал мне: «Это тебе не в компании болтать, подвыпив». Я ему резко возражал. Я отказался сидеть за столиком у двери и сидел или лежал на плотном чёрном диване. В середине дня Кислых принёс стакан простокваши, стакан чая, кусок свежей колбасы и булочку. Я томился. Я требовал отпустить меня, и шорох каждого троллейбуса воспринимал как благую весть. Я только в глубине сердца думал о своих тетрадях в письменном столе, и они словно бы давили на меня своей тяжестью. Но я не верил, что их тяжесть утянет меня на дно. Я ещё надеялся. А сторожа менялись всё чаще. Я устал, я у каждого из них спрашивал, скоро ли меня отпустят. И они уныло обнадёживали меня, а я всё прислушивался к шороху троллейбусов, к рокоту проводов за окном. Приближалась ночь, и я мечтал уже попасть домой хотя бы к двенадцати часам. Я представлял волнение родных и главное — я всё надеялся, я не мог оставить надежду. Как наивно всё это было!
Молодой следователь при мне принёс мешок с чьими-то рукописями. Они тряслись в мешке, как живые. Он бросил свой улов в шкаф. Вид у него был довольный, как у ловкого рыбака. Я чувствовал, что происходит тёмное и постыдное — и здесь, и со мной, и рядом. И всё равно надеялся.
Наконец, без двадцати двенадцать меня завели в какую-то комнату, и Кислых сразу предъявил мне 70-ю статью. Строки этой статьи об изготовлении и хранении оглушили меня, как взрывная волна. Едва я дочитал их, за спиной моей послышался топот сапог и стук прикладов. Я увидел двух солдат с карабинами. Это было уже безоговорочно страшно. Я понял, что час мой пробил. Меня повели в тюрьму.
Следователи менялись вначале каждый день. Одни были вкрадчивы, другие резковаты.
В конце концов, мною занялся Алексей Иванович Лесников. Меня стали водить в кабинет № 6. Он был неплохой психолог, этот Алексей Иванович. Заметив мою тоску по родным, он при мне звонил им домой раз в неделю (по вторникам). Я жил этими звонками. Казалось, телефонные провода сплетены из моих жил.
А время шло. Менялись напарники. Гораздо позже я написал рассказ «12 сокамерников». Впервые он был опубликован в журнале «Знамя» в 1997 году.
20 ноября начался суд. Суд был, конечно, закрытый. Разрешили присутствовать только родным. В зале маячили какие-то чужие смутные фигуры в штатском. Я смотрел на моих близких, не отрываясь. Они держались крепко. И тем острее пронзила меня их мука. По тёмной бледности лиц, по горести глаз видно было, сколько они пережили.
Чтобы наказать нас жёстче, к нам с Брауном подключили группу уголовников. Их возглавлял Мальчевский, которому заодно инкриминировалось несколько разговоров с Брауном. О них он разболтал в камере, где к нему подсаживали провокаторов («наседок» — по-тюремному). Он передавал им даже записки, и несколько фраз из этих записок тоже ставилось ему в вину.
Я, наконец, стал понимать происходящее. Суд был продолжением следствия — это было ясно. Адвокаты ютились за своим столом, как бедные родственники. Судья Исакова резко на них покрикивала. К прокурорше же она обращалась любезно и милостиво. Меня и Брауна выслушивала сухо и сурово, а уголовников слушала порой по-бабьи, опершись подбородком о запястье. Глаза её, узко взиравшие на нас двоих, тогда округлялись. Два заседателя таскали тома дела на судейский стол и внимали всему происходящему, как усердные ученики. Мы с Брауном уже знали, что обречены. Я видел по нему, что и его надежды рушатся, и в душу его проникает отчаяние. Но что было делать? Дамоклов меч уже врезался в наши судьбы.
Тем не менее, приговор поразил. Брауну дали семь лет лагеря и три ссылки, мне четыре года лагеря и два года ссылки. Уголовникам — меньше. Потрясённость тех мгновений я и сейчас слышу в себе. Суд застыл, прокурорша стояла, как пионерка, солдаты напоминали памятники. Родные и друзья с опущенными головами стояли все рядом, и я ощущал, как бьёт по ним каждое слово. Когда произносили мой срок, жена закинула голову и закрыла глаза, словно темнота этих грядущих тюремных лет застила ей свет.
В тюрьме я почти не писал стихов. Когда нет неба, мне не пишется. Но вот одно. Оно посвящено жене:
Лене
Вышла замуж за тюрьму Да за лагерные вышки — Будешь знать не понаслышке, Что и как, и почему. И в бессоннице глухой, В одинокой злой постели Ты представишь и метели, И бараки, и конвой. Век двадцатый — на мороз Марш с киркой, поэт гонимый! Годы «строгого режима» — Слово против — дуло в нос. Но не бойся — то и честь, И положено поэту Вынести судьбину эту, Коль в строке бессмертье есть. Только жаль мне слёз твоих И невыносимой боли От разлучной той недоли, От того, что жребий лих. 1970, тюрьма КГБ, Литейный, 411 апреля 1970 года, почти через год после ареста меня отправили в лагерь. И началось моё знакомство с этим неведомым мне миром. И первое, что я увидел — Россию. Да, я заглянул ей прямо в лицо, глаза в глаза. По тропкам и дорожкам лагеря вдоль вышек и заборов бродили осколки двадцатых годов — седовласые, седоусые старики ковыляли, налегая на палку или костыль. Около них топтались виденья годов тридцатых — потемней волосом, покрепче шагом. И шмыгали тут и там тени годов 40-х — половчей ухваткой, похищней взглядом. Была в лагере и молодёжь светлая, и те старики, которых лагерь не сумел покорить. Но обо всём этом — о тюрьме, сокамерниках, лагере, этапе я рассказал в своих книгах, рассказах — «Смерть живьём». 1991 год, сибирские рассказы — журнал «Звезда», 1994 год, «12 сокамерников», журнал «Знамя» 1997 год, и в изданной вместе с женой — Еленой Фроловой книге «Состав преступления», 2011 год.
Здесь же мне хочется привести стихотворение, которое вобрало в себя всю мою жизнь тех лет:
В проходе тёмном лампочка сочится, И койки двухэтажные торчат. Усталого дыханья смутный чад, Солдатские замаянные лица. То вздох, то храп, то стон, то тишина. Вдруг скрежет двери — входит старшина: «Дивизион — подъём». И вмиг с размаху Слетают в сапоги. Ремни скрипят. Но двое-трое трёхгодичных спят, А молодёжь старается со страху. «Бегом!» Глухое утро. Неба дрожь. О, время, ну когда же ты пройдёшь! И словно мановеньем чародея, прошло. Решётка, нары и в углу Параша. Снова лампочка сквозь мглу, А за оконцем вышки. Боже, где я? Заборы, лай, тулупы да штыки. Шлифуй футляры, умирай с тоски. Кругом разноязыкая неволя, Я на семнадцатом, на третьем — Коля. А ты, Россия, ты-то на каком? А, может, ты на вышке со штыком? Когда ж домой? Спаси, помилуй, Боже! Вернулся. Долгожданная пора. Но не могу сегодня от вчера Я отличить никак. Одно и то же. 198619 дней этапа — недаром считается тут день за три. Через страну, от пересылки к пересылке. Из Мордовии в Сибирь, в посёлок Курагино. Ссылка.
«Как мы с Гришей (он сидел за украинский национализм — мы с ним в конце этапа встретились) блуждали в первый день по Курагино, — тяжёлая память. Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недоверчивый, выйдет на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, третья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец в огороде, далеко ходить». Вот тебе и хвалёное гостеприимство русского народа — воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше — «теперь не война, и хлеба не жалко, а уж воды да соли — подавно, их и жалеть нельзя — грех». Но я тогда не в заплатанном шёл с мешком за плечами.
Но вот опять изба — хозяйка востроглазая, тонким голосом — «А вы ссыльные будете?» — «Ссыльные, ссыльные, как узнали?» — «Да уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе». А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает — как у матери, востренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе — поменьше. «Сколько же у вас дочек?» — «Шестеро — от 6 до 19, все, слава Богу, с нами. Мы немцы. Мы сами на выселке с войны ещё».
Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, вошёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поливала, — отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам. «Здравствуйте, — рука крупная, тяжёлая, наработанная, — Якоб, а это моя жена Фрида, проходите в дом». Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набрели в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковородку картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко пахнущей румянисто-белой картошки — пальчики оближешь — это после тюремного-то! Гриша мне шепнул — несколько картошек не доесть надо, так у лютеран принято. Как ни жалко было, а пришлось оставить пару кусочков. Много позже Фрида сказала как-то: «Нам когда гость не доест — обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал печать своего превосходства.
Постелили нам в комнате Якоба — на полу разостлали шубу мохнатую, ватники. А сверху чистые простыни, подушки, одеяла — честь-честью. Два зэка с улицы, а за стеной девчонки спят — Наташа, ей лет 19, словно из сказки братьев Гримм, темноглазая, милая, приветливая, с кокетливой молодой угловатостью стулья нам подставляла всё, когда за стол садились; Оля — высокая, блондинистая, в очках, на год моложе Наташи, умная, себе на уме, в родном доме не загостится; а за ними поменьше народец: Лида (эта та, которую увидел из-за дверей выглядывающей) — трудолюбивая, мамина дочка, Катя — с женским уже приглядцем на красивое и модное, Маша — сорванец, худышка, непутёвая душа, и Аля шести лет, ласковая, добрая, тоже из сказки, большеглазая, папин мизинчик, последышек, не хотел её папа Якоб, а теперь полюбил, с колен не спускает. От этой семьи за два сибирских года видел я добра и тепла — на всю жизнь хватит».
Через несколько дней Якоб и Фрида помогли мне снять комнату в избе у одинокой хозяйки. Очень скоро я и работу нашёл — устроился грузчиком в сельпо. Работа эта мне даже нравилась. Мужское всё-таки занятие.
Через месяц ко мне из Петербурга приехала Лена. Жизнь кое-как налаживалась. Но пришла зима. Работа грузчика сельпо — это работа на улице. Дал о себе знать давний мой спондилёз. Пришлось уйти. Помочь с устройством на новую работу никто из надзирающего начальства не собирался. Пришлось жаловаться в Москву, в ЦК — пусть помогают с трудоустройством, соблюдают хоть собственные законы. В конце концов, мне предложили место страхового агента — ездить по дальним сибирским деревушкам, страховать людей, их имущество, скотину, дома. Так до конца ссылки я этим и занимался.
Как ни странно, но Сибирь мы с Леной полюбили. Вот стихотворение — воспоминание о Сибири:
А Курагино моё всё в снегу, А Туба моя недвижна, бела, Жёсткий холод её взял на бегу Под уздцы, с тех пор стоит, замерла. И заснежен вдалеке березняк, В нём с коровами не бродит пастух, Вороньё там о каких-то вестях, Знай, раскаркалось, летит во весь дух. А Курагино моё далеко, Сам не знаю, доберусь ли когда. Вспоминать сегодня сладко, легко, А была ведь это ссылка, беда.Вернулись мы с Леной домой, в Ленинград 7 декабря 1974 года. День был тёмный, как всегда в Ленинграде в декабре, но мы радовались. Первые недели просто глядели вокруг, заново узнавая на годы потерянный город.
Но вернулся я не только к родителям, к друзьям. Большой Дом высился на своём месте, и его хозяева тоже никуда не делись. Их злобную руку я почувствовал сразу, когда пришлось восстанавливать прописку. Мы пришли с папой в ЖАКТ, и мне пытались отказать. В конце концов, прописали временно, на год. Меня — покинувшего родной город по чужой воле, насильственно. Я попытался получить свой приговор — не дали. Словно боялись чего-то. Надо было устраиваться на работу. Опять старая история — везде от ворот поворот. Снова пришлось писать в Москву, требовать соблюдения существующих законов. После месяцев ожидания, нервотрёпки, наконец, получил я место экспедитора на канцелярском складе на Социалистической улице, близко от 321-й школы, весьма мне знакомой.
Работа грошовая. Сидели мы в подвале, я ездил за товаром, заказывал контейнеры в Шушарах, общался с грузчиками, шофёрами, видел, как ловчили работники склада. Одно радовало — кроме канцелярии, привозили к нам и хорошие книги, которые всё советское время были дефицитом. Я, естественно, доставал новинки поэзии, да и не только поэзии.
Стихи не оставляли меня, а вот друзей стало меньше. Коля Браун был ещё в лагере, Андрей Бабушкин тяжко и безвозвратно спивался. Он после всей этой истории потерял работу, диссертацию ему зарубили, на литературе он поставил крест. Где-то работал прорабом, свою ценную библиотеку продавал. Ещё одна жертва власти, помыкавшей нами. Оставался Витя Стукин, верный друг, мужественно проявивший себя во время моего процесса.
У Лены среди её подружек по театральному институту была милая умная женщина — Марина Тимченко. Она несколько раз провожала Лену на суд, однажды видела меня, когда из «воронка» вели конвойные. У Марины был друг — талантливый учёный-физик Леонид Рикенглаз. Мне кажется, учёные России, лучший из которых Андрей Дмитриевич Сахаров, были в то время главным противовесом невежественному, самонадеянному режиму. На свою беду, он вырастил их, думая милитаристским своим умом, что они-то его опора, а вышло не так. Лёня был один из таких физиков-лириков, по слову Бориса Слуцкого. Он любил поэзию, литературу, искусство, особенно историю. Мы сразу подружились. Это было так важно для меня в моём тогдашнем безлюдьи. Наши разговоры о судьбах страны, мира, искусства, о моих стихах, прозе помогали держаться на плаву.
В Москве жили две замечательные подруги Лены — Света и Ляля (на самом деле звали её Лена, но так уж повелось — Ляля и Ляля). Умные, привлекательные женщины, они и между собой дружили, и когда я вернулся, приняли меня в свой круг. Света особенно любила поэзию, знала некоторых московских поэтов. В Москве мы всегда были желанными гостями.
Моя Лена старалась вытащить меня из моего поэтического одиночества. Не очень-то это удавалось — такова уж, видно, моя природа, воистину по Тютчеву: «Молчи, и бойся, и таи…» Но всё же порой что-то получалось. Однажды она уговорила меня вот так, прямо с улицы, без звонка зайти к литературному критику Бенедикту Сарнову, которого мы знали только по его статьям и выступлениям. Надо отдать ему должное, он принял нас, незнакомых людей, несколько часов разговаривал с нами, читал мои стихи. Это был человек среднего роста в крупных очках, во всём его облике сквозила какая-то уверенность интеллекта. Твёрдость его суждений убеждала. Он обещал помочь в печатаньи моих стихов, предупредив, что в редакции журналов не вхож. Прощаясь, он сказал: «Ваши стихи — это порода, в которой много золота. Есть и шлак, но он есть и у великих. Вы будете писать всё лучше и лучше, но печатать Вас не будут во многом и по этой причине. Я смотрю на моего друга Олега Чухонцева и вижу, что его постигает такая судьба. Но писать Вы будете всё равно». Мы с Леной храним благодарные воспоминания об этой встрече.
В 1990 году, когда в Москве вышла моя первая книга стихов «Подсудимые песни», я послал её Сарнову, но, увы, ответа не дождался. Впрочем, и на том, что было — спасибо.
Вообще за эти годы в моём поэтическом становлении много чего произошло. Ещё в юности Коля Браун открыл мне поэзию Владислава Ходасевича, и тот стал самым моим поэтом. Конечно, мне нравились многие лирические стихи Евтушенко, Ахмадуллиной, мало что Вознесенского. Доходили до нас и какие-то строки Бродского. Открылось чудо поздних стихов Пастернака. Я почувствовал, что линия Ходасевича, позднего Пастернака — моя, и что с этой дороги я не сверну. Разумеется, я читал и Арсения Тарковского, восхищался его отличным русским языком, умелой лёгкостью, что-то нравилось у Самойлова, у Юнны Мориц, у того же Чухонцева. А с печатаньем совсем не получалось. Журналы меня отвергали, а о книжке стихов и речи не шло.
Кто-то в Ленинграде посоветовал мне показаться поэтессе Наталье Грудининой, которая помогала Бродскому, защищала его. Наталья Иосифовна — женщина чудесная, поэтическая детскость уживалась в ней с острым умом провидца, мужество и сильный характер с подлинной честностью и добрым отношением к людям, что дано совместить немногим. Ей нравились мои стихи, она говорила: «Ты вдохновенный поэт, твои книги нужны читателям, но не нужны издателям, поэтому напечататься тебе трудно. Для русских ты еврей, который пишет о России лучше их и чувствует её глубже, значит, особенно неприемлем. Для евреев ты слишком русский в стихах, и поэтому тоже неприемлем. Такая у тебя судьба».
Я часто бывал у неё на улице Замшина, читал ей стихи, оставлял рукописи. Часто мы разговаривали, пили чай, рядом примащивался пудель, уже немолодой, умный и независимый, видно, набрался ума у хозяйки. Тут же бродила и кошка. Весьма свободная в обращении. Впрыгивающая на диван, порой и на рукописи, что впрочем, ей дозволялось как существу, не чуждому поэзии. Много лет бывал я в этом добром доме, и всегда буду помнить о Наталье Иосифовне Грудининой — настоящем поэте, благородном чистом человеке. В конце 90-х её не стало, и на похоронах её душа моя пустела от безнадёжности и тоски.
В 1982 году всё-таки были напечатаны два моих сибирских стихотворения при содействии Якова Гордина, которого я знавал ещё в 50-х годах (он тоже захаживал в газету «Смена»). Это был альманах «Сибирь». Там в редакционной коллегии значился Валентин Распутин, чей огромный талант я сразу оценил по первым же его повестям и рассказам.
К тому времени я уже работал в библиотеке Горного института, куда мне помог устроиться Леонид Рикенглаз. Я по-прежнему не любил библиотечную работу, но, увы, выбора не было, пришлось пойти. Лёня сам работал в Горном, и мы там часто виделись, это было некоторым утешением.
Семидесятые годы кончились тяжело. 15 апреля 1979 года от рака печени умер мой отец. Сильный человек, он слабел последние годы перед кончиной. То, что случилось со мной, ударило его беспощадно. Умер он день в день через 10 лет после моей посадки.
В том же 1979 году КГБ снова дохнул на меня своим ядовитым смрадным огнём. За пару лет до этого одна из товарок Лены по театральному институту Ира Баскина эмигрировала во Францию и скоро оттуда стала с оказией пересылать нам книги, я получил «Некрополь» Ходасевича. Но почуяв воздух свободы, Ира как-то подзабыла, откуда уехала. Она посылала книги тем, кто этого боялся, не хотел. Сокурсник Лены Аркадий Соколов, незадолго до всей этой истории женившийся на известной балерине Габриэле Комлевой, был как раз из самых нехотевших. Ополоумев от страха, он побежал с посылкой от Иры к институтскому особисту, а тот передал крамольные книги и письма в Большой Дом. Адресатов Иры стали таскать на допросы. Не знаю уж, что говорили там некоторые сокурсники Лены, но в их компании царили страх и растерянность. Мужественно вели себя единицы, среди них Аля Яровая, которая после моего ареста прятала у себя перепечатки моих стихов, и Тамара Владиславовна Петкевич, сама проведшая долгие годы в сталинских лагерях и ссылке, женщина героическая, описавшая свои страдания в талантливых книгах — «Жизнь — сапожок непарный» и «На фоне звёзд и страха», вышедших в 90-е и 2000-е годы. Предатель Аркадий Соколов, когда Марина Тимченко спросила у него, почему он так поступил, ответил: «Элла (Габриэла Комлева) должна танцевать, поэтому я взял на себя этот крест». Все, конечно, подивились очередному выверту психологии очередного Иуды. К чести сокурсников Лены, они вычеркнули его из своих рядов.
Меня вызывали в КГБ, правда, не на Литейный, а где-то недалеко от военкомата, откуда меня призвали. Допрашивали меня двое, как у них принято — «добрый» и злой. Тут придётся сделать небольшое отступление. Когда Ира Баскина уезжала, мы с Леной дали ей на сохранение мои тюремно-лагерно-ссыльные воспоминания, подчёркиваю — на сохранение. Она же, ничтоже сумняшеся, выбрала из этой рукописи «Этап», где я описал 19 дней этапа из Мордовии в Сибирь, в посёлок Курагино, и отдала его в альманах «Эхо» Марамзину, который и напечатал этот материал под псевдонимом Горный. Угадать, кто автор, было легче лёгкого. Гэбэшники считали, что я у них в кармане. Но я уже знал, как себя вести. 5 часов они упорно уговаривали меня признать авторство, а я на голубом глазу уверял, что я ничего не посылал, а рассказывал знакомым, да, рассказывал, но я ведь подписку о неразглашении не давал, а они, знакомые, без моего разрешения написали с моих слов и тиснули в печать. В конце концов, гэбэшники сказали: «Да, вы человек опытный, но если что появится на Западе ещё — посадим». Рукопись моих стихов лежала у наших друзей — поэта Игоря Бурихина и его жены Елены Варгафтик, и Игорь готовил её к печати в парижском издательстве «Третья волна». Стихи были подобраны совсем неполитические, но мы понимали, что КГБ найдёт и в них криминал. Пришлось дать отбой. И стихов моих Запад тогда не увидел. Вот к чему привела подлость Аркадия Соколова и самонадеянность Иры Баскиной. Чисто российская история.
Подступали восьмидесятые годы. Всё было темно и безнадежно. Брежнев — маразматик на троне шамкал и чмокал свои мёртвые слова с трибун, советские войска ворвались в Афганистан, началась новая позорная война коммунистов против очередной жертвы. Люди шли в лагеря, боролись за выезд из СССР, и света в конце туннеля не было видно. Никто не ждал перемен, никто не ожидал того, что случилось уже вскоре, через несколько лет, но как же долго, томительно тянулись эти несколько лет… После хоровода генсековских похорон, когда за Брежневым последовал Андропов — гроза диссидентов и вообще всех мыслящих людей, которых коммунисты называли «инакомыслящими», а за Андроповым Черненко, живой труп, бледнолицый, еле передвигающийся по земле куклоподобный человек, у власти вдруг оказался Михаил Горбачёв, которого я давно уже приметил в телевизионном окошке и даже говорил Лене, что у него есть какая-то энергетика, и он и станет новым генсеком. Так и вышло. Сначала мы и от него ничего не ждали, разве что не был он похож на торопливого кандидата на кладбище у кремлёвской стены. Люди жили своей привычной советской жизнью, добывали всяческий «дефицит», сходились, расходились, часами простаивали в курилках своих НИИ.
Наталья Иосифовна познакомила меня с кем-то из поэтов, участником Клуба 81.Там были талантливые, интересные люди — Юрий Колкер, Сергей Стратановский, Елена Игнатова, Виктор Кривулин, Олег Охапкин. Я стал посещать их посиделки, некоторым из них дал свои стихи, читал их произведения. На фоне скучной статичной советской поэзии их строки казались целебным снадобьем. Мне это было в какой-то степени близко, ведь ещё в шестидесятые годы мы с Колей Брауном мечтали (цитирую сам себя): «Вернуть России русскую поэзию. Вернуть русской поэзии Россию». Особенно близок мне был Юра Колкер и как поэт, и как серьёзный специалист по Ходасевичу, выпустивший вскоре в самиздате двухтомник его стихов и переводов с прекрасным предисловием и живыми примечаниями. Юра превосходно чувствовал поэзию, умел разобрать стихотворение по косточкам, указать малейшую неточность образа, звуковой стык, неуклюжий оборот. Я не страдаю психозом авторства, его замечания были мне ценны. Мне нравилась его семья — жена Таня, маленькая дочка Лиза. Они жили в коммунальной квартире на улице Воинова (теперь Шпалерная). В комнате Юры прошла первая в России конференция, посвященная Владиславу Ходасевичу. Я после Юры выступил на ней с докладом.
Но вскоре Юра с семьёй эмигрировал в Израиль, оттуда в Англию, где теперь и живёт. Через много лет мы с Леной побывали у них в гостях в Лондоне. Я рад, что наша дружба сохранилась.
В 1985 году Горбачёв вдруг заговорил о гласности, о перестройке, и медленно-медленно что-то зашевелилось, забрезжили надежды, мелкими шажками Россия (тогда ещё СССР) попробовала двинуться вперёд. Но слова о гласности, о социальной справедливости прозвучали. В том же 1985 году в «Дне поэзии» Ленинграда появились мои стихи, тут посодействовал мой родственник Лев Дворецкий, сам пишущий стихи и интересовавшийся поэзией. Наталья Иосифовна познакомила меня с поэтом Семёном Ботвинником, который слышал обо мне от замечательной пары литературоведов Анны Владимировны и Григория Евсеевича Тамарченко. Анна Владимировна преподавала в театральном институте, Лена у неё училась. Стихи мои эти люди знали и ценили, а с Ботвинником они дружили. Уже в 1986, 87-м, а затем в 89-м стихи мои стали появляться в «Днях поэзии» Ленинграда. Добрым словом хочется помянуть поэтов Леонида Агеева, Глеба Семёнова и конечно, Семёна Ботвинника. Все они старались мне помочь.
В 1989 году я ушёл из Горного института и стал директором филиала Всесоюзного гуманитарного фонда имени А.С.Пушкина в Ленинграде. Правда, директорствовал я над самим собой, я должен был издавать книги фонда, и первыми книгами москвичи предложили мои. Так в 1990 году московское издательство «Прометей» выпустило мои «Подсудимые песни», а в 1991 году Библиотека газеты «Гуманитарный фонд» — «Смерть живьём» — воспоминания о тюрьме, этапе, ссылке. Книги шли нарасхват. Это были краткие дни моей славы, которые так же быстро кончились, как и начались. С Гайдаровскими реформами и общим обнищанием людей интерес к лагерной теме ослабел и больше уже на ту высоту, что была в конце восьмидесятых и начале девяностых, не подымался.
В 1991 году в журнале «Кругозор» Александр Лаврин, московский поэт и прозаик, поместил подборку моих стихов со своим сопроводительным словом. А познакомились мы с Сашей случайно, году в 87-м бродили мы по Москве со Светой Гурвич, подругой Лены, о которой я уже говорил, проходили мимо редакции журнала «Юность», и Светка возьми и затащи меня в редакцию, где Саша сидел «на стихах». Он прочёл мою подборку, которая, к счастью была при мне, стихи ему понравились. Мы познакомились. Напечататься не удалось, зато удалось подружиться. Саша — человек удивительный. В детстве он перенёс тяжёлую болезнь, но его мужеству, энергии, силе духа можно было позавидовать. Его стихи и проза были великолепны. Да и образован он был по-настоящему в отличие от многих поэтов и литераторов.
В конце восьмидесятых мои стихи попали к поэту Владимиру Леоновичу. Он пригласил меня в Москву на вечер, где выступали Владимир Корнилов, стихи которого я любил, Борис Чичибабин, Ольга Постникова и другие. Это было в Доме культуры где-то на окраине Москвы. Полный зал, восторженная публика. Я читал с эстрады впервые, волновался ужасно, но всё-таки прочёл вроде бы хорошо, каждый мой стих награждался аплодисментами. Вскоре мы с Леной побывали в гостях у Владимира Леоновича. Тогда трудно было с водкой, стояли огромные очереди, но у нас поллитровка имелась. Лена сказала, что нехорошо на первую встречу идти с водкой, мы взяли шампанское. Когда пришли к Леоновичам, он тоже выставил шампанское, а на столе стояли маринованные грибы, кислая капуста, огурчики, селёдка. Выяснилось, что Володя всю Москву обегал, но водки не достал. Пришлось нам, поругивая Лену, пить шампанское с водочной закуской. Это впрочем, не помешало доброму знакомству. Кстати, и работе в гуманитарном фонде я обязан Володе. Он вообще был человек замечательный. Встретил нас он в валенках (ноги у него болели), вся мебель была сделана своими руками. И стихи его были подстать ему — добротными, крепкими, русскими.
Случилось мне поговорить и с Владимиром Корниловым. Ему понравилось то, что я пишу. Он сказал, что в Москве я давно бы стал известным, а в Ленинграде ходу не будет. Но я это знал, да что толку?
В 1990 году я был реабилитирован за «отсутствием состава преступления». Шесть лет моего отсутствия в нормальной жизни по причине отсутствия состава… Такова была ещё совсем недавняя советская жизнь.
Но начиналась жизнь новая, для России почти небывалая. Только в 1917 году 10 месяцев свободы можно припомнить, а сменились они деспотизмом таким, что только монгольское иго средневековья приходит на ум. Я начал борьбу за возвращение моего архива, отнятого у меня КГБ в 1969 году. Помогал мне в этом мой адвокат тех давних дней Семён Александрович Хейфец. Уж как уворачивался КГБ, какие жалкие лживые отписки я получал за подписью начальствующего Черкесова, но всё-таки добился своего. Председатель городского суда Санкт-Петербурга (какое счастье было, когда городу вернули исконное славное имя!), так вот председатель горсуда Лебедев просто мне сказал: «Они в КГБ Вам лгут. Архив Ваш у них». И тут как раз на смену Черкесову пришёл Степашин. Архив мне вернули в 1992 году с любезностями и расшаркиваниями. Я всё спрашивал, где же мой следователь Алексей Иванович Лесников, но ответа не получил. К прочим подлостям этого ведомства прибавилась ещё одна мелкая гадость. Лесников присвоил мою книгу (она ещё тогда ему понравилась — он этого и не скрывал) «Язык революционной эпохи» Селищева, замечательного языковеда, 1928 года издания — любопытно, что издана она была издательством «Работник просвещения». Лесников подсунул мне какой-то список машинописных материалов, чтобы я расписался, что мне это не нужно. Они, действительно, были мне не нужны, я подписался. А Лесников позже вписал в этот список книгу Селищева — вот и вся недолга. Элементарное мошенничество вполне в духе ведомства и той эпохи. Позже мой приятель известный библиограф Николай Петрович Кошелев подарил мне свой экземпляр Селищева, за что век останусь ему благодарным. В том же 1992 году меня приняли в Санкт-Петербургский Союз писателей.
Время удивляло. Уже позади было выступление ГКЧП и его крушение. Во главе России уже стоял Борис Николаевич Ельцин. Поистине сказочные дни, в них сейчас и не верится. Пал, наконец, мертворождённый коммунистический режим. Мы впервые были едины с властью, впервые радовались, что живём в России. Мы ходили на демонстрации, стояли на Дворцовой площади, слушали выступления Анатолия Собчака и других новых руководителей, мы смотрели телевизор без отвращения, покупали книги, о которых мечтали годами. В начале 90-х прозвучало не меньше 10 радиопередач обо мне, выходили материалы и статьи в газетах Петербурга, Москвы, Нью-Йорка, Парижа. Я приношу благодарность их авторам, особенно Якову Гордину, Льву Сидоровскому, Николаю Горячкину, Сергею Стратановскому. Мои стихи и проза были напечатаны в журналах: «Нева» (там впервые появилось инкриминированное мне стихотворение «Памяти Николая Клюева»), «Звезда», «Знамя», выходили мои книги, правда, малыми тиражами. В знаменитую евтушенковскую антологию «Строфы века» вошло моё стихотворение, также из инкриминированных, «Народовольческую дурь». Сейчас другое время, сейчас недоумки кричат о лихих девяностых, но мы с женой никогда не скажем дурного слова о том славном десятилетии настоящей свободы в России, хотя и жилось нелегко и многое возмущало, но мы понимали причины происходящего, а понимание дорогого стоит.
Под эгидой гуманитарного фонда мы с Леной в девяностые годы организовали салон в помещении Театрального музея, в кабинете директора императорских театров. Здесь выступали ученые, писатели, поэты Петербурга и Москвы, здесь обсуждалось то, что вчера ещё было под запретом. Здесь прошли и презентации моих первых книг.
Новое тысячелетие началось для меня ужасно. 21 марта 2001 года умерла моя мама. Я любил её больше всех существ на земле, любил с первого мгновения моей жизни на земле до последнего мгновения её жизни. Она не дожила до 93 лет двух недель, всё понимала до самого конца. Доконала её ещё с юности мучившая лёгочная болезнь. Мы с Леной всё время были с ней. В последний день она сказала нам: «Спасибо вам за годы, прожитые вместе». Мне и сейчас больно вспоминать, а тогда я совсем погибал, пил успокоительные капли. Не мог писать. Лена увезла меня в Новгород Великий на несколько дней, там, среди русской старины я немного начал приходить в себя. Но ведь смерть близких — это рана незаживающая.
Да и вокруг становилось всё мрачней. Ельцин ушёл, передав власть Путину. Этот человек из бывших гэбистов быстро показал свою суть. Первым делом он вернул старый сталинский гимн, пахнущий кровью и лагерными бараками. В стране повеяло реакцией. Но большинство людей в России всегда верят властям, как бы они ни подличали и ни лгали. Я уже несколько лет был на пенсии. Книги мои выходили мизерными тиражами, но это помогало духовно держаться на плаву.
В 1994 году моя книжка стихов «Стрельна» вышла в издательстве «Интерстартсервис». Руководили им муж и жена — Владимир Борухович и Татьяна Ивановна. Они пригласили меня работать у них, а именно подготавливать для печати книги по моему выбору. Я тогда занялся сборником Тютчева, где кроме стихов были его статьи, а также, наконец, воплотил свою мечту — подготовил к печати книгу «Современники о Владиславе Ходасевиче». Два года я собирал материалы, написал предисловие, комментарии и примечания. В России такого сборника ещё не было, да и до сего дня нет. Работа меня радовала, но времена были неустойчивые, вскоре Владимир Борухович и Таня прогорели и бежали в Израиль, спасаясь от кредиторов. Меня, да и других сотрудников они не предупредили, всё вышло очень быстро, и потом было нелегко получить назад трудовую книжку. Всё-таки я на них зла не держу, за многое им благодарен. И притом, рукопись книги о Ходасевиче осталась у меня на руках. Но только в начале двухтысячных я нашёл издателя. Это был руководитель издательства «Алетейя» Савкин, выпускник философского факультета Ленинградского университета. И хотя Савкин почти ничего не заплатил мне, откупившись парой десятков экземпляров, всё же книга была издана и раскуплена не только в Петербурге, но и в Москве, и даже, как мне говорили, за границей.
В 2003 году стукнуло мне 65 лет, и вдруг звонит нам подруга Лены Аля Яровая и сообщает, что обо мне будет передача по радио. Мы даже не поверили, поскольку никто к нам не обращался, никто не предупреждал о передаче. Но оказалось, что в связи с моим юбилеем незнакомый мне тогда Георгий Сергеевич Васюточкин, постоянный автор передачи «Петербургский автограф», давно собиравший материалы обо мне, посвятил мне своё выступление. Мы с Леной очень обрадовались, начали искать Васюточкина и вскоре нашли. Невысокий, изящный человек с какой-то старинной дворянской повадкой в движениях, негромким, но убедительным голосом, внимательным взглядом нам сразу понравился. При встрече он сказал, что я первый автор, который нашёл его и поблагодарил за передачу. Георгий Сергеевич поистине удивлял. Профессиональный геофизик, известный специалист по джазу, вдумчивый теоретик стиха, глубокий знаток русской поэзии. Нас многое сблизило. Любовь к Ходасевичу, да и к другим поэтам серебряного века, в том числе не самым знаменитым, но замечательным — к Бенедикту Лившицу, например. Радует меня и его понимание моей поэзии и то, что несколько передач «Петербургского автографа» были обо мне. Ведущая этой передачи Ольга Леонидовна Смирнова, милая симпатичная женщина, мне кажется, тоже оценила мои стихи.
В Союзе писателей у меня появились друзья — Илья Петрович Штемлер, настоящий писатель и очень хороший человек, готовый помочь не на словах, а на деле. Ещё назову Владимира Михайловича Акимова, глубокого литературоведа, доброго благородного человека, и конечно же, Тамару Владиславовну Петкевич, нашего драгоценного друга, которая поддерживает нас всю жизнь.
Что ещё сказать напоследок. Сейчас 2013 год. Я продолжаю писать, несмотря на болезни и прочие трудности жизни. Моя Лена со мной. И, как сказано, «страшен сон, да милостив Бог».
Анатолий Бергер

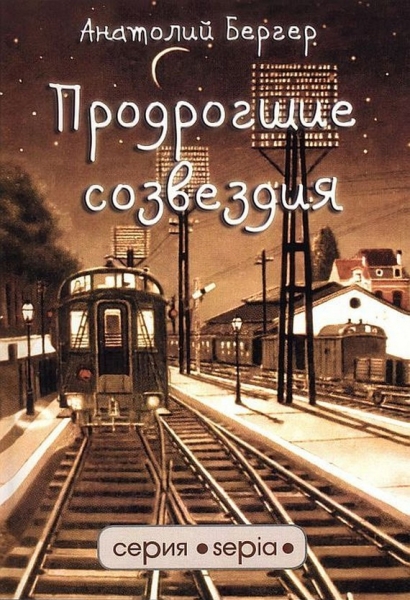


Комментарии к книге «Продрогшие созвездия», Анатолий Соломонович Бергер
Всего 0 комментариев