Ю.Б. Марголин Путешествие в страну Зе-Ка
Оглавление «Путешествия в страну зэ-ка» из рукописи Ю.Б. Марголина
ВСТУПЛЕНИЕ К НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ
«Путешествием в страну зэ-ка» назвал Ю. Б. Марголин свое пребывание в СССР -
в тюрьме, в лагере, в ссылке.
Он провел пять лет в Гулаге, в советских концлагерях(1940-1945),будучи помещен туда без суда и следствия. Этому предшествовал год в захваченной Советским Союзом Западной Белоруссии. Еще один год на поселении в Алтайском Крае последовал за лагерными годами.Вернувшись на Запад, Ю. Б. Марголин провозгласил главной целью своей жизни борьбу с системой концлагерей.
После 7 лет советских тюрем, лагерей и ссылок Марголин приехал в Палестину в сентябре или октябре 1946 года. Он сразу же обращается с призывом к еврейской и мировой общественности сделать все возможное для спасения из Гулага погибающих там сионистов. Марголин был первым, кто рассказал здесь страшную правду о советских концлагерях. Книгу «Путешествие в страну зэ-ка» он писал с 15 декабря 1946 г. по 25 октября 1947 г.
Юлий Борисович Марголин родился в королевстве Польском, которое тогда входило в Российскую империю. По языку, воспитанию и культуре он был русским, одним из лучших представителей русской еврейской интеллигенции.
Но он был иностранцем в отношении СССР даже в Гулаге, так как имел польский паспорт и не желал менять его на советский. Да и по своей внутренней сути он был свободным западным человеком, что отличало его от массы советских людей. Его неприятие узаконенного рабства в СССР выделяет его книгу о Гулаге из книг, написанных людьми, выросшими в СССР.
В Польше он был евреем, израильтянином. Несмотря на польский паспорт он имел сертификат на постоянное жительство в Палестине.
В Израиле он был новым репатриантом, русским, несмотря на его давний сионизм и отличное знание иврита с детства. Принадлежность к ревизионистскому течению Жаботинского закрывало для него двери в израильский истеблишмент. Его не приглашали в официальные организации, его попытки создания общества бывших лагерников и все его выступления блокировались.
Ю. Б. Марголин пользовался большой популярностью в еврейских организациях Франции и США, куда он много раз ездил с 1953 по 1964 год. Его доклады о трагедии русского еврейства там слушали и обсуждали с большим вниманием. Марголин был корреспондентом нескольких русскоязычных газет в США и Франции. Сохранились также свидетельства (газетные заметки в ЦСА) о теплых встречах его и в Израиле.Например, есть статьи о его вечере в Хайфе в 1963 г. и о его выступлениях в обществе выходцев из Китая (иргун егудей Син).
Настоящий сайт имеет целью собрать в одном издании публикации Ю. Б. Марголина, относящиеся к теме «Страна зэ-ка». До сих пор - 2005 год - нет ни одного полного издания марголинского «Путешествия» ни на одном языке.{1}
Издательство им. Чехова, опубликовавшее «Путешествие в страну зэ-ка» по-русски в 1952, исключило из нее первую часть и несколько глав из других частей книги, не уведомив об этом автора.
Некоторые главы «Путешествия» были впоследствии опубликованы Ю. Б. Марголиным в виде отдельных статей в русских журналах и газетах, в первую очередь те, что были выброшены из книги издательством им.Чехова.
В комментарии «Выброшенные Главы» приведено оглавление «Путешествия» по рукописи, хранящейся в ЦСА, со ссылками на каждую такую публикацию. Как видно из оглавления, все выброшенные фрагменты были так или иначе опубликованы. Первая часть почти полностью была напечатана в журнале «Время и мы» уже после смерти Марголина (1977, #13,#14, #15). Однако, там нет указания на то, что это текст первой части «Путешествия в страну зэ-ка». Похоже, что авторы публикации просто не знали об этом. В журнале почему-то нет указания на того, кто предоставил этот текст для печати.
Теоретически все эти публикации можно найти в ряде библиотек, но это требует больших усилий. Так что, практически они недоступны. Автор настоящего сайта провел большую работу, чтобы собрать воедино все пропущенные главы и подготовить к печати «Путешествие в страну зэ-ка» так, как это было задумано Марголиным.
Кроме того, настоящая публикация включает статьи и обращения Ю.Б.Марголина, также вызванные его путешествием в страну зэ-ка, которые были написаны с 1946 по 1954 г.
Проф. И. А. Добрускина,
автор настоящего сайта,{1}
Иерусалим, 2005
Предлагаемый сайт состоит из следующих разделов:
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Ю.Б.Марголин «Путешествие в страну зэ-ка»:
полный текст в соответствии с рукописью Ю. Б. Марголина в ЦСА
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ .Ю.Б.Марголин. Статьи о стране зэ-ка, не вошедшие в книгу
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Ю.Б.Марголин «Дорога на Запад»
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. Ю.Б.Марголин «На Западе»:
статьи и обращения Ю.Б.Марголина с 1946 по 1954 гг в защиту сионистов - узников Гулага, а также статьи и выступленеия с разоблачением системы советских концлагерей
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. Комментарии к разделам 1-4
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. Краткая биография Ю. Б. Марголина по его публикациям и материалам ЦСА
Справка об авторе сайта
Наш адрес : innadob@bezeqint.net
Буду рада получать замечания, уточнения, исправления
Я очень благодарна моей дочери Ире Бараш за техническую помощь при создании сайта.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ Ю. Б. МАРГОЛИН «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗЭ-КА»
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗЭ-КА
Часть I
Вместо предисловия
Задолго до начала второй мировой войны я собирался съездить в Советский Союз.
Я жил тогда в Лодзи, в Польше. Интерес к Советскому Союзу был велик в этой стране. Правда, иначе интересовались страной коммунизма в Париже и Нью-Йорке, а иначе в Польше, где помнили 150 лет царской оккупации и войну 1920 г., где была общая граница и где Россия всегда была и реальной угрозой и близким соблазном. Компартия у нас была нелегальна. В аграрной и католической стране со слабой промышленностью и ничтожным пролетариатом не было для нее почвы. Еврейская молодежь была коммунизирована в 10 или 15 %. Бог знает, что представляли себе под коммунизмом несчастные мечтатели польского гетто. На улицах Лодзи продавались с возков в тридцатые годы «Памфлеты» Радека, «Исторический Материализм» Бухарина. В день смерти Ленина, в январе, в годовщину «трех С», где-нибудь поперек улицы на телеграфных проводах появлялся красный флаг и еврейские молодые люди били стекла в еврейских же магазинах на Пиотрковской. Радикальная интеллигенция зачитывалась стихами Броневского о «печах Магнитогоска». В варшавских театриках декламировали под гром апплодисментов «Гранаду» Кирсанова. Туристы ездили по маршрутам советского бюро «ИНТУРИСТ» знакомиться с великой страной Революции.
Много их возвращалось после недельного пребывания в Москве с коробкой советского шоколада и приятными воспоминаниями. Двухнедельный маршрут давал возможность побывать на Украине. Пред тем, кто мог оплатить 3 и 4-х недельную поездку - открывались курорты Кавказа и Средняя Азия. Таким образом, Андрэ Жид побывал в Гори, на родине Сталина, а Зибург посетил Красную Арктику. Каждый, владеющий пером, привозил из Советского Союза отчет о своих впечатлениях.
В годы моей советской неволи я вспомнил эту литературу. Были среди репортажей и превосходно сработанные вещи, полные тонких наблюдений, остроумия и блеска. Но в целом вся эта литература представляла собой детский лепет. Как скептики, так и энтузиасты одинаково не имели представления о Советском Союзе, не имели права писать о предмете, так мало им знакомом. Смешная и трагическая несоразмерность этой «туристической» литературы с советской действительностью теперь очевидна для сотен тысяч людей, подобно мне, попавших в глубокий тыл советской страны в годы войны.
Кроме этой официальной туристики, существовала в Польше за все годы ее независимости другая, о которой не писали газеты. Не было такого года и месяца, чтобы через границу не переходили нелегальные перебежчики, люди, не хотевшие оставаться в капиталистической Польше и стремившиеся в обетованную землю, «родину всех трудящихся», в поисках справедливости и свободы. Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе этих людей. Почему ни один из них не дал о себе знать?.. Это не были знаменитые писатели или делегаты из Америки. Когда они пропадали, как камень, брошенный в воду, никто ими не интересовался. Это были маленькие люди, анонимы, опилки, как магнитом притянутые мечтой о лучшем мире. А между тем, очень и очень стоило бы опросить этих людей. Их правдивый и нелитературный отчет сказал бы больше, чем томы официальной пропаганды. Много их живет в Советском Союзе, и жаль, что нет у них возможности рассказать о себе.
В городе Бяла-Подляска на базаре стояла будочка, где еврей торговал содовой водой. Дети у него выросли мятежники - Богу не молились и знать не хотели ни польского добра, ни заморской «Палестины». Когда младший вырос и убедился, что мало надежды на революцию в Бяле-Подлясской, он сговорился с пограничными крестьянами, и в темную ночь они его перевели на советскую сторону. Было это в 1931 году. Одиннадцать лет спустя я с ним встретился - в советском лагере, в великой и многолюдной стране зэ-ка, и выслушал его историю, похожую на тысячи других.
Страна зэ-ка не нанесена на советскую карту, и нет ее ни в каком атласе. Это единственная страна мира, где нет споров о Советском Союзе, нет заблуждений и нет иллюзий.
Жил в городе Люблине владелец технического бюро, инженер Мельман. Если остались на свете его родственники - вот справка о бесследно пропавшем. - Инженер Мельман был человек независимый и своенравный. Он никак не мог согласиться с польским режимом. И он перешел границу с целой группой «недовольных». Их прямо с пограничного поста отправили в тюрьму, оттуда - в лагерь. Там я с ним и встретился. К тому времени, после нескольких лет заключения, это был необыкновенно молчаливый человек, широкоплечий, с потемневшим лицом и сумрачным взглядом. Не думаю, чтобы к этому времени у него оставались еще какие бы то ни было убеждения. Его целью было не умереть в лагере. Но это ему не удалось. Весной 1944 года он умер в исправительно-трудовом лагере Круглица, Архангельской области, от заворота кишок. Кто-то подарил ему два лишних талона на обед, и этого не выдержал его организм, отвыкший от нормальной пищи.
1937 год был роковым для «нелегальных» туристов. В этом году была произведена великая чистка в Советском Союзе. Среди миллионов, водворенных в лагеря, оказались все, прибывшие на жительство в Советский Союз из-за границы. Все равно легально или нелегально. Я помню молоденькую сестру в лагерном бараке для больных. - «За что вас посадили, сестра?» - «Мой папа приехал из Латвии». - «А сколько лет вам тогда было, когда приехал?» - «Восемь». Это не разговор двух сумасшедших. В Советском Союзе это каждому понятно без объяснений.
Я не поехал в Россию через «ИНТУРИСТ», и не перешел в темную ночь польскую границу. Я оказался туристом особого, третьего рода. Мне не надо было ездить в Россию - она сама ко мне приехала. И маршрут оказался у меня особенный, о каких мы ничего не слышали в «ИНТУРИСТЕ». Пришлось мне наблюдать Россию не из окна отеля «Метрополь» в Москве или из окна вагон-ресторана. Я видел ее через решетчатое окошечко тюремного вагона, из-за колючей проволоки лагерей, перемерил пешком сотни километров, когда гнали с руганью арестантскую толпу по этапу через леса и нищие колхозы севера, пересек дважды Урал - в теплушке и на третьей полке жесткого вагона, где нет и быть не полагается иностранным корреспондентам, - жил в сибирской глуши, ходил, как все, на работу и носил в кармане тот документ, которым так гордился Маяковский: советский паспорт сроком на 5 лет. Этого документа у меня больше нет. Оттого я и могу писать о Советском Союзе то, о чем не снилось нашим мудрецам и о чем не пишут люди с советскими паспортами.
Люди, симпатизирующие советской системе, полагают, что мой маршрут был неудачно выбран и увел меня в сторону от знаменитых советских путей. Я не был под Сталинградом, не брал Берлина. Если бы я там был, может быть, я писал бы иначе? Может быть. Маршрут мой был выбран не мною, мне его указала советская власть. О Сталинграде мир знает все, о лагерях - ничего. Где правда России, на Параде Победы на Красной площади, или в стране ЗЭ-КА, которая выпала из географического атласа? Очевидно, надо брать эти вещи вместе, в их целости и взаимной связи. Для меня нет иллюзий, я видел подземную Россию. Я в и д е л. Те же, которые возлагают надежды на Страну Советов, пусть примут во внимание и этот «материал», и согласят его, как смогут, со своей совестью.
Глава 1. Сентябрь 1939
Летом 39 года мы не верили в войну. Каждый из нас знал, что война неизбежна. Никто не был готов к тому, что она начинается завтра. Действительность показала, что не была готова польская армия, не была готова западная и заокеанская Демократия. Евреи города Лодзи - «четверть миллиона приговоренных к смерти людей - были готовы меньше всего. За несколько дней до катастрофы толпы демонстрантов прошли по улицам Лодзи с транспарантами: „Отобрать польское гражданство у немцев!“ Проходя по еврейским улицам, демонстранты кричали: „Придет и ваша очередь, евреи!“»... Две недели спустя Лодзь была в руках немцев.
Накануне войны поляки объясняли корреспондентам французских газет, что Польша достаточно сильна, чтобы противостоять Германии без помощи Советов. Две недели спустя они приняли бы эту помощь на коленях, с цветами и триумфальными арками. Но уже было поздно. 17 сентября 1939 года Красная Армия вторглась в Польшу, как союзница Гитлера.
Летом 39 года мы не верили в войну. Тысячи людей, пребывание которых в Польше было не нужно и которые могли бы ее оставить при желании, легкомысленно оставались на месте. Массы еврейского населения оставались на месте. По одну сторону был Гитлер, по другую - весь мир. Казалось невероятным, чтобы Германия решилась воевать на два фронта.
И только вечером 23 августа 39 года стало ясно, что будет война. В этот вечер мир узнал о пакте Сталина с Гитлером. Чувство ужаса, с которым мы приняли это известие, можно сравнить с чувством посетителей зоологического сада, на глазах которых отворяется клетка с тиграми. Встают голодные звери, и дверь из клетки открыта для них. Это и было то, что «вождь народов» сделал 23 августа: спустил на Европу бешеного зверя - дал благословение немецкой армии броситься на Польшу. За этот «мудрый шаг», в защите которого изощряются продажные перья, десятки миллионов заплатили жизнью. За преступление 23 августа Россия заплатила океаном крови и нечеловеческими страданиями. Это не был кратчайший путь к уничтожению Гитлера, но зато - кратчайший путь к разгрому Европы. В сентябре 39 года начался разгром Европы с благословения Сталина. «Вождь народов» мог быть доволен исходом своей игры, хотя первоначальный расчет его и не оправдался. «Столкновение хищников», как назывались события 39 - 40 годов В советской версии, пришлось спешно переименовать в «великую оборонительную войну мировой Демократии». Злорадная улыбка, с которой советские правители наблюдали мировой пожар, очень скоро сменилась выражением ужаса. Для нас, маленьких людей, кровью которых торгуют на политическом рынке, день 23 августа 39 года - мрачная и зловещая дата.
Между 1 и 17 сентября мы пережили патетическое зрелище крушения Польши. Государство с населением в 36 миллионов, целый мир, полный добра и зла, исторических традиций и тысячелетней культуры, обвалился как карточный домик. Война была проиграна в первые же полчаса, когда польские силы под Познанью не выдержали удара немецких танковых дивизий.
В тот первый день сентября утро в Лодзи началось нормально. Телефон зазвонил на рабочем столе в одном из кабинетов учреждения, где я был занят. Человек за столом снял трубку телефона, и вдруг лицо его побагровело, глаза расширились, и он начал кричать диким голосом в трубку: «Что, что такое?»
Я кинулся к нему: «У вас дома случилось что-нибудь?» Он бросил трубку: «Немцы бомбардировали с воздуха Варшаву, Краков, Львов... Война!»
В тот день Лодзь еще не подверглась воздушной атаке. Но на утро следующего дня нас разбудили взрывы... Над городом плыли немецкие эскадрильи треугольником. Стрельба редких зениток их не беспокоила и не мешала им... Мы могли убедиться, что небо над нашими головами уже принадлежало Гитлеру: в тот момент, когда самолеты проплывали над моей головой, я понял, что ничто не мешает им выложить бомбами любую площадь и улицу города; если они этого не делают, то это добрая воля немецкого командования. Мы представляли себе войну иначе.
На третий день воздушные тревоги следовали, не прекращаясь, одна за другой. Остановилась нормальная работа, не было нормального сообщения, не было известий о ходе военных действий, кроме немецких. Несчастье надвигалось. Ночью третьего дня, в слепой и безглазой, затененной Лодзи я наткнулся на первую безумную женщину. Сумасшедшая металась по тротуару во мраке, ломая руки, лепеча бессвязные слова. Может быть, ее семья была только что убита немецкой бомбой, и она уже не знала, где ее дом, где ее место. Лавина человеческого горя шла за ней - первой. Я не узнавал знакомых улиц мирного города, они превратились в джунгли, в их черных провалах таилась смерть.
Немцы подползали, как исполинский холодный гад, и каждый вечер доходил до нас голос Фрицше, гнусавый и медленный, ядовито-злобный, полный насмешливого торжества и угрозы. Немецкая радиопередача на Польшу начиналась с полонеза Монюшко. Эту торжественно-плавную мелодию я до сих пор не могу слышать без содрогания, как будто ее перечеркнули поперек гакенкрейцем. На рассвете пятого дня я уехал из Лодзи. Ранним утром мне позвонили по телефону: «Есть место в автомобиле. Ждем 15 минут». В то утро немцы стояли в 50 километрах от города. Я взял портфель и вышел на улицу. Сияло яркое сентябрьское утро. «Пока доберусь до дому, пройдет, может быть, месяц, - подумал я. - Надо взять пальто». Вернулся. Снял с вешалки летнее пальто, повесил обратно. И взял - мало ли что может быть - солидное осеннее пальто с клеймом лодзинского магазина - «Энигкайт». С этой «Энигкайт» и портфелем, куда растерявшаяся прислуга сунула почему-то домашние туфли, я уехал из Лодзи. В отличие от других евреев я твердо знал, где мой дом. Дом мой находился в Палестине. С 1936 года моя семья находилась там, и в это лето я был в Польше на правах гостя. С Польшей связывал меня только мой польский паспорт... и сантимент польского еврея.
О патриотизме польских евреев можно говорить уже в прошедшем времени. Нет больше польских евреев. На улице Берка Моселевича живут поляки, которые обойдутся без нас и нашей привязанности. Но в то утро, когда началась моя беженская эпопея, я был искренне взволнован, и польская трагедия заслонила в моем воображении ту единственную, о которой следовало думать: трагедию моего народа. За 20 лет своей независимости Польша Легионов совершила три преступления, за которые теперь наступала расплата: три ошибки, из которых каждая равнялась преступлению перед судом Истории и человеческой совести. Первым преступлением со стороны народа, только что сбросившего ярмо национального порабощения, была его политика по отношению к национальным меньшинствам. Белорусы, украинцы, литовцы и евреи были подавлены и лишены равных прав в польском государстве. Вторым преступлением была нечеловеческая и хищная идеология польской «правой» - политический цинизм во внутренних отношениях, который в особенности после смерти Пилсудского привел к популяризации гитлеровских методов в польском обществе и исказил моральные черты польского народа гримасой антисемитизма - вплоть до сегодняшнего дня. Третьим преступлением была внешняя политика, нежелание служить обороне европейской Демократии, что выразилось в 1938 году актом постыдной измены, когда Польша помогла Германии в разделе Чехословакии и этим свила веревку на собственную шею. Гитлер использовал помощь Польши, чтобы раздавить Чехословакию, - и через год помощь России, чтобы раздавить Польшу. Тот же был метод - и тот же расчет на слепую жадность и продажный цинизм своих партнеров.
Автомобиль вынес нас из Лодзи. По обе стороны шоссе лежали рощи, поля и луга, залитые летним солнцем, лежала польская земля, живая мишень убийства. 130 километров до Варшавы нас сопровождали немецкие самолеты; экипажи бомбардировщиков рассматривали прогулку над Польшей, как безопасный и веселый спорт: городки, через которые мы проезжали, замедлив скорость, были запружены народом и сгрудившимися обозами; паника зарождалась на наших глазах. Поздней ночью начался массовый исход из Лодзи, когда десятки тысяч двинулись из обреченного города. Мы опередили эту волну на 15 часов.
В тот день, прощаясь навеки с мирным польским пейзажем, я думал о стране, которая, по словам Пилсудского, была «осуждена на величие» - но не сумела быть великой. В Шопене и Пилсудском даны два полюса польского духа: музыка Шопена - без грана твердости и мужской силы и подвиг Пилсудского, героический, но лишенный последней глубины и мировой перспективы. Между ними двумя не было настоящей середины, не было политического такта и умения творить новое, не отуманиваясь гордостью. Шопен и Пилсудский оба остались без продолжателей. Неправда, что Польша - «'Европа второго сорта», как сказал кто-то неумный. Польша - настоящая Европа. Мицкевич и Словацкий, Прус и Жеромский - европейцы первого ранга. Но Польша никогда не шла в авангарде, всегда это был арьергард Европы, пограничье, со всеми его недостатками и опасностями... В тот прощальный день мне были дороги ее дворы, и плетни деревень, и шпили костелов, и я желал ей выйти из страшного испытания возрожденной и свободной, действительной участницей великого демократического подъема Европы, в который я верил... Мысль о том, что Гитлер или Сталин могут выйти победителями из этой войны, даже не приходила мне в голову.
Варшава кипела, как котел, в паузе между двумя налетами. Саксонская площадь была заставлена машинами, прибывшими издалека. В гостинице «Европейская» не было мест. Не было бензина, и мы потеряли два дня в поисках горючего. На 5-й день войны не было уже дневного сообщения на железных дорогах и попасть в поезд было делом счастья. Я ночевал на краю города. Ночью радиотревога подняла на ноги население столицы: «Немцы прорвались - рыть окопы!» Все ушли из квартиры, где я спал. Поднялся и я, чтобы не оставаться одному в чужом доме. В два часа ночи я пришел на опустевшую Саксонскую площадь. В вестибюле «Европейской» меня встретил, зевая, швейцар. «Никого нет - все евреи разбежались!» - сказал он, пристально глядя на меня, как бы удивляясь, что я остался. Я спросил о своих спутниках. «Уехали!» - равнодушно сказал швейцар. Делать было нечего, я взял номер и лег спать, с тем чтобы утром купить себе рюкзак и пойти пешком через Вислу.
Но ранним утром - первые, кого я увидел в вестибюле отеля, были мои лодзяне. Ночная информация была неправильна. 7 сентября, в 11 часов утра, мы выехали из Варшавы. Первые несколько километров до Минска мы двигались шагом в густой толчее. Невообразимая каша клубилась на шоссе, пешие, конные, детские возики перепутались с платформами и грузовиками, автобусы с телегами и бричками, фургоны с пассажирскими автомобилями и ручными возками, нагруженными жалким скарбом. Шли женщины, держа за руку детей, молодые люди, по-походному, с сумками и мешками. Въехав в середину, мы уже не могли выбраться и двигались в общем потоке. Вдруг низко показались немецкие самолеты (польских мы так и не видели до самой румынской границы). Толпа бросилась врассыпную. Мы тоже оставили наш «бьюик» и залегли в картофельном поле под изгородью. Но в тот день еще не бомбили беженцев. Только назавтра разыгрались страшные сцены по дороге в Люблин, и шоссе было на метры залито кровью... Мы выбрались понемногу из затора, от Минска (30 километров за Варшавой) дорога стала свободна. Из сферы воздушного обстрела мы еще не вышли. Все города на нашем пути были засыпаны бомбами. Немцы были одновременно повсюду. Мы проехали горящий Седлец, на улицах стоял вой, полицейский бил резиновой палкой неистово вырывающуюся женщину. Проскочили деревни, где горели хаты. Жужжание в высоте не оставляло нас. Остановились перед Мендзыжецом, ожидая конца налета. Нам казалось - еще один бросок вперед, и мы оторвемся от войны, останется только летний зной и невозмутимая тишь проселочной дороги, где плетется фурманка с дремлющим бородатым евреем.
Наконец мы въехали в Брест и стали на Ягеллонской. Я вышел, разминая ноги, и сразу подошел ко мне человек, улыбаясь и протягивая руку: «Не узнаете?» Это был адвокат, с которым я встречался в другом городе семь лет тому назад. «Я местный житель, вы переночуете у меня».
Услышав, что делается в Варшаве и о волне беженцев, которую мы опередили, наш хозяин побежал покупать телегу и лошадь, чтобы быть готовым в путь. Мы занесли в Брест панику, от которой спасались... На следующее утро мы выехали на Волынь.
Фронт тек за нами, но в 200 километрах за Варшавой ничего не было известно о действительном положении. Поляки возлагали надежды на какую-то фантастическую помощь с Запада, на английский воздушный флот, на французский прорыв линии Зигфрида, на вмешательство Красной Армии. Офицеры лгали солдатам, местные листки сообщали в огромных заголовках о прорыве польской кавалерии в Восточную Пруссию, о бомбардировке Берлина и о вторжении французов в Саарскую область.
В Ковеле мы нашли уютную еврейскую провинцию, запущенные сады и деревянные крылечки, просторные дворы и трактир, переполненный именитыми гостями из Варшавы. 200
Босые ребятишки, засунув палец в рот, смотрели, как на завалинке у корчмы сидели необычные гости: дамы в изящных дорожных костюмах, толстые лодзинские фабриканты и сам варшавский вице-бургомистр. В конце улицы был кибуц, там еврейская молодежь проходила подготовку к будущей жизни в Палестине. На стенах висели портреты, на столах лежала уже ненужная литература. Все опоздало. «Бегите отсюда, - хотелось мне сказать им, - не полагайтесь на старших больше. С них взятки гладки, они ничего не знают и ни за что не отвечают...». Но уже поздно было убеждать и разговаривать.
Ночью проехали Луцк в веренице машин с затемненными огнями.
Следующий этап был в Ровно. Город был полон беженцев из Кракова и Львова, эвакуированных учреждений. Министры рассеявшегося правительства, задерживаясь в Ровно, рассказывали небылицы о кулаке, который собирается для контрудара по немцам, и дискретно исчезали в направлении румынской границы. На дорогах стояли брошенные автомобили, бесполезные ввиду отсутствия бензина. Владельцы их охотно меняли дорогую машину на телегу с лошадью. У нас еще был бензин, но машину приходилось прятать, чтобы не реквизировали военные власти. Магазины и лавки были закрыты или пусты; начинался вслед за политическим бытовой развал: недостаток продовольствия и товаров, отсутствие всякого представления о том, что будет завтра. В Тернополе галицийские евреи с длинными пейсами и в черных халатах поразили нас своим полным спокойствием. Все окружающее как будто не имело к ним прямого отношения. Полагаясь на Бога, они решили раз навсегда не предупреждать событий и ждать, пока снова можно будет торговать...
На узкой тернопольской улочке я услышал из уст молоденьких польских сестер милосердия, в хаки и с противогазом, слова ядовитой ненависти, погромные речи о евреях... Им не терпелось.... Это были сестры или матери тех шестилетних детей, которые позже бросались на еврейских стариков и женщин и вырывали у них волосы - детскими ручонками. В тернопольской толпе уже были первые симптомы деморализации и ожидания новой власти. Были там особые беженцы: польские семьи из района, бежавшие в город из страха перед украинской расправой.
15 сентября мы прибыли в Чертков... В этот живописный городок, по красоте своего горного расположения напоминающий ландшафты Италии, мы ворвались, минуя военную заставу. Въезд в Чертков был запрещен. Поэтому, не доезжая полкилометра, мы вышли из автомобиля и пробрались в город пешком. Шофер наш и товарищ, Шимкевич, съехал машиной с насыпи и проехал задними дворами и переулками. В городе проживал родной брат одного из нас. Мы были приняты с почестями и радушием. Здесь было тихо и спокойно; после 10-дневной дороги это был сущий оазис. Мы укоряли себя, что в мирные времена пренебрегали красотами Черткова, и были готовы посидеть здесь некоторое время... до выяснения положения.
Положение выяснилось скорее, чем мы думали.
17 сентября было в Черткове тихое летнее утро. Я проснулся и пошел в «Староство» просить о пропуске в Залещики. К моему удивлению, я застал в здании «Староства» зияющую пустоту. Двери кабинетов настежь, ящики столов раскрыты, в коридорах ни души. Картина спешного бегства. В дальней комнате у окна стояли два референта и смотрели в небо, где кружила стайка самолетов.
«Это их самолеты, наверно!» - сказал с дрожью в голосе референт.
Я изложил свою просьбу, но он едва меня слушал.
«Да езжайте куда хотите, ради Бога... Какие теперь пропуска?»...
Я вышел на улицу, ничего не понимая. Зашел к соседу, включил радио.
В эту минуту радио передавало текст речи Вячеслава Михайловича Молотова. Торжественное сообщение всему миру о том, что на рассвете сегодня Красная Армия перешла границу, чтобы ввиду распада Польского государства взять под свою защиту родственные народы Западной Украины и Белоруссии.
Через час мы стремглав мчались из Черткова. Бензина могло в обрез хватить до румынской границы. Мы объезжали колонны польских войск; солдаты смотрели на горизонт - не идут ли советские танки? - и офицеры объясняли им, что Красная Армия идет на выручку.
У Залещик нам загородили дорогу. Мы опасались, что советские авангарды нагонят нас, и решили продолжить путь в Снятин, полтораста километров дальше.
В час дня мы прибыли в Снятин, 5 километров от румынской границы. Там мы узнали, что граница герметически закрыта. Еще два дня назад можно было за деньги перейти ее. Но теперь и деньги не помогали. В связи с событиями румыны выставили тройной кордон войск на границе. Прорваться было невозможно.
Терять нам было нечего. Каждый из нас имел за границей семью: я - в Палестине, другие - в Париже и Лондоне. Каждый имел заграничный паспорт в кармане. С наступлением темноты мы выехали на границу.
В Снятине в первый раз мы увидели польские самолеты: 8 аэропланов описало круг над городом, прощаясь с Польшей - и повернуло за Прут. В Снятине был единственный пункт, где польская армия была моторизована на сто процентов -пехотинцев не было. На границе стояла вереница военных автомобилей, грузовиков, пассажирских машин, занятых войском, длиной в 4 километра. Румыны ночью стояли в три ряда, медленно передвигались во мраке, дорога кишела людьми, была полна перекликающихся голосов, сигналов, взбудораженной суеты. Мы упустили единственный шанс: следовало бросить наш прекрасный «бьюик», смешаться с толпой и миновать границу с группой военнослужащих, под покровом темноты. Но мы были еще новичками: как рисковать, как вдруг решиться на приключения, на лишения? Наша черная мощная машина вдруг показалась нам надежным оплотом, как корабль ночью в открытом море среди бури. Мы видели, что она была не единственной цивильной машиной в очереди. И ночь прошла в нервном ожидании, в мерном продвижении к заветной черте, где под аркой стоял румынский офицер с фонарем и отмечал число солдат на каждой машине: «Следующая! Следующая...»
На рассвете пришла наша очередь. Нас пропустили на 5 метров за границу. Рядом с румынским офицером стоял польский, помогал разбирать и вылавливать евреев. «Документы! - и прочел на паспорте нашего шофера: „Шимкевич Мойше“»... Остальные были не лучше.
Нам велели выйти из машины и вернуться. Автомобиль достался румынам. «Не дадим машины большевикам!» - объяснил по-немецки румын. Рядом ругался француз, которого тоже не пропустили. Ему объяснили со стороны в чем дело: в его машине оказался случайный попутчик - еврей. Дело сразу уладилось: еврея высадили, француз укатил, обрадованный. Хорошо быть французом.
Мы отвоевали все же право забрать с собой свои чемоданы. Разразился неистовый ливень. Под проливным дождем мы потащились обратно в Снятин, с чемоданами, пешком. Это не было триумфальное шествие. На окраине местечка я, должно быть, выглядел довольно жалобно, потому что на дорогу вышла еврейка и позвала меня отдохнуть и напиться чаю, таков был мой дебют в роли бездомного бродяги.
В тот же день группа палестинцев сделала последнюю попытку прорваться домой: предложила румынским властям пропустить их в Констанцу, прямым транзитом к пароходу, в автобусе под конвоем жандарма. Мы простояли полдня на пограничном мостике, ожидая ответа по телефону из близких Черновиц. В конце концов нас прогнали с руганью. Смеркалось. Мы решили, что утро вечера мудренее.
На следующий день было безоблачное небо и солнце, играла музыка и весь город был на ногах: ночью вошли советские войска.
На высокой башне ратуши развевалось красное знамя, танкетки стояли на площади, и улица кишела народом. Красноармейцы стояли, окруженные густой толпой. Каждый был в центре круга, его забрасывали вопросами, теснились посмотреть как на диво. Возникли десятки импровизированных митингов. Добродушные солдаты, не выказывая ни тени удивления или смущения, отвечали на все вопросы. Начиналось мое путешествие в Россию, хотя в эту минуту я и не подозревал этого.
Украинские крестьяне, в белых свитках, интересовались ценами на хлеб, а сапожник спрашивал, почем сапоги. Всех интересовали заработки в Советском Союза, и все были ошеломлены необыкновенным благополучием советских граждан.
«Я сам сапожник, - говорил рябой парень, усмехаясь и покачивая остроконечным штыком. - Я до тысячи рублей вырабатывал».
«А сапоги сколько стоят?»
Тут он подмигнул и спросил:
«А у вас сколько стоят?»
Ему назвали цену.
«Ну, и у нас, к примеру, столько же» - не задумываясь сказал парень
Группа красноармейцев стала в кружок:
Рас-цве-тали яблони и груши, По-плы-ли туманы над рекой, Вы-хо-дила на берег Катюша...Мелодия «Катюши» всем очень понравилась... Еще три дня тому назад никто не ждал в Снятине этих песен. Польские летчики в красивых черных мундирах, офицеры в рогатых шапках, гражданское польское население, как ошеломленные, старались понять что случилось, не верили глазам...
Только годы спустя, находясь в Советском Союзе, я понял, какую комедию отломали в это лучезарное утро веселые красноармейцы - как вдохновенно и стопроцентно врали нам ярославские и уральские пареньки, как они над нами потешались, рассказывая о сапогах по 16 рублей и колхозном рае. Видимо, были у них на этот счет инструкции или сказался своеобразный русский патриотизм - утереть нос полякам. Надо сказать, что евреи сразу возымели некоторые подозрения: услышав, что «все есть», «у нас все есть!», стали задавать каверзные вопросы: «А есть ли у вас Копенгаген?» Оказалось, что «как же, есть и Копенгаген, сколько хотите!..» Еще яснее стала картина, когда комендатура распорядилась открыть все магазины, объявила, что злотый равняется рублю, и на лавчонки обрушилась лавина советских покупателей. «Рубль за злотый!» - это им даром отдавали остатки буржуазного изобилия, как премию победителям. Позже я видел, как в пустые магазины во Львове входили командиры и, не умея читать по-польски, спрашивали, что здесь продается. Им было все равно, что покупать - гвозди, чемоданы, купальные костюмы. И о цене не спрашивали, так что евреи сперва набавляли скромно - 10, 20%, а потом сообразили, что этим людям нужны любые вещи за любую цену.
Три года спустя я встретил в советском лагере заключенного, одного из тех, кто в сентябре 39 года «освобождал» Западную Украину. Я его спросил, какое впечатление произвела на него первая увиденная им «заграница». И от него я узнал, что думали в те дни красноармейцы, которые на улицах Снятина рассказывали слушателям о привольном советском жилье.
«Это Рокитно, куда я попал, - местечко небольшое. Но ребята прямо ошалели, когда посмотрели, сколько этого добра по квартирам. И зеркала, и патефон, а еще жалуются, что им плохо было. Ну, думаем, погодите, голубчики, у нас забудете жаловаться. В особенности лавки с мануфактурой поразили - товар не только за прилавком на полках, но и с другой стороны, где покупатели. Полно! Не по нашему живут. Там сразу попрятали товар, но я все же нашел ход, и, верите ли, сколько я какао купил! По 15 рублей кило, а до нас, говорят, на копейки продавали. Жаль, повернули нас обратно, и не пришлось попользоваться...».
До конца сентября мы прожили в советском Снятине. Стояла чудесная ранняя осень. Я жил на окраине, в домике со стеклянной верандой и палисадником. Астры и мальвы цвели под окном. Хозяйка моя, старая полька, была одна с такой же старушкой прислугой, и обе были смертельно напуганы. С утра я сходил с обрыва к реке купаться. По ту сторону Прута синели холмы это была Румыния. Оттуда через несколько дней стали возвращаться группы поляков: румыны обошлись неласково, загнали в лагерь в открытом поле, на обед велели копать картошку, похитили ценные вещи.
А в Снятине была идиллия: на рынке людно, советские командиры заняты покупками и отменно вежливы. Население организовало демонстрацию привета Красной Армии. Разукрасили город, и человек 700 прошли перед зданием комендатуры с красными флагами .и криками «Да здравствует!» и «Ура!» Большинство были евреи. Несколько украинцев шли сзади. Поляков не было. Если принять во внимание, что в Снятине было тысяч пять евреев, которые имели все основания быть благодарными советской власти, то процент еврейского энтузиазма был относительно невелик. Но поляки не видели тех тысяч, которые остались дома. Для них это была «еврейская демонстрация». И вечером того же дня польская патриотка, учительница, горько жаловалась мне на снятинских евреев.
Нелегко нам было расставаться с румынской границей. Мы все еще не сдавались, искали проводников, ждали оказии. Как долго можно было оставаться, не привлекая внимания органов советской власти? Вечерами, в частном доме, мы собирались слушать радио - единственную связь с внешним миром. Еще держалась Варшава, еще продвигалась Красная Армия, еще мы ждали чудес на Западном фронте. А в сонном пограничном городке был остров тишины.
Крыши украинских хат были выложены золотой кукурузой и тыквами. В белом здании Сионистской Организации со щитом Давида на фронтоне расположилось советское учреждение. И мы, заблудившиеся европейцы, которым все это казалось сном, вместо того чтобы читать «Экклезиаст», абонировались в еще незакрытую частную библиотеку и читали запоем Монтерлана, писателя антисоциального и беззаконного, автора гениальных парадоксов, врага нашего Монтерлана, будущего прислужника Виши.
Охотников переводить нас через границу не находилось. Наконец мы предъявили в комендатуре свои заграничные паспорта, украшенные многими визами, и скромно попросили - пропуск за границу. Усатый бравый командир с явным неодобрением вертел в руках синие книжечки с польским орлом на обложке. Телефон позвонил. Комендант сделал страшное лицо и рявкнул в телефон:
«Какой магистр фармакологии? Вы эти титулы бросьте, пожалуйста! Прошли времена панов и магистров! Из аптеки? Так и говорите, что из аптеки!»
И обратившись к нам:
«Кто такие?»
Мы объяснили на чистом русском языке, пропуская титулы, кто мы такие, и комендант предложил нам получить бесплатный беженский проезд в столицу Западной Украины - город Львов.
Глава 2. В кольце
В сентябре 1939 года половина польского государства была занята Красной Армией.
Польские войска не оказали сопротивления, не были в состоянии и не хотели бороться. В случайных стычках было несколько сот убитых и 2000 раненых. Это и была та «совместно пролитая кровь», которая, согласно телеграмме Сталина Гитлеру, должна была стать фундаментом советско-нацистской дружбы. Население встретило Красную Армию как ангела-избавителя. Не только евреи - и поляки, и украинцы, и белорусы открыли свои сердца Советскому Союзу. Вступление советских войск было понято всеми не как заранее договоренный и циничный раздел Польши, а как неожиданно выросшая на пути гитлеровцев преграда: «досюда - и ни шагу дальше». С восторгом передавалось, что немецкие дивизии отходят перед Красной Армией. В городе Ровно воевода распорядился построить триумфальную арку и велел делегациям от населения приветствовать вступающие войска. Польская полиция Ровно в белых перчатках и с букетами цветов встречала Красную Армию. Известие о том, что советские войска приближаются к Висле, вызвало взрыв энтузиазма в осажденной Варшаве: выручка идет. Никогда в истории 2-х народов, никогда в истории этих земель не было более благоприятного момента, чтобы покончить все старые счеты, ликвидировать вековые распри, восторженным признанием и благодарностью привязать к себе поляков и неполяков - и начать новую эру. Всех нас можно было тогда купить за недорогую цену.
В эти дни миллионы отчаявшихся людей уходили от немецкого нашествия. Немецкий разбой и национальное крушение оставили только один выход - на Восток. Поляки шли - к братскому славянскому соседу. Евреи - под защиту великой Республики Свободы. Социалисты и демократы - к стране Революции.
В эти дни в одном из пансионатов Отвоцка (под Варшавой) случайно застрял мой приятель, домовладелец и гласный города Пинска, человек мирный и буржуазный. Немецкий лейтенант вошел в залу пансионата, увидел еврейские лица, дрогнул, сказал: «Ужас, сколько евреев!» - и вышел. Вечером их стали переписывать. Когда очередь дошла до пинского домовладельца, его осенило. Он гордо выпятил грудь и сказал: «Я русский коммунист!» Немецкий лейтенант посмотрел молча, ничего не сказал. Но на следующий день ему позволили выехать. В пути ему не повезло, он попал в лагерь и просидел там в открытом поле с толпой беженцев несколько дней, пока немцы не выгнали всех на дорогу и не погнали на русскую границу. Конные с нагайками гнали пешую толпу бегом 15 километров. Та минута, когда перед моим приятелем выросла фигура русского часового, была переломом в его жизни. Он добежал до него, залитый слезами, обнял и стал целовать лицо, штык, мундир. Красноармеец усмехнулся и сказал: «Спокойней, братишка, спокойней - теперь уж лучше будет!»
Все верили, что лучше будет. В моем родном городе Пинске, месяцем позже, я мог убедиться, что мой домовладелец не был исключением. Еврейская молодежь демонстрировала на улицах Пинска с портретами Сталина и... Пушкина. Мало кто из этой несчастной молодежи понимал, что по ту сторону Буга половина польского еврейства расплачивается головами за их торжество.
Отрезвление наступило не сразу. Мы нашли во Львове великое столпотворение. Еще были свежи разрушения, стены домов покрыты траурными объявлениями о погибших. В центре города нельзя было протолкаться. Неслись грузовики с русскими солдатами, маршировали роты, кричали мегафоны походных радиоустановок, переполнены были кафе и рестораны необычной толпой. Миллион беженцев и военных. Золотые листья усеяли осенний бульвар Легионов, где спешно воздвигали эстрады, колонны с лозунгами, монументы из дерева и фанеры, крашеные под мрамор. Эта имитация мрамора была своего рода символом. Издали - торжественный обелиск, вблизи - наскоро сколоченные доски с аляповатой росписью. Деревянные декорации выглядели довольно жалко на фоне бронзы и барокко старого польского города, но рядом были танки и броневики - настоящая сталь.
Львов помнил еще первую русскую оккупацию 1914 года. Тогда царская армия привезла с собой обозы с мукой. На этот раз муки не привезли. Зато на Марьяцкой площади у стоп памятника Мицкевичу лежали свежие цветы. Зато были еврейские передачи по радио. Еще никого не трогали. Регистрировали беженцев и офицеров польской армии. Но как только стал ясен смысл прихода советской власти - захват, толпы поляков стали уходить на немецкую сторону. Львов в октябре - бивак, зрелище суматохи и смятения. Иностранные консулаты штурмуются толпой накануне их закрытия. Встревоженные иностранцы домогаются выезда. Ежедневно прибывают партии беженцев с запада, многие прошли по 600 километров пешком. Всюду объявления о пропавших детях, о разбитых семьях. Евреи из Вены и Силезии рассказывают ужасы о том, как их вывозили и перегоняли через советскую границу. На перекрестках улиц громкоговорители рычат военные сообщения о немецких успехах. Неземная мелодия Шопена, в гротескном усилении, как взбесившийся бык, врезается в уличную давку. Шопен на улице громче автомобильных гудков. Продают «Червоный Штандар», «Правду», «Известия», учебники русского языка. И всюду портреты вождей, рекламы советских фильмов.
Войны уже не было, но был переворот: политический, социальный, бытовой, осуществляемый не изнутри, а извне, по плану и приказу Москвы. Освобождение от немцев превращалось в завоевание. Фронта не было, но город выглядел, как в прифронтовой полосе. Выросли гигантские очереди, где в осенней слякоти сотни людей стояли за хлебом, за водкой, за горстью конфет. Выросли бесчисленные ресторанчики, закусочные, где беженцы обслуживали беженцев, подозрительные притончики, полные спекулянтов или «бывших людей», где вполголоса велись разговоры о возможности прорваться в Венгрию, уйти в Румынию. Но мы уже были в кольце. Национализация фабрик, банков, раздел земли, выставки, на которых показывали фотографии огромных советских городов и чудес техники, а рядом - жуткое разорение в городах и невозможность всем найти работу. Советская власть объявила набор желающих ехать на работу в глубь России: бесплатный проезд, 100 рублей на дорогу. И эшелоны стали отходить из Львова в Донецкий бассейн. Одновременно мы были изолированы, границы закрыты - кроме той, внутренней, через которую шел самочинный, полулегальный поток беженцев из немецкой Польши в советскую и обратно. Была в особенности закрыта граница с Советским Союзом. Проезд в обе стороны был невозможен без особых разрешений, которые не выдавались частным лицам.
Первое, что я сделал по приезде в Львов, - это пошел в комендатуру на Валовой улице и просил о пропуске через румынскую границу. Дело, по-видимому, было простое. Я жил постоянно в Тель-Авиве, имел там квартиру, семью, приехал оттуда в мае, война захватила меня на пути домой. Визы, заграничный паспорт - все было в порядке. Велели мне прийти через неделю. Через неделю велели явиться еще через две недели. Каждый раз я заставал в комендатуре новых людей, которые не имели понятия, что мне нужно. Палестина, сертификат, виза - были для них непонятными словами, а документы на польском языке - недоступны.
Наконец мне объявили, что вопросы выезда за границу решит гражданская власть после плебисцита.
Этот плебисцит - о присоединении Западной Украины и Белоруссии к Советскому Союзу - останется в моей памяти как образец выборной комедии. Результат ее был предрешен заранее, как результат всяких выборов, организуемых военной властью при полной поддержке административного аппарата (или административным аппаратом при полной поддержке военной силы), при исключении оппозиции и отсутствии независимого общественного контроля. В день плебисцита я ушел из дому и вернулся домой только в 11 часов вечера. Моим твердым решением было не участвовать в плебисците. Вернувшись, я узнал, что за мной дважды приходил милиционер - «почему не голосует?» - и обещал прийти в третий раз. Делать нечего, я пошел в выборный участок. Там я потребовал, чтобы мое имя было вычеркнуто из списка выборщиков. Я объяснил, что нахожусь во Львове проездом, проживаю за границей и не считаю себя вправе решать вопрос о государственной принадлежности Западной Украины. Но это не помогло. «Можете голосовать, - сказали мне, - мы ничего не имеем против». Я категорически отказался, и мне сказали, что меня никто не заставляет и я тогда буду отмечен как уклонившийся от голосования. Я пошел к начальнику выборного участка. Это был советский командир, и я ему показал удостоверение личности, выданное мне полицией города Тель-Авива в апреле того же года. Это удостоверение не заменяло паспорта, но английский текст произвел впечатление на командира. Он позвонил в Центральную Выборную Комиссию и сообщил, что в списках выборщиков имеется англичанин, не желающий голосовать. «Вычеркните англичанина!» - сказали ему, и я ушел с победой. Прочие, невычеркнутые, голосовали как полагается - и советская власть по всей законной демократической форме вошла во владение Западной Украиной и Белоруссией.
Залы ресторана «Бристоль», где днем обедали при электричестве, в шумной и разноязычной толпе, среди драпировок и плюша, среди звона посуды и запахов жареного, где старые кельнера с грустью смотрели на упадок бывшей польской ресторации 1 класса, а молодые огрызались на гостей и делали им замечания, были местом наших встреч с советскими командирами. Это были люди негордые и общительные (до известной черты) и на наши вопросы: «Как это возможно, что Советский Союз заключил договор с фашистами?» - отвечали нам всегда, что это «политика», а война с фашистами будет непременно. Попадались среди них евреи, и эти в свою очередь нас расспрашивали, как жилось у поляков и что такое делается в Палестине. Расспрашивали с полным сочувствием людей, которые «могут понимать», хотя это и не касается их прямо.
Иначе вел себя солидный подполковник, занимавший комнату в квартире моих друзей. Вечером он появлялся в кабинете, слушал со всеми вместе радиопередачу из Москвы, а когда доходило до заграничных радиопередач - подымался и исчезал. Тем, что говорит заграница, он принципиально не интересовался, считая, очевидно, такое любопытство недопустимым для советского человека. Через короткое время квартира и весь дом были реквизированы властями, и мои друзья были выселены в квартиру поскромнее и поменьше.
Была мокрая ненастная осень, а вопрос моего выезда не подвигался. Почему прервался контакт с нашими семьями за границей? Я представлял себе страх моих близких, которые с начала войны не получали от меня известий. Почему нельзя ехать домой? Зачем это сидение в постылом и чужом городе? И как долго можно сидеть на чемоданах, без денег и заработка? Мысль поступить на советскую службу просто не приходила мне в голову. Надо уезжать, а не «устраиваться». Я чувствовал себя, как шофер автомобиля, который задержан на полном ходу перед заставой: мотор гудит, но шлагбаум все не открывают... Наступает минута, когда надо выключить мотор, выйти и сесть на дороге... Как долго еще?..
Я весь был полон инерции движения, мыслей о доме и нетерпеливого ожидания. Того, что меня просто-напросто не пустят домой, я не мог себе представить. Если бы кто-нибудь сказал мне об этом, я бы рассмеялся как шутке. Я мыслил категориями европейского права, стоя на пороге джунглей. Мои друзья, с которыми я приехал из Лодзи, не имели моего палестинского сертификата и визы. Поэтому они в конце октября решили ехать в Вильну, которая как раз в те дни передавалась Красной Армией Литве. Это им удалось, и в конце концов они получили возможность из Литвы выехать в Европу. Один из них добрался до Нью-Йорка, другой - до Бразилии, третий - до Австралии. Попал и я в Палестину, но дорога моя продолжалась... семь лет.
В то время, еще сытый и в условиях сравнительно нормального быта, я испытал самое острое чувство одиночества, оторванности и нелепости своего положения. Наступил момент, когда пребывание во Львове стало невыносимо. На второй день после плебисцита я погрузился в поезд и уехал в Пинск - город моего детства, город, который не в первый раз среди моих странствий служил мне станцией отдыха и убежищем от бед.
Город моей матери! Но прежде пересадка в Ровно, пересадка в Лунинце. В Ровно кончилась Украина с белым хлебом и сахаром. Отсюда на север беднее становится ландшафт - белорусские туманы, озера, унылые равнины, мокрые перелески, глухие станции со штабелями дров. В Ровно на вокзале поразило меня неправдоподобное сборище оборванцев. Таких людей я еще не видел в Польше: толпа юнцов в невероятных лохмотьях, в опорках и рубище, босая и раздетая, в женских кофтах и фантастическом тряпье, навернутом на шею. Не я один смотрел с удивлением на эту толпу: из какой трущобы они явились? Оказалось, что это были ленинградцы - призывники столицы, свежемобилизованные и едущие отбывать военную службу. На весь эшелон не было ни одной пары целых штанов... Точно дверь приоткрывалась в другой мир, и всем окружающим стало немного не по себе...
На вокзале в Лунинце, размалеванном лозунгами, обвешанном алыми полотнищами, начиналась «Савецкая Беларусь». Вокзалы в этой стороне выглядят торжественно-монументально, как настоящие «государственные учреждения», со всем великолепием построек времен царя Николая: буфеты с пальмами в кадках, тяжелые двери, высокие окна и порталы - внушительный контраст жалким деревянным домикам и булыжным мостовым за ними. Крестьяне - в лаптях и онучах, с холщовыми сумами, евреи - не такие, как в Галиции или «Конгресувке», а особые: это ЛИТВАКИ, пинские евреи, приземистые и краснолицые, со здоровыми и грубыми чертами, с круглыми головами, маленькими живыми глазками, - порода, милая моему сердцу и которую, кажется, можно узнать на другом конце света.
Столица пинских болот превратилась в советский город! Переход дался ей легче, чем Львову, по той причине, что не было языковых трудностей: Полесье всегда говорило по-русски, это язык деревни, и каждый еврей им владел. Зато никто не знал нового государственного белорусского языка - ни горожане, ни деревенские. Еврейские школьники, которые до сих пор путали только польский с русским, теперь путали уже три славянских языка и окончательно были сбиты с толку.
Пинск шумел и гудел, как оркестр, настраивающий инструменты перед выходом дирижера. Дирижер уже прибыл, но никто не знал, какая будет музыка... Город был полон энтузиастов, которые еще вчера были нелегальны, испуганных насмерть людей, беженцев, советских приезжих, притаившихся врагов и серых, маленьких обывателей, которые не были ни врагами, ни друзьями и ждали, что будет.
Этой роскоши я себе позволить не мог. По прибытии в Пинск я немедленно пошел в ОВИР - отдел виз и регистрации иностранцев. Мне нетрудно было убедить безграмотного и добродушного паренька, который со мной там разговаривал, что я человек не местный и должен ехать в Палестину. Ясно было, что он ничего против этого не имеет. Но у него не было инструкций выдавать визы. Надо было послать запрос в столицу Белоруссии - Минск. Увидев, с каким трудом изображает на бумаге буквы начальник областного ОВИРа, я взял у него перо из рук и за него написал требуемый запрос... Не знаю, был ли он когда-либо послан в Минск. Думаю, что мой паренек просто отослал его на соседнюю улицу, в областное НКВД, или советское гестапо, где сидели люди поумнее его. Петля на шее - невидимая петля, которую носит каждый житель советской страны, уже была наброшена на меня, и скоро я это почувствовал.
С приходом советской власти старый доктор Марголин, пинский старожил, лишился пенсии, которую ему 8 лет аккуратно выплачивала Люблинская Врачебная Касса. Я приехал вовремя, чтобы заняться его материальными делами. В СОЦОБЕСе начальником был другой Марголин - худенький еврейский комсомолец, еще не освоившийся с внезапным переходом от подпольной работы к «вершинам власти». Он испуганно и неловко отбивался от массы человеческого горя, ломившейся в двери его кабинета. Старые пенсионеры, инвалиды, вдовы, все, кого содержало польское государство, тучей осаждали его, и не было ни средств, ни формальных оснований помочь им. Ставок советской власти не хватало на кров и пищу, на молоко для беззубых ртов. Что-то явно не сходилось, не соответствовало, мечты и действительность не совпадали, старики плакали, а мальчик в косоворотке, с кадыком и выпуклыми глазами смотрел на них со смущенным и жалким видом. Два Марголина поговорили о третьем. Выяснилось, что по советскому закону врач, прослуживший по найму 25 лет, имеет право в случае инвалидности на пенсию в размере половины последнего служебного оклада. Трудность же заключалась в том, что старый врач Марголин, понятно, не мог представить удостоверений с мест своих служб, которые начались еще в конце прошлого столетия. Кто же мог ему удостоверить службу во время холерной эпидемии на Волге в 1897 году? Даже служба в пинской больнице, о которой знал и сам начальник СОЦОБЕСа, приходивший ребенком на прием к этому же д-ру Марголину, не могла быть удостоверена за отсутствием архивов и самой больницы, сгоревшей несколько лет тому назад. СОЦОБЕС без справок ничего платить не мог. «Ничего?» - спросил растерянно один Марголин. «Ничего!» - вздохнул другой Марголин. Оставалось еще пособие для бедных, которое выдавал Горком в размере 20 рублей в месяц (цена 10 литров молока). Я оглянулся на очередь из больных, увечных, подвязанных стариков с палочками, слепых старух, явно засидевшихся на свете, и благословил судьбу, которая вовремя занесла меня в Пинск, чтобы выручить моего старого отца в частном порядке. Для него коммунистический переворот оказался довольно невыгодным делом. И снова - как на ровненском вокзале - пахнуло ледяным ветром в приоткрытую дверь.
Время шло, а ответ из Минска все не приходил. Мы очень мило разговаривали с начальником ОВИРа, и, наконец, он мне сказал, что нет никакой формальной возможности поставить советскую выездную визу на мой польский паспорт. «Польского государства мы не признаем и, значит, не можем визировать польских документов. Вот другое дело, если вы примете советское гражданство. Как советский гражданин, будете иметь тогда право - просить ехать за границу».
Я спросил: «Если через неделю я вернусь к вам с советским паспортом, вы мне сможете его обменять на заграничный?» «Ну, нет, - сказал начальник ОВИРа, - этим делом я не занимаюсь. Но можно будет тогда написать в Минск и запросить насчет вас».
Тут я понял, что дело плохо. Я бросил Пинск и помчался на румынскую границу, в уже известный мне Снятин.
Начинался декабрь. Проезжая Львов, я был настолько осторожен, что взял у одного из знакомых опротестованный вексель снятинского купца и удостоверение на фирменном бланке, что я делегируюсь для переговоров о регуляции долга.
В 10 часов вечера львовский поезд прибыл в Снятин, и десятка два приехавших пассажиров сразу были взяты под стражу и отправлены в вокзальную милицию. Три месяца прошли недаром, и больше не разрешалось приближаться к границе без важных оснований. Все приехавшие были заперты до утра, а утром их отправили со львовским поездом обратно. Я был единственный, кто удовлетворительно объяснил причину своего приезда и получил разрешение ехать в город.
Была глухая ночь, когда бричка тронулась с вокзала (до города было километра три). На полпути нас остановил пост, и я снова должен был предъявить документы. «Спички есть, товарищ?» - спросил красноармеец. Спичек не было ни у меня, ни у него. В полной темноте красноармеец удовлетворился тем, что пощупал мое удостоверение личности и скомандовал извозчику: «Трогай, давай!»
В спящем Снятине я с трудом достучался в окно корчмы. Хозяин помнил меня еще с сентября и встретил как старого друга. Через несколько минут я спал под огромной периной в единственной комнате для гостей.
Три дня оставался в обезлюдевшем пустом Снятине. Разъехались беженцы, пропали поляки и куда-то исчезла моя хозяйка-полька с сентября. Железным гребнем прочесали население пограничного городка. В том доме, где мы слушали радио три месяца тому назад, хозяин, бывший купец, занимался фабрикацией колбасы. Переходить границу мне категорически отсоветовали. На днях поймали сына местного сапожника, бывшего комсомольца, при переходе границы - и неизвестно, куда он делся. Пропал таинственным образом. Через границу и кошка не пройдет. Таинственные пропажи людей заметно нервировали снятинских евреев, привыкших даже в тюрьме всегда иметь точный адрес своего человека. Люди, исчезая, не оставляли никаких следов, не писали даже писем - очень странно! А русские люди, когда их расспрашивали, только смеялись и отвечали пословицей: «Много будешь знать, скоро состаришься!..»
Румынская граница оказалась непроницаема. Но оставалась еще литовская - на севере. Я укорял себя, что сразу туда не поехал. Сколько времени было потеряно!
Снова Львов! Я как будто попал на шумный перекресток, в смешанную толпу из потерявших почву под ногами и отчаянно метавшихся людей, из валютчиков, комбинаторов и просто людей, продававших часы и последние вещи, из новых бюрократов, перекрасившихся карьеристов и советских служащих. Многие мои знакомые уже вполне приспособились как инженеры, руководители предприятий, кое-кто успел по командировке съездить в Москву и Киев и был полон впечатлений. Беспорядок и разруха во многих домах были замаскированы, прикрыты подобием уюта: по-прежнему накрывали к столу и вели «нормальные» разговоры, но в столовой уже стояла кровать, хозяйка готовила «запасы», вдруг, без всякой причины, начинали говорить шепотом. Сотни тысяч людей во Львове вели странное, нереальное, временное существование: все, что с ними происходило, как будто им снилось - это не была естественная и свободная форма жизни этих людей, органически сложившаяся и соответствовавшая их желаниям: это был гигантский маскарад, в угоду чужой власти, которая и сама носила маску, не говорила того, что думала, шла своим конспиративным путем. Угроза висела в воздухе, громада подавленных мыслей, спрятанных чувств, громада недоверия, лжи, страха, подозрений, беспомощность приватного существования, которое уже было минировано и каждую секунду ждало взрыва: проклятая атмосфера сталинизма или всякой диктатуры, атмосфера насилия, помноженного на все горе военного разгрома, разрыва, распада, разлуки. Были тысячи людей, которые, как я, накануне войны приехали из-за границы, были бабушки, которые издалека на месяц приехали в гости проведать внуков, а попали в Советский Союз, палестинская молодежь, которая вдруг почувствовала себя нелегальной, чужие, которые ничего не хотели, кроме позволения уйти, и как можно скорее, потому что быть «чужим» в советских условиях есть преступление.
И в эту кашу беспрерывно прибывали новые люди - с Запада, из гитлеровской зоны, беглецы без оглядки. В один вечер в мою дверь постучали знакомым стуком. Я открыл: на пороге стоял мой лучший друг и товарищ Мечислав Браун - прямо из Лодзи.
Мечислав Браун принадлежал в молодости к группе поэтов «скамандра», и стихи его вошли во все польские школьные хрестоматии. В 1920 году этот человек был ранен под Радзимином, защищая Варшаву от большевиков. Но пришло время, когда польское общество стало бойкотировать его, как еврея. Мечислав Браун, польский патриот и европеец, прошел нелегкий путь от социализма и ассимиляции к сионизму. Он вернулся к своему народу, и летом 1939 года написал прекрасную поэму «Ассими», посвященную эпопее нелегальной иммиграции. На палубе корабля, идущего к берегам Палестины, Мечислав Браун увидел среди молодежи фигуру в старомодной крылатке и широкой шляпе: Генриха Гейне, возвращающегося домой. Строфы «Ассими» еще звучат в моих ушах, но никто больше их не услышит: в огромной могиле польского еврейства похоронены люди и перлы их сердца, их слова и мысли.
В тот вечер Мечислав рассказал мне о своих злоключениях.
Он ушел из Лодзи вместе с женой, накануне падения города. Несколько сот километров они шли пешком, ночевали в крестьянских хатах, а днем двигались в людском потоке. Над Бугом, пограничной рекой, их догнали немецкие танки. Через месяц после начала их путешествия им пришлось вернуться в «Лицмонштадт», как немцы переименовали Лодзь. Квартира их была разграблена и занята немцами. Браун поселился на окраине города и в течение шести недель не выходил на улицу. Занимался он тем, что читал полное собрание сочинений Толстого. Через 6 недель было объявлено о введении желтой латы для евреев. За 700 злотых знакомый лодзинский пастор, которому он когда-то оказал большую услугу, согласился вывезти его на границу в автомобиле, украшенном свастикой. «Зато, - сказал ему служитель церкви, - когда придет в Лодзь Красная Армия, вы меня вывезете на немецкую границу». Как видно, лодзинские немцы тогда еще не совсем были уверены в военном счастье Германии.
Не доезжая километра до Острова-Мазовецкого, немец высадил его и умчался. Было уже темно, когда Браун вошел в местечко и поразился пустоте улиц. Местечко словно вымерло, и не было видно и следа евреев. Браун вошел в польскую гостиницу на рынке. Там он выдал себя за поляка. Это был высокий, голубоглазый блондин, и никто бы не признал в нем еврея. Хозяин удивился при виде гостя в вечерний час: вечером движение по улицам было запрещено, счастье прохожего, что он не наткнулся на полицейский патруль. Оказалось также, что в Острове-Мазовецком произошло накануне повальное избиение евреев.
Местечко это было забито беженцами. Вчера утром возник пожар, и немцы обвинили евреев в поджоге. Это было сигналом погрома. На рынке, куда согнали все еврейское население, разыгрались потрясающие сцены. Евреи бежали из местечка, по ним стреляли. Наконец отобрали 350 человек и погнали на кладбище. Кроме них взяли 30 поляков и в их числе слугу из гостиницы, где находился Браун. Слуга вернулся и рассказал хозяину, что на кладбище немцы отделили женщин и детей от мужчин. Мужчинам велели копать могилу. Копали молча, только женщины и дети подняли крик. Двое беженцев подошли к немецкому лейтенанту. У них была дочь, девочка 8 лет, и они предложили лейтенанту все деньги, какие у них были, чтобы девочке позволили вернуться в местечко. Для себя они не просили ничего. Немец взял деньги, вынул револьвер и пристрелил девочку на глазах у родителей. Все 350 человек были скошены пулеметом. Большое впечатление произвело на поляков, когда они увидели, как у маленьких детей от пуль отскакивали во все стороны ручонки, ножки и головки. Потом группе поляков велели закопать трупы. Они медлили. Немцы предложили на выбор: по 20 злотых за работу или пулю. Поляки закопали трупы.
Браун слушал, кивая головой, и старался не показать волнения. В гостинице не было гостей, кроме него, и вся она была занята немецкой жандармерией. Хозяин собрался уходить - он жил в соседнем доме, - но Браун решил задержать его, ему было жутко оставаться одному с немцами. Он стал рассказывать анекдоты и истории не умолкая, заговорил своего собеседника, пил с ним до поздней ночи, и, когда тот спохватился, уже рассвет глядел в окна, и ночь прошла...
Утром слуга проводил его в соседнюю деревню, и вторую ночь Браун провел в крестьянской избе на границе. В эту ночь шел немецкий обход по избам, искали евреев и находили их в каждой избе. Арийская внешность спасла Брауна. Немец растолкал его, посветил в глаза фонарем: «Кто такой?» «Родственник», - сказала хозяйка. Немец посмотрел документ. «Чех?» - спросил он. Браун не спорил, и его оставили в покое. Как только немцы вышли, хозяйка потребовала, чтобы он уходил из избы. Браун еле уговорил крестьянина, ссылаясь на Матерь Божию и сердце поляка, чтобы он его проводил. Крестьянин согласился только тогда, когда он вывернул карманы в доказательство того, что отдает ему все деньги - до последнего гроша. Они прошли лесок, прокрались мимо немецкой стражи, так близко, что слышали голоса. Браун нес рюкзак, крестьянин - его чемодан. Дошли до полянки, и крестьянин показал ему рукой: «Вон там - уже русские». И повернулся, намереваясь уйти. «А мой чемодан?» - позвал Браун. Крестьянин только ускорил шаги. Гнаться за ним не приходилось, и Браун пошел в другую сторону. В полдень он был на станции на русской стороне, где стоял советский поезд. Сестра милосердия, которая прониклась к нему симпатией, впустила его в офицерский вагон, и он без препятствий доехал до Львова. На этой истории не стоило бы останавливаться, если бы не тот поразительный факт, что Мечислав Браун, который во Львове был принят с почестями, зачислен в польскую секцию Союза советских писателей со всеми вытекающими отсюда материальными последствиями, спустя три месяца добровольно перешел границу в обратном направлении, к тем самым немцам, о которых он имел очень наглядное представление. Что заставило его вернуться - об этом речь пойдет дальше.
Во второй половине декабря 1939 года я прибыл в Лиду, на литовской границе, по железной дороге Барановичи - Вильна. Вильна была тогда целью всех стремлений, вратами свободы. На спине я имел рюкзак, в кармане - очень мало денег. В Лиде не было ни украинско-молдаванской сытости Снятина, ни сутолоки и ресторанов Львова. Были суровые морозы, нищета и разорение, заколоченные лавчонки, по мосткам толпы наехавших чужих людей, у которых на лбу было написано, зачем они приехали. Город был переполнен, некуда было ткнуться, и несколько дней я спал на полу в крошечной комнатушке у случайных знакомых. Это была молодая пара, оба - беженцы: муж - безработный, жена - мастер на фабрике калош «Ригавар». Я был свидетелем их горькой бедности, так как заработка на фабрике не хватало им даже на хлеб, и они распродали последние свои вещи. Через несколько дней я ушел на квартиру, где был сборный пункт для желавших тайно перейти границу. Это был притон, не лишенный живописности. По ночам квартира превращалась в ночлежку, вносили складные кровати, семьи завешивались простынями, но было так холодно, что я не мог заснуть даже одетый, вставал в темноте и ходил среди спящих, собирая со всех крюков пальто, чтобы укрыться. К обеду собирались раввины в меховых шапках, бородатые евреи, которые стремились в литовский Иерусалим, от советского нечестия. За столом велись разговоры, в которых я не мог принимать участия, на темы: «Если из четырех концов „цицис“ не хватает одного, то можно ли считать, что закон исполнен целиком, или надо считать, что он выполнен только на три четверти?..»
Скоро подобралась партия в семь человек, и мы условились с проводником. Денег у меня не хватило, и спутники мои согласились кредитовать меня до Вильны, где я надеялся рассчитаться с ними. Ледяная пустыня Лиды, нелегальное существование, шныряние по углам, грязь, холод и тоска, бессмысленная путаница этих дней замучили меня. Наконец утром 28 декабря нам был дан сигнал - выходить.
Мы дали задаток, по 150 рублей, проводнику-белорусу. Вещи наши нагрузили на сани, а мы шли пешком и скоро растянулись цепочкой по дороге. Было ясное морозное утро. Мы должны были отъехать от Лиды несколько километров, дождаться вечера на крестьянском дворе и ночью перейти границу. До нас перешли границу в этом месте тысячи людей.
Но ушли мы недалеко. Вдруг из-за домика при дороге показались вооруженные люди - это была полицейская застава, которую, на нашу беду, поставили именно в это утро. Нас вернули обратно. Они остановили сани, на которых сидели женщины и лежала груда наших вещей. Мне ничего не оставалось, как подойти к саням. Через минуту всех нас, с санями вместе, повернули под конвоем в Лиду.
В НКВД мы ждали несколько часов своей очереди. Каждого допрашивали отдельно в большом зале, где стояло несколько столов.
Я показал, что ехал в Радунь, местечко в 18 километрах от Лиды.
- Почему же санями, когда в Радунь идет ежедневно автобус?
Я объяснил, что мне не имело смысла стоять на морозе в очереди за билетом на автобус полдня, когда за это время я мог доехать на лошади и даже дойти пешком. - Зачем в Радунь?
Я сослался на знакомого, который обещал мне службу на радуньской электростанции. Действительно, несколько дней тому назад я познакомился с человеком, который оказался заведующим электростанцией в Радуни, и я «на всякий случай» попросил у него «пригласительное письмо» - приехать в Радунь на службу. Это письмо я никак не мог найти, но мой энкаведист пришел мне на помощь. Он очень спокойно и умело обыскал меня: из мешка посыпались английские книги и прочие вещи, свидетельствующие о моей мирной учительской профессии. Наконец он вытряхнул и то письмо, которое я считал потерянным. Письмо он забрал, а мне дал совет искать службу в Лиде и не соваться больше в Радунь, куда въезд запрещен. Это было все.
Три месяца спустя я не отделался бы так легко. Кроме того, мне «повезло», так как задержали нас не на самой границе, а по дороге туда. Всю нашу партию отпустили, и мы решили не рисковать вторично, потому что при повторной встрече с властями с нами бы разговаривали иначе. Я снова отправился в Пинск.
Кое-кто остался. Другие поехали в Свенцяны - пытать счастья на другом пограничном участке. Многим из настойчивых переход удался в январе. 2 января перешла границу под Лидой знакомая семья из Львова - с малыми детьми и многими чемоданами. Это стоило им целого состояния, но не спасло их от смерти - два года спустя при избиении виленских евреев.
С меня, во всяком случае, было достаточно. Я не годился в контрабандисты. Я смертельно устал, хотел выспаться и отдохнуть. 31 декабря 39 года я с великими трудностями втиснулся в переполненный поезд и поехал обратно - в Пинск.
В полночь мы прибыли в Лунинец. Поезд в Пинск отходил в шесть утра. Я посидел, походил по вокзалу и вдруг представил себе, что теперь празднуют во всем мире Новый год и ждут от него конца бедствий и всякого счастья. Новый год! Недолго думая, я пошел в город.
Улицы глухого местечка были пусты и безмолвны, снег хрустел под ногами, и я плелся по сугробам, как Вечный Жид, с мешком на спине.
Под одним окошком я остановился. За запертыми ставнями был веселый шум, новогодние крики, веселье. Там встречали Новый год, а я стоял под окном, как нищий! Решившись, я постучался. Мне открыли, и я ввалился как рождественский дед в теплый, освещенный коридор.
Я попал удачно, потому что в этом доме устраивал новогоднюю встречу Учительский Союз районного города Лунинца. Мне поверили на слово, что я учитель, я сдал в гардероб свой рюкзак и пошел в буфет, где еще осталось пиво.
Так в незнакомой толпе, за чужим столом, я встретил новый, 1940 год - скверный и зловещий год, полный крови, горя и триумфа зла, год, который принес миллионам людей смерть и рабство, а мне - самое фантастическое приключение моей жизни.
Глава 3. История одного разочарования
То, о чем я здесь хочу вкратце рассказать, есть история одного разочарования. Не лично моего разочарования. Никогда я не был очарован советским строем и никогда не сомневался в том, что теория его - несостоятельна, а практика полна лютой человеческой кривды. Лично я относился к Советскому Союзу без иллюзий и без враждебности, как человек посторонний. Но не подлежит сомнению, что основная масса населения Западной Украины и Белоруссии в момент вступления Красной Армии была полна искренней благодарности и великих надежд. Человеку свойственно верить в добрую волю всякой новой власти, пока не докажут ему противного. Пока его не ударили, он склонен к оптимизму, и, даже, после того как ударили, он все еще надеется, что это было недоразумение.
Каким образом советская власть в течение одной зимы превратила население занятых областей - без различия классов, народностей и политической принадлежности - в противников, - справка об этом не лишена актуального интереса поскольку дает представление о методах и технике советизации вообще.
Опыт научил меня, что никакими аргументами и свидетельствами нельзя переубедить человека, который считает себя коммунистом. Переубедить его в состоянии только сама советская действительность. Тот же опыт привел меня к убеждению, что коммунизм не заключается в том, что человек вбил себе в голову. «Воображаемый коммунизм» в границах демократического строя есть сумма мнений или политическая демонстрация, от которой никому не больно. Из ста человек, которые исповедуют коммунизм, находясь в Париже или Риме, и не представляют себе ясно, как он выглядит на деле, отпало бы 90, если бы увидели его в живом действии, когда он как нож врезается в тело жертвы. Остались бы мясники, люди, для которых брутальное насилие является не только средством, но и фундаментом общественного строя.
Этапы советизации я наблюдал в моем родном городе Пинске.
Прежде всего с нашего горизонта исчезли представители польской администрации. То, что их убрали, никому не , мешало, и никто не задумывался над их дальнейшей судьбой. А между тем характерной советской мерой было то, что их не просто сняли с постов, а ликвидировали, как группу населения. Их больше не было среди нас. За ними последовали «осадники». В продолжение 20 лет существования независимой Польши правительство парцеллировало имения помещиков на Восточной границе и на освободившиеся земли сажало не местное население, а польских колонистов, по большей части заслуженных солдат польско-советской войны 1920 года, которые усиливали этнический польский элемент в восточных округах и были опорой польского государства. за 20 лет «осадники» сблизились с местным населением, дети их говорили на местном наречии, и можно было пред видеть, что не они полонизуют белорусов, а белорусская мужицкая стихия поглотит и растворит их так же, как мелкую польскую шляхту до них.
Местные люди не сделали бы зла «осадникам», таким же крестьянам, как они. Советская приезжая власть квалифицировала их как врагов и вывезла их в условиях, равносильных вывозу евреев органами гестапо. Несколько дней еврейское население Пинска находилось под впечатлением расправы с «осадниками». Это было глубокой зимой, в жесточайшие морозы. Из уст в уста передавали про неотопленные вагоны, два дня стоявшие на станции, про трупы замерзших детей, которые матери выбрасывали через окошки замкнутых вагонов. Ужас, который вызвало это преступление в гитлеровском стиле, был общим. Будущее показало, что эти и подобные меры, поскольку их целью была «чистка» населения от ненадежных элементов, не привели к цели и были не нужны. Отступление Красной Армии с занятых областей в июне 1941 года, когда началась война с немцами, совершилось с крайней и молниеносной быстротой, несмотря на отсутствие «осадников».
За ликвидацией «осадников» последовал систематический и массовый вывоз в глубь России социально-активных, популярных и руководящих людей из деревень. Ликвидации подверглась не только деревенская буржуазия и интеллигенция или патриотический польский элемент, но и все вообще люди с авторитетом, белорусы и украинцы, причем, чем популярнее они были, тем хуже было для них. Люди эти в большинстве вымерли на советском севере. Вот два примера. Весной 44 года я встретил в лагере на севере России земляка из деревни в окрестностях Пинска. Человек этот умирал от голодного истощения. По типу, разговору, образованию это был крестьянин, «кресовый» поляк. Он рассказал мне, что с ним вместе были взяты 14 человек, и только двое еще оставались в живых. Один из «живых» был он сам - полутруп. Вторая встреча была с украинцем, бывшим бургомистром городка на Подолье. Человек этот, до ареста уважаемый адвокат и общественник, получил 8 лет заключения. Петиция, которую подписали 300 рабочих, свидетельствуя в его пользу, сильно ему повредила. «Теперь мы видим, что вы действительно опасный человек, - сказали ему, - имеете влияние среди рабочих».
Следующий этап наступил в Пинске очень скоро, когда пришла очередь городского еврейского населения. «Пятая колонна» местных осведомителей помогла составить списки «нетрудового элемента». В этот список попали купцы, домовладельцы, адвокаты, агенты, лавочники - сотни семей. Все эти люди подлежали изгнанию из города. Их высылали в маленькие местечки и окружные городки, где никто не знал их и где они оказывались в положении бездомных беженцев. Конечно, это было лучше, чем гитлеровские гетто, но тогда люди были далеки от подобных сравнений и переживали ссылку как катастрофу и крушение жизни. Им приходилось оставлять свои семейные гнезда, мебель, которую из-за разрушенного транспорта забрать было невозможно, и уезжать в неизвестность. Сам факт изгнания, унижения и социальной дискриминации действовал потрясающе на этих людей. НКВД забирал их по ночам. Я помню мартовские ночи 40 года, когда я просыпался и слушал в темноте жуткие звуки: улица плакала, откуда-то доносился вой и женские причитания. «Вошли к соседям!» - и я представлял себе сцену ночного вторжения, вооруженных людей, крики, понукания, угрозы, двухчасовой срок на сборы... А утром в соседней лавчонке, где еще вчера можно было купить сыр и масло, - пусто, окна закрыты ставнями, двери забиты, как после погрома. В эти ночи, полные отголосков |плача, начало складываться у мирных пинских жителей чувство возмущений и негодования против власти, которая ждет ночной темноты, чтобы вломиться в дома и разрушить налаженную жизнь.
Следующим шагом был разгром культурных учреждений советизация школ. Газеты, библиотеки и книжные магазины закрываются. На их месте будут созданы другие, по стандартному советскому образцу. Эта «экстирпация культуры» производится грубо механическим образом, как если бы вырвали человеку здоровый зуб, чтобы поставить на его место искусственный. На этом этапе мы потеряли право учить своих детей чему-либо, кроме коммунизма, право читать, что нам нравилось, право думать по-своему и жить по-воему. Этот процесс не был безболезненным. Была в Пинске еврейская гимназия «Тарбут» - гордость города, с семьюстами учеников, с большой библиотекой, цитадель сионизма, центр еврейского образования, предмет многолетней и любовной опеки пинского общества. После прихода большевиков учителям было велено сменить язык преподавания на идиш. Классики еврейской поэзии, Бялик и Черниховский, стали в одну ночь нелегальными авторами, книги на иврите были изъяты из обращения. В те дни имела место в одном из классов такая сцена. Учитель обратился к своим ученикам со словами: «Дети, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам на иврите...» - и губы у него задрожали. Он расплакался, и с ним вместе заплакал весь класс. Учащаяся молодежь упорствовала. В ту зиму мальчики и девочки продолжали втайне учиться запрещенному языку, клялись не забыть Сион, не дать оторвать себя от национальной культуры... Надо помнить, что в Пинске не было еврейской семьи, которая не имела бы в Палестине родных или близких. Конечно, это детское сопротивление не продолжилось бы долго. Оно замерло бы само собой или с годами было бы растоптано в лагерях и ссылках, как всякая попытка самостоятельного национального - и не только еврейского - движения в советской стране.
Весной 1940 года довершился разгром политических организаций и центров общественной жизни. Были арестованы и вывезены руководители «Бунда», в апреле состоялись аресты сионистов, которые получили по 8 лет заключении в лагерях. Систематически и беспощадно уничтожались все активные и деятельные элементы, которые могли бы оказать сопротивление при «перевоспитании» масс. Обречено было все способное к самостоятельной мысли, все потенциальные носители оппозиции - мозг и нервы общества, которое еще вчера не подозревало, что его назначение - поступить в мясорубку и быть переработанным в бесформенное месиво на советской кухне. Единственное спасение было в том, чтобы нырнуть в массу, быть как все, не выделяться; но людям, которые в прошлом были общественно активны, и это не помогало: в глазах власти они были заклеймены и обречены. Новое советское общество не могло чувствовать себя в безопасности, пока без остатка не были выкорчеваны последние следы культурной и политической «жизни до сентября 39 года». Эта операция производилась слепо и бездушно, без ненависти и жалости, чужими, с помощью полицейского аппарата НКВД, над обществом, в котором были живые и творческие традиции, витальная сила и молодая гордость, которое культурно стояло неизмеримо выше тех, кто чинил над ним расправу. Это общество, которое в польские времена привыкло критически оценивать каждый шаг власти и никогда не признавало над собой окончательного авторитета государства, теперь лицом к лицу стояло перед террором и господством силы, темной и нерассуждающей, не делавшей различий и уничтожавшей все, что не вмещалось в рамки «Госплана». Говорят, что идею нельзя заколоть штыками, а культура не есть военный трофей. Мы убедились в Пинске, что штыки и военный захват, во всяком случае, составляют первую стадию кастрации живого культурного организма. Однако недостаточно было парализовать массу, политически разоружив ее и лишив активных руководителей и выдающихся лиц. Массовый человек в этом случае всегда имеет еще дорогу к отступлению. Он отступает в крепость своего приватного существования. Он, как улитка, заползает в свою раковину, замыкается в кругу семьи и соседей и полагается на материальные ресурсы, на «запасы» или остатки от доброго старого времени. Но советская власть следует за ним по пятам.
В январе 1940 года без предупреждения был изъят из обращения польский злотый. До этого времени он служил легальным и почти единственным денежным знаком. В злотых платили рабочим, в злотых держали свои сбережения крестьяне и городская мелкота. Когда в январе злотый был изъят из обращения, максимальная сумма, которая подлежала обмену на рубли, была 300 злотых. Надо знать, что с осени 1939 года советский Госбанк приглашал население занятых областей сдавать свои сбережения государству, как до того оно делало в Польше. В январе эти вклады были попросту экспроприированы, поскольку они превышали сумму в 300 злотых. Легко представить себе впечатление, которое эта «гениальная» операция произвела на мелких держателей. Смысл этого шага был тот, что люди, имевшие некоторые денежные резервы, лишились их сразу и во многих семьях не стало денег на хлеб: то есть, другими словами, те, кто до сих пор избегал работы в советских учреждениях, должны были немедленно искать работу и принять то занятие, которое им предлагал единственный работодатель - государство. Маленький человек был поставлен на колени перед государством. Наступила немедленная и всеобщая пролетаризация. Зарплата стала единственным источником существования для тех, кто еще вчера полагался на припрятанные гроши, на отложенные резервы, на семейные фонды. Конечно, злотый не сразу обесценился и еще долго продолжал служить нелегальным средством платежа. Многие предпочли спекуляцию и частные заработки советской службе. Но это была уже только пена на поверхности советского моря, жалкие остатки, подлежащие ликвидации.
В начале 1940 года все мы, кроме спекулянтов и людей с неопределенными источниками доходов, оказались советскими служащими. До сих пор мы знали, что существует право на труд. Теперь мы познакомились с системой принудительного труда, с железной обязанностью труда, который не выбирается свободно, а как ярмо ложится на шею. Переход был постепенный. Нас не сразу подчинили режиму советского труда. Но мы уже знали, что нас ждет. Мы знали, что в Советском Союзе существует прикрепление к месту службы, что самовольный уход с работы жестоко наказывается, что легче развестись с женой, чем уйти с работы, которая тебе не подходит. Развод дается по желанию одной стороны, а для увольнения необходимо согласие государства. В сознании многих людей такое положение равнялось закрепощению.
Фактически условия работы также оказались неожиданностью для пинчан. Государство - не частный предприниматель, с которым можно не церемониться и после 8 часов работы уходить домой. Государство требует уважения к себе. Государство ждет, чтобы его новые граждане показал преданность и рвение. Пинчане не привыкли работать сверхурочно по вечерам, вкалывать по выходным дням, а после работы, вместо того чтобы идти домой обедать, отправляться на обязательное собрание, притворяться, что они в восторге от речей - и не получать в срок заработанных денег. У них вытянулись лица. Для большинства было открытием, что условия труда и социального обеспечения в Советском Союзе хуже, чем в буржуазной Польше.
Казалось бы, что лучше такой вещи, как поликлиника бесплатная медицинская помощь? Но одновременно врачей лишили права частной практики, а жалованье им положили 300 рублей в месяц при цене на хлеб - 85 копеек кило. Пинчане скоро почувствовали разницу между платным и бесплатным лечением. Еще хуже было с многочисленными адвокатами, которым запретили практику. Только пять чело век из молодежи, не имевшей в польские времена адвокатских прав, были допущены в юридическую коллегию. Для некоторых это было трагедией. Весь город говорил об адвокате Б., человеке, имевшем талант и призвание юриста влюбленном в свою профессию, который плакал в кабинете советского начальника, умоляя не ломать ему жизнь. Это не помогло ему. Адвокат Б. получил место мелкого почтового служащего и через короткое время был вывезен в глубь России. Его жена подала властям просьбу - отправить ее к мужу. Через некоторое время вывезли и ее, но не к мужу, а в глухой колхоз Казахстана, откуда она писала, что «завидует Але». Больше ничего не было в этом письме, но десятки пинчан, читавших его, знали, что Аля - ее сестра, умершая год тому назад.
И постепенно стал проходить первоначальный энтузиазм.
В другом свете стало представляться недавнее прошлое. Оратор на фабричном митинге припоминал с пафосом рабочим, как страшно их эксплуатировали в польские времена, заставляя работать за 60 злотых в месяц. Но в это самое время советская ставка была - 180 рублей, что равнялось не более чем 30 довоенным злотым. Материальное положение рабочих ухудшилось резко, и если польские ставки были эксплуатацией, то что следовало думать о советских?
По мере того как стал рассеиваться чад первых недель и месяцев, невозможно стало также утешать себя мыслью, что это лишь временное явление переходного периода и нормальная жизнь еще наладится. Не было сомнений, что в советской России условия жизни еще много хуже, чем настоящие условия в занятых областях. Об этом принесли весть рабочие, которые осенью 39 года добровольно выехали в Донбасс и другие места. То, что они рассказали, вкратце сводилось к следующему.
Встречали их в Донбассе торжественно, с речами и музыкой, и не было сомнения, что хотели их устроить как можно лучше. Однако скоро выяснилось, что заработка в 8 -12 рублей в день не хватает, чтобы прокормиться, и бытовые условия оказались нестерпимыми для поляков, привыкших жить и одеваться по-людски. Работа в шахтах была не по силам для многих, не имевших понятия, куда их везут. На более легкой работе и заработок был - половина. Советские рабочие умели обходиться без завтрака с утра, без чая и сахара, без мяса и жиров. Жизнь их проходила в погоне за куском хлеба. Люди из Польши к такой жизни не были готовы. Через некоторое время они начали массово бросать работу. Это - большое преступление в Советском Союзе, но они были на особом положении. Толпы «западников» повалили обратно, без билетов и средств на дорогу. В Минске они собрались перед зданием Горсовета и потребовали, чтобы их отправили домой. Дошло до уличной демонстрации: толпа легла на рельсы и задержала трамвайное движение. Такие сцены были для советских людей чем-то невероятным. Советская власть могла бы поступить с протестующими и бегунами обычным образом - отправить в концлагерь. Но еще не пришло время. И им дали возможность вернуться за кордон, откуда они прибыли и где они немедленно распустили языки, рассказывая, что видели.
Не надо было их рассказов. Советские граждане, попадая в разоренные местечки Западной Украины и Белоруссии, были так явно счастливы своей удачей, что и без расспросов было ясно, что у них делается дома. То, что для нас было верхом разорения, для них было верхом обилия. Еще можно было достать на пинском базаре масло и сало по ценам вдесятеро дешевле, чем в советской части Украины. Еще были припрятаны у лавочников запасы польских товаров. Попасть к нам, значило одеться, наесться и припасти для ребятишек. Пинчане были озадачены, глядя, как эти люди носили ночное белье как верхнюю одежду, спали без простыни и в столовой заказывали сразу десять стаканов чая. Почему десять? Очень просто: в прежние времена чая хватало на всех, но теперь надо было «захватить» чай, пока давали. Через полчаса его уже не было для наивных пинчан, новичков советского быта, а рядом сидел человек за батареей чайных стаканов, весело улыбался и еще угощал знакомых.
Русские были осторожны и не пускались в откровенности о своем житье-бытье. Но наступала минута, когда после месяцев соседской жизни советский квартирант переставал дичиться своего хозяина и после выпивки у него развязывался язык. Тогда мы слышали долго замалчиваемую правду.
«Да понимаете ли вы, как вам хорошо было? Вы в раю жили! Все у вас было - и страха не было! А мы... - и человек рвал на себе шинель: - ... видишь, что я ношу? Как эта шинель сера, так сера наша жизнь!»
И мы верили, потому что наша собственная жизнь стала сера и тяжела так, словно загнали нас в погреб и завалили дверь камнем.
С растущим удивлением всматривались мы в лицо этой новой жизни. В советских учреждениях царствовал непостижимый и всеобщий хаос. Очень скоро пинчане научились говорить о своих «службах» с иронией и насмешкой. Когда самая большая в городе спичечная фабрика увеличила число рабочих с 300 до 800, директор ее был снят с работы и выслан из Пинска, а вместо него принято сразу 14 инженеров. Оклад директора был велик в польские времена: 4000 злотых в месяц. 14 новых инженеров, которые делали теперь его работу, стоили государству вместе немного дешевле, чем один этот директор, а может быть, и дороже, но, ко всеобщему изумлению, фабрика стала за недостатком сырья. Не хватило дерева среди полесских лесов. Для нас прояснилась оборотная сторона планового хозяйства в советской системе: стихийная беспорядочность и разброд, естественная распущенность, с которой не было другого средства совладать, кроме железного намордника бюрократической регламентации.
Стихийный беспорядок не был случайностью: он вытекал логически из отсутствия личной заинтересованности, из нелюбви и равнодушия к чужому, казенному делу. Дело, к которому были приставлены люди, не ощущалось ими как свое: оно пренебрегало ими, а они - им. На фабрике были прогулы. В кооперативе - безтоварье, в столовой - грязь и неуютность, в парикмахерской - грубое обращение, в мастерской - небрежная работа. Чтобы бороться с этим, надо было поставить над каждым рабочим контроль, а над контролем второй контроль и НКВД с нагайкой. В этой системе сохранить производство можно было только жестоким принуждением, высокой нормой, голодным пайком и угрозой суда за малейшее опоздание или небрежность в работе. Если бы драконовский режим труда был сразу введен в Пинске, половина населения разбежалась бы из города. Нам давали время привыкнуть, тем более что важнее города была деревня, которую надо было очистить от враждебных элементов и подготовить к введению колхозов.
Крестьяне, которые приходили на кухню моей матери с молоком и яйцами четверть века, не боялись говорить с ней откровенно. «Паны 20 лет старались из нас сделать поляков, - сказал один из них, - и не удалось им. А большевики из нас в 2 месяца сделали поляков».
Такая декларация в устах полешука имела особую выразительность. Белорусское крестьянское население не любило поляков. До войны среди молодежи в деревнях было немало «коммунистов». Но ничто: ни национальный момент, ни раздел помещичьих земель, ни школы, ни бесплатная медицинская помощь - не могло преодолеть в глухой белорусской деревне антипатии к пришельцам. Чтобы завоевать доверие Полесья, надо было подойти к нему не бюрократически и доктринерски, не с указкой и не с требованием хлеба и трудовой повинности. Надо было помочь ему стать на ноги, ничего не навязывая и уважая его самобытность. Но такой подход не в природе коммунизма. Переворот, который они осуществляли в городе и деревне, не был революцией. Революция есть всегда низвержение гнета и насилия, когда новые творческие силы сносят преграды на своем пути и вырываются изнутри на свободу. Большевики же принесли с собой давление сверху, отрицание самоопределения и бюрократическое всевластие. Мужику не стало жить легче, но он почувствовал, что новый начальник - опаснее и беспощаднее прежнего. А пинчане среди многих парадоксов жизни отметили этот: крестьян в очереди перед городскими пекарнями - крестьян, приходивших в город покупать хлеб, которого не стало в деревне.
Все это было не важно в отдельности: тысячи ограничений и лишений, отсутствие сообщения с внешним миром, исчезновение политических партий, даже отсутствие соседей, которых вывезли неизвестно куда. Совершенно очевидно, что пинчане - те, которых не вывезли и которые, как умели, продолжали жить в новых условиях, - со временем переболели бы свою и особенно чужую беду и даже открытие, что в Советском Союзе люди живут много хуже, чем в Польше, со временем потеряло бы свою остроту.
Когда я спрашиваю себя, почему через самое короткое время в моем городе не осталось сторонников советского строя, почему не осталось н и к о г о, - кроме совершенно определенной и ясно очерченной группы, которая в массе населения выделялась как остров в море, - кто бы ни хотел возврата к положению до войны, то ответ для меня ясен. Не потому, что это довоенное положение было хорошо и не нуждалось в перемене. Не потому, что мы не могли померзнуть одну зиму или обойтись без белого хлеба или были, наконец, так отсталы, чтобы не понимать своей собственной пользы. В прокламации о присоединении Познани и Лодзи к гитлеровской Германии говорилось о «высокой чести и неизмеримом счастье», которое выпало. на долю бывшим ПОЛЬСКИМ городам. «Die hohe Ehre und unermessliches gluck». Это была ложь. То, что произошло в Пинске и вокруг него во всей Западной Белоруссии и Украине, было точно такой же ложью. Кто-то зажал нам рот и говорил от нашего имени. Кто-о вошел в наш дом и нашу жизнь и стал в ней хозяйничать без нашего согласия. До сентября 39 года пинчане спорили между собой и не могли сговориться по самым основным вопросам - но это было их внутреннее дело и их внутреннее разногласие. Теперь не было споров и разногласий, потому что каждый видел своими глазами, что в доме чужие, которых никто не звал и никто не хотел, - непрошеные гости с отмычкой и револьвером. С 17 сентября Польша была разорвана двумя хищниками, и мы могли предпочитать одного другому, но это не могло служить оправданием захвата и насилия. Мы не спорили с коммунистами и не полемизировали ни с ними, ни о них. Мы просто задыхались. И только тот, кто это пережил и знает по собственному опыту, поймет, что это значит, когда люди, недавно не имевшие общего языка, объединяются в общем возмущении. Ничто не могло помочь оккупантам. Крестьяне не были благодарны за помещичью землю, евреи не были благодарны за равноправие, больные - за бесплатную больницу, а здоровые - за пайки и посты. Все эти несомненные благодеяния не возбуждали благодарности, а только тревогу и опасение. Мы их видели, своих хозяев, - и этого нам было достаточно. Кто раньше им сочувствовал и теперь побывал в России, возвращался сконфуженный и говорил, что был в «санатории, где его вылечили от болезни». Мы были единодушны в неприятии советских благодеяний и советских злодеяний. Все, чего мы хотели, - это не видеть их, забыть о них. На сто человек вряд ли тогда нашелся бы один, кто мог бы ответить на вопрос, «что такое демократия», но все мы, ученые и неученые, понимали тогда без рассуждений и слов разницу между демократией и деспотией. Все, что творилось, происходило помимо нас и вопреки нам, вопреки нашей воле, нашему чувству и нашим потребностям. И правильно чувствовал в то время самый темный человек бесчеловечность и варварство не только в содержании, но в самом методе, в оскорбительном способе подхода к людям и ко всему, что ими было создано для себя в тысячелетнем культурном процессе, - как к сорной траве, которую вырывают не глядя.
Понятие «погрома» соединяется обычно с представлением о внешней силе. Никакое нормальное общество не учиняет добровольно погрома над собой. Большевики пришли в мирную страну, которая, как многие другие или больше многих других, нуждалась в социальных преобразованиях. В течение короткого времени они произвели в ней тотальный погром. Можно сказать, что количество зла и насилия, человеческих страданий и горя, которое они причинили, превысило в короткое время все, что эта страна вытерпела за ряд столетий. Рекорд, который они поставили, был превзойден только их продолжателями в 1941 и следующих годах - немцами. То, что они сделали, не вытекало из нужд страны, а было продиктовано бездушным и зверским доктринерством. Население в целом отшатнулось от них. Местные люди, которые к ним примкнули и помогли им образовать аппарат власти, были постепенно вовлечены в процесс, из которого уже не могли высвободиться.
Советский строй может быть навязан каждому народу и каждому обществу, кроме самого примитивного, только силой. Нормальное и естественное развитие жизни противится тоталитарному, монопартийному и маниакальному строю. Реализация его неизбежно наталкивается на сопротивление, и никакая попытка сломить и искоренить это сопротивление не может быть доведена до конца, так как сопротивление возобновляется вечно сначала, пока существует упрямая и здоровая сила жизни. Таким образом, террор становится необходимым условием не только введения, но и дальнейшего функционирования системы.
Глава 4. Пинское интермеццо
В начале 1940 года я получил приглашение явиться в ОБЛОНО (Областной Отдел Народного Образования) города Пинска.
В библиотечном секторе меня приняли с великим почетом. «Садитесь, товарищ доктор! Извините, что мы вас по беспокоили!» Я был озадачен такой вежливостью. Мне предложили необыкновенную работу.
В Пинске находилось одно из самых редких книгохранилищ Западной Белоруссии. Местное население даже не подозревало об этом. В течение 19-го столетия царское правительство систематически ликвидировало польские костелы и монастыри в Западном крае, а находившиеся при них библиотеки свозило в Пинск. В стенах Духовной Семинарии при костеле романско-польского стиля конца 15 века, окруженном массивной крепостной стеной, накопилось до 50000 старинных и новых книг. Во времена польской независимости был прислан в Пинск ученый библиотекарь, прелат ксендз Кантак, историк церкви, филолог и гуманист. В продолжение многих лет сидел он над фолиантами, но к началу войны каталог все еще не был готов. Книги - наполовину по-латыни - были в порядке расставлены на полках к услугам 300 молодых «клериков» - будущих ксендзов.
Я помню, как ребенком, проходя мимо массивного входа во двор костела, я робко заглядывал в этот католический оазис среди улиц еврейского города. Двор был вымощен камнями, посреди возвышался небольшой монумент - памятник Мицкевичу. В стороне подымалась трехъярусная белая колокольня с круглой красной крышей. Никогда в детстве не приходило мне в голову войти в этот двор. Бессознательный вековой запрет, голос крови предков, дисциплина сорока поколений очертили магический круг у этого входа. Мне нечего было там искать, нечего делать. Ребенком я наблюдал толпу разодетых по-воскресному молящихся, всматривался в молодые и старые лица. Но как только они пропадали за входом, мое воображение не следовало за ними. Два мира расходились резко, как будто за каменной оградой был не уголок моего родного города, а безвоздушное и непостижимое, неживое пространство.
На этот раз я вошел во двор с инспектором библиотечного сектора ОБЛОНО. Табу детских лет не действовало. Клерики разбежались, и ксендз-профессор потерялся в военной заварухе. В Семинарии помещался военный госпиталь Красной Армии. Книги были выброшены и находились в четырех боковых комнатах, но так как забыли запереть двери, то больные красноармейцы всю зиму топили книгами печи. ОБЛОНО наконец спохватилось и повесило замок на дверях. Ключ звякнул, и моим глазам представилось необыкновенное зрелище: в зале со сводчатым потолком книги были свалены в кучу, как на сеновале, под самый верх. Книги громоздились выше человеческого роста: разорванные переплеты, пожелтевшие страницы, корешки, источенные мышами, труха столетий, развороченное кладбище культуры. Мы ступали по книгам, при каждом движении подымалось облако пыли, мы попирали ногами сокровища. Я наклонился и вынул из-под каблука том со стершимся золотым тиснением и датой: 1687. В эту минуту я забыл Гитлера и все свои беды. Я почувствовал себя в пещере царя Соломона среди алмазов. Глаза у меня загорелись, и я благословил судьбу, которая одарила пинское ОБЛОНО таким культурным инспектором библиотечного сектора.
Через месяц я постиг секрет этой необыкновенной культурности и внимательности как к сокровищам монастырской библиотеки, так и к моей собственной особе. Человек, вызвавший меня и принявший без возражения мой план работы и материальную смету, окруживший меня исключительным попечением и вниманием, не был советским человеком. Это был просто варшавский студент и хороший сионист, вдобавок знавший меня по некоторым моим публикациям до войны. Целый месяц наши отношения носили характер служебный и официальный, пока не оказалось, что у нас не только родина - общая, но и политическая ориентация - одинаковая.
Надо признать, что за всю жизнь не было у меня работы, более соответствовавшей моим наклонностям. Я не возражал бы, если бы предоставили мне похожую работу при Национальной Библиотеке на горе Скопус. Задача моя заключалась в том, чтобы спасти десятки тысяч книг от уничтожения, разобраться в них, отобрать отдельно книги, пригодные для советского читателя, отдельно теологию, книги антисоветского содержания и книги, представляющие библиографическую ценность. Я связался с «Утильсырьем» и в первый же месяц послал туда 700 кило разорванных листов, старых газет и всякой макулатуры. Теперь я думаю, что было неосторожно посылать так много: при желании легко было бы обвинить меня во вредительстве, то есть в намеренном уничтожении книг. Достаточно было бы доноса случайного человека, чтобы создать «дело». Но тогда подобные страхи не приходили мне в голову. Я взялся за работу с энтузиазмом.
План и смета работ были отправлены в Обком партии на утверждение, которое так и не состоялось до конца моей работы. Тем временем я получил удостоверение, по которому нас пропускали на территорию военного госпиталя, закрытую для обыкновенных смертных, - и право подобрать себе штат сотрудников.
В моей «бригаде» работали шесть человек. В помощники был взят Леня, мой кузен и сосед по комнате. Ценным сотрудником был Давид - солдат польской армии, принимавший участие в сентябрьских боях с немцами. Давид, как хороший столяр, мастерил для нас полки и ящики, куда мы укладывали отсортированные книги.
Мы облеклись в серые халаты, сшитые собственными силами для защиты от пыли, и начали с того, что починили крышу, через которую капало на наши книги.
В первые дни заходили к нам политком и начальник госпиталя - посмотреть, чем мы занимаемся. Убедившись, что ничего подозрительного нет, и одолжив несколько старых английских иллюстрированных журналов, они оставили нас в покое. Зашел военный врач средних лет - с просьбой дать ему что-нибудь Шолома Аша. Сам он еврей и знает о существовании известного еврейского романиста Шолома Аша, но в Советском Союзе нет возможности достать его произведения. Этот добросовестный ценитель еврейской литературы не хотел умереть, не прочитав хотя бы одной вещи Шолома Аша. Мы посочувствовали ему, но помочь не могли.
Мы ушли с головой в книжные раскопки. Мы пробивали шахты, взрывали горы, тонули в книгах, прокладывали грудью дорогу вперед. Все книги исследовались по отдельности и в сомнительных случаях поступали ко мне на рассмотрение. Там были схоластика и древняя философия, превосходная коллекция греческих классиков в латинских переводах. Аристотель на немецком языке и польская литература 17 и 18 столетий. Русских книг не было, но среди тысяч томов католической и протестантской теологии отыскались «Капитал» Маркса, книги Энгельса и комплекты советского «Безбожника». Через месяц мы докопались до пола в первой зале. Это событие было отпраздновано достойным образом.
Раскопки иногда приводили к неожиданным результатам. В дальнем углу последней комнаты мы нашли 300 томов детективных повестей и всего Джека Лондона. Клерики Семинарии нуждались, очевидно, временами в передышке. Зато, не без волнения, я обнаружил действительные сокровища: incunabula, первопечатные книги. Я держал в руках огромный фолиант, напечатанный в 2 ряда, с красными заставками и виньетками, в переплете из деревянных досок, обшитых в полуистлевшую свиную кожу и скрепленных металлическим замком. Это был только требник латинский, с датой 1493 года, полный мелкой вязи полуистертых надписей и посвящений. Не менее важны были массивные белорусские библии, изданные на рубеже 18 и 19 веков, еще до того, как царская политика положила конец печатанию белорусских книг.
О ходе работ я сообщал в ОБЛОНО и готовился к приему визитеров из Белорусской Академии Наук. Каждые несколько дней забегал к нам начальник пинского ОБЛЛИТа, он же и цензор - белобрысый латыш, которого интересовала антисоветская литература. Для него мы поставили большой ящик и бросали туда все, что могло ему пригодиться: антисемитскую литературу, которая была представлена с исключительной полнотой, как полагается будущим пастырям душ. Материалы о преследовании католического духовенства в советской России, антисоветские памфлеты, на которые начальник ОБЛЛИТа набрасывался, как гимназист пятого класса на порнографические открытки. С изумлением и огорченным видом он рассматривал брошюры (явный перевод с немецкого), где вожди Советского Союза были нарисованы с еврейскими носами и чертами лица и под каждой картинкой была подпись в стихах в стиле Штрайхера и Геббельса. Начальник ОБЛЛИТа никогда не видал таких вещей, он краснел, озирался и воровато совал несколько книжек в портфель. «Запишите на меня! - бормотал он. - Да смотрите, никому не показывайте, никого сюда не пускайте!»
Шли месяцы, немцы готовили захват Норвегии, Советский Союз помогал им чем мог. На городских бойнях в Пинске 300 евреев заготовляли мясо для немцев. Транспорты мяса, зерна и всякого продовольствия ежедневно шли через Пинск на немецкую границу. По городу были расклеены объявления по-русски и немецки - комиссии по эвакуации немцев из советской зоны в немецкую. Немецкие колонисты покинули Волынь. Уезжая, они грозили, что скоро вернутся и перережут всех евреев (обещание, которое было ими выполнено). А я сидел на лестнице под потолком среди книжных полок и перелистывал то монографию Честертона о Фоме Аквинате, то реликвии польской старины времен Яна Собесского и Владислава IV.
По вечерам я ужинал у старушки матери. Ровно в 7 часов в тесной комнатке с допотопной мебелью, где тикали на стене те самые часы, которые тикали и мелодично вызванивали время, когда ждали моего рождения в маленьком домике в глубине заросшего травой пинского двора, мы садились к столу и слушали последние новости - из Иерусалима. Иногда нам сообщали, что в Тель-Авиве утром шел дождь или что столько-то миллионов ящиков цитрусов ушло за границу - и эти скупые вести в снежном и вьюжном Пинске, отрезанном от мира, поддерживали нас больше, чем военные сообщения.
К сожалению, еврейская радиохроника из Иерусалима очень мало считалась с тысячами евреев, которые слушали ее в далеких советских снегах. Мы хотели знать, что делается дома, а слышали вести с театра военных действий в Европе, которые передавала каждая радиостанция. Трудно передать, с каким чувством ловили звуки родной речи люди, отрезанные от своего народа, жители Пинска, над которыми уже нависла тень уничтожения.
Вечером собирались в моей комнате беженцы, которых война забросила в Пинск. На стене был повешен большой плакат:
«Ныть воспрещается».
Это не был лишний плакат: у всех было подавленное настроение, и больше всех тосковал помощник мой и кузен Леня - скрипач и неудачник, у которого на немецкой стороне остались жена и ребенок.
Надо сказать несколько слов об этих людях, которые все без исключения были талантливы, все хотели жить и погибли бессмысленно и жестоко. Пусть эти слова будут последним воспоминанием о людях, которые были мне дороги и память о которых должна быть свята читателю не ради их заслуг (у них не было заслуг), а потому что они просто составляют шесть миллионов европейских евреев, погибших бесследно.
Первым был Леон Шафер - человек несравнимой сердечной мягкости и доброты. Удивительная музыкальная память этого человека поражала меня: по первым тактам радио он безошибочно называл каждую вещь классической музыки и знал Бетховена и Берлиоза, как мы знаем углы своей комнаты. В ту зиму ледяная стужа стояла на улицах Пинска. А он учил меня слушать симфонию или фортепианный концерт, и я заражался его волнением и забывал холод, война и горе. Мы тушили свет. От освещенной шкалы радиоприемника исходило слабое сияние. Лицо Лени было по-детски счастливо и полно гордого возбуждения, как будто вся музыка принадлежала ему. Он дирижировал, подпевал тенорком, предупреждал заранее, что приближается особенно сильное место - и музыка в нем жила и звенела. Все движения, интонации, улыбка этого человека были по-девичьи пленительны, но в практической жизни он был слаб, нуждался в сильном друге и беспомощно отступал перед непонятной жестокостью внешнего мира. Это не был маэстро: это был человек, который слушал и слышал. Тысячелетняя мудрость древнего народа жила в его чувственной утонченности и человеческой внимательности. В таких влюбляются женщины, к таким привязываются дети. И сам он был влюбчив по-женски и привязчив как ребенок, и одновременно был он друг, лояльный и верный, деликатный и никого не способный обидеть.
Леня рассказывал, как в городке, где его застигли немцы во время бегства, он три дня по утрам становился в очередь за хлебом, три раза получал хлеб и три раза выходил ему навстречу немецкий солдат с плоским и сонным лицом, отбирал хлеб И говорил:«Ihr Juden verdien kein Brot - ihr seid schuld an dem Kriege!»[1].
Когда Леня сказал, что он учитель музыки и не виноват в войне, немец ухмыльнулся: «Fur Juden ist die Musik zu ENDE!»[2]. Но Леня не поверил ему.
Второй был - Люблинер, человек из гущи еврейской бедноты, дитя Лодзи. Для него литература была - «храм», куда он вступал на цыпочках, с молитвенным лицом. Вечно сидел он, покрывая страницы мельчайшими бисерными буквами. он читал Мангера[3], как набожные евреи читают молитвенник. Человек этот ввел меня в литературу на идиш: он первый принес мне «Завл Римера» Борейши[4] «В Нью-Йорке» Гальперина[5] и стихи Кульбака[6].
В старых комплектах варшавской «Фольксцайтунг», если они где-нибудь уцелели, найдутся его переводы детских стихов Тувима. Бежав из Лодзи, Люблинер явился в Белосток и поселился в советском Доме еврейского писателя. Там он изрядно голодал и наконец переехал в Пинск. В Пинске он занялся составлением книжки-сказки «Шапка», которая была разрисована и украшена виньетками ста шапок всех времен и народов (начиная с лопуха, которым дети покрывали голову от солнца в доисторические времена, и кончая, конечно, красноармейским шлемом с пятиконечнгой звездой).
Сказка была послана в еврейский Детиздат в Москву и принята к печати. Это событие окончательно укрепило коммунистические симпатии Люблинера. Мы жили втроем в одной комнате: я был сионист, Леня - скептик, Люблинер - коммунист. Это не помешало нам троим условиться встретиться в Палестине, так как коммунистические симпатии Люблинера не заходили так далеко, чтобы он по доброй воле захотел оставаться в Советском Союзе.
В декабре 1939 года прибыл в Пинск гость из Лодзи: Меир Розенблюм. Никто не ждал от него такого геройства. Это был человек физически настолько слабый и хилый, что, кажется, само хождение по улице превышало его силы. Я, по крайней мере, никогда не видел, чтобы Розенблюм на улице ускорил шаг или побежал. И этот человек решился на нелегальный переход границы в условиях, которые требовали немалой физической выносливости и мужества. Дорога прошла благополучно. В одном месте немцы поймали его, дали в руку метлу и заставили подметать площадь. Это кончилось бы плохо, потому что Розенблюм, человек ученый и очень близорукий, не различал на земле мусора и не владел метлой. Но, на счастье, его передали в руки старого поляка, который сразу его отпустил. На границе, когда брели в глубоком снегу и ночном мраке, его спутники, юноши и девушки, сами нагруженные поклажей, не только несли его рюкзак, но и следили, чтобы он не потерялся. Он, конечно, не поспел за ними и остался один в лесу ночью, между СС и советскими пограничниками. Но люди из его партии вернулись и вывели его из лесу.
Есть люди, в которых концентрируется эпоха, которые выражают духовную сущность и судьбу целого поколения. Человек этот был живым воплощением «еврейскости» - всего, что есть в ней вечного, но еще более - того преходящего, что было связано с трагической историей польского галута. Первое и резкое впечатление изнеможения: жизнь в нем еле теплилась. Таким он был от рождения, и на школьной скамье, и в 40 лет. Не было в его жизни ни сильной страсти, ни любви. Он ни к кому надолго не привязывался, очень быстро уставал, как от людей, так и от вещей, - и эта вялость и болезненность и какая-то общая усталость были в нем не просто личным свойством, а какой-то специфической чертой расы - знаком усталой еврейской крови. Внук раввинов и схоластов, уставший еще до рождения, он носил в себе всю утонченность, всю извращенность и безнадежность ста поколений еврейских начетчиков. Ничего он не сделал в своей жизни - ни доброго, ни злого, ни хорошего, ни плохого. Я даже не знаю, был ли он умен. Не было человека непрактичнее его, и каждый уличный мальчишка мог поднять его на смех, когда он плелся по улице, полуслепой и сутулый, рано поседевший, смешно переставляя ноги, узкогрудый, с бескровным лицом.
Наше знакомство началось в школьные годы, когда он раз пришел ко мне - по-соседски - и предложил: «Я слышал, что вы шахматист - сыграем». Нам было обоим тогда по 17 лет. В шахматы он играл мастерски, много сильнее меня. Но чтобы стать действительным мастером, не хватило ни интереса, ни способности сконцентрироваться: он просто не был в состоянии сделать нужное для этого усилие. Раз начатое знакомство продолжалось всю жизнь: в Польше, Франции и Палестине. Розенблюм не удостоился стать поэтом - вернее, и тут не хватило ему воли. Стихи, которые он писал на идиш, были сильнее, чем девяносто процентов того, что печаталось в то время. Я помню поэму «Местечко», которая поразила меня глубокой лиричностью и образностью и не надуманной, а естественной силой выражения, но эта поэма никогда не появилась в печати, и он не любил, когда ему напоминали о его стихах. Зарабатывав он как учитель. Необыкновенный чтец, человек, органически связанный с традиционным еврейским бытом, - он как бы стоял на пороге, провожая минувшую эпоху, и не мог расстаться с ней. Дважды он имел эту возможность: годы прожил в Париже, где кончил Сорбонну (французский и английский языки были его специальностью) , и в конце концов все же вернулся в Польшу, то есть в еврейское польское гетто. Всю жизнь мечтал о Палестине, и в 1936 году был в ней, но, когда прошли первые шесть месяцев, его потянуло обратно, в привычную атмосферу еврейского изгнания, в еврейскую Лодзь или Пинск. Это была его настоящая родина, и таков же был его «сионизм» - весь из воспоминаний и настроений, далекий от всего резкого и грубого.
Основная черта этого человека была пассивность. Не пассивность безразличия. Это был человек цельный, бескомпромиссный и верный себе. Никогда он не кривил душой и не лгал. Это был человек свободный, а свобода заключалась для него в том, чтобы не стоять в строю. Ни к какой партии не мог он принадлежать, и никакая нужда не могла его заставить принять службу в конторе или бюро: такая вещь противоречила его сущности. При всей своей расхлябанности, при всем возмущавшем друзей его отсутствии энергии и амбиции это был один из тех тихих упрямцев, которые живут по-своему и не позволяют себе диктовать: один из самых непримиримых в своей будничной человечности людей. Эпоха, среда, время, которое он выражал, - лежали в прошлом. Он был живым отрицанием современности, ходячим протестом против ее казарменности и массовой дисциплины. Жить ему было трудно. Даже уроки давал он с видимым напряжением и отвращением, с явным отсутствием интереса к своим ученикам. И все же неизменно окружала его атмосфера симпатии и расположения, для поддержания которой он ровно ничего не делал. Он только был собою - человеком абсолютной независимости духа и какой-то невыдуманной, настоящей, невольной еврейской истовости и «Innerlichkeit»[7].
И мы все злились на Розенблюма, критиковали Розенблюма, считали его отрицательным социальным явлением, но обойтись без него не могли. И когда в ту проклятую советско-нацистскую зиму, полную лжи, горя и зла, отголосков кровавой несправедливости и массивной, звериной тупости, показался на нашем пороге этот хрупкий, слабый человечек - это было принято как триумф и победа, как вызов, брошенный всем врагам человечества: Розенблюм жив - и с нами!..
В конце февраля пришла телеграмма от Мечислава Брауна - с просьбой приехать во Львов по важному делу.
Браун был доведен до отчаяния. Жил он в центре города, работал в плановой комиссии Львовской области. На службе был у него отдельный кабинет и отличные связи с советским начальством. Польская секция Союза писателей во Львове занималась в это время коллективным переводом поэмы Маяковского «Ленин». Поэму разделили на части, и каждый из членов секции поэтов получил свой отрезок для перевода. Браун был единственным, кто добросовестно приготовил к сроку свою часть. Казалось бы, все в порядке. Но чем устроеннее был советский чиновник Браун, тем хуже чувствовал себя Браун - человек и писатель. Необходимость беспрерывно лгать, притворяться и скрывать свои мысли была вдвойне мучительна для него - поэта и публициста. «Никогда еще не был я в таком унизительном и смешном положении, - говорил он мне, бегая в волнении по комнате, - у нас каждый день митинг или собрание. Я сижу в первом ряду, на меня смотрят. Слушаю я агитацию, чепуху, неправду. Но как только произносят имя „Сталин“ - первым начинает хлопать мой начальник, а на него глядя - весь зал. И я тоже - складываю руки и аплодирую, как заводной паяц... Я не хочу переводить Маяковского - но я должен! Я не хочу аплодировать, но я обязан. Не хочу, чтобы Львов был советский, и сто раз в день говорю обратное. Всю жизнь я был собой и был честным человеком. Теперь я ломаю комедию. Я стал подлецом! И среди людей, которые заставляют меня лгать, я становлюсь преступником. Рано или поздно я себя выдам. Согласен ли ты, что я не должен вести такую жизнь? Пока время - надо уходить отсюда!»
«Но куда уходить? Обратно к немцам?»
«Я предпочитаю немецкое гетто советской службе!»
«Подумай, что ты говоришь! Ты их видел и знаешь, немцев!»
«Я видел обе стороны! У немцев грозит физическая смерть, а здесь моральная! У немцев не надо будет лгать, скрывать свои мысли! У немцев живет больше евреев, чем здесь! Мое место с ними!..»
Браун сообщил мне свое решение - бежать из Львова. Я мог бы отговорить его, но не находил аргументов. В это время был период затишья в еврейских гетто Польши. Казалось, что на этом уровне еврейская жизнь стабилизируется. Мужья получали от своих жен, беженцы от семей, оставленных в польских городах, письма с просьбами вернуться и с уверениями, что можно жить и работать. Мысль об оставленной в Лодзи жене терзала Брауна. Советская власть не интересовалась драмой разделенных семей; вопросы личного порядка не занимали ее. Браун не мог и не хотел вызывать жену к себе, следовательно, ему ничего не оставалось, как вернуться к ней. Условия жизни при советской власти были таковы, что люди были согласны вернуться под немецкое ярмо и носить желтую лату, лишь бы увидеть своих родных и разделить с ними их страдание. Союз России с гитлеровской Германией создал психологические условия для этого возвращения. И, наконец, была надежда бежать из-под власти немцев в нейтральную Европу, тогда как русские границы были наглухо закрыты, никого не выпускали за границу и перспектива навеки остаться в царстве Сталина приводила беженцев в панический ужас.
Так случилось, что Мечислав Браун добровольно вернулся в Варшаву, в еврейское гетто, из которого ему уже не суждено было выйти живым. За 800 рублей он купил себе польскую метрику. Это при переходе границы гарантировало ему безопасность при встрече с немцами. Из Варшавы он написал мне в апреле записку, где говорилось о том, что он «безмерно счастлив». Трагизм положения польских евреев выражался в том, что одни были «безмерно счастливы», спасаясь от немцев у большевиков, а другие - так же безмерно счастливы, спасаясь от большевиков у немцев. Это положение очень скоро изменилось. Но остается фактом, что еще весной 1940 года евреи предпочитали немецкое гетто - советскому равноправию.
Браун горячо убеждал меня пойти с ним вместе. На это я не согласился и в первых числах марта выехал в Белосток, чтобы повидаться с людьми, недавно прибывшими туда из Варшавы.
Нелегко было выбраться из Львова. Один день я простоял в очереди на вокзале и не добился билета. На второй день я стал в очередь с вечера, простоял ночь под запертым окном кассы и утром получил билет одним из первых. В два часа пополудни я уже занял место на перроне в толпе отъезжающих. Вокзал был разбит, мы ждали под снегом и ветром, пока подадут поезд. Подали его только спустя 6 часов, но на другой перрон. Начался дикий бег взапуски продрогших и окоченевших людей с чемоданами через туннель на другой перрон. Перед каждым вагоном стала очередь. Но еще долго никого не впускали, и поезд стоял темный, глухой, пустой и запертый. Посадка началась через час, со всем обычным в таких случаях смятением, скандалами и криком. В последнюю минуту оказалось, что вагон, у которого я стал в очередь, забракован и не пойдет. Никто и не подумал предлагать нам другие места. Посадка в другие вагоны уже закончилась, и на ступеньках каждого вагона стояла девушка-проводник, заграждая вход. Непопавшие в поезд ругались, шел густой снег, и кто-то бился в истерике. До отхода поезда осталось 10 минут. Завтра мне предстояло начинать все сначала.
В этот момент, в состоянии полного беспамятства, я решился на отчаянный поступок: подошел к представителю железнодорожной милиции и объявил ему, что я хирург, вызван в Белосток на срочную операцию и должен ехать этим поездом.
Слова эти возымели магический эффект: блюститель порядка только спросил меня, имею ли я командировку, и, когда я это подтвердил с мужеством отчаяния, взял меня за руку, толпа расступилась - и меня торжественно подвели, даже посадили в вагон. Увидев человека в шапке с красным околышем, люди сразу потеснились, немедленно нашлось место, и я уселся, не веря своему счастью.
Это было прекрасно, как во сне. Но человек в красной шапке не уходил. Он наклонился и, добродушно улыбаясь от уха до уха, попросил предъявить мою командировку.
Я совершенно потерялся и сделал то, что в моем положении оказалось единственным выходом: уронил очки подлавку, - и это получилось очень кстати. Молодежь в купе бросилась подымать мои очки. На носу у меня была написана моя интеллигентная сущность, солидность и классовая принадлежность к людям умственного труда. Человек в красной шапке не стал ждать, пока я открою чемодан (и ключик тоже не находился), и пошел к выходу. Поезд тронулся, и я поехал в Белосток.
Всю дорогу за мной трогательно ухаживали и называли «наш доктор». Единственное, чего я боялся, по неопытности в деле надувания ближних, - это, что кому-нибудь понадобится в пути врачебная помощь.
В Бресте мы простояли целые сутки. Ночевать я ушел ночевать в город: а утром меня никоим образом не хотели пропустить на перрон, несмотря на билет и все доводы. Даже объяснение с начальником движения не помогло. Несколько часов я хлопотал легально, но кончилось тем, что я ушел с вокзала и за небольшую мзду меня пропустили на полотно боковым ходом.
Таким образом, окружающая среда начала влиять на меня отрицательно или, как некоторые найдут, положительно. Я еще мыслил понятиями легкомысленной Польши и не подозревал, что в Советском Союзе за такое введение власти в заблуждение люди расплачиваются годами каторги.
8 марта 1940 года я ступил на улицу Св. Роха в Белостоке. Это был «Международный женский день», и громкоговорители на улицах передавали по этому поводу праздничную речь. Я вслушался и узнал высокий женский голос. Это была Ася.
Моя дальняя родственница Ася и сейчас, вероятно, еще здравствует в Советском Союзе. История Аси такова.
Происходила она из трудовой семьи. Студенческие годы Аси прошли в Варшаве, жилось ей трудно, голодно. Почему-то изучала она не медицину и не историю, а именно географию - может быть потому, что географию «дешевле и скорее». На каникулы Ася приезжала часто в гости в Лодзь, но никто из лодзинских родственников не догадывался, что Ася человек не простой, а «боевой». Она так замечательно «законспирировалась» в семье, что мы все ее считали симпатичной, веселой, но совершенно незначительной барышней, без секретов и идей, и поэтому для нас было неожи данностью, когда в процессе комячейки при Верховном суде Ася выплыла как одно из главных действующих лиц. На суде она вела себя геройски, вызывающе, ее вывели из зала суда и дали ей условно четыре года.
Спустя 4 года, только что из тюрьмы и по дороге в родной Белосток, Ася сидела за моим столом в Лодзи. Это была все та же Ася, немного похудевшая, с шумным смехом и резкими студенческими манерами, и если бы я не знал, что это героиня революции, то принял бы ее за недалекую провинциальную барышню. Но 4 года тюрьмы не прошли даром. Для Аси это была настоящая Комакадемия. В их камере организовали нечто вроде партшколы, старшие товарищи учили младших, и Ася вышла из тюрьмы во всеоружии ленинско-сталинской мудрости. Когда за столом речь коснулась текущих политических событий, Ася в двух словах разъяснила мне их смысл с такой великолепной уверенностью, что я понял: для этой девушки нет больше тайн в нашей бедной жизни, она все знает, и ее не проведешь. Абиссинцы, умиравшие под Аддис-Абебой, были марионетками английского капитала, итальянский фашизм - хитрой уловкой международных банкиров, трагедии народов и человеческих страстей - сказки для дурачков из мелкой буржуазии. Я понял, что с Асей уже трудно спорить и проводил ее на вокзал не без грусти. Ася поехала в родной город, и через несколько месяцев ее снова арестовали. На этот раз она была уже в ЦК Компартии Западной Белоруссии и получила 7 лет.
Сидеть пришлось недолго. В сентябре 39 года заключенных Фордонской женской тюрьмы распустили, и Ася заняла в советском Белостоке подобающее ее заслугам положение. Уже не помню, где она была председателем. Пришло для нее время расчета за годы подполья и тюрем. Много горя причинила Ася своим родителям - это был «гадкий утенок» в семье, - и вдруг гадкий утенок превратился в лебедя из сказки! Мать с робостью смотрела на нее, когда дочь в прекрасной меховой шубке входила на полчаса, присаживалась к столу, оживленная, румяная, рассказывала о новой квартире и мебели. Ася и муж ее - видный коммунист - получали высокие оклады, и наконец она могла позволить - себе личную жизнь и удобства, на которые до сих пор смотрела только со стороны. И я стал рассказывать Асе, что моя семья - в Палестине и я хлопочу, чтобы получить разрешение вернуться в Тель-Авив, но я не знаю, как это сделать...
Ах, какими недобрыми, чужими глазами глянула на меня Ася, каким холодом повеяло от нее, как она вся от меня отстранилась, точно я был прокаженным!.. Я почувствовал, что одно мое желание выехать, моя принадлежность к Палестине безнадежно скомпрометировали меня в ее глазах. Я почувствовал это и испугался: я понял, что она не только никогда бы мне не помогла уехать, освободиться от ига советской власти, но, что нет такого несчастья - запрещение выезда, ссылка, заключение, - где она бы ни стала безоговорочно на сторону моих преследователей. Обстоятельства моей личной биографии ее не интересовали. Я не был для нее живым человеком, с семьей, с тоской по дому и правом самоопределения, а классово-чуждый элемент - «слуга английского империализма», которого, если можно было, то надо было «придержать». Ядовито, почти со злорадством взглянула она на меня искоса и больше уж не смотрела. Стена, которая непонятным для меня образом выросла между мною и семьей, родиной и свободой, тяжелое наваждение, от которого я не мог уйти, невидимая сеть, в которой я запутывался сильнее с каждым месяцем, - все это приняло живые черты человека, который как будто был мне близок, знал всех, кто был мне дорог, и был так бесконечно враждебен мне. Ася отвернулась в сторону и молчала.
«Ты не думаешь, что я смогу скоро поехать домой?» - спросил я ее.
Может быть, это слово «домой» было не на месте? Какой же дом - Палестина? Это только контрреволюционная, клерикально-буржуазная затея. А если бы все белостокские евреи стали собираться в Палестину - над кем бы она была председателем?
«Не знаю, не знаю!» - сказала Ася с досадой и отошла от меня, как от лишнего и назойливого человека, который не умеет держать себя в пролетарском обществе («социально-опасный элемент»).
Я был расстроен этой встречей, которая не сулила мне ничего доброго. Я не просил у Аси протекции и не ждал ее помощи. Но ее отношение показало мне, что в советском строе никого ни к чему не обязывают человеческие нормы - те именно нормы, на основании которых мне полагалось ехать домой, а властям не задерживать меня. Это не было недоразумением или временной проволочкой - то, что меня не выпускали: это было начало какой-то скверной истории. Я находился в положении мухи, которая села на клейкий лист с надписью «смерть мухам» - и хотя она неграмотна и не знает, что такое клей, и ничего не понимает, но этого всего и не надо, чтобы в какую-то долю секунды ощутить в смертном страхе и недоумении, что больше нельзя отлепиться - нельзя оторваться!..- случилось что-то непоправимое и страшное.
А тем временем в Пинске произошли важные события: в марте 1940 года была проведена паспортизация, то есть польские паспорта были отобраны у местного населения и взамен выданы советские. Что же касается беженцев, то есть неместных, пришлых людей, то им нельзя было просто раздать советские паспорта. Поэтому был учрежден Областной «Комитет опеки над беженцами» и от его имени расклеены по городу воззвания, где предлагался беженцам вольный выбор: либо принять советское подданство, либо записаться на возвращение откуда пришли, то есть в немецкую зону Польши. В этом последнем случае советская власть обещала через короткое время дать возможность реэвакуироваться, опираясь на советско-немецкое соглашение об обмене беженцами. Кто принимал советское гражданство, обязан был в десятидневный срок оставить областной город Пинск и поселиться в провинции, но не ближе 100 километров от советско-немецкой границы.
Проблема беженцев была, таким образом, поставлена ясно: либо принимайте советское подданство, либо уходите туда, откуда прибыли. Среди беженцев начались волнения - как поступить? Добровольное принятие советского гражданства могло в будущем отрезать путь к возвращению. Отказаться - значило отдать себя в руки гестапо.
Две тысячи беженцев находились в Пинске, а во всей Западной Белоруссии и Украине число их, вероятно, доходило до миллиона. Приблизительно половина из них приняла советское гражданство. Другая половина отказалась от него.
Но это не значит, что все, кто отказался от советского паспорта, был готов вернуться к немцам. Для меня была нелепостью как одна, так и другая перспектива. Я хотел в Палестину, где был мой дом и семья и куда, на основании сертификата и визы, я, по идее, в любой момент мог выехать. Я никоим образом не хотел принять советского гражданства, но в марте 40 года создалось положение, когда единственным путем легально уклониться от принятия советского паспорта было -записаться на возвращение в занятую немцами часть Польши. Это я и сделал. В марте 40 года, дополнительно к своей регистрации в ОВИРе на выезд в Палестину, я зарегистрировался в милиции на возвращение в Лодзь. Записываясь, я закреплял за собой право возвращения в Лодзь, но в данный момент вовсе и не думал возвращаться в занятый немцами город. Если бы я хотел этого, я бы последовал в марте за Брауном. Я хотел остаться на советской территории, не принимая советского паспорта, и ждать, пока будет возможность выезда в Палестину.
Какая судьба ждала беженцев, которые не приняли советского гражданства? Их было около полумиллиона, и с самого начала казалось невероятным, чтобы немцы приняли такое количество, тем более что среди беженцев большинство были - евреи. Трудно было представить, чтобы гитлеровская Германия открыла свои границы для сотен тысяч евреев. Итак, надо было быть готовым к тому, что советское правительство интернирует до конца войны эти сотни тысяч людей. С марта месяца предо мной стояла перспектива быть интернированным. Но эта перспектива была для меня предпочтительнее, чем принятие советского гражданства или возвращение на немецкую сторону.
Однако не все рассуждали, как я. Круг моих друзей, с которыми я зимовал в Пинске, распался. Люблинер принял советское гражданство и переехал спустя 10 дней в местечко Яново за Пинском. Он решил соединить свою судьбу с судьбой Советского Союза, и это ему было тем легче, что он был один, без семьи - человек легкий и никем не связанный. Никто не ждал его в Варшаве или за морем. Он поселился в деревне за Яновом. Там он подчеркивал, что он человек советскими повесил портрет Ленина собственной работы, как икону, даже не внутри своей комнаты, а снаружи, над входом в дом. Деревенская жизнь, работа в еврейской школе или для «Дома культуры» очень нравились ему. Конец его был - смерть в пинском гетто через год с лишним от руки нацистов.
Розенблюм долго колебался: советское было ему чуждо, но прежде всего он хотел избежать потрясений. Достаточно было с него одного нелегального перехода границы. Он боялся быть интернированным, мысль о немцах приводила его в ужас. И в конце концов он принял советское гражданство, не подозревая, что это и есть прямая дорога к немцам. В начале мая он переехал в Кременец на Волыни и устроился там преподавателем французского языка в Лицее. Конец его - была смерть в кременецком гетто при ликвидации евреев.
Люди, которые не верили, что немцы их примут легально, не ждали обещанной реэвакуации и переходили границу нелегально, как это сделал Мечислав Браун. Один из работников моей библиотечной бригады ушел таким путем в Варшаву, где ждала его жена. Жена его - зубной врач, просила его вернуться и писала, что в Варшаве можно жить и работать.
Этот человек погиб в варшавском гетто.
Леон Шафер не принял советского подданства и вернулся в Варшаву совершенно легально. Неожиданно немцы сформировали 13 мая 1940 года еврейский эшелон на станции Брест, и ему удалось попасть туда. Около 600 человек поехало этим поездом. Немецкий лейтенант, который руководил посадкой на советской станции Брест, вышел к толпе евреев на перроне, пожал плечами и сказал им:
«Не понимаю, зачем вы едете к нам! Ведь вы знаете, что немецкое правительство не любит евреев?..»
Но эти люди возвращались к своим женам и детям и думали, что немецкие «антисемиты не страшнее советских „покровителей“». В этом они, однако, ошибались.
В конце мая я получил письмо от Лени из Варшавы. В этом письме, как в письме Мечислава Брауна, была речь о том, что он «безмерно счастлив», что дорога из Бреста в Варшаву продолжалась два дня, что их кормили по дороге и прилично обращались. В Варшаве дали ему в полиции месяц времени, чтобы выбрать себе постоянное место жительства. Он съездил в Люблин к знакомым, и короткое время у него была иллюзия, что он сможет соединиться со своей семьей в Лодзи. В то время уже была установлена граница между польским генерал-губернаторством и Германией, и ему так и не удалось то, ради чего он выехал: встреча с семьей.
Леон Шафер погиб в варшавском гетто.
В то самое время, когда на улицах Пинска были расклеены трогательные плакаты «Комитета опеки над беженцами» и мы с удовольствием чувствовали себя предметом правительственной опеки - на далеком русском севере, над Белым морем, спешно ремонтировались и приводились в порядок бараки и лагеря для поляков. Это не были лагеря для интернированных. Это были советские «ИТЛ» - исправительно-трудовые лагеря для преступников. Местные власти могли об этом ничего не знать. Наша судьба решалась в Москве.
В областной милиции людям, которые пришли за советским паспортом, предлагали хорошенько подумать: стоит ли?
Молодежь, мальчики 17-18 лет, которые хотели первоначально взять паспорт, кончали тем, что записывались на возвращение в Польшу. Им объясняли, что все, кто запишется, поедут непременно и скоро. Их спрашивали, отдают ли они себе отчет, что они годами не увидят своих отцов, братьев, невест, потому что советская власть в данный момент не может выписать их семей с той стороны границы. С ними разговаривали добродушно, давали отеческие советы, и они кончали тем, что писали заявления с просьбой реэвакуировать их. Так произошло с несколькими моими знакомыми. Они пошли в милицию за паспортом, но их переубедили. И они подписали заявление о возвращении, которое было равносильно приговору на несколько лет каторги.
В апреле и мае 40 года создалось парадоксальное положение среди беженской массы города Пинска. Те, кто принял советское гражданство, должны были срочно оставить город, переехать в деревню или местечко. А мы - около тысячи непринявших - в ожидании отправки к немцам оставались на месте и продолжали работать. В городе, откуда за зиму выселили тысячи людей против их воли, были оставлены именно мы - официальные кандидаты на выезд. Со всех сторон предупреждали нас, качая головами, что это плохо кончится. «Нас тысяча человек! - отвечали мы. - А во всей Западной Украине и Белоруссии нас полмиллиона, с детьми, с семьями, со стариками. Что с нами могут сделать плохого? Вышлют? Поедем. Не посадят же полмиллиона в тюрьму». Так наивно мы оценивали возможности советского пролетарского государства. Мы думали, что нас слишком много, чтобы всех посадить в тюрьму.
В это время разнеслась весть, что во Львов прибыла Комиссия из Киева, рассматривающая просьбы о выезде за границу! И я снова помчался во Львов. Прибыл я туда 2 мая 1940 года.
Я не мог надивиться перемене, которая произошла в этом городе со времени моего посещения зимой. Стоял солнечный теплый день, улицы были разукрашены по поводу праздника 1 мая, на углах улиц стояли столики, где продавались пряники и конфеты в мешочках. Но дело было не в этом. Львов сиял, так как со Львовом произошло чудо, возможное только при советской системе: этот город был переведен на «особый режим».
Несколько больших городов, таких, как Москва, Ленинград, Киев, всегда находятся в исключительном положении в Советском Союзе. Это значит, что ради внешней пропаганды города эти превращают в оазисы, где поддерживается европейский или подобный европейскому стандарт жизни. Этим достигается двойной эффект: собственным гражданам демонстрируется, как может выглядеть «счастливая коммунистическая жизнь», а у иностранцев, дипломатов и туристов, посещающих эти города, создается впечатление, что в Советском Союзе не так уж плохо.
Львов в мае 40 года - это была не просто «потемкинская деревня», а сверхпотемкинская столица! Были открыты тысячи частных магазинов, а рядом с ними - блестящие государственные магазины, гастрономические дворцы, парфюмерные «ТЭЖЭ», обувь, мануфактура, кондитерские ломились от пирожных, витрины завалены такими горами продуктов, каких не было даже в польские времена. Мне казалось, что это все сон. Я не был готов к такому резкому переходу. Всю зиму в Пинске, Бресте, Белостоке, не говоря уже о периферии, мы не видели сахара, белого хлеба, магазины были пусты, основные продукты питания добывались из-под полы, а о таких вещах, как шоколад, какао, консервы, мы просто забыли. Всю зиму мы жили в беде, мерзли в очередях, устраивали экспедиции по окрестностям за продуктами - и вдруг я попал в рай, где глаза разбегались. Увидев сахар в витрине, я вошел и скромно попросил - одно кило. Мне дали - по сказочной цене четыре рубля с полтиной, то есть даром. Во втором магазине я опять попросил кило. Опять дали - и без всякой очереди. В третьем магазине я взял сразу 3 кило! У нас в Пинске за сахар платили по 50 рублей, то есть при нормальном рабочем заработке в 150 - 200 рублей в месяц он был недостижим. Сахар не покупали, его «доставали»!
Очевидно, быть жителем Львова в это время было великой привилегией, подобно тому как жить в Москве или Ленинграде для советского колхозника или провинциала есть идеал карьеры и предел жизненной удачи. Прописаться во Львове на жительство было невозможно; я жил у знакомых без прописки. Свое пребывание в этом волшебном городе я использовал, чтобы накупить все, чего мне не хватало: перочинный ножик, запас туалетного мыла, книги, еду. Визит во Львов поднял мое настроение: все здесь выглядело «нормально», и в Комиссии на улице Розвадовского, 12, где стояла большая очередь с просьбами отпустить за границу, со мной тоже разговаривали «нормально»: не сказали мне, как в Пинске и других местах, что в польский паспорт нельзя поставить советскую визу, а согласились, что мне надо ехать домой, и только выдвинули два маленьких условия: первое, чтобы я вернулся из Львова в Пинск, по месту прописки, потому что здесь принимали только львовян, и второе, - немедленно получить продление моей палестинской визы, которая истекла в феврале. Я немедленно протелеграфировал жене в Тель-Авив: «Пришлите продление» - и получил ответ: «Продление вышлем». Все было прекрасно. Если бы я только мог оставаться в городе Львове, прекрасном городе «на особом режиме!» Но я не мог.
И я вернулся в город Пинск, нагруженный гостинцами для друзей, сахаром, шоколадом и добрыми надеждами. Но в Пинске кончились иллюзии, и вернулась прежняя бессмыслица. В пинском отделе виз и регистрации иностранцев вообще ничего не слыхали о львовской Комиссии. Там меня просто высмеяли, и мой заведующий отделом высказал предположение, что в Комиссии передо мной «ломали комедию». Эти два слова «ломали комедию» я хорошо помню. Не важно, ломали ли комедию в самом деле. Важно, что советский чиновник мог легко себе представить, что со мной не разговаривали серьезно и смеялись за моей спиной, что это вполне согласовывалось с его служебным опытом.
Весь май я прождал визы из Палестины. Если бы я получил ее вовремя, я бы съездил во Львов, и, может быть, мне удалось бы уехать оттуда до «ликвидации беженцев» в июне. Но английская администрация в Палестине не торопилась. Английский консул в Москве получил указание не выдавать и не обновлять палестинских виз. Люди, управлявшие Палестиной, делали все, чтобы в этот последний грозный час закрыть вход туда тем, для кого она была единственной надеждой на спасение. В сущности, они оказались пособниками палачей еврейского народа. Продление визы мне все же послали. Не выдать мне его было нельзя, ведь я являлся постоянным жителем Палестины и обладателем сертификата от февраля 37 года. Но мне прислали это продление только в сентябре, спустя 4 месяца, когда уже было поздно и я не мог воспользоваться им.
В мае мы прекратили работу по разборке библиотеки в пинском ОБЛОНО. Двое из моих сотрудников бежали в Варшаву, другие с советскими паспортами выехали из Пинска. Но прекратить работу заставило нас другое обстоятельство: неполучение в срок «зарплаты».
Расчеты с ОБЛОНО не были легким делом. Отработав месяц, мы начинали «хождение по мукам» в Отдел и с опозданием в месяц получали там не деньги, а чек на Госбанк. После этого начиналось хождение в Госбанк, где на чеки ОБЛОНО не обращали внимания. В первую очередь давали деньги на лесозаготовки и промышленность. Просвещение могло подождать. Мы занимали очередь перед дверью Госбанка с 2-х часов ночи. Каждую ночь дежурил другой член бригады. Тут нам очень пригодился Джек Лондон, которого мы нашли в нашей библиотеке. Перед дверью Госбанка я прочел с десяток повестей этого симпатичного американца. Каждое утро, добравшись часам к 10 до начальника, я предъявлял свой чек и получал его обратно со словами: «Сегодня не платим». - «А когда же?» - «А когда деньги будут». Недели через две я нашел протекцию и в пять минут вне очереди заинкассировал чек с помощью милой барышни, вхожей в кабинет начальника. Наконец к 1 мая, когда ОБЛОНО было в особо затруднительном положении - до того, что даже чека мы не могли получить, - я предложил прервать работу до получения денег. В паузе я съездил во Львов, а по возвращении нашел другую работу.
Как-то утром нагнал меня в конце улицы на велосипеде начальник ОБЛЛИТа, белобрысый латыш. «Ну и быстро же вы ходите, - сказал он, - еле догнал: идемте ко мне в ОБЛЛИТ, там работа есть». Начальник ОБЛЛИТа был высокого мнения о моих способностях. Как-то раз, придя в книгохранилище при военном госпитале, он поймал меня на том, что я бросил в ящик с теологией книгу научного содержания, даже не открыв ее.
«Позвольте, - сказал он, - это книга нужная - „Теория дарвинизма“, а вы куда ее бросили - к апостолам?» Тут ему показал, что на обложке под именем автора были буквы «S.Y.», и объяснил, что это не имя и отчество, а «Societas Jesu» - орден иезуитов и книга, стало быть, не годится для советского читателя. Он все-таки еще не поверил потребовал показать ему в тексте антинаучное место. Я открыл книгу на последней странице и без труда нашел :клерикальное место, где ниспровергалось происхождение человека от обезьяны. Начальник облита преисполнился со мне уважением: человек настолько ученый, что по одной обложке постигает скрытую контрреволюцию! Такой именно был ему нужен.
В ОБЛЛИТе громоздились горы конфискованных книг. Советская власть изъяла все книги из частных библиотек и книжных магазинов. Начальник ОБЛЛИТа свез тысячи книг в свое учреждение. Ему предстояло разобраться, что из добычи подлежит уничтожению, а что еще может быть дозволено к чтению. Так как он не владел языками, кроме русского, то ему нужен был переводчик. Я получил задание: завести реестр и записать все польские и еврейские книги. По-русски должны были быть указаны: заглавие, год и место издания, автор и краткая характеристика содержания. Если книга заключала антисоветские места, по крайней мере, одно место должно было быть приведено в дословном переводе. Последняя рубрика оставалась для резолюции начальника.
Я получал сдельно: по рублю от книги. Однако были книги, за которые я ничего не получал: книги запрещенных авторов. Мне показали листы, присылаемые систематически из Москвы, - со списком запрещенных авторов. Автор, имя которого находилось в этом списке, был изъят из обращения целиком: ни одна его книга не могла быть допущена к чтению, и, следовательно, если на складе пинского ОБЛЛИТа находились такие книги, я не должен был вносить их в реестр. Они сразу шли на уничтожение. Техника уничтожения была точно указана: книги либо сжигались, либо разрывались. В этом последнем случае каждый лист книги должен был быть разорван отдельно на части, чтобы не оставалось целых листов, которые еще могли бы быть прочтены. До сих пор я знал, что существует католический, папский индекс. В средние века не сжигались еврейские книги: на площадях Берлина в 1933 году немецкие студенты танцевали вокруг костров с антигитлеровскими книгами. Теперь я непосредственно столкнулся с советской инквизицией.
На первом месте в списке, который мне показали, было имя Каден-Бандровского, крупнейшего польского романиста эпохи Пилсудского. Вдруг мне бросилось в глаза имя Кульбака, еврейского поэта, о котором я знал, что он друг Советского Союза и находится в Москве. Это была первая весть о Кульбаке за годы: его имя было на индексе.
Начальник ОБЛЛИТа, советский инквизитор, был не только полуграмотный, но и глупый человек. Разве можно было вводить за кулисы советской цензуры постороннего человека? Мне нельзя было показывать ни этих листов, ни инструкций по уничтожению книг.
Каждое утро в продолжение нескольких недель я приходил на 3-й этаж дома, где помещался ОБЛЛИТ, с чемоданчиком, выбирал 15-20 книжек для ежедневного просмотра. Я выбирал книжки технического содержания, невинные брошюры. В конце концов, я и сам не знал, что можно читать советскому читателю и где начинается контрреволюция.
В одно утро я нашел в груде книг свою собственную книжку о сионизме. Я отложил ее подальше и решил, что не останусь на этой работе. Начальник ОБЛЛИТа начал предлагать мне перейти на «фикс» вместо сдельной оплаты. Я уехал бы из Пинска немедленно - на юг, на Волынь, на Украину, подальше от инквизиторов! - но в июне беженцам прекратили продавать билеты в железнодорожной кассе. От фикса я отказался.
Шел июнь. Город над Пиной купался в потоках солнца и света. Наступило мирное и прекрасное полесское лето. Природа как будто хотела вознаградить пинчан за все, что испортили и изгадили люди. Город опустел: тысячи жителей были насильно вывезены, отправлены в тюрьмы и ссылки. Война кипела в Европе, пала Франция, Англия была на грани катастрофы, зло побеждало, а мы в Советском Союзе были на стороне насильника. Все кругом притворялись и лгали, и над каждым нависла угроза. Семьи, племена и народы были разделены границами и запретами. Свобода передвижения была отнята у нас, и мы чувствовали, что чудовищная бессмыслица, в которой мы увязли, в любой день может и должна разразиться взрывом. Поляки и мужики ненавидели евреев, евреи боялись советских, советские люди подозревали несоветских, местные ненавидели тех, кто приехал командовать ими издалека, приезжие - тех, кого подозревали в нелояльности и саботаже. Все было сверху гладко и благополучно, полно официальной советской фразеологии, но под нею клубились массы ненависти, готовой ударить.
В эти последние дни своей нормальной жизни я перестал думать и заботиться о будущем. Каждое утро, забрав порцию книг у своего инквизитора, я оставлял ее до вечера и уезжал на реку, переправлялся на лодке на другой, низкий берег, брал каяк и уплывал за город. Скоро скрывались из виду его разбитые сентябрьской бомбардировкой церковные шпили и башни - невозмутимая тишина и безмятежный зной окутывали реку, тянулись зеленые берега в тростниках, птицы кричали в зарослях. Я доезжал до песчаной отмели, раздевался, ложился на горячий песок и смотрел в прозрачное чистое небо. Я был один, и только каяк на отмели соединял меня с нелепым и страшным миром, где миллионы людей задыхались между немецким гестапо и советской Мустапо. «Geheime Staatspolizei» и «мудрая сталинская политика» - а посредине на отмели человек, нагой и беззащитный, без права и без выхода, без родины и без связи с внешним миром, оболганный, обманутый, загнанный в тупик и обреченный на смерть.
Глава 5. Илья-Пророк
Прежде чем продолжать рассказ о событиях, имевших место в городе Пинске летом 1940 года, сделаем маленькое отступление в область чудесного. Представим себе нечто невозможное. Вообразим фантастическую и сверхъестественную вещь: что бы было в городе Пинске, если бы явился туда в начале лета 1940 года Илья-Пророк.
Много уже времени прошло с того лета, и хотя никто из нас не пророк и трудно нам вчувствоваться в психологию пророка, но в данном случае мы без труда можем себе представить, как бы чувствовал себя в Пинске человек, перед которым было бы открыто будущее.
Этот человек увидел бы перед собой город на краю гибели. Десятки тысяч людей, осужденных на смерть. Людям этим оставалось жить в лучшем случае около двух лет. Много тысяч из них должны были погибнуть еще раньше. Люди эти находились в западне без выхода. С одной стороны, была немецкая граница, гестапо. Каждый, кто переходил эту границу, погибал. С другой стороны, была русская граница. Мудрая сталинская политика, или Мустапо, замкнула эту границу наглухо. Никто из жителей осужденного города не мог вырваться за границу, отделявшую зону русской оккупации от территории Советского Союза.
Таким образом, 30000 евреев города Пинска - а во всей зоне советской оккупации около 2-х миллионов евреев - находились в мешке. Но так как они не знали своего будущего, то и не принимали особенно близко к сердцу своего положения. Во-первых, они не предвидели, что очень скоро попадут в руки немцев. Во-вторых, они себе не представляли, что в этом случае их ждет поголовное истребление. В-третьих, все они надеялись, что после войны восстановится нормальное положение, и каждый по-своему представлял себе будущее в розовых красках: кто в Палестине, кто в демократической Польше, кто в сверхдемократическом Советском Союзе.
Итак, представим себе, что в этот город пришел бы Илья-Пророк и сказал бы бедным ослепленным людям: «Вот правда вашей жизни: кто из вас ставит на советскую карту, пусть знает, что через год придут сюда немцы и запрут вас в гетто. Еще через год вы будете перебиты с женами, детьми и стариками. А кто из вас теперь бежит к немцам - бежит навстречу собственной смерти».
И вот, случилось бы второе чудо - люди города Пинска, которые, в общем, всегда неохотно принимали пророчества, поверили бы пророку. И они бы сказали ему:
«Что же нам делать, пророк Илья? Мы не видим выхода. Справа - гестапо. Слева - Мустапо. Под нами земля, где скоро будет наша могила. Над нами небо. Возьми нас на небо, пророк Илья, потому что мы не видим другой дороги».
И пророк Илья ответил бы им в гневе:
«Место на небе для вас уже готово. А вы ищите себе место на земле, чтобы остаться в живых».
И они бы сказали:
«Не знаем что делать. Покажи нам дорогу жизни».
И пророк Илья показал бы им дорогу жизни.
В самом деле, была дорога жизни для миллионов этих евреев. Теперь нам уже не надо гадать какая, не надо ломать себе голову. Как ни удивительна эта дорога - и она, конечно, превышала их умственные и моральные силы, но теперь, задним числом, нам ясно, каким должно было быть их поведение.
Единственное, что мог порекомендовать им пророк Илья, - это перестать лгать и притворяться.
Учителям гимназии «Тарбут» не следовало принимать угодливого решения об отказе от национального языка и национального воспитания. Они это сделали не потому, что через ночь превратились из сионистов в коммунистов, а потому что смертельно боялись и хотели таким путем избегнуть преследований и не потерять учеников. Но это не был правильный путь. То, что они сделали, было обыкновенной подлостью и изменой. Всегда противники сионизма утверждали, что иврит и Палестина не нужны евреям. И «новообращенные» учителя поспешили поддакнуть им: да, иврит и Палестина - это было хорошо до вашего прихода, но теперь мы от них отказываемся и будем исполнять то, что вы нам скажете.
А ведь единственная «дорога жизни» для этих учителей и сотен их учеников была объявить: «Мы просим власть подтвердить права нашей школы, потому что ее язык и программа преподавания соответствуют нашему желанию, и мы не согласны на изменение».
Тысячи евреев, которые не хотели советского гражданства, не должны были принимать участия в выборах в Верховный Совет и получать навязанные им советские паспорта. Вместо этого надо было сказать вслух то, что все они тогда думали:
«Нам не нужно ваше гражданство, и мы просим записать нас на выезд в Палестину». И если были среди них в то время еще противники сионизма, то они, во всяком случае, должны были ясно объявить, что данный строй и порядок для них неприемлемы. Это была бы святая правда. В глубине души - и на самом деле - он был для них неприемлем. Такая кампания гражданского неповиновения, конечно, была бы чистым безумием. Я ни на секунду не допускаю мысли, что такая вещь могла бы осуществиться без личного вмешательства пророка Ильи. Я очень ясно вижу перед собой покойных жителей города Пинска. Например, был там доктор Я., мой друг, очень хороший доктор и милый человек. В приемной висел у него портрет Маймонида в рамке и с длинной надписью на иврите. На самом видном месте стояла бело-голубая кружка Еврейского Национального Фонда. И он никогда не скрывал, д-р Я., что любит свой народ и привязан к Палестине. Этот портрет Маймонида он не снял даже после прихода советской власти. Но почему-то он, владелец двух каменных домов и человек с традициями, в одну неделю превратился в пламенного советского патриота. Как будто глаза у него открылись, и он стал выступать с речами и приветствиями по адресу советской власти. Почему? Возможно, что он боялся за свои дома. Возможно, что считал это необходимым. Во всяком случае, это была просто л о ж ь. В действительности, все, чего хотел доктор Я., - это, чтобы оставили его в покое или дали ему возможность уехать, если не в Палестину, то хоть в Америку. Он наверное не хотел большевиков.
И не было пророка Ильи сказать ему: перестань лгать и притворяться. Это тебя не спасет от смерти.
Кампания гражданского неповиновения имела бы фатальные следствия для пинских евреев. Советская власть не шутит в таких случаях. Конечно, она бы очень удивилась сначала, так как не привыкла, чтобы евреи говорили ей прямо и открыто то, что у них на сердце. Прежде всего она бы выловила нескольких вожаков. Но в конце концов она бы вывезла всех евреев, с их женами и детьми, с их молитвенниками и бебехами, по 100 кило на человека, вон из пограничной полосы.
И они были бы не первым и не единственным народом, с которым бы это случилось в Советском Союзе.
В Центральной Азии или Якутской области пришлось бы им круто и тяжко. Многие из них погибли бы. Но в общем и целом эти люди не только пережили бы войну, но своим сопротивлением создали бы решающий аргумент в пользу еврейской национальной культуры и национального движения. Мудрая сталинская политика учла бы, что иврит и сионизм имеют некоторые корни в еврейском народе.
У этих людей была возможность избрать свой собственный путь - путь открытой и честной борьбы. Только не было, к сожалению, пророка Ильи, чтобы объяснить им это.
Все это были умные люди. Практики. Если бы кто-нибудь сказал им, что не надо никогда идти на компромисс с тем, что чуждо и враждебно, то они бы даже не спорили. Они бы сказали: этот советчик сошел с ума. Это либо дурак, либо Дон-Кихот. А у нас дети, у нас семейные очаги и работа, и мы за них отвечаем.
Так бы сказали умные люди. И они были бы правы - со своей умной точки зрения.
Но если можно сделать какой-нибудь вывод из того, как дальше развернулись события, то только этот:
Не всегда здравый смысл хорошо руководит человеком. В особенности когда оборотную сторону «Разума» составляет обыкновенная трусость.
Вот уже 2000 лет евреи приспосабливаются к окружающему миру. И 2000 лет их хитрые расчеты неизменно оказываются построенными на песке, а вся их история, как в примере пинских евреев, есть цепь катастроф и дорога к смерти. То, что произошло с пинскими евреями, - не единичный случай. Никто не может гарантировать нам, которые выжили, что в недалеком будущем мы не окажемся в положении, похожем на то, которое сложилось в городе Пинске летом 1940 года. Справа от нас станет враг. И слева - враг. И будет пустое небо над нами и зияющий гроб у наших ног. И не придет пророк Илья помочь в беде или новый Моисей, чтобы вывести посуху среди расступившихся волн.
Тогда - если на что-нибудь годятся уроки истории - мы вспомним историю пинских евреев, которые погибли потому, что не имели мужества быть самими собой до конца.
Глава 6. Пинская тюрьма
19 июня 1940 года в 10 часов вечера зашел за мной милиционер и забрал в милицию.
Уже четыре дня шли в городе Пинске аресты беженцев, записавшихся на выезд из Советского Союза. Кто были эти беженцы? Пинские евреи, бежавшие от гитлеризма. Прибыли они из Вены, гитлеровской оккупации, - и попали, как говорится, из огня да в полымя. Пинск и вся восточная часть бывшей Польши были заняты Красной Армией. Я знал, что многие, знакомые и незнакомые, уже взяты. Не было ясно, заберут ли всех или будет сделано исключение для особенно нужных и незаменимых работников. Не было ясно, какая судьба ждет арестованных. Первые аресты не вызвали особой паники среди беженцев, которые спокойно ожидали своей очереди с верой, что им ничего злого не сделают, и, в крайнем случае, ну что же, - вышлют в Россию, где они смогут получить работу и переждать войну.
Утром 19-го зашел в мое отсутствие милиционер и спросил, когда я бываю дома. Ему сказали, что я возвращаюсь вечером к 10 часам. Он предупредил, что придет в это время.
Вечером я сидел в своей комнате. Все у меня было готово: я уложился, приготовил чемоданчик с необходимыми вещами. На столе лежала книга, которую я так и не успел дочитать до конца: «Краткий курс истории ВКП (б)».
Ровно в 10 часов ВКП (б) в образе курносого парня с младенческим лицом вошла в мою комнату. Увидев чемоданчик, милиционер улыбнулся и сказал: «Это не нужно. Вас только вызывают на полчаса, на разговор к начальнику».
У меня отлегло от сердца. Я не знал, что это обычная в таких случаях уловка. Милиционер должен за вечер привести ряд людей и не хочет ни пугать их, ни ждать, пока они соберутся. Кроме того, у него нет приказа об аресте. Он только приглашает «зайти в милицию».
Иначе взяли моего соседа. К нему вломились ночью люди с ружьями. Окружили дом. Хозяева подняли плач, решив, что это за ними. У него произвели обыск, чего у меня не было. Отвезли его сразу в тюрьму на грузовике, который был битком набит. И ему тоже пообещали, что он «сейчас вернется». Это была неправда. Никто из взятых не вернулся, и многие погибли в изгнании.
Я вышел на улицу, как сидел за столом, без вещей и без денег. В дверях милиционер сказал мне, что лучше все же взять пальто, на случай, если придется долго ждать очереди. Я взял через руку пальто.
Калитка хлопнула, и мы пошли, мирно разговаривая. Переступив порог милиции на Логишинской улице, я, не зная того, переступил черту, которая разделяла два мира. Но уже через несколько минут я понял, что случилось нечто невероятное.
Я никогда в своей жизни не сидел в тюрьме. В момент ареста мне было тридцать девять лет. Я был отцом семейства, человеком материально и внутренне независимым, привыкшим к уважению окружающих, безусловно лояльным гражданином. Я никого не обидел, не преступил закона и был твердо убежден в своем праве на внимание и защиту со стороны учреждений каждого государства, кроме гитлеровского. В общем я оставался довольно наивным европейским интеллигентом даже после девятимесячных попыток вырваться из липкой советской паутины, и я все еще чувствовал себя душой и сердцем гражданином прекрасной Европы с ее Парижем, Флоренцией и лазурными далями Средиземного моря.
За порогом дома на Логишинской я сразу перестал быть человеком. Этот переход совершился без всякой подготовки, так резко, точно я провалился среди бела дня в глубокую яму.
Из литературы и всяких описаний, из фильмов и рассказов я знал, как выглядит тюрьма, понимал, что меня задержат, произведут расследование, запрут на ключ. Но я совсем не был готов к тому, что произошло. В пустую комнату втолкнули нас - несколько десятков человек. Кругом шныряли люди в мундирах и с револьверами. Это не были те советские люди, которых мы знали до сих пор, - вежливые и обходительные. Во-первых, они говорили нам «ты». Во-вторых, они смеялись нам в лицо. Наше смущение страшно веселило их. Они наслаждались эффектом, который произвела на нас первая встреча с настоящей советской действительностью. В воздухе стоял густой мат, которого мы не слышали до сих пор. Мы думали, что матерщина вывелась в Советском Союзе. Оказалось, что эти люди мучительно ограничивали себя среди «посторонних», но здесь за стенами НКВД они были наконец у себя и могли не стесняться. И по тому, как они себя вели, я понял, что мы для них - уже не свидетели. Мы были для них - мертвые, списанные со счетов люди.
Нас впускали по нескольку в комнату, где сидели молодые люди в галифе, в прекрасном настроении, для которых вся процедура была просто забавой. Среди гогота и прибауток они опорожнили мои карманы, отобрали вечное перо, документы, часы, обручальное кольцо. Кольца я никак не мог снять, оно уже много лет не сходило с пальца.
«Не сходит? - рассмеялся человек в галифе. - Давай сюда, мы живо снимем!» - и действительно, у этого ловкача кольцо само покатилось с пальца. Я больше не увидел ни своих документов, ни кольца, ни часов. Все, что взяли, - отобрали навсегда.
- Раздевайся!
В мгновение ока я был раздет, поставлен на четвереньки, меня обследовали сзади и спереди, как закоренелого преступника, с проверкой заднего прохода, перетряхнули вещи, велели одеться, срезали пуговицы, отобрали пояс, быстро -быстро вывели во двор и погрузили на машину.
В полночь привезли нас в тюрьму НКВД. НКВД помещалось в конце Альбрехтовской, в здании бывших польских казарм. Загнали в крохотный чулан без окна и вентиляции. Всю ночь горел яркий свет, было невыносимо душно и жарко. Человек пятнадцать лежали вповалку на полу. Мы разделись донага, пот стекал с нас, мы стали задыхаться и стучать в дверь. Время от времени ее отворяли, чтобы вошло немного воздуха из коридора.
Мы промаялись всю ночь без сна. В полдень следующего дня нас перевели в камеру с нарами в два яруса. (В польские времена в этом подвале хранили картошку.) В камере был полумрак: одно квадратное отверстие почти под потолком. Мы лежали на голых досках вдоль четырех стен подвала, посреди располагались люди прямо на голом полу. Все без исключения - евреи. Маленький круглый человечек плакал беспрерывно, как дитя: это был Бурко - фармацевт из городской аптеки, у которого я еще накануне покупал лекарство.
Неделю мы просидели в картофельных подвалах НКВД. Давали нам хлеб и суп, но не выпускали никуда, только в уборную в конце коридора. Люди были еще сыты с воли и под впечатлением ареста потеряли аппетит. К еде почти не притрагивались, оставалось много хлеба. Беспрерывно просили пить, и день проходил в войне за воду, которой было очень мало. Вода давалась как премия за хорошее поведение. В камере была молодежь, взбудораженная, неспокойная, люди разговаривали, пели, стучали в дверь - за водой или за нуждой. Весь день кто-нибудь стоял под дверью и умолял пустить его в уборную. Наконец отворялась дверь; стражник, стоя на пороге и не входя (это запрещено уставом), осыпал злобной матерщиной арестантов и захлопывал дверь под носом у них. Кто-то сказал «товарищ». Огромный гориллоподобный верзила рассвирепел: «Какой я тебе товарищ? Волк в лесу тебе товарищ, а не я!» Скоро нам объяснили, что обращение «товарищ» не допускается для арестованных и мы должны обращаться к начальству со словом «гражданин».
Наутро, когда вывели в отхожее место партию в шестнадцать человек, сразу обнаружилась разница между слабонервными интеллигентами и людьми «из народа». Были люди, которые в первый раз на виду у всех (одна круглая дыра на шестнадцать человек), понукаемые, в толпе, мучительно стыдились. Кто-то на загаженном склизком полу потерял сознание, его вынесли, надзиратели скверно ругались, кругом смеялись, за низенькими дверьми с засовами и замками шумели и барабанили кулаками запертые люди.
Начались ночные допросы. Раз вызванный уже не возвращался в камеру. Его переводили в другое место и через несколько часов забирали из камеры его вещи, если было что забрать. Мы все ждали с нетерпением своей очереди. Если эти «держиморды» обращались с нами как с преступниками, то это объяснялось тем, что они «не знают», «не разбираются». Что с них требовать? От беседы со следователем мы ждали выяснения - чего от нас хотят. Ведь мы не совершили никакого преступления.
Три-четыре дня прошло в ожидании. Поздно ночью вызвали меня из камеры. К тому времени я уже был очень грязен, лохмат, небрит и дик, как и полагается человеку, которого преследует государство. Мыла и воды для мытья, полотенца, гребня, подушки и тому подобных вещей у меня не было. Я очень остро почувствовал социальное неравенство, когда сел против меня молодой щеголеватый следователь НКВД, приглаженный, напомаженный, выспавшийся, с нашитым «мечом» на рукаве (знак работников судебно-олитического аппарата НКВД).
Глубокая ночь. Второй этаж НКВД - другой мир. Внизу - погреба, набитые битком всклокоченными, перепуганными людьми. Наверху - чистые белые коридоры. Тишина. Зеленые абажуры на столах. В большой пустой комнате на столе следователя бутылка лимонада и рядом с ней - коробка папирос. И то, и другое - волшебный сон. Лимонада нет в продаже, это, наверное, из внутреннего распределителя. У меня мучительная жажда, но этот лимонад - не для питья. Он так же недоступен и нереален, как родной дом и свобода.
Следователь предлагает мне папиросу. С того же начинался допрос и у других арестованных. Должно быть, так указано в «инструкции». Человек, который меня допрашивал, имел специальное образование - прошел школу следователей НКВД, - и эти допросы были его подробно и точно разработанной специальностью.
После того как была установлена «personalia» и факт моего высшего образования и работы в ОБЛОНО, следователь стал очень вежлив. Я сидел на стуле не у стола, а посреди комнаты. Я был полон любопытства: в чем будут меня обвинять и что будет говорить следователь. Но было бы преувеличением сказать, что в эту минуту я чувствовал себя находящимся перед настоящим следователем. За столом сидела советская юстиция с эмблемой «щита и меча» на рукаве. Перед столом сидел человек Запада, непроданный, свободный, и внимательно присматривался.
Вот это чувство независимости и неписаного права судить своего судью - и было моим настоящим преступлением. Но тогда ни я, ни мой следователь об этом не думали. Человек с эмблемой раздумывал, как ему повести допрос.
Очень умно поступил его коллега, который в ту же ночь в другой комнате допрашивал моего соседа, адвоката Н. (этот человек ныне живет в Израиле). Он ему сказал:
«Вы человек интеллигентный, сейчас начнете доказывать, что вы ни в чем не виноваты. Это все лишнее. Вы уже не выйдете на волю. Мы пошлем вас работать в Россию. Будете работать по специальности (в этом он солгал) . Все это уже решено, и вы должны понять, что я ничего не могу изменить. Я только служащий. Мне не полагается это говорить, но я вам скажу открыто: допросы, протокол, ваша подпись - все это только формальность. Ничего не изменится от ваших ответов. Поэтому не делайте мне трудностей и подпишите вот эту бумажку».
Потом сотни русских людей в лагерях подтверждали мне одно и то же: «В НКВД не надо спорить и упираться - от этого только хуже».
Русский человек подписывает, что ему велят, - не глядя, не читая. И знает, что этим он себя убережет от многих неприятностей. Он получит то, что ему положено. В противном случае ему еще прибавят.
Мое поведение на допросе было (с советской точки зрения) ошибкой, потому что я придавал слишком большое значение внешним формам. За дешевое удовольствие припереть моего собеседника к стенке, за словесное упорство я заплатил двумя лишними годами срока.
Я не понимал, что действительный суд надо мной и сотнями тысяч людей совершился и приговор уже вынесен. Мы все должны были получить по три или по пять лет. На этот суд нас не пустили, и нас не спрашивали. То, что происходило сейчас, было только комедией. Не надо было упираться, и мне бы тогда выписали три года вместо пяти. Но я принимал всерьез свою «защиту»,
«Вы обвиняетесь в нарушении паспортного режима, - сказал мне следователь. - Вы проживаете на территории Советского Союза без документов».
«Как же так? Ведь у меня польский паспорт?»
«Паспорт несуществующего государства не есть паспорт. Мы не признаем Польши. Ваш польский паспорт не имеет для нас силы».
«До сих пор вы, однако, его признавали! Ведь я прописан в милиции города Пинска на основании этого паспорта!»
«Вот оттого мы вас и арестовали, - сказал следователь, с насмешкой глядя на меня, - что вы прописаны на основании этого паспорта! В Советском Союзе надо иметь паспорт советский».
«Как гражданин бывшего Польского государства, я не могу иметь советского паспорта, пока мне его не дали. Чем я виноват, что у меня именно польский документ? Ведь вы не требовали от меня ни переменить его, ни заменить на советский!»
«Я не говорю, что вы виноваты! - сказал следователь.- Вы-то не виноваты, но все-таки оказываетесь в противоречии с советским законом! По советскому закону вы обязаны иметь легальный документ!»
«Девять месяцев я нахожусь на территории освобожденных областей, и ни разу ни один представитель власти не сказал мне этого! Не можете ли вы мне сказать, когда именно, с какого дня я стал правонарушителем?»
«Не могу сказать, - следователь начал слегка раздражаться, - да и зачем вам это нужно? Сегодня - вы правонарушитель!»
«Вернее - с того дня, как меня арестовали! И что же мне полагается за „нарушение паспортного режима“?
„О, пустяки! - сказал следователь. - Годик“.
Волосы у меня стали дыбом:
„Вы смеетесь надо мной? Год тюрьмы - за что?“
„Год, это максимум! - сказал следователь успокаивающе, и в глазах у него забегали веселые искорки. - Может, меньше дадут!“
Допрашивая меня, он одновременно записывал мои ответы. Однако в протокол из нашего разговора попало немного. Отмечена была история и даты моего бегства из Лодзи, наличие у меня родственников за границей, потом следовал вопрос:
„Почему не желаете жить в Советском Союзе?“
„Потому что желаю жить в Палестине. Там у меня семья, и там место моего постоянного жительства. Оттуда я приехал в Польшу на короткое время и туда желаю вернуться. А в Советском Союзе я никогда не жил, и странно было бы, если бы я захотел здесь жить только потому, что случайно здесь оказался как беженец. Я здесь чужой“.
Около часа я убеждал следователя, что мое нежелание оставаться в Советском Союзе еще не означает враждебных чувств к этой стране.
„А в Лодзь зачем записались? Там ведь немцы“.
„В Лодзи меня застала война, и не всегда там будут немцы, и туда я имею право вернуться - сейчас или после войны.
Через Лодзь идет дорога в Палестину. А раз там немцы, я охотно поеду в Палестину через Одессу“.
„Значит, оставаться у нас не хотите?“
„Нет, не хочу“.
Следователь записал коротко:
„Не желает жить в Советском Союзе, имея семью за границей“. Наконец в протокол было внесено:
„Признаете ли себя виновным в том, что являетесь беженцем, проживаете в Советском Союзе нелегально и имеете намерение выехать за границу?“
Я остолбенел. Из предыдущих вопросов и ответов никакой моей ВИНЫ не вытекало. Признать себя виновным - в чем?
„Нет, не признаю!“
Мой собеседник посмотрел на меня взглядом, не сулившим ничего хорошего.
„Что же нам, начинать сначала?“
„Поймите, что я такой постановки вопроса не могу принять!“ Что же это за выезд „за границу“? Это для вас заграница, а не для меня. Для меня заграница именно здесь, в советской Белорусской республике, в городе Пинске! Польша для меня не заграница, раз у меня польское гражданство. Палестина для меня не заграница, раз я еврей и жил там до войны».
Следователь вскочил и подошел к боковой двери. Позвал кого-то. В комнату вошел высокий черномазый мужчина.
«Сил нет, - угрюмо сказал следователь. - Семь потов сошло. Крутит, вертит, и не ухватишь его. Зловредный какой-то».
«Что, адвокат? - сказал черномазый. - Не иначе, как ПАН адвокат».
«Нет, я не адвокат, - сказал я, - но надо же мне защищаться, когда меня обвиняют черт знает в чем - в том, что я беженец. Я не адвокат, а доктор философии».
Угрожающая мина черномазого расплылась в удивлении.
«Вот оно что! - сказал он. - Докторов философии мы тут не видали еще. Так вы, значит, и диамат знаете?»
Я подтвердил, что диамат мне известен, как свои пять пальцев.
«Кто такой Розенталь, знаете?»
Розенталь был тот «спец», который в «Правде» время от времени помещал так называемые «консультации» для широкой публики по вопросам диалектического материализма. Это была, очевидно, вершина премудрости в глазах черномазого.
Разговор принял несколько фантастическое направление. Мы мирно говорили о Розентале, о Деборине, о Лукаче и о тех ленинских академиках, которые теперь выпали из моей памяти, ослабленной годами советской каторги. Черномазый был просто взволнован, когда узнал, что я даже Луппола читал в немецком переводе.
«Нет, - сказал он,- такой человек нам нужен. Вы поедете в Россию на работу. Там уж найдут для вас применение».
«Зачем же в Россию? - сказал я. - Ведь я палестинец, у меня там и семья, и работа.»
«В Палестину мы вас не пустим, - сказал философ из НКВД. - Про Палестину забудьте. Это прошло. А за жену не беспокойтесь. Она себе другого найдет».
Голова у меня шла кругом. Все это было как дурной сон, когда никак нельзя проснуться. Допрос шел уже часа четыре.
Наконец я подписал:
«Признаю, что являюсь беженцем, не имею документов, кроме отобранных при аресте, хочу выехать из пределов Советского Союза, но вины своей не признаю, так как не вижу в указанных фактах никакого состава преступления».
«Имеете ли еще что-либо привести в свою защиту?» Я чувствовал, что предо мной стена, что надо привести в свою защиту какие-то особенные слова, чтобы эти люди поняли то, что мне так ясно: что все мое «дело» есть чепуха от начала до конца, невероятный вздор. Но я не находил никаких слов больше. «Ничего».
Я подписал «ничего» и спохватился, что мне надо еще что-то указать: сертификат палестинского правительства... и прочее, и прочее.
«Ну нет! - сказал следователь. - Раз подписал - крышка. Больше ничего не дам дописывать».
И прибавил:
«На суде сможете договорить, что сюда не вошло».
Он знал очень хорошо, что никакого суда не будет и протокол является окончательным.
Серело уже в коридоре, когда он сдал меня конвойному. Я попросил пить. Он велел проводить меня к крану. Я пил жадно из цинковой кружки, закрыв глаза, с горящей головой, где как гвоздь засело:
«Домой мы вас не пустим... Жена найдет другого...»
Меня отвели в другую камеру. Это была узкая клетка, где помещалось 16 человек на двухъярусных нарах.
Весь следующий день я пролежал неподвижно, ошеломленный. То, что меня ошеломило, было не известие о том, что мне отрезана дорога домой. Этому я не верил. Этого я себе просто не мог представить. Поразила меня циничная подлость этого ночного допроса. За девять месяцев я привык к фасаду советского здания, теперь я за ним увидел - пещеру разбойников. Первое впечатление было - шок. Мне было стыдно. Чувство мучительного, глубокого стыда за человека росло во мне с первой минуты, когда я переступил порог того учреждения, которое в Советском Союзе является центральным - и этот жгучий стыд терзал меня до тех пор, пока через много дней не выгорел весь - до холодной зоны и не родилась во мне спокойная ненависть к людям, обманывающим весь мир.
В новой камере были поляки. Это были старые жильцы, они находились в заключении уже полгода. Против меня лежал 16-летний мальчик с мертвенным бескровным лицом. Он казался оглушенным. Меня не били ни до того, ни после, но этих людей били. Рядом со мной лежал старый еврей Ниренштейн - один из самых кротких и бесстрашных людей, каких мне довелось встретить в лагерях. Этот человек был полон религиозной веры и беспричинного оптимизма. Он в самом деле верил в Бога, то есть верил в то, что чудо может случиться каждую минуту. У него было удивительное и, может быть, заслуженное чувство своего морального превосходства перед другими людьми, полными страха и не понимающими, что ничто не страшно. Я очень хотел быть таким, как Ниренштейн.
Больше всего я боялся быть оторванным от всех - и забытым всеми. Чтобы напомнить себе, что я не один, я вынул фотографию своего сына, снимки из дому. Я показывал их соседям и рассказывал Ниренштейну, как люди живут в Палестине.
Дня через три вывели нас обоих во двор. Там уже собралась большая группа арестантов. Это был обширный двор, заросший травой, как бывает в провинции, куры копались в горячем песке, молодуха - с кухни, наверно, - шла с ведром, в конце двора возились рабочие у амбара. Был конец июня - жаркое солнечное утро.
Грузовик въехал во двор. Скомандовали садиться. Велели лечь плашмя, подняли с трех сторон зеленые борта грузовика. Сверху сел конвоир с ружьем. Грузовик развернулся и выехал на булыжную мостовую улицы. Мы поехали.
Лежа, я думал, как часто за последние месяцы я видел в Пинске на улице такой пустой грузовик, громыхающий по камням, и человека, с безразличным видом сидящего в углу с ружьем. Значит, и тогда эти грузовики были полны лежащими на дне людьми, скорчившимися, чтобы их никто не видел из прохожих. Может быть, сейчас идут мимо люди, которых я знал, и меня от них спрятали. Эта власть прятала то, что она делала, за зелеными бортами грузовика. Это был обман. Люди на воле не знали, что они были окружены - и так близко - арестантами, пленниками, которым нельзя поднять головы.
И я, лежа, давал себе слово, что зеленый борт этой машины я когда-нибудь опишу - и так, чтобы весь мир увидел что за ним кроется.
Лежа на дне грузовика, я по поворотам машины угадывал, по каким улицам нас везут.
Нас привезли в пинскую тюрьму и развели по камерам. В нашу - еще пустую - ввели нас человек десять. Мы обрадовались, что так много места, и расположились удобно между окон: у стены против входа. Но через полчаса отворилась дверь, и в помещение ввалилась толпа. Сразу стало тесно и душно. Еще через полчаса подбросили новую партию арестантов. Тут уж стало не до шуток. Комната имела метров семь в длину и пять в ширину. Побеленные стены, два окна с решеткой, деревянный рассохшийся пол, параша у двери, бочонок с водой в углу и посреди - подобие стола. Это было все. На полу расположилось человек семьдесят пять. Днем мы с трудом размещались сидя, но ночью площади пола не хватало, чтобы всем вытянуться, и люди ложились буквально друг на друга. Спали на столе, под столом, сидя, полулежа, в самом фантастическом переплетенье ног, рук, голов, колен и спин. Люди, не нашедшие себе места в начале вечера и прикорнувшие на корточках, позже, когда сон разравнивал это человеческое месиво, падали, как второй слой, сверху, куда придется. Проснувшись ночью, человек не сразу соображал, на чьем животе лежит и кто ему придавил ноги. Начиналась яростная ссора, когда чья-то грязная пятка упиралась в лицо спящего и будила его. Хриплые ругательства тонули в протестах соседей. Наконец водворялось «молчание», полное храпа, тяжелого дыхания, бормотания, сонных вскриков. Кто-то вставал и шел по головам и рукам к параше. Люди кишели, а на них кишели вши и ползали клопы. Казенного белья нам не давали, а своего мы не имели, кроме того, что на теле. Передачи с воли не допускались - до конца следствия. Июльская жара заставила нас раздеться донага - до кальсон, подвернутых выше колен. Камера напоминала предбанник. С утра люди, которым удалось отвоевать таз и немного, воды, стирали свои рубахи. Тяжелый и кислый дух стоял в камере - от него у свежего человека спирало дыхание.
Население камеры было исключительно еврейское. Люди всех поколений, классов, возрастов, начиная от пятнадцатилетних детей, виновных в том, что они записались на возвращение к своим родителям, и до стариков старше семидесяти лет. Большинство - молодежь: парикмахеры, кельнеры, портные. банковские служащие, учителя, бухгалтеры, пролетаризированная беженская масса. В камере находился, к моему удовольствию, победитель пинского областного шахматного турнира. Из хлеба изготовили шашки и шахматы, мелом начертили на полу шахматные доски, и полдня проходило у меня в том, что, лежа на полу, я передвигал фигурки. Видно, что мы еще не были по-настоящему голодны: год спустя такие шахматы уже не из чего было бы сделать - их бы съели в мгновение ока.
Мои соседи по полу были братья Кунины, два бухгалтера, а до того купцы (оба погибли в советской неволе), фармацевт Бурко, о котором я уже вспоминал (у него тем временем высохли слезы, и он примирился со своей судьбой), молодой варшавянин Арие Бараб, распевавший веселые куплеты о еврейских дачниках на Отвоцкой линии, и, к немалому моему удовольствию, - Давид, член моей библиотечной бригады.
Конечно, я предпочел бы, чтобы его не арестовали, но, поскольку он тоже подлежал ликвидации, было очень хорошо, что он попал именно в мою камеру. Давид был арестован через неделю после меня, и от него я узнал, что делалось в городе за эту неделю.
Арест почти тысячи человек дезорганизовал хозяйство и культуру, оставил предприятия без руководителей, учеников без учителей. Жители были подавлены и напуганы. Такой массовой расправы не было с марта, когда чистке подверглось местное население и еврейский политический актив.
Но самое большое впечатление произвел мой арест на старого доктора Марголина. Отец мой, которому тогда исполнилось 80 лет, уже не выходил из дому. Это был человек своеобразный, не поддававшийся влияниям и обо всем имевший собственное мнение. Это был самый строгий, самый непреклонный критик моих писаний. Издалека он следил за моей деятельностью в литературно- политической области, и время от времени я получал от него строжайший разнос, но доходили слухи, что он не отказывает мне в некоторых способностях. Очень его поразило, что я в первые же дни по занятии Пинска большевиками собрал и предал уничтожению все находившиеся под рукой экземпляры моей книги о сионизме. Старик глубоко и по-детски опечалился. «Вот до чего ты дожил!» - сказал он мне с горечью. После моего исчезновения он впал в глубокую задумчивость. Дня три подождал - и в одно прекрасное утро тихонько оделся, и, не говоря ни слова, вышел на улицу. Место моего заключения было недалеко от нашего дома. Соседи из окон видели, как тихо брел по тротуару, опираясь на палку, маленький белый старичок. «Куда это пошел старый доктор Марголин?» Он подошел к массивным запертым воротам во двор НКВД. Это он выбрался поговорить с начальником НКВД и объяснить ему, что я человек хороший и меня не надо держать в тюрьме. На фоне больших железных ворот он был совсем маленький. Из окон домишек смотрели десятки глаз на странное поведение д-ра Марголина: старичок поднял палку и постучал в ворота. Никто не услышал этого стука. Он подождал и постучал еще. Долго стоял он, понурив голову, и ждал... слушал. И наконец тихонько вздохнул и пошел обратно. И дома никому не сказал, куда и зачем ходил.
Никто, конечно, не мог услышать, что он вздохнул. Но когда из уст Давида я узнал о последней прогулке моего отца - мне показалось, что я услышал этот вздох.
День в пинской тюрьме начинался рано - то с раздачи пищи, то с выхода в уборную. Когда начинал лязгать дверной засов, люди бросались толпой к выходу, одинаково готовые принять хлеб или выйти в коридор. Все, кому надо или не надо, выходили, так как в уборную выпускали только партиями, раз или два в день. Уборная была центром обмена новостями: стены ее были покрыты надписями и сообщениями, которые таким образом передавались из камеры б камеру. Там были семейные новости, перекличка друзей, тюремная лирика и деловая информация: «Миша Рапопорт сидит в 4-й», - «Стефан, отзовись! Шимек.» - «Пришлите покурить, Фридман». - «Мама здорова, держись, Витек!» Каждые несколько дней надписи стирались, и наутро начинались новые диалоги. Кроме того, имелся и «почтовый ящик»: в одном месте под доской сиденья была расщелина, куда всовывали записки, посылаемые из камеры в камеру.
На завтрак мы получали хлеб и сахарный песок, который делили спичечной коробкой. Люди съедали хлеб, посыпанный сахаром, а некоторые оставляли себе кусочек хлеба к обеду, который состоял из супа. Во втором или третьем часу подъезжал к двери возок с котлом, и стряпуха черпаком наливала суп в алюминиевые мисочки. Эта замечательная посуда осталась еще от польских времен, но ложек у нас не было. Мы садились вдоль стен, поджав ноги, и пили, обжигаясь, потом пальцами добывали брюкву или картошку, а тем временем нас подгоняли те, кому миски доставались во вторую очередь. Арестантский суп был очень плох и не похож на домашний. Однако к тому времени мы все уже были достаточно голодны, а суп был единственной горячей пищей. Один из парнишек в камере пустился на хитрость: съев три четверти супа, доливал водой, ловил несколько мух, бросал их в миску и подымал скандал. Раза два удалось ему получить новую порцию супа, пока не разгадали трюк. Видно, что пинская тюрьма была в 1940 году культурным учреждением. В советском лагере человек, который бы поднял шум из-за мухи, только насмешил бы людей.
Часов в одиннадцать выводили нас на прогулку. По этому поводу надевались штаны, и человек двадцать-тридцать строились в коридоре. Небольшой дворик был обнесен высокой стеной. Двое надзирателей становились сбоку, и мы гуськом или парами дефилировали по кругу, заложив руки за спину. «Не разговаривать! Тебе говорят, долгогривый!» Проходя мимо них, мы смолкали, а потом опять начиналось жужжание. Солнце светило, воробьи чирикали. Некоторые сокамерники были до того слабы, что уже не могли двигаться, и с разрешения сторожей отходили в сторону и садились на песок.
Время от времени происходил медицинский прием.
В коридоре ставили столик с бинтами и лекарствами. Сестра по очереди вызывала людей с жалобами. В камере были случаи высокой температуры, лежали люди в бреду и горячке, но никого не взяли в больницу. «Ничего, - говорил надзиратель, заглядывая через дверь, - не помрет». На мое несчастье, я заболел воспалением среднего уха и провел несколько кошмарных дней. Не знаю, что привело меня в большее бешенство - невыносимые боли или то, что меня оставили без всякой помощи. Сестра ничем не могла помочь, обвязала мне голову и обещала записать к врачу. У меня был еще нарыв на руке выше локтя. Полкамеры имело нарывы и опухоли. Сестра не жалела нам ихтиолу, но в серьезных случаях была бессильна. Через несколько дней позвали меня к врачу. Это был пинчанин, так напуганный присутствием представителя НКВД на приеме, что боялся смотреть нам в глаза и говорить с нами. У него не было ни ушного зеркала, ни других инструментов, и он тоже ничем не мог мне помочь. Единственный ушник в городе был д-р П., мой хороший знакомый, и я очень рассчитывал на встречу с ним, но, конечно, это была наивная надежда. Впервые в жизни я перенес болезнь без медицинской помощи, и она прошла сама собой, но ослабление слуха осталось у меня надолго.
Сестра, молоденькая девушка-пинчанка, смотрела со слезами на обросших, полунагих, голодных и покрытых ранами арестантов, которых надзиратели выгоняли в коридор, как зверей из клетки. Арестанты из других камер, которых мы встречали по дороге, должны были при нашем появлении отворачиваться лицом к стене и не имели права смотреть на нас. Мы шли среди рядов людей, стоявших носом к стенке. Никто не мог бы узнать в нас людей, недавно ходивших по улицам города. Через неделю мы узнали, что сестра отказалась от работы в тюрьме.
Мы были покрыты полчищами вшей. С утра, съев хлеб, мы садились на корточки и приступали к так называемому «чтению последних известий», то есть избиению вшей. Искусанные тела, покрытые краснотой и нарывами, гноились, зеленая мазь погаными пятнами выделялась на нездоровой свинцовой серости кожи, а на рубахах кишели вши всех величин и цветов: вши бурые, коричневые, черные и прозрачно-белые, брюнетки и блондинки, мощные супоросые вши, от которых под ногтем брызгало кровью, какие-то ярко-красные живые точки, которые при малейшем прикосновении смазывались в пятно - неожиданное и неведомое обилие родов и разновидностей... На семьдесят пять человек - семьдесят пять тысяч вшей... Их не надо было искать: они сами ползли под руку, мы их обирали с хлеба и с лица, с ворота и с подушки соседа и давили их с таким мрачным удовлетворением, точно это были наши тюремщики.
За шесть недель, которые мы провели в тюрьме, нас несколько раз сводили в баню, и это было каждый раз большим событием. Баня в пинской тюрьме была оборудована еще поляками и состояла из помещения с горячими душами, человек на пятнадцать. Воду пускали минут на пять, после чего мы на мокрое тело одевали прежнее белье и через тюремный двор шествовали в камеру, где и сохли. Выстиранные под душем рубахи развешивали над головой, голые тела дымились, и камера наполнялась испарениями.
Люди теснились к окну, но это было запрещено, часовые гнали от окон. За окном был высокий забор с колючей проволокой сверху, и над ним кусок синего неба: все, что осталось от лета. Мы были отрезаны не только от природы и людей, но и от всяких известий о внешнем мире. Мировая война для нас кончилась.
Чем занимались семьдесят пять человек, сидевших на дне глубокой ямы в советской тюрьме? У нас не было подавленного настроения. Шок первых дней прошел. Мы находились в состоянии великого изумления и какого-то насмешливого вызова. Скандальная нелепость примененной к нам процедуры в первую очередь занимала нас. Мы чувствовали себя не преступниками, а жертвами идиотского произвола. Все рассказывали, как кого взяли и как допрашивали. Тут было большое разнообразие. Не всех допрашивали так утонченно-культурно, как меня. К молодым евреям, плохо понимавшим по-русски, применяли метод застращивания и угроз. Большинство их нелегально перешли границу с польской стороны, спасаясь от гестапо. Таким говорили без церемонии:
«Ты немецкий шпион... твою мать!»
«Да я не был никогда, гражданин-товарищ, в Германии! Я их, немцев, не знаю совсем!»
«А где ж ты был? В Румынии был?»
«В Румынии был...». 'Вот и отлично: запишем как румынского шпиона!
Находились пареньки, которые сразу признавались во всех видах шпионажа и тут же спрашивали, не надо ли еще в чем признаться? Следователь махал рукой, видя такую готовность, и давал протокол для подписи. Тут некоторые упирались: читать не умеем, ничего не понимаем и подписывать не будем! Их ругали, били, таскали каждую ночь на допрос и сажали в карцер. Кончалось тем, что они подписывали.
Все были озадачены: зачем это нужно советской власти? Шпионов и агентов не могло быть именно в нашей среде. Такие люди, конечно, все имели советские паспорта или записались в советское подданство. При всем презрении к комедии следствия люди в камере не чувствовали вины перед советским государством и не понимали, зачем надо делать из них преступников.
Два этажа тюрьмы были заполнены арестованными беженцами. Женщины сидели отдельно. Все арестованные были одиночки. Что же сделали с семьями? В Пинске было много беженских семей с детьми, которые зарегистрировались на возвращение. Эти семьи получили приказ подготовиться к выселению в глубь России. Их не арестовывали, не допрашивали и не обвиняли ни в нарушении паспортных правил, ни в шпионаже, ни в нелегальном переходе границы. Среди них не искали правонарушителей. Мысль о том, что каждый из нас избегнул бы тюрьмы, если б имел жену и ребенка, очень нас ободряла и заставляла верить, что в дальнейшем, в русской ссылке, условия жизни семейных и несемейных сравняются.
Неделя шла за неделей, и ничего не изменялось в нашем положении. Когда актуальные и политические темы были исчерпаны, разговоры приняли другое направление. Люди были возбуждены жарой и ничегонеделанием. От тюремной камеры до казармы недалеко. Поток анекдотов пролился на нас. Остряки и рассказчики выступали вперед. В течение нескольких дней я выслушал больше похабных анекдотов, чем за всю свою жизнь. Каждая непристойность вызывала взрыв смеха. Как только смолкал один рассказчик с мохнатой грудью и в подвернутых кальсонах, немедленно начинал другой. Через пару дней этот массовый бред выдохся. Тогда наступила очередь «кабаре». Так называлась импровизированная программа увеселении, в которой принимал участие каждый, имевший какой-нибудь талант. У нас оказались юмористы, певцы, мимы, сказочники. Перед тем как улечься на ночь, камера часа два развлекалась таким образом.
Как только подымался шум, отворялась дверь, и на пороге появлялся дежурный надзиратель. В наказание за шум нам закрывали ставнями окна в камере. Воздуха и так не хватало. Через полчаса пребывания в герметически-закупоренном помещении наступала мертвая тишина и переговоры о капитуляции. Особенно упорных нарушителей дисциплины выводили на несколько часов. Но никакими средствами не удавалось надолго водворить тишину. Когда истощался репертуар кабаретистов, начиналось хоровое пение. Все мы без исключения, с голосом и без голоса, пели песни - еврейские, и польские, и советские про «тучи над городом» - и в этих упрямых песнях была наша свобода и строптивость перед лицом врага. Люди в коридоре были нашими врагами. Поведение власти могло быть еще «недоразумением», «ошибкой», но относительно людей в коридоре сомнений не было: это была порода цепных псов, дрессированных для охоты на людей, хорошо известный евреям тип «голема», тупого служителя насилия.
«Распелись! - кричал дежурный. - Вот я вас проучу сейчас! И чего им весело, я не понимаю! Им плакать надо, а они песни поют!»
С неменьшим рвением играли в известную игру, называемую не совсем прилично. Мы, шахматисты, люди интеллигентные и в очках, не принимали в ней участия, но были невольными зрителями. Игра заключалась в том, что одному из участников завязывали глаза и он подставлял тыльную часть тела. Окружающие его лупили, а он угадывал, кто ударил. Если угадывал верно, то ударивший ложился на его место. Эта малоутонченная игра доставляла участникам детское и полное удовольствие.
Здоровые парни, которые точно вышли из кузнечной мастерской или из-за прилавка мясника, стояли плотно сгрудившись. Оскаленные зубы, сверкающие белки глаз, ухмыляющиеся физиономии и разинутые до ушей рты - все выражало самую примитивную дикость. В эту минуту не было большой разницы между ними и казацко-татарскими лицами охранников НКВД, которые нас стерегли в тюрьме. Надо было видеть свирепое оживление и радость предвкушения, когда человек подкрадывается с занесенной рукой, тряся ладонью, прицеливаясь, а когда раздавался оглушительно-звонкий удар, точно петарда взорвалась в камере, - у зрителей вырывалось «ух», и какие-то электрические заряды рассыпались от них во все стороны, В зародыше здесь была потенция всякого мучительства и убийства. Эти лесные орангутанги, однако, принадлежали к старейшему и культурнейшему народу мира. Здесь демонстрировалась двусмысленность так называемой «энергии масс» - той энергии масс, из которой вырастают освободительные движения и революции наравне с программами СС и подвигами советской Госбезопасности.
В первые дни тюремного сидения разрешили нам написать заявления на имя начальника тюрьмы. Нам раздали клочки оберточной бумаги, карандаш на камеру, и мы сообщили начальнику тюрьмы о тех суммах, которые нам следовали по месту службы, о вещах, которые остались на наших квартирах и которые мы просили переслать нам. Я также через посредство начальства просил мою мать прислать мне необходимые вещи и сообщил ей, что в одной из книг, оставшихся в моей комнате, она найдет для себя деньги. Однако это письмо не было ей передано. Мы не получили права свидания со своими родными и близкими, которых нам уже не было суждено более увидеть.
Зато в половине июля начальство разрешило передачи. Уровень нашей жизни сразу поднялся. Мы получили одеяла, белье, костюмы, полотенца, мыло, даже пижамы, получили кружки, миски, еду - мы стали богаты, и те, кому нечего было ждать, имели свою долю в наших богатствах. В камере появилось масло, колбаса, яйца и огурцы. Все это мы не берегли и фазу съели. Мы не знали, что разрешение на передачи означало, что мы скоро уезжаем. Посылки были нам на дорогу. Приближался день отъезда.
Прежде чем отправить по назначению, тюремные власти сфотографировали всех арестованных и взяли у нас отпечатки пальцев. Материал этот пошел в Центральный Архив НКВД вместе с нашими «делами». Вероятно, он до сих пор еще сохраняется в Москве. Не помню, при какой оказии я видел свою фотографию. Это было кошмарное произведение не только с технической, но и с человеческой точки зрения, и я себя не узнал в нем: шесть недель советской тюрьмы вытравили все черты благообразия и интеллигентности - со снимка смотрела угрюмая, испитая, заросшая и преступная рожа профессионального убийцы с синими кругами у вытаращенных глаз (очки мне велели снять) и распухшими толстыми губами. Такому человеку нельзя было дать меньше пяти лет принудительного труда.
Глава 7. Кочующий гроб
На рассвете 28 июля 1940 года был дан сигнал по двум этажам пинской тюрьмы: «Выходить с вещами».
Сборы продолжались недолго. Нас вывели на тюремный двор. Велели сесть на землю под забором. Среди двора стоял стол, за ним заседала комиссия. По одному вызывали к стелу, отмечали, записывали. Каждый раздевался донага. Надзиратель тщательно пересматривал одежду, вытряхивал из мешка вещи, отбирал запрещенное: металлические кружки, миски, ножики. После обыска люди одевались и переходили на другую сторону. Когда прошла вся партия, нас повели к грузовику. Мы свернули в боковую улицу и поехали к вокзалу.
За городом в поле, вдали от любопытных глаз и шума, стоял товарный состав. Люди с винтовками с примкнутыми штыками оцепили поезд. Суета и давка - как на перроне. Конвойные торопили нас. Грузовик повернул обратно - за следующей партией бесплатных пассажиров. Солнце стояло высоко. Я и Давид пошли к ближайшему вагону. Вдруг мы услышали крики из соседнего вагона: «Сюда, сюда!» Высунувшись в дверь, махали нам братья Кунины, за ними маленький Бурко и другие сидельцы картофельного подвала. Мы поднялись по насыпи и влезли в вагон, который должен был стать нашим домом на ближайшие дни.
Эшелон состоял из десяти вагонов. В каждом помещалось человек семьдесят. Посреди вагона - пустое пространство. Слева и справа - сплошные нары в два этажа. С двух сторон по крошечному окошечку, забранному решеткой. Против входа по другой стороне была пробита дыра под стенкой, и в нее вставлено деревянное корыто из двух досок, выходившее наружу. Это было вместо «параши».
Мы залезли наверх. Я лег в углу, за мной - Давид, мой верный товарищ и друг. Следом - доктор Мовшович, худенький, небольшой брюнетик. Большинство в вагоне были люди новые, незнакомые.
В поезде было около семисот человек. В тот день «разгрузили» пинскую тюрьму - очистили место для других. Трудно подсчитать, сколько выслали до нас и после нас. Из нашей камеры вывезли не всех. Был один человек, которого подозревали, что он подсажен шпионить: его не было с нами теперь, начальство в последнюю минуту оставило его. Не было и наших «детей» - двух пятнадцатилетних мальчиков, - и старика, который, очевидно, не имел сил на дорогу. Мы увидели в этом проявление гуманности: детям место в школе, старику - в богадельне. Мы были очень довольны, что их оставили, но, приехав на место, нашли в советских лагерях и стариков, и детей.
Всех интересовало, едут ли с нами женщины. У многих были арестованы сестры и родственницы. В нашем эшелоне было немного женщин - их погрузили в отдельный вагон. Если принять во внимание, что семейные с детьми были отправлены отдельно, то общее число беженцев, высланных из Пинска и его окрестностей, можно оценить в полторы-две тысячи. По всей же Западной Украине и Белоруссии число беженцев, вывезенных в лагеря и ссылку летом сорокового года, было, вероятно, около полумиллиона. Если прибавить к беженцам местное население - поляков, белорусов, украинцев и евреев, вывезенных по политическим мотивам, - то эта цифра подымется до полутора-двух миллионов.
Люди, которые производили эту «операцию», не предполагали, что когда-нибудь придется держать ответ перед общественным мнением мира и что многие из вывозимых вернутся в Европу. Им казалось, что можно поступить с нами, как со своим собственным населением.
Заскрипела деревянная заслонка, и вход в вагон был задвинут. Нас заперли. Стало, темно. Свет падал через квадратные окошечки на верхние нары. На нижних было темно, как ночью. Туда дневной свет проникал только через щели в стенках вагона. Снаружи мы слышали беготню, перекличку, окрики часовых.
Вдруг отодвинули дверь вагона, и рука снизу подала ведро воды. «Берегите воду, - сказал грубый голос, - сегодня больше не дадим». В вагоне жужжали голоса, люди тихо переговаривались, выкладывали одеяла, ложились, кто-то вздыхал по-стариковски тоскливо. В противоположном конце вагона началась драка, соседи разнимали сцепившихся. И постепенно поезд замолк, точно вымерли все. Проходил час за часом. Люди заснули. Заснул и я. Мы не слышали, как тронулся поезд. Это было ночью. Вдруг от резкого толчка я проснулся. Вагон подбрасывало, стенки мерно дребезжали - поезд шел. Как долго мы уже были в пути - полчаса или много часов? - Куда нас везли, что нас ждало? - не было ответа.
Во мраке вздыхал человеческий груз. Давид спал, раскинув руки. Я повернулся на бок, натянул на голову одеяло.
Но спать не дали.
Поезд стал сразу. Дверь вагона отодвинулась. Блеснул фонарь, острие штыка, и двое охранников вскочили к спящим людям.
«Подымайся !»
Ночная проверка. Всех нас, полуодетых, перегнали в один угол вагона. Там мы сгрудились как стадо, заспанные, ежась от ночного холода. В раскрытой двери горели звезды на черном небе. Охранник нырнул под нижние нары, проверил, все ли сошли сверху, стал посреди и начал прогонять по одному людей перед собой. Его товарищ держал фонарь. Молодые безусые лица, полные напряжения. Не ошибиться. Тени метались по стене вагона.
«Один-два-три...» - считал, по-северному выговаривая «о», старательно отчеканивая слова, и каждого касался пальцем, для большей уверенности. Люди быстро сыпались мимо, как в песочных часах, через освещенную фонарем полосу и пропадали в тень.
«... семьдесят... семьдесят один... семьдесят два...». Пересчитал, прыгнул с вагона, и нас снова закрыли.
Ночь была тревожная. Как только поезд тронулся, началось неистовое громыхание по крышам. Нас сторожили сверху. Стражники топали по крышам вагонов, от паровоза к хвосту поезда и обратно, без перерыва. Прошло часа два. Мы снова спали. «Подымайся!»
Вторая проверка! И уже считают. Соседи растолкали меня. На этот раз я крепко заснул. «Живей давай!» И снова раскрыта дверь в ночь, и в свете фонаря мечутся люди, пока я торопливо обуваюсь. Босыми ногами по полу нельзя - он весь заплеван и загажен. «Живей давай!» Арестанты ворчат. «Днем отоспитесь!»
На рассвете считали нас в третий раз. Это была трудная, бестолковая ночь.
«Дело плохо, - сказал Давид. - Раз так берегут - значит, везут в дурное место. Боятся, чтобы не сбежали. А куда бежать отсюда? Ведь это гроб на колесах».
Утром второго дня начала у нас организовываться жизнь в гробу. Мы выбрали старосту, который отвечал за порядок в вагоне и раздачу хлеба. Начали осматриваться и знакомиться. В вагоне на 70 человек было двое-трое поляков. Против меня лежал сельский учитель Карп. Это был человек коротенький, с острой бороденкой и видом затравленной мыши. В глазах его было выражение ужаса и непонимания, и он производил впечатление ненормального. Весь этот вагон с евреями казался ему, вероятно, чудовищным сном. Он лежал не подымаясь целыми днями, жадно съедал, что ему давали, и на каждый окрик озирался, дрожа всем телом.
С другой стороны вагона расположилась группа молодежи, которая себя называла «Театр Молодых». Это были молодые еврейские артисты варшавского «Тeatru Mlodych» , ученики студии Вайхерта, которые тоже попали в общую кашу. Вожаком у них был Воловчик, человек, сменивший портняжную иглу на подмостки театра. В Варшаве их театр был авангардным, ставил советских авторов и Бергельсона. Советская власть предложила им играть... по-белорусски, а когда они отказались, арестовала их... за нарушение паспортных правил. На станциях, где останавливался наш поезд, среди населения расходилась весть, что «везут евреев», и толпа собиралась у вагонов, но часовые никого не подпускали близко. В Барановичах были попытки передать нам еду, но конвой не допустил до нас передач. Нас отвели в сторону, и мы стали против пассажирского поезда. Через окошечко было видно, что делается в его купе. И вдруг Воловчик побледнел и замахал в окно руками:
Прямо против нас за окном пассажирского поезда стоял человек, смотрел на нас, не отводя глаз, и плакал. Он ничего не говорил. Слезы неудержимо катились по его щекам. Артисты «Театра Молодых» кивали ему и смеялись, а он плакал, глядя на них, как будто навеки с ними прощался. Это был Камень - один из лучших еврейских артистов довоенной Польши, столп «Виленской Труппы», которого мне не раз довелось видеть на сцене. Таким образом, Воловчик и его товарищи попрощались с ним из окна в окно на станции Барановичи по дороге в Россию.
В самом начале дороги произвели в вагоне тщательный обыск, перевернули и перещупали все и отобрали не только посуду, которая была запрещена, но и книги. Кто-то пронес в вагон польские и русские книжки, и мы на них очень рассчитывали. Отобранные книги без церемонии выбросили в грязь под колеса вагона. У д-ра Мовшовича отобрали два термометра. Не помогли протесты. Термометры тут же на месте разбили. Можно было подумать, что в местах, куда нас везут, термометров сколько угодно.
Кочующий гроб шел на восток, в Евразию, в глубь чужого континента.
Мы не знали, что нас ждет. Наши европейские понятия были, очевидно, неприменимы к этим людям - к тому, что они называли судом, культурой, порядком и справедливостью. Во всем, что нас окружало, была двусмысленность, двуликость, недоговоренность. Куда нас везли? Не было ответа. Кто были настоящие преступники? Мы или те, кто нас вез? И что нас ждало? Ссылка, поселение, колхозное житье? Условия переезда были нечеловеческие. Но и здесь соблюдалась форма, все честь-честью: каждое утро в загаженный, смердящий вагон, где люди испражнялись и ели рядом одновременно, входила женщина-врач в безупречно белом халате, спрашивала, нет ли жалоб, и, по ее указанию, товарищ наш, завшивленный, как и все, доктор-арестант, которому не суждено было выжить в стране зэ-ка, раздавал лекарства и бинтовал раны.
Так выглядела эта «социальная опека», которая сотрудничала с социальным злом, вместо того чтобы с ним бороться, украшала его - и выражала ту же двусмысленность варварского содержания в псевдогуманной оболочке.
Раз в день раздавали нам хлеб. Не было горячей пищи, но на пятый день нам раздали глиняные миски и деревянные ложки. Под вечер пятого дня мы хлебали первый «советский» суп. Острый голод мучил нас. Но мысли наши были заняты чем-то другим.
За Столбцами мы переехали бывшую польскую границу. Сразу исчезли чистенькие белые здания польских вокзалов, крытые красной черепицей, с круглым циферблатом часов под центральным выходом на перрон. Потянулись деревянные старые постройки царского времени - угрюмые и неряшливые. Разбитые стекла окон часто были заткнуты тряпицей или фанерой. Деревни, которые мы видели через наше крошечное окошечко, были «колхозы». Но как убого выглядели эти деревни с их потемневшими избушками и соломенными крышами!
Мы прибыли в Минск. Не полагалось арестантским эшелонам стоять на виду в столице советской Белоруссии. Нас отвели за город. Было хмурое утро, без солнца. За окошечком мы видели немощеную улицу предместья с деревянными домиками и торопливых прохожих. Шли бабы в платках и дети, не подымая глаз, не глядя в нашу сторону.
Иначе выглядели наши остановки на польской стороне! Где бы ни останавливался наш поезд - всюду немедленно собиралась толпа, и часовые должны были отгонять любопытных. Дети, как очарованные, смотрели на поезд с человеческим грузом, на товарные вагоны, набитые арестантами, на штыки конвойных, показывали пальцами на лица, смотревшие через решетку. Их матери пробовали подать нам хлеб. Мы видели слезу и выражение испуга на лицах еврейских женщин, чувствовали атмосферу сострадания или просто интереса.
По ту сторону советской границы мы перестали быть сенсацией. Нам стало ясно, что для советских граждан поезд вроде нашего - самое обыкновенное зрелище, часть их быта - ничего особенного. Сколько таких поездов они уже видели! Арестантов везут - обычное дело. Взрослые проходили отвернувшись - подальше от греха. И дети - десятилетние мальчики и девочки - шли мимо, щебеча и смеясь, и весь этот поезд был для них ни интересен, ни жуток и просто ничем не замечателен. На что тут смотреть? При виде этого глубокого и естественного равнодушия я вспомнил свое собственное детство: тогда мы, играя на откосах полотна, тоже пропускали не глядя платформы, груженные лесом, намозолившие глаза, обыденные, сто раз виденные. Другое дело, когда шел нарядный экспресс из столицы: разноцветные вагоны, разодетые пассажиры!.. Арестантский вагон в советской России - эка невидаль! Никто и не оглядывался на нас.
Арестанты серьезными глазами провожали школьников, вспоминали о собственных детях.
И я поблагодарил судьбу, что мой сын не живет в стране, где поезда с арестантами являются обычным явлением.
От Минска мы повернули к северу. Десять дней и ночей мы лежали в темноте, и ритм движения убаюкивал нас. Уши наши привыкли к монотонному грохотанию поезда, тело - к толчкам и дрожи стенок вагона.
Ночью и днем нас считали. Новые охранники входили в вагон, новые станции плыли мимо нас, и, наконец, стало холодно в вагоне. Мы начали мерзнуть по ночам, хотя было только начало августа.
Время для нас двигалось в замкнутом кругу. Казалось, мы никогда не приедем.
Все это время у меня было странное чувство. В темноте кочующего гроба, в изоляции от внешнего мира я потерял ощущение движения вдоль поверхности земли, и мне стало казаться, что мы движемся вниз - все время вниз, под землю, из мира живых.
С каждым днем мы опускались все глубже и глубже, и мрак рос и сгущался вокруг нас, как будто мы опускались в бездонный колодец.
С каждым километром мы были все дальше от поверхности земли, над которой светит солнце, и люди улыбаются друг другу, и грудь дышит вольно и без страха.
Мы опускались безостановочно, и демоническая, невидимая сила вела нас в самое сердце ночи, в подземное царство, откуда нет возврата. С каждым днем мы были все дальше и дальше от своего прошлого. Это не был обыкновенный рейс. Это была дорога на тот свет. И мы знали, когда она кончится и мы выйдем из гроба, - все вокруг нас будет другое, и мы сами будем другие.
Наш поезд не двигался в обыкновенном человеческом измерении. Мы выехали из родных мест. Европейское лето осталось за нами. Мы выехали из человеческой памяти, из истории. Сама продолжительность этого путешествия действовала на нас гипнотически. Все мы присмирели.
Мы опускались безостановочно.
Иногда, просыпаясь, мы слышали дикие, хриплые голоса снаружи. В окошке горела тусклая кровавая заря, и мы не знали - закат ли это или рассвет.
Иногда доходил до нас далекий гром и шум, железный лязг - на рельсах горели огни семафоров, - мы знали, что это большая станция, но какая - нам не говорили. Может быть, Новгород? Может быть, Ленинград?
И снова резко содрогался вагон, и кочующий гроб уходил в безмерное пустое пространство.
Когда вечерело и последние косые лучи солнца падали в вагон, мы выдергивали доски из нар и устраивали при окошке скамейку. На эту скамейку садились тесно на верхних нарах, как куры на насест, прижимаясь друг к другу. И пели под грохот поезда, пели долго, заунывно, русские песни с польским акцентом - протяжные песни, от которых становилось на сердце тоскливо и прохладно...
Далека ты - путь-дорога.
Выйди, милая моя!
- Мы простимся с тобой у порога,
И быть может - навсегда...
И когда темнело совсем, простертые во мраке - лицом к лицу - рассказывали друг другу свою прошлую жизнь, хотя не было теперь большого смысла в разнице нашего опыта и наших воспоминаний.
«Работать! - говорил мой сосед, наборщик из Варшавы, с худым и нервным лицом. - Я никакой работы не боюсь. Пусть только дадут возможность, а мы покажем, что лучше их справимся с работой. В Пинске я был маляром. Никогда я раньше не был маляром, но это совсем нетрудно. Если есть голова на плечах, можно каждую работу понять. Ну, что они могут сделать с нами дурного? Будем вместе жить и вместе работать - только всего!»
«Что это за страна? Что за странные люди? Что им нужно от нас? В Польше мы себе иначе их представляли. Почему нас бросили в тюрьму? Почему не дают нам вернуться к семье, домой - в Палестину?»
И я рассказывал соседу, что знал об этой таинственной стране.
«Страна, в которую мы едем, не лежит ни в Европе, ни в Азии. Ошибка - считать русских за европейцев.
Ты их видел в Пинске и знаешь теперь, что это не европейский народ.
Но это и не азиаты.
Это - Евразия, народ середины».
Уже тысячу лет живут евразийцы на рубеже Востока и Запада, между Азией и Европой.
Культура Европы вылилась в одну великую идею: это идея Человека, идея индивидуальной свободы и достоинства.
Мы, евреи, первые научили мир, что человек создан по образу и подобию Бога. Греки и римляне прославили Человека, и идея Свободы росла в Европе вплоть до эпохи просвещения и Великой французской революции, которая провозгласила права Человека и Гражданина.
Но этот европейский идеал свободного человека имел обратную сторону медали: вечное беспокойство и неудовлетворенность, тревогу и жадность, которая гнала европейцев во все стороны мира, на открытия, на эксперименты и завоевания.
Азиатская культура тысячелетиями создавалась в Индии и Китае. Была в этой культуре мудрость и покой, которого не знали европейцы, и чувство единения с природой, вечным источником сил.
Но это была массовая культура, и оборотную сторону ее составляла стадность и всеподавляющая деспотия Тамерланов и Чингис-ханов.
Евразийцы ушли из Азии и не дошли до Европы. Они могли бы взять у европейцев и азиатов то великое и положительное, что было в их культурах: идею гражданской свободы и достоинства человека с одной стороны - идею вселенской жизни, полной мудрого покоя и самодовления - с другой стороны.
Если бы они их соединили - они стали бы величайшим народом мира!
Но вышло наоборот: они взяли из каждой культуры ее минус, ее слабость. И они соединили европейскую тревогу, раздвоенность и мучительные искания с азиатским деспотизмом и подавлением личности.
Этот народ не имеет ни скромной мудрости индусов и китайцев, ни уважения к человеку и личной гордости французов и англо-американцев. Вечно он недоволен и страдает, и вечно страдают его окружающие.
Евразийцы - опасные соседи, потому что они никогда не удовлетворяются своими границами, и вечно ведут они спор. То идут они войной на «гнилой Запад», то надо им «догнать и перегнать Америку».
Но не хватает им европейского чувства меры и такта. Все, что они берут из Европы, под их руками теряет свой европейский смысл.
Этот народ опаздывает вечно: неизменно берет он из Европы обноски, которые сама Европа уже забраковала. В 10 веке он взял из Европы христианство в византийском варианте, который сама Европа уже отвергла. Во время царя Петра взял внешние формы цивилизации, технику, немецкий глупый дрилль. Теперь они взяли из Европы марксизм. Что они из него сделали - ты скоро увидишь своими глазами.
Европа больна нацизмом и фашизмом - это ее внутреннее заболевание, перверсия Европы. Тогда идущее из Евразии - есть внешняя опасность, угроза извне.
Гестапо есть рак и сифилис Европы. Если он не будет устранен - Европа сгниет заживо.
«Мустапо» - есть варварское недоразумение. Этот поезд, набитый человеческим грузом, этот фарс, который с нами разыграли в НКВД - это форма, в которой народ, оторвавшийся от азиатского корня, бросает вызов Европе.
Мы - европейцы. Этот еврейский поезд - тоже частичка Европы. Те из нас, кто выживет, вернутся в Палестину, - единственное место, где еврейский народ может продолжать свою европейскую историю.
И если Европа выживет в этой войне и справится с гитлеризмом, который ей угрожает изнутри - то у нее хватит также сил, чтобы остановить Евразию - и, быть может, приблизить ее к своему гуманистическому идеалу. Но это будет нелегкая и сложная задача.
Ибо евразийцы - не чистая страница, на которой История только начинает писать. Этому народу - тысяча лет, и он не может переродиться в течение одного-двух поколений.
Часть II
Глава 8. «БЕБЕКА»
На десятые сутки по выезде из Пинска поезд с человеческим грузом прибыл на станцию Медвежегорск Мурманской железной дороги. Тут велели нам выходить. С мешками и узлами посыпалась из вагонов толпа, разминая ноги, мигая отвыкшими от света глазами.
На станции, стоя немного в стороне, встречал нас большой толстый человек в длинной гимнастерке, с величественной «командирской» осанкой. Мы очень удивились, услышав, что он говорит на ломаном еврейском языке.
- Я сам из Варшавы, - смеялся он, - и, видите, еще кое-что помню. - Люди обступили его со всех сторон.
- Не подходить! Близко не подходить! - он брезгливо отстранился и вынул блестящий портсигар, к которому немедленно приковались глаза грязных, измученных дорогой людей. - Чем занимался? - Чем занимался? - показывал пальцем то на одного, то на другого, и на все ответы только кивал головой и приговаривал:
- На лесоповал! На лесоповал!
Какой-то сморщенный старичок сказал ему, что торговал в Польше всякими пряностями, перцем, уксусом. - Перец! Уксус! - захохотал человек с портсигаром. - Здесь тебе, дедушка, и без перца горько будет! - Он смеялся, но глаза его смотрели без улыбки и пристально - глаза приемщика товара или таксатора в ломбарде.
Это был Левинсон - майор Госбезопасности, человек, стоявший во главе «лагерей ББК», то есть лагерей в зоне Балтийско-Беломорского Канала, с центром в Медвежегорске. Мы находились в Карело-Финской Республике, на северной оконечности Онеги, озера поверхностью в 10.000 кв. километров. Отсюда до Белого Моря располагались ИТЛ - исправительно-трудовые лагеря НКВД - сотни лагерей, подчиненных Левинсону. Этот человек имел под своей властью около полумиллиона государственных рабов. Но мы этого не знали. Мы настолько не имели понятия о том, что нас ждет, что задавали наивные вопросы доброму дяде на станции Медвежегорск:
- А что, пустят нас теперь в город вольно?
- Нет, - улыбнулся Левинсон, - как же можно пустить вас вольно? Ведь вы заключенные.
И тут мы узнали впервые, что мы «заключенные», но еще не понимали, что это значит.
Нас построили в колонну. Давид, бывший солдат польской армии и человек бывалый, показал мне, как надо завязать мешок: вложил камешек в нижний угол, над камешком связал веревку узлом, чтоб не спадала, другим концом стянул сверху мешок, и я взвалил его на плечи. Мы тронулись по четыре в ряд.
Город Медвежегорск был весь деревянный, бревенчатый, как большинство городов на севере России. Дома его напоминали то окраину Пинска, то дачные постройки в Польше, с балкончиками, крылечками, ставнями, малыми окошечками. Мостовых не было. Мы брели, подымая клубы пыли. Пусто было на улицах. Ни магазинов, ни вывесок. В одном месте под запертой дверью с надписью «ларек» стояла очередь из старух и босых мальчишек, в терпеливом ожидании.
Шли мы долго. Вдруг, прямо из песков и бугров, вырос каменный дворец в три этажа с колоннадой.
- Что? - спросил нас конвойный, - в Польше тоже такие дома? - Мы с чистой совестью могли ответить, что в Польше нет таких домов. Это было главное управление лагерей ББК НКВД - образец советской культуры.
Весь этот город, с его двумя или тремя десятками тысяч жителей, был построен заключенными. Жители его либо принадлежали к персоналу управления лагерей ББК, либо состояли из бывших заключенных, которые по отбытии срока были оставлены здесь на поселение.
Все эти люди, которых мы видели, проходя по улицам - не были вольными людьми! Мы с удивлением повторяли эту весть, которая для нас звучала фантастически. Но это была правда. Все люди здесь либо отбывали наказание, либо отбыли наказание, либо принадлежали к аппарату наказания. Конечно, и те, кто управлял заключенными из каменных дворцов в центре Медвежегорска - не были вольные люди. Это были - тюремщики.
А где же здесь было наше место? Мы прошли пять километров, и город остался за нами. Мы едва двигались с нашими узлами и мешками. Конвойные гнали нас с винтовками наперевес, толкая отстающих, понукая нас грубой бранью. Наконец, мы дошли до ворот и сели на землю. Через некоторое время вышли люди со списками и стали по одному вызывать. Проходили часы. Через узкую дверь сбоку ворот нас пропускали на широкий двор, окруженный бараками. Вокруг двора шел высокий забор, с колючей проволокой сверху. В старые времена это называлось «острог». Теперь это был «лагпункт».
Точнее, мы находились в пересыльном распределительном лагере, откуда все прибывающие партии заключенных рассылались по отделениям ББК. В самом Медвежегорске находился лагерь на 3000 человек, лагерь особо-привилегированный, куда попасть считалось счастьем, так как люди жили здесь «в центре», где и снабжали лучше и были возможности городской работы. Наш «двор для проезжающих» был расположен отдельно. Никого, кроме нас, там не было, бараки были отданы в наше исключительное пользование. Бараки - были сараи, без окон, и явно не приспособлены для постоянного жилья.
Мы провели три дня в этом месте. Здесь мы отдыхали с дороги. После голодного этапного питания суп и каша, которые нам выдавались, казались необыкновенно вкусными. На открытом воздухе стоял стол с медикаментами, туда можно было подходить с жалобами. Здесь мы впервые познакомились с основным лагерным словом: «Санчасть».
На второй день привезли со станции наши вещи, которые следовали тем же эшелоном. Их сбросили в одну кучу под забором. Многие чемоданы поломались, узлы распались, и когда мы явились разыскивать в общей куче свои вещи, то для некоторых уже было поздно - все их пожитки были растасканы. Мой чемодан валялся открытый, но большая часть его содержания уцелела. Там было одних верхних рубашек с дюжину. Я сохранил столько носильных вещей, что на долгое время мог считать себя обеспеченным. Во всем Медвежегорске не было в тот вечер столько сокровищ и вещей европейского обихода, сколько их валялось под забором пересыльного пункта ББК.
Это были хорошие дни. Нас сводили в баню, и я могу удостоверить, что за все последующие пять лет я не был в такой замечательной и чистой бане. Здесь не было европейских душей, а были российские шайки, лавки под окнами, много горячей воды. Два дня мы лежали на солнце, на травке, - сотни людей - сидели на завалинках под бараками и под августовским северным солнцем читали «последние известия», то есть давили вшей на рубахах.
Шатаясь по двору, мы сделали открытие. В одном месте за забором лежали люди. Несмотря на то, что подходить к этому забору было запрещено, мы все же успели под ним побывать. Через щели между досок мы увидели полянку, которая вся была покрыта лежащими. Это было незабываемое мгновение. Мы в первый раз увидели русских заключенных. Это была серая масса людей в лохмотьях, лежавших без движения, с бескровными бледными лицами, остриженных, с воровским и сумрачным взглядом. Некоторые из них поднялись и, крадучись, подошли к забору.
- Кто такие?
- Поляки.
- Слышь, поляки! - они стали расталкивать друг друга. Через забор глядели на нас тусклые, тяжелые, холодные глаза. Мы спросили:
- Не знаете, куда нас отправят?
- Что, не знаешь? - засмеялись с другой стороны. - В лес поедешь. - И человек стал нам показывать мимикой нашу судьбу.
Мы не поняли сначала, что значат его движения. Он согнул руку и стал равномерно двигать ею вперед и назад. Это было движение пиления. Человек пилил и беззвучно смеялся, глядя на наши удивленные лица.
- Нет ли хлеба на продажу? - стали подходить другие. Тут же кто-то сторговал рубашку. - Дай примерить! - и не успел неопытный продавец-новичок опомниться, как у него вытащили рубашку через щель в заборе. Она немедленно исчезла. За забором засмеялись. - Вот как поляк рубашку продал! - Тут подошел стрелок и отогнал нас от забора.
Под вечер третьего дня нас собрали и под конвоем вывели из этого прекрасного места.
Снова мы пылили по дороге, на этот раз обратно в город. Свернули в боковую улицу и вышли на медвежегорскую пристань.
На пристани пахло смолой и пиленым лесом, у берега стояли баржи. Огромная баржа была приготовлена для нас. Наше место было в трюме. Там поместилось 650 пинчан. Кроме того, с нами поехала партия женщин - около 30 полек, несколько десятков конвойных и служащих ББК, и стрелки с собаками. Огромные черные псы, дрессированные для охраны и охоты на людей, помещались в передней части баржи на помосте. Внизу, в проходе, люди сбились в одну сплошную массу и так тесно лежали на полу, что трудно было пройти среди них. Кухни на барже не было. Нам выдали хлеб, по селедке на брата и по коробке консервированного гороха на четверых. Предупредили, что ехать недолго. Но мы были в пути около 11/2 суток.
Маленький пароходик тащил нашу баржу на буксире. Мы отплыли из Медвежегорска во второй половине дня. Это было мое первое путешествие по Онеге. Я нисколько не сомневался, что будет и второе, - и я проделаю то же путешествие в обратном направлении. Не было времени задумываться и горевать: то, что происходило с нами, было так необычно, что текущие впечатления захватывали все внимание. Мы вышли на широкий водный простор. Огромное, как море, озеро сияло темной лазурью, блестело серебром. Мы плыли сперва в виду лесистых берегов, потом вышли на средину, и берега отступили и потерялись... Иногда показывались на горизонте островки и проплывали вдалеке паруса и пароходики.
Но все это мы видели только урывками и украдкой. Арестантская баржа не приспособлена для наслаждения красотами природы. Из трюма, где мы находились, ничего не было видно, кроме узенькой полоски неба при выходе; чтобы увидеть, что делается за бортами, надо было подняться на помост. Но там задерживаться не полагалось, и оттуда нас гнали собаками. Ночью мы мерзли и, так как дорога затянулась, то и поголодали бы, если бы не обстоятельство, которое придало нашим мыслям другое направление.
Комбинация недопеченного черного хлеба и онежской воды, которую мы черпали для питья ведрами, имела печальные последствия. Начался острый и массовый понос на барже, где не было уборных. Уже в пути сколотили на помосте подобие будочки из досок, выдававшейся над бортом. Одно место - на 700 человек. С утра началась на онежской барже великая трагикомедия. Полицейские псы и вооруженные люди охраняли дорогу на помост. Нам открылось, что в ряду европейских демократических свобод, которых мы не ценили, не последнее место занимает свобода и легкость отправления физиологических потребностей. На лестнице, ведшей наверх, сгрудилась толпа, люди выли, стонали, умоляли пропустить, и, наконец, десятки людей не выдерживали. Баржа превратилась в корабль несчастья. Все возможные и невозможные углы в ней были загажены. При выходе на помост стоял часовой и каждые 3 минуты подавал зычным голосом команду, которую невозможно здесь привести во всей ее живописности. С другой же стороны стояла очередь женщин, на глазах которых происходили неописуемые сцены.
Бедные женщины! На барже их поместили отдельно, но церемонились с ними так же мало, как и с нами. Это были варшавянки, девушки, которые даже в этих условиях сохраняли еще след какой-то миловидности, держались храбро, выглядели прилично. Одна из них нашла своего брата в нашей толпе. Подойти к нему она не могла, но издалека махала рукой, улыбалась. Все ее лицо светилось счастьем встречи. И не одному из нас стало грустно, что некому было нам так улыбаться - и подарить нам крупицу тепла в чужой стране, среди врагов и тюремщиков.
В углу баржи пели. Вероятно, впервые звучали над Онегой такие песни, потому что вдруг встрепенулся советский лейтенант - «гражданин начальник» - точно его обожгло - и подошел, стал слушать. Молодой еврей замолчал.
- Пой! - сказал ему лейтенант.
- Не буду петь! - и повернулся плечом, словно вспомнил: «На реках вавилонских».
- Пой! - сказал лейтенант: - ты - еврей, и я - еврей. Вот уже 20 лет я не слышал этих песен. Детство мое отозвалось во мне, тянет за сердце, не могу слушать спокойно. Пойдем наверх, я дам тебе пить, сколько хочешь, только пой!
И за цену чистой воды молодой парень спел ему песню, песню которую на варшавских дворах распевали бродячие еврейские музыканты:
Zu dir - libe - fuhl ich! Majn Harz is ful mit Frajd! Nor doch stendik fuhl ich - As mir wel'n sajn zuschajt.
Ich halt sich in ajn Shreken - Majn Harz is ful mit Pajn - Wenn ich wel sich ojfweken Un du west mer nit sajn! -
Над гладью Онеги плыла печальная мелодия и хватала за сердце.
Draj klejne Werter - gedejnk' sej git - Ich bet ba dir - fargess mich nit!..
Лейтенант помрачнел и ушел на другой конец баржи. Больше он к нам не подходил.
Баржа причалила к бухте, где с двух сторон тянулись склады бревен и досок. Началась разгрузка. Мы вышли на песчаный плоский берег. Прямо перед нами были рельсы узкоколейки. Сразу за рельсами начинался мокрый лесок, болотная топь. Ландшафт был невеселый: болото, лес и штабеля бревен. Медленно, лязгая буферами, подошли открытые товарные платформы. Мы расположились на них со своими узлами. Женщин было с нами немного и их посадили отдельно. «Лагпункт», где это происходило, назывался Остричь (на северном побережьи Онежского озера). Мы тронулись.
Поезд шел медленно через лес. Мимо нас, освещенные августовским солнцем, проплывали березы, сосны, ели - сменялись перелески, поляны, болота и мокрые равнины. В унылости этого пейзажа было что-то похожее на белорусскую природу. Только все это было безлюднее - и на всем лежала тень какой-то пустынной и мрачной угрюмости. Глухая, заброшенная сторона. На поворотах наш маленький паровозик оглушительно свистел, и на деревянных щитах у полотна мы читали непонятную для нас надпись: «Закрой поддувало». Свежий и чистый воздух входил в наши легкие, и после недавнего пребывания в трюме дорога через лесные дебри была для нас отдохновением... Показались в лесу блокгаузы - постройки, сколоченные из больших бревен... Мы чувствовали, что это не обыкновенный лес и не обыкновенный край. Хотя мы уже много отъехали - не было ни станций, ни названий, ни следов мирного жилья. На одной остановке мы увидели старого узбека с белой бородой и монгольским высохшим лицом. Откуда взялся узбек в карело-финском лесу? - Дедушка! - начали ему кричать с нашей платформы: - как этот город называется? - Узбек повернул лицо, смотрел потухшими глазами. - Какой тебе город? - сказал он в горестном изумлении: - Ты разве город приехал? Ты лагерь приехал!
Тут я вспомнил начало Дантова «Ада»:
- В средине нашей жизненной дороги Объятый сном, я в темный лес вступил...
Да, это был удивительный лес: кого здесь только не было? - узбеки, поляки, китайцы, украинцы и грузины, татары и немцы. В одном месте мы проехали полянку, на ней стояла группа человек в сорок. Это были обитатели леса.
Они смотрели с любопытством на поезд, везущий «новичков», а мы с неменьшим любопытством глядели на них. Обе стороны имели чему дивиться.
Мы были «иностранцы», которых сразу можно было узнать по желтым и зеленым чемоданам, по пиджакам и пальто, по верхним рубашкам всех цветов, по европейской обуви и по разнообразию костюмов. Как мы были богаты, как мы были пестры и неодинаковы - это мы поняли только, когда увидели обитателей леса.
Люди серо-мышиного цвета. Все было на них мышино-серое: какие-то кацавейки, долгополые лохмотья, на ногах бесформенные опорки на босу ногу, на головах серо-мышиные ушанки с концами, которые разлетались и придавали лицу дикое выражение. И лица также были серо-мышиные - замлистого оттенка - и все они точно были засыпаны пылью. Все, что носили, сидело на них по-шутовскому - либо слишком широко и длинно, либо узко и коротко. Все они держались вместе, а в стороне торчал человек с ружьем, который был одет по-военному и явно принадлежал к «другой расе».
Наконец, мы прибыли к назначенному для нас месту.
Налево был высокий хвойный лес. Направо - громоздились штабеля бревен и дров, а за ним был издалека виден высокий лагерный частокол и ворота. Туда вела широкая дорога, настланная бревнами. Мы шли по ней, спотыкаясь и стараясь не попасть ногой между бревен. С обеих сторон деревянного настила было черное болото. Мы подошли к воротам и прочли на них надпись сверху:
«БЕСПОЩАДНАЯ БОРЬБА БРАКОДЕЛАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ!»
А ниже был изображен на доске ржавыми выцветшими буквами лозунг:
«ДЕРЖИТЕ РАВНЕНИЕ ПО САВЧЕНКО И ДЕМЧЕНКО».
Нас ожидали. Высокий хромой человек распоряжался встречей. Это был начальник лагеря. За ним стояли вооруженные: это был ВОХР, т. е. стрелки корпуса «военнизированной охраны» лагерей. Командир взвода ВОХР'а и начальник лагпункта - были распорядителями нашей судьбы. Тут же были люди из отделения - начальники Финчасти и Санчасти - инспектор КВЧ (культурно-воспитательная часть), люди, в именах и функциях которых мы не разбирались. Хромой начальник лагпункта очень волновался. - «Позвать зав. УРБ!» (учетно-распределительное бюро). Явился зав. УРБ, одетый в серо-мышиный костюм, как полагается заключенному, и в хорошие сапоги, что уже свидетельствовало о высоком положении в лагере. Начальник лагпункта тут же обругал его звучно и семиэтажно, за опоздание. Зав. УРБ вытащил списки и начал вызывать по одному. Мы проходили в помещение вахты, где стрелки ВОХР'а проверяли наши вещи и пропускали на территорию лагеря. Потом развели нас на ночлег.
Мы шли по улице. Стемнело. С обеих сторон чернели лагерные избы. Тонкий писк приветствовал нас. - «Смотрите, смотрите!» - Это бежали нам под ноги, шмыгали по всем направлениям огромные лагерные крысы. Крыс такой величины и смелости мы еще никогда не видели. Недаром не было в лагере кошек: крысы бы их съели. В бараке пахло затхлостью и сыростью. Мы вошли по истлевшим ступеням в темные большие сени. Дверь висела на одной петле. Из сеней четыре двери вели в четыре помещения, каждое человек на 30-40, с двухярусными нарами. Ничего, кроме голых досок. В окнах половина стекол была выбита. Не было освещения.
На дворе уже выстраивалась очередь под окном кухни, и наш вожак (мы все еще держались группами, как рассадили нас по вагонам в Пинске) побежал узнавать насчет кормежки. Хлеб выдали нам с утра, теперь полагались суп и каша. Выдача замедлялась, так как нехватало мисок на 650 человек. Мы поели уже в темноте и легли не раздеваясь.
Мы еще не верили, что это конец нашей дороги. Бараки выглядели, как место привала, а не человеческое жилье.
Ночью разбудил нас отчаянный вопль. Мы повскакали с мест: кричали за стеной, в соседнем помещении. Прибежав туда, мы застали дежурного с фонарем и вокруг него толпу в панике. Что случилось?
Это был «крысиный бунт».
Новоприбывшие не знали, что на ночь нельзя оставлять хлеба на виду или даже в сумке. Ночью обрушились на них крысы, вылезли из всех щелей, гонимые свирепым голодом, почуяв человеческое тепло, хлеб, крошки, остатки, запах еды... Крысы не испугались людей, кинулись на нары - и тогда люди испугались крыс. Кто-то проснулся и увидел огромную крысу на своей груди. Он дико крикнул, как маленький: «Мама!» - и это привело к повальной истерии. Нервы не выдержали. Напряжение последних недель, испуг, который месяцами нарастал в этой зеленой молодежи, в тюрьме и на этапе, - разрешились нечеловеческим, сумасшедшим криком, плачем. Сотни людей бесновались и кричали: «Щуры! щуры! - заберите нас отсюда! Мы не хотим здесь оставаться!» - Стрелки ВОХРа сбежались со всего лагеря. Когда дежурный узнал, что поляки испугались крыс, он просто остолбенел от изумления. Он не мог этого понять. Стрелки хохотали. Дежурный успокаивал нас как детей.
- Вы привыкнете! - сказал он. - Ведь это не опасно. Разве у вас в Польше не было крыс?
И он был прав. Мы привыкли. Через 3 месяца я так привык к крысам, что они могли танцовать у меня на голове. Я только поворачивался во сне на другой бок и сгонял их рукой с тела или с лица.
Глава 9. «Сорок восьмой квадрат»
Лагерь, о котором будет рассказано в этой главе, не так страшен, как те, где немцы уничтожили миллионы людей. Это - один из тех бесчисленных советских ИТЛ - исправительно-трудовых лагерей, которые после войны, как до войны, продолжают функционировать в Сов. Союзе. В тот момент, когда вы читаете эти строки, в лагере «48-ой квадрат» идет нормальная лагерная жизнь. Я не буду рассказывать об ужасах или исключительных событиях. Моя тема: обыкновенный советский концлагерь.
Люди, проживающие в лагере, называются «заключенными». Техническое и разговорное сокращение: «з/к» - читай - зэ-ка. В лагере, о котором идет речь, находилось в половине августа 40 года 650 «зэ-ка» из города Пинска. Через несколько дней в тот же лагерь прибыла партия в 350 з/к из города Злоче-ва из окрестностей Львова. Общее число з/к дошло до 1000. Все это были польские евреи. Поляков было среди них несколько десятков. Затем на разные должности в лагерь было переведено около 50 русских з/к. Личный состав лагеря: 1050 з/к. Это - лагерь средней величины: бывают меньше - и много больше.
Около 40 стрелков ВОХРа несло охрану в лагере и вокруг него. Несколько десятков вольных (начальник лагпункта, комендант и другие служащие с семьями) жили в домиках за чертой лагеря. Таким образом при 1050 арестантах находилось более 100 вольных, которые обслуживали лагерь, но не имели права жить и находиться в нем после часов службы.
«48-ой квадрат» лежит в лесу, на север от Онежского озера и относится ко 2-му Онежскому Отделению ББК. Это - «лагпункт» (л/п). Несколько «лагпунктов» образуют «отделение». Несколько отделений складываются в целое, которое называется «Лагерь Бебека». В свою очередь «Лагерь ББК» - только один из большого числа лагерных комплексов, покрывающих Советский Союз. Такие лагерные комплексы или, в официальном сокращении Лаги имеются в любой области Сов. Союза, хотя административное деление на области, которому подлежит «вольная» Россия, и не совпадает с карательно-полицейским делением на Лаги, которому подлежит заключенная Россия. Куда ни ткнуть пальцем на карте - везде находятся Лаги - на Новой Земле, Колыме, Камчатке, на Кавказе, под Москвой, на Алтае и на берегах Тихого океана. По всей Советской России число ЛАГов, вероятно, много более ста, а в каждом - сотни лагпунктов. Примем для ориентации 100 х 100 = 10.000 лагпунктов. Если в каждом лагпункте, как на нашем 48-ом квадрате, по 1.000 з/к, то сумма заключенных в Сов. Союзе составляет 10 миллионов. В отдельные же годы, когда по населению Сов. Союза прокатывается волна террора («чистка»), число обитателей лагерей может составлять и 15 миллионов, и больше. Не все Лаги так велики, как ББК; но зато имеются л/пункты, насчитывающие не одну, а несколько тысяч зэ-ка. Только Главное Управление Лагерей в Москве, сокращенно называемое ГУЛАГ, знает точную цифру лагерного населения, но нам не скажет.
Главное Управление Лагерей или ГУЛАГ - очень молчаливое, скромное и засекреченное учреждение. Его представители не выступают на прессконференциях и интернациональных съездах. А между тем, ему есть чем похвалиться. Среди великих достижений советского строительства, о которых не умолкает реклама в мировом масштабе, не последнее, а 22 первое место принадлежит такому гигантскому делу, как воздвижение десяти тысяч (или больше) поселений особого типа, складывающихся в величайший производственный концерн в мировой истории. Очень жаль, что на этот концерн надета шапка-невидимка, - и правительство, не делающее секрета из рекордов «социалистического строительства», в данном случае действует конспиративно. Но, вероятно, оно знает, что делает.
Я находился на 48-ом квадрате с половины августа 1940 года до 24 июня 1941 года - свыше 10 месяцев. Это - пункт лесоповальный. Лесоповал производился на внутренний рынок и на экспорт. Если бы то дерево, которое Советский Союз до войны высылал на мировые рынки, могло говорить, оно бы рассказало о море крови и слез, которое пролито в советских лагерях. Кроме лесопунктов, имеются «сель-хозы», рудники, шахты, заводы, фабрики и мастерские, строительство каналов, городов, железных дорог и шоссе - короче, все виды труда, включая и высококвалифицированный труд инженеров, конструкторов и исследователей. Вся эта сеть лагпунктов, пер-пунктов, трудколоний и ОЛП'ов («отдельных лагерных пунктов») существует в условиях «48 квадрата», т. е. государственного рабства.
Наше отделение имело свой центр в поселке Пяльма, на полпути между Остричью и «48-ым квадратом». «Поляки» или «западники», как нас называли, были размещены в ряде лагпунктов нашего отделения (напр. 5-ый, 8-ой, Боброве и другие). В ту зиму говорилось, что из восточной Польши привезли в район Онеги 50.000 человек. Они с легкостью разместились в сотнях лагпунктов ББК.
Вольное население в этом районе очень редко, и чем дальше к Белому Морю и Ледовитому Океану - тем реже. На крайнем севере России не колхоз, а именно исправительно-трудовой лагерь является «нормальным» типом поселения. Есть части страны, где основная масса населения заключена в лагеря.
48-ой квадрат занимает площадь в три гектара.
Он огорожен высоким частоколом. В четырех углах палисада стоят (вне ограды) деревянные вышки, на которых днем и ночью стоят часовые. Приближаться к частоколу запрещено. Вокруг каждого лагпункта, как извне, так и извнутри, имеется «запретная зона». На 3-4 метра от частокола вбиты низкие колышки с надписью на деревяннах дощечках: «Запретная зона». Часовые имеют право стрелять в каждого, кто входит в запретную зону. Пространство внутри ограды, отделенное запретной зоной - есть «зона лагеря» или просто «зона». Говорят: заключенные работают за зоной, живут в зоне. Миллионы советских людей в качестве зэ-ка, сотни тысяч - в качестве охраны и службы НКВД - проводят свою жизнь «в зоне».
Войти в лагерь и выйти можно только через вахту. Открыв дверь, каждый проходит мимо окошечка, где сидит дежурный стрелок, отмечающий входящих и выходящих. На тысячу зэ-ка 48 квадрата человек 30 имеют «пропуск», т. е. право выходить за зону. Получить «пропуск» нелегко. Он, как правило, не выдается политическим заключенным, а «бытовики» получают его лишь тогда, когда к ним имеется полное доверие. Чтобы получить «пропуск», надо много лет просидеть в лагере, быть каждому известным, находиться в последнем году заключения. Пропуск выдается комвзводом Охраны таким людям, которые по характеру своей работы должны иметь относительную свободу передвижения: начальник работ, начальники участков, работники конпарка и инструменталки, расположенных за зоной лагеря, и др. Это - пропуска постоянные. Однократные пропуска выдаются на день-два отдельным заключенным, посылаемым по делу: письмоносцу, бухгалтеру, возчику.
Все остальные выпускаются через вахту не иначе, как целыми бригадами под конвоем стрелков.
Пройдя вахту, мы попадаем на улицу. Справа и слева - строения. Вот - лагерное «строительство»: торчат срубы, лежат круглые ровные бревна. Строят Два новых барака. Один - жилой, для прибывающих зэ-ка, в другом будет «центральный изолятор» для отделения, т. е. тюрьма в тюрьме. Прямо против вахты - банька, ветхая покосившаяся избушка, при ней прачечная. Здесь улица делает изгиб. Направо стоит хлеборезка и пекарня. По левой стороне вещ-каптерка, при ней сапожная и портняжная мастерская. Дальше крошечный «стационар» - больничка на 8-10 кроватей. На пригорке стоит новый чистый домик. С одной стороны он огражден колючей проволокой. Там помещаются женщины, которые среди мужского населения должны особо охраняться. С другой стороны того же барака находится продкаптерка (склад продовольствия), и там же «ларек». Заключенные иногда имеют возможность купить по «коммерческим» ценам, что окажется в ларьке, но по большей части он пуст, и лучше на него не надеяться.
Улица поворачивает еще раз. Справа и слева - жилые бараки, каждый человек на 150, а среди них «клуб», с культурно-воспитательной частью, кухня, барак АТП (административно-технического персонала). Барак этот населен лагерной аристократией - бригадирами, десятниками, конторщиками. В конце улицы - контора, которая в других лагерях называется иногда «штаб»: там помещаются бухгалтерия и администрация лагеря, кабинет начальника. Против конторы - амбулатория, она же Санчасть, домик с сенцами и 3 комнатками, где принимают и лечат и где живут заключенные врачи, сестры, санитары и лекпомы. Тут кончается лагерь: дальше запретная зона и забор. Если спуститься с пригорка, на котором стоит амбулатория, то за ней по тропинке можно дойти до заборика с запертой калиткой: внутри лачуга плачевного вида, которая выглядит как необитаемая и всеми забытая развалина. В ней одно крошечное оконце с пыльным стеклом, темным от грязи и густой паутины. Это ШИЗО - иначе штрафной изолятор - или попросту карцер, куда сажают заключенных по приказу начальника лагпункта. В Архангельской области лагерники называют ШИЗО по своему - «кур».
Вот и все. Впрочем, за куром - где начинается сплошное болото - стоит на отлете еще сарайчик. Это «кипятилка» - один из жизненных центров лагпункта. Внутри печь, куда вмазано два или три огромных котла. Кипятилка топится днем и ночью, и когда лагерь уже спит, на пустыре, где стоит этот сарайчик, пылает огонь, и в раскрытых дверях мечутся полунагие фигуры кипятилыциков. Обеспечить кипятком тысячу человек - важное и ответственное задание. На рассвете, в 6-ом часу утра, а зимой еще затемно, тянутся из всех бараков в кипятилку дневальные с деревянными тяжелыми ведрами - и горе кипятилыцику, если до выхода на работу или по возвращении из лесу озябшие и промокшие бригады не получат кипятка, который русские люди со всей серьезностью называют «чай». Такой неисправный кипятильщик будет исколочен своими товарищами, а начальством обруган, снят с работы, посажен в карцер, а потом выслан «на общие работы».
Последнее - самое страшное для человека, принадлежащего к лагерной обслуге. «Пойти в лес» - эта угроза висит над каждым, кому посчастливилось устроиться на работу в лагобслуге, и чем лучше он устроен, тем страшнее эта угроза. Социальное неравенство нигде не выступает в Советском Союзе так обнаженно, как именно в лагере, где разница между завкухней или другим «завом» - и обыкновенным зэ-ка, которого каждое утро гонят в лес, больше, чем между миллионером и чистильщиком сапог в Нью-Йорке.
Все перечисленные здания находятся на косогоре и не занимают много места. Остальная территория лагеря - топкая болотная низина, откуда тянет гнилью и слышно, как стонут жабы. Никто туда не ходит, кроме дневальных, берущих воду из низкого колодца багром с привязанным протекающим ведром. Кругом колодца разлита большая лужа. Летом после дождя, а весной и осенью постоянно, вся эта часть лагеря представляет собой непролазное болото. В грязи тонет и улица.
Несколько лет тому назад на месте лагеря был лес. Заключенные выкорчевали его, но до сих пор весь лагерь полон выбоин, ям, пней, а выкорчеванные огромные корни валяются всюду, как чудовищные осьминоги или мертвые пауки, подняв к небу искривленные деревянные щупальцы. В ненастный осенний день эти корни, вывернутые, вырванные и брошенные на дороге, придают лагерю вид судорожного и немого отчаяния, и чем-то напоминают те живые существа, которые копошатся среди них. А рядом уходят в землю пни, и, кажется, их корни под землей еще продолжают видеть свой сон о высокой вершине и живой зелени, как человек с отрезанной ногой еще чувствует дрожь в несуществующих пальцах.
Не всегда было так хорошо и благоустроено на 48 квадрате. Старожилы позже рассказали западникам, как построили этот лагерь. Заключенные своими руками построили для себя места своего заключения. В 1937 году, когда миллионная волна заключенных хлынула на север, еще ничего не было на этом месте. В суровую зиму люди жили в палатках в лесу, ночевали у костра в снегу, не имели ни еды, ни лекарств. Те, кто пришли сюда первыми, положили здесь свои кости. «48-ой квадрат», как и другие лагеря, стоит на костях человеческих. Люди здесь замерзали и погибали от голода. Было время, когда за 100 метров нельзя было пронести хлеба для раздачи людям иначе, как под охраной вооруженных. Грузины и казахи, люди знойного юга, вымерли здесь в течение одной зимы наполовину. Из партии в 500 человек осталось 250. Тот, кто рассказывал мне об этом - грузин из-под Батума и не старый человек - был после трех лет в ББК тоже конченным человеком - бессильным и осужденным на смерть инвалидом. Не 50, а все 100% из его партии погибли в онежских лесах. Мы, поляки, прибыли уже на готовое, и люди нас кругом поздравляли с удачей: «ваше счастье, что в 1940 году, а не в 37-ом, или 33-ьем».
На безымянные могилы заключенных не придут их родные и близкие. Семьям погибших не сообщается об их смерти, и только многолетнее молчание служит знаком, что человек погиб в лагере. Пока люди живут, они пишут. В так называемые «открытые» лагеря можно не только писать, но и получать письма оттуда. Можно, в особых случаях и после долгих хлопот, даже получить свидание с заключенным. Можно писать раз в месяц или раз в три месяца, хотя эти ограничения не в каждом лагере соблюдаются одинаково. На далеком севере, в Заполярьи и в Арктической зоне, лежат «закрытые» лагеря. Туда направляются особо «опасные» элементы. Люди, находящиеся там, не имеют ни права переписки, ни права свидания с родными. Кто попадает туда, заживо похоронен и никогда уже не вернется в круг живых. Если это маленькие люди, их скоро забудут. Если люди с именем - будут думать, что они умерли - неизвестно только, в котором году.
Отсидев свои 5, 8, 10 лет, заключенный не получает разрешения вернуться на прежнее место жительства. Чаще всего он остается на месте. Тут его знают, и тут его прошлое не будет его компрометировать. Он становится поселенцем, устраивается при каком-либо лагере, и с течением времени может выслужиться. Почти о каждом начальнике, который приезжал на 48 квадрат из Пяльмы или Медвежегорска, нам рассказывали, что это бывший заключенный. Те, кто выезжают в Центральную Россию или другие «нормальные» районы Сов. Союза, получают на паспорте отметку о пребывании в лагере, которая навсегда закроет пред ними возможность ответственной или хорошо оплачиваемой работы. Легендарные «исключения из правила» только подтверждают закон. А закон таков, что, где бы они ни поселились, они будут внесены в списки НКВД и при ближайшей оказии будут первыми кандидатами на возвращение в лагерь.
Советская власть совершенно справедливо и обоснованно не может иметь доверия к тем, кто побывал хотя бы короткое время в лагере и видел позорную тайну режима. Для таких людей освобождение и выход на волю являются сплошь и рядом только антрактом или отпуском, за которым через несколько лет следует возврат в лагерь. Советские лагеря полны людей, которые свыклись с заключением, как со своей судьбой. В первый раз они были арестованы в 20-ые годы, и с тех пор 2-3 раза освобождались и наново водворялись в лагерь. В каждом арестантском эшелоне, везущем пополнение в лагерь, находятся среди новичков «бывалые» люди, для которых зона лагеря является родным домом. Пройдя через вахту, они естественно и сразу входят в знакомую и привычную для них колею лагерной жизни.
Глава 10. Рабгужсила
«Рабгужсила» - гениальное лагерное слово. Личный состав на лагпункте складывается из людей - это «рабсила» - и лошадей - это гужевая сила, транспорт. В слове «рабгужсила» соединяются люди и животные, смешиваются в одно и уравниваются в достоинстве, ценности и судьбе: выполнять возложенное рабочее задание.
Начальник лагпункта Петров, долговязый хромой ветеран гражданской войны, бывший красный партизан, пришел в полное недоумение, увидев странную рабгужсилу на 48-ом квадрате. Лошади были как лошади: заморенные лагерные клячи, скелеты на дрожащих ногах, обтянутые кожей в ссадинах, жующие пайковое государственное сено по норме. Но люди! Таких людей еще не было на лесоповале: западники, польские евреи, народ худосочный, одетый в изысканные костюмы, говорящий на иностранных языках, ничего не соображающий в том, что вокруг него делается. Женщины были жены польских офицеров, гордячки, аристократки. Еще больше поразило Петрова, когда доставили в лагерь 350 галицийских евреев из Злочева. Эти евреи были взяты наспех, их даже не успели допросить и отобрать ценные вещи, и они привезли с собой часы и золотые кольца, ходили в черных кафтанах и картузиках, и каждый выглядел как духовное лицо неизвестного иудейского вероисповедания. Некоторые привезли по несколько тысяч рублей, которые были у них отобраны и депонированы в Пяльме, в финчасти.
Петров начал с того, что собрал людей на беседу и сказал им:
- Сроков и приговоров у вас нет. Люди вы культурные, заграничные. Но штука в том, что вы находитесь в исправительно-трудовом лагере и, следовательно, обязаны подчиняться лагерному режиму. Будем надеяться, что положение ваше скоро выяснится, а пока будьте любезны работать. В Советском Союзе кто не работает, тот не ест.
На следующий день приехала из Пяльмы заключенная женщина-врач, по фамилии Вагнер, и установила нашу трудоспособность. Нас разделили на группы: 1-ая и 2-ая категория - тяжелый труд, 3-ья категория - облегченный труд. Потом шли инвалиды первой и второй группы, с частичной и полной нетрудоспособностью. Что этим последним было делать в исправительно-трудовом лагере - было непонятно. Есть им давали меньше всех, но все смотрели на них с завистью: могут не работать.
Женщина-врач посмотрела на мои толстые стекла очков, спросила, чем занимался на воле, и записала мне 3-ью категорию: «облегченный труд».
Эти различия на практике не имели большого значения. Все категории смешались в лесу. Петров с помощниками прошел по баракам, быстро, на глаз, поделил людей по бригадам. А бригадир не спрашивает, кто как записан. Разница между сильными и слабыми выясняется сама собой. И горе слабым.
В течение 2-3 дней мы были поделены на 3 части.
Во-первых: рабочие бригады. Около 30 бригад было на 48 квадрате, в каждой 20-30 человек. Бригады лесорубов, возчиков, грузчиков, свальщиков, навальщиков, тральщиков, пильщиков, дорожников, плотников, конюхов и инструментальщиков. Все эти люди не очень понимали, чего от них хотят. Чтобы объяснить, были поставлены: начальник работ, начальники участков, десятники, лесные мастера, приемщики, дорожные мастера - всё заключенные, опытные русские лагерники, кроме нескольких «вольных», т. е. бывших зэ-ка или ссыльно-поселенцев.
Несколько «западников» поэнергичнее и молодцеватее на вид были назначены бригадирами. В других бригадах были поставлены во главе старые русские лесовики из соседних лагпунктов.
Человек 120 выделили в «лагобслугу». Выделили поваров, пекарей, сапожников, портных, парикмахеров, кипятилыдиков - одних дневальных больше 30 человек. На последнюю должность выбрали старичков послабее. При этом некоторые сделали карьеру. Шофер по специальности, зэ-ка Фридман, парень здоровый и плечистый, получил назначение комендантом ШИЗО. Женщин назначили в прачечную, в подметальщицы, уборщицы, а из остальных составили лесную бригаду для «сжигания порубочных остатков». На сжигание порубочных остатков послали учительницу французского языка, жену полковника, жену кондитера из Тагнова и т. п. элементы, а начальником был над ними поставлен старый еврей Ниренштейн.
Третью группу, рядом с рабочими и лагобслугой, составили «придурки». Этот лагерный термин происходит, надо полагать, от слова «придуриваться», т. е. вертеться около власти, прикидываться, что делаешь дело и валять дурака, когда другие идут в лес на тяжелую работу. «Придурки» - это конторская братия, люди «умственного труда», который в лагере рассматривается, как синекура и уклонение от бремени, не только серой заключенной массой, но и самим начальством. Придурки - это лагерная бюрократия. Число их строго ограничено - не то 4, не то 5% общего числа зэ-ка - и контролируется из центра. На нашем 48-ом квадрате придурков собралось чуть ли не вдвое против штатов. Объяснялось это необычными условиями на нашем лагпункте: масса зэ-ка не понимала по-русски, начальство, как обычно - поголовно и глубоко безграмотное, затруднялось на каждом шагу, и трудно ему было сокращать штаты, когда и те придурки, что были, не справлялись с работой, по неопытности и сложности дела.
Я уже было занял место за столом «экономиста», как вдруг подошел ко мне «главбух» - молодой советский зэ-ка, с большим кадыком, худым лицом и острыми глазами - по фамилии Май - и сказал:
- Бросай работу, иди к начальнику: секретарем будешь.
Мне не хотелось уходить со своего «спокойного» места, но делать было нечего. Петрову был нужен человек со знанием русского языка. Узнав, что я человек «с образованием», он решил, что лучшего секретаря ему не надо. В этом он, увы, ошибся. «Образование» в данном случае было препятствием. Собственная моя глупость помешала мне сделать большую карьеру в лагере. Место секретаря начальника (и он же делопроизводитель) занимается по штату вольнонаемным, так что я фигурировал в списках лагеря по рубрике «замена в/п». Сметливый человек или старый лагерник в этой должности быстро приобрел бы доверие начальника, стал бы его правой рукой, «alter ego» и грозой лагеря. Он был бы сыт, обут, одет во все лучшее и распоряжался бы судьбой своих товарищей зэ-ка. Всех этих возможностей я не понял и не использовал. Прекрасное начало моей лагерной жизни быстро испортилось.
Петров привел меня в свой кабинет. В прихожей перед кабинетом стоял стол, стул, простой шкаф - все некрашенное, лагерной работы - сбоку стенной телефон. Я получал и отправлял почту, составлял письма и приказы по лагерю, получал и передавал телефонограммы. Утром я передавал в отделение «сводки» за прошедший день: о состоянии личного состава, о выполнении работ, сводку Санчасти. Под Рукой лежала у меня книга «входящих» и «исходящих», книга телефонограмм, папка Отделения и папка Правления, книга приказов по лагерю. Все это звучит пышно, но у меня не было ни чернил, ни карандаша, ни бумаги, ни клея, телефон был разбит и почти не работал, а мои «книги» состояли из листов старой исписанной бумаги, по которой я писал поперек, и которую воровали у меня зэ-ка, чтобы свернуть себе «цыгарку».
На поступающих бумагах Петров ставил крупным косым почерком свои резолюции: «Воспитателю - для сведения» - «Главбуху для исполнения» - «Коменданту для проверки». Я должен был не только довести до сведения этих лиц документы с резолюцией начальника, но и проследить, чтобы они действительно поняли и выполнили, о чем в них говорилось.
Помощником моим был Петерфройнд - крошечный лилипут - парень лет 20 из Нового Тарга в Польше. Его детская фигурка забавляла лесных людей, и он был назначен курьером в контору. Весь день Петерфройнд, одетый в бушлат до пят и огромные боты, как кот в сапогах, носился с поручениями по лагерю. Его знали и стрелки на вахте, называли «сынком», задавали преимущественно похабные вопросы и покатывались с хохоту над его ответами. Когда же я уходил на обед в 7 часов вечера, Петерфройнд заменял меня при телефоне и при кабинете начальника.
Работа была нетрудная, но сложная. Я принимал всевозможные заявления от зэ-ка на имя начальника лагпункта. Это были жалобы, просьбы о выдаче денег с личного счета или о переводе из одной бригады в другую. Заключенным нельзя было иметь на руках больше 50 рублей. В этих границах они могли просить ежемесячно Отделение о выдаче им денег с их счета в Финчасти. Начальник Лагпункта отсылал их заявления вместе с «характеристикой» из Культурно-Воспитательной Части, где было сказано, как работает и ведет себя данный зэ-ка. Если «характеристика» была хорошая, выдавалось 20-30 рублей. Я не только принимал, но и сам писал эти заявления для неграмотных зэ-ка, так что мой стол скоро превратился в «бюро прошений». Просьбы о переводе из бригады в бригаду рассматривались два раза в месяц - 1-го и 15-го числа. Большинство заявлений просто терялось Петровым и никогда им не прочитывалось. Человек в лагере не много значил. Мои напоминания приводили его в раздражение: «тоже защитник нашелся!».
Лучше всего я чувствовал себя, когда Петров уходил «на производство», т. е. в лес, а я оставался один со своими бумагами. Я был безнадежно чужой. Я не сквернословил, не рассказывал анекдотов и не проявлял никакого рвения по службе. Раз, придя на работу, я улышал, как Петров и Май разговаривали обо мне:
- Человек грамотный, - сказал Петров, - да что толку: тут надо сильную руку, придавить, гаркнуть: а разве он это может? Сидит, как мышь. Вежливый слишком.
- И недоволен, - сказал Май, - лагерем недоволен, и критикует.
- Да они все недовольны! - сказал со злостью Петров, - работать, сволочи, не хотят.
Это была правда. Работать не умели, не хотели, и без конца жаловались.
Прежде всего жаловались на голод.
Наша кухня имела 4 котла, т. е. 4 категории питания.
Первый котел, или штрафной, был для невыполняющих норму. Невыполнившие 100% нормы получали 500 грамм хлеба и жидкий штрафной суп утром и вечером.
Второй котел - для выполняющих норму - составлял 700 грамм хлеба, утром суп, вечером суп и кашу. Эти данные относятся к 1940 году, когда в Сов. Союзе не было войны. Потом стало гораздо хуже.
Третий - «ударный» котел выдавался за перевыполнение нормы до 125%.
Четвертый котел назывался «стахановский» и выдавался за 150% и выше. Стахановцев кормили как могли лучше: 900 грамм хлеба, иногда кило, два блюда утром, вечером четыре: суп, каша с маслом, «запеканка» из макарон или гороху, булочка или «котлета». Под именем «котлеты» или «гуляша» давали несвежую конину. Основным питанием для всех 4-ех котлов был черный хлеб. На бумаге полагались и жиры, и сахар, но фактически их не было, или почти не было. Ко второму котлу додавалась соленая рыба - кусочек трески, воблы, горбуши - или неизвестный нам до сих пор дельфин.
Только третий и четвертый котел давали возможность наесться досыта - в 1940 году. Первый и второй обрекали на гибель, раньше или позже. Поэтому для человека, не получавшего посылок или другой помощи, была одна дорога спасения: перевыполнять норму, давать 125-150%. Нормы были рассчитаны на здоровых мужиков. Лагерь был местом естественного отбора, где выживали физически сильные люди. Остальные вымирали, если нехватало ума устроиться в качестве «придурков» или технических спецов.
Все эти вещи выяснились нам не сразу. Но голодать мы начали сразу. Контора, и в том числе я - получала 2-ой котел, т. е. «нормальное» питание. Утром я съедал половину хлеба с супом и к часу дня был зверски голоден. Обеда не было. В час дня мы с Пе-терфройндом пили горячую воду - «кипяток». В других местах было принято делить на 3 части казенный паек, но на 48-ом квадрате делили на две части. Только «стахановцам» выпадала каша в полдник. Остальные работали весь день без еды, но зато вечером получали больше. Я еще не был истощен и не работал физически. И все же мне было трудно, с непривычки, переносить ежедневный пост.
День на 48 квадрате начинается летом в 5 часов утра, зимой на полчаса или час позже. Зимой в это время совсем темно, луна стоит над лагерем. Из дверей конторы выходит дежурный «придурок», подходит к обломку рельса, висящему среди улицы на столбе, подымает булыжник или кусок ржавого железа и с размаху бьет о рельс. Глухой, унылый звон плывет в темноте. Бараки молчат, будто не слышат. Дежурный бьет с силой, бьет несколько раз - до боли в плече - и уходит обратно в контору, где всю ночь горит закопченная керосиновая кухонная лампочка. В темных логовищах люди начинают шевелиться на нарах. - «Подъем!» - Зловещий, мрачный звук, как набат, несется издалека, вырастает из подсознания, прерывает самый крепкий сон, люди постепенно приходят в себя, трезвеют, лежат пару минут с открытыми глазами. Потом волна проходит по бараку, все подымаются сразу, а дневальный кричит пронзительным голосом: «Подъем!»
До сигнала дневальный успел уже сходить в сушилку и за ремонтом. Из сушилки он принес гору тряпья и свалил ее на пол у двери. Каждый выискивает в ней свои вещи, отданные вчера вечером «на просушку». Отдельно лежит куча вещей из починки. На каждой вещи бирка, т. е. деревянная дощечка с фамилией и номером бригады. Всю ночь в починочной мастерской латают и чинят изодранные лохмотья заключенных, кладут латы на латы, стягивают шпагатом распадающиеся опорки, чтобы заключенные могли утром выйти в них на работу. Люди ругаются и мечутся, разыскивая свои вещи. Одному нехватает «луней», другой получил ватные брюки непочиненными, так как они уже не поддаются починке, и клянет на весь барак, третий ищет, кто взял его бушлат и оставил ему свой короткий и грязный. Тем временем дневальный нанес воды в бочку и рядом поставил ведро кипятку. Моются не все. В рабочих бараках мало кто имеет мыло и полотенце, люди черны и грязны, многие не моются от бани до бани. Большинство ополаскивается из кружки и утирается рукавом. Не стоит охорашиваться, все равно не выйдешь из грязи. Да и времени нет. Между подъемом и выходом на работу проходит 11/2- максимально 2 часа.
Под окнами кухни уже стоит очередь. Стахановцы отдельно, первый и второй котел отдельно. Зимой, во мраке и на 30-градусном морозе коченеют пальцы в драных рукавицах, легко потерять талон. Кто потерял - ничего не получит и проголодает до завтра. За окном один человек принимает талон, отрывает половину, а другую возвращает - это на ужин. В роли талонов функционируют старые трамвайные билеты из Ленинграда, самодельные билеты с подписью табельщика и печаткой конторы - и всегда загадочным образом поступает в кухню больше талонов, чем их выдал Продстол. - Другой человек механическим движением размешивает черпаком в котле и наливает черпак супу. - «Следующий!» - Бережно несут драгоценную порцию в барак, иногда в другой конец лагеря. Там за столом уже сидят тесным кругом закутанные на выход люди и торопливо хлебают. Другие едят в глубине нары, где лежит их лагерное имущество: деревянный сундучок, скатанное одеяло. В бараке смрадно и тесно. Открывается дверь, на пороге является нарядчик и по списку выкликает фамилии освобожденных на сегодня от работы. Освобожденные лежат среди общего шума. Подъем не касается их. Они встанут позже, когда бригады выйдут, лагерь опустеет, и под окном кухни не будет очереди.
Снова гудит звон: это «развод». Бригадиры собирают и выводят людей на вахту. Со всех сторон тянутся из дверей бараков вереницы заключенных. Это какие-то похоронные шествия: идут, как за гробом, медленно, с видимой неохотой, точно им стоит большого труда поднять ногу. Все эти люди идут против воли. Дневальный торопит отставших: «скорей, уже выгоняют на развод». Лагерники не идут: их «выгоняют». Не легкое дело - собрать к вахте 500-700 человек. Каждая бригада строится отдельно. Обязательно кого-нибудь нехватает. Бригадиры с проклятьями мечутся от вахты в барак и обратно. И, наконец, как бешеные псы, срываются по баракам люди 2-ой части, - нарядчики, помощники коменданта. Обрыскивают нары, проверяют, кто свернулся клубком под бушлатом, заглядывают под нары. Ищут укрывающихся от выхода на работу. Много попряталось в отхожих местах и во всех закоулках, но от нарядчиков укрыться нелегко. Со всех сторон с ругательствами и побоями ведут людей к вахте. Нарядчиком не может быть каждый. Это самое трудное дело в лагере, для которого нужны люди сильные и беспощадные. Сами они не работают - их дело заставить других работать.
В большинстве случаев пойманный «отказчик» жалуется на слабость или на болезнь. На вахте во время развода стоит дежурный Санчасти - лекпом или врач. Времени на разговоры с отказчиками нет. Им ставят термометр, и если нет повышенной температуры, то ничего не поможет. - «Иди работать, вечером придешь». Кто-то жалуется на грыжу, на резь в животе. Врачь машет рукой и уходит. Растворяются ворота, при них стоит все начальство лагеря, масса стрелков. Форменные фуражки, папахи, ружья с примкнутыми штыками. Бригады вызываются по порядку. Каждую просчитывают и отмечают на деревянной доске у дежурного стрелка.
- Бригада, внимание!
Люди стоят по два. В первой двойке - бригадир. Он проверяет, все ли получили «инструмент»: пилы, топоры, заступы, ломы. Двери инструменталки открыты, и для каждой бригады отложен ее инструмент, а для стахановцев и лучших рабочих полагаются отборные пилы и особенно-заботливо отточенные топоры.
- Бригада, внимание! По пути следования к месту работы не разговаривать, сохранять порядок, из строя не выходить. В случае неповиновения применяю оружие без предупреждения. Понятно?
Молодой стрелок выговаривает заученные слова залпом, как урок, и с таким напряжением, что люди смеются. Когда он запинается, ему подсказывают. Каждый зэ-ка каждое утро слышит эти слова. Он слышит их тысячекратно, пять лет и десять лет, как рефрен всего своего существования. Когда он выйдет из лагеря, где бы он ни поселился, эти слова будут звучать в его ушах.
Когда закрываются ворота лагпункта за последней бригадой, конторским еще остается час до начала работы. Можно не спеша одеться и «позавтракать».
Снова гудит звон: это «поверка». По этому сигналу люди в бараках выходят на площадку у вахты и их считают. Выходят все, даже больные, кроме лежащих в стационаре. Дневальные и занятые важным Делом люди остаются. В каждый барак заходит стрелок или помощник коменданта. Сообщение между бараками прерывается. Каждый замирает на своем месте. Считают долго, ошибаются, считают сначала. Тем временем гонят в карцер группу «отказчиков», которых обнаружили уже после «развода». Теперь уже поздно вывести их на работу, так как нет стрелков, которые бы вывели их за вахту и провели к бригаде. В карцере они будут посажены на штрафной паек: 300 грамм хлеба и жидкий суп. За отказ от работы они получат несколько суток карцера «с выводом на работу». Это значит, что на следующее утро их прямо из карцера отведут на развод, а вечером после работы, прямо с вахты, «завшизо» заберет своих людей обратно в карцер. Если же «отказчик» проявляет упрямство, и на второй день тоже не желает выходить на работу, то дело становится серьезным. К нему придет в карцер «воспитатель», т. е. человек из КВЧ. Не забудем, что мы находимся в исправительно-трудовом лагере, здесь людей исправляют и перевоспитывают. Человек из КВЧ примет все меры увещевания и внушения. Упрямый отказчик, которого не сломают несколько дней карцера и голода, имеет шансы добиться того, что власть пойдет на уступки, т. е. даст ему работу полегче.
Причина большей части отказов - непосильная работа. Если не поможет увещевание, составляется «акт» о злостном невыходе на работу. Акт составляется бригадиром и комендантом или другими лицами, на нем обязательно имеется пометка врача, что данный зэ-ка по состоянию здоровья на работу годится, и пометка начальника лагпункта, что он одет, обут и удовлетворен довольствием. Этот акт передается в 3-ью (политическую) часть. Когда таких актов накопится несколько (десять или больше), третья часть придет в движение и сделает свое. Заключенного расстреляют.
Список расстрелянных за многократный отказ от работы будет отпечатан в Медвежегорске, и копии разосланы по всем лагпунктам ББК. Придет такая копия и на 48-ой квадрат. Делопроизводитель, з/к Марголин, поставит №, впишет во входящие, подаст начальнику. Начальник Петров поставит отметку: «Огласить через КВЧ заключенным». И воспитатель объяснит непонятливым «западникам», что в лагере никого работать не заставляют, но за отказ от работы судят и приговаривают к высшей мере.
Комендант Панчук идет по лагерю. Дневальные трепещут. Комендант - человек вольный, со скуластым лицом, буйным чубом и манерами казацкого урядника. При его входе в барак раздается команда: «Внимание!» - и все встают с мест. Зычная брань Панчука слышна далеко. В одном из бараков он находит беспорядок: нары и пол не вымыты, у входа нечистоты. Он с величайшим презрением оглядывает дневального и спрашивает:
- Турки вы, что ли? Дома тоже так жили?
И дневальному Киве, старому согбенному еврею, который по-русски не понимает ни слова, командует:
- Сию минуту нанести воды - понятно? Вымыть - вычистить - вытереть - вымести - понятно? Убрать, прибрать, под нарами, на нарах, снаружи, внутри! Смотри у меня ... твою мать, а то я тебя самого уберу... понятно? Панчук молодцевато вбегает в контору и застает кабинет начальника на запоре.
- Открывай!
- Заперто, гражданин начальник!
Панчук прищуривается, долго смотрит на меня, и я чувствую, что рука у него зудит треснуть меня по уху.
- Чему тебя учили, очкастый! Гвоздем открой.
- Не умею, гражданин начальник.
- Не умеешь, так здесь научишься!
И Панчук показывает мне, как без ключа можно входить в запертые двери.
Когда я пробую передать ему бумаги, назначенные для коменданта, Панчук быстро машет рукой и скрывается. Читать он не мастер, и каждая писанная строка возбуждает в нем недоверие и опасение. Положение мое трудно. Если на бумаге начертано рукой Петрова «передать коменданту», то я обязан это сделать, но как заставить коменданта принять бумагу, да еще расписаться в получении? - Мой авторитет для этого недостаточен, тем более, что каждая принятая бумага - это новые хлопоты для Панчука. Моя должность полна непредвиденных трудностей. Ничего нет, и все надо добывать самому. Для важного отчета в Медвежегорск нужен конверт. Конвертов нет. Конверт надо сделать самому. Клочок бумаги - величайшее сокровище в лагере. Для конверта нужен клей. И клей надо сделать самому. Просить нельзя - это наивно и возбуждает досаду начальства. «Сам достань».
За недостатком бумаги, таблицы, сводки и отчеты пишутся в лагере на дереве - на фанере. Из дерева же делаются пуговицы и лопаты, ложки и миски. Это единственное, что есть на месте в достаточном количестве. Но западники так беспомощны, что теряются, когда надо соскоблить с фанеры вчерашнюю запись. Они спрашивают резинку. Панчук вне себя:
- А стеклом соскоблить не умеете?
- Стекла нету, гражданин комендант.
- Ну и люди! - удивляется Панчук, - стекла найти не могут. Да вот же оно - стекло.
Выходит на двор, и под окном, под ногами находит в минуту кусок битого стекла.
Западники ничего не умеют. Ни отворять замка гвоздем, ни скоблить фанеру стеклом, ни зажечь лампу без спичек, ни работать на голодный желудок.
С лампами горе. На 48-ом квадрате нет электричества. Керосина так мало, что его не выдают в рабочие бараки. Западники не умеют обращаться с керосиновыми лампочками, разбитыми и заржавленными, где фитиль - не фитиль, машинка не держится, а стекло надтреснуто. Если есть керосин, то фитиль - негодный. Если есть фитиль, керосин не горит. Машинка выпадает из резервуара, и когда Петерфройнд водружает стекло, оно лопается у него, и мы бледнеем от ужаса.
Увидев разбитое стекло, комендант впадает в неистовство.
- В карцер на 5 суток за такое дело! Убил ты меня! Где я стекло возьму? Лучше бы ты себе голову разбил, фашист проклятый! Голов у нас хватает, а стекол нет!
В последнюю минуту все улаживается самым простым образом. В одном из бараков дневальный откуда-то раздобыл лампу, и Петерфройнд, маленький гном, в сумерки прокрадывается туда и ворует ее. На сегодня мы спасены: кабинет начальника обеспечен светом.
7 часов вечера. Отработав двенадцать часов, вливаются сплошным потоком через вахту бригады. Но до отдыха им далеко. Истерзанные, испачканные, мокрые люди смывают с себя грязь и пот и бегут становиться в очередь за едой. В темноте стоят цепи под окнами кухни - под открытым небом. В средину ужина врывается сигнал на вечернюю поверку. Зимой считают в бараках, летом все выходят на двор, стоят долго и терпеливо. После ужина и поверки надо немедленно скинуть с себя мокрое и рваное платье, иначе дневальный не заберет его на просушку и починку. В девять часов или в половине десятого - отбой. Люди спят. На столе среди барака тускло тлеет коптилка, за столом, уронив голову на руки, сидит ночной дневальный и борется со сном. Если ночной обход застанет его спящим - снимут с работы, и в карцер.
Только в двух местах до позднего вечера толпятся люди.
Одно место - это амбулатория.
При населении лагеря в 1000 человек нормально, если от 50 до 100 человек придут вечером на прием. Не всем предоставляется освобождение. Оно дается с трудом. Лекпом отвечает за свои действия, и если число освобожденных им слишком велико, то он через несколько дней получит запрос из центра. Лекпом рискует местом, если будет слишком либерален. Освободить всех, кого следовало бы, он не может. Первые 30 человек освобождаются легко, но потом - когда толпа под дверьми не редеет - отношение к людям меняется. Никакие жалобы, никакие раны не производят впечатления. Врач, мимо которого прошло уже человек 60, смотрит равнодушно, говорит «иди работать», не глядя. Всех не пожалеешь. Уже освобождено больше, чем полагается, а люди ломятся в двери. Скандалят, угрожают. Но на этот случай имеются здоровые санитары, с которыми лучше не пробовать драться.
Поздно вечером список освобожденных идет к нарядчику. Больной, уходя, подозрительно оглядывается на врача: «освобожден ли?». Врач не говорит ему своего решения. На следующее утро перед разводом больной не слышит своего имени в списке освобожденных, который громко читает нарядчик. Беда! Начинается переспрашивание. - «Товарищ нарядчик, посмотри еще раз! Неужели нет? Не может быть!» Нарядчик, привыкший к таким вопросам, на них не отвечает, а человек, который вчера вечером простоял два часа в очереди напрасно, со стонами и проклятьями начинает одеваться.
Второе место, где вечером только начинается жизнь - это кабинет начальника и комната бригадиров, где составляются «рабочие сведения». - После ужина, когда люди легли уже спать, бригадир уходит составлять «рабочие сведения», т.е. полный рапорт о работе своей бригады. Это - нелегкая работа. Дается детальное описание работ, произведенных каждым звеном и каждым отдельным человеком, в 2 рубриках: объем работы и процентное выполнение нормы. Отдельно приводятся больные и отказчики. «Рабочие сведения» утверждаются начальником работ или десятником, принявшим работу, и без их подписи недействительны. Составить «сведение» - далеко не просто: от этого зависит хлеб бригады. На основании этого документа табельщик «Продстола» начисляет каждому члену бригады хлеб и котловое питание, - и на третий день от даты «сведения» зэ-ка получает талон и пайку хлеба «по выработке». Заполняя сведение, надо учесть много разных обстоятельств: надо уметь так представить работу, чтобы никого не обидеть. Надо уметь считать, и уметь приврать, и обыкновенно бригадир составляет «сведение» не сам, а с доверенным лицом своей бригады. Если один сделал 60%, а другой 200% нормы, то первому запишут 110%, а другому 150. Стахановец и так получит 4-тый котел, а 60-и процентник выиграет 2-ой котел и лишний кусок хлеба. Надо накормить бригаду с помощью комбинаций на бумаге. «Карандаш накормит» - говорит лагерная пословица. Всеми средствами натягивают нехватающие проценты. Норма пиления дров на бирже составляет 21/2 фестметра на человека. Голодные и непривычные люди этого сделать не могут. Тогда им прибавляют «подноску на 40 метров», - как будто они приносили бревна для распилки на расстояние 40 метров. Нормировщик и десятник смотрят на этот фортель сквозь пальцы: ведь и они заключенные, и каждому понятно, что надо поддержать работяг. Если брать буквально предписания свыше, то все бы вымерли с голоду. «Рабочее сведение», изготовленное после долгих совещаний и усилий - фантастическая комбинация правды и вымысла. В первую очередь бригадир пишет себе 150% и IV котел, хотя он и не работал вовсе. Потом процентами обеспечиваются его друзья и помощники. Потом пишут проценты тому, кому нельзя не написать: работягам, которые работают за двоих, и бандитам, которых опасно раздражать. Есть, напротив, такие, которых бригадир хочет выжить из бригады или наказать. Первое правило лагерной мудрости: - «живи хорошо с бригадиром». От него зависит твой хлеб, и часто, чтобы накормить бригаду, он рискует собой, записывая в «сведение» подвиги, которых не было и быть не могло.
В 9 часов из-за зоны приходит начальник, и кабинет его заполняется народом. Кабинет - голая комната, стол с керосиновой лампой, кругом под стенами - табуреты и скамьи лагерного производства; на стене портрет Ворошилова и таблица «не пей сырой воды» или огромное изображение вши с надписью «рассадник сыпного тифа». Сходятся руководители работ, лесные мастера, ответственные люди. Комната заполняется народом. Сидят до полуночи и позже, дымят махоркой и выпивают огромное количество сырой воды, за неимением кипяченой. Петерфройнд то и дело бежит к кипятилыцику - закипела ли вода? Обсуждаются распоряжения из центра, результаты за прошедший день и составляется самый важный документ лагеря: разнарядка.
Разнарядкой называется план работы на завтра: распределение бригад по рабочим местам, задание для каждой бригады. Начинаются тяжкие торги с отдельными бригадирами. «Завтра твоя бригада должна дать не менее 60 фестметров. Дашь - получишь 10 пачек махорки на бригаду, не дашь - сниму с работы». Бригадиры, поочередно вызываемые в кабинет, мнутся, разводят руками, отнекиваются, торгуются, ставят условия: убрать слабых людей, дать исправный инструмент. Положение бригадиров щекотливое. Не показать усердия - опасно; обещать 60 ф/м и не дать - тоже опасно: два-три невыполненные обещания - и обозленный начальник обвинит во вредительстве; обещать и дать - завтра потребует 70. Правило лагерной администрации: зэ-ка всегда могут работать лучше, чем они работают. Если они выполняют задание, значит, могут его и перевыполнить. Дело начальства - нажимать. Нажимают добром или угрозами. Из кабинета несутся то громовые раскаты смеха, то добродушная ругань, то удары кулаком по столу и яростная ругань. Ругань, впрочем, при всех случаях: без нее лагерный язык ни в коем случае обойтись не может.
То и дело раздается команда из кабинета: «Вызвать бригадира Кунина!» - «вызвать врача Германа!» - «вызвать зэ-ка такого-то!» - Заключенный, которого вызывают к начальнику иногда за полночь, когда он храпит и третий сон видит, просто не хочет идти. Он посылает будящего к чертовой матери, не хочет одеваться и понимает, что от разговора с начальником добра не будет: его ждет расправа за дурную работу или грех по службе, и очень возможно, что прямо из кабинета сведут его в карцер. Поэтому не раз и не два приходится звать такого работягу, и он начинает одеваться не раньше, чем припугнут его тремя сутками карцера и стащат за ноги с верхних нар.
Время идет. Пока начальники совещаются в кабинете, под дверью в маленькой передней комнатке стоит толпа вызванных и невызванных, которые сами пришли с претензиями. Одного обокрали; другого избили; третий пришел показать свое нагое тело и просить, чтобы выписали ему на завтра целые штаны. Драматическая борьба разыгрывается вокруг нескольких одеял, которые имеются в вещкаптерке. В конце концов они достаются герою дня - бригадиру, который показал лучший результат дня и обещал его перевыполнить на завтра.
«Секретарь» в передней комнатке должен зорко следить, иначе в 5 минут не останется у него ни пера, ни карандаша, ни бумаги на столе. Все стянут цепкие руки, в особенности бумагу, нужную для курения. Люди сидят на подоконнике, расселись на корточках вдоль стен, тесно обступили стол, босые, нечесанные, с голой грудью, в распахнутых бушлатах. Звонит телефон: это из отделения передают телефонограмму или зовут к аппарату начальника, чтобы пробрать его за недогрузку леса и невыполнение плана. Ничего не слышно в шуме, и кончается тем, что всю толпу ожидающих, вместе с разбуженными зэ-ка, которые ожидают, чтобы их посадили в карцер, с неистовыми проклятиями и толчками выгоняют на двор.
Наконец, вечерняя сессия закончена, и все расходятся.
Дежурный по конторе садится за опустевший стол.
Ночь - время передачи и приема телефонограмм и сводок из лагпункта в отделение, и обратно. Днем - провод перегружен и сговориться невозможно. Телефонист и коммутатор находятся на вахте, и туда надо звонить, чтобы получить соединение. Еле-еле, чуть слышно, доходят слова приказов.
«Начальникам всех лагпунктов и Олпов: приказываю! Согласно директиве наркома... согласно приказа за №... поднять темп вывозки... в недельный срок ликвидировать залежи... приказываю: за невыполнение сместить... отдать под суд... в последний раз предупреждаю - ставлю на вид - объявляю строгий выговор...»
Всю долгую ночь переговариваются между собой в онежском лесу начальники, главбухи, коменданты и завснабы, техконтроль и охрана. Лагерь погружен в темноту. Только на вышках, где часовые, горит свет. Лес шумит кругом, порывы ветра сотрясают его вершины, из леса несется рокот и ропот, как при морском прибое. И всю ночь дико воют собаки охраны. Человеку, сидящему за столом, все это кажется сном. Как он попал сюда? что он здесь делает?
Ночной обход. Стрелки идут по баракам, заглядывают в контору, перелистывают бумаги на столе дежурного. - «А это кто?» - Рядом, в помещении УРБ спят зэ-ка из персонала учетно-распределительного бюро - на тех самых столах, за которыми днем работают.
В два часа ночи трещит телефон, и диспетчер отделения сообщает, что подан состав в 18 вагонов на такой-то участок для нагрузки.
Тревога! Этот состав подан с опозданием в 36 часов, но все равно - раз он прибыл, он должен быть нагружен немедленно, ибо за простой вагонов отвечает начальник из своего кармана, а зэ-ка - перед начальством. Тревога! Дежурный звонит на вахту, просит разбудить начальника. Дежурный бежит к старшему нарядчику. Старший нарядчик Гриб торопливо одевается. Ему предстоит поднять среди ночи бригаду грузчиков, которая вернулась поздно вечером и спит каменным сном после своих каторжных 12 или 15 часов. К ним сейчас войти - все равно что укротителю в клетку с хищными зверьми. Нарядчик прежде чем войти в их барак, украдкой крестится. Стрелки из ВОХР'а следуют за ним, на всякий случай. Разбуженные люди рычат и огрызаются, зовут в свидетели бога и чорта, что они свое отработали, ноги у них не стоят, руки и плечи разбиты. - «Иди ты...! - Иди отсюда, не доводи до греха!» - Но нарядчик тверже стали, его не собьешь. Пробует то лаской, то угрозой. Бригадир приходит ему в помощь. Начинают вылавливать более смирных, послушных. Когда трое-четверо поднялись, легче говорить с остальными. Входит начальник лагпункта, встревоженный, злой, невыспавшийся. - «Братцы, - говорит он, - ребята, не выдайте!» - и обещает им премии, неслыханную кормежку, а через минуту скрипит зубами и угрожает сжить их со свету. С обеих сторон бешеные лица, исступление, отчаяние. Эти ночные сцены вывода на работу изнеможенных, пьяных от усталости и желания спать людей полны грозового напряжения. Столкновение зэ-ка и администрации всегда кончается победой нарядчиков и начальников, за которыми весь аппарат власти, штыки, револьверы и распоряжение скудным лагерным пайком. Через час или два бригаду выведут. Но пока идет уговаривание, весь лагерь неспокоен. В соседних бараках просыпаются люди, подымают головы: «что там такое?» - «Бригаду выводят, тише! а то и нас подымут!» - Нагрузка не в очередь, ночью в лесу, в дождь, снег или бурю - от одной мысли пробирает дрожь. - «Лишь бы дали долежать до подъема!» - Люди, которые теперь уйдут, не вернутся, пока не кончат своей работы, хотя бы она продолжалась всю ночь и весь день. Единственная возможность для них вернуться в лагерь и отдохнуть - это отправить этот проклятый поезд.
И снова тихо в лагере. Час идет за часом. И, наконец, сухо шуршит телефон в конторе. Это вахта сообщает, что время давать подъем: половина шестого. Дежурный запахивает бушлат и бредет на улицу. Через минуту слышны глухие гулкие удары камнем о рельс: бум-бум-бум! - И новый день начинается на 48-ом квадрате.
Глава 11. Разговоры
Люди, которые прислали 1000 польских евреев на 48 квадрат, дали им 3 недели сроку, чтобы превратиться в лесорубов и полноценных рабочих.
Им сказали: «Ваше прошлое нас не интересует. Надо работать. Это основной закон советской жизни. Кто не работает, тот не ест. Ваше спасение в работе. Если вы слабы, то работа вас сделает сильными. Если вы больны, работа вас сделает здоровыми. Кроме работы, нечего вам делать в лагере, а если вы не будете работать, то погибнете».
Каждая работа в советском лагере была нормирована немилосердно, из расчета на полное использование сил здорового русского мужика. Чем легче была работа, тем больше была норма, которую надо было выполнить. В последнем счете все работы были равны и сводились к эксплуатации до последних пределов физической силы и выносливости.
В лагерях нет легких работ. Плести веники или полоть грядки - легче, чем работать в шахте или носить тяжести, но самая легкая работа превращается в мучение, если норма превосходит силы. Мы никогда не были в состоянии сделать то, что от нас требовалось, чтобы быть сытыми. Чем больше мы голодали, тем хуже мы работали. Чем хуже мы работали, тем больше мы голодали. Из этого порочного круга не было выхода.
На 48 квадрате столкнулся советский метод с живыми людьми. Эти люди были евреи. Мы, сионисты, знали, как трудно, как непросто сделать чернорабочего или квалифицированного рабочего из человека, выросшего в условиях еврейского местечка. Мы создали в Европе сложную систему «продуктивизации» для нашей молодежи. Мы ее посылали в 17-18 лет в «гах-шару», т. е. в пункты трудового обучения, на год или два. Потом в Палестине мы окружали ее опекой наших организаций. Кроме того, эта молодежь проходила идейную подготовку. Она была полна энтузиазма, сознания своей исторической миссии и роли национального авангарда.
Советская власть послала в лагеря массу интеллигентов, полуинтеллигентов, служащих, лавочников, купцов, мелких еврейских ремесленников. Им сказали: «вам дается 3 недели сроку, чтобы научиться работать».
«В первую неделю будет довольно, если вы сделаете 25% нормы. Во вторую неделю - 50%. В третью неделю - 75 %. По окончании 3 недель вы будете работать на общих условиях со всеми зэ-ка».
Таков был эксперимент, которому тупые доктринеры подвергли сотни тысяч людей, захваченных заграницей и поставленных в условия принудительного физического труда, т. е. каторжные условия. Эксперимент должен был дать ответ на вопрос: чего можно добиться применением прямого насилия. Средство принуждения было - голод. Руководящий принцип: каждый человек может делать каждую физическую работу.
Конечно, московским экспериментаторам было ясно, что не обойдется без человеческих жертв. В кон-це-концов лагеря, куда нас послали, были местом гибели миллионов советских людей.
Советские зэ-ка, наблюдая неприспособленность западников, большинство которых впервые брало в руки топор и пилу, говорили: «Привыкнешь! - а не привыкнешь, так подохнешь».
Но вот, прошло 3 недели, а западники на 48 квадрате так и не начали работать. Было начало сентября, тепло. Люди, попав в лес, чувствовали себя в положении ряженых, разыгрывающих какой-то нелепый фарс. Шарили в кустах за грибами и ягодами. Создалась атмосфера «пассивного сопротивления». Голод заставлял их думать не о стахановских рекордах, а о продаже вещей. Вещей привезли с собой достаточно, а местные «вольные» люди платили дорогие цены за польские костюмы, рубахи, обувь. Торговля процветала. Через некоторое время стали поступать в лагерь посылки от родных и друзей. Посылки допускались весом до 8 кило. Человеку, получившему 8 кило продуктов, не нужны были лагерные «проценты».
Это вело к деморализации: слабый работник, получавший из дому посылки, питался лучше, чем советский стахановец, вытягивавший из себя жилы, чтобы заработать на «4-ый котел».
В особенности курьезно выглядели бригады долгополых галицийских евреев. Были случаи, когда бригада в 30 человек делала сообща 90% одной нормы, т. е. меньше, чем полагается сделать одному человеку. Бригадир вечером делил эти 90% на 30 человек, т. е. по 3% на человека. Люди получали первый котел, т. е. полкило хлеба и суп. Рассуждали так: «100% мне все равно не сделать, а если за 3%, за 15% и за 50% все равно дают тот же первый котел, то зачем стараться? Хватит 3%. Продам пару штанов и подожду, пока пришлют посылку».
Это был расчет индивидуалистический, антигосударственный, презренный в глазах советского человека. Ясно, что отношения между управлением ББК и такими эгоистами должны были скоро испортиться. Первое время начальство приглядывалось, не применяло крутых мер. Уже сам факт, что нас, «поляков», поселили отдельно, на особом лагпункте, очень подымал нас - не только в собственном мнении, но и во мнении местных властей.
Прошел месяц с небольшим и грянул гром. В лагерь прибыли для нас приговоры. Нас сперва посадили, а потом приговорили. До этого времени мы жили без сроков, и власти сомневались, считать ли нас вообще за заключенных. Теперь все сомнения рассеялись.
Особое Совещание НКВД в Москве, рассмотрев наши дела, вынесло нам приговоры за такие преступления, как отсутствие советского паспорта и нахождение на территории Восточной Польши - по 3 и 5 лет заключения. Всех нас вызвали во «2-ую часть» (УРБ), и каждому объявили его приговор. Я получил 5 лет по статье СОЭ (социально-опасный элемент) - за нарушение паспортного режима. Из двух братьев Куниных старший получил 5, а младший 3, хотя они одинаково вели себя на допросе и одинаково были виноваты, или невиноваты. Было совершенно непонятно, почему одним дали три года, а другим пять. Похоже было, что на нескольких стах тысяч бланков поставили наудачу цифры 3 и 5, где какая пришлась. Надо сказать, что западники приняли эти приговоры с большой наглостью. Подписываясь под объявлением приговора, они смеялись, пожимали плечами и вели себя так, как будто не брали всерьез своих сроков.
И в самом деле, - представить, что придется прожить 5 лет на каторге - впору было бы повеситься. Все это казалось нам сном на яву, фантастической чепухой, каким-то недоразумением.
Но другое было отношение окружающих русских. - «Вам дали детские сроки», - говорили они, - три и пять лет - это пустяк. Нам по 10 дают. А уж раз дали - не сомневайтесь! Придется вам отсидеть полный срок - «от звонка до звонка». Выбросьте из головы вашу Варшаву. Не видать вам Варшавы больше, как ушей своих.
Через несколько дней прибыли на 48-ой начальники из Пялымы: Дробышевский, Шевелев из КВО (культурно-воспитательный отдел), и другие. Созвали людей и выступили с речами. Говорили деловито и откровенно.
Нам объяснили, что надежды на возвращение в Польшу надо оставить. Нам предстоит прожить годы в лагерях. Физическая слабость не освобождает от труда. Наоборот: лежать на нарах - верная гибель. Все в лес и на работу!
Для начала 48 квадрат должен был дать Советскому Государству 15.000 кубомеетров леса в месяц.
Но заключенные не поверили помначу Дробышев-скому. Было что-то в этих людях, что лишало серьезности и веса их слова. Мы видели, что они не понимают и не чувствуют, что с нами делают. Еще больше оттолкнуло нас открытое злорадство русских лагерников и десятников по поводу наших приговоров. Эти люди не скрывали своего удовольствия и с садистическим наслаждением повторяли нам сто раз на день, что не видать нам Польши, как своих ушей. В первое время нам казалось, что все они - ненормальны, что несчастье вытравило из них способность сочувствовать чужому горю и превратило их в существа полные сатанинской злости и порочности. Прошли месяцы, пока мы научились распознавать среди них друзей и хороших людей. И еще больше времени, пока мы - или те из нас, кто задумывался над окружающим - поняли всю глубину их несчастья, беспримерного в мировой истории.
Первым движением зэ-ка после объявления приговоров было - защищаться, протестовать, аппелировать.
В советских лагерях заключенным дается полная возможность жаловаться. Рядом с обыкновенным ящиком для писем, который висит в конторе и опорожняется раз в неделю или при случае, висит еще особый ящичек с надписью: «для жалоб и заявлений Начальнику Лага, в президиум Верховного Совета или Главному Прокурору СССР». Опускаемые туда заявления, конечно, не свободны от общей цензуры. Цензуре подлежит все, что пишет и получает зэ-ка. Однако, если цензура, культурно-воспитательная и политическая часть не воспротивятся, то заявление, с приложением характеристики заключенного, будет отослано. Через месяц после того, как оно было опущено в ящичек, зэ-ка получит официальное уведомление, что его обращению дан ход. Еще через полгода или 9 месяцев придет долгожданный ответ из Москвы.
В ту первую осень и зиму западники 48-го квадрата написали невероятное количество жалоб, аппеля-ций и просьб о помиловании на имя Калинина, Берии и др. сановников. Русские зэ-ка немало потешались над их содержанием. Сами они, умудренные горьким опытом, ничего не писали. Писание заявлений, вроде кори,-детская болезнь каждого лагерника в первый год его заключения. Советская власть достаточно терпима и гуманна, чтобы дать каждому заключенному возможность «выкричаться». В московских архивах лежат миллионы заявлений из лагерей, в том числе и мое, писанное осенью 1940 года.
В этом заявлении я просил пересмотреть мое дело и освободить меня. Я рассказывал свою писательскую биографию, историю своего приезда из Палестины в Польшу летом 39 года, объяснял очень красноречиво, что я человек мирный и прогрессивный, никогда ни в чем не провинился пред Сов. Союзом, не жил в нем и не переходил его границ, ни легально, ни нелегально. Красная Армия, освобождая Западную Белорусь, нашла меня на территории б. польского государства. Для других польских беженцев дорога возвращения домой временно закрыта, но я, как постоянный житель Палестины, могу туда вернуться без трудностей. Советская власть, к моему глубокому сожалению, признала меня СОЭ - социально-опасным элементом для Сов. Союза, а потому нет ничего проще, как разрешить мне вернуться домой, где я имею возможность быть общественно-полезным гражданином. Это, и многое другое было выражено с большой силой убеждения и доверия к советскому гуманизму на 2 листочках почтового формата и сдано в КВЧ, где мне, по знакомству и как секретарю начальника, написали замечательную сопроводительную характеристику.
Через полгода пришел и ответ. Трудно дались мне эти полгода, и, расписываясь в получении во «2-ой Части», я уже менее твердо стоял на ногах. Ответ был на печатном бланке. Из него вытекало, что ни Калинин, ни Верховный прокурор СССР не читали моего заявления. Из их канцелярий мое заявление было переслано в низшую инстанцию, оттуда в третью, в четвертую и, наконец, прибыло в г. Пинск, к районному прокурору, тому самому, который был ответствен за мой арест. Этот прокурор взял печатный бланк, проставил мою фамилию, подписал и отослал обратно. На печатном бланке было изображено:
- «По рассмотрении жалобы (такого-то)... признано, что наказание определено ему правильно и в соответствии с содеянным».
Это «в соответствии с содеянным» никак не вязалось с моей статьей «СОЭ», из которого вытекало только, что я человек опасный, подозрительный - но еще ничего на сделавший, т. к. в этом случае мне положили бы букву «Д» вместо «Э» - «деятель» вместо, «элемент», - и я бы тогда не отделался какими-нибудь 5 годами. Я ничего не «содеял» и не мог быть поэтому наказан «в соответствии с содеянным». Но трудно было требовать от советской юстиции, чтобы она входила в частные обстоятельства каждого из миллионов лагерников. Калинин получал в течение года из лагерей столько заявлений, что ни он, ни его персонал не могли, даже при искреннем желании, их прочитать. Советская карательная система оперирует миллионами и массовыми мероприятиями. Отдельный человек, попавший в лагерь и потонувший в общей массе зэ-ка, не может, как правило, выбиться из нее в индивидуальном порядке.
Через несколько дней посетил наш лагпункт Степанов - уполномоченный 3 части. Такие «уполномоченные», осуществляющие политический контроль и негласное наблюдение .- «глаза и уши НКВД» - состоят при каждом отделении и возбуждают всеобщий страх. Это - фактические господа в лагерях. Степанову уступили кабинет начальника. Это было днем. Мое место работы находилось в проходной комнатке в этот кабинет, и я воспользовался минутой, когда он был свободен. Постучал и вошел.
Степанов был маленький взъерошенный офицерик, с колючими злыми глазками. Сидя за столом, с расстегнутым воротом гимнастерки, он подозрительно всматривался в меня.
Я сказал ему, что получил 5 лет сроку, и хочу знать, позволяется ли написать об этом заграницу - жене. Пропустят ли заграницу мое письмо.
СТЕПАНОВ: Не понимаю, зачем вам писать жене о таких вещах.
Я: Жена - близкий человек и должна знать о судьбе мужа. У нас на Западе так водится. Пять лет - большой срок. Моя семья должна знать, что со мной случилось, не должна оставаться в неизвестности. Может быть, жена моя не захочет ждать меня так долго.
СТЕПАНОВ: Ваша жена сама должна понимать, что вы к ней больше не вернетесь. О чем тут еще писать? Это само собой ясно.
Я: В Советском Союзе это ясно, но не заграницей, у нас о лагерях понятия не имеют. Моя жена не знает, где я нахожусь.
СТЕПАНОВ: Вот вы все говорите «у нас», «у нас». __ «У нас» и «у вас». Любопытное разделение. В виду этого я должен вам задать вопрос: какое ваше отношение к Советской власти?
Я: ...Отношение положительное. Я еврей, и вижу, что Советское Правительство не преследует евреев, как другие государства. Я трудовой интеллигент, т. е. с классовой точки зрения нет у меня оснований относиться враждебно к Советской власти. Кроме того, я, как человек науки, отдаю себе полный отчет в ценности марксизма.
СТЕПАНОВ: Вот и ладно. Если сам трудящийся, зачем же говорить все время «у вас» и «у нас». Советский Союз есть родина всех трудящихся. Значит, и ваша родина.
Тут я вышел из себя и, забыв всякую осторожность, все обстоятельства места и времени, сказал уполномоченному тоном учителя, поучающего непонятливого ученика:
- Ошибаетесь, гражданин уполномоченный. Это простое недоразумение. Советский Союз есть родина всех трудящихся в смысле идейно-политического центра, а не в географическом смысле. Нельзя требовать от трудящихся всего мира, чтобы они жили в Советском Союзе и считали его своим отечеством. Моя родина - Палестина. Там я жил до войны, там и дальше хочу жить.
Степанов покраснел от негодования. В эту минуту вошел в кабинет кто-то из его помощников.
- Вот полюбуйтесь, - сказал Степанов, показывая на меня, - сидит и объясняет, что Германия его Родина.
Тут я увидел, что уполномоченный был не силен по части географии. Палестину он причислял к Германии. Но было уже поздно учить его географии.
Пускаться в диспуты с представителями политической полиции вообще небезопасно. Но с уполномоченными НКВД в лесах русского севера это просто лишено всякого смысла. Никогда нельзя знать, что из этого получится.
Этот разговор имел для меня роковые последствия. Степанов распорядился немедленно удалить меня из конторы. - «Это, - сказал он начальнику Петрову - человек не наш. Такого человека, который все говорит „у нас“, да „у вас“, нельзя держать в конторе, где он в курсе всего происходящего. Отправьте его в лес, на общие работы».
Слетел со своего поста «плановика» и мой сосед по конторе, Шпигель. Как-то сидел он вечером за своими досками, на которые наносил %% выполнения плана, когда вошел к нему начальник лагпункта. К тому времени простодушный и неумелый Петров был уже снят со своего поста, и начальником был у нас украинец Абраменко. На столе лежала свеже-при-нятая телефонограмма: «Приказываю...» Это было распоряжение не выдавать освобождаемым из лагеря денег на покупку жел.-дорожного билета к месту жительства. Они должны были покупать билеты из собственных средств.
- Правильно! - сказал Абраменко.
- А я думаю, что неправильно! - сказал Шпигель, обманутый добродушной миной Абраменко. - Во всем свете принято, что освобождаемых из тюремного заключения отправляют домой за счет государства, так же как и привезли их за счет государства. А тем более в Сов. Союзе, где такие расстояния. Тут на билет надо по 100 и 200 рублей. Откуда им столько денег взять?
- Как это - откуда? - сказал Абраменко. - Мы им даем возможность заработать в лагере.
- Как же вы так можете говорить? - огорчился плановик Шпигель. - Разве вы не знаете, что здесь работяги зарабатывают? Да вот, я здесь имею все цифры, посмотрите...
И показал ему то, что Абраменко отлично и без него знал: фиктивные заработки работяг сводятся к символическим выплатам, к жалким грошам.
- А я сам, - сказал Шпигель, каждым словом копая себе яму - что я здесь зарабатываю? 10 рублей в месяц. Откуда же я возьму на билет в Варшаву? Туда, может, 500 рублей надо.
В эту минуту вошел с улицы комвзвода и, грея руки у печки, стал внимательно прислушиваться.
- Что, все еще о Варшаве думаешь? - сказал Абраменко со злостью. - Вам, полякам, кол на голове теши, все мало. Вы теперь советские.
- Вы все контрики, - сказал комвзвода. - И все твои разговоры контрреволюционные. И не поедешь ты в Польшу. Нет твоей Польши больше.
Тут Шпигель спохватился, что наговорил лишнее, и стал изворачиваться, как умел. Но было уже поздно. Уходя, Абраменко сказал ему, чтобы он в контору больше не приходил, и велел ему утром явиться на развод с рабочими бригадами.
После разговора со Степановым я все же написал письмо в Палестину, моей жене. Это было очень лаконическое сообщение о том, что я приговорен к 5 годам заключения в лагере, нахожусь в такой то местности, благодарю за все, что было в прошлом и прошу не отчаиваться.
Это письмо, так же как и последующие, никогда не было ею получено.
Глава 12. Бригада Карелина
Когда выяснилось полное неумение и нежелание новоприсланных работать, управление ББК приняло первые меры: решено было покончить с изоляцией «поляков». Понемногу стали их вывозить и распределять по окружающим лагпунктам. На их место прислали «туземные» бригады. Советские зэ-ка должны были подавать пример, увлекать за собой и учить новичков работать.
Предполагалось, что первые советские бригады на 48-ом квадрате будут состоять из людей надежных и отборных, способных выполнить воспитательную миссию. В секретном циркуляре Управление ББК рекомендовало выбирать людей для отправки в польские лагеря особенно заботливо и осторожно, обращая внимание не только на трудовые качества, но и на моральное состояние. Но циркуляр не много помог. Выполнить подобное предписание было не то что трудно, а просто невозможно. «Моральное состояние» советских заключенных в общем и целом соответствует их рабскому и подневольному состоянию. Начальники так и не смогли подобрать нам идеальных сожителей. С присылкой советских бригад кончилась идиллия на 48-ом квадрате.
Управление ББК имело все основания рекомендовать крайнюю осторожность в выборе советских зэ-ка. Как; волки в стадо овец, вошли они в нашу среду. Овцы сбились потеснее. Дневальным был дан приказ не допускать посторонних в бараки и даже запираться после поверки и ужина. Наши новые соседи быстро прошлись разведкой по лагерю - побывали во всех помещениях, перещупали глазами, где что лежит. У поляков стояли под нарами чемоданы, висели на гвоздиках пальто. В первую же ночь лихие налеты и дерзкие кражи показали нам, что времена безопасности кончились. - Урки пришли!
«Урками» называется в лагерях элемент уголовно-бандитский, не по статье кодекса, а в психологическом смысле, как особый лагерный тип. Урка - человек-хищник, которому наплевать на дополнительные несколько лет срока, - бандит и вор, берущий все, что ему попадает под руку, пользующийся чужой слабостью или глупостью без зазрения совести. Урка живет сегодняшним днем, и не рассчитывает надолго вперед. Все, что ему дается, он съедает немедленно, что плохо лежит - забирает, и вечно ходит голодный, озлобленный, готовый на драку и кражу.
Начальство многое прощает уркам, потому что опасается их, с одной стороны, а с другой - не считает их политически-опасными. За небольшую компенсацию урки охотно занимаются шпионажем и сотрудничеством с третьей частью. В советских лагерных условиях, где «бытовики» и «политические» смешаны, «бытовики» во всех отношениях привилегированы, т. к. режим в основном не считает их врагами. Хулиганство урок не мешает им ругать своих товарищей из западников «проклятыми фашистами», а евреев, вдобавок, как в погромные царские времена, «жидами». Урку сразу можно отличить - по его драной одежде, по вызывающей и нахальной манере держать себя, по безобразной речи и готовности в любой момент вступить в драку. Молодежь, попадающая в лагерь, быстро дичает и превращается в урок. Этой судьбы не избежали и наши молодые люди, «западники», независимо от их социального происхождения и воспитания.
В семь часов утра на следующий день после беседы с уполномоченным, я вышел в лес с пригадой Карелина. Это была «смешанная бригада» из западников и советских зэ-ка. Карелин был дюжий и хитрый мужик с бородой. Его бригада считалась и легкой, и спокойной. Я мог быть доволен, что попал туда.
В то утро я был полон энергии и боевого духа. Мне хотелось проверить себя и показать, что я гожусь на физическую работу. Я взялся за дело с необыкновенным энтузиазмом. Мы ушли в гущу леса, километра два за ворота. Пахло хвоей и сыростью, ограды и строений не было видно.
Стрелок сел в стороне. Заключенные разожгли ему костер. От времени до времени он вставал от костра и обходил разбросанные по лесу звенья, считая людей. Он не позволял расставлять людей на слишком большом пространстве. Если имел сомнения, давал свисток, и люди бригады немедленно сходились к нему на поверку.
Карелин поставил меня и других с топорами расчищать полянку. Люди вяло ковырялись, работа не клеилась, и стрелок несколько раз подходил подгонять людой. Но меня подгонять не надо было. Наоборот. Первое, что я сделал - я срубил молодую елку, - первое дерево в своей жизни. Я опустил его прямо на голову своему соседу. Его звали Айзенберг.
Этой фамилии я не забуду до конца жизни. Елка была небольшая, иначе песенка Айзенберга была бы спета. Он слабо ахнул и осел на землю. Елка, падая, задела и оцарапала ему голову. Ничего серьезного не было, но при виде крови Айзенберг поднял крик, а я испугался на смерть. Я перевязал ему голову своим последним носовым платком и был в отчаянии. Айзенберг до конца дня уже не работал и скорбно сидел в стороне, с перевязанной головой. Потом ему еще дали освобождение на 2 дня, так что в общем он вышел неплохо из этой истории. Чтобы искупить свой грех, я бросился с топором на елки и рубил один. Остальные сидели на траве и смотрели угрюмо на мой пыл: - «Куда торопишься? Времени нет? За пять лет еще наработаешься!»
Я помню, что я таскал срубленные ели к огню, и они были тяжелы как свинец. Я никак не мог поднять их. Ничего удивительного. Я был близорук, как крот, и, наступив ногой на ветвь, руками тащил ствол. В общем это были чаплиновские подвиги. Поведение моего звена раздражало меня. Вечером я сказал Карелину: «Завтра поставь меня в другое звено. Я хочу настоящую работу».
На второй день я получил настоящую работу. Бригада Карелина была «лежневая» бригада. Мы строили «лежневку», дорогу в глубь леса. Вырубленный лесной участок представляет собой нагромождение сотен сваленных стволов в чаще. Обыкновенные возы до них добраться не могут. Вывозка леса совершается с помощью «трелёвки» и лежневых дорог. Из самых отдаленных углов лес вытаскивают «трелевщики». Они зацепляют отдельные стволы крюком и цепью и подтаскивают их лошадью к месту, до которого доезжает возчик. Возы же проникают в глубину леса по лежневке. Это - лесная железная дорога, где вместо железных рельс - деревянные рейки.
Звено лежневой бригады состоит из 3-4 человек. Основной работник действует топором и буравом. Наметив трассу дороги, он очищает ее от кустов и зарослей, выкорчевывает случайные пеньки по дороге,выравнивает бугорки. Все это легко пишется, но очень нелегко делается. Тем временем остальные валят деревья небольшой толщины, из которых приготовляют рейки в 10-12 метров длины, - и потолще, из которых режутся шпалы. Звеньевой укладывает шпалы в 2-метровых промежутках; на шпалы, в виде деревянных рельс, кладутся рейки. Толстый конец рейки называется «комель». В нем топорам вырубается ложе, в ложе вкладывается тонкий конец другой рейки, под комлем лежит шпала. Шпала и обе рейки в месте скрепления пробуравливаются насквозь, и в отверстие загоняется клин, заостренный книзу, который глубоко вбивается в землю. По деревянному полотну лежневой дороги едут возы, груженные лесом, в любую погоду и грязь. Лежневка строится быстро и держится годик, т. е. как раз время, пока продолжается вырубка на данном участке. Работа звеньевого не очень трудна, но требует плотницкой сноровки, умения быстро и ловко обтесывать рейки, пригонять и закреплять их. Звеньевой сидит с топориком, нарезает колышки и укладывает лежневку. Два или три его партнера беспрерывно валят деревья, распиливают их и сносят на трассу рейки и шпалы.
Наше звено состояло из 3 человек. Главным был Скворцов - большой, с широкой грудью, орловский мужик, солидного вида, уже не молодой. Скворцов и Карелин были друзья. Скворцов был прекрасный, уверенный в себе работник. История его была такова:
Во время большого голода 1931 года он был заведующим складом зерна. Его ближайшая родня умирала с голоду, и он согрешил: выдал им несколько мешков государственного хлеба. Это открылось по доносу, и его приговорили к высшей мере. Во внимание к его бывшим боевым заслугам во время гражданской войны, ему заменили расстрел 5 годами заключения. Отсидев 5 лет в лагерях, Скворцов был освобожден и выбрал на жительство один из районов Центральной России. Там он работал на заводе. Отлучаться из района он не имел права. Через некоторое время его позвали и предложили быть осведомителем на заводе. Скворцов отказался, но сказать категорически «нет!» побоялся. Его стали часто звать в НКВД, нажимать, угрожать, а когда увидели, что он старается вывернуться, - поставили ему ультиматум: к определенному сроку потребовали от него 25 фамилий «врагов народа» на заводе - «Если не принесешь списка, сам пойдешь в лагерь», - сказали ему.
- Почему же обязательно 25 фамилий? - спросил я Скворцова. - А если нет столько врагов народа на заводе?
- Да ведь и у них своя разверстка, - объяснил Скворцов: - им велено приготовить партию в лагерь, - столько-то людей. Должны быть на этом заводе 25 людей, по плану. У нас всюду плановое хозяйство.
Так как Скворцов не дал им требуемого списка в 25 человек, то они взяли его самого. На этот раз ему дали второй срок - 10 лет, и послали в ББК в качестве «КРЭ» (контрреволюционный элемент).
Здесь он заболел язвой желудка. Этот большой, степенный человек каждый вечер являлся в амбулаторию клянчить у врачей немного соды, без которой не мог жить. У меня было с собой несколько порошков, которые я ему дал и обещал, что напишу матери, чтобы она мне прислала соды в посылке. Это очень расположило Скворцова в мою пользу, и мы встретились в лесу, как друзья.
Второй в звене был Батукай - немой, горбоносый чеченец, силач с лицом ребенка. Батукай сидел за «бандитизм», хотя так и нельзя было понять, что это была за банда, в которой он участвовал. Батукай ворочал без усилия огромные бревна, но в быту был ласков и смирен, как послушный ребенок. Он издавал нечленораздельные звуки, объяснялся знаками или так выговаривал слова, как младенец, только что начинающий лепетать.
Трудно было соединить более разных людей, чем этот кавказский горец со стальными мускулами, орловский мужик с язвой желудка, и гость из Европы, воспитанный на Канте и Гуссерле, в очках и с видом изумленного барана. Норма составляла 171/2 метров на человека. Чтоб заработать на 2-ой котел, нам надо было уложить втроем 52% метра, но мы делали под 70. Это составляло 140 метров реек. Только на рейки надо было свалить с дюжину сосен, а кроме того другую дюжину на шпалы.
Когда первая рейка была готова, Батукай с легкостью положил ее толстым концом на плечо, а я не без усилия поднял на плечо ее второй тонкий конец. Мы понесли ее к Скворцову. Я пошатывался, но все же нес. На мне была желтая кожаная куртка, которая прекрасно подходила для работы в осеннее время. Казенных вещей я в то время не носил - свои были. Двенадцатиметровая рейка тяжко давила на плечо. Дойдя, мы сбросили по команде одновременно. Я вытер пот со лба. Потом тихонько взял рукавицу и подложил себе под куртку на плечо, чтобы меньше давило. Батукай валил сосну за сосной, я не успевал обрубать концы и ветви. Плечо онемело, грудь болела, но я сжал зубы и решил не сдаваться.
Несчастье было в том, что мы не шли по ровному месту. Рейки надо было таскать недалеко, метров за сто, но по дороге были груды высохшего хвороста, предательские ямы, стволы, через которые надо было перелезать. Батукай шел вперед, как танк, не останавливаясь. У меня стало перехватывать дыхание, круги поплыли пред глазами. Донести во что бы то ни стало! Вдруг я крикнул: «Стой, стой!» Передо мной была канава. Я чувствовал, что не смогу так просто находу перескочить ее с 12-метровой рейкой на плече. Мне надо было остановиться на секунду, собраться с силами. Батукай с удивлением оглянулся и неодобрительно хмыкнул.
Я донес эту рейку. Теперь мне надо было отдохнуть. Пять минут. Больше ничего мне не надо было в жизни. Батукай уже кивал издали. Я пошел к нему, медленно, отдыхая по дороге. Каждая секунда передышки считалась.
На последней рейке я упал. Это была 13-метровая рейка. Двенадцать метров - был максимум того, что я мог вытянуть. Это было нелепое ощущение. Я мог бы держать эту рейку стоя, но на ходу она просто придавила меня к земле.
В полпути я шагнул в яму, напрягся всем телом. Батукай неумолимо тянул меня, я рванулся и, чтобы не выпасть из ритма, сделал какой-то лишний шаг. Колени у меня подогнулись, и я рухнул под своей ношей.
На счастье, это был конец. Нас звали на «полдник». Со всех сторон сходились звенья на возвышенность, где у большого пня стоял человек из кухни с ведром каши, стрелок и Карелин. Издалека виден был возок с зеленым боченком: это везли на «производство» кипяченую воду, объезжали бригады. Каша полагалась только стахановцам. Остальные просто пили воду и отдыхали. Скворцов и Батукай отпилили себе сосновые круглые диски, как подносы, выстругали по щепке в виде лопаточки. Каждому положили крошечный черпачок пшенной каши. Карелин мигнул повару - и я тоже получил черпачок каши, для первого раза, в виде поощрения.
Но за 13-метровые рейки я уже не брался. Мои товарищи по звену видели, что это мне действительно не под силу. И на второй день Скворцов, с его язвой желудка, молча отстранил меня и понес рейку с Батукаем. Я взялся за бурав, сознавая, что в этом звене мне уже не работать. Меня перевели на носку шпал. Следующие дни мы работали в болотистой низине, где приходилось укладывать шпалы одну за другой, сплошным настилом.
Я брал по две шпалы на плечо и медленно шел 100-200 метров в глубь леса. Вода хлюпала под моими ногами. В начале дня я еще выбирал сухие места, но под конец мне уже было все равно. Скоро мои брюки изорвались в клочья, куртка на плече прорвалась и почернела от грязи. Руки мои были в ранах. Но хуже было то, что я не выходил из состояния изнеможения. Мне было 40 лет, когда я попал в лагерь. Организм трудно приспосабливался. Весь день я работал как вьючное животное и со страхом думал, что сил у меня долго не хватит. Присесть на конец бревна и 5 минут сидеть неподвижно - было пределом желаний. Через несколько дней я получил растяжение сустава. Кисть напухла, и я перестал владеть правой рукой. Это не освободило меня от носки, но теперь работа превратилась для меня в пытку. В короткий срок я осунулся до неузнаваемости.
Возвращаясь в барак после дня работы, весь мокрый и грязный, я валился на жесткую нару и час лежал без движения. Придя в себя, я шел за ужином. После дня без еды у меня не было аппетита, и за ночь я не успевал отдохнуть. Бараки еще не топились, не было сушилки, и моя обувь и носки не просыхали к утру. Утром я одевал все мокрое и выходил на развод с отчаянием. Мне нужна была передышка, но вот прошло уже 10 дней, а выходного дня все не было. В лагерной неделе не было воскресенья.
В последние дни я был уже совсем подкошен и разбит. Тогда случилось, что мы вечером задержались с работой на нашем участке, и Карелин в 7 часов вечера ушел - без нас - со всей бригадой в лагерь. Мы разминулись с ним, и в сумерках остались одни в лесу. Как произошло, что стрелок нас не искал, я до сих пор не понимаю. Очевидно, Карелин убедил его, что мы присоединимся к бригаде по дороге.
Я был измучен варварски, но в эту минуту мы все пережили большой испуг. На вахте наше отсутствие должно было вызвать тревогу, немедленную высылку стрелков с собаками, а по возвращении - карцер в лучшем случае. Если бы к тому нас обвинили в побеге, мы рисковали судом и дополнительными годами заключения. Мы бросились бежать через лес по направлению к лагерю. Скоро я потерял из виду Скворцова и других. Они бежали как от смерти. Стало темно, и в темноте я скоро перестал слышать их голоса...
На счастье, я добежал до линии узкоколейки. По Полотну я прибежал, задыхаясь, к вахте в последнюю Минуту, когда уже пропускали нашу бригаду. Однако, это отчаянное усилие не прошло мне даром. После ужина мне стало скверно. Я почувствовал слабость и боль во всем теле. Потом у меня началась рвота.
Все крепко спали, и никто не подошел ко мне. На рассвете нашли меня без сознания. Все кругом спешили на развод, и ни у кого не было для меня времени. Все же кто-то поинтересовался мной: неизвестные руки украли калоши, в которых я ходил на работу. У меня вытащили бумажник, полотенце, кашне, как будто я уже умер. В бумажнике находились фотографии из дому, которыми я очень дорожил. Оставили мне только рваные ботинки, которые уже не годились в осеннюю грязь.
Нарядчик махнул рукой при виде заблеванных досок, на которых я лежал, и в 11 часов взяли меня в стационар.
За З с половиной месяца со времени ареста это был мой первый настоящий отдых. Я был счастлив. Никакие санатории и европейские курорты, которые я посетил в моей бывшей жизни, не могли сравниться с этим божественным местом.
Стационар состоял из кухни, где на кровати спал врач, и из комнаты, где стояли койки, настоящие деревянные койки с сенниками, подушками и солдатскими одеялами. Было чисто и тихо. Сюда не приходили нарядчики гнать на работу. Я разделся и лежал в больничном белье. Врач, сестра и санитар - были свои люди, западники. Правда, не могли мне дать нужной диэты, но зато еду приносили в постель. Было 8 больных. Один из них, молоденький артист из варшавского «Театра млодых», декламировал и рассказывал анекдоты. В углу лежал Гайслер, известный варшавский педагог.
Нехорошо было только, когда приходилось, закутавшись в одеяло, выходить во двор, в ненастную октябрьскую слякоть. Тогда ноги оступались и скользили по грязи, голова кружилась. Более слабых больных провожал санитар.
Недолго продолжался отдых в стационаре. Где-то нашелся том Шекспира; я перечел «Гамлета» и «Короля Лира». Ни книг, ни газет, ни радио не было на 48-ом, и со времени ареста мы были отрезаны от известий о внешнем мире. Я проводил время в разговорах с Гайслером. Летом 39 года, накануне войны, я читал в варшавском журнале большую статью Гайслера о неизданных произведениях Габриели Запольской. Это был заслуженный педагог с многолетним стажем, известный в польских литературных кругах критик и историк литературы, человек вне политики. Этот деликатный и болезненно-хрупкий человек бесконечно тосковал по родине, по дому, по семье. В Варшаве осталась у него жена и пятилетняя дочурка. Он без конца вспоминал ее, спрашивал, суждено ли ему еще увидеть свою девочку. Я уверял его, что злые времена скоро минут, и мы вместе отпразднуем возвращение...
Теперь эти строки - единственная память об этом человеке. Погибла не только его семья и любимая им крошка - немцы уничтожили, повидимому, весь круг людей, которые читали и знали Гайслера. Некому вспоминать его в новой Польше. А самого Гайслера убили в исправительно-трудовом лагере. Кому-то понадобилось исправлять его трудом. Нельзя назвать смерть этого человека в лагере иначе как убийством. Его гоняли в лес беспощадно, несмотря на тяжелую астму. Там, в польских бригадах, товарищи-заключенные имели к нему столько уважения, что позволяли ему сидеть, почти не принимая участия в работе, а польский бригадир в конце дня писал ему в «рабочем сведении» 30% - норму, недостаточную, чтобы жить, но необходимую, чтобы избежать посадки в карцер. Как долго могло это продолжаться?..
Продержали меня дней пять - и наступило «изгнание из рая». Я отдохнул, боли прошли, и надо было положить другого на мое место. Прежде чем вернуться в лес, я успел еще четыре дня посидеть в лагере на «специальной работе»: переводчиком у судебного следователя.
Я уже упомянул выше, что в лагере находился транспорт злочевских евреев, привезенных без допроса и дознания. Теперь из самого Злочева прибыла следственная комиссия для допроса в самом лагере. Допрашивало двое молодых «юристов» - вежливых, корректных, того типа, с которым я уже познакомился в пинской тюрьме. Злочевские люди не понимали по-русски, поэтому требовался переводчик со знанием еврейского, польского и русского языков. Меня назначили в распоряжение комиссии. Допрашивали утром и вечером. Каждый вечер я получал список в 50 фамилий людей, которых надо было утром через нарядчика снять с развода. Очередь стояла в коридоре второй части, мужчины и женщины - все волновались, как будто этот допрос мог что-нибудь изменить в их судьбе. Волноваться не стоило, и сцены допросов были скучны и похожи одна на другую. Начиналось с того, что следователь протягивал папиросу заключенному. Этот жест уже был мне знаком и значил: «Не бойся! мы люди культурные и все сделаем благородно, по закону». Потом начинались стереотипные вопросы: имя, где, когда родился, где жил, чем занимался, партийная принадлежность. В «Бунде» не состояли? Сионистом не были? Пометка «беспартийный», и дальше: Есть ли родные заграницей? И как попал в беженцы? И почему отказался от советского паспорта? - Очень многие жаловались на то, что они подали заявление о принятии в советское гражданство, но не дождались ответа, а некоторые даже «получили паспорт и потеряли». - Была в массе евреев и группа «слёнзаков», т. е. силезских поляков-рудокопов, которые и в беженцах копали уголь где-то в окрестностях Злочева. Твердые рабочие лица, голубые глаза, характерный диалект и тихое, непоколебимое упорство людей, которые ждут, чтобы их отправили домой, на родной «Слёнск». Каждый брал папиросу, а уходя просил еще одну, но этой уже «гражданин-начальник» не давал: на всех не напасешься. Поскольку все эти люди были уже водворены в лагерь, все эти допросы задним числом не имели никакого значения ни для них, ни для следователя. Каждый подписывался под протоколом, предварительно покосившись на меня: нет ли какого обмана?
«Сроков» всем этим людям так и не дали, да это и не было необходимо. Советские зэ-ка сидят иногда годами, не имея объявленного приговора, не зная, ни «за что», ни «сколько». Года через 2 позовут их во 2-ую часть, прочтут бумажку, где сказано, что еще остается 8 лет, предложат подписаться, но на руки никакого документа не дадут. Ни судей своих, ни доносчиков, ни обвинителей они не видят, а защитников им не полагается.
Глава 13. Расчеловечение
Зимой 40-41 года расчеловечили тысячу человек на 48 квадрате. Не все были западного происхождения. Часть из них были - советские люди. Численное отношение между западниками и советскими все время менялось на 48-ом квадрате. Западники убывали, советские прибывали, и под конец на тысячу человек осталось триста западников. Как остров, мы были окружены пестрой смесью народов СССР: великоруссами, украинцами, узбеками, туркменами, казахами, цыганами, грузинами, финнами, немцами. Во втором онежском отделении ББК было особенно много людей из Средней Азии - «нацменов».
Вид азиатских бригад наводил ужас. Чудовищно-грязные, звероподобные люди, с головами, обвязанными грязными тряпками, остатки вымерших в лагере поколений, с непонятной речью, одичавшие до какого-то пещерного состояния, они работали нечеловечески, ни с кем не смешивались и никого к себе не подпускали. Западник, которого посылали с ними работать, был конченный человек: они не признавали за ним права иметь что-либо свое, бесцеремонно разбирали все его вещи, а на работе подгоняли «дрыном», т. е. деревянным колом, били и пинали ногами как собаку. Попасть в это окружение было смертельной опасностью для западника; но с другой, российской, стороны подстерегали его «урки», которые были не лучше: бандиты, готовые всегда на циничное надругательство, грабеж, удар топором. Эти до конца расчеловеченные люди показывали нам, как в зеркале, наше собственное будущее.
Скоро ввели для западников минимум выполнения нормы - в 30%. Человек, который давал меньше, шел вечером в карцер. Уже нельзя было больше отсиживаться или медленно ковыряться на работе. Война началась на лесных участках. С утра до вечера стрелки охраны гнали людей от костров, десятники и начальники кружили по лесу, зорко следя, чтобы работа не прекращалась ни на мгновение. Голодные люди огрызались, на них замахивались прикладами, или десятник, выйдя из-за кустов, заставал врасплох людей у огня, хватал «дрын» и матерщиной подымал от костра кружок отдыхавших. Вечером наступала расправа. Каждый бригадир писал «акт» на несколько человек, не выполнивших 30%, конвойный стрелок подписывал: «Мы, такие-то, составили настоящий акт в том, что поименованные з/к-з/к бригады такой-то, дня такого-то, злостно уклонялись от работы, в чем и было им сделано предупреждение. Несмотря на предупреждение, к работе не приступили и задания бригадира не выполнили».
Начальник лагпункта, не проверяя, ставил на акте краткую резолюцию: «5 суток» или «10 суток». В течение вечера заключению в карцер подверглось 40-50 человек, а на другой вечер прибывало еще столько же. Понятно, в карцере не было для них места, и комендант ШИЗО не имел возможности выполнять распоряжения начальника лагпункта. Скоро установилась очередь в карцер. Многие так и не попадали в карцер, в особенности если принадлежали к лагерной аристократии - «придурки». Каждый вечер Панчук и «завшизо» обходили бараки, забирая по своему усмотрению в карцер из длинного списка. В бараках разыгрывались дикие сцены избиения, когда люди не шли добровольно и приходилось вызывать в помощь стрелков и помощников коменданта.
Для огромного большинства не только 100% - полная норма, но и 30% - «беженская норма» - были недостижимы, и не в силу злой воли, а по совершенно объективным основаниям. Я никогда не был в в состоянии сделать 30% на лесоповале, а на более легкой работе - пиления дров - делал 30% с крайним напряжением, работая весь день без перерыва и до последней границы своих сил. Может быть, я был бы в состоянии дать 30% нормы на разгрузке вагонов или с тачкой на земляных работах. Но для этого я должен был иначе питаться и нормально отдыхать после работы.
Рабочий день заключенного на 2 часа больше, чем для вольных. Когда весь Сов. Союз работал 8 часов в день, лагерники работали 10. Когда же в начале мировой войны, в Сов. Союзе ввели 10-часовой рабочий день, наш лагерный составлял 12. Однако, в действительности наши мучения составляли не 12 часов, а много больше. Задержки на работе, очереди под окнами кухни по возвращении, часовые стояния в строю во время поверки и на разводе - все это требовало физического напряжения и вычиталось из нашего отдыха.
Номинально зэ-ка имеет 3 выходных дня в месяц: раз в 10 дней. Однако, если выходной день не подтверждается приказом из Управления Лага, он не осуществляется. До последней минуты мы не знали на 48-ом квадрате, будем ли отдыхать, и в большинстве случаев действительно не отдыхали. Выходной день просто отменялся в виду невыполнения плана. Зимой 40-41 года, в самые лютые морозы на самой тяжкой лесной работе мы 60 дней подряд, т. е. 2 месяца не имели ни одного дня передышки.
Это кажется невероятным, т. к. превышает нормальную человеческую выносливость. Но это было одним из этапов нашего расчеловечения. Мы не имели обеспеченного нормального отдыха, и каждый выходной день был подарком и милостью начальства. Советские праздники, первомайский и октябрьский, не соблюдались в лагерях. В этот день ничего не прибавлялось к обыкновенному питанию, и заключенные выводились на работу, чтобы подчеркнуть, что праздник советских граждан не касается зэ-ка.
Заключенные не получают зарплаты. Она не полагается им, т. к. они обязаны работать в порядке наказания. Вместо этого им выдается «прем-вознаграждение». Разница между «зарплатой» и «премвознаграждением» та, что получаемые деньги не составляют эквивалента работы, а премию, которую государство выдает в качестве поощрения, не будучи к тому обязано. Это «премвознаграждение» составляет жалкие гроши. Я получал в качестве «секреаря начальника» в должности, где по штату полагается «вольный» - 15 рублей в месяц. Дневальные, которые обязаны мыть пол, нары, окна, носить воду, топить, сторожить и обслуживать многолюдные бараки, получают по 5 рублей. Месячный «заработок» работяги на самой тяжелой работе при 100%-ном и ударном выполнении нормы составляет 5-7-9 рублей.
В годы войны, когда кило хлеба стоило в лагерях Архангельской области 100 рублей, одно яйцо - 15 рублей, премвознаграждение было фикцией даже в своих наивысших ставках: врачи получают по 40, 60, иногда 100 рублей. Отдельно стоят случаи, когда «работяги» получают по несколько сот рублей - легендарные случаи, когда з/к, отбыв 10-летний срок, выходит на свободу с 3000 рублей. Об этих лагерных крезах мы скажем ниже.
Итак, непосильный труд и нищета - вот два метода, с помощью которых расчеловечивается «homo sapiens», попавший в советский лагерь. Миллионы людей принуждаются работать не по специальности. Несмотря на частые опросы, регистрации и учеты, нет никакой возможности расставить людей, попавших на эту колоссальную человеческую свалку, по местам, которые бы для них подходили. В советских лагерях, как на любой каторге в любой стране мира, не работа применяется к людям, а люди к наличной работе. Ясно, что повара, парикмахеры, сапожники и портные имеют шансы устроиться в лагобслуге, но этих мест слишком мало, чтобы хватило на всех кандидатов. Ясно, что главбух лагеря - всегда опытный бухгалтер, но не каждый опытный бухгалтер попадет в контору. Огромное, подавляющее, 90%-ное большинство идет на черную массовую каторжную работу. Лагеря, призванные «исправлять трудом» - как будто можно кого-нибудь исправить обращением в рабство - представляют в действительности дикарскую профанацию труда и неуважение к человеческому таланту и умению. Люди, десятки лет работавшие в любимой профессии, убеждаются в лагере, что все усилия их жизни - пошли насмарку. В лагере учителя носят воду, техники пилят лес, купцы копают землю, хорошие сапожники становятся скверными косарями, а хорошие косари - скверными сапожниками. Людей слабых, чтобы выжать из них максимум, посылают работать вместе с сильными и опытными: в этих условиях физический труд становится не только физической пыткой, но и глубоким унижением. Но и сильные люди не уйдут от своей судьбы. Лагерная система расчеловечивает свободных людей, превращает их в «рабгужсилу», а рабов доводит до скотского состояния, с помощью методического нажима на темп и производительность работы.
Каждый лагерь должен был выполнять годовой план. Однако, мало выполнять годовой план. Администрация, которая хочет выслужиться и получить награду, добивается перевыполнения плана. Возникает метод «трудсоревнования». На воле то же самое называется «соцсоревнованием».
В конторе 48 квадрата висел плакат, из которого мы узнали, что наш лагерь ББК заключил договор о трудсоревновании с лагерями Архангельской области. Мы взяли на себя обязательство перевыполнить план и перегнать архангельские лагеря. Управление ББК совершенно добровольно от нашего имени взяло на себя это обязательство.
Чтобы выполнить его, Управление ББК организовало внутри лагеря трудсоревнование между отделениями. В свою очередь в каждом отделении соревновались между собой отдельные лагпункты, а в каждом лагпункте - отдельные бригады.
Это выглядело так: вечером вызывали замученных, шатающихся от усталости людей, членов бригады, в «КВЧ». Организацией трудсоревновании занимается культурно-воспитательная часть. В «КВЧ» «воспитатель», платный служащий государства, держал горячую речь о необходимости бригаде «показать себя». Соседи уже взяли на себя обязательство перевыполнить план на 140%, сократить брак и поднять труд-дисциплину. Что же мы - будем хуже?
Но мы молчали. В бараке остались люди, которые, услышав в чем дело, просто махнули рукой и легли спать. Пошли те, кто не мог вывернуться, кто был «на виду» у начальства. Воспитатель в упор смотрел на бригадира. Тот начинал мямлить, заикаясь:
- Да... как же... товарищи!.. Они 140%, а мы 150! Дадим, как вы думаете?
Как и что мы думали, было ясно без слов всем присутствующим, включая и воспитателя. Он здесь был не при чем и только выполнял то, что входило в круг его обязанностей, и за что ему платили 400 рублей в месяц. Охотников выступать «против» не находилось. И так наша жизнь держалась на тоненьком волоске: не выдадут к сроку ватных брюк или переведут в нацменскую бригаду - и крышка! Итак, все подписывали обязательство, составленное по всей форме советского красноречия. Начиналось оно: «... Желая помочь Родине и доблестной Красной Армии, оберегающей нас от подлого врага...», а кончалось обязательством перевыполнить план на 150%, и не только сократить брак, но и не допустить в течение месяца ни одного случая отказа.
Все эти обязательства никем всерьез не брались - кроме начальства. Начальству же они были нужны, чтобы нажимать и требовать, оставлять на лишнее время после конца работы, грозить и не давать покоя. Всегда мы были что-то должны советскому государству, всегда мы отставали, всегда мы их подводили и были не в порядке. В лагерях и за их пределами эта система стоять с бичом над головой представляла собой самое беспощадное и самое бесстыдное средство злоупотребления властью над рабами. И никакое напряжение с нашей стороны не могло их удовлетворить. Если бригада давала 150%, начальство кивало головой и говорило: «мы знали, что вы в состоянии давать 150%», и получалось, что мы их обманывали раньше, когда давали только 100%, а теперь надо было хорошенько понатужиться, чтобы перевыполнить эти 150%, потому что вчерашний рекорд уже не импонировал. - «Надо еще лучше работать!» - «Еще больше дать Государству!» - Границей этого бега вперегонки было, когда человек надрывался. Тогда его списывали в категорию нетрудоспособных и отправляли в один из лагпунктов, где на инвалидном голодном пайке догорали живые развалины, «ветераны» лагеря.
Глубокая лагерная нищета, как ночь, надвинулась на нас. Через несколько месяцев все, что мы привезли с собой из европейских вещей и мелочей - было либо распродано, либо употреблено, либо раскрадено и отнято у нас. Самые умные из нас сразу распродали все, что могли - лагерным начальникам, нарядчикам и вольным. За это им дали работу полегче, хлеба, лишний талон. Остальные были в кратчайший срок ограблены, когда нахлынули в лагерь «урки», от которых не было спасения - и когда начались «этапы», т. е. переброски с лагпункта на лагпункт. В пути каждый западник и каждый, имевший в мешке что-нибудь съестное или представлявшее ценность, окружался бандитами, которым нечего было терять. В разграблениях участвовала администрация - коменданты и стрелки - облегчая «уркам» их задачу и получая за это свою долю. Уходя на работу, западники привязывали свои сундучки и чемоданы веревками к нарам, но это не помогало: возвращаясь вечером, они не находили своих вещей. Часто владелец какого-нибудь пальто получал со стороны дружеский совет: отдать его добром за несколько рублей. Все лучше, чем даром: а то и так отберут. Осеннее пальто, в котором я явился в лагерь, привлекало всеобщее внимание. Его сняли с меня ночью, когда я спал, накрывшись пальто, на верхней наре густо-набитого барака. В четвертом часу ночи я проснулся от того, что мне стало очень легко и холодно. Пальто исчезло, барак спал, и дневальный ничего не видел. Это пальто вынесли за вахту и недели через две продали вольному на другом лагпункте. Я знал об этом, знал, какую цену взяли, кто продавал и кто купил - но ничего сделать не мог. Лагерные власти не защищают собственности заключенных. Лагерный «закон» прост: что имеешь - береги, а не убережешь - твоя вина. В лагере каждый спасается, как может. Одно заграничное пальто на тысячу раздетых - исключение, оно всех дразнит, и сочувствие окружающих никогда не будет на стороне потерпевшего, а на стороне вора.
Постепенно мы освобождались от балласта вещей. Каждая вещь, которую вы теряли, не могла быть восстановлена. Последний кусок мыла. Последняя коробка спичек. Последняя рубашка украдена. Последний шнурок для ботинок: больше не будет уже шнурков для ботинок. У Левандовского украли, наконец, его желтые сапоги. В лагере носить такие сапоги - это просто наглость. Теперь он, как и все, обернул ноги мешком и ходит по снегу в лаптях. Последний носовой платок. Зэ-ка Марголин пробует еще некоторое время утирать нос рукавом, но это непрактично, и рукава надолго не хватит. Надо учиться по-лагерному очищать нос, приставив палец к одной ноздре и сильно дунув в другую.
Настает момент, когда мы уже больше ничего не имеем своего. Государство одевает и раздевает нас, как ему угодно. Утром на разводе вещкаптерка стоит настежь. Огромная куча вонючего тряпья выложена для босых и раздетых. Если не в чем выйти - бригадир сведет в «вещстол» - вещстол проверит по арматурной книжке, что и когда было выдано просителю, и если он не продал и не потерял, что влечет за собой наказание, - то по записке Начальника работ или Начальника ЧОС'а выдаст записку каптеру, а каптер предложит на выбор опорки и рвань, которую до тебя носили десятки других. Расчеловеченный зэ-ка выглядит как чучело. На ногах и него «ч е-т е-з э»: эти буквы значат «челябинский тракторный завод», т. е. нечто по громоздкости и неуклюжести напоминающее трактор. «ЧТЗ» - это лагерная обувь, пошитая боз мерки и формы, как вместилище ноги, из резины старых тракторных шин. Эта обувь пропускает воду: завязывают ее веревочкой или полотняными обрезками, пропущенными через прорезы в резине. Летом носят брезентовые ботинки. Зимой «че-тезэ» колоссальных размеров надеваются на ватные чулки, отсыревшие, рваные и черные от грязи. Ватные чулки завязываются веревочками на ватных же брюках, обвязанных веревкой вместо пояса. Брюки с одним карманом или вовсе без карманов, но зато с разноцветными заплатами спереди и сзади. Сверху, пока нет морозов, зэ-ка носит «телогрейку», а зимой «бушлат», который отличается от телогрейки тем, что он длиннее и в нем больше ваты. За отсутствием воротника, который можно было бы поднять, зэ-ка повязывает шею полотенцем, если имеет его, или какой-нибудь тряпкой. На голове - ушанка, из которой торчат клочья ваты. Все эти вещи маскарадного вида бывают первого, второго и третьего срока. Первый срок - это новая или почти новая вещь. Получить ее можно только стахановцам и по особой протекции, и число таких вещей всегда недостаточно. Можно пять лет провести в лагере и не получить вещи первого срока. Большинство носит «второй срок»: порыжелое, рваное, фантастически заплатанное и вывалянное в грязи тряпье. Есть и третий срок: это, когда бушлат расползается, рукава распались, тело торчит наружу из дыр, и вещь находится накануне «ак-тировки». Ибо, в конце концов, как люди, так и ве-Щи подлежат в лагере «актировке». Наступает момент, когда вещь или человек официально признаются негодными к дальнейшему употреблению. Для ве-Щей минимальный срок - год. Люди часто выдерживают дольше, и, чтобы вывести их из строя бесповоротно, нужны долгие годы мучений и лишений.
Вот стоит пред нами лагерник, с голодным блеском в глазах, нищий, наряженный в шутовские лохмотья. И эти лохмотья тоже не принадлежат ему. Если он заболел и остается в бараке, нарядчик возьмет его бушлат и бросит соседу: «одевай, этому сегодня не надо». Первая угроза начальника бригаде, которая не оправдала его ожиданий: «раздену вас, все отберу, в третьем сроке будете ходить». Однако, все это - внешнее. Много еще надо отобрать у человека, чтобы превратить его в «дрожащую тварь».
Прежде всего ликвидируются семейные связи. Лагерник не имеет права быть отцом, братом, мужем и другом. Все это он оставляет, входя в лагерь. Это несовместимо с его назначением. Поэтому внутри лагеря разделяются семьи, как во времена крепостного права в дореформенной России, или как мы об этом читали в детстве в «Хижине дяди Тома»: братьев рассылают на разные лагпункты, отцов отрывают от сыновей, жен от мужей. Это не всегда нарочно: просто, на родственные связи не обращается внимания, когда речь идет о «рабгужсиле». На 48-ом квадрате были женщины-польки, которых потом услали в Кемь, на берег Белого моря, где организовывались особые женские лагеря. У этих женщин были мужья, братья и дети на 48 квадрате, но это не интересовало Управление ББК. Я помню одну из них - кузину известного польского писателя Веха. Это была женщина высокого роста, с гордой осанкой. Но вся гордость и самообладание оставили ее, когда пришла минута прощания с ее 18-летним сыном, и их пути разошлись - может быть, навсегда. Не раз в те годы на моих глазах отец, плача, обнимал сына, и брат брата, расходясь под конвоем в разные стороны. И я сам неизменно терял в лагере всех, с кем меня сводила судьба и в ком я видел друга. В лагере не стоит сближаться с людьми: никто не знает, где будет завтра, каждую минуту может войти нарядчик и отдать приказ: «с вещами на вахту» - на другой лагпункт, где требуются рабочие руки. Систематически производятся переброски, также и с той целью, чтобы люди не привыкали к месту и друг к другу, чтобы не забывали, что они только «роботы» - безличные носители принадлежащей государству рабочей силы.
Расчеловечение идет, следовательно, не только по линии эксплоатации с помощью материального нажима и притеснения, но и по линии обезличения. Мы, западники, долго сопротивлялись этому обезличению. Мы называли друг друга «г. доктор», «г. адвокат», сохраняли смешные и церемонные формы вежливости, хотя каждый из нас был как то срубленное дерево, корни которого видят сон о несуществующей вершине. В этом выражался упрямый протест, когда «доктором» называли человека в рубище, таскавшего носилки с землей, а ночью спавшего не раздеваясь на голых досках. Для администрации лагеря и огромной массы советских зэ-ка, в которой мы постепенно и безнадежно растворялись, эти различия не существовали. И мы постепенно забывали о своем прошлом. Если первое время нам казалось невероятным сном то, что с нами сделали, то через короткое время, наоборот, сном стала нам казаться вся наша бывшая жизнь. Европейская культура, идеи, которым мы отдали свою жизнь, люди, которых мы любили и которые шли с нами вместе, - весь этот мир, где мы были полноценными и гордыми людьми - все было сном, все только привиделось нам.
Постепенно отпадают или деформируются у лагерника и нормальные человеческие чувства.
Начнем с любви и отношений между полами. Сожительство запрещается в лагере. Существуют лагпункты, где нет или почти нет женщин, и такие женские лагеря, где нет или почти нет мужчин. В нормальном лагере женщины составляют небольшое меньшинство и живут отдельно. Трагедия многолетнего пребывания в лагере для женщины больше, чем для мужчины, т. к. за 10 лет ее срока пройдет ее цветение, и она потеряет не только здоровье, но и молодость, и привлекательность, и возможность найти человека, который ее полюбит. Лагеря, где 10-15 миллионов человек в лучшей поре их физического расцвета проводят долгие годы - осуждают их на бесплодность, на суррогаты чувства, мужчин на разврат, женщин на проституцию. В нормальных условиях эти люди давали бы жизнь ежегодно сотням тысяч детей. В лагерях совершается величайшее детоубийство мира. Можно было бы думать, что люди в лагерях страдают от того, что составляет проклятие каждой тюрьмы мира: от «Sexualnot». На тему о «Sexualnot». в местах заключения существует целая литература. Но ошибется тот, кто думает, что это явление существует в советских лагерях. То, что я из книг знал на эту тему, предстало мне в совершенно новом свете, когда я попал в лагерь. В западно-европейских тюрьмах в результате принудительного воздержания возникают массовые явления педерастии и онанизма; случалось, что в одиночных камерах арестанты изготовляли себе из хлеба подобие женских половых органов. Мне это казалось ужасным, но попав в советский лагерь, я понял, что если эти люди могли тратить хлеб на такую цель, то они были сыты. В советском лагере, где подбирается малейшая крошка, такая вещь невозможна. Каждый советский зэ-ка скажет, что если эти люди могли думать о женщине, значит, они ели досыта. В лагере «Sexualnot» отступает перед «Hungersnot». Истощенные многолетним недоеданием люди становятся импотентами. Образ жизни, который они ведут, просто не оставляет места для полового влечения. Работать, есть, отдыхать - это все. За лишний кусок хлеба лагерник отдаст все соблазны мира. Во всех лагпунктах, где мне пришлось побывать, вряд ли 30 или 40 человек из тысячи чувствовали себя мужчинами. Конечно, были такие люди: из относительно сытых, из лагерной аристократии, из одетых в хорошие сапоги и бушлаты первого срока, из тех, кто не только сами ели, но и других могли «поддержать». Врачи и лекпомы, имевшие волшебную власть освобождать от работы, заведующие кухней, инспектора ЧОС'а, начальники работ - нуждались в женщине. И все население «женского барака» было к их услугам.
В присылавшихся на 48-ой квадрат «приказах» из Медвежегорска я читал, по секретарской своей должности, безобразные сводки о дисциплинарных взысканиях, наложенных на зэ-ка, уличенных в недозволенных половых сношениях. И мысль меня не оставляла, что эти мужчины и женщины, которых «поймали», уличили, публично осрамили и посадили в карцер, могли искренне любить друг друга, быть привязаны друг к другу, могли быть единственной поддержкой и утешением друг для друга. Позже я наблюдал в лагере случаи глубокой человеческой любви и нежности, которая в этих условиях имеет трагическую ценность. Но никакому Шекспиру не приснился этот лагерный вариант Ромео и Джульетты, когда их как сцепившихся собак разгоняют палкой, сажают в карцер, называют полным именем в приказе Правления и рассылают по разным лагпунктам, чтобы они больше не нарушали лагерного режима.
Лагерь, где мужчины на 90% становятся импотентами, для женщин, которых слишком мало по сравнению с мужчинами и которые, поэтому, всегда найдут охотника - есть школа проституции. Для молодой женщины, часто 17-18 летней девушки, присланной в лагерь за неосторожное слово или за происхождение - единственный способ уцелеть, это продать себя за хлеб, за одежду, за легкую работу или протекцию начальника. Молодые девушки, попадающие в лагерь, в среду проституток, воровок, бандитов и урок - беззащитны, и лучшее, что они могут сделать, это найти себе поскорее сносного покровителя. Терять им нечего. Через 10 лет пребывания в лагере, они и так обратятся в развалины, в затасканное человеческое отрепье. - Забеременевших отправляют в особые лагеря, где они получают улучшенное питание и на некоторое время до и после родов освобождаются от работы. Детей у них отберет государство. В «книжке норм», где указаны нормы питания для несовершеннолетних и детей, для стахановцев и штрафных, имеются также нормы для беременных и для младенцев в лагерях. Эти нормы - молока, улучшенного питания и покоя - заставляют женщин искать беременности, как средства хоть на короткое время вырваться из каторжных условий. Главным массовым мотивом является для них не сексуальная потребность, а материальная нужда. Результат тот, что в женских лагерях, где скучены тысячи женщин, мужчина не может показаться без охраны вооруженной стражи. Мегеры обступят его и силой будут готовы вырвать то, что им нужно. Ребенка у них, все равно, отберут, и половая жизнь в них подавлена. Все, что им нужно - это отдых от работы и лучшее питание в одном из специальных лагерей.
Чувство собственного достоинства - этот хрупкий и поздний плод европейской культуры - вытравляется из лагерника и растаптывается еще до того, как его привезли в лагерь. Невозможно сохранить чувство собственного достоинства человеку, над которым совершено циничное и грубое насилие и который не находит оправдания своим страданиям даже в той мысли, что они - заслуженная им кара. Государство всей огромной силой власти организованного общества - раздавило его без вины и без основания, - не наказало, не изгнало за грех, а просто надругалось над ним. Все подавлено в массовом обитателе лагеря: его логика и чувство справедливости, его личное право на внимание к элементарнейшим потребностям его духа и тела. Ему остается только смирение и сознание своего абсолютного ничтожества и бесправия. Даже человеку Запада, который в крови имеет индивидуальную строптивость и личную гордость - невозможно сохранить чувство собственного достоинства, если он продолжает оставаться в лагере. Самый верный способ сделать человека смешным и презренным - если систематически заставлять его делать работу, которой он не в состоянии делать, в обществе людей, превосходящих его силой и умением, и враждебных ему. Я видел в лагере старого и заслуженного общественного деятеля, адвоката из Зап. Украины, который не умел достаточно быстро разжечь костер: здоровые парни, неграмотные, но бесконечно более умелые в лесу, подгоняли его и издевались над его неловкостью. У старика были слезы в глазах. Смешно выглядит и трагедия человека, который не может угнаться за другими и постепенно привыкает к мысли, что он хуже всех, потому что не может делать того, что ему противно. Здесь еще один, и важный, этап расчеловечения. Настает момент, когда человек ненавидит себя, ненавидит все, что составляет его сущность и что он действительно умеет. Единственным стремлением его становится - не выделяться в общей массе, быть как можно более послушным и исправным орудием чужой воли. Он забывает сегодня, что делал вчера, и не знает, что ему прикажут делать завтра. Он отучился иметь свои желания и знает, как опасно показывать свое нежелание. От животного он отличается только тем, что допускает более разностороннее использование: в лесу и в поле, за столом и при машине, - но не отличается от него ни своим скотским послушанием, ни полной зависимостью от кормящих его и выводящих на «развод».
Состояние, в котором его держат годами, не есть ни сытость, ни тот острый голод, который доводит человека до бунта, до бешенства или смерти в короткий срок. Это всего лишь - недоедание, маленькое, унизительное ощущение, которое, ослабляя человека физически и морально, незаметно для него самого и постепенно разрыхляет его тело и смещает все его мысли, чувства и оценки - в одном направлении. Как охотники загоняют зверя, так лагерника вгоняют в тупик, сжимают вокруг него кольцо, и все уже, все теснее становится круг его человеческих проявлений и интересов. Если не давать человеку достаточно воздуха и воды, можно добиться того, что мысль о воздухе и воде заслонит в его сознании все остальное. Если же не давать ему есть досыта, можно довести его - не сразу, но через 2-3 года - до животного состояния, когда момент насыщения становится кульминационным пунктом каждого дня, единственным импульсом всех его действий. Быть сытым - лежать отдыхая - чувствовать благодетельное тепло - жить текущим днем, не допуская ни воспоминаний о прошлом, ни мыслей о будущем: вот предел желаний и степень расчеловечения, к которой рано или поздно приходит каждый заключенный.
Пока он еще испытывает горесть и боль, тоску и сожаление - он еще не расчеловечен как следует. Способность страдать - есть основное человеческое свойство. Но придет такое время, когда все происходящее с ним станет ему, наконец, безразлично, когда он отупеет до полного бесчувствия ко всему, что не связано с низшими функциями его организма: тогда в глазах KB Части он становится человеком «заслуживающим доверия» - и после того, как его расчеловечили, можно его и «расконвоировать», не опасаясь, что он убежит.
То, что отличает советские лагеря от всяких иных мест заключения на всем земном шаре - это не только их поражающий, гигантский размах и убийственные условия жизни. Это - необходимость лгать для спасения жизни, - лгать беспрерывно, годами носить маску и не говорить того, что думаешь. Конечно, в условиях советской действительности также и «вольные» люди принуждаются лгать, из страха пред властью. Но в лагере, где они находятся под пристальным и постоянным наблюдением в течение лет, от их поведения зависит, выйдут ли они когда-нибудь на волю, и там притворство и ложь становятся необходимым условием самообороны. Надо послушно вторить власти. Надо раз навсегда подавить в себе внутренний голос протеста и совести. Никогда нельзя быть собою: это самое страшное и мучительное для людей свободного духа. Люди в лагере, даже если раньше они были друзьями Советской власти или не имели своего мнения, теперь не могут не быть врагами. Никто не может оставаться сторонником системы, создавшей лагеря, кто их видел. И, однако, миллионы заключенных не выдают себя ни словом, ни жестом. Верит ли им советская власть? Конечно, нет. Но как администрация, так и культурно-воспитательный отдел поддерживают фикцию, делают вид, что все заключенные такие же хорошие и преданные дети советской страны, как они сами. Они только изолированы временно - для проверки. Митинги и собрания, встречи, разговоры, стенные газеты для зэ-ка - все полно слащавой казенной фразеологии, в которой нет ни слова правды. Трудно выросшему на Западе человеку, понять, что это значит - 5 или 10 лет не иметь ни права ни возможности высказаться, подавлять в себе малейшую «нелегальную» мысль и молчать как гроб. Под этим неслыханным давлением деформируется и распадается все внутреннее существо человека. В искусственных лагерных условиях невозможно надолго утаить и сохранить от соглядатаев контрабанду недозволенных мыслей и убеждений. Все тайное непременно с течением времени обнаружится и станет явным. Поэтому инстинкт самосохранения заставляет миллионы простых и малоразвитых людей не просто лгать, но и внутренне приспособляться к фикции, «играть» в советский патриотизм и вести себя по законам этой игры. На этом и основано «перевоспитание» в лагере. Оно основано на том, что убеждения, мысли и чувства человеческие, годами не находя себе внешнего выражения, должны также и внутренне погаснуть и отмереть. Интеллигенция, которая неспособна пройти эту дорогу до конца, вымирает в лагере на 90%. Для всех остальных наступает всеобщая атрофия сознания и марионетизация духа. Нет больше ни лжи, ни правды. Разница между ложью и правдой существует только для бодрствующего и свободного сознания. В подсознании «расчеловеченных» еще сохраняется что-то невысказанное и неизреченное, - но их сознание становится ровно, плоско и серо - абсолютно пассивно и мертво. Никто не требует от зэ-ка, чтобы он «верил» в мудрость и справедливость всего, что делается кругом. В это и сами его палачи не верят. Достаточно просто принимать известный порядок мыслей - не иначе как внешний порядок - к исполнению, как своего рода лагерный ритуал и мундир. Достаточно вести себя послушно и так, как если бы весь этот жуткий театр был правдой.
Человек, который 5 или 10 лет провел в лагере, может быть выпущен на волю без опасения, что он в чем-нибудь станет поперек дороги Советской власти. Он «научен», и этой науки хватит надолго, на ряд лет. Темное основание страха заложено в его душу. Выше я упомянул о подсознательном остатке, который нельзя уничтожить до конца. Наличие подавленных и глубоко от самого себя упрятанных бессознательных остатков в марионеточном существовании зэ-ка приводит к особым формам того, что можно назвать «лагерным неврозом», и на чем позже я остановлюсь подробнее.
Как возможно, что методы, о которых я попробовал дать самое общее и неполное представление, не вызывают против себя массового протеста в самом лагере и за его пределами? Случаются, хотя и редко, в лагере попытки резкого и безусловного протеста. Однако, они исходят всегда от людей исключительных. Исключительных либо в смысле абсолютной идейной непримиримости и веры, или, наоборот, от таких людей, которым нечего терять и на все наплевать. Вот два примера того и другого.
На 48-ом квадрате и позже я встречал фанатических мучеников христианства. Лагерники называли их «христосиками». Это были последние остатки разгромленной «Святой Руси» - религиозных подвижников, юродивых, самосожженцев 18 и 19 века. Для них Советская власть была делом Антихриста, и они просто отказывались служить Антихристу. Старые женщины и молодые девушки - не то бывшие монашки, не то просто глубоко и неустрашимо верующие - отказывались работать по воскресеньям и в праздники. Группа в 10-12 человек мужчин - «христосики» на 48-ом квадрате - отказались от работы начисто и вообще. Пробовали их держать и в карцере, и в бараке на штрафном пайке - 300 грамм хлеба - но оказалось, что «христосики» получают достаточно хлеба и еды от окружающих зэ-ка, которые им сочувствовали. Такая поддержка и такое поведение «христосиков», конечно, не могли быть терпимы в лагере. Их долго уговаривали, прежде чем применить к ним обвинение в злостном отказничестве. - В моем присутствии начальник КВЧ - женщина-комсомолка - вызвала к себе для разговора монашку-отказчицу. Это был «легкий случай», т. к. она не хотела работать только по воскресеньям. Вошла баба, закутанная по самые брови в платок, поклонилась в ноги и стала у порога. Лицо у ней было каменное, чужое, далекое - не от мира сего. Может быть, это была святая в советском лагере. Комсомолка смотрела на нее с досадой и некоторым испугом, как на душевно-больную. Разговаривать им было не о чем. Для меня эта допрашивавшая тупоносенькая Марья Иванна в пестрой блузке и ботиках, которая заключенным говорила «ты», а они ей «гражданка начальник» - была во много раз неприемлемее, гаже и отвратительнее, чем несчастная баба, которую ждал расстрел или вторые 10 лет. «Христосиков» скоро расстреляли, и все о них забыли.
Среди нас, западников 48 лагпункта, вдруг обнаружился собственный протестант, который скоро стал знаменит до того, что начальники из отделения, и чуть ли не сам Левинсон приезжали посмотреть на него.
Это был Мет, парень, которому при сей оказии я передаю привет, если он еще жив где-нибудь и продолжает свое полное босяцкой беспечности существование.
Мет был круглолицый здоровый еврейский паренёк из мира «Unterwelt». Так он, по крайней мере, сам себя рекомендовал. Когда записывали специальности, он не стал ссылаться ни на какие пролетарские добродетели, а велел отметить коротко и точно: «вор». До сих пор не знаю, был ли он в самом деле так придурковат, как прикидывался, или просто во много раз умнее и сообразительнее нас всех. Мет не дал себя расчеловечить: он сам с первого дня расчеловечил себя так радикально, что начальство рот раскрыло. Заставить его работать не было никакой возможности. Мет требовал, чтобы ему прежде всего дали как следует поесть.
- Ты почему не желаешь работать? - сумрачно допрашивал его в моем секретарском Присутствии приехавший прокурор.
- Расчета нет! - радостно кричал в ответ Мет, с какой-то по-швейковски идиотски-осклабленной рожей, босой, с головой вывалянной в соломе, и в немыслимом тряпье, из которого торчало его голое тело. - Это же не еда, гражданин начальник! За такую еду я работать не буду.
- Куда ж тебя после этого отправить? - спрашивал прокурор.
- К Гитлеру! - гаркал Мет.
- Ты что же это, хвалишь немецкое правительство?
- Меня правительство не касается, - отвечал простодушно Мет: - я только про колбасу говорю, колбаса у них хорошая! - и рассказывал, что немцы ему на работе давали колбасу, а здесь не дают. Можно поручиться, что начальники, допрашивавшие Мета, в глубине души сами испытывали удовольствие от его откровенных ответов и смелости, с которой он говорил то, что они сами знали, но сказать не могли. Мета сажали в карцер, предварительно раздев до нага. Очутившись взаперти, Мет немедленно начинал дико и страшно кричать. Голосил он, как будто его резали, и кричал часами. Неизвестно, откуда у него силы брались. По временам крик становился особенно страшен, и тогда во всех бараках люди говорили: «бьют его теперь, наверно». На беду, карцер находился под самым забором, а по другую сторону лагерного забора жил в отдельном домике начальник лагпункта. Мет нечеловечески орал ему в самые уши и не давал спать по ночам. На утро его освобождали. К нашему удивлению, он выходил одетый как принц, во все самое лучшее, что было на лагпункте: новый бушлат, целые штаны и целая обувь. Это начальство делало попытку задобрить Мета и показать ему, что если он будет работать, то ничего для него не пожалеют. Появление Мета, одетого с иголочки, с широкой улыбкой на дурацком лице, вызывало сенсацию. Один день он копошился на производстве и милостиво делал 30% нормы. Это было с него достаточно, и на другой день он уже опять не хотел ничего делать. Вечером снимали с него новый бушлат и целые штаны и снова отправляли в карцер. Ночью мы подымали головы с нар и слушали: из домика на пустыре несся звериный низкий вой. Это бешено орал протестующий Мет.
- Расстреляют, - говорили одни.
- Не расстреляют! - говорили другие. - Он знает, что делает. Притворяется дураком. Наверно думает, что его в госпиталь возьмут, или еще куда-нибудь.
И в самом деле, Мета не расстреляли. Несмотря на его контрреволюционные речи и прославление гитлеровской колбасы, - а, может быть, именно потому, что он умел создать впечатление невменяемости и юродивости - начальство от него отступилось, и он был одним из первых, к кому применили амнистию зимой 1941 года.
Глава 14. Лесоповал
За час до восхода солнца по засыпанным снегом тропинкам, по дорогам, скованным ледяной стужей, в лунном полусвете, выходят лесные бригады. Позади остаются шум и сутолока развода. По часу стояли бригады, ожидая, пока откроются ворота и начнут выкликать, потом за воротами под окошком инструменталки начиналась давка. Бригадир Врочинский охапками принимал топоры, поперечки и лучки, раздавал звеньевым, а те - своим людям. На правом плече - лучок, под мышкой или за поясом - топор. - «Пошли!» - И вот бригады втягиваются в лесную чащу. С полчаса идем молча и угрюмо, позвякивая котелками, где у некоторых - утрешний суп. Нет опасности разлить его - он сразу замерз на воздухе. Люди со сна чувствуют слабость, кости ноют, походка тяжела. Но через час-два и ноги разойдутся, и в руках прибудет силы. Работа втянет незаметно.
Звенья расходятся по лесу, метров на сто одно от другого. Придя на место, начинаем разгребать остатки вчерашнего костра. Серебристая куча пепла еще тепла. Под ней на дне тлеют угольки - или часто един-единственный уголек, маленький, как окурок папиросы. Тогда с величайшим терпением и искусством, на коленях в золе и снегу, дыша на уголек, разжигают его бумажкой, тряпкой или ватой, вырванной из собственного бушлата. На огонек кладут сухие «почки величиной со спичку, на них щепки побольше, из того драгоценного куска сухого дерева, которое еще вчера вечером спрятали для этой цели - потом большие сухие поленья, потом смолистые еловые, сосновые ветви, - на них крест-на-крест целые небольшие деревца, - и, наконец, все придавливая, ложится поперек четырехметровый тяжелый брус. Огонь пробился, хвоя трещит и сыплет искрами.
Пред костром кладется большая колода, и члены звена садятся отдыхать. Еще темно. Люди сидят без движения, сосредоточенно переживая тепло, покой и последние минуты перед началом работы.
Но вот сереет, и бригадир, вынырнув из-за деревьев, подымает сидящих: „довольно сидели!“ Стрелок обходит звенья, считая людей. Для него разложен отдельный костер, при котором он может сидеть и дремать хоть до самых сумерек.
Наконец, подымается первым лучкист. Выбрав дерево, не спеша, бредет по колена в снегу, оттаптывает снег вокруг дерева, обнажая основание ствола. Потом топором надрубает неглубоко в ту сторону, куда дереву падать. И, раскорячив ноги, наклоняется с лучком. Теперь он похож на огромного серомышиного цвета, безобразного паука, который присосался и не раньше отогвется от своей жертвы, чем обескровит ее и повалит на снег. Сухой скрежет лучка разрывает тишину леса. С шипеньем и лязгом идет лезвие взад и вперед, и за каждым разом из поперечного надреза вылетает струя древесной трухи, как белая кровь дерева.
До 1940 года западники ничего не знали о лучке. В Польше пилили дерево по-старому: одной поперечкой вдвоем. Лучок выдумали американцы. Это - канадская пила, с тонким лезвием на раме. Зубцы лучка имеют тройное направление: один искривлен направо, второй налево, третий стоит прямо - это называется „разводом“, Если лучок правильно натянут, отточен, если зубцам дан надлежащий развод, то в руках мастера-лучкиста он идет как смычок в руках скрипача-виртуоза. Тонкое и хрупкое лезвие проходит сквозь мощные стволы, точно они из масла. Каждые четверть часа падает 20-метровая колонна дерева с громом и треском, ломая по дороге ветви соседних деревьев. Лучкист распрямляется, и тогда видно, что это - нелегкая работа. Лицо его красно от напряжения, и сердце бьется сильно и часто.
Четыре человека работают в звене. Первый - лучкист - убивает дерево. Второй - сучкоруб - раздевает дерево. Он кидается на него с топором, обрубает вершину, потом поперечные ветви и суки, имеющие иногда изрядную толщину. За ним идет сучкожог. Он собирает обрубленные сучья в охапку, несет к костру и превращает в огонь. По правилу, на месте порубки к вечеру не должно быть никаких остатков. Четвертый - раскряжовщик. Он вооружен 2-метровой палкой, самодельной меркой, на которой нанесены нужные ему деления. Задача раскряжовщи-ка - определить, куда какое дерево годится, и распилить нагие стволы деревьев согласно сортам и стандартам. Много есть сортов дерева. Осина идет на дрова, сосны на „пиловочник“ и в лесопилку, березы на сбаланс» и в бумажные фабрики, «подтоварник» на подкладки и подпорки, а «судострой» - на мачты. Дрова режутся по 2 и 4 метра, баланс по 2.25, пиловочник имеет свою меру, а судострой свою. Если разрезать дерево неправильно, - это брак, и десятник вечером не примет его. Если разрезать дерево, годное на «баланс», по мерке дров или подтоварника, то это потеря для государства. Раскряжовщик, делающий такие ошибки, человек неспособный или вредитель.
- Берегись! - кричит, не оглядываясь, лучкист, когда чувствует, что дерево начинает дрожать и поддаваться под его плечом. Налечь покрепче, - и оно, надламываясь, начинает медленно падать. Никогда нельзя перепелить дерево насквозь: тогда оно, теряя равновесие на пне, превращается в страшное орудие убийства; нельзя предугадать, куда оно упадет, и не обрушится ли вдруг на самого лучкиста. Но даже если оно и падает в нужном направлении, то часто бывает, что какая-нибудь боковая ветвь зацепится по дороге, и ствол изменит направление. Лесоповал не обходится без жертв. Каждый сезон бывают на лагпункте жертвы собственной неосторожности или неопытности.
Кажется, что работа сучкоруба или сучкожога легка, но это - заблуждение. Именно на эту работу посылали чаще всего слабосильных западников, и они на ней теряли последние силы. Подбрасывать хвою в ярко-горящий костер кажется очень приятным занятием. В действительности, никакой сучкожог не справится с теми огромными - и по весу, и по объему - хвойными массами, которые навалит ему хороший лучкист. Кошмар этой работы - в ее непрерывности. Лучкист свалил дерево и, не оглянувшись, пилит следующее. Сию минуту надо обрубить и унести массы ветвей, иначе через несколько минут на это дерево поперек или рядом ляжет второе, а на второе - третье. Ветви нижележащего будут придавлены, и до них вообще нельзя будет добраться. Надо посмотреть, как узко-грудый и с типичным интеллигентским лицом работник 3 категории, венский еврей Мулер - в прошлом купец или бухгалтер - таскает на огонь огромные охапки ветвей - час, два и три. Сил у него уже нет, но чем больше он тащит, тем больше их прибывает. Он тонет в этом еловом и сосновом потопе, а тем временем то и дело гаснет у него костер. То он завалил его заснеженными ветвями, вода заливает огонь, то все перегорело за те 10 минут, когда он таскал свежие сучья. Огонь играет в прятки с Мулером: то покажется, то скроется, то разгорится ясно, то притухнет. Сколько нервов и напряжения! Густой едкий дым валит от костра. Лицо Мулера черно и опалено, все на нем разорвано, мокро и грязно, весь он в саже и копоти, но сесть нельзя: за спиной с треском валятся деревья, и лучкист гневно кричит: «Опять, жидовская морда, сидишь?».
Одно хорошо в этой работе: забравшись в глубь леса и разложив свой костер, мы - в звене Глатмана - можем на некоторое время забыть о лагере. Мы сами себе хозяева. Никто не стоит над душой, не погоняет, не матерится, не гонит, а начальство - в виде десятника или прораба - заглядывает к нам мимоходом не чаще чем раза два за весь день. Наш звеньевой Глатман, шофер по профессии, завидев издалека идущего, предупреждает нас: «идет!» - и мы с удвоенным усердием хватаемся за пилы и топоры. При начальстве отдыхать не сядешь. Но, пользуясь отсутствием хозяев, мы от времени до времени садимся на так называемый «перекур». Огонь костра обжигает лицо, а одновременно, при 30 градусах мороза леденеет затылок. В полдень, кто имеет, вытаскивает из-за пазухи кусок грязного свалявшегося хлеба. Западники имеют свой способ лакомиться; втыкают хлеб на длинный сучок и держа его над пламенем углей, пока хлеб не станет золотистым и горячим, покроется бронзовой корочкой, а когда переломишь - весь дымится и пахнет...
Часов в 10-11 прибывает первый возчик. К этому Времени у нас набралось уже на первый воз. Огромные стволы, как туши лесных зверей, лежат на задымленной полянке, порезанные на части раскряжовщи-ком. На полянке пылают костры: не один, а два или три. Сучкожог, следуя по пятам лучкиста, чтобы не таскать слишком далеко ветвей, переносит огонь с места на место. Полянка вся в дыму, а люди в жару работы посбрасывали с себя бушлаты. Начинается труд-работа навалки. В ней принимает участие все вместе с возчиком. От одного до 2 фестметров входит на воз. Люди вооружаются «дрынами» и начинают подкатывать «балан» к возу: - «Разом! Разом!» - Иногда усилий 5 человек недостаточно, чтобы сдви-,нуть огромный балан, увязший в топком месте. Подвести дрын, подставить плечо - и налечь до того, что глаза вылезают. Длинный, заостренный дрын гнется и трещит. Трещат и наши кости. Самое трудное - взвалить балан на воз. По подложенным кольям его дрынами подсаживают наверх. Часто в последнюю секунду кто-нибудь не выдерживает, и балан, уже почти на возу, оседает и ползет вниз, ко всеобщему отчаянию. Когда воз нагружен, все усилия обращаются на несчастную лошаденку, которая не в состоянии вытянуть его по трудной скользкой дороге. Наконец, воз трогается и все звено провожает его, помогает лошади тянуть, подпирает плечами на опасном повороте, где воз клонится на бок. Воз скрывается из виду, все без сил, у всех дрожат ноги и спирает дух. Надо отдохнуть, но через 15 минут является бригадир с известием, что воз перевернулся на полдороге. И мы все, с кольями на плечах, идем нагружать заново.
Надо ли удивляться, что в этих условиях мы никогда не могли отправить больше 2 или 3 возов, и для меня никогда не выходило больше 30% нормы на работе, которая вытянула из меня жилы?
В ту первую зиму мы были еще тепло одеты. У меня были валенки и шерстяные чулки, присланные из Пинска. Несмотря на это, в первый же день моего выхода в лес на порубку я отморозил себе большие пальцы ног. Белорусские мягкие черные валенки, которые прислала мне мать, не годились для Карело-Финии. На севере носили твердые, тяжелые серые валенки, но только избранные получали их. Масса выходила в лаптях и онучах, в рваной обуви, в которую запихивали солому, и все мы ходили с отмороженными пальцами рук и ног. В полдень обходил бригады лек-пом с вазелином - на всякий случай.
Звеньевой наш - Глатман - был одним из немногих евреев, которых начальство ставило прочим в пример и в доказательство, что западники годятся для всякой работы. С этой целью Глатмана лансировали, хвалили, а вечером дописывали ему нехватавшие до стахановского пайка проценты. Глатман, настойчивый и здоровый человек, поставил себе целью удержаться в первых рядах на лесоповале. Это некоторое время ему удавалось, и возможно, что в нормальных условиях он стал бы отменным лесорубом. На 48-ом квадрате он надорвался. Скоро стал он бросать лучок в середине, не допилив, выпрямлялся и искаженным лицом, уже не красным, а бледным, сведенным судорогой. Стал раздражительным, начал хвататься за сердце, начал ссориться с десятником. Я не мог оставаться в его звене, т. к. он недвусмысленно, по-хозяйски, дал мне понять, что ему требуется работник получше. К весне Глатман был кончен: осунулся, похудел, едва двигал ноги. Его сняли с лесоповала.
Рано или поздно лесоповал убивает каждого, кто делает эфемерную карьеру рекордиста в лагере. Каждый кончает сердечной болезнью и инвалидностью. Лагеря полны «бывших звезд», людей, которые ходят с палочкой и рассказывают, какая медвежья сила у них была, и какие чудеса они показывали еще недавно. Вот типичная история такого рода.
Люди, проведшие ту зиму на 48 квадрате, помнят имя Закржевского. Это был русский, несмотря на польскую фамилию, молодой еще человек, который прогремел на все ББК. 3/к Закржевский зарабатывал на лесоповале до 800 руб. в месяц. Его звено было сверхстахановское. Оно одно давало по 80 фестметров ежедневно, т. е. втрое больше, чем вся бригада Врочинского из 30 западников. Одно это звено обслуживалось целой бригадой возчиков, которая с утра до вечера возила и не успевала вывезти то, что валил щот худощавый, черный, с глазами обреченного, молодой зэ-ка. Слава о Закржевском шла по всем лагпунктам. Он был нашей знаменитостью и гордостью, украшением 48-го квадрата и первым на нем человеком. Сам начальник лагпункта, разговаривая с ним, льстиво заглядывал в глаза и гладил по руке. Никаких норм питания для него не существовало. Когда вечером приходило с работы звено Закржевского - гвардия лагпункта - сам завкухней приходил спросить, чего они желают покушать - и им носили полные миски макарон, котлет и булочек - самое изысканное, что было, и без ограничения количества. Для них добывали запрещенный спирт по 100 рублей литр, и з/к Закржевский жил на лагпункте как удельный князь - в отдельном помещении со своим звеном. Закржевский был нужен, чтобы показать серой массе, что такое «аристократия труда», подогнать ее, поставить пред ней цель. Закржевским нас били, Закржевским загоняли массу, как кнутом отстающую лошаденку. Конечно, это был сильный и ловкий работник, вдобавок одержимый своим рекордом, как радеющий хлыст. Но это все не объясняет 80 фестметров в день. Рекорд Закржевского был блефом. Он был нужен правлению для рекламы, и он достигался такими мерами: Закржевскому давали исключительный участок леса и наилучшие инструменты - освобождали от обязанности валить подряд - он валил только отборные деревья, пропуская невыгодную мелочь - и был освобожден от сжигания порубочных остатков. За ним убирали другие. Затем он не участвовал в навалке. Наоборот: каждый приезжавший возчик обязан был взять лучок и свалить пару деревьев, прежде чем уехать. Наконец, если бы разделить 80 фестметров на 4-ех поровну, не вышло бы такого блестящего рекорда. Поэтому напарникам Закржевского писали по 50% нормы, а всю продукцию сосредоточивали на нем одном, что давало тот огромный заработок, которым он делился с участниками звена.
Закржевский не импонировал тем, кто видел близко, как «делается» его сверхрекорд. Человек этот прошумел и просиял на 48 квадрате, как падучая звезда. Он выдавил из себя до последнего остатка всю силу, всю кровь и сгорел в 3 месяца. Скоро о Закржевском перестали говорить. Он заболел скоротечной чахоткой. Умирать увезли его на другой лагпункт. Инвалидам принудительного труда не засчитывают их бывших рекордов. Как выжатый лимон, выбрасывают их в самый дальний угол огромной свалки, где копошатся миллионы «доходяг».
Словечко «доходяга» надо объяснить. Когда зэ-ка теряет физический и моральный минимум, необходимый, чтобы держаться на поверхности лагерной жизни, - когда в процессе «расчеловечения» он переходит роковую черту, за которой начинается безудержное крушение, - короче, когда он теряет образ человеческий - тогда говорят о нем на лагерном языке, что он «дошел». Человек «доходит» - по-русски это говорится вообще о лежащем на смертном одре, об агонии. «Доходит» в лагере - значит, уже не умывается по утрам, не раздевается на ночь, перестал обращать внимание на свой вид и на то, что о нем говорят люди. «Доходит» - значит: пал духом до конца, опустился и отчаялся, клянчит прибавку под окном кухни, доедает остатки после других, идет на дно, не сопротивляясь. «Доходяга» - человек с перебитым хребтом, жалкое и омерзительное явление, в лохмотьях, с потухшими глазами, не только без физической силы, но и без силы протеста. - «Урка» - лагерный волк, существо опасное, готовое каждую минуту укусить и огрызнуться. - «Работяга» - тот, кто еще как-то держится, знает себе цену, и начальство его оберегает, так как на нем держится все хозяйство лагеря. - «Доходяга» же - есть лагерный паршивый пес, или гиена. Все на него махнули рукой, в том числе и начальство, которое больше не ждет от него проку и предоставляет его своей участи: «доходит - и чорт с ним». Когда начинается на лагпункте проверка ослабевших и обессилевших людей - а это происходит периодически - то во всякие «слабкоманды» и «команды отдыхающих» отбирают прежде всего таких, которых есть еще расчет подкормить, чтобы вернуть их в ряды «рабсилы». «Доходягу» не возьмут, - это пропащее дело, он списан со счетов. Не стоит тратить на него ни времени, ни внимания, ни скупых материальных ресурсов.
В ту зиму стояли лютые морозы, деревья трещали в лесу, синели губы и кровь останавливалась в жилах. Нацменские бригады из знойной средней Азии освобождались от работы уже при 25╟ мороза. Для нас граница составляла 30╟. Но эта граница плохо соблюдалась. Единственный градусник висел на вахте. Часто, выходя утром на развод, мы видели, что градусник убран, чтобы не смущать людей. День, когда из-за мороза мы оставались в бараках, зачислялся нам в счет будущих выходных дней. С каждым днем росло число доходяг на лагпункте. Сквозь щели в бревнах и окнах ветер навевал снег внутрь бараков. Мы спали на голых досках, подложив бушлаты, в которых работали днем. Я был счастливее других: у меня было одеяло из дому, которым я укутывался с головой. Под головой был у меня мешок с вещами, на полочке, прибитой рукою друга, Арие Ба-раба - железный ржавый котелок и синяя кружка. Просыпаясь утром, я видел голову спящего соседа в снегу: снег засыпал нару и был на ушастой шапке, в которой он спал. На лагпункте было 350 доходяг. Эксперимент с западниками кончался: половина свалилась с ног.
Из Медвежегорска ударили тревогу. Чтобы поставить на ноги людей, выписали им на 2 недели «слабкоманду». Освободили от выполнения нормы и дали стахановское питание. Тогда люди совсем перестали работать. Установили 30% выполнения нормы, как условие зачисления в слабосилку. Это значит, что премировали стахановским питанием тех, кто еще был в состоянии работать, а другим предоставили доходить. Мы скатывались все ниже, но держались за жизнь цепко: приходили посылки, были еще кое-какие вещи, казенный паек не был для нас единственным якорем жизни. На соседнем пункте покончил самоубийством бывший директор банка, у нас был случай помешательства, но это были единичные случаи. Зато участились больничные смерти. Болезнью, от которой чаще всего умирали западники, было воспаление легких: результат тяжкой работы зимой в лесу плохо-одетых и ослабленных людей.
Одним из первых умер на 48 квадрате молоденький «лучкист» Тимберг. При жизни он все ждал писем от сестры и огорчался, что его забыли и не пишут. Он так и не дождался, но после его смерти вдруг стали приходить частые письма. Только уж некому было их читать и отвечать на них.
Первым симптомом истощения является ослабление мочевого пузыря. Это грозная беда, когда люди должны подыматься ночью по 5-6 раз. Надо представить себе верхние нары, на которые взобраться и с которых спуститься можно только по приступочке с большим усилием, зловонную коптилку на столе, - худые ноги полускелета, которые болтаются в дрожащем свете коптилки, нащупывая край нижней нары и пол, человека в кальсонах, закутанного в одеяло или бушлат, бредущего к выходу на 30-градусный мороз. Днем «оправляться» при бараке - грозит карцером, но ночью никто не идет дальше шага от двери. Потом, с острого пронзительного холода - прямо к печке. Ночью в бараке печь облеплена худыми фигурами в одеялах, которые стоят неподвижно, облапив печку, прижавшись всем телом, прислонив лоб к горячей стенке. Есть доходяги, которые так стоят часами, пока их не прогонят. Люди, которым каждый час приходится прерывать сон и бежать на двор - не могут выспаться и не отдыхают за ночь. Не мудрено, если днем они засыпают во время работы.
На производстве появились первые случаи самоувечья. Кто-то из западников рубанул себя топором по руке, отрубил два пальца. Люди, которые отмораживали пальцы, не были уверены, что их освободят от работы. Не посчастливилось и человеку без пальцев: власти деловито проверили, как это случилось - и неудачника, который предпочел увечье лесной каторге, отдали под суд по обвинению в умышленном самовредительстве. Его увезли от нас.
Западники держались, как могли. Случались фантастические вещи в онежских лесах. Однажды, сев в кружок вокруг костра, стрелявшего красно-золотистыми искрами во все стороны, бригада горе-лесорубов заспорила, что такое «теория относительности», и может ли обнять ее обыкновенный человеческий разум. Был полдень, время перекура. И я отважно вызвался - ясно и для каждого понятно изложить, что сделал Эйнштейн. Это была аудитория социально-опасных евреев, они сидели, сунув ноги в резиновых «четезэ» прямо в огонь, резина смердела, бушлаты горели, и, раскрыв рты, они слушали в занесенном снегом лесу, под охраной стрелка с ружьем, рассказ о Птоломее, Ньютоне и опыте Майкельсона, преступную повесть, недозволенную воспитателем КВЧ и непредусмотренную «разнарядкой».
А бушлаты горели. - От времени до времени кто-нибудь нюхал воздух и говорил соседу: - Приятель, вы горите. - Где? - спрашивал сосед и начинал вертеться во все стороны, пока находил место, куда попала искра. Каждый из нас, начиная от ватных чулок и ватных брюк до бушлата и шапки, был одет в вату, носил на себе целое ватное одеяло. В дыму и пламени костра уберечься было невозможно. Искра, попадая в бушлат, сразу прожигала его худую бумажную ткань, и вата изнутри незаметно начинала тлеть, куриться, разгораться. Минут через 5-10 из дырки начинал валить дымок. зэ-ка, своевременно заметив, набирал горсть снегу и набивал дырку, затирая искру. Если это не помогало, надо было сбросить бушлат и ткнуть его горящим местом в сугроб. Трудно потушить тлеющую вату. Иногда кажется, что пожар потушен, но где-то осталось раскаленное волокно, и через полчаса из той же дыры опять валит дымок. Или на работе человек вдруг почувствует, что ему в одном месте горячо - жжет: это значит, что бушлат прожгло насквозь, и огонь добрался до голого тела. Надо действовать радикально и решительно - вырвать не только красновато-тлеющее место, но и всю вату, не жалея, вокруг него. Лесоруба легко узнать по сквозным зияющим дырам его одежды, из которых торчат во все стороны клочья обгорелой коричневой ваты.
Мне, как профессиональному сучкожогу и близорукому человеку, часто приходилось вести героические поединки с горящим бушлатом, который ни за что не хотел потухнуть. Я его тушил на спине, а он загорался в рукавах. Я тушил рукава, а он принимался дымить со спины. Кончалось тем, что я вырывал из него чуть не всю начинку и закапывал в снег. До сих пор стоит в моих ноздрях запах мерзлой и горелой, закопченной и прогнившей ваты. Долго сушил я мокрый бушлат перед огнем, - а когда, наконец, одевал то, что от него осталось, то через полчаса, как ни в чем ни бывало, снова шел из него удушливый и прогорклый дымок.
Так как бушлат и ватные брюки выдаются заключенному раз в год, то можно представить себе, как живописно все мы выглядели через короткое время.
Царственно-прекрасны вековые надонежские леса. Зимой это царство белого блеска, радужных, опаловых переливов, Ниагара снегов и таких янтарных, розовых и темно-лазурных акварельных сияний в высоте, точно итальянское небо раскрылось над Карелией. Глубина леса безветренно-невозмутима, огни костров прямо подымаются к небу. Природа прекрасна и девственно-чиста, пока нет людей. Люди в этом лесу, и все, что они устроили - так чудовищно безобразно, так нелепо страшно, что кажется кошмарным сном. Кто выдумал всю эту муку, кому понадобились рабы, конвоиры, карцеры, грязь, голод и пытка?
Вот идут по лесной дороге зэ-ка из дорожной бригады. Сегодня и я с ними. Дорожники в движении весь день - от темноты до темноты. Проходят 15-20 километров, осматривая дороги, поправляя выбоины, закладывая бревна в ямы - выравнивая дорогу саням. Тяжело весь день без костра на морозе. Но зато - как хорошо идти одному с кучкой товарищей через лес, забыв о том, что сзади и спереди. Вот на повороте «карельская спичка»: это дерево, дуплистое, трухлявое, разбитое бурей, которое само собой затлелось и дымится - где-то в глубине дупла рдеет огонек - не день и не два. Возчик, проезжая мимо, останавливает сани и идет закурить. Второй раз он закурит, когда поедет обратно. На километры кругом - ни у кого нет спичек и огня, и только немногие старые лагерники имеют огниво и кресало, а вместо старозаветного трута - ватный фитилек в металлической оболочке.
Группа дорожников с топорами и лопатами идет в лес. Сворачивать им нельзя, а в конце пути ждет стрелок-конвойный. Мимо едет возчик с драгоценным грузом: это - «авио-береза», самое дорогое, что есть в местных лесах. Знаменитой «карельской березы», что идет на дорогую мебель, как раз нет в лесах под Пяльмой - она где-то южнее. «Авио-березой» называется безупречно прямой и гладкий, без сучка и задоринки, без сучков и дефектов, неповрежденный ствол, который идет на выработку пластинок для пропеллеров самолетов. Найти такой ствол - один из тысячи - это счастье для лесоруба, т. к. норма тут ниже кубометра: нашел одно-два дерева, и норма перевыполнена. На «авио-березу», как на редкого зверя, выходят в лес охотники: весь день они бродят в глубоком no-пояс снегу, осматривая дебри в поисках чудесного дерева, а за ними вязнет в снегу, проклиная судьбу, стрелок из ВОХР'а. - Когда западники натыкаются на что-то, что им кажется похожим на авио-березу, начинается волнение: призывают десятника, совещаются, долго осматривают. Если в самом деле авио-береза, мрачный взгляд Глатмана смягчается; на его темнобровом еще красивом исхудалом лице выражается удовлетворение. Сегодня удача, сегодня всем «стахановский», будет и хлеб, и каша, и «запеканка»! - Но чаще десятник, зорко оглянув круглую беломраморную колонну дерева, указывает пальцем на еле заметное порочное место - и все тогда разочарованы и обмануты.
Дорожники идут от бригады к бригаде. Вот снова место работы. Над лесом тучей висит дикая матерщина, не та наивная дореволюционная, а новая, в которой своеобразно переломилась сексуальная осведомленность деревни, с неслыханными вариациями, где вместо чорта, бесповоротно вытесненного из коммунистического лексикона, фигурирует во всех словосочетаниях некое более наглядное и отнюдь не клерикальное орудие производства. С грохотом валятся деревья, кричат навальщики, стучат топоры. Стон стоит над лесом, который превращен не только в геенну человека, но и в место мучения животных. Лагерные лошади, как люди, получают по норме и вечно голодны. Беспощадно бьют их дрынами по бокам, по крупу, по голове, и матерятся, точно это люди. Лошади страдают от жажды. Лагерные лошади со сквозными ребрами пьют грязную воду из луж, чего нормально лошадь не делает никогда. - Промчались последние сани с дико-голосящим возчиком, - и на поляне открывается картина сбора бригады, кончающей день работы.
Сумерки. Звенья сходятся в одно место, где работало центральное, особенно важное, звено. Там уже сидит, покуривая, лесной мастер, хлопочет бригадир, скликая людей, но стрелок еще не позволяет выходить на дорогу: еще рано. Где работали звенья, догорают оставленные костры. Заливают огонь, но стараются сохранить угли под золой, чтоб не потухли до завтра. Иначе придется с утра посылать в соседнее звено за головней, выпрашивать, бежать с головней через лес, помахивая, чтобы не потухла. Перед уходом еще быстро пилят дерево в каждом звене - отобранное сухое бревно -. в барак для дневального. Каждый несет с собой чурку. На полянке, где собралась бригада, пылает во мраке особенно яркое пламя. Разожгли исполинский костер такой высоты и жара, что и не подойти. Кругом сплошной стеной стоят люди - обсушиваются. Снегом моют руки, поразве-шали бушлаты вокруг огня. Дымятся спины, бушлаты, ватные брюки, сверху одетые на свои домашние - все испаряется; на глазах становится сухо, а потом еще смуглеет, бронзовеет - того и гляди, загорится, а по краям, как было мокро, так и осталось. Бригадир собирает, ругаясь, поломанные за день лучки, считает топоры. Одного нет - кто-то забросил топор. Надо искать, - без топора нельзя вернуться. Наконец, долгожданное - «Пошли, ребята!»
Бригада растянулась по лесной тропе, идет двойками, по дороге встречая, нагоняя другие бригады. Все стягиваются к вахте: там по счету принимают людей. Один спокойно другому: «Да ты же нос отморозил! Три скорей!»
А поленья надо припрятать: они краденые. На чурки, которые несут из государственного леса лесорубы, еще смотрят сквозь пальцы: «не полагается, но ... с ними». А вот пильщики, дорожники и всякие другие, кто сам не валил леса - они свои чурки взяли по дороге из штабелей, приготовленных к отправке - этим лучше дровишки припрятать под бушлат. - «Бросай чурки!» - грозно кричит дежурный стрелок. И до тех пор продержит бригаду, пока не 104 набросают ему столько дров, что хватит топить железную печку на вахте две недели. А в бараке пусть мерзнут, это дело не наше, нас не касается. Часть людей прямо с вахты отводится в карцер, а остальные, громыхая котелками, идут становиться в очередь под окошко кухни.
Глава 15. Санчасть
Осенью 1939 года в занятый советскими войсками Львов прибыло значительное количество венских евреев. Венцы вывезли их на советскую границу. ОС-овцы перебросили ночью на советскую сторону. Ночью гнали бегом по лесу, по узкой тропинке, справа и слева бежали сс-овцы с ружьями наперевес - следили, чтобы никто не отстал. После Вены советский запруженный беженцами Львов казался очень грустным и неприглядным этапом странствий. «Вот кончится война, разобьют Гитлера и мы уедем отсюда», утешали себя гости из Вены. Но война не кончилась. Летом 1940 года австрийские евреи всё еще путались под ногами. Их арестовали, приговорили за нелегальный переход границы - в лагерь и привезли в «БЕБЕКА».
Таким образом прибыл на 48-ой квадрат венский музыкант и скрипач Лео Винер. Неважно, как его звали. Его могли бы звать Шопен, Шуберт или Моцарт. Никакой разницы не составляет его талант. Он мог бы быть автором «Неоконченной симфонии», которая прославила бы его имя в мире. На 48-ом квадрате на это не обращают внимания. Это был человек очень слабого здоровья, очень нервный, очень наивный. Тип артистической богемы. Всю жизнь провел в венских кафе, за мраморным столиком на Ринге или в окрестностях собора св. Стефана.
Со времени ареста этот человечек не выходил из состояния крайнего изумления. Удивление раз навсегда застыло в его раскрытых широко детских глазах. Как же это? - За чашкой черного кофе все было ясно на Karnterstrasse: «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям». Это социализм. Лео Винер никогда не задумывался над скрытым жалом этой формулы: кто же в будущем идеальном обществе возьмет право судить о способностях и потребностях человека: Ведь не сам же он будет декретировать свои способности и навязывать обществу меру своих потребностей. Мало ли чего ему захочется. Лео Винер чувствовал себя гением, ждущим признания, способным на великое. Потребности Лео Винера всегда выходили за пределы наличного. В этом он отличался от всякого нормального человека.
Когда привезли его с вытаращенными от изумления глазами на 48-ой квадрат, в исправительно-трудовой лагерь для советских людей, он, наконец, понял. Понял, что способности и потребности советских людей, не определяются их личным капризом. Это - величина объективная, и устанавливается призванными органами народной власти. В данном случае это были «ГУЛАГ» и начальство лагпункта.
Способности Лео Винера были установлены Санчастью и «УРБЕ»: работник 3-ьей категории может быть сучкожогом на лесоповале.
Потребности Лео Винера были безграничны и неосуществимы. Однако, сознательный и дисциплинированный сучкожог не может желать больше того, что может ему дать советское общество на данной стадии развития своих производительных сил: раз в год просоленный бушлат 2-го срока, голые нары и первый котел за 30% нормы, т.е. рыбный суп без каши. За 100% - каша. 150% - другие прибавки. А сколько же надо выполнить процентов, чтобы получить свободу и право жить в Европе и заниматься музыкой?
Глядя на Лео Винера, у которого отобрали скрипку, Ж вспомнил другого музыканта; друга моего Леона Шафера, которому гитлеровский воин сказал:«Fur euch Juden ist die Music zu ende».
Лео Винеру,конечно, этого не сказали. Просто посадили его в вагон и привезли отбивать «срок» на 48-ой квадрат.
Тут он сразу заболел: миокардит, воспаление сердечного мускула. Положили его в стационар. В этом лесном стационаре не было никаких лекарств по его болезни. Решили перевести Винера в Пяльму, в настоящий госпиталь.
Начались переговоры. Маленький доктор Г., который тогда еще не был снят с поста заведующего Санчастью на 48-ом, стал приходить в контору и огорченно кричать в телефонную трубку на своем особом русско-польском диалекте:
- Разрушите сказать! Разрушите сказать, гражданин начальник, он умирает тут, а мы ничего помочь не можем.
После долгих стараний пришел наряд санчасти на перевод з/к Винера в отделение.
Но тут случилась беда, а именно, испортился единственный паровозик на перегоне Пяльма - 48-ой квадрат. Сообщение прекратилось. Мы были отрезаны от мира. Ни посылок, ни писем. Начальник Санчасти Цыподай затребовал категорически доставить больной
Начальник лагпункта Петров поставил на отношении Санчасти резолюцию: «Коменданту для выполнения».
Комендант Панчук почесал за ухом: Телегу?..
Состояние больного было таково, что везти его в тряской телеге по лесу было опасно. Однако терять нечего. Тут лечить нечем, а там, всё-таки уход, больница. Согласились на телегу. .
Но не было лошади. Все возы и лошади на работе в лесу. Снять лошадь с производства в такое горячее время, когда и так план не выполняется! Начальник работ стал тянуть, откладывать.
Тогда заведующий Санчастью доктор Г. позвонил начальнику Санчасти в Пяльме,Цыподаю, а Цыподай- начальнику лагпункта «48-ой квадрат», а начальник лагпункта имел совещание с начальником работ. И выписали наряд на возчика с лошадью. Но не оказалось стрелка-конвоира. Зэка Винер не может быть выслан без конвоя. А конвзвода категорически отказался дать человека на конвой одного больного. Если бы несколько больных, другое дело. А один больной может подождать, пока подберется партия.
Тогда Завстационара врач Вассерман побежал к Завчастью врачу Г., а тот «разрушите сказать» - позвонил Цыподаю в Пяльму. Но Цыподай не может разговаривать с комвзвода, он для этого слишком мал. Цыподай поговорил с начальником отделения, а тот от себя обратился с отношением к комвзвода.
Выделили стрелка. Но к этому времени поломалась телега. Петров вызвал Панчука и яростно обругал его. Панчук, выходя из конторы, багровый от злости, крыл матом людей, приезжающих из Вены умирать в онежском лесу.
На завтра поправили телегу. Еще через день приладили к ней лошадь.
А тем временем выделенный стрелок ВОХРА ушел с целой партией. Стали ждать возвращения стрелка. Ждали два дня. Тем временем Винер скончался. Всё таки его отправили в Пяльму. Было промозглое туманное утро. В грязи на пригорке за стационаром под открытым небом стоял гроб. Подъехала, наконец, долгожданная телега с возчиком, лошадью, конвоиром. Панчук лично распоряжался отправной. Все чувствовали облегчение, что эта история, наконец, кончилась. В таких случаях говорят в лагере: «освободился до срока».
Был на 48-ом квадрате Очковский, поляк по национальности, теоретически нельзя заставлять работать больных и инвалидов. Практически, чтобы установить, кто болен и кто инвалид, требуется в лагерных условиях много времени. На слово никому не верят. Когда заключенный чувствует, что он слабеет, что силы его идут к концу, что ему с каждым днем хуже, то это не освобождает его от обязанности встать в 5 часов утра и выйти на развод с бригадой. Каждый «доходяга» проходит критическим и трагический период, пока ему удастся убедить людей,- от которых зависит его судьба, что он не притворяется, что он в самом деле нуждается в отдыхе, что у него в самом деле сердце не в порядке и ноги дрожат. Тем временем он должен работать наравне со всеми.
Очковский каждый вечер приходил в Санчасть за освобождением. Неизвестно почему - то ли выглядел он недостаточно жалко, то ли не было у врача возможности присмотреться к нему как следует, в ежевечерней давке пациентов, но Очковского каждый вечер выгоняли из амбулатории с позором. Вечером он препирался с врачом, утром на работе ссорился с бригадиром. Каждый вечер составлялся на Очковского акт, что он не выполнил минимума в 30% нормы, а Санчасть подтверждала, что нет оснований для освобождения. И каждый вечер сажали Очковского в карцер «с выводом на работу». Существование Очковского превратилось в кошмар: ночи в карцере, штрафное голодное питание днем, и с утра до вечера непосильная работа в лесу среди окриков и травли. - Опять этот Очковский! - говорил врач на приеме, «гоните его к черту».
- «Опять этот отказчик» с досадой говорил бригадир, завидев Очковского на разводе.
- «Опять этот лодырь Очковский», - говорил начальник лагпункта и выписывал ему пять суток «ШИЗО».
И вдруг - после целой недели карцера с выводом на работу - Очковский доказал всем, неопровержимо, что он действительно был болен: возвращаясь километров за 7 с бригадой с места работы, покачнулся, упал и умер.
Вечером того же дня начальник лагпункта, просматривая вчерашние акты отказчиков, выписал Очковскому 5 суток карцера. Таким образом, Очковского приговорили к карцеру после смерти. Лагерный механизмы действуют тяжело. Я тогда снова сидел в конторе, заменяя заболевшего секретаря. Увидев покойника в списке подлежащих водворению в ШИЗО, я совершил превышение власти и собственноручно вычеркнул его имя из списка. Но на этом не закончилась история Очковского. Узнав, что Очковский умер всполошилась Санчасть. Дело было нешуточное: человек позволил себе умереть, хотя еще утром и всю неделю до этого ему отказывали в освобождении. Конечно, в этом споре,Очковского с Санчастью он не мог остаться правым. Вызвали бригадира, обсудили обстоятельства дела, и был составлен акт, из которого вытекало, что смерть Очковского произошла совершенно случайно и без всякой связи с тем недомоганием, на которое он ссылался, и которого у него не было. Санчасть была в порядке, и покойник был бы здоров, если бы не скончался,
Этот акт принесли мне в контору, и я отправил его в Отделение вместе с сообщением о смерти, в котором не было ни слова правды. Ибо теперь уже было не до Очковского: теперь надо было выгораживать живых людей, которых могли бы обвинить в том, что они по преступному недосмотру лишили государство полезной рабочей силы.
История нашла свой эпилог в кабинете начальника. Наш главбух. зэка Май, с худой шеей и большим кадыком, отправлялся в Отделение сдавать отчеты по лагпункту, а с ним еще двое конторщиков. - «Вот и прекрасно!» - сказал им начальник, «а чтоб не было вам скучно, поедет с вами в отделение гроб Очковского». Конторщики скорчили гримасу.
- «Как же!» сказал начальник, «надо проводить Очковского к месту вечного успокоения».
И так как начальник был хохол, человек с юмором, по имени Абраменко, то он образно представил, как Май с товарищами, повесив головы, идут за телегой, на которой стоит гроб,и поют панихиду. Взрывы здорового смеха донеслись до меня. Так смеяться могли люди со спокойной совестью. Как хохотали эти люди! До слез, до упаду. И никому из них даже в голову на пришло, что Очковский не просто умер, а был убит, замучен на лагпункте. И что этот хохол с юмором был причастен к его смерти - что он неделю подряд сажал в карцер полумертвого человека.
Если бы сказать ему это в лицо, он бы, пожалуй, еще больше развеселился. Разве может начальник Лагпункта отвечать за каждый случай смерти? А разве может врач Санчасти досмотреть, кто действительно болен, а кто симулирует? Кто виноват? Кто, в самой деле, виноват, если люди умирают, как Очковский, если сажают их в карцер после смерти и устраивают потеху над их гробом?
Не думаю, чтоб так трудно уж было ответить на этот вопрос. Ответ на него прост и ясен. Никакие ссылки на мнимую «историческую необходимость» не могут оправдать смерти миллионов Очковских. Преступление советского строя не оправдывается, а, наоборот, еще усугубляется и подчеркивается, если окажется, что нет другого способа укрепить власть сидящих в Кремле, кроме чудовищной лагерной системы современного рабства и миллионов анонимных смертей. Люди, пославшие Очковского в лагерь, люди создавшие лагеря и мертвый гнет коллективного принуждения - виновны в его смерти.
Обвинять Санчасть не приходится. 3 лагерных условиях она неизбежно становится соучастницей преступления. Люди, лечащие нас, такие же несвободные заключенные люди, как и мы. Из уст доктора Г., заключенного врача на 48-ом лагпункте, я слышал эти слова: «Если бы я посылал в Польше на работу людей с таким состоянием здоровья, мне бы плюнули в лицо». Речь идет о Польше до 39-го года, но можно сказать, что не только в свободном мире, но и в той рабовладельческой Америке, о которой мы читали в детстве в «Хижине дяди Тома», не было такого надругательства над человеком, возведенного в систему. Почему же доктор Г. поступал в лагере иначе, чем он бы поступал в других условиях? - Потому что он имел «указание», чтобы число освобождаемых больных не превышало 3% общего числа. Троих из ста можно освободить, но 4-ый, 5-ый - вызывают гнев САНО. Почему так много больных? Значит, врач нехорош, врач отвечает за число больных, -врача надо снять с работы. Санотдел посылает отчеты в Москву, и он прямо заинтересован в том, чтобы показать минимальное число больных. Как же снизить заболеваемость, если каждый вечер обезумевшие, полураздетые и истерзанные люди штурмуют дверь лагерной амбулатории, и их не 3, а 10 и 15%? Никакой врач не в состоянии за вечер осмотреть как следует сто и больше человек, и не в его власти оказать им без медикаментов, бинтов и инструментов действительную помощь. Всех не освободишь. В ту зиму врачи-западники переживали тяжкий конфликт со своей совестью, многие стали психопатами, потеряли душевное равновесие, материли больных и пинками гнали их из приемной. А зато - когда приходил настоящий «урка» , бандит со зверской рожей, и в ответ на вопрос: «что 6o-лит?» распахивал бушлат на груди - врач без слова писал ему освобожден ние от работы,на 3 дня. Немудрено: поперек груди под бушлатом висел топор - очень убедительный аргумент в лагерном быту. Врачи в лагере были терроризированы с двух сторон: топором «урки» и вечной угрозой быть снятым с работы за излишнюю мягкость. И так как у врачей-западников процент освобождаемых всегда был выше, чем у русских лекпомов, то очень скоро их всех поснимали с ответственных и руководящих постов и назначили над ними «своих» людей. Над доктором Г. был поставлен заведующим Санчастью лекпом Полонский, молодой советский зэ-ка - и сразу число больных понизилось вдвое.
Магическая власть освобождать от выхода на работу, данная заключенному врачу над его товарищами, конечно, не остается бесконтрольной Сравнительно легкая форма контроля - это внезапный приезд врача из центра, который присутствует при вечернем приеме. Сразу подтягивается медперсонал, больные знают, что им сегодня пощады не будет, и многие из них сразу уходят из очереди. - Серьезнее дело, когда контролер . САНотдела приезжает утром после развода и назначает проверку всех освобожденных накануне вечером, Таким путем вылавливаются все освобожденные без достаточного основания, по знакомству или «по блату», и результат такой ревизии может быть иногда фатальным для врача. - Наконец, сплошь и рядом за годы, проведенные мною в лагере, случались такие сцены: начальник лагпункта, которому не хватает рабочих рук для выполнения плана, велит вызвать в кабинет всех освобожденных на сегодня. Дневальные по баракам будят спящих /каждый освобожденный по болезни, разумеется, не встает с нары и спит весь день/: «иди к начальнику». Это большая неприятность. Толпа перевязанных и не пepeвязанных, людей стоит под дверью. Каждый старается выставить СБОЮ рану, демонстративно хромает и страдает. Начальник критически оглядывает каждого, щупает бинты, спрашивает: «а у тебя что? да не кривись я тебя, лодырь,знаю! иди, иди на работу, не страдай!» - и кучу отобранных тут же гонят на вахту, не давая зайти в барак, чтобы не разбежались. Это - самоуправство, но редко найдется врач, который осмелится протестовать против такого вмешательства в права Санчасти. В конце концов, начальник лагпункта - его хозяин: он говорит ему «ты», имеет право в любую минуту посадить его в карцер,-и лучше с ним не спорить. Ведь и так беспрерывно идут в Отделение жалобы и доносы на врачей. Те, кому отказано в освобождении, пишут мстительные доносы на тех, кто, по их мнению, освобожден несправедливо. Каждый врач имеет врагов, и в каждой амбулатории сидит человек для негласного наблюдения, и в каждую больницу и стационар подсылают особых больных - доверенных 3-части - для шпионажа за теми, кто подозревается в махинациях и сговоре с врачом.
Заключенным врачам живется лучше чем обыкновенным зэка. Они имеют круг практики за пределами лагеря - среди вольных. Когда во время приема в лагерной амбулатории приходят вольные - то жена стрелка с ребенком, то кто-нибудь из поселка, их всегда принимают вне очереди. Не раз вызывают врача за вахту ночью или среди дня. Врачи - зэ-ка часто имеют высокие квалификации и являются единственными специалистами в районе. За многими славное прошлое, университеты Лондона, Вены и Италии. Им выпало счастье в советском заключении - они работают по специальности. Будь у них другая специальность - литература или философия - никакие ученые труды не уберегли бы их от черной работы. За лечение врачи получают от вольных кулёк с картошкой, хлеба или другую оплату натурой, которая позволяет им жить и держаться в лагере. Кухня также кормит их /полуофициально/ лучше, чем других заключенных, считаясь с тем ,что в их руках - ключи жизни лагерника. Повар, накладывающий им в миску, знает, что завтра он может нуждаться в их защите, если снимут его с работы. Кроме того, два раза в день он встречается с ними на кухне. Дежурный член Санчасти приходит до начала выдачи завтрака и ужина и «пробует» еду. Без его санкции пища не выдается, а «проба» сводится к тому, что врач изрядно подъедает из стахановского котла.
На больших лагпунктах, где много стационарных больных, стационарная и общая кухня разделены. Больным варят отдельно. На деле,конечно, санитары и медперсонал подкармливаются из больничного котла. Мертвые кормят живых: если больной умер утром, о его смерти сообщат в «продстол» после 2 часов дня, когда уже поздно снять его с питания назавтра. На завтра кухня выдаст на покойного хлеб и еду. Они не пропадут: найдется кому их съесть.
В течение пяти лет, проведенных в лагерях, я был свидетелем упор ной и ежедневной борьбы, которую ведут работники Санчасти в безнадежных условиях каторжного режима за здоровье зэка. Эта борьба безнадежна, т. к. единственное средство спасти жизнь и здоровье миллионов людей, находящихся в лагерях, заключается в том,чтобы открыть настежь ворота, выпустить их на волю и. сжечь те поганые и позорные места, где они заключены. Ведь 90% населения лагерей не совершили никакого преступления, - и все 100% не заслуживают многолетнего заключения в созданном для них аду. Надо различать между индивидуальной доброй волей и медперсонала - и Санчастью, как государственным учреждением, задачей которого является не защита заключенных от произвола Власти, а охрана фонда рабочей силы в интересах этой власти. Значение Санчасти в том, что она не допускает до эпидемий, результаты которых были бы ужасны в лагерной скученности и грязи. При мне за 5 лет не было эпидемий в лагерях. Санчасть успешно борется со вшивостью. Мы, западники, смеялись, когда на 48-ой квадрат пришел приказ из «САНО» - в недельный срок ликвидировать вшивость. Нам казалось, что вместо приказа следовало бы прислать немного мыла и чистого белья. Однако, мы были неправы. На каждом лагпункте имеется «дезинфектор», который ведет беспрерывную борьбу со вшами, окуривает серой бараки и следит, чтобы лагерное белье - пусть немытое и несменяемое - неукоснительно проводилocь через «дезокамеру», или иначе «вошебойку». В этой войне иногда побеждают вши, иногда люди - она ведется с переменным успехом, но без нее наступила бы в лагере катастрофа. Понятно, эти меры, проводимые с варварским усердием, под страхом жестокого наказания, не могут ни накормить голодных, ни остановить стихийного процесса вымирания слабых. В некоторых документах бывшие лагерники оценивали цифру лагерной смертности в 30% в год. Это явно и абсурдно преувеличенная цифра. Конечно, в течение года из тысячи заключенных на 48-ом квадрате не умерло трехсот человек. Однако, я могу с полной уверенностью сказать, что из этих тысячи человек, если бы их оставили в лагере до конца их З и 5-илетнего срока, не выжило бы и половины. Для меня, прожившего в лагере 5 лет, т.е. полный срок, конец наступил в начале 1943 года, т.е. спустя два с половиной года. Как в 1943 году, так и год спустя, в 44-ом, я стоял на пороге смерти от истощения. В обоих случаях только «чудо», т.е. нелегальная помощь со стороны, спасло меня от жалкой лагерной смерти. .
То, что делает Санчасть, напоминает мне работу в лагерном «Овощехранилище». В конце 1941 года я занимался там переборкой картошки. Это было уже не на 48-ом квадрате, а в другом месте. На эту работу посылают, обыкновенно женщин, но недели две я сортировал картошку с бригадой поляков. В подвале, где никогда не бывает ниже 0 и выше 4, чтобы картошка не замерзла и не проросла, стояла наклонно большая, длиной в три метра проволочная сетка-грохот. Справа и слева стояли с деревянными лопатами люди. На сетку сыпали мешки с картошкой, а люди лопатами гребли и просеивали картофельный поток: мелкий картофель просеивался через сетку, а крупный спадал в большие ящики на нижнем конце. В разные закрома складывали картошку: крупную отдельно, мелкую отдельно, гнилую, которую выбирали руками - отдельно. Без Конца просеивали картошку. Крупную у нас забирало государство, а мелкую и гнилую оставляли для лагерной кухни. Стоя с лопатой над потоком картошки, я думал, что есть сходство между работой Санчасти и этой работой в подвале: без устали просеивает нас Санчасть, здоровых отдельно, слабых отдельно, гнилых отдельно. Сито Санчасти такое же дырявое и негодное, как то ,над которым я стою, и так же пропускает гниль и мелочь, смешивает отбросы с отборным материалом. Разница только та, что картофель лежит, как его положили, а человеческая картошка беспрерывно меняется, перерождается, чахнет, мельчает на глазах. Гребут ее большими лопатами, не глядя и кое-как. Только что разложили по закромам: I категория, 2-ая, 3-ья, инвалиды, больные -и вот уже надо всю работу начинать сначала. Тоннами досыпается картофель в машину. «НКВД» работает, досыпает и доваливает без конца. Эшелон за эшелоном выгружается в онежских лесах, в печорских тундрах, в шахтах Караганды и рудниках Воркуты, в тысячах уральских и сибирских лагерей, в ледяных пустынях Арктики. Не хватает врачей в белых халатах, не хватает лекпомов, не хватает рабочих рук, нет нервов и сил просеивать и ворошить эту массу. Смердит и гниет, разлагаясь, человеческое мясо. Удел его - быть использованным до конца, лечь в землю и быть забытым. Станут зато на советской земле Беломорканалы, Турксибы, пароходы пойдут из Москвы в Волгу, задымят печи Магнитогорска. Пролетарские поэты в прекрасной Франции или Южной Америке сложат взволнованные песни о советской стране, и весь мир повторит слова известной песни: Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек.
Глава 16. Враг мой Лабанов
За 10 месяцев на 48 квадрате сменилось трое начальников. Петров, великий ругатель, но добродушный и простоватый человек, оказался неспособным наладить порядок на лагпункте. Скоро он загрустил, и начальственность сошла с него. В последнее утро перед уходом Петров совсем упал духом и, выйдя к плотникам, которые строили забор вокруг женского барака, стал в одном ряду с ними прибивать доски и стучать топором. Он скинул гимнастерку и свою старую фуражку, и весь ушел в работу. Казалось, работая заодно с заключенными, он больше чувствовал себя человеком и больше на месте, чем за бумагами в кабинете. Худое, нервное и усталое лицо его приняло мирное и спокойное выражение.
Петров был человеком старшего поколения. Такие люди, которые помнят прошлое без лагерей и романтику гражданской войны, имеют в России свои сокровенные чувства и мысли, горечь и сожаления, о которых никому не скажут. Вряд ли снилось ему, когда он был красным партизаном и ходил в атаку на врагов революции, что судьба поставит его на старости лет начальником концлагеря.
Преемник Петрова, Лабанов был так поразительно молод, что когда он вошел в первый раз в контору, никому и в голову не пришло, что это новый начальник. Местом своим он был обязан протекции в Медвежегорске. Лабанов носил кургузый пиджачок, нос имел вздернутый, вид писарька, и, как две капли воды, был похож на слугу Станислава, который в Лодзи подметал пол и отворял двери в учреждении, где я работал.
Это было во время одного из моих периодических возвращений в контору. После того как Степанов, уполномоченный 3 части, запретил держать меня в конторе, я все-таки несколько раз возвращался туда - на короткое время. Конторские «придурки» держали мою сторону. То табельщик Тененбаум подбрасывал мне талон, то бухгалтер Кунин выдумывал работу на пару дней. Однажды, когда я прилежно строчил какой-то отчет, вошел неожиданно в контору Степанов. Проходя мимо, он чуть-чуть покосился на меня и не сказал ни слова, но главбух Май с досадой крякнул и велел мне как можно скорей уходить в барак - с глаз долой.
Степанов, однако, жил в Пяльме и не мог преследовать меня систематически. Зато Лабанов через короткое время стал для меня грозой. Я не мог понять почему. Это выяснилось позже: я в первые дни неосторожно сказал кому-то, что Лабанов не годится в начальники, а в Лодзи в наилучшем случае мог бы быть швейцаром в конторе. Стены имеют уши, и Ла-банову эти слова стали известны. Он никогда мне их простить не мог, и допек меня по всем правилам искусства.
Лабанов был так малограмотен, что с трудом разбирал писанное. Я должен был ежедневно читать ему вслух и пересказывать содержание бумаг. Зато каждую бумажку, которую я составлял, он немилосердно браковал, заставлял переделывать и переписывать по несколько раз. С особым сладострастием он меня гонял с поручениями по лагерю - до поздней ночи.
Настали для меня черные дни. Это было глубокой осенью, когда лагерь тонул в непролазной грязи. Обуви у меня не было, и Лабанов не давал мне ее. - Ты не работяга, - говорил он, - и так побегаешь. - Я почти босиком ходил по лагпункту. На ногах появились у меня раны и нарывы, но Лабанов не освобождал меня от беготни. У меня не было характера отказаться от этой работы, я боялся, что в лесу будет еще тяжелее. Нарядчик Гриб, которого я когда-то угостил салом из посылки, хотел оказать мне услугу и включил меня в «этап», т. е. в партию, которую отправляли на другой лагпункт. Однако, в последнюю минуту Лабанов рысцой вбежал в барак, увидел, что я укладываю мешок на дорогу, сказал тоненьким тенорком: «Не позволяю! Не пойдет он!» - и меня вычеркнули из списка.
В первый раз посадили меня в карцер, когда лилипут Петерфройнд, который оставался в пустой конторе, пока я ходил на ужин, не сразу подошел к телефону. За то, что меня не было при телефоне, когда звонил Лабанов, он мне назначил двое суток. Я сам себе выписал ордер на двое суток, и Лабанов подписал его с удовольствием. Мы так много сажали тогда народу в карцер, что очередь до меня дошла не скоро. Теперь можно признаться, что я совсем не сидел. «Завизолятором» Фридман вписал меня в карцерный журнал, и я отсидел свои двое суток (т. е. двое ночей) только на бумаге.
Лабанов заставил меня оглашать его ежедневные приказы по лагерю при разводе. Я должен был вставать с подъемом, выходить к вахте и перед собранными бригадами читать его распоряжения по лагерю, среди которых были и дисциплинарные взыскания. Составление этих приказов по лагерю входило в мои обязанности «секретаря» Ему доставило невероятное удовольствие, что я, таким образом, должен был составить и огласить приказ о водворении в карцер себя самого. - «Ну, как, - спросил он, - прочел про себя самого?» - и хихикнул.
Хотя Лабанов трижды посадил меня в карцер, я не сидел ни разу, благодаря тому, что заведующий «Шизо» был свой человек, «западник». Скоро Лаба-нову надоело истязать меня, и он меня отправил в лес. На мое место подобрали русского. Мой преемник был тихий, вежливый, болезненный человек, который лучше меня умел использовать выгоды своего секретарского положения. Карманы у него были полны стахановских талонов, и каждый раз, когда я заходил к нему в контору, он без моей просьбы вручал мне талон. Зато я, когда получал посылку, обязательно приносил ему пачку украинского табаку.
При Лабанове половина западников свалилась с ног, план не выполнялся, и кончилось тем, что его скоро перевели от нас. На его место прислали Абраменко, бывшего сотрудника 3 (политической) части - «хохла с юмором», о котором я уже упоминал. Абраменко наладил «производство» с помощью нескольких сот русских зэ-ка. От «западников» же толку не было до самого конца их пребывания в лагере.
В одно зимнее утро, когда мы уже часа три отработали в звене Глатмана, подъехал к нам возчик. Подъезд был трудный, и не так легко было поставить сани в нужном месте. Лошадь упиралась, и возчик не мог с ней справиться. Движения возчика были так неловки, и все, что он делал, так затрудняло нам навалку, что Глатман рассвирипел. Как он ни указывал, все получалось у возчика наоборот. Наконец, Глатман размахнулся и наотмашь ударил возчика в лицо.
Я думал, что начнется драка, но вместо этого возчик опустил руки и расплакался, как малое дитя.
Глатман плюнул и отошел в сторону. - «Зачем ты его бьешь? - сказал я с укором, увидев из-под ушастой шапки совсем молодое лицо 17-летнего мальчика. - Все его бьют! опять Салек!»
- Зачем он лезет, куда не надо! - с сердцем сказал Глатман: - разве ему по силам быть возчиком? Разве это для него работа? Ведь он саней повернуть не умеет. Это еще ничего, а если бы в русском звене, они бы ему кости поломали!
Салек все еще плакал, прислонившись к оглобле и не утирая крупных слез. Я подошел к нему и как ребенка стал его утешать.
Салек в самом деле лез, куда не надо. Он был похож на любознательного и наивного щенка, который всюду тычется носом и от всех терпит незаслуженную обиду. Дома, наверное, мать очень его баловала. Салек мне рассказывал про родительский дом и пекарню отца в галицийском местечке, - про то, какие булки у них пекли и какие перины мать стелила на ночь. Он был здоров, лицо имел пухлое, ребяческое, и отличался удивительной способностью у всех оказываться под ногами. Спускаясь с верхней нары, он непременно задевал ногами сидевшего внизу. Подходя к печке, чтобы помочь (он еще и услужлив был, как хорошо-воспитанный мальчик), подать кому-нибудь кружку с огня, - он ее непременно опрокидывал и разливал. Когда растапливали печку в бараке, он до тех пор ворошил и поправлял дрова, пока огонь не гас, хотя его никто не просил помогать. Поэтому все его били нещадно и жестоко. Не было дня, чтобы он не плакал навзрыд, чтобы не раздавался его жалкий, ребячий визг, чтобы не бросалось в глаза среди барака его орошенное слезами лицо. Как щенка, его отшвыривали пинком от печи, когда кто-нибудь хотел погреться, а места нехватало. - «Ведь я раньше пришел!» - рыдал Салек, пораженный такой несправедливостью. И быть возчиком он попросился без раздумья, когда вызывали желающих работать на лошади. Он еще не умел соразмерять своих сил. Кости у него были мягкие, но зато аппетит - волчий. Салек никак не мог наесться досыта. А возчиков хорошо кормили.
Мое сочувствие или жалость не могли его накормить или облегчить его работу. Лагерь учил его беспощадно - учил о праве сильного и о законах борьбы за существование. Салек оказался понятливым учеником.
Скоро я увидел, как он бьет тех, кто слабее его. Он научился уходить с дороги сильных и брать за горло, кого можно. У него появился сиплый бас, и он стал материться затейливо и сложно, как заправский урка. В конце зимы опять кто-то жалко плакал в нашем бараке. Но это уже не был Салек. Салек был тем, который избил. В дых, в зубы, в морду, - как его самого били, а потом отошел в сторону и сплюнул - точно так, как это сделал Глатман в то утро. - «Зачем ты так делаешь?» - хотел я спросить - и не посмел. Салек презрительно посмотрел на меня, как на пустое место. Взгляд у него был волчий. Волченок! Уже он умел укусить больно, выучился воровать, не стеснялся открыто взять чужое, как настоящий урка, нагло глядя прямо в глаза: «посмей сказать слово!» Уже Салека боялись в бараке, и ходили слухи, что он передает в 3-ью часть, о чем разговаривают западники. Так долго топтали Салека, пока он не научился топтать других.
И как могло быть иначе? Сама власть - непогрешимая и всемогущая - преподала ему урок циничного и грубого насилия. Никто его не жалел, не учил уважать человека. А в самом лагере уважали только силу. Скоро Салек научился презирать «доходяг», людей, которые без сопротивления идут на дно, не умеют дать подножку врагу. А врагом Салека был весь мир.
Молодежь 17-18 лет, попадая в лагерь, либо «доходила», т. е. физически чахла, либо быстро дичала, в короткий срок усваивая приемы и мировоззрение бандитов. Не все, как Салек, становились волками. Другие, под конец, как гиены и шакалы, жили падалью, ходили за лагерными богачами и силачами, подбирая объедки, сидели под кухней, ожидая, чтобы им выплеснули помои и картофельную шелуху - сторожили, когда поедет в каптерку воз с капустой, и всей сворой бросались на него, чтобы под ударами кнута стащить качан и убежать с ним.
Тема - «молодежь в лагере» - относится не только к заключенным. В конторе 48-го квадрата работал Ваня - подросток лет 16-ти, вольный - с круглой стриженой головой и смышлеными глазами. Ваня был сыном ссыльно-поселенцев, прикрепленных к району. Это был способный парнишка, он окончил счетоводные курсы и работал у нас в бухгалтерии. В возрасте, когда еще надо учиться, он был вполне самостоятелен и начал карьеру советского служащего. Лагерь его не удивлял и не смущал. Мира без лагерей он себе и представить не мог. Для своих лет он был необыкновенно солиден и сдержан. Ваня жил очень бедно: ел немного лучше нас, носил серо-мышиный бушлат и рубашку, как заключенный; комнаты своей не имел и ютился в углу у кого-то из стрелков. Я к нему приглядывался с любопытством: что этот подросток знал о жизни, какие у него были перспективы в будущем?
С европейской точки зрения Ваня был полудикарь: никогда в жизни не выезжал из онежских лесов, не имел понятия о городском комфорте, вид шляп и галстуков на фотографиях западников приводил его в веселое настроение, о яблоке или груше он знал только по наслышке, никогда не ездил трамваем, не питался по-европейски, не спал по-европейски (пододеяльник ему был неизвестен).
Ваня имел очень смутное понятие о христианстве, никогда не видел ни Библии, ни Евангелия, и вся мудрость мира заключалась для него в политграмоте. В духовном смысле он как бы был кастрирован: не знал, что можно иметь разные мнения о разных вещах, что можно сомневаться в том, что стоит в изданной Госиздатом книге, или иметь о чем-нибудь свое мнение.
Ваня, конечно, матерился как взрослый, но при этом не сознавал, что говорит что-нибудь циничное и грязное. Для него это был обычный способ выражения. Он охотно пил водку со взрослыми и грубо говорил о женщинах.
Романтика, высокие мечтания, преувеличенный идеализм молодежи - восторженный коммунизм, который на Западе оперирует такими понятиями, как «борьба за свободу», «восстание порабощенных», «человечество», - просто не могли быть приложены к нему. Он был счетовод на лагпункте и видел жизнь как она есть. В школе научили его, что это есть самая лучшая жизнь, а за границей - капитализм, эксплоатация, и все гораздо хуже.
Раз он меня попросил, чтобы я ему рассказал, какие фрукты в Палестине. Я ему описал апельсины, бананы, грейп-фруты. «Да, - сказал Ваня, - фрукты интересные. А только эксплоатация у вас - вот это плохо!».
При всем том Ваня был мальчик: ему было трудно вставать рано, весь день до поздней ночи корпеть над цифрами и бумагами и он часто опаздывал на работу. Все вольные служащие у нас, проходя через вахту, отмечались у стрелка, а ровно в 9 часов я забирал у стрелка список и докладывал начальнику лагпункта об опозданиях.
Ваню предупредили раз, два. Наконец, составили акт и послали, куда следует. Ваня получил повестку в Нарсуд. В то время такие вещи еще не имели серьезных последствий. Ване дали не то 4, не то 6 месяцев принудительного труда в той же должности, с вычетом 25% жалованья. Однако, Ваня помрачнел, и стал еще смирнее. Жизнь его не баловала, а приучала к железному порядку. Скоро забрали его от нас в соседний лагпункт.
Ваня, как сын ссыльно-поселенца, вырос уже с сознанием социальной вины и клейма. Но кругом лагеря было много детворы из семей начальников и стрелков. В особенности много было ребятишек на том лагпункте, где я провел три года после 48-ого квадрата. Эти дети часто приходили в контору ремонтных мастерских лагеря (за воротами), и когда мы работали за вахтой вблизи поселка, они к нам прибегали и играли возле нас. Они росли на наших глазах, а мы на их глазах старели. Всеобщим любимцем лагеря был 5-летний Вова, сын начальника мастерских, всегда окруженный целой оравой ребятишек старше и моложе его. Когда бригады вечером и в полуденный перерыв выходили на дорогу и строились, чтобы пойти «домой», ребятишки облепляли их. Заключенные с ними шутили, сажали их к себе на плечи и так носили до самой вахты. Потом Вова с товарищами делал попытку проскочить в ворота лагеря, но это было запрещено, и ребятишек отгоняли в сторону. Стрелки смеялись: «Успеете сесть, когда вырастете!» - Дети стояли гурьбой в стороне и смотрели с интересом, как стрелок выходит с ключами, растворяет ворота, а другой считает проходящих парами. А иногда еще интереснее: обыскивают тех, кто идет с поля или овощехранилища, - не украли ли чего. Обыскивают и тех, кто только что шутил с ними и нес на плече. Это в порядке. Вова знал, что люди делятся на 2 категории: одних считают, водят под конвоем, они должны слушаться и делать работу, на которую их выводят. Зэ-ка для этого и существуют. Они некрасиво одеты, и когда папа приходит, они встают и боятся его. Папа может на них кричать, а они на папу или Вову? - смешно даже подумать такое. Папа, или он сам, Вова, или люди на поселке - это совершенно другие люди, чем эти зэ-ка.
Вова рос с лагерниками, как сын помещика с крепостными, не спрашивая, почему одни носят оружие и приказывают, живут в отдельных домах, а другие живут за колючей проволокой, куда никого не пропускают. Он с детства считал это естественным, как мы, городские дети, считали в своем детстве само собой понятным, что вокруг города находятся деревни, а в них чужие, грязные и бедные мужики, которые делают черную работу и живут совсем иначе, чем мы.
Вся окрестность была усеяна лагерями, и это не были «преступники», а нормальная и основная часть населения. Не «преступники», а просто - отверженные. При виде советских детей, растущих среди арестантов, в атмосфере бесправия и человеческого унижения, и привыкающих к невольникам, как к самому нормальному явлению, я думал, что взрослым следовало бы убрать отсюда ребят, как из публичного дома, и не допускать, чтобы детские глаза смотрели на то, что они делают. Что же могло в будущем вырасти из этих детей, кроме тюремщиков - или рабов? Мне было жаль Вову, который с детства привыкал к виду упорядоченного государственного рабовладения. У него были прозрачные синие глаза, и он был отчаянный шалун. Но в 5 лет Вова уже ориентировался в том, что у этих сотен дядей нет и быть не могло семей, таких детей, как он сам, что они не имели права ходить, куда им хочется, и представляли собой нечто среднее между людьми и стадом коров, которых гонят по улице и запирают на ночь. Бояться их нечего: если они посмеют обидеть его, Вову, то сейчас папа или дяденька с ружьем их отведет в карцер - вон в тот таинственный домик за лагерем, обведенный двойной изгородью и всегда наглухо-запертый.
Как часто, встречая детей с морковкой или куском хлеба в руке, голодные зэ-ка протягивали руку и просили «дать попробовать». Но дети не поддавались на эту удочку. Это были особенные дети. Никто их не учил подавать милостыню, и никогда я не видел, чтобы ребенок что-нибудь подал заключенному. Правда и то, что они не оставляли ничего недоеденного. Когда какой-нибудь лохматый оборванец, подняв голову от недопиленного бревна, смотрел на них тоскливыми глазами, нельзя было понять, к чему относится его тоска: к ребенку или морковке, которую тот держал в кулачишке. А семилетний бутуз, заметив этот упорный взгляд, кричал ему издалека: «Ну ты, работай! а то я стрелку скажу!».
Между Лабановым, Ваней и Вовой была прямая связь. Из этих ребятишек вырастали впоследствии Вани, а из Ваней - Лабановы. Немного надо было, чтобы они сами попали в лагерь. Вплоть до 1945 года мне не приходилось встречаться с детьми в лагерях, но на 5-ом году своего заключения, в Котласском пересыльном пункте, я наткнулся на детскую бригаду. Поблизости, вероятно, была какая-то «трудколония», куда их направляли. Дети от 10 до 15 лет жили в особом помещении. У них был свой «воспитатель», старый западник зэ-ка, по фамилии Пик, еврей, до войны бывший торговым служащим где-то в Литве или Латвии. Дети, как взрослые, выходили ежедневно на работу, таскали доски или копали рвы. Пик с разрешения местной КВЧ пригласил меня читать им ежедневно после ужина часок. За это он давал мне мисочку каши. Ни за что на свете я бы не согласился вести с ними беседу, да этого и не позволили бы мне, но читать по книге рассказы для детей старшего возраста я согласился. Подходящую книгу я раздобыл по счастливому случаю, очень патриотическую. Несколько раз я приходил к ним. Это было в июне 1945 года. К тому времени я порядочно высох, поседел, передвигался с трудом, и дети называли меня «дедом». Я был умудрен опытом и не навязывал молодым зэ-ка своего чтения. Это немедленно вызвало бы реакцию противоположного характера. Я садился в уголку и, выбрав себе одного-двух слушателей, начинал им читать негромко. Через короткое время подбирался кружок в 10-15 человек, и дети сами начинали шикать на тех, кто не слушал. «Тише, не мешайте». А рядом другие продолжали играть в самодельные карты, заниматься своими делами и разговаривать. Судьи, которые послали в лагеря с двух и трехлетними сроками этих малолетних преступников, должно быть не читали «Педагогической поэмы» Макаренко. И сам Макаренко, когда писал свою книгу, должно быть, не был в курсе того, что делается в лагерях, иначе у него пропала бы охота писать. Все эти дети и подростки сидели за мелкие кражи, за хулиганство и бродяжничество. Один из них получил два года за кражу кило картошки с индивидуального огорода. Котласский перпункт, где они находились, был кошмарным сборищем подонков, погибающих людей, женщин-мегер на последней ступени человеческого падения. Нет ничего страшнее и безобразнее женщины-доходяги, которая еще не превратилась в скелет, но уже не находит охотника на свое тело. Присутствие детей в этом месте было двойным преступлением. Какие судьи послали их сюда? Я расспросил 12-летних детей, которые рассказывали мне, что приговор вынесла им женщина. Но это уже не удивляло меня на 5-ом году заключения.
Вернемся в лагпункт над Онегой. Я все-таки не увернулся от карцера. Каждый лагерник хорошо помнит свою первую ночь в «куре». Моя первая ночь пришла после очень неудачного и трудного дня. Началось все очень хорошо: мы вышли на лесоповал в бодром настроении, снег сиял на солнце, было безветренное студеное утро. Мы наткнулись на замечательный участок. Но я сразу почувствовал, что тут что-то не ладно: лес был слишком хорош, - сосна к сосне. Такой лес был для рекордистов, а не для дохлых западников с тупыми лучками. Мы развели костер, посидели и только спустили первую сосну, как прибежал с криком десятник: «Здесь нельзя рубить!». А сосна уже лежала, и над ней дико поругались десятник с бригадиром, а потом - бригадир с нашим звеньевым. С этой ссоры и началось. Бригадир в отместку послал звено на открытое поле, собирать раскиданные случайные стволы, откапывать их из-под снега, носить и складывать. Мы потеряли много времени, и до вечера мерзли в открытом поле без костра. Еле собрали на один воз. К вечеру был готов и второй, но бригадир не послал нам возчика, и дрова остались невывезенными. В таких случаях принято дописать «авансом» невывезенный воз. На этот раз бригадир не только не засчитал нам этого оставшегося воза, но и составил на нас акт: невыполнение 30% нормы.
Вечером мы еле дотащились до барака, голодные и продрогшие после целого дня блужданий в открытом поле. От носки заснеженных баланов все на нас было мокрое. Мы не успели обсушиться, не успели получить свой ужин, как всех четверых со звеньевым вызвали к начальнику.
За столом начальника сидело незнакомое лицо - гость из Отделения. Лабанов, сидя сбоку, коварно улыбался.
- Эт-та что такое? - строго обратился к нам заезжий начальник: - четыре здоровых мужика - вас кормят, одевают - а вы как работаете? Это чей акт?
- Акт наш, гражданин начальник. Дозвольте объяснить...
- Молчать! Никаких разговоров! Я вижу, что делается! Лодыри! В карцер немедленно! Лабанов! Распорядись!
Враг мой Лабанов распорядился с видимым удовольствием. Прямо из кабинета начальника - неевших весь день, в одежде, набухшей водой - отвели нас в избушку под забором. Повели и других, всего человек десять. Пропуская мимо себя в калитке изолятора, комендант Панчук поднял фонарь и осветил мое лицо.
- И Марголин туда же, - сказал он с ироническим удивлением: - что же ты, Марголин, не постарался сегодня?
В предсеннике карцера нас обыскали, отобрали пояса, все, что было в карманах, а у меня, сверх того, еще сняли очки, без которых я слеп. Потом втолкнули меня в затхлую вонючую дыру.
В карцере было темно и холодно. Это была квадратная клетка с двойными нарами против двери. На голых досках лежало человеческое месиво. Я попробовал рукой - чьи-то ноги, скорчившиеся тела. Места не было. У двери стояла параша. На полу разлилась зловонная лужа. Лечь негде. Я стал в углу, прислонившись. Меня трясло и знобило. Стоял я долго... Вдруг за дверью послышался голос «завшизо»:
- Марголин!
- Здесь! - откликнулся я.
- Вам тут хлеба принесли из барака... будете брать?
- Давай! - сказал я и шагнул в темноте вперед. Над дверью было маленькое отверстие, через которое легко было просунуть пайку. Мои соседи по бригаде получили на меня хлеб, и кто-то занес его в карцер, зная, что я ничего не ел с утра.
В эту минуту я получил в темноте сильный удар кулаком в грудь. Кто-то толкнул меня в сторону и стал вместо меня при двери, не произнося ни слова.
- Фридман! - закричал я отчаянно. - Не надо хлеба! Отдайте обратно!
- Не хотите хлеба? - произнес с удивлением голос за дверью.
- Забирайте!
За дверью голоса замолкли, шаги удалились.
- Вот сволочь, жид проклятый! - просипел голос возле меня: - Отдал хлеб! Погоди, я тебя научу!
- Дай ему, дай! - отозвался с нар бас. - Это ж секретарь. Он сидит в конторе и акты на нас пишет!
- Отвяжись, - сказал я тихо: - не я пишу, а на меня пишут. Очень противное чувство человека перед избиением: не страх физической боли, а унизительное ощущение бессилия, полной обреченности - в яме, во мраке, на дне - бессмысленный животный ужас перед чужой ненавистью и перед своей потерянностью.
Я крикнул сдавленным голосом, позвал товарищей из моего звена. Они были так близко, - но никто не пошевелился, не отозвался.
Какое счастье - бороться, противостоять, кататься в свалке тел! Но мои изуродованные артритом пальцы в ту зиму перестали сгибаться, и я не мог их сжать в кулак! Я поднял эти несчастные бесполезные обрубки и дико закричал в темноту, точно я был один во всем мире.
Я закричал так страшно, что этот крик услышали во всем лагере.
Я упал на пол у параши, и кто-то, кого я не видел, нашел мою голову и стал бить в нее ногой, обутой в бесформенный лагерный опорок.
Этот мой крик был не от боли и не от страха. Он уже давно перестал бить и отошел, а я все кричал. Это был припадок бессильного бешенства, как будто от этого крика могли обрушиться стены карцера, стены лагерей, фундаменты всех тюрем мира! - Люди! Люди! Люди! Почему так должно быть!..
Потом я сел на пол у стены, но заснуть я не мог всю ночь. Холод сочился сквозь стены, веял из-под пола, леденящий -холод, от которого тело начинает прохватывать до костей, и от которого некуда спрятаться. Кто-то сидел рядом, может быть, это был мой враг, но теперь холод обнял нас и прижал друг к другу. Замерзая, мы грели друг друга, сидя в рукавицах и завязанных под подбородком шапках, поджав ноги, чтобы было теплее, и старались согреть руки то в карманах бушлата, то под мышками.
Наконец, нам стало все равно, и мы просто сидели, а когда рассвело, я увидел, что рядом со мной сидел какой-то старик, с красным морщинистым лицом, и все шептал, шептал и качал головой, точно от этого было легче. Я хотел есть. Потом я хотел поскорее быть в лесу, у большого костра. Когда ударил подъем, люди в карцере заворочались. Урки встали и начали деловито и спокойно ломать нары, на которых лежали всю ночь. Они выламывали доски с сосредоточенным видом людей, делающих понятное и нужное дело. В десять минут карцер был разгромлен, сложили вырванные доски и взялись поджигать их. Но этого не успели сделать, хотя клочья ваты, вырванной из бушлатов, уже начинали тлеть. Отворились двери, «завшизо» и комендант с криком погнали всех вон. В свалке растащили пояса и вещи, сложенные кучей на полу. Я нашел свои очки, это было главное. Я схватил первый поясок, какой попался, и побежал в барак. Мой хлеб был цел! - Но я твердо решил не возвращаться в ту бригаду, где бригадир составил на меня «акт», и люди моего звена равнодушно смотрели, как меня били. Я не мог с ними больше ни жить, ни работать. В то утро я вышел на работу с бригадой железнодорожников Гарденберга.
Глава 17. Бригада Гарденберга
1 января 1941 года на 48-ом квадрате была проведена «инвентаризация». Это важное событие происходит в лагере раз в год и всегда приурочивается к нерабочему дню. Таким образом, государство ничего не теряет, но заключенные лишаются дня отдыха. Инвентаризация требует максимального напряжения сил всех обитателей лагеря без исключения, - зэ-ка, администрации и охраны.
Первый день Нового Года в лагере начался с раннего утра тревогой: «выходить из бараков!» - Мы начали укладываться, как в отъезд. Нас предупредили, что в бараках не должно оставаться никаких вещей. Исключение было сделано только для амбулатории и стационара, где проверка производилась на месте. Барак за бараком пустел. Люди выходили со своими пожитками, навьюченные, таща мешки, сундучки, чемоданы, с котелком у пояса и миской за пазухой. Стрелки и нарядчики торопили их, погоняли отставших, бригадиры на улице строили своих людей. Шум и крик стоял над лагерем. Наконец, все двинулись к вахте, и совершился великий исход тысячи зэка за ворота в открытое поле.
Когда лагерь опустел, по баракам прошли с тщательным обыском люди коменданта и конторы. Не оставили ничего, вымели начисто, подобрали все брошенное, спрятанное в тайниках, под полом, во всех местах, где лагерники умудряются прятать излишки вещей и всякую контрабанду.
Мы тем временем стояли в открытом поле тысячной толпой, как фантастический обоз. Метелица мела над нами и между нами, в снежном мареве чернели окоченевшие фигуры. Люди прятались за спины товарищей, на краю дороги садились терпеливо на поклажу, пока снег засыпал их бушлаты, плечи и головы.
Поставили столы перед вахтой и стали выкликать бригаду за бригадой. Таков был испытанный лагерный способ, чтобы проверить на людях наличие казенного имущества, согласно арматурным книжкам. Каждого вызывали к столу, как на экзамен. Каждый показывал все, что у него есть - включая белье на теле. Затем стрелок ВОХР'а тут же в снегу перерывал содержимое мешка или сундука, перетряхивал весь хлам до дна, и каждая обнаруженная нелегальная казенная вещь немедленно отбиралась.
Тут и выяснялось - кто продал с себя за кусок хлеба казенную рубашку, а у кого их две, кто носит две пары ватных брюк или ворованную обувь - все злоупотребления, махинации и кражи - в особенности кражи, за целый год. Все неположенное и лишнее без дальних слов конфисковывалось и при этой оказии проверялось публично до последней мелочи все имущество заключенного: каждый упрятанный клочок бумажки, каждая вещь из дому, фотография или памятка.
Часы проходили. Обыск тянулся невыносимо долго. Люди топтались в снегу, кто послабее - впал в апатию и не шевелился на своем сундучке. Было 3 часа дня, когда дошла до нас очередь. А за нами еще стояла толпа. В первую очередь пропускали женщин, инвалидов и те отборные лагерные бригады, которые надо было уважить. Просмотренных еще не впускали в лагерь, а перегоняли на другую сторону дороги и кордоном стрелков отделяли от еще ожидавших очереди. Скоро вьюга улеглась. В сугробах только чернел лагерный частокол, и над ним надписи, которые мы знали на память: «не кури на производстве» и «беспощадная борьба бракоделам и вредителям».
Короткий зимний день, наконец, прошел. Были уже сумерки, когда мы ввалились голодной озябшей толпой в ворота лагеря. В бараках погром: нетоплено, доски вынуты из нар, и надо было браться за работу приведения жилья в нормальный вид. Дневальные раскалывали дрова, искали огня на растопку, работяги наново прибивали сорванные полки над нарами, раскладывали одеяла. Кухня весь день не работала, там только начинали варить. Поздно вечером в темноте с ругательствами толпились под окошками кухни, получали ужин до 11 часов вечера. Урки выхватывали из рук миски, пользуясь давкой и темнотой. Так прошел наш «нерабочий» день. Новый Год начинался не очень празднично. Впрочем, какие праздники у зэ-ка?
В нашем бараке еще торчали кое-где над изголовьем нар, где помещались поляки, зеленые елочки - «хойнки». Это польские зэ-ка устроили себе Рождество. В моей новой бригаде Гарденберга было много поляков.
Инженер Карпович из Варшавы, с худым и приветливым лицом, был моим другом. Мы обменялись с ним адресами. Я дал ему свой - тель-авивский, а он мне - адрес своей жены в Варшаве: Улица Фрета № 1. Мы условились: кто из нас переживет лагерь и вернется домой, разыщет семью другого и передаст привет. Вернувшись в Варшаву, я вспомнил это свое обещание, но не мог его исполнить: в море развалин повоенной Варшавы не оказалось ни улицы Фрета, ни дома № 1, ни жены покойного Карповича, который не пережил советского лагеря.
Старый железнодорожный рабочий Гах был моим «напарником» в бригаде Гарденберга. В ту зиму мы строили ветку узкоколейки, километров в 8 от лагеря. По сравнению с лесоповалом, где люди надрывались, это была легкая работа.
Мы выходили затемно. Уже совсем готовые, одетые и закутанные, еще сидели в бараке, оттягивая до последнего момента выход, пока не вбегал десятник: - Гарденберг, почему людей не выводишь? - или нарядчик с ироническим: - Что, приглашения ждете? - Пройдя вахту, сразу окунались в стужу, в ледяной простор, и начинали день двухчасовым маршем на место работы. - «Бригада, внимание!» Выйдя на полотно жел. дороги, мы вытягивались в цепочку и шли по шпалам. За нами, пред нами и по боковым тропинкам шли другие бригады, расползаясь червяками вправо и влево. Ночное движение бригад, в абсолютном молчании, представляло собой зловещее зрелище, страшное своей необычностью и напряжением. Каждая бригада была как сжатая пружина, которой весь день предстояло разворачиваться, чтобы вечером быть приволоченной к исходному пункту стрелком, как неподвижное, утратившее эластичность и бесполезное тело. Мы шли вперед и скоро втягивались в глубокое и узкое мрачное ущелье. С двух сторон нависали отвесные стены высокого леса, в снегу, в ночном тумане и лунном сиянии. Ночное шествие гипнотизировало нас. Мы шли медленно, как процессия призраков, покачиваясь грузной поступью со шпалы на шпалу. Каждый был полон своих мыслей, своих телесных ощущений, собирал силу, проверял ноги, руки, сердце, мускулы. Вдруг сзади нагонял нас паровоз, и мы сходили в снег, пережидали, стоя по колена в сугробе. Мы не разговаривали. Нижняя часть лица была у нас закрыта, усы и брови в снежном инее. Впереди шли бригадир и десятник. Сзади стрелок подгонял отстающих. Кашевар Пантель нес котел. Мы уходили слишком далеко, чтобы в течение дня могли нам подвезти стахановскую кашу, и нам ее выдавали вместе с котлом. Это оказывалось очень выгодно: на кухне, «по блату», выдавали нам столько каши, что хватало сварить на всю бригаду.
Придя на место, садились отдыхать. Разводили костер стрелку - в стороне, - другой кашевару, который немедленно приступал к священнодействию: развешивал над огнем котел на двух палках и кипятил воду. Пантель был маленький, круглый как шар, человечек с большим еврейским носом - левый поа-лей-сионист из Млавы. Он был заряжен энергией и волей к жизни, полон сознания важности своего дела. Бригадир наш был очень молодой юрист - «ап-пликант» из Варшавы. Десятник и протектор бригады Новак был бывшим советским прокурором, по случайному поводу получившим 3 года (он неосторожно помог составить заявление человеку, с которым советскому прокурору не следовало быть знакомым). Новак был первый из советских людей в лагере, кто по-человечески отнесся к западникам и пробовал им помочь и сблизиться с ними. Новак о нас заботился, поддерживал в бригаде «дух», щедро дописывал нам лишние проценты за работу и добывал нам лишнюю кашу на кухне. По внешности это был плечистый, с открытым и наивным лицом, украинец. Придя на место, он и Гарденберг уходили в кусты и раскапывали спрятанный под снегом инструмент бригады: ломы и кирки, «лапы» и ящики с железом. Все это было слишком тяжело, чтобы мы могли ежедневно таскать этот груз в лагерь и обратно. Начиналась работа.
Старый, сморщенный Гах, единственный в бригаде «настоящий» железнодорожник из-под Катовиц, скреплял рельсы в стыке с обеих сторон. Я нес за ним ящик с гайками и продолговатыми прокладками. Гах прилаживал прокладки и шел дальше, а я приставлял гайки и завинчивал их гаечным ключом. На этой простой работе я делал, или вернее, Новак мне доделывал oт 50 до 70% нормы, так что «заработок» мой составлял «первый котел» и от 500 до 700 грамм хлеба.
Этого мне хватало, пока посылки из Пинска давали мне отсутствующие жиры и сахар. Таким образом, я был в состоянии проходить ежедневно по 16 клм и еще работать часов 6 на месте.
Мы не много работали. Одно хождение занимало часа четыре в день. Мы приступали к работе часов в 10, а в 4 уже строились на дороге, чтобы поспеть во время на вахту. В промежутке был получасовый перерыв на «полдник». Тогда бригада рассаживалась торжественно вокруг котла, и Пантель с сияющим и красным от мороза лицом разливал по кружкам и жестянкам свою кашу. Медленно ели ее, а потом еще запивали кипятком и культурно беседовали, грея над огнем руки и ноги, пока Гарденберг не приходил с покорнейшей просьбой не подавать дурного примера и подыматься к работе. То, что мы строили железную дорогу, было сущим чудом: похоже было, что дорога сама собой строилась. Все-таки мы вывели за зиму ... километра, хотя качество нашей работы было более, чем сомнительно, и вся ветка оказалась, в конце концов, ненужной.
Работа начиналась с нивеллирования трассы и изготовления насыпи, на которую потом укладывали шпалы и рельсы. После того, как мы с Гахом завинтили, отвинтили и перевинтили все гайки на уложенном пути, пришлось мне взяться за вагонетку. Работали мы вчетвером, с инж. Карповичем, с артистом варшавского «Театра Молодых» Воловчиком и с Гринфельдом, чешским подданным и беженцем из Брно. В карьере долбили кирками и ломами землю. Когда ломы не брали промерзлой земли, разводили на ней костер, чтоб она оттаяла. Комья земли грузили на вагонетки, и я с Воловчиком, грудью нажав, везли по рельсам вагонетку на самый конец стройки, где опрокидывали ее, разравнивали землю и, отдохнув минутку, пускались резвой рысью с пустой вагонеткой в карьер, где снова ее нагружали. То и дело вагонетка соскакивала с рельс. Мы все собирались ее устанавливать, подставляли плечи и дрыны, напруживались, пока Новак дирижировал:
- Раз-два - девки идут,
- Раз-два - песни поют. и при слове «девки» и «песни» разом подымали вагонетку в воздух и опускали колесами на рельсы. Над нами сияло карельское небо безупречной синевой, розовая заря горела на востоке и отсвечивала на западе, леса кружевели и голоса разносились далеко. - «Которая вагонетка?» спрашивал Новак. И мы ему врали в меру, а иногда без меры. Вагонеток 15 успевали мы свезти за день на двоих, но за такую работу следовал вечером только карцер. Бригада делала фактически процентов 800, вечером Новак «округлял» их до 2-21/2 тысяч, а нас было около 30 человек!
Нашу бригаду скоро расформировали, когда выяснилось, что она не вырабатывает того, что съедает. Но я не дождался конца идиллии в бригаде Гарденберга. Уполномоченный Степанов, узнав, что я работаю с железнодорожниками, распорядился снять меня с этой работы. Оказалось, что таким опасным людям, как я, нельзя доверять завинчивать гайки. И я снова вернулся в лес, и стал там ходить с лучком, заготовляя метровые дрова. Это была работа по подборке остатков на участках, где главная порубка была уже сделана другими бригадами.
Снова сцена изменилась. На этот раз я работал один. Сделав 3/4 фестметра,т. е. 30% нормы, я был доволен. Весь день я был в движении. Мне надо было сложить 40-50 чурок, каждую принести на плече, проваливаясь в снегу. Но готовых чурок не было. Надо было их нарезать из деревьев, которые росли кругом, или из брошенных баланов, невывезенных с лета и похороненных в снегу.
В то время я уже начал волочить ноги и испытывать то особое ощущение слабости и тяжести во всем теле, с которого начинается физическая катастрофа. Я тяжело ненавидел лес: это было орудие убийства, место казни заключенных. Я знал на глаз, сколько чурок можно нарезать из каждого дерева, и сколько соток в осине диаметра 28 сантиметров. Лес для меня пропах потом и кровью. Я знал, что никогда больше не смогу смотреть на лес глазами дачника и поэта.
Придя в лес, я срубал две палки и вбивал их в землю: это был упор для штабеля, который я складывал. Между ними я клал на снег две другие палки, поперек которых укладывались чурки. Я узнал, что береза тяжела и трудно пилится, а лучше всего пилить трухлявую осину, через которую лучок идет, как через масло. И я научился складывать чурки так, чтобы было между ними много свободного места, и чтобы казалось больше на глаз.
Надо было следить зорко: зэ-ка воровали дерево, норовили унести незаметно чурку у соседа. Но мы знали каждую свою чурку так хорошо, как собственного ребенка, и умели отстоять свое добро. Постепенно это умение вырабатывалось в нас лагерем. Кто не умел реагировать энергично, становился жертвой лагерных волков и гиен. Человек, который на умеет драться в лагере - погибает. Я это знал, но все-таки не умел драться. Поэтому у меня не опасно было красть. В конце концов, у меня и в бараке растащили все, что я имел.
Но все-таки и я однажды поднял скандал.
Лагерная гиена привязалась ко мне, в образе человека со сросшимися черными бровями, цыганского типа, с бегающими глазами и мягким влажным ртом. В прежней жизни это был почтенный экспедитор из Люблина, владелец предприятия. Но в лагере он очень изменился - быть может, неожиданно для себя самого. Что мы о себе знаем - не прошедшие через испытание?
Он неотступно следил за мной, ходил за мной и пользовался всяким случаем, чтобы что-нибудь стянуть у меня.
Он понял, что со мной нет опасности - и даже, если поймаю его с поличным: что я ему сделаю?
Невероятные вещи он проделывал со мной: раз взял без спросу чужие ватные чулки, продал их мне за хлеб, немедленно затем украл эти чулки у меня и вернул, где взял. Меня он не боялся, а первого владельца боялся. Я видел у него свои вещи - то поясок, то полотенце, то мыло - и молчал. Но, наконец, он стал подбираться к моему хлебу.
В одно утро я повесил бушлат на сучок у лесного костра и полчаса, не разгибая спины, пилил в стороне. Наступил полдень, я распрямился и пошел к бушлату. Там был в кармане ломоть хлеба - вся еда до вечера. Но хлеб исчез из кармана. На такие вещи я реагировал болезненно. Пропажа вещей или денег не переживается так глубоко, как исчезновение хлеба, о котором думаешь с утра. - Терпеливо ждешь полдня, еле-еле дотягиваешь до назначенной минуты, а когда протягиваешь руку - нет хлеба, украли! Холод проходит по сердцу. Слезы выступили у меня на глазах, как у ребенка, и я не находил слов. Сосед глазами показал мне на цыгана, который равнодушно сидел при костре. Он не только съел мой хлеб, но и презирал меня, насмешливо улыбался, глядя в сторону...
А через несколько дней дневальный Киве, оставшись после развода один в бараке с освобожденными, услышал с верхней нары, где было мое место, странные звуки. Что-то бренчало. Он заглянул наверх и увидел, что среди моих вещей, как хозяин, сидел люблинский цыган, разложив мои пожитки. Он достал ящичек, где я держал провизию, но все жестянки, которые он вынимал по одной, были пустые. Наконец, он нашел на дне кусочек колбасы - остаток посылки - и сунул в рот. - Увидев цыгана с колбасой во рту, Киве, хоть и старик, стащил его за ногу с нар и накостылял ему шею. Вечером, после рассказа Киве, я подошел к цыгану, спросил его: «Вкусна была колбаса?» - Но моя утонченная ирония не произвела на него никакого впечатления. Он угрюмо лежал на своем месте, и даже лица не повернул в мою сторону.
Что делать? Непротивление злу всегда мне было противно. Но методы непротивления были у меня интеллигентские: я вынул чернильницу, перо и написал с цицероновским красноречием просьбу коменданту лагеря убрать из барака этого человека, который... Под этим заявлением подписались бригадир, дневальный и 14 человек идеалистов.
Тут мой мучитель встревожился, т. к. не знал, какие последствия может иметь столь необычный протест. На следующее утро, при выходе на работу, он подошел ко мне и предложил мир: я не буду подавать заявления, а он оставит меня в покое и отныне даже близко подходить не будет к месту, где я нахожусь.
Услышав из уст люблинского экспедитора такие смиренные речи, я торжествовал победу и прогнал его ко всем чертям, даже не дослушав.
Бумажка осталась у меня в кармане: зачем же губить человека, который так извиняется? Целую неделю он вел себя образцово. Вдруг в один вечер, поздно, когда я вернулся из амбулатории, мне сообщили, что он опять подходил и рылся в моих вещах: при всех, открыто и нагло, пока его не прогнали.
Я принял немедленно решение... и лег спать. Я был в бешенстве на самого себя. Даже сейчас, когда этот человек делал из меня посмешище барака, я не находил в себе никакой злобы против него. Той слепой и нерассуждающей злобы, с какой огрызается зверь, когда отнимают у него кость, или зэ-ка, когда отнимают у него пайку - его кровь и жизнь. За пайку убивают в лагере, подымают с земли доску и бьют по голове. А я свое решение принял холодно, рассудочно. Я не умел ненавидеть этого подлеца - я даже сейчас отложил на утро необходимую расправу, почему? Потому что люди спали кругом, и он сам спал, и нельзя было будить его, нарушить сон.
На следующее утро я встал, как человек, которому предстоит окунуться в ледяную воду. Скверно было на душе, но я должен был выполнить то, что было необходимостью. Я подошел к человеку с черными сросшимися бровями. Он лежал внизу, у окна с правой стороны. Лежал на куче тряпья и смотрел на меня ничего не выражающим взглядом, как на муху на стене. Я подошел как во сне, спросил:
- Ты вчера ко мне лазил?
И, не дожидаясь ответа, ударил его кулаком в висок. В первый раз в жизни, если не считать мальчишеских драк, я ударил человека. В первый - и если судьба спасет меня от возвращения в места, подобные 48-му квадрату - в последний. Нельзя бить человека. Когда я ударил его, он ужаснулся. Он не думал, что я могу ударить его. Он был больше и сильнее меня, но теперь он растерялся, в глазах его был настоящий испуг, - а у меня после первого удара - прорвало плотину. Меня понесло, точно какая-то черта была пройдена, и я ощутил всем существом - силу, охоту, право и неожиданную легкость, с какой можно бить. Я навалился на него и осыпал его градом ударов. Он закрыл лицо руками, повернулся боком и, если бы меня не стащили с него, я бы его избил до увечья, до потери сознания. Шум поднялся в бараке. Когда я вернулся на свое место, соседи стали поздравлять меня. Весь день я как именинник принимал поздравления от людей, которые подходили ко мне со смеющимся лицом, и говорили:
- Неужели это правда? Наконец, вы это сделали! Вот молодец! Ну, теперь он вас оставит в покое! Но как же вы решились? Правду сказать, мы вас не считали способным на такое геройство.
Но мне не было весело, и я был полон стыда, унижения и горя. В этот день я прошел еще один этап расчеловечения. Я сделал то, что было противно моей сущности. Среди переживаний, которых я никогда не прощу лагерю и мрачным его создателям - на всю жизнь останется в памяти моей этот удар в лицо, который на одну короткую минуту сделал из меня их сообщника, их последователя и ученика.
Глава 18. Вечер в бараке
В бараке людно и тесно, нары забиты сидящими и лежащими, воздух тяжел, не прекращается жужжание и шум разговоров. Но вдруг наступает тишина, и все головы поворачиваются к вошедшему: письма!
Человек из КВЧ подходит к столу, в руках у него пачка, и сразу окружает его толпа, кто-то засматривает через плечо, лежащие садятся на верхних нарах и, обняв колени, смотрят вниз.
Человек из КВЧ читает по порядку все фамилии адресатов. Все слушают с величайшим вниманием.
- Одынец! Ленга! Прайс!
- Есть Прайс!
- Виленский! Эйгер! Косярский!
- Косярского выслали на 5-ый лагпункт! - откликаются с нар. - А Эйгер больной - в стационаре.
Человек из КВЧ делает пометку и читает дальше:
- Марголин! Тимберг! Опять Марголин! Винер!
- Тимберг умер! Винер умер!
Кончив чтение и отдав несколько писем, человек из КВЧ с пачкой писем переходит в следующий барак и начинает сначала: «Одынец! Ленга!» - пока не останутся письма к никому неизвестным адресатам, которых давно - быть может, годы - нет уже на лагпункте или нет в живых.
Письма в лагерь легко узнаются по их адресу: не указано ни улицы, ни № дома, но зато есть номер почтового ящика:
«Станция Пяльма, п/я 233/2, такому-то».
Первая цифра «233» - это шифр лагеря, под-цифра «2» - номер лагпункта. Таким образом, лагерь никогда не называется по имени. В этой маскировке есть система. Точно также газетки-бюллетени, издающиеся в некоторых лагерных центрах для з/к, с пометкой «только для внутреннего распространения», составляются так, что не упоминается, для кого они пишутся, и такие неделикатные слова, как «лагерь», «заключенные», «принудительный труд», «карцер» никогда не встречаются в тексте. Все выглядит, как будто ничего нет, - как в комнате, где весь мусор замели под кровать, чтобы не было видно.
Чтобы ответить, лагерник должен прежде всего раздобыть листок чистой бумаги. Это не так просто. В лагерях нет писчебумажных магазинов. Написав, он складывает из него треугольник и на другой стороне пишет адрес. Марок не надо - заплатит адресат. На письме должны быть указаны т. наз. «установочные данные». Это требуется для внутренней цензуры. Мои установочные данные выглядели так:
«СОЭ, ср. 5 лет, дата осв. 20/6 45»
Такую надпись делают карандашиком в углу конверта - и по этой надписи, нестертой цензурой, моя мать впервые узнала, что со мной стало после ареста. Впрочем, на 5-ом году моего заключения, в Котласе, принимались письма и без «установочных данных». Там зато велась в КВЧ картотека пишущих, и отмечалось каждое отправленное письмо. «Каторжникам» позволялось писать раз в три месяца, остальным - раз в месяц, а в некоторых случаях зэ-ка могли быть лишены права переписки. На каждой странице полученного письма стоит штемпель лагерной цензуры. В годы войны к ней еще присоединялась общая военная цензура.
Пиисьмо опускается в ящичек на лагпункте и при оказии посылается в отделение. С письмами зэ-ка не очень церемонятся. Бывает, что в поисках бумаги для курения, лагерные урки взламывают ящики и расхищают письма.
За 5 лет моего пребывания в лагерях туда не пришло ни одно письмо из-за границы. Мой адрес в ББК в первом году заключения был известен моей семье в Палестине. Этот адрес сообщила в Тель-Авив моя мать из Пинска. Множество писем было выслано на мой адрес из Палестины, но ни одно из них не было мне передано. Точно так же не были переданы на почту письма, которые я из лагеря послал домой. Зэ-ка имеют полное право писать заграницу. Это право за ними не оспаривается. Письма их попадают в 3-ью часть, как «материал», но лагерные власти не считают себя обязанными передавать их по назначению.
Причина, по которой письма зэ-ка не могут попасть заграницу, заключается еще и в том, что самодельные треугольнички, употребляемые по всей России, не допускаются к отправке за пределы Сов. Союза. Для этого они недостаточно «репрезентативны».
Но мы, сидя в лагере, этого не знали, и мы также не знали, что письма заграницу не опускаются в ящик, а передаются на почте из рук в руки. Этого условия, находясь в лагере, мы выполнить не могли. Наша корреспонденция принималась и отправлялась нашими тюремщиками.
В ту зиму я не страдал от недостатка писем. Прибыв на место, я сообщил моей старой матери мой лагерный адрес и просил писать мне раз в пять дней. «Не смущайтесь, если Вам не о чем будет писать, - писал я ей, - ведь дело не в содержании, а просто в привете, в клочке бумаги из дому». Моя мать сделала больше, чем я просил, писала раз в три дня и всегда находила о чем писать. Благодаря ее письмам и открыткам, написанным знакомым крупным почерком, я сохранил в ту зиму связь с внешним миром, и даже со своей семьей в Палестине. Жена моя писала в Пинск, моей матери, а мать служила передаточным звеном между нами. До лета 1941 года мы знали друг о друге, потом связь прервалась на долгие годы. По воле и по закону захватившего меня государства я не мог дать знать о себе домой и был заживо погребен в лагере.
Мать, не понимая, что в глазах советской власти я преступник, отбывающий наказание - прислала мне в лагерь визу британского посольства в Москве на въезд в Палестину. Эта виза не только была бесполезна - она превратилась в улику против меня, в отягчающее вину обстоятельство. Мне передали сопроводительное письмо матери и на полях его сделали отметку: «Документ изъят и приобщен к актам». - Год спустя, уже далеко от Карелии я разговаривал с уполномоченным 3-ей части, и он сказал мне: «Мы знаем, вы состоите в переписке с иностранным консульством и даже получаете оттуда документы». В его глазах это была вина. За «контакт с иностранным консульством» советских подданных хоронят в лагерях на 10 лет.
Письма матери были полны заботы, любви и наивного непонимания моего положения. - «Где ты работаешь? - писала она - и какая у тебя комната?».
Когда я сообщил ей, что крысы прогрызли насквозь чемодан, где я держал сало из посылки, я получил в ответ не только известие, что высылается новый чемодан, но и добрый совет не прятать сала в чемодан, а повесить его под потолком. Трудно мне было объяснить старушке-матери, что в моих квартирных условиях не только вешать сало в бараке, но и есть его открыто в присутствии посторонних было невозможно. Счастливец, получивший посылку, прятал ее - угощал кое-чем ближайших друзей, соседей, - а остальное ел незаметно, чтобы не бросаться в глаза и не возбуждать ничьей зависти. Мы ели крадучись, отвернувшись к стене, как преступники.
Конечно, не сразу мы начали так поступать. Для этого нужен был лагерный опыт. Сосед, которого не угощаешь из посылки, становится врагом. А соседей много - в бараках по сто человек живет вместе. В тот момент, когда зэ-ка вытаскивает свое добро, отрезывает кусочек - люди кругом, десятки людей, иногда годами не видевшие таких вещей, вдруг становятся серьезны, прерывают разговор, воцаряется молчание, - и надо быть уж очень старым, одичавшим зэ-ка, чтобы не поперхнуться, когда все глаза смотрят в твою сторону, и не почувствовать слюну в чужом рту, обиду и горе обделенных. Слабохарактерные не выдерживают, подходят попросить. Им отвечают грубо, со вскипающей яростью гонят их прочь, как собак. Другие не просят, но зорко следят, куда прячут остаток. А третьи, которые делают вид, что их не касается чужое добро, мрачнеют, приходят в дурное настроение и отворачиваются не только от вида сала, но и от того, кто его так противно смакует, действуя им на нервы.
Дни, когда раздавались посылки, были полны на 48 квадрате электрического напряжения. Уже за день или два было известно, что прибыли посылки. Бывало их 40-50 на тысячу заключенных, а иногда только 8 или 10. Приходили они нерегулярно - иногда с промежутком в неделю, иногда с интервалом в 2 месяца. Посылки из Западной Украины и Белоруси, с их салом в ладонь толщиной, с их белым рафинадом, медом и отличной гродненской махоркой - были сенсацией для наших русских товарищей. Им присылали ржаные сухари, сушеную картошку и бесформенные обломки сахару. Из содержания этих посылок говорила колхозная нищета. Посылки доставлялись в прод-каптерку, составлялся список счастливцев, и вечером, после работы, их вызывали «с мешком».
В бараке АТП была «комната бригадиров», где вечером составлялись «рабочие сведения». Туда мы переносили посылки из каптерки - для раздачи. К переноске допускались не все, а только самые солидные и заслуживающие доверия из получателей. С драгоценными пачками, зашитыми в рогожку и полотно, брели торжественной процессией в снегу. Пачки складывались в угол, под охраной стрелков. Начальник лагпункта, дежурный ВОХР'а, нарядчики, комендант - все за столом. А с другой стороны стола: толпа заключенных, не только получающие, но и зрители, урки, бандиты и просто любопытные. Тут и Ваня - смотрит круглыми изумленными глазами на богатства западников. Вызванный зэ-ка должен ответить на вопрос: «От кого ждет посылки». Это для верности, чтобы не было ошибки. Вскрывают фанерный ящичек, и дежурный или нарядчик по одной извлекает жестянки, банки, кульки. Все тщательно проверяется. Запаянные банки вскрываются, масло проверяют спицей - нет ли чего внутри. Алкоголь, режущие предметы (бритвы, ножики), химические карандаши - конфискуются. Лекарства отдаются на проверку в Санчасть. Счастливый получатель - в экстазе. Папиросы и конфеты он предлагает начальству. Начальник лагпункта отказывается: ему не подобает, а другие без церемонии угощаются, в особенности Ваня, большой любитель конфет.
Ящик опорожнен. Зэ-ка торопливо сгребает в мешок, что получил, и выходит. Кое-что он взял себе в карман, а остальное несет под покровом ночной темноты не к себе, а в чужой барак, к приятелю, у которого никто не будет подозревать укрытого сокровища. Это - необходимая предосторожность. Иначе он рискует, что у него стащат посылку в тот же вечер, а иногда в первые полчаса, когда он еще ходит в счастливом тумане.
В тот вечер совершаются в бараках трансакции, покупки, обмены, - люди, которые утром смотрели голодными глазами в чужую миску, теперь богачи, угощают бригадира и сияют от счастья. Принимают поздравления: - «С посылочкой вас!» - на это принято сделать кислое лицо и ответить: - «слабая посылка... немножко крупы и этого»... а чего «этого» получивший не договаривает, чтобы не дразнить ближних своих и не вводить их в искушение.
Значение посылок заключалось не только в питательной ценности. Это были не просто продукты и вещи! Это был - иногда за тысячи километров дошедший - привет из дому, знак любви и свидетельство верности. Каждая заботливо упакованная, завязанная, завернутая вещь излучала тепло и ласку. Мы снова чувствовали себя людьми и находили в себе новые силы сопротивления. В одной посылке я нашел старую жестяную коробку из-под чая «Англас», которая 20 лет стояла на полке в кухне моей матери. Я обрадовался при виде этой красной лакированной коробки с гейшами и корабликом, точно это был лучший друг. Эмалированная синяя кружка с ручкой! Носки с монограммой!! В какой оранжерейной атмосфере тепла и любви мы прожили всю свою жизнь, пока случай не бросил нас во власть людей, для которых наша жизнь не представляла никакой ценности. Да был ли это случай? Или, наоборот - лагеря были настоящей школой человеческих нравов, а климат, в котором мы жили до того, - исключением?
В ту зиму я почти не питался из казенного котла. Отвратительный гнилой запах «рыбного супа» отравлял воздух в бараках. Потом мы стали получать «капустник» - кислую воду, где плавали черные листки прошлогодней капусты. Нас кормили соевой кашей, из очистков сои, которая не проходила в мое горло. Зажав в кулак кусок соленой трески, мы шли в барак, где стол был завален рыбьими костями. «Доходяги» перебирали их и обгладывали кости, уже побывавшие в чужом рту. Случалось, когда кончали раздачу лагерного «супа», называемого «баландой», что на дне котла оказывалась утонувшая крыса. Но лагерники не были брезгливы.
Настоящее отчаяние охватывало нас, когда, пройдя вахту, разбитые 12-часовым рабочим днем и маршем, падая от изнеможения, голодные и измученные, мы слышали слово «баня». Пропал вечер, не будет отдыха! Исполнение банной повинности было пыткой на 48-ом квадрате. Сию минуту в баню! До возвращения из бани не дадут ужина. В бараке - штурм. Измученные зэ-ка не идут добровольно. Завбаней лично проверяет нары, силой стаскивает лежащих, либо в баню, либо в карцер! И все-таки никогда не удается помыть всю бригаду: всегда кто-нибудь спрячется.
На баню уходит часа два. Надо быстро выгрузить из карманов все мелочи, талон на ужин, карандаш, ножик - спрятать где-нибудь до возвращения - потом у двери в баню ждать на дворе, пока соберется вся партия - человек 30 - и пока выйдут из предбанника люди предыдущей партии и впустят нас в комнату, залитую жидкой грязью и тускло освещенную керосиновой лампочкой. Когда приносят кольца, начинается сложная операция нанизывания на кольцо всего невообразимого тряпья, которое зэ-ка носит на себе зимой. Если колец нет, надо сделать узел из всех вещей и завязать кальсонами, свитыми в жгут.
Работник дезокамеры нагружается кольцами и в несколько приемов перетаскивает наши вещи в «во-шебойку», где их прожаривают. Тем временем, человек 30 сидят и стоят нагишом, ожидая, чтоб их впустили мыться. Они дрожат от холода, каждую минуту открываются двери на мороз, входят опоздавшие, и среди голых тел продираются одетые, в мокрых бушлатах. В противоположном конце ломятся в запертую дверь бани, а посреди исполняют хором известную солдатскую песню «Катерина»... В предбаннике находятся дезинфектор (мы уже его знаем, это наш маленький Бурко, пинский фармацевт) и цырюльник. Производится обязательное бритье подмышек и лобков. Из общей гнусно-омерзительной желто-грязной мыльницы общей кистью каждый сам себя намыливает, а потом подвергается китайской пытке соскре-бывания тупой бритвой. Парикмахер - зэ-ка нетерпелив и груб. Бритву он обтирает о плечо или колено заключенного и, кончив, отталкивает его в сторону.
Наконец, пускают в баню. Входим, каждый держа в руках свою обувь, которую не берут в вошебойку, а оставить ее в предбаннике опасно. Ноги скользят на полу, залитом мыльной водой (в ту зиму у нас еще было мыло) - в пару мечутся нагие спины, торсы, ноги, под краном деревянного чана стоит очередь с шайками. Банщик в подвернутых штанах наливает каждому его меру. Раз окатившись горячей водой, зэ-ка приступают к стирке. Баня - важная оказия постирать рубаху, онучи, полотенце. Времени терять нельзя. Стирают прилежно, дружным рядом над скамьей, где стоят шайки. А кто не стирает, спешит занять место у печки и сушится, ожидая сигнала выходить.
В момент, когда люди выходят в холодный предбанник, никого из чужих не должно там быть. Чужие - воры. Правда, и, свои - воры, но своих знаешь, и следишь, за кем надо. Критический момент наступает, когда распахивается наружная дверь, и со двора с морозом и ветром вваливается человек из дэзокамеры с вещами. Дверь за ним остается открытой, пока не подскочит кто-нибудь из голых закрыть ее. Тут надо держать ухо востро. Вещи всей партии сваливаются в кучу прямо на пол, начинается давка и свалка. Надо в скудном керосиновом свете отыскать свое в этой куче дымящегося от прожарки тряпья, где все перемешалось, оборвалось с колец, распалось и перепуталось. Люди мешают друг другу, в десятый раз перерывают, разбрасывают чужое, подымают крик: «бушлат пропал! рубахи нет!» - и банщики идут еще раз посмотреть, не осталось ли в дезокамере, и не обронили ли чего по дороге.
После каждой бани непременно есть пострадавшие и такие, которым не в чем идти в барак: все украли.
Полагается после бани новое белье. Это значит - новая очередь, но по большей части белья нет, и зэ-ка, одев на голое тело горячий бушлат, несет досушивать в барак, что выстирал. Бредут в кромешной темноте и глубокой грязи, гнилые ступеньки проваливаются под ногой, и пройдя по колено в грязи болото вокруг бани, зэ-ка возвращается в барак иногда грязнее, чем вышел.
Процедура эта нелегка для свежего и отдохнувшего человека, а для заключенных, весь день проработавших в лесу, голодных и едва дошедших до вахты после дороги в несколько километров - это новое мучение.
Теперь только наступает очередь за едой, за «рыбным супом», за талоном и хлебом.
Поев, мы засыпаем немедленно. Хорошо лежать, вытянувшись на верхней наре, в сплошном ряду тел. Под тобой бушлат, а скатанные ватные брюки и все прочее положено под голову. То, что отделяет тебя от остальных - твой дом и убежище - это одеяло - большое полушерстяное одеяло, привезенное из Пинска. Это одеяло - предмет зависти зэ-ка - конечно скоро будет украдено у тебя. Но пока можно завернуться в него с головой, и, засыпая под шум и говор толпы в бараке, чувствовать рядом с собой не чужих, а своих - таких же, как и ты, западников: Карповича, Гринфельда, Воловчика.
Скоро мы погружаемся в сон и спим мертвецки, спим как могут спать люди с чистой совестью после целого дня работы на морозе и двух часов «бани», которых ждет «подъем» до зари. Вдруг что-то подсказывает спящему, что он должен проснуться.
Он подымает голову. Глубокая ночь. В бараке тихие шопоты, та неуловимая тревога, которая без слов передает о близкой опасности. Враг близко! Сосед уже сидит. Лицо его спокойно, и одним движением губ, не поворачивая лица, он говорит:
- Обыск!
Ночной обыск в бараке! Этим нас не удивишь. Ночные обыски - обычное дело. Обязательно они происходят в лагере накануне праздников - в октябре и 1-го мая. Зачем это нужно - дело темное, но так уж заведено в лагере. Первый обыск застал меня врасплох в октябре 1940 года. Тогда я жил в бараке АТП и был единственным человеком, который пострадал от обыска: у меня вытащили из кармана брюк и отобрали мой замечательный «настоящий» перочинный ножик, еще из дому. С тех пор я привык к ночным налетам и дневным ревизиям, настоялся с растопыренными руками, пока чужие пальцы лазят под бушлат и вдоль ног, - насмотрелся, как переворачивают листы найденных на наре книг, или, подкравшись сзади, берут из руки недописанное письмо и читают то, что, все равно, пойдет в цензуру.
Первое, что я делаю: прячу ножик. Тихонько закладываю его в щель между двух досок нары. Денег у меня нет (сверх 50 рублей - забирают). Надо еще спрятать бумаги и письма. Беру сверточек из чемодана, и в последнюю минуту успеваю еще сунуть в ватные чулки, в которых сплю.
Обыск происходит либо таким образом, что всех сгоняют в средину барака и перерывают опустевшие нары, либо как сейчас:
Стрелок вскакивает на нару. (4 стрелка проверяют сразу сверху и снизу, с обеих сторон, пятый наблюдает в центре барака). Полулежа на наре, со свешенными ногами, стрелок командует:
- Вставать!
Я симулирую пробуждение и изумление. Я лежу в конце ряда, и стрелок уже устал. Ему надоело. Высыпав мой сундучек и перетряхнув одеяло, он торопится дальше: «Отдавай ножик!»
- Да нет у меня, гражданин начальник (у нас все стрелки - начальники).
- А эта миска - откуда?
Миска куплена у другого зэ-ка, но, понятно, она - кухонная, казенная. Миска летит вниз. Неприятно, когда отнимают книги. Раз отнятая книга (на просмотр)редко возвращается владельцу и раскуривается на вахте. Но на этот раз им нужна посуда. Миски, жестянки, банки.
Несмотря на то, что обыск производится ночью, в соседних бараках уже известно, что у нас делается. Поэтому там уже ничего не найдут, и идти туда бесполезно. Повальный обыск всего лагеря сразу производится только раз в год, во время инвентаризации. Сил охраны хватает в нормальное время только на частичные обыски и ночные налеты, на обыскивание входящих и выходящих бригад, и на индивидуальные ревизии.
За годы каждый зэ-ка привыкает к унизительному полицейскому ритуалу поисков и осмотров, к недреманому оку и неусыпному наблюдению, к тому, что государство роется в его белье и в его мыслях, в его вещах и в его душе, как будто это выдвижной ящик стола, всегда открытый для полицейского контроля. Это - часть лагерного «перевоспитания». В лагере нет ни одиночества, ни возможности сохранить надолго секреты. И лучше для лагерника, что он живет в толпе - общая беда легче переносится. А что до скрывания секретов - будет ли это ножик или запрещенная мысль - то, конечно, нельзя их скрывать годами. Если бы стрелок захотел потратить время - он нашел бы и мой ножик в щели нары, и мою веру в щели сердца. В течение дня, или года, или пяти лет - все запрещенные ножики или мысли непременно очутятся на поверхности, - и если не всегда будут замечены и изъяты, - то это объясняется не столько несовершенством лагерной системы, как таковой, сколько отсутствием вышколенного персонала, способного выполнить предначертания. - Лагерная система есть законченное выражение сталинизма. Но нет еще людей, стоящих на высоте задания. Это - идеальное орудие коммунизма, но пройдут еще поколения, пока советские люди научатся делать обыски как следует. Надо думать, они усвоят себе это трудное искусство, поскольку с ним связано существование режима.
Глава 19. Люди на 48-ом
На поляне в лесу сидели люди. Это было польское звено Гржималы, и оно выглядело, как гравюра Гроттгера из серии «1863 год». Костер горел, и когда люди поднялись к работе, один остался. Я вышел из-за деревьев и увидел: он беззвучно молился, сложив руки. У него было молодое лицо, но люди его звена относились к нему с почтением, как к старшему.
Это был ксендз, укрытый среди поляков. В ту зиму все мы что-то «укрывали» в лагере: кто скрывал свой сионизм, кто - социальное происхождение. Некоторые - даже национальность.
Нашлись поляки, которые выдали себя за белоруссов и даже немцев, думая, что так выгоднее. Среди поляков на 48-ом выделялся человек с серебряными волосами и благородной осанкой. Ходил он в длинной крестьянской «сук-мане», которая, однако, очень шла к нему, имел очень мягкую и симпатичную манеру разговаривать, добродушное круглое лицо. Это был Левандовский, капельмейстер Польского Радио в Варшаве. Я, правда, не мог припомнить такого имени, но факт,что среди нас находился музыкант, был признан официально: в ведение Левандовского были переданы две балалайки и гитара, хранившиеся при «клубе», и даже позволили ему первое время спать в теплом углу при КВЧ. Входя туда, я находил Левандовского за топкой железной печурки или присутствовал при том, как он с серьезным лицом и смеющимися глазами подыгрывал на балалайке, пока наш воспитатель исполнял душераздирательный романс «Эх зачем эта ночь». Старику под шестьдесят было нелегко, но он не жаловался никогда, всегда был ясен, ровен и невозмутим, полон тихой веселости. Разговаривая с ним, я мог убедиться, что Левандовский не был тем, за кого выдавал себя: его отношение к музыке не свидетельствовало о профессионализме. Жена его была англичанка и находилась в момент начала войны в Египте. Левандовский рассказывал мне под большим секретом, что жил «на кресах» в доме, где было 28 комнат. Вероятно, он доверил этот секрет не мне одному: скоро стали говорить на лагпункте, что под именем Левандовского скрывается польский аристократ.
Левандовский трагически погиб в лагере. Люди, пережившие лагерь, сообщили мне его настоящее имя, которое я оставляю на совести информаторов: граф Вашиц.
На 48-ом квадрате было много духовных. Надо сказать, что религиозные евреи держались в лагере с большой моральной силой и стойкостью. Пареньки из йешивы, молодые хассиды лучше держались, чем бывшие комсомольцы и социалисты, которые, попав в лагеря и убедившись, что это не дурной сон и не буржуазная клевета (а некоторые из них имели стаж польских тюрем, сидели за коммунизм), переживали настоящий шок. Я помню, что в день 1 мая 1940 года, когда нас, зэ-ка, погнали на работу, один из «комсомольцев» расплакался от стыда и досады: первый раз в жизни заставили его работать в день первого мая. Наши религиозные евреи не позволили выгнать себя на работу в Судный день. Группа евреев получила разрешение у начальства не работать в этот день под условием, что они отработают в ближайший выходной. Им предоставили для молитвы помещение. Нашелся и «хазан». На Новый Год и Йом-Кипур молилось человек 50-60. Начальник лагпункта и комендант Панчук пришли посмотреть на это необыкновенное и невиданное ими зрелище. - Поляки в лагере богослужений не устраивали, да и у евреев скоро прошел молитвенный пыл: на Пасху уже ничем не ознаменовали праздника. Лагерь подсек крылья.
Был среди нас один молоденький «подрабинек» - спокойный, тихий человек. Другой ревнитель - был старик Ниренштейн. Ниренштейн в лагере был десятником) и имел под своим началом женскую бригаду из полек и галицийских евреек, которых одели в мужские бушлаты и послали в лесные дебри на «сжигание порубочных остатков». Он с полной серьезностью, опираясь на суковатую палку, водил в лес польских полковниц, учительниц, на смерть перепуганных тетушек, варшавских беженок и еврейских лавочниц, растерявших на этапе мужей. Старик Ниренштейн не принимал участия в беседах о политическом положении. - «Все ваши расчеты, - говорил он, - ничего не значат. Бог захочет, и в один день все переменится». - А с подрабинком я разговаривал на философские темы: «Что такое свобода».
- «Свобода, - в один голос сказал он и два богомольных еврея из Столина, - это делать, как Бог велит». Я спросил, почему в книге Иова, где рассказывается, как Бог вернул страдальцу все его потери и восстановил его счастье - почему ни слова не вспоминается о детях его, которые погибли. Как же возможно, что судьба этих детей не имела самостоятельного значения, и они погибли только потому, что надо было испытать Иова?
Подрабинек усмехнулся, выслушав это замечание. Он очень мерз и на работу в бригаде Гарденберга ходил в ту зиму, завернувшись в черное солдатское одеяло, как в юбку. - Насчет Иова он поучал меня, что вся история - только «пример», сказка, а не быль -и не надо принимать к сердцу судьбы детей Иова, которые не могли умереть, раз они и не жили вовсе.
В конторе 48 квадрата, а потом на тягчайших работах на лесоповале я встретил также и пастора: редкое явление в Советском Союзе. Пастор, широкоплечий и коренастый (пасторы узкоплечие уже вымерли к тому времени), разговаривал со мной по-немецки. В ту зиму 40-41 года немцы еще не снижали голоса, разговаривая в лагерях по-немецки. Я его просил рассказать мне историю лютеранской церкви в России после октябрьской революции. Это была печальная история, на которой невозможно здесь останавливаться. Из двух престарелых епископов, которые управляли протестантами в России, один умер, а другого отпустили в Германию. Советское правительство разрешило потом открыть школу для пасторов - на 30-40 человек на весь Союз. Собеседник мой окончил эту школу. Через некоторое время по окончании, его и остальных питомцев этой школы отправили в лагеря.
Он рассказывал об этом спокойно, без тени надрыва или возмущения. А я, вспоминая Нимеллера и пасторов, расстрелянных в Польше гитлеровцами, смотрел с симпатией на этого человека, который не имел больших шансов вернуться когда-либо к своему призванию. Месяца два позже, выходя с бригадой из лесу, я увидел пастора в бушлате лесоруба, с топором и лучком при работе. Я подивился силе и ловкости его движений. У не-евреев, даже если они и были интеллигентами, все же сказывалась наследственность, крестьянское или простонародное происхождение. Им легче было перестроиться, предки им помогали, а мне - 60 поколений предков-грамотеев и индивидуалистов, не знавших крепостного права, не давали смириться и покорно сунуть шею в лагерное ярмо.
На другом полюсе лагерной массы находились партийные: ответственные сотрудники, бывшие секретари парткомов, райкомов, вычищенные, потерпевшие крушение среди усердного служения, но еще не потерявшие надежды когда-нибудь вернуться в тот дивный мир власти и привилегий. Эти, как срезавшиеся ученики, горели нетерпением выдержать переэкзаменовку, и смотрели на нас, чужих с Запада, как на каких-то наглецов: мы не уважали лагеря, а они его уважали, как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Это были добровольные помощники, опора администрации, службисты, нечто вроде «капо» в немецких лагерях. Через 5-6 лет выдыхался и у них этот порыв, вместе с остатками физических сил. В лагере находился нацмен-комиссар, в прошлом член правительства где-то в Узбекистане или Туркмении, с фамилией, кончавшейся на ... баев. С высохшим монгольским как пергамент желтым лицом, с голым черепом и козлиной бородкой, сморщенный и мумиеобразный, он ходил с палкой, не мог подняться на горку - сердца уже не было - инвалид II категории. Просто невероятно было слышать, что всего лишь год тому он резал по 18 фестметров на лесоповале. Его жизнь кончилась. Только сон остался об удивительной поре его жизни, когда он жил по-европейски, и даже жену имел русскую - врача в белом халате. Жена - врач, в белом халате...
Тогда вдруг приехала на 48-ой - по спецнаряду из Медвежегорска - зубоврачиха Дятловицкая, на 3 дня. У нас не было зубного врача, и мы все лечили зубы раз в три месяца, когда проезжал специалист по лесным пунктам. Устроили Дятловицкой «кабинетик» при КВЧ, поставили особо-сильную лампу, она выложила свои инструменты, лекарства, под дверью стала очередь. У Дятловицкой был маленький срок - три года - и сразу я узнал знакомый тип: еврейка из Бобруйска. А помогала ей красавица Наташа - тоже заключенная. Обе женщины были в белом, все кругом так не по-лагерному чистенько и мило, точно на воле. И б. комиссар из Центральной Азии не хотел уйти... Как завороженный стал, глядя как двигались в кругу света от лампы две женские фигуры, звучал мягкий, ласковый голос. Уже спросил, что надо, ответили, - а он все стоит, пялит глаза, ищет слов... а в глазах тоска, тоска по культурной нездешней жизни, где все так чисто и красиво... если ранка, йод... если холодно, топят печку... если голоден, садись к столу... И вдруг Дятловицкая догадалась (хоть и не знала, что это бывший «нарком») и сказала ему: «у вас, наверно, в бараке не очень приятно... так вы, дедушка, посидите здесь, погрейтесь... Наташа, дай табуретку...» и он сел и ждал, пока мне расковыривали зуб. Грелся в человеческом тепле, в неправдоподобном оазисе, как собачонка, которую с улицы пустили погреться. В боковушке, где жило человек 10, собирался кружок евреев послушать дневального Паппенгеймера. Под этой шиллеровской фамилией скрывалось больное существо, молодой немецкий еврей, разбитый, волочащий ногу, заика, с мертвенно-белым лицом. Паппенгеймер рассказывал нам про гитлеровский концлагерь Дахау, где он просидел 7 месяцев. По его рассказам получалось, что он сидел там среди арийцев, что не очень согласовалось с его семитской наружностью. - «Тогда я еще был здоров! - рассказывал Паппенгеймер. - Волшебная жизнь была в Дахау до войны! Работа без нормы. Сорок пять минут работай, четверть часа отдыхай. Хлеба кило триста, колбаса, мармелад, на обед гуляш - „настоящий гуляш“! И у каждого кровать! Приходя с работы, все обязательно мылись, снимали рабочее платье и одевали войлочные туфли, которые стояли под кроватью. В лагерной кантине каждый мог купить на 70 марок в месяц, и чего только не было в кантине?..»
Часами рассказывал калека, трясясь и жуя губами, про хорошее время в Дахау. Охотно слушали его евреи и верили в немецкий рай в Дахау! Каждый из них тосковал не по свободе - куда уж! - а по европейскому концлагерю, где кровати, кантина и хлеба «кило триста». Евреи тосковали по Дахау! Угрюмый гротеск этой сцены навсегда врезался в мою память. Каждый из них готов был хоть сейчас переменить 48-ой квадрат на гитлеровский лагерь 1937 года. И хотя я не мог разделить с ними это восхищение Дахау, но и я бы тогда поменял охотно советский лагерь на добрую старую польскую тюрьму, где политических содержали отдельно, не принуждали к рабскому труду, где были у них не только книги и еда, но и возможность учиться и смелость не скрывать своих мнений.
В том помещении, где дневальным был Паппенгеймер, среди нескольких интеллигентов помещался Фербер - молодой человек с щеголеватыми усиками и в необыкновенно элегантном зеленом сюртучке. Фарбер работал в конторе и выделялся среди нас не только зеленым сюртуком, но и острословием и подчеркнутой «изысканностью» манер. Фарбер был львовча-нин. Природа ему положила пленять женские сердца и блистать на танцовальном паркете. Это был позер, из породы людей, никогда не забывающих о производимом ими «впечатлении». Был у него дядюшка во Львове, на которого он очень надеялся, писал ему о посылке - но дядюшка не отозвался ни словом. В те дни Фарбер был полон самоуверенности, рассказывал анекдоты и препотешно, ко всеобщему увеселению, муштровал Паппенгеймера, обучая его, как должен вести себя образцовый дневальный. - «Паппенгеймер! сюда!» - петушинным тенорком командовал диктатор Фарбер: «Стать во фронт перед шефом! и грудь вперед! Почему не выметено под нарой?» - «Me-me-me-melde gehorsamst», - отвечал бедный Паппенгеймер, у которого Дахау и 48-ой квадрат окончательно смешались в голове.
Вдруг выгнали Фарбера из конторы. Изгнание из конторы автоматически влекло за собой перевод в рабочий барак. Фарбер не выдержал работы и голода. Сперва продал зеленый сюртучок. Потом перестал мыться и потерял юмор. Потом уличили его в краже куска хлеба и избили в лесу. Наконец, сослали его в кипятилку. Там, на пустыре, с глазу на глаз с полудиким нацменом, не понимавшим по-русски - он окончательно одичал. На него стали находить припадки бешенства, когда он дико кричал на своего напарника. Крики в лагере - дело обычное. Но он кричал чуточку громче, чем надо. Раз я увидел, как он выбежал в полночь из дверей кипятилки, хватаясь руками за голову, в исступленном отчаянии. Как-то в один глухой и ненастный вечер мы вслушались в этот дикий вопль из кипятилки, и вдруг кто-то сказал: - Слушайте! Да ведь он просто сошел с ума! Сумасшедшего Фарбера убрали из кипятилки, но продолжали посылать на работу. Но тут стал он мочиться под себя, не выходя из барака. Его положили отдельно, на самом плохом, холодном и загаженном месте у двери. Между ним и ближайшим соседом сделали промежуток - никто не хотел лежать с ним рядом. При уборке барака обходили его место.
Фарбер не был опасен. Он улыбался робкой, щемящей, потерянной улыбкой. Когда бригада мылась в бане, надо было следить за ним: он брал у раздевающихся людей все, что видел: надевал чужую чистую рубаху или чужие ботинки. А когда в бараке кто-нибудь не находил своей вещи, он прямо шел в угол, где валялся несчастный инвалид.
Никто из людей его компании, из конторских «придурков», которые начали с ним лагерную жизнь и жили на счет получаемых посылок, не сделал малейшей попытки помочь ему, подкормить, приглядеться к нему, пока еще было время. В лагере никто не имел ни охоты, ни возможности спасать погибающих. Каждый был занят собой. Редчайшие исключения ни в чем не меняли лагерной атмосферы. Филантропия в лагере - то же, что одеколон на бойне.
Евреи и поляки в ту первую лагерную зиму жили рядом - жили вместе - и без трений. Поляки составляли среди нас меньшинство; русские зэ-ка и начальство одинаково называло нас «западниками». Общая беда, общий язык и общее неприятие всего окружающего сблизили нас. Иногда это вызывало удивление среди русских. Русские евреи удивлялись польским: «Откуда у вас этот польский патриотизм? - говорили они: - сами рассказываете о польском антисемитизме, а стоите за них горой!» Русские поляков не любили: относились к ним с иронией, с инстинктивной враждебностью, не понимали ни их католицизма, ни их культурной обособленности. - «Паны, шляхта!» - говорили о каждом и пожимали плечами, видя, как горячо мы защищали все польское. Среди сотен евреев жили десятки поляков, и, конечно, мы были им ближе, чем другие в лагере. Были среди поляков бывшие судьи и полицейские, инженеры и служащие, рабочие и крестьяне, были люди всех партий, бывшие эндеки и будущие андерсовцы... но тогда, под влиянием страшной национальной катастрофы, забыты и заглушены были все разделения и различия, и в особенности легко сходились тогда в лагере польская и еврейская интеллигенция.
Только польской молодежи, замкнутой и молчаливой, мы не доверяли, зная, чувствуя недавний ее гитлеризм, памятуя, как в предвоенной Польше она в массе шла в направлении людоедского шовинизма. А лагерь не был школой, которая могла бы противодействовать этим зачаткам. Наоборот. Из лагеря они должны были вынести волчью злобу, сознание того, что все можно и все позволено по отношению к режиму, создавшему этот позор. Лагерь воспитывал ненависть. У нас не было сомнения, что эти молодые люди вынесут из лагеря не уважение к демократии и достоинству человека, а контр-коммунизм, т. е. фашизм. Некоторым из них лагерь импонировал, они учились, как надо расправляться с врагами. Они хотели бы ввести такие лагеря во всем мире, но только сажать в них других людей. Не разрушить лагерную систему, а присвоить ее себе. - Был среди нас один молодой поляк с типичным лицом студента, острой бородкой, в шапке-конфедератке, надетой набекрень. Он держался в лагере независимо и задорно, поглядывал на окружающих серыми насмешливыми глазами; пока чувствовал себя здоровей и крепче других, ходил гоголем. Его фамилия была Ядко. Когда мы случайно оказались соседями по наре, он мне как-то высказал, что у него накипело на душе. Один-единственный раз его прорвало, и он сказал мне, что немцы правы в Польше, применяя силу, и тот дурак, кто не использует своего физического преимущества! - «Давить слабых! - сказал он, блестя лихорадочно светлыми глазами, .- и я тогда же подумал, что сам он, должно быть, не очень здоров. - И мы будем давить, будем непременно давить! Пилсудский скотина! Разве так надо было готовить Польшу к драке! Погодите, еще придет наше время!» - Но уже поздно было Яцко давить слабых. Его песенка была спета. Много было тогда и вышло из лагеря людей, мечтавших «давить слабых», а кончавших тем, что пресмыкались пред сильными.
Впечатления польского антисемитизма изгладились в нас, когда мы встретились с гораздо более массивным и стихийным русским антисемитизмом. Он был для нас неожиданностью. Мы нашли в лагере открытую и массовую вражду к евреям. 25 лет советского режима ничего не изменили в этом отношении. Неизменно в каждой бригаде, каждом бараке, каждой колонне оказывались люди, которые ненавидели меня только за то, что я был еврей. Их было довольно, чтобы отравить атмосферу в каждом месте, где мы жили. Несмотря на то, что они ничего не знали о Гитлере, они создавали временами вокруг нас гитлеровскую атмосферу, когда обращались, не называя имен: - «Эй ты, жид!» - «У кого лопата?» - «У жида». - Это были люди из города и колхоза, воспитанные уже в советское время, и их отношение имело все черты естественного и общего явления. Тогда же я познакомился с тем словцом, которое в Сов. Союзе часто заменяет кличку «жид»: - «абрам», с гортанным «р»: «аб'гам». На воле те же люди были осторожнее; в лагере они не стеснялись. Раз установленный факт нашего еврейства сразу обращался против нас, в бытовых отношениях или на работе. В ежедневной дискриминации, в маленьких придирках, ядовитых замечаниях и в тысяче способов отравить жизнь. Если потух костер, и надо взять огня у соседа, он не дает головешки, потому что ты еврей, и огонь у тебя именно потому и не горит, что ты рассчитываешь на его костер, а свой запустил. Если ты не выполняешь нормы, то это потому, что евреи работать не хотят. Если еврей принят в контору, то конторские придурки постараются его выжить. Недоверие к еврею ощущается повсюду, и надо преодолеть его, чтобы наладить какой-то личный контакт с людьми.
В лагере есть только одна должность, которая занимается евреями преимущественно: это - «ларечники», т. е. попросту лагерные лавочники. «Ларек» совмещается с продкаптеркой, складом хранения продуктов, откуда они выдаются на кухню и стрелкам ВОХР'а. «Ларек» - это те экстра-продукты, которые «забрасываются» на лагпункт для продажи зэ-ка «на коммерческий расчет», как своего рода премия. При мне ларек на 48-ом квадрате пустовал, но иногда поступали туда две вещи: селедка и брынза наихудшего качества. Еще продавались деревянные ложки лагерного производства (бригада «ширпотреба») и - хлеб, как добавление к пайку. Все ларечники и продкаптеры, которых я знал в лагерях, были евреи, т. к. эта должность требует умения обходиться с товарами, считать, развешивать и обслуживать так, чтобы все были довольны, включая начальство. Русские люди в такой должности сразу проворуются и получат второй срок. Ларечником-каптером не может быть ни человек абсолютно честный, ни человек, не знающий удержа. Обеих крайностей не допустит начальство, которому надо, чтобы ларечник его кормил и сам не попадался. Поэтому бывают ларечниками чаще всего старые евреи, которые на торговом деле съели зубы.
Русские евреи лишь тогда хорошо жили со своими собратьями зэ-ка, когда могли им импонировать своим уменьем держать себя - удальством, силой, - когда они были больше русские, чем евреи. Еврей Сашка в бригаде косарей - кроме того, что был черномазый и горбоносый - ничем ровно не отличался от своих соседей. Так же пел русские песни и ругался, так же мог запустить башмаком в соседа или пригрозить ему ножом, стянуть, что плохо лежит, и на тяжелой работе отдать последнюю каплю силы. Когда же Сашка увидел польских евреев, у него вдруг дрогнула какая-то струнка, отозвалось что-то забытое, и он, ко всеобщему и собственному удивлению, начал говорить с нами на каком-то подобии «идиш»... Нашелся еврей и среди грузин... Все они, обыкновенно, не сразу признавались в своем еврействе, сперва ходили вокруг да около, присматривались, а потом с оглядкой, в порядке интимного признания, «открывались» нам, как Иосиф своим братьям. Грузинский еврей был еще совсем мальчик, с деликатным лицом и тонкими членами. Он рассказал нам, что приехал к бабушке в Тифлис и потерял документ. Как беспаспортного и, к тому же, без определенной профессии, его присоединили к ближайшей партии и послали в лагерь - «чтобы не путался под ногами». Он припомнил и деда-раввина, и обрывки иврита. Он повторял отдельные еврейские слова, как талисман. Польские евреи, услышав «Шма-исраэль»... заулыбались, стали хлопать его по плечу и угостили сахаром.
Если русские люди ничего не знали о том, как живет и работает заграница, то вид русских евреев, заглохших как бурьян, оторванных от живой связи со своим народом, был вдвойне тягостен нам. С 1937 года им, как и всем советским гражданам, было «рекомендовано» прекратить переписку с родственниками заграницей. Задолго до того наступила стерилизация и сепарация русского еврейства от национальной еврейской жизни во всем мире. Так выглядели дети тех, кто был когда-то авангардом еврейского народа, кто создал сионизм и заложил основы новой Палестины. Их дети и внуки в лагере ничего не слыхали о Палестине, не знали Библии, не имели понятия о национальной культуре и тех именах, которые дороги каждому еврею, - точно они были с другой планеты. Когда мы им рассказывали о Тель-Авиве и Эмеке, они слушали, как негры из центральной Африки слушают рассказ белого человека о чудесах Европы - с удивлением, но без особого интереса, как о чем-то, что слишком далеко от них, чтобы быть реальным. И я вспомнил первомайские плакаты на улицах Тель-Авива с приветствиями Сталину (т. е. начальнику нашего лагпункта) и Красной Армии (т. е. нашему комвзвода) - и подумал, что мы, евреи, щедрый народ, если так легко забываем о собственной плоти и крови. Сиди, Сашка, в лагере, из-за тебя ссориться не будут... По мере успехов Гитлера антисемитизм нарастал в лагере. Здесь можно было наблюдать, как эта сторона немецкого расизма подкупала сердца и притягивала симпатии, как она создавала психологические предпосылки для политического сближения. В то время редкие советские газеты, попадавшие в лагерь, были полны немецкой рекламы. Никогда впоследствии речи Черчиля так не приводили в советской прессе, как речи Гитлера до великого перелома: печатали их на полстраницы. Все стрелы иронии и критики направлялись на хищный англо-американский империализм. Эта циничная кампания проводилась со всей последовательностью. Когда в начале 41 года началось вторжение Италии в Грецию, то на 48-ом квадрате политрук объяснял снисходительно, что виновата... Греция, а Италия только защищает греческое побережье от его захвата англичанами. Таким путем защищалась косвенно и политика Сов. Союза в Финляндии. Лагерная же шпана из этого делала свои выводы: Гитлер прав, и жидов следует бить. Несколько месяцев спустя, под влиянием первых успехов Гитлера на советском фронте, в лагере создалась такая атмосфера, что никто из евреев не сомневался, какова была бы их участь, если бы лагерь попал в руки немцев или финнов. Нас перерезали бы в первый же день. Лагерники угрожали нам открыто, и когда мы вместе толпились под окошечком кухни, на евреев направлялись взгляды, полные ненависти, и слышались голоса: «Перебить их всех надо! Ни одного не оставить!»
В декабре 40 года вечером в бараке АТП состоялся форменный диспут между мною и интеллигентами, жившими в помещении административно-технического персонала. В большой избе стояла посредине печь-плита, на которой круглый день кипятилась вода, стояли всякие кружечки, котелки. Здесь не было ржавых погнутых железных котелков или мисок, подобранных в помойке. Миски были металлические, чистые, а котелки из белой жести, аккуратные, с ручками. Не было нар, а рядами стояли деревянные койки с сенниками. В глубине помещения за печкой стоял стол на козлах, за которым при керосиновой лампе сидели вечерами, ужинали, писали отчеты. Здесь я ввязался в зимний вечер 40-го года в неприятный разговор.
Люди, среди которых я сидел, имели среднее и техническое, некоторые даже высшее образование. Все воспитались в Советском Союзе, происходили из трудового народа, собрались сюда со всех сторон России и имели самый разнообразный и большой житейский опыт. Кто сидел за растрату, кто по бытовой статье, кто за неосторожное слово, но даже и те, кто имел 58-ую статью, за «контрреволюцию» - тоже не были политическими заговорщиками, а представляли собой средний обывательский элемент. Эти люди принадлежали к 15-тимиллионной массе советских зэ-ка, а эта масса, в свою очередь, представляет собой 90% населения России. Можно было бы в один день освободить все эти миллионы и посадить вместо них другие - с тем же правом и основанием.
Разговор начался с Гитлера - «почему он не любит евреев?» - и «что такое евреи сделали немцам?» и перешел на еврейский народ. Я разговаривал только с одним человеком, но не прошло и 10 минут, как весь барак принял горячее участие в беседе.
Я попробовал рассказать этим людям, никогда не выходившим за пределы России и советской информации, - об историческом мартирологе моего народа, о его заслугах пред человечеством, о его способностях и умении творчески работать там, где ему дается возможность.
Но с равным успехом я бы мог это проповедывать немецким SA или польским мещанам. Столько сосредоточенной злобы, яда, шипящей ненависти пролилось на меня, что я вдруг почувствовал себя, как на эндецком собрании в Польше. Люди, которые уже тихо лежали на койках, разувшись и заложив руки за голову, вдруг не выдерживали, вскакивали и обращались ко мне так, как будто я был виноват во всех их несчастьях. Я, не зная того, затронул больное место. Нельзя было в их присутствии говорить хорошо об евреях. - «Ваша нация! - звучало со всех сторон. - Не рассказывай сказок, сами все знаем, вы - хитрый народ!» - Каждый мог говорить о евреях без стеснения - зная, что на его стороне и начальники, и стрелки, и каждый вольный. Антисемитские выходки никогда не наказывались в лагере, они заглаживались начальством, которому не приходило в голову обидеть «своего» русского человека за то, что он «не выдержал».
И в тот вечер пришлось бы мне плохо, но под конец вошел в барак всеобщий любимец, белоголовый Васька, приемщик на лесной бирже, шутник и балагур. Он вступился за евреев. - «Нет, что же вы, ребята! - сказал он. - Разные бывают евреи. Вот я на Украине бывал в еврейском колхозе...» и начал рассказывать про еврейский колхоз, а потом разговор плавно сошел на другую тему.
Я вышел за печку, где стояла моя койка, разделся в темноте и лег. Голос Васьки доходил до меня, беспечный, домашний, и все они уже успели забыть о взволновавшем меня разговоре. Вася был их человек, и между собой им было хорошо. Лишний раз я убедился, что антисемитизм можно вогнать под землю, но нельзя уничтожить его до тех пор, пока еврейская масса остается в прежнем положении в социальном организме других народов, как ясно-различимое инородное тело.
Глава 20. Весна 1941 года
Весна пришла на 48 квадрат. Снега набухли водой, не держали саней, уступали под ногой. Мы шли на место работы полянами, где снег расстилался ровно и гладко. Но при каждом шаге мы проваливались в него выше колен, брели как через речку, погружая и подымая ноги, вода чавкала под нами. Лесные бригады работали на воде, сучкорубы с трудом добирались до поваленных ветвей. Наконец, передвинули время работы.
Ночью мороз еще держал санные дороги в сносном состоянии, а днем они подтаивали. Поэтому мы стали выходить на работу в полночь - и, возвращаясь в полдень, ложились до вечера спать. Ночью леса были полны костров и крика, как днем. От луны зеленели снега, а лица людей, худые, темные, с ввалившимися глазами, были как чужие.
Ранней весной я ушел работать на «биржу № 5». Лесная биржа - это площадь с обеих сторон жел. дор. полотна, где на километр тянутся склады, штабеля и запасы дров, приготовленных к погрузке. Штабеля громоздятся выше человеческого роста. Весь день идет приемка леса, который доставляется возчиками с мест порубки. Штабеля укладываются и раскатываются, дрова «подносятся к габариту», т. е. на определенное расстояние вплотную к полотну жел. дороги. При штабелях стоят козлы и люди пилят. Костров на бирже разводить не позволяют, и весь день стрелки и бригадиры заняты тем, что разбрасывают и заливают костры, которые зэ-ка умудряются разложить в тени штабеля хоть на полчаса.
Работали втроем: Марголин, грузин Чикавани и западник, пинский еврей Клейман. Клали на козлы по несколько бревен разом и перепиливали вместе на метровые отрезки. Двое пилило сразу, стоя рядом. Клейман укладывал дрова, но имел еще особое задание. Всюду под снегом и в ямах лежали полусгнившие, невывезенные, погребенные штабеля напиленных дров. Найдя под снегом такой штабель, забытый с прошлого года, Клейман, улучив минуту, утаскивал чурок десять и приносил на наш штабель. Иногда зав-биржей, проходя издалека, кричал ему: «Откуда дрова тащишь! Брось немедленно!» Тогда Клейман, в прекрасной шубе, с которой не расставался ни на миг, с маленьким лисьим лицом, ронял дрова и ждал, пока завбиржей пройдет. А мы с Чикавани пилили, не сходя с места, круглый день.
Из лагеря я вынес чувство уважения к грузинскому народу. Грузины отличались в общей массе зэ-ка какой-то врожденной мягкостью и спокойствием, умели держать себя с достоинством, без дикости и свирепости, с гордостью старой культурной расы. Все эти черты были свойственны другу моему и брату Чикавани, одному из неизвестных мучеников этого народа, чей вклад в лагерную массовую могилу - один из самых ценных в Советском Союзе. Я сблизился с Чикавани уже на склоне его жизни. Он сидел в лагере уже 3 года, и оставалось ему больше, чем он мог вынести. Все в нем было утишено и смягчено предчувствием конца. Чикавани был только грузинский крестьянин, но он имел деликатность, великодушие в мелочах быта и благородство, которых мог бы себе пожелать английский лорд. Я любил этого человека. Быть вместе с ним - пилить стоя рядом - облегчало работу. И я любил слушать его рассказы, в которых оживал далекий и яркий мир южной кавказской страны, долины и горы Картвели, белый деревенский дом его матери, солнце, и виноградные лозы, и улицы Батуми над Черным морем.
Рассказов Чикавани хватило бы на целую книгу. Мы оба с ним тогда тосковали по родине, жили одной мыслью о ней. Я мечтал о том, что поеду когда-нибудь в мой край, Палестину, через Батуми - и мы оба будем тогда свободны. Но все сложилось иначе. - И грузинские слова, которым научил меня «Мегобаро Чикавани» - «друг мой Чикавани» - выпали из моей памяти.
Мы возвращались в полдень, километра за 3, и по дороге проходили места, где корчевали пни. Это - тяжелая работа, на которой иногда звену приходится потерять полдня над исполинским, особо-упорным и глубокосидящим корнем. «Указчики» кишели вокруг пней. Едва окопаешь - и яма заполняется водой. Под водой надо откапывать, находить и перепиливать отроги корней, высвобождая пень, и, наконец, подвести под корень в одном или нескольких местах, как рычаги, длинные «ваги». Конец ваги, как оглобля, торчит кверху, и звено подымает его, выворачивая, вырывая, опрокидывая корень. Но иногда никакие усилия не помогают: значит, остался где-то внизу под корнем, куда не добраться ни топором, ни пилой - последний незамеченный отрог, и остается копать, все глубже копать, пока люди не уйдут по пояс в болото и в воду.
«Указчики», корчевавшие пни на 48 квадрате в ту весну - были молодые люди в возрасте 17-20 лет, которых взяли в лагеря по знаменитому указу летом 40-го года, направленному на изъятие недисциплинированной молодежи. Тогда по всей необъятной России суды получили задание прочесать железной метлой советскую молодежь и в кратчайший срок ликвидировать хулиганство. Метод полицейского воздействия здесь соответствовал точно методу «ликвидации вшивости в недельный срок» на нашем лагпункте. Летучие бригады тогда ликвидировали вшей, обходя бараки и проверяя рубашки у зэ-ка. У кого находили вшей, того немедленно отправляли в баню. Хулиганство точно так же ликвидировали нарсуды - с помощью массовых отправок в лагеря всех, кто в то время имел несчастье попасться. Таким образом, накануне войны было сразу отправлено в лагеря на сроки в 1, 2 и 3 года около миллиона молодых людей.
«Указчики» выделялись среди массы советских зэ-ка не только своими «детскими» сроками, но и всем своим типом: это были испуганные юнцы, которые в лагере растерялись и ужаснулись - привезенные прямо со школьной скамьи или с бульвара большого города, где они совершили свое преступление. Один напился и наскандалил в общественном месте. Другой вечером пристал к девушке, а та позвала милиционера. Третий на улице выругался по матери. Последних в особенности было много. Бытовые преступления этого рода как до указа, так и после указа, разумеется, не представляют редкости в Сов. Союзе. Итак, чтобы отучить молодежь от матерщины, которой они научились у взрослых, послали этих юнцов в лагерь, и там они только научились лексикону, который превосходил все, что они слышали дома, и могли убедиться, что без неслыханного по виртуозности сквернословия, проникающего во все поры мысли и сознания, не обходится в лагере ни один вольный, ни один начальник, включая и «воспитателя». В «исправительно-трудовом лагере» сломали им жизнь по-настоящему, с немилосердной и лютой жестокостью, терроризовали на всю жизнь и вписали им в документы отметку о пребывании в лагере, которая им в будущем отрезывала возможность нормального устройства. За что? - Каждый из них был повинен в мелком проступке, в основе которого лежало воспитание, данное советской улицей. Насколько молоды и легкомысленны они были, я мог убедиться, разговаривая с этими юнцами, которые еще помнили атмосферу родительского дома, говорили «мама» или «у нас дома на веранде качалка есть». В лагере смешали их с уголовными,с преступниками-рецидивистами, с урками и проститутками, и еще хуже - с совершенно невинными, ни за что погибающими массами, согнанными со всех сторон огромной страны - в том возрасте, когда этот опыт и эти впечатления должны были стать для них решающими. Среди тающих снегов я их видел сидящих у костра, дрожащих от холода, в лохмотьях, не покрывающих тела, в невыразимом состоянии: матери их кусали бы себе руки от отчаяния, если б могли их увидеть. Голод и лагерь сделал из них настоящих беспризорных. В тот полдень, идя мимо, я увидел: Витя, сын городского архитектора в областном городе Сев. Кавказа, 18-летний юноша, полунагой, весь в зловонной грязи, с черными руками и немытым лицом, набрал в карман бушлата гнилых селедочных головок из помойки лагерной кухни. Кто-то из старших зэ-ка увидел эту гниль и силой заставил его выбросить в грязь эти вещи, которых и свинья не ела бы. Но не успел он отвернуться, как за его спиной произошло побоище: все указчики наперебой ринулись подбирать селедочные головы, с дракой и руганью вырывая их из рук друг у друга.
Весна шла, дороги были затоплены, и мы были отрезаны от нормального сообщения с Медвежегорском и Пяльмой. Доставка посылок прекратилась в марте, и в мае, чтобы прокормиться, я продал свои последние штаны из дому. Я ходил в казенных ватных брюках и в них же спал, не раздеваясь. В мае перевели нас работать «на карьер». Мы работали как бы на острове, окруженном водой болотной низины. На место работы мы пробирались по кладкам, и, теряя равновесие, падали в воду.
«Карьер» был самым подходящим местом для западников. С двух сторон подымались отвесные желтые глинистые стены в человеческий рост, и мы лопатами, ломами, кирками дробили песок и погружали его в деревянные тачки. По размокшей грязи тачки не могли двигаться, поэтому для них были проложены мостки из досок. Дела было много. Одни из нас таскали доски на плече за полкилометра, другие сколачивали мостки, третьи копали песок, четвертые возили его в тачках на насыпь, пятые разравнивали насыпь и вели ее все дальше через низину. Мы буквально засыпали болото песком. Необыкновенное оживление было в карьере. Низина кишела народом. За нами забивали сваи в воду тяжелыми бабками, которые с трудом подымали вчетвером. Впереди нас, где обрывалась насыпь, - тянулась узкая болотистая равнина, откуда еще надо было отвести воду. С этой целью с обеих сторон ее копались канавы. Каждый зэ-ка имел свой урок - положенное число метров. Я неутомимо возил тачки - работа, при которой можно думать о своем, скрытом.
Пока Гринфельд нагружал мне тачку, я стоял сбоку и смотрел, как взлетала и падала его лопата и как сыпался мокрый песок в тачку. Когда в песке попадались большие камни, я сбрасывал их. - «Хватит!» - Гринфельд ударами лопаты плашмя уминал песок, я брал в обе рукавицы расходившиеся ручки тачки и осторожно катил груз по доскам на насыпь. Всюдя валялись колоды, выкорчеванные пни, журчала вода, а далеко кругом в открытом поле лежал еще белый снег, весь подмытый, розовея на солнце.
Гринфельд обладал особым талантом: угадывать без часов время, с точностью до 15 минут. Часов ни у кого из нас не было, и когда надо было спрашивали Гринфельда. Он, живые часы бригады, взглядывал на небо и говорил уверенно: половина первого. Тогда садились вчетвером и открывали под стеной карьера заседание на опрокинутых тачках: грузин, поляк, палестинец и чех. Батуми и Тель-Авив, Варшава и Брно встречались в карело-финском лесу. Каждый день один из нас по очереди рассказывал в перерыва работы какую-нибудь историю. Из этих рассказов складывался лагерный Декамерон: сто историй на полях нашей собственной скверной истории.
В километре от карьера проходила железная дорога. Туда нас часто водили разгружать платформы с песком - или нагружать вагоны дров. Идя, мы не знали, зачем нас потребовали, и что нас ждет в конце дороги. Это было нам совершенно безразлично. Важно было только дотянуть день. Иногда приводили нас к поезду, груженому тяжелыми рельсами - тогда начинался ропот и возмущение: «откуда силы на это?». Кое-как мы скидывали рельсы с платформ под самые колеса вагонов. На следующий день нас приводили на то же место - отнести рельсы прочь от габарита, чтобы не мешали движению.
10 июня 1941 года с утра снежная буря разразилась над лагпунктом.
Окрестность покрылась тонкой пеленой снега, и мы, ступая, не знали куда попадем ногой. Онежский июнь не баловал западников. В этих местах лето ограничивалось, в сущности, одним месяцем: - июлем. В мае еще лежал снег, июнь был полон капризов, а в августе начинались уже холодные ночи. Резкий ветер и снег сделали работу невозможной 10 июня. Мы развели костры, как зимой. Укрыться было негде. Люди сидели тупо и оцепенело, втянув шеи и понурившись, с видом заморенных кляч под рогожкой. Нехватало мест у костра, поэтому за сидевшими у огня стоял второй ряд и над головами протягивал к огню руки в дырявых рукавицах. Мы - новые огнепоклонники - молились над огнем, как наши матери над субботними свечами. Ветер каждую минуту менял направление, и дым валил в лицо. Снег шел на нас, снег валился на плечи, на круглые дикарские шапки, снег пушистой броней покрывал наши бушлаты и колени. Нам ничего другого не оставалось, как ждать. Снег пройдет, а мы останемся. И день пройдет, а мы останемся. Весь лагерь пройдет...
- Panie, - наклонился Карпович. - Плохо мне, скверно... Что же они сделали с нами? За что?
- Надо продержаться, - сказал я ему синими губами. - Зима в июне недолгая. Это - как туннель.
И я рассказал ему очередную историю, про туннель.
Это было в Италии, в Генуе. Нас было двое, мы были молоды. Впервые на итальянской Ривьере.
Мы сели в забавный маленький вагончик третьего класса, переполненный людьми. Итальянцы смеялись, шутили с нами. Один старичок, живой и подвижный как ртуть, спросил: - Жена? Когда поженились? - Я показал знаком: неделю тому назад. Итальянец ткнул в меня пальцем и отпрыгнул с комической ужимкой. - Жарко! Горит! Жжет!
И все захохотали, а мы, в конце концов, не могли усидеть и вышли на открытую площадку в конце вагона.
Поезд шел Лигурийским побережьем, парил как птица над неоглядной далью Средиземного моря, в потопе света и солнца, в сиянии и просторе. Бухты, полные цветных парусов и мачт, мирные городки и зеленые рощи лежали под нами. Издалека звонили колокола - воскресенье.
Совершенно неожиданно, без малейшего перехода, мы нырнули в туннель, наперерез горы. Точно, сзади подкравшись, накинули мешок на голову. Стало темно и душно, и в резкой тряске вагона стоя на открытой площадке, ослепленные и задыхающиеся, мы схватились за руки - и едкая копоть и гарь окутали нас.
Так стояли схватившись за руки, пока поезд громыхал, терпеливо пережидая - секунды, минуты - черный переход от света к свету.
Вдруг - так же мгновенно, как поезд вошел в туннель, он вырвался из него. И снова летел вперед, как птица, и та же панорама лигурийской весны, и то же море, и то же небо, и тот же солнечный блеск. Только мы оба были черны и закопчены, как два трубочиста.
Это ничего! Бывает и в жизни туннель, как в горе. Гора зла, гора несчастья и горя. Разбить нельзя, объехать нельзя. Остается проехать.
День 10 июня 41 года нам актировали. Составили акт, по которому день был признан нерабочим. Питание начислили нам по выработке предыдущего дня.
Часть III
Глава 21. Этап
Возвращаясь с работы 22 июня 1941 года, с трудом пробираясь мимо конпарка в грязи и лошадином помете, мы услышали слово, от которого дрогнули и смешались ряды:
- Война с Германией!
Весь день что-то назревало. С утра начальники бегали с растерянными лицами, не обращая внимания на нашу работу. В 2 часа вместе со стахановской кашей привезли на производство странную новость, которой никто не поверил. В шестом часу, еще прежде чем дошли до вахты, мы уже знали: немцы напали на Советский Союз.
Вечером, несмотря на отсутствие радио, все уже знали о бомбардировке советских городов и о приказе Красной Армии: идти вперед и стереть с лица земли фашизм.
Невыразимое возбуждение овладело всеми. Что будет теперь? Лопнул какой-то гигантский нарыв, теперь кровь и гной должны были брызнуть рекой...
Зная о пребывании Гесса в Англии, мы опасались только одного: что за немецким выступлением кроется сговор с Англией. Соглашение Гитлера с демократическим Западом было бы еще большей катастрофой, чем его соглашение со Сталиным. Русские зэ-ка молчали, но некоторые - может быть, провокаторы - высказывали нам свое мнение, что Советский Союз больше месяца не продержится. Этим людям я отвечал неизменно, что они недооценивают силу Красной Армии. Но про себя и я думал, что Советский Союз не переживет этой войны.
Для западников, похороненных в лагерях и лишенных надежды когда-либо выбраться из советской страны, эта война была единственным шансом выйти на свободу. В этой войне двух врагов Европейской демократии нам терять было нечего, и мы искренне желали им обоим скорой гибели. Роль tertius gaudens переходила теперь от Сталина к англо-американцам.
Прошло 2 дня. На вечерней поверке начальник лагпункта Абраменко обратился к собранным бригадам зэ-ка с речью. Он объявил о начавшейся войне и сразу перешел к угрозам.
- Мы знаем, о чем вы шепчетесь между собой! Вы ждете, чтобы разорвали на куски Советский Союз! Но раньше мы ваши тела разорвем на куски! Мы прольем море крови, но не выпустим власти из рук...
В тот же день было арестовано несколько человек из бараков. Надо было показать пример. В числе расстрелянных оказался Левандовский, мнимый варшавский капельмейстер. Он поплатился жизнью за несколько неосторожных слов, о которых донесли начальству.
Западники перестали разговаривать между собой на политические темы.
Еще через день подняли нас в этап. Карело-Финская ССР была объявлена прифронтовой полосой, лагеря подлежали эвакуации. На 48-ом квадрате оставили небольшую группу заключенных, которых эвакуировали зимою в трагических условиях. Наша судьба была счастливее. Мы были переброшены на восток, с основной массой заключенных ББК. Когда вокруг Онежского озера закипела война, финны заняли столицу Карело-Финии - Петрозаводск - и центр лагерей ББК - Медвежегорск. Балтийско-Беломорский канал и Мурманская ж. д. подверглись воздушным бомбардировкам и были частью разрушены. Но 48-ой квадрат не попал в руки финнов и фронт на несколько километров не дошел до него.
Первой остановкой этапа было Бобровое, маленький сельхозный концлагерь, в 8 или 10 километрах от 48-го квадрата. Там мы остались до 1 июля. Мы жили вне истории и ничего не знали о катастрофе на фронте. Отсюда перегнали нас в Остричь над Онежским озером.
Часть пути мы шли пешком, по трудной лесной дороге. Сразу спутались ряды, старики и больные отстали и конвойные пришли в ярость. Несколько раз командовали нам «ложись», и вся толпа валилась на землю, где стояла - это средство укрощения арестантов, когда начинается непорядок. Карпович стал отставать. - «Прибавь шагу!» - «Я не могу идти скорей! - сказал с мертвенно-белым лицом Карпович, - у меня сердце больное». - «Меня твои болезни не касаются! я не врач!» - В хвосте колонны возникло замешательство. Там не своим голосом кричал конвойный на кого-то: «Выходи из рядов! Иди в лес!». - Но, разумеется, заключенный отказывался «идти в лес»: «пойти в лес» - пойти в сторону от колонны равнялось попытке бегства и давало право конвою стрелять.
В лесу посадили нас на платформы и повезли в Остричь той самой дорогой, по которой мы прибыли в прошлом августе.
В Остричи мы провели несколько трудных дней. Это был большой лагпункт, много больше нашего «48-ого квадрата». Здесь были многолюдные бараки, электричество, толпы народа. Нас загнали в пустой дом со множеством маленьких комнат и мы там лежали на полу, не раздеваясь, сплошной массой устилая коридор и сени, а утром выходили работать на озеро.
Острый ветер дул с озера, температура была здесь всегда ниже, чем в глубине леса. Два или три дня мы работали на сплаве. Берег представлял собой лабиринт штабелей и лесных складов. Мы разгружали штабель в воду, подкладывая с двух сторон мощные круглые балки. По ним мы сталкивали древесные стволы. Действуя дрынами, как рычагами, мы опускали штабель, пока не оставался от него один нижний - неприкосновенный настил. Стрелок сидел неподалеку, наблюдая за каждым нашим движением. Мы подходили к нему на предписанное законом расстояние и говорили: «Разрешите оправиться, гражданин стрелок!» - на что стрелок отвечал «иди» - и указывал направление за штабель. «Баланы» с грохотом обрушивались с высоты, подпрыгивая, или тяжело оседали фут за футом. Бухта была полна плавающих бревен, которые потом соединялись в плоты.
Разувшись и засучив штаны, мы входили в воду и длинными шестами разбивали заторы у берега, мешавшие спуску бревен. Каждую минуту кто-нибудь срывался со скользких, танцующих в воде бревен и вылезал сушиться на берег. Было пасмурно и холодно, облака плыли над Онегой. Во время дождя мы забивались под штабеля, между досок, и были довольны, что имеем передышку. Нескончаемо долго тянулся день над озером. Под конец мы без сил лежали на бревнах. Ночью, в чужом и переполненном лагере нам запрещали выходить на двор. Едва кто-нибудь выходил, окликали в темноте: - «Стой! Куда пошел?»
Снова плыла баржа через безбрежный простор Онеги, переполненная польскими, еврейскими и русскими зэ-ка.
Мы пересекли Онежское озеро и прибыли в Подпорожье. Пред нами открылась панорама важного центра водной коммуникации. Десятки барж и пароходов бороздили воду, на берегу дымились трубы заводов и рядами подымались элеваторы и большие деревянные постройки. Оживленная и населенная местность резко отличалась от пустынных северных мест, откуда мы прибыли.
На берегу выстроили нас по 4 в ряд и повели. В большой колонне западники с их чемоданами и узлами заняли середину. Сзади и спереди шли чужие. Я нес рюкзак на спине и чемодан в руке. Другой чемодан я отдал нести товарищу. Это был сильный и рослый львовчанин. Пока мы строились, мы чувствовали, что за нами наблюдают со всех сторон урки, которых привлек наш багаж. Они старались втянуть в свои ряды людей с чемоданами.
- Сюда становись! - окликали их, тянули силой, показывали, - здесь трое в ряду, становись четвертым. - Но западник, увидев чужие лица, отшатывался и уходил скорей, а в спину ему летели насмешливые выкрики:
- Абрам, чего боишься?
- Дело плохо,-сказал наш предводитель, львовчанин. - В бараке жарко будет. Я эту шпану знаю. Если хотите отстоять свои вещи - держитесь кучей вместе и никого близко не подпускайте.
Нас впустили в огромный порожний элеватор. На полу его лежали сотни людей. Мы шли по проходу, как сквозь строй. Наше появление всех взбудоражило. Урки, скаля зубы и заглядывая в лица, подымались со всех сторон нам навстречу, замешивались в нашу группу, задевали плечами, - и не успел я опомниться, как меня оттерли от товарищей, и я почувствовал, как ножом перерезали лямку моего рюкзака. Кто-то рванул чемодан из рук. Но я не дал ни того, ни другого. Впереди кто-то пронзительно крикнул: «На помощь!» Львовчанин подоспел вовремя, чтобы спасти рюкзак, уже наполовину снятый с моего плеча.
Мы ориентировались молниеносно. Группа человек в тридцать пробилась в угол элеватора. Мы сложили всю свою поклажу вместе и накрыли ее сверху бушлатами. Чемоданы связали веревками вместе и обвязали веревками так, что ни одного нельзя было шевельнуть отдельно. Сверху уселись самые здоровые и сильные, закрыв чемоданы ногами. Спинами к ним с четырех сторон сели остальные на пол. А к ним привалились, лежа, остальные. Таким образом вокруг вещей образовался вал человеческих тел. В десять минут все было готово.
Огромный элеватор, недавней стройки, еще пахнувший свежими досками, был полон заключенных, шума и гуденья. Через большую дверь падали лучи заходящего солнца. Вдруг ее закрыли. Мы были одни в полумраке, полном ропота, как островок среди русских зэ-ка. Западники островками в 30-40 человек были вкраплены среди враждебной стихии. Год назад нас бы взяли, как малых детей. Но теперь мы были готовы дать отпор.
Урки двинулись в атаку с четырех сторон, цепями по 5-6 человек. Они тянулись гуськом, видные глазу, все как на подбор: остроносые, худощавые апаши, с твердыми глазами, с голыми шеями и мускулистой грудью. Все это была одна компания, свои ребята.
Ни с того, ни с сего взялся между нас, в самом уязвимом месте, где лежал старик Ниренштейн, неизвестный парень с разбойничьей рожей, горящими белками глаз - как щука среди плотвы. - «Куда садишься! - крикнул старик Ниренштейн, - здесь места свободного нет! На ноги садишься?».
Парень пробормотал: «ты, дед, не волнуйся... я на минутку... мне только вот...» и вдруг, неожиданным ловким движением, точно пловец ныряющий в воду, вытянулся всем телом и, прежде чем мы опомнились, между трех рядов человеческих тел дотянулся рукой до бушлатов, откинул и во мгновение ока нашел, нащупал, проверил то, что мы спрятали: «Чемоданы, вот они!» - Вскочил и бросился в сторону. Это был разведчик. А за ним двинулись штурмовики. Не спеша, подошел костлявый скуластый урка в рубахе на выпуск, сказал деловито: «Посторонись-ка,» и, отодвинув плечом заробевшого Ниренштейна, вступил в средину. А за ним еще несколько - и вбили клин в наше расположение.
Тогда поднялся львовчанин и с силою оттолкнул первого из нападавших. Еще секунда, и началась бы драка, во время которой из-за спины дерущихся растащили бы все пожитки западников. Но вместо драки произошло другое. Все 30 западников начали кричать изо всей силы.
Эффект получился немалый. Немедленно отозвались другие группы западников. Нас было человек двести в элеваторе. Наш дружный и потрясающий рев разнесся далеко. Мы кричали: «Пожар!» Нападавшие, зажав уши, ретировались в сторону. Двери распахнулись, вбежала охрана с оружием.
Стрелки, народ бывалый, сразу поняли, в чем дело. -. «Грабят?» - Но они даже не спрашивали нас, - кто? А мы не были заинтересованы в доносах, а в том, чтобы нас оставили в покое. Стрелки постояли, подождали пока водворилась тишина, и вышли. Это не предвещало ничего хорошего, потому что ночью, в темноте, штурм бы повторился, и на этот раз мы бы его не отбили. Оставаться с урками в одном помещении было невозможно.
Через 15 минут мы начали опять кричать «пожар». На этот раз мы орали так дико, что прибежал сам командир охраны. Через полчаса нас убрали из элеватора. Отворились двери, подали команду: «Только поляки - выходить!» И мы перешли в большой пустой амбар рядом, где нам было раздолье: никого постороннего, все помещение к нашим услугам. Мы разлеглись широко, разделись и спокойно провели ночь.
Два дня мы жили взаперти. Весь день стояли в очереди «за водой» и «на двор». Не было и речи о том, чтобы продолжать дорогу с двумя чемоданами. Я оставил себе рюкзак и маленький чемоданчик. Мое прекрасное одеяло я отдал львовчанину, а другой чемодан со всяким лагерным «барахлом» - кинул. Я увидел, что другие практичнее меня: подобрали брошенный чемодан, не представлявший ценности, и вынули все металлические части, замки, скрепы, которые слесарь еще мог использовать. При случае можно было выменять это все на кусок хлеба...
На третий день мы уходили из Подпорожья. Вдоль дороги стояли цепи охраны, чтобы никто не сбежал из рядов. Мимо нас шли прибывающие транспорты заключенных. Это была однообразная картина, все как один. Но вдруг на дороге началось оживление. Все стали показывать пальцами в одну сторону. В амбары, откуда мы вышли, вгоняли новый транспорт, и это было, действительно, фантастическое зрелище.
Это была партия литовцев - прямо из Ковны: в последние дни пред немецким нашествием угнали оттуда десятки тысяч политических арестантов, всю литовскую «элиту» - буржуазию, интеллигенцию, чиновников и просто «подозрительных». С первого взгляда было видно, что это «новенькие» - люди не имеющие понятия, куда и зачем их везут. Они еще имели все достойный и перепуганный вид - эта процессия с того света. Шли патриции и сенаторы, раввины в меховых шапках, адвокаты и банкиры, величественные пузачи, евреи и не-евреи, в неописуемых пальто, шубах, шляпах, а за ними несли и везли смехотворные сундуки, щегольские кожаные чемоданы, как будто они выехали на курорт в Ривьеру. Их появление сопровождалось сенсацией - охрана и урки, толпы зэ-ка смотрели на них и передавали из уст в уста: «Литовцы приехали! несметные богачи! еще таких не было! вон тот, с бородой, министр!» - Мы смотрели на холеные бороды, на золотые пенснэ, на гору багажа, и представляли себе, что со всем этим будет завтра, когда их погонят в этап, пешком, за сотни километров. Какую надо было иметь детскую наивность, чтобы в таком виде явиться в Подпорожье!.. Позднее дошла до нас весть, что только немногие из этих людей выдержали лагерь. Голландские и бельгийские евреи, которых везли в газовые камеры Освенцима пассажирскими поездами, вероятно, выглядели так же, как эти литовцы. В Освенциме кончалась их мука в первый же день приезда. Этих ждали годы в лагере. Чья смерть была легче - кто знает?.. И мы тронулись в путь.
В партии было человек 800. Половина - западники. Люди из 48-го квадрата перемешались с зэ-ка из других пунктов и отделений. Мы шли в двух колоннах, между которыми был промежуток в 100-200 метров, пятеро в ряд. Впереди - комендант этапа, офицер НКВД в порыжелой шинелишке, на котором лежала ответственность за наш ночлег и кормежку. По бокам и сзади - конвойные с ружьями наперевес, человек 12. Сзади тащилась телега для больных. Она скоро отстала и только на главных стоянках мы ее видели по временам. Иногда давали нам подводу на вещи, но мы до последней минуты не знали, будет ли подвода. Когда раздавалась команда: «подымайся!», а подводы не было - начиналась паника. Тогда одни бросали свои вещи, а другие подымали на плечи свои узлы и чемоданы, чтобы бросить их через час или два, или несли попеременно, уступая за это часть вещей. Вещи, погруженные на подводу, были наполовину потеряны. По прибытии на стоянку их выбрасывали на дорогу и подвода, взятая на один день из колхоза, уезжала обратно. Зэ-ка разбирали свои пожитки, при этом одни не находили своих вещей, а другие находили раскрытые чемоданы и развязанные узлы. Через неделю люди шли налегке. Багаж растаял, дорога за нами была усеяна брошенными бушлатами и деревянными арестантскими сундучками.
Мы шли на восток. Мы были частью советского пейзажа или русской древней традиции. Мы шли громадой, как сто лет до нас шли во времена Николая I, и спрашивали себя, как это возможно, чтобы такое обращение в рабство сотен тысяч иностранцев и миллионов собственных граждан не вызывало ни протеста, ни противодействия заграницей, как будто мы попали в руки дикарей в Центральной Африке, или торговцев рабами в 17-ом веке.
Мы шли по 30-40 километров в день, через леса и равнины, города и деревни, по редко-населенной местности, где не было железных дорог, и где, должно быть, со времен Васьки Буслаева не было войны. Эта местность никогда не видела ни иноземных войск, ни иностранцев-приезжих. Мы шли через деревни Карело-Финии. Нескладно-высокие карельские избы стояли на холмах. Это были первые недели войны, и проходя мы иногда замечали редкие плакаты с обращением к населению. Деревни казались вымершими. Ребятишки, женщины и старики копошились у избенок, и редко-редко можно было увидеть мужчину. Босой оборванный колхозник выглядел так, как будто он сбежал из наших рядов. Пустынные карельские колхозы являли образ запустения и разорения, как после пожара или погрома. Много было разрушенных, необитаемых домов, где окна и двери были забиты досками. Заборов между избенками не было. Мы останавливались не доходя деревни, или за деревней, - и сейчас же начинали шнырять вокруг нас ребятишки. Конвойные не подпускали к нам никого, но иногда мы получали разрешение купить еды. Тогда оказывалось, что крестьяне не принимают денег за продукты. Они предлагали нам яйца и молоко - единственное, что у них было - за хлеб. Крестьяне выходили на дорогу просить хлеба у арестантов! Они знали, что мы получаем 500 гр. хлеба ежедневно: этапный паек. За этот хлеб они предлагали нам яйца и молоко. Не надо было расспрашивать, как им живется. Достаточно было пройти через десяток деревень, чтобы получить картину такой черной и горькой нищеты, какая была возможна разве только во времена московского средневековья. Мы не спрашивали себя, куда девался их хлеб, плод тяжкого и подневольного труда. Их хлеб раздавали нам каждое утро - и этот хлеб в руках государства превращался в условие поддержания политического и военного аппарата Диктатуры.
На сотни километров однообразное зрелище человеческой нужды, беды и горя. Мы скоро вышли из Карелии, и смешные домики-надстройки сменились русскими избами с попытками украшений: то резные ставни, то резной карниз. Мы были в Архангельской области. Кто-то имел лишнее время на эти украшения, которые остались на память от прошлых времен. Они находились в смешном и жалком контрасте с покосившимися стенами и провалившимися крышами.
Мы прошли город Пудож: глухие местечковые улички, одноэтажные деревянные домики, немощенные улицы, отсутствие лавок. Вывеска: «склад промкооперации»... и знакомая картина: запертая дверь и терпеливая очередь баб и мальчишек с бутылками на керосин. Молодая женщина прошла мимо нас, должно быть, учительница и член партии: миловидное славянское лицо, свежевымытые розовые щеки. Светлая кофточка, городские туфли, косы уложены кольцом... Покосилась на пылящую толпу, на конвойных, и на секунду наши глаза встретились. Идет в строю странный человек, в очках, с явно-нерусским лицом интеллигента. «Заключенный». Отвернулась, упрямо сжала губы, точно зуб заболел: уж очень много сразу, пусть уж пройдут, наконец. А я вспомнил «14-ое Пудожское отделение ББК». В этом городишке находится отделение лагерей ББК, да еще какое: четырнадцатое!
Мы шли. Был июль, лучшее время северного лета. Нас подымали до рассвета, чтобы использовать для марша прохладу ранних часов. Лучше всего было идти до 10 часов. Когда начиналась жара, мы обливались потом и изнемогали под тяжестью своей клади. Мы шли до заката солнца - до 6 часов. Потом мы делали привал на опушке леса или на лугу под открытым небом. Иногда загоняли нас в старые сараи, где крыша протекала во время дождя. Одну ночь я спал на чердаке полуразрушенного дома, в пыли и курином помете. Комары облепили нас густой тучей. Ночью я поднялся, не находя себе места, ходил по чердаку среди спящих тел как привидение, спустился по шатким ступеням вниз - всюду лежали десятки тел, не раздеваясь, и только обувь стояла у каждого в головах. - Комары доводили нас до неистовства. Кровь струилась по лицу, и руки были у нас замазаны кровью. Мы шли через архангельские леса, по тенистым тропам, и ландыши цвели под нашими ногами - я никогда не видел столько ландышей.
Мы редко встречали людей. Иногда проезжала телега, мужик хмуро поглядывал на нас из-под картуза. В соломе на возу сидела, поджав ноги, крестьянская девочка в платке, бледненькая, или стояла какая-нибудь важная бочка государственного предназначения. Иногда обгонял нас грузовик, полный домашнего скарба, кроватей, столов, и загруженный женщинами и детьми - это уже была эвакуация гражданского населения из прифронтовой полосы. Арестанты уступали дорогу - сходили на край, пока грузовик проскакивал мимо, трясясь на ухабах. Иногда гнали мимо колхозные стада. Худые коровы позванивали колокольцами, как в Тироле. В продолжение всего этапа мелодический звон колокольчиков сопровождал нас. А колокольчики у коров были все одинаковые - большие и неуклюжие, стандартной продукции - должно быть, с одной фабрики на весь Советский Союз, - и одинаково звенели здесь и на Алтае в ушах этапных, шедших долгими днями из лагерей в лагеря.
Мы шли по 12 часов в день, от 6 до 6, а иногда еще раньше начинали свой марш. Ночью было варварски-холодно. У меня уже не было одеяла. Я лежал на влажной, сырой земле, сырость входила в тело, ноги ломило, я дрожал от холода и натягивал бушлат то на грудь и лицо, чтобы спастись от комаров, то на мерзнувшие ноги. Спали скверно и мало, маялись, а на заре, когда бледные звезды еще стояли над полем, полным лежащих тел, кто-то садился, и сразу кричал ему конвойный с края поля: «Ложись сию минуту!»
- Оправиться, стрелочек!
- Никуда не пойдешь! - Наконец, по сигналу вся громада подымалась. Не было много времени. Если была близко вода, ручей или лужица - умывались из горсти. Потом длинные ряды выстраивались за хлебом. Раздавали полкило хлеба, черпак баланды. Зэ-ка съедали хлеб мгновенно. Но я себе оставлял половину на полдень. Остальные до вечера ничего не ели.
И вот команда - «Стройся!» - и первые ряды уже выходят на дорогу. Месили глубокую черную грязь, подымали облака пыли, шли вверх и вниз, по горам и долам, мерно и тихо покачиваясь, молчаливо потупясь в землю. Только станет шумно в строю: «прекратить разговоры!» - Я шел в бушлате и старых ватных брюках, оттягивая руками лямки оседающего на крестец рюкзака, и то и дело встряхивался, подымая ношу на плечи. В руке чемоданчик, который каждый километр перекладывал из руки в руку. Вдоль тракта дорожные столбы отмечали пройденные километры. Сразу в дырявые, с отстающей подошвой, башмаки набивалась земля и камешки. Ходить становилось больно, и надо было на ходу вычистить, что набилось. И уже хромал кто-то, и отставали подростки и больные. Худое тело настораживалось, собиралось: вот эти ноги, эти плечи, сердце, легкие - твой единственный союзник. Не подведут, выдержат, вынесут сегодня, как вынесли вчера! Что могут другие, и ты можешь! Когда 5 километров осталось позади, чемодан становился свинцовым. О рюкзаке уже не думалось, как будто его не было вовсе. Все внимание - чемодану. Рука не успевает отдохнуть. Перекладывать приходится все чаще, продевая руку под веревку, которой опутан чемодан.
Каждые 8-10 километров мы отдыхали. Это зависело от воды. Дойдя до воды - ручья или речки - устраивали привал. Когда воды не было - шли лишние километры. Наступал момент, когда больше не было сил. Саднило плечи, спотыкались ноги, липким потом заливало тело, и руки сводило судорогой боли. И только движение колонны несло еще вперед комок человеческой слизи - по инерции. Теперь уже скоро: еще 10 минут, еще четверть часа. И вот издалека уже видно: речка под горой, кусты, ракиты. И первая колонна уже лежит, как серая гусеница, с краю дороги. Команда: «Ложись, отдыхай!».
Сотни людей валились на землю в упряжи рюкзаков, не снимая, чтобы потом не тратить времени на закладывание. Когда мешок перестает тянуть плечи вниз - он превращается в упор. Тело благодарно прислоняется к нему. Наступает минута такого блаженного полного телесного облегчения, точно мы расстались с плотью и живыми вступили в небо. Глаза закрываются, руки опадают. Получасовый отдых течет, как плавная и медленная прохладная река. Кругом звенят котелки. Набирают много, пьют по очереди, передавая из рук в руки. Иногда кажется, что стрелки забыли о времени. Конвоиры сидят в стороне от арестантов. Они идут как мы, и устают как мы - они только не так голодны...
- «Подымайся!» - и сразу проходит движение по скошенному человеческому полю. За эти несколько минут многие успели заснуть, но сон их чуткий - только тронь плечо, и уже торопливо подымаются.
Теперь нет и мысли об усталости: впереди 2 или 3 часа марша. Солнце жжет. Чтобы легче было ходить, мы думали о чем-нибудь другом. Думали о еде. Чувство голода, которое дурманило нас вместе с июльским зноем и дорожной пылью - было не личное, а коллективное, всеобщее чувство зэ-ка. Мы шли в облаке голода. Все было в нас распалено, растревожено, натянуто как струна. Я тайно торжествовал: в рюкзаке было у меня 200 грамм хлеба, недоеденных утром...
Через 2 часа я буду есть. Кто писал о голоде? Гамсун... «Илайяли»... Как это смешно, литературно... Что за голод может быть в городе, где все кругом сыты, где столько разной еды и витрины полны всякого добра? Это поза, голод от гордости... В каждой помойке столько съедобного, только нагнись... Город полон запаха хлеба, который не входит в равнодушные ноздри. Город полон непомерных, расточенных, незамеченных богатств, там на базарах люди ступают по еде, топчут ее, собаки и птицы не успевают подобрать остатков.
...Столбик на баллюстраде... Я шел, как пьяный. На приморском бульваре Тель-Авива, на столбике баллюстрады, ребенок, по дороге в школу, оставил кусок белой булки, недоеденный кусок с вишневым вареньем. Ранним утром, сходя купаться к морю, я увидел этот кусок булки. Белый с вишневым - красочное пятно, больше ничего. Мне и в голову не пришло, что это можно съесть. Вечером я был на том же месте. Прошел долгий летний счастливый полный день в том городе, где столько людей счастливы до того, что уже не ощущают своего счастья. Тысячи людей прошли мимо столбика, и все еще лежал утренний кусочек белой булки с вишневым вареньем - нетронутый. Птицы не расклевали его, и голодных не было в том городе. ...Илайяли... Витрины магазинов полны света, звенят трамваи... Здесь голод в пустыне, голод в дороге, арестантский голод. Ничего нет, и не будет. Видеть еду - уже половина сытости. Разве это голод - не иметь денег купить? Разве это голод - стыдиться попросить?.. «Илайяли»...
И вдруг, вместо Илайяли, я увидел мысленно то, от чего у меня подкосились ноги и перехватило горло: кусок пеклеванного хлеба.
Хлеб свежий до того, что не режется ножом; по другой стороне он весь в белой муке, и мука осыпается на пальцы; лакированная гладкая золотистая корка потрескалась. Надо было намазать этот душистый огромный кусок хлеба медом. Но я не успел. Руки задрожали у меня от жадности. Мед был на столе под рукой. Но я не стал его брать...
Полный рот хлеба! Я шел с рюкзаком, открыв пересохший рот как рыба...
На горизонте встала церковка с зеленым куполом. Издалека она имела вид достойный и мирный, но когда через час, наконец, брели по деревенской улице мимо - мы увидели: руина без креста, двери сорваны с петель, окна выбиты.
Нет, меня нельзя было повалить! Когда уже спекшиеся губы почернели, и стал валиться из рук свинцовый груз, я позвал на помощь. И в эту каторжную толпу вступила белая фигура, которую только мои глаза видели. Я посторонился, давая место, и поднял голову. Мы шли вдвоем, шли рядом, как всю жизнь. Как я был силен! Это не был бред, это была правда! Тысячи километров разделяли нас, но я их зачеркнул в эту минуту. Я разговаривал с кем-то, повернув голову и улыбаясь. Я старался не показать, как мне трудно, чтобы не испугать светлой тени, идущей рядом.
- «Видишь, какие дела! - сказал я. - Но это пустяки. Не тревожься, я дойду».
И я ободрился до того, что наклонился и поднял с земли синий суконный армяк. Это было хорошее полупальто Кунина - того Кунина, который выписывал в конторе 48-го квадрата котловые ордера. Теперь он шел впереди меня, и это полупальто он бросил только что в пыль дороги. Я поднял его и перебросил через руку. Люди в ряду удивленно покосились на меня.
- Донесу! А ночью будет чем покрыться... Однако, на следующий день я отдал нести мой чемодан Мету, который шел в первых рядах, веселый, осклабленный и более здоровый, чем когда-либо. За один день носки я дал ему пару обуви, которая еще была у меня. Зато целый день я шел налегке, с одним рюкзаком и синим полупальто через руку. Теперь, когда не было чемодана, я больше чувствовал тяжесть на спине.
На пятый или шестой день марша мы пришли к берегам большого озера. Здесь мы провели блаженный день. Озеро дремало во всей ширине своей, противоположный берег чуть был виден в дымке, на песчаных отмелях лежали тысячи людей. Здесь встретилось несколько арестантских этапов. На месте, где мы расположились, следы вчерашних костров показывали, что мы здесь были не первые. С утра мы купались, и среди плеска и возни чувствовали себя, как на пляже. Потом сушились на солнце и спали. Проснувшись, я констатировал, что у меня во время сна сняли очки с носа. Это сразу и очень резко изменило мою жизненную ситуацию. Я не сразу понял, как же мне теперь жить. Без очков я ничего не вижу. Я пошел к этапному начальнику просить, чтобы меня посадили на телегу к больным. Но мест не было и, когда ряды двинулись, я сделал открытие, что можно идти не видя. Люди и предметы слились в туманное облако, земля под ногами клубилась, но страдать пришлось мне недолго. На второй день я откупил свои очки у вора за полотенце и пару носков. В ту минуту, когда у их одевал, я был счастлив и вполне примирен с жизнью.
Вечером 7-го дня открылся пред нами древний город архангельского севера, Каргополь, во всей красе своих куполов и колоколен, пятиглавого собора и белостенных монастырей. Город в лучах заходящего солнца сиял и горел, как видение летописного прошлого. Мы ночевали недалеко от города. И здесь, как на озерном берегу, тысячи арестантов лежали на смежных полях, отделенных вооруженной стражей. Мы могли двигаться только на отведенном нам участке поля. Шум стоял над полем точно это была цыганская ярмарка. Я не мог отвести глаз от панорамы города. Пока я глазел, совершилось неизбежное, и у меня украли мой чемодан. Я нашел его раскрытым и пустым, метрах в 50, в сторонке. Белье, верхние рубашки и прочие богатства из Пинска исчезли. Теперь уже можно было не бояться долгого этапа. Воров искать было не долго. Компания урок невдалеке делила мои вещи. Я вступил с ними в переговоры, в результате которых один из них великодушным жестом бросил мне фотографию в рамке, - единственное, что им не было нужно из моих вещей. Я еще попробовал выпросить на смену одну рубаху. - «Иди-иди, сказал, угрожающе приподымаясь, лупоглазый рябой парень, на котором в обтяжку сидел мой свитер, - а то по голове стукну». Я еще пошел пожаловаться стрелку, что было уже совсем глупо. Конвойный ходил взад и вперед по окраине поля и даже не подпустил меня к себе близко. Выслушав в чем дело, он махнул рукой: «Не мое это дело». Конвой отвечал пред властью за число зэ-ка, а не за их собственность. Удивительно было не то, что украли, а то, что я дотащил свой чемодан до самого Каргополя.
Под стенами летописного града Каргополя отобрали из наших рядов всех больных и неспособных продолжать работу, и здесь я расстался с одним из братьев Куниных, с которыми сидел вместе с первого дня в пинской тюрьме. Старшего Кунина положили в Каргопольский лагерный гооспиталь, где он и закончил свою жизнь. Младший, от которого я унаследовал синий суконный армяк, умер, уже по освобождении из лагеря где-то в Центральной Азии. Так в общий итог шести миллионов еврейских жертв войны входят жертвы немецких и советских лагерей.
Город Каргополь, чего мы тогда не знали, был центром Каргопольлага, и в значительной мере жил на счет армии рабов, сосредоточенной в предприятиях и лагпунктах окрестности. Однако, в связи с войной совершился перевод правления Каргопольлага в Ерцево по Северной ж. д., и нам предстояло продолжать путь до Ерцева.
Утром следующего дня провели нас по улицам Каргополя. Вблизи город оказался, как Пудож, разоренным и бедным захолустьем, с ветхими деревянными домиками, улицей Ленина и жалким сквериком, где босые ребятишки играли в городки. Мы пропылили по улице Ленина, сопровождаемые скучающими взглядами каргопольских граждан, с которыми я бы не хотел поменяться, даже идя в арестантском строю, - и вышли на пристань.
В сумерки, после многочасового стояния в очереди, нас погрузили на пароход, и мы поплыли вниз по реке. Мы лежали на покатом помосте, вытянувшись, и отдыхали. Хорошо было ночью лежать на спине, закинув руки, и глядеть в беззвездное темное небо. Хорошо было днем под солнцем следить с помоста, как проплывали низкие берега и зеленые росистые луга. Мы чувствовали себя туристами - это была наша настоящая «поездка в неизвестность». За нами было уже 10 дней марша.
Часу во втором следующего дня пароходик неожиданно причалил в открытом поле к песчаному низкому берегу, и мы снова, к великому своему разочарованию, двинулись пешком. Снова открылся размытый тракт с глубокими колеями, и пошли мелькать дорожные столбы и редкие деревеньки с заколоченными домами мобилизованных и высланных. В предпоследний день нам предстояло пройти 40 километров, но мы заблудились и прошли 7 километров в сторону, а потом те же 7 километров обратно. Таким образом, рекорд нашего этапа составил 54 километра в один день.
Было утро, росистое июльское утро со щебетом и порханием птиц, со стуком дятла в лесной чаще, когда мы дошли до сторожки в лесу, где нас дожидались уже какие-то вольные, очень делового вида, в кепках. Стрелки, увидев их, повеселели, и мы поняли, что наш этап кончается. Нас повернули в глубину леса, и мы пошли спотыкаясь по деревянному настилу. Кукушка накуковала мне 120 лет жизни, так что я и считать бросил. Пахло смолой и где-то близко чувствовалось рабочее место. Мы шатались от усталости, но бодрились, понимая, что это последнее усилие. За нами было 500 километров дороги. Лес кончился, - и мы вышли на широкое двойное полотно железной дороги.
Не узкоколейка, как над Онегой, а магистраль, благоустроенная и прямая, как стрела. Мы шли вразброд по шпалам - и вот открылась справа картина большого лагпункта. За оградой колючей проволоки стояли бараки, по углам сторожевые вышки, широкая дорога к вахте, и по обе стороны ее - много зданий «за зоной». До вахты мы не дошли. Нас оставили на конец дня и ночевку за зоной в открытом поле. Это было Ерцево, по Сев. ж. д., центр Каргопольских лагерей.
По случаю окончания этапа я вынул со дна мешка заветное сокровище - остаток из посылок матери - советский «лапшовник», продукции Одесского консервного завода. Я вскипятил кружку воды на углях костра, растолок камнем прессованную плитку и всыпал ее в кипяток. Через 15 минут каша поспела. В последний раз - на долгие годы - я съел нелагерную еду и заснул сытый у затухающих углей.
На утро нас погрузили на платформы, и через 40 минут мы прибыли к месту. Колонна человек в 300 выгрузилась на переезде, за которым тянулась широкая улица. Мы шли, осматривая домишки с обеих сторон.
- Далеко идти, гражданин начальник?
- Двадцать шесть километров, - ответил этапный офицер, делая грозное лицо.
Мы повздыхали, подтянули лямки мешков и приготовились шагать до вечера. Но не успели пройти и 100 метров, как слева вырос высокий забор, знакомые ворота с надписью «Да здравствует мудрая сталинская политика!» и раздалась зычная команда: «Стой»
Мы прибыли на место.
Глава 22. Амнистия
Сангородок Круглица занимал площадь около трех гектаров. Внутри ограды был использован каждый квадратный метр. Не было гнилого болота, не валялись неубранные пни, как на 48-ом квадрате.
Вдоль бараков были проложены деревянные мостки. Под окошками кухни, где выдавали пищу, был устроен навес, чтоб не мокнуть ожидающим под дождем. А когда мы увидели перед стационарным бараком клумбу с цветами и скамью, нам показалось, что мы в санатории. Для довершения эффекта карцер был вынесен за ограду и не мозолил глаз заключенным.
Сангородок Круглица - санитарный городок - и был своего рода санаторием. Здесь находился медицинский центр ерцевских лагерей. Было тут два легочных барака, хирургический, несколько обыкновенных стационаров, аптека, зубоврачебный кабинет и рентген. Всего находилось тут человек 300-350 больных и столько же обслуги и рабочих. Не только госпитальные, но и рабочие бараки были электрофи-цированы и радиофицированы. При вахте, где производилась поверка, находился на открытом воздухе громкоговоритель. Слева от вахты была открытая площадка со скамьями и сценой-раковиной, как для оркестра в городском саду. Здесь устраивались летом киносеансы и выступления.
За оградой лагеря тянулся ряд домиков - поселок Круглица. Там жило человек 300 вольных. Все они кормились при заключенных, работая - кто в администрации, кто в Санчасти, кто в охране. Справа от вахты к переезду расположены были в поселке лагерные «центральные технически-ремонтные мастерские», окрашенно называемые ЦТРМ - «цэтерэм». Тут стояли токарные станки, чинились тракторы и сельскохозяйственные машины. Бригада заключенных металлистов человек в 40 работала там; было и конструкторское бюро, и своя электростанция. - Еще дальше, при полотне жел. дороги находилась нефтебаза, торчали высокие цилиндры, резервуары, покрашенные в черный и красный цвет. - Слева от вахты по улице поселка был огороженный скотный двор, тоже принадлежавший лагерю: конюшня, свинарник и около 30 коров.
Пройдя улицу поселка, где 10 месяцев в году была непролазная грязь, мы через 5 минут доходили до «сельхоза». За оградой был обширный огород и парники под рамами, где выращивали помидоры и табак-самосад. В военные годы, когда не стало украинской махорки, этот «самосад» был единственным куревом на всю округу. Помидоры у нас не дозревали. Их солили и употребляли на лагерной кухне зелеными. До 60 гектаров было занято луком, морковью, капустой, турнепсом (кормовой репой, которой кормили заключенных), но, главным образом, картошкой. В дальнем углу сельхоза была хибарка, где заключенная птичница Анисья держала белых кур. Куры несли яйца, но, конечно, не для заключенных. В Круглице зэ-ка состояли при коровах и свиньях, но не владели ими. Только самый незначительный процент всей сельскохозяйственной продукции предоставлялся для нужд лагеря. Остальное забирало государство.
В этом прекрасном лагпункте, где не было лесоповала и тяжелых работ, я провел три года своей жизни. Это было большой удачей. Немногим из западников удалось задержаться в Сангородке.
Нас пригнали сюда не на житье, а для медицинского освидетельствования и распределения по рабочим лагпунктам. Комиссия отобрала людей, нуждавшихся в поправке, в слабкоманду, а остальные в два дня были выведены из Круглицы.
На второй день я пошел в Санчасть. Маленький домик Санчасти находился при вахте налево. Три ступеньки, сенцы и ожидалка, откуда 4 двери вели в 4 крошечные комнатки: зубоврачебный кабинет, канцелярия и две амбулаторные приемные. Все очень бедно, но чисто. В ожидалке боченок с питьевой водой прикрыт доской, скамья для ожидающих и радиоприемник.
Я пожаловался на крайнюю слабость и сильные боли при дыхании. В движениях врача была стремительность, в глазах какие-то необычные боевые искорки, акцент - явно польский. Это был молодой варшавский хирург, д-р Шпицнагель. Не долго думая, он постановил направить меня в туберкулезный стационар. Начальница Санчасти сидела рядом, подозрительно посмотрела на нас обоих, но промолчала. Я вышел, ошеломленный своей удачей. А вдруг в самом деле - туберкулез в зачатке? Это дало бы мне возможность задержаться в Сангородке надолго, может быть, на месяцы... Дальше, чем на месяцы, мое воображение не простиралось. Обстановка в стационаре превзошла все мои ожидания. Я лежал в длинной белой палате на чистой койке. У меня была тумбочка у кровати, пара туфель и халат. Правда, войлочные туфли и халат были общие и странствовали от больного к больному, но даже спрашивать - «где туфли?» - было приятно. Мне принесли кружку, ложку и полотенце. Кормили нас три раза в день. Я был потрясен, когда принесли мне в обед немного жареной картошки и настоящую мясную котлетку... Я забыл про голод и был просто взволнован человеческой стороной этого отношения к больным. В лесу у нас не было обедов, а жареной картошки я не видел уже год... О, счастье быть легочным больным! Ради этого стоило пройти сотни километров этапа
Соседа моего звали Иван Николаевич. Это был высохший, как щепка, угрюмый и желчный конторский служащий. Он пристально рассмотрел меня, узнал во мне еврея и сразу нахмурился. Это не поразило меня. Я так переживал великолепие стационара, что готов был обнять всех антисемитов Сов. Союза. - На следующее утро Иван Николаевич долго приглядывался к моей постели. Одеяло было сложено неровно.-«Еврейская натура!»-тихо, но явственно произнес Иван Николаевич. Он непримиримо и немедленно с первого взгляда возненавидел меня, мою наружность, слова, движения и даже книгу и очки, которые лежали на тумбочке. Иван Николаевич был старый лагерник, досиживал 8-ой год и через короткое время готовился выйти на свободу. Чахотка и воля наперегонку играли его жизнью. Пришло время, полгода спустя, когда я спросил: «а где же Иван Николаевич? не видать его...» и мне сказали «не знаете разве? - на освобождение пошел»... и я представил себе Ивана Николаевича на свободе - с зарядом антисемитизма, ненависти и горечи, глубоко упрятанных в сердце, с чахоточным кашлем и горбом восьми лагерных лет - одного из миллионной массы советских Иван Николаевичей.
На второй же день, к ужасу моему, у меня прошла боль в груди. Я вздыхал на все лады - не болит! Хорошо в госпитале, если бы не врачи! Туберкулезным госпиталем заведывала Валентина Васильевна, пухленькая и милая особочка, большеглазая, с вишневыми губками, и именно ее я должен был бояться: главврач, да еще и вольная!! Валентина Васильевна велела отправить меня на рентген, и мое самозванство разоблачилось. Через три дня изгнали меня из рая. Иван Николаевич торжествовал и посмеивался. Ничего у меня не оказалось, кроме простого растяжения мускула на груди...
Шпицнагель ухмыльнулся, увидев меня снова в арестантском бушлате.
- Я знал, что у вас ничего опасного, но тем временем ваш этап уже отправлен из Круглицы, а вы остались. Теперь выпишем вам на две недели слаб-команду.
«Слабкоманда» заключалась в том, что мы выходили на работу через день, мало работали, и еще меньше ели.
В свободные дни я ходил по лагерю, заходил в контору, к нарядчику, предлагал свои услуги: не надо ли чего посчитать, пописать. Круглицкие бараки были большие, каждый человек на 100 и больше. Когда проходил этап вроде нашего, бараки переполнялись, люди спали на полу и на скамьях. Потом снова было просторно. При входе в каждом бараке было отгорожено место. Там за досчатой перегородкой помещались «знатные люди» данного барака: помощник нарядчика, комендант и т. п. лица. В бараке тянулись в два ряда двухъярусные нары, потемневшие от грязи, полные клопов, посреди был некрашенный стол и пара скамей. За перегородкой зато нары были чисто застелены (у обыкновенных зэ-ка постели не было), чистая посуда стояла на плите сбоку, и людям из барака запрещалось заходить туда без дела.
В одной из таких коморок я переписывал сводки для помощника нарядчика и надеялся, что при этой работе удастся мне задержаться. Но вышло иначе.
В конце июля вывешен был на доске КВЧасти нумер «Правды Севера» с известием о заключении польско-советского договора: амнистия заключенным полякам! Первое следствие войны, новый курс! Мы пережили дни подъема и счастья, ходили в блаженном тумане, возбужденные и гордые. Итак, ошиблись те, кто пророчествовал полякам смерть на чужбине! Мы были правы, когда год тому назад смеялись, расписываясь в получении 3 и 5 летних приговоров и отказывались брать их всерьез. В Москве слишком поторопились стереть Польшу с географической карты.
Захватив Польшу, Гитлер превратил ее в «Генерал-губернаторство», но не называл ее Германией. Советская власть пошла дальше. На советских картах того времени не было Польши, а была, на запад от Буга и Сана, «Область государственных интересов Германии». В лагере из этих 4 слов оставалось только одно. При опросе польских зэ-ка писали место рождения Варшава, в скобках Германия. Июль 1941 года был месяцем отступления Красной Армии и месяцем перелицовки этой мудрой сталинской политики. Вчерашние союзники стали врагами, враги - союзниками. Неописуемо было отчаяние тех поляков, которые малодушно выдали себя в лагере за белоруссов и даже немцев. А мы, польские граждане, торжествовали и готовились выйти на волю.
Нам казалось, что «амнистия» - дело нескольких дней: сказано, сделано. Раз люди амнистированы, надо отпустить их. Слово «амнистия» означало, что надо раскрутить мясорубку и вынуть оттуда человеческое мясо, предназначенное на перемол. Словом «амнистия» вежливо назывался акт возвращения захваченной человеческой добычи. Возвращали нам звание и достоинство человека. Страшное нетерпение овладело массами поляков и польских евреев.
Еще вчера лагерные власти третировали нас как рабочий скот. Теперь мы были - гости в лагере. Советские зэ-ка смотрели на нас с чувством зависти и горечи. «Поляки подняли голову», - говорили, криво усмехаясь, зэ-ка. Нам, поднявшим голову, было неловко смотреть на людей, лишенных надежды.
С первого дня, когда я прочитал сообщение об амнистии, я находился в состоянии лихорадочного ожидания. Мысль о том, что меня могут исключить из амнистии, просто не пришла мне в голову. Не знаю, был ли еще хоть один среди западников, кто бы с таким страстным нетерпением дожидался воли. Я уже видел себя в форме польской армии, представлял себе части польских евреев, сражающихся в первой линии, благодарил судьбу, которая, наконец, давала мне возможность принять участие в войне с Гитлером. Никогда еще я не переживал так остро нелепость и унизительность моей вынужденной пассивности.
Неделя за неделей проходили, а мы все сидели. Наконец, в конце августа, первая небольшая группа поляков была отправлена на волю. Для меня было жестоким разочарованием, что я не попал в эту группу. Среди отправленных был Корень - польский офицер-еврей, из белостокской промышленной семьи, окончивший школу подхорунжих в Вильне. Этот человек был комендантом одного из окрестных лагпунктов, и в этой должности «переусердствовал» - возбудил против себя ненависть польских зэ-ка. Ему грозили: «Погоди, когда-нибудь в Польше сведем с тобой счеты». Не успел тронуться эшелон с поляками из Ерцева, как над Коренем учинили расправу. Его избили до смерти, труп выбросили из вагона.
1 сентября всех поляков Круглицы вывели за вахту... Вместо освобождения произошло нечто неожиданное: всех нас перевели в «штрафной» лагерь Осиновку, километров в 15 за Круглицей.
Первый день в Осиновке я работал в качестве водоноса.
Очень хорошо помню угрюмый и облачный день северной осени. Утром дали мне два деревянных тяжелых ушата. От лагерного колодца, где я набирал воду ведром на веревке, до кипятилки, куда я тащил ее, было метров 200. Я снес всего 35 пар ведер. Таким образом, я прошел 7 километров с полными ушатами и 7 километров с пустыми. По дороге я взбирался на бревенчатый настил, переходил канаву, а дальше начиналась сплошная грязь, где я пробирался по проложенным доскам, прыгал с кирпича на кирпич, а в некоторых местах останавливался, чтобы сообразить - как здесь пробраться? В течение дня мои ватные брюки - те самые, в которых я вышел из 48-го квадрата, - и бушлат промокли насквозь.
Медленно продвигаясь, чтобы не расплескать воду, останавливаясь раза два по дороге, я вспоминал старого пинского водоноса, по имени Гершл. Это был еврей, который в течение ряда лет каждое утро приносил на кухню моей матери два ведра воды. Гершл, всклокоченный, с сизым щетинистым подбородком, красными глазами, красным носом, худой и тощий как огородное пугало, казался мне олицетворением еврейской нищеты. Я смотрел на него с чувством вины и брезгливой жалости, не предчувствуя, что придет время, когда я буду ему завидовать. Теперь Гершл представился мне в новом свете. Я делал теперь его работу. Мои лохмотья были много хуже его одежды. На ногах моих были опорки, пропускавшие воду. Онучами служили мне грязные мокрые тряпки. Лагерные ушаты были много тяжелее ведер моей матери. Гершл получал за пару ведер десять грошей. Эти гроши казались мне тогда подаянием нищему. Теперь, медленно колыша свои ушаты, я забавлялся тем, что подсчитывал, сколько бы я заработал, если бы мне платили как пинскому водоносу.
Десять пар ведер! - И вот я уже заработал один злотый. Что купить за эти деньги?
Во-первых, я купил бы целое кило хлеба. Кило хлеба стоило в Пинске 15 грошей. Потом я купил бы 10 яиц. Это бы стоило 50 грошей. За остальные 35 грошей я бы купил 200 грамм сала. Какую исполинскую яичницу я бы соорудил из всего этого!
От одной мысли о яичнице я ускорял шаг, и ушаты бились о мои колени, а вода плескала через край, обливая ноги.
Но одного злотого мало. Надо принести еще 10 пар ведер воды! За второй злотый я бы купил сахару полкило и десятку чаю. Потом еще литр молока за 15 грошей. И у меня бы еще осталось на кило крупы!
Я считал, считал, и от 35 пар ведер воды у меня еще оставалась масса денег. Теперь я понимал, что Гершл мог прокормить не только себя, но и жену с ребенком. Этих денег хватало на мясо и на рыбу к субботе! Этот Гершл был богачом по сравнению со мною! И вдобавок он имел это возвышенное, божественное право шваркнуть к чортовой матери оба ведра, в любой момент, когда ему это захотелось! Я был лишен этого права, и все, что мне давали в лагере при 100% нормы, были 700 грамм хлеба - т. е. в лучшем случае - это составляло в польской валюте 39-го года - 30 грошей. Шесть ведер! А я снес 35!
В 5 часов комендант разрешил мне кончить работу. Я отнес ушаты в кипятилку и отправился в барак отдыхать. До прихода бригад оставалось еще 2 часа. Замечательная работа! Охотно я бы остался работать водоносом, но для этого не было у меня достаточной протекции... Впрочем, это были последние дни в лагере! Не стоило и стараться особенно...
На следующий день приписали меня к русской сенокосной бригаде. Опять удача! Эта бригада, после напряженной летней работы, «кантовалась» в сентябре, т. е. с ведома начальства делала вид, что работала, подбирала по лугам неубранное сено, докашивала огрехи. По старой памяти писали всем по 125%, и мы получали «ударный» котел. За добавку к еде вычитали из «заработка», так что мое «премвознаграждение» за «ударный» сентябрь составило ровно 3 рубля 25 копеек. На рассвете мы уходили, забирались в туманные топкие низины. Никто нами не интересовался. Может быть, это несчастье на фронте так отражалось в отсутствии контроля и в деморализации лагерных верхов? Вяло побродив по мокрым и бурым полянам, перелескам, кучка людей выходила на возвышенность, разводила костер и дремала часов до 11. Над нами на горке, как цепной кобель, сидел конвоир и тоже дремал. Потом мы спохватывались, кто-нибудь говорил, берясь за грабли: «пошли, ребята, что ли?» и мы часа два гребли и снова садились. Перед уходом снова ходили с граблями часа два. Вряд ли делали мы четверть нормы, но вечером бригадир составлял фантастические «рабочие сведения», за которые полагался нам ужин из особого окошечка, «ударный» - с кусочком дельфина или сушеной рыбы.
Время шло, а мы сидели, словно и не было амнистии. Леса под Осиновкой были полны рябины. Алые гроздья рябины раздражали нас своей несъедобностью. Голод не тетка. В конце концов мы начали есть рябину. Всю первую половину сентября моросило. Под дождиком мы собирали мокрые глянцевитые гроздья рябины, обламывали шумящие пламенные суки, сносили охапками к костру и начинали «печь» рябину. Алая гроздь чернела, горячие ягоды лопались, и из них тек горький, терпкий клейкий сок. В таком виде мы потребляли рябину в огромных количествах, забивали пустые желудки и обманывали голод. Тогда уже давало себя чувствовать отсутствие посылок, которые как рукой сняло с начала войны - сказались результаты этапа и предшествовавшего лагерного года - вместе с резким сокращением лагерного питания. Это было только первое сокращение, за которым последовала серия дальнейших. Но уже и тогда «ударный» ужин не был для нас достаточен - и мы засыпали голодные.
Первая половина сентября была расцвечена яркой рябиной, вторая прошла под знаком картошки. Я работал в польской бригаде, где была атмосфера раздражения, ссор, споров и ежедневных конфликтов. Гнездо ос! Эти люди переживали нервный кризис: на волю или с ума сойти. С трудом держал своих людей в порядке бригадир Брандес (Виктор), журналист-варшавянин и пламенный польский патриот. Ум и энергия этого человека сделали его предводителем поляков в Осиновке.
Мы копали картошку тяпками в глубоких черных бороздах. Другие в ящиках сносили ее к бригадиру. Ни разводить огня, ни печь картошки нам не разрешалось. Брандес вступил в переговоры со стрелком. В золе его костра пеклась нелегально казенная картошка, и сам бригадир, оглядываясь во все стороны, подбрасывал по очереди по одной печеной картофелине каждому из своих людей - прямо в развороченную борозду. Съев свою картошку, мы ждали полчаса или час, пока Брандес с оттопыренным карманом своего польского пальтишка не пробегал снова по полю, разделяя «по одной большой или по две маленьких».
В соседнем поле была капуста. Смельчаки воровали большие белые кочаны и немедленно делили среди людей, т. к. качан должен был быть съеден в мгновение ока. Тогда я сделал открытие, что кролик не глуп, и неважно даже, если мясистые белые листья запачканы землей и лежали в грязи. Момент, когда в кучке столпившихся, притаившихся зэ-ка мелькнуло белое пятно качана и шопотом спрашивают: «у кого ножик, давайте скорее...» - это момент триумфа. В это время из-за изгороди набегают стрелки и люди с перекошенными злыми лицами: заметили... Крики, брань, угрозы... И, наконец, подымают нас и отводят на работу подальше от опасного соседства...
В краже казенной картошки и капусты принимали участие люди, в прошлой своей жизни не погрешившие ни разу против чужой собственности: адвокаты, учителя, судьи. Здесь кража была актом самообороны против открытого насилия над нами государства, воскресившего рабовладение. Не философствуя, мы знали, что мораль едина и неделима, и законы общежития обязывают жертву не больше, чем они обязывают палача.
В продолжение сентября тревога росла среди поляков в Осиновке. Второй месяц после объявления амнистии шел к концу, а мы продолжали оставаться в заключении. Мы были попрежнему отрезаны от внешнего мира. Мы опасались, что нас пропустят, забудут о нас или сознательно задержат в лагере. Местное начальство ничего не могло ответить на наши запросы - оно само ничего не знало. Мы стали домогаться свидания с представителями Управления в Ерцеве. Но никто не торопился разговаривать с нами. Тогда мы решились организовать демонстрацию протеста.
Это было непросто. Никакие коллективные самочинные выступления в лагере не разрешаются. Сказать «мы» - значит поднять бунт. Когда Виктор Брандес и другие «западники» обращались к начальству, они это делали от своего имени и по своему делу - но сказать «мы» значило взять на себя ответственность за контрреволюционное выступление, ибо в Советском Союзе право организовать массу и говорить от ее имени имеет только «партия» и органы ее власти. Не раз нам рассказывали русские зэ-ка о случаях голодных бунтов и возмущений доведенной до отчаяния массы, которые подавлялись кровью или лишней подачкой хлеба, - но никогда эти взрывы не носили характера организованного политического выступления. Наша затея была опасной новостью; протест против бесправия, против незаконного задержания нас в лагере.
Вечером 28 сентября в большой тайне прошло несколько человек по баракам и отобрало у западников «талоны», выданные с вечера на питание следующего дня. Все без исключения отдали свои талоны. На рассвете 29-го, только пробили подъем, 120 человек собралось в одном бараке. Это было все польское население первой Осиновки. Настроение было у всех торжественное и приподнятое. Как на молитву перед боем, стали поляки и евреи и пропели старинный хорал: «Kiedy ranne wstaja. zorze»... Затем отнесли начальнику лагпункта сверток со 120-ю талонами. Мы постановили не принимать пищи и не выходить на работу, пока не добьемся освобождения.
- Поляки бастуют! - разнеслось по лагерю. Если бы русские зэ-ка позволили себе нечто подобное, с ними бы не поцеремонились. Самая дерзость этого выступления свидетельствовала о том, что поляки чувствуют силу за собой. Начальство растерялось. Сперва прибежал нарядчик, на обязанности которого лежит вывод людей на вахту - и оторопел. Попробовал взять силой, выругался, стал грозить - но барак, битком набитый, не боялся его. В барак стали заглядывать любопытные соседи. Наши дневальные не впускали посторонних. Прибежал в страхе инспектор КВЧ с увещаниями: «С ума вы сошли? Не знаете, что полагается за такое дело?» - не слушали и его. Тем временем прошел развод и лагерь опустел. Люди вышли на работу, и только один барак, как новый «Броненосец Потемкин», был полон ослушников.
Наконец, появился начальник лагпункта. Он медленно вошел в самую гущу людей, стал посреди барака, оглядел нары, где скучились заключенные, помолчал и спросил голосом, колючим, как штык:
- Так что же? Не будем работать? Наступила мертвая тишина. Вдруг из задних рядов брызнули голоса:
- Зачем нас держите? Нет права держать по амнистии. Мы голодные!
- Чего вы хотите? - спросил начальник. Администрацию лагеря напугал не столько наш невыход на работу, как отказ от пищи. Голодная забастовка - серьезное оружие заключенных, т. к. лагерная власть обязана довести еду до зэ-ка. Не смеет не выдать ее. За некормление людей она отвечает, и в данном случае не наше нарушение дисциплины ее пугало, а нерозданная пища на 120 человек, что могло привести к самым неприятным последствиям. Начальство боялось за себя.
Первым выступил Брандес и спокойно изложил требования поляков: немедленный вызов прокурора из Ерцева для переговоров. Наше задержание противоречит амнистии и закону, и никто не имеет права заставить нас работать после того как мы амнистированы.
Говорили доктор Шпицнагель, молодой поляк Новак, который, если не ошибаюсь, приходился родственником кому-то из польских министров. Наконец, и я взял слово, чтобы как можно примирительнее и спокойнее объяснить начальнику лагпункта, что среди нас нет врагов Советской власти, что мы - граждане союзного государства, и место наше - в рядах польской армии, борющейся с общим врагом.
- Если друзья Советской власти, стало быть - помогайте! - сказал, внимательно глядя на меня, начальник лагпункта. - Зачем же отказываетесь работать?
- Работа в лагере, - ответил я ему, - есть наказание, от которого мы по амнистии освобождены. Работать в лагере - не будем.
- Не будем! Не будем! - хором закричали все собранные.
Начальник без слов повернулся и вышел. Через 15 минут вошел комендант и вызвал к начальнику всех, четырех, которые говорили. Нас привели в контору и по одному стали вводить в кабинет начальника.
Когда пришла моя очередь, я увидел пред собой целый ареопг: за столом заседала коммиссия, там были, кроме начальника лагпункта, заведующие КВЧ, Санчастью и прочие руководители лагпункта.
Меня допрашивали 3,5 часа. Добивались ответа: кто собирал талоны вчера вечером, кому я отдал свой талон. Я сказал, что не помню. Потом мне стало стыдно своей нерешительности, и я сказал им, что не следует задавать мне таких вопросов.
- Почему? - заинтересовался начальник лагпункта.
- Потому что, если бы я и помнил, то все равно не сказал бы вам этих имен: я понимаю, что вы ищете людей для обвинения, но люди, собиравшие талоны, не были вовсе нашими «вожаками». Это были случайные люди.
- Так почему же все-таки не сообщаете их имен?
- Это было бы бесчестно. Вы первый не уважали бы меня, если бы я был доносчиком на своих товарищей.
- Слышите, что он говорит? - охнул начальник лагпункта. - Вот каков!
Мой ответ был наивен, так как каждый из людей, сидевших за столом, сам был доносчиком и сотрудником НКВД.
Меня вывели и в соседней комнате раздели до гола, обыскали, нашли и забрали, в который раз, ножик, - и через 10 минут я был водворен в карцер, в камеру, где уже сидели Брандес, Новак и Шпицнагель.
Начальство действовало по классическому рецепту: изъяло, прежде всего, представителей «мятежников» - обезглавило массу. Мы были готовы к геройской защите, чувствовали прилив сил и бодрости. Мы стряхнули с себя рабское оцепенение, и сознание общей борьбы сразу сблизило нас. Все мы в камере сразу перешли между собой на «ты».
Но страдать нам не пришлось. Часа через 3 отворилась дверь карцера, и вошел прокурор Каргополь-лага - тот самый, которого мы тщетно добивались целый месяц - и после краткого опроса велел нас выпустить. В бараке мы были встречены общим ликованием. Оказалось, что в наше отсутствие прибыли из Ерцева все центральные власти: начальник Карго-польлага, начальники КВО, САНО, уполномоченный и прокурор. На собрании в бараке западникам обещали, что в течение месяца все будут освобождены; а когда стали жаловаться на содержание в штрафном лагере - обещали немедленный перевод в другие «нормальные» лагпункты.
Итак, победа по всей линии! Брандес выступил вперед и в короткой речи поздравил западников с успехом демонстрации и примерной дисциплированностью; особо поблагодарил трех своих товарищей по карцеру. Я в ответ от имени всех участников забастовки выразил благодарность Брандесу, - и обе речи были покрыты аплодисментами. Длинная очередь западников выстроилась под окошками кухни получать утренний завтрак.
Утром следующего дня нас вывели из Осиновки первой. Часть была отправлена во вторую Осиновку, а часть, в которой и я находился - в Круглицу. Таким образом, 1 октября 1941 года я снова очутился в Сангородке. В половине октября большая партия западников была освобождена. Этого было достаточно, чтобы успокоить оставшихся. Мы с верой и надеждой ждали своей очереди.
Главный организатор сопротивления, Брандес, был отправлен в Ерцево. Там он продолжал бунтовать. Он требовал разрешения снестись телеграфно с польским представительством в столице. Ему позволили написать письмо, на которое так и не пришло ответа. Ни на одно из потопа писем, которые были отправлены в ту зиму из лагерей на адрес польского посольства, не пришло ответа. Мы не могли представить себе, чтобы польское посольство не отвечало на письма польских граждан в беде, и считали, что либо наши письма не передаются по адресу, либо ответы не пропускаются в лагерь. Так или иначе - фактом остается, что после «амнистии» мы попрежнему были лишены контакта с польскими властями и целиком зависели от произвола органов НКВД.
Тогда Брандес снова - на этот раз единолично - отказался от работы. На этот раз он просидел в карцере, не принимая пищи, 9 суток. После этого его перевели в больницу. По выписке из больницы он снова отказался от работы. Тогда его официально освободили от работы «по состоянию здоровья», т. е. легализовали его протест. И, наконец, в январе 1942 г. он и Новак были освобождены. Я и Шпицнагель продолжали оставаться в лагере.
Зима 41-42 года была самым тяжким испытанием моей жизни. Голод подтачивал мои силы. Но страшнее было другое. До того я относился к лагерю, как наблюдатель со стороны, как литератор, как человек, которому в будущем предстояло написать о нем книгу. Лагерь казался мне редчайшим секретным документом советской действительности, к которому я случайно получил доступ - захватывающим документом и панорамой. В эту зиму я понял, что легче войти в лагерь, чем выйти из него. Лагерь перестал быть для меня темой для наблюдений. Я перестал наблюдать и начал умирать в лагере. Я почувствовал, что изъятие из амнистии есть для меня - смертный приговор.
Я был отрезан от всего мира, от семьи, от родных и близких. Мои письма не передавались заграницу. В Сов. Союзе не было у меня ни души. Некому было оказать мне материальную и моральную помощь. Город Пинск, где я оставил свою старую мать и преданных друзей, был занят немцами, и советские газеты сообщили об избиении там 10.000 евреев. Теперь я знаю, что моя бедная мать еще была жива в это время. Гетто в Пинске было окончательно уничтожено в октябре 1942 г.
Незнание будущего давило нас. Советско-немецкая война была для нас войной горилл и каннибалов. Обе стороны были нечеловеческим искажением всего святого и дорогого нам. «Амнистия» превратилась для нас в орудие шестимесячной пытки и безграничных терзаний. Каждые 2-3 недели в течение этого времени освобождали из Круглицы по 5-6 человек - иногда одного, единственного - и нельзя было понять, почему именно этих, а не других. Волосы подымались дыбом от ужаса: а если задержат? Быть исключенным из амнистии - было много хуже, чем вообще не иметь амнистии: это отнимало надежду и на будущее. Мы уже давно перестали добиваться смысла и логики в обращении с нами. На волю, к Андерсу, шли заведомые фашисты, матерые польские антисемиты, противники правительства Сикорского. Мы - евреи-демократы, чьи семьи погибали в гетто, задерживались без объяснений. Мы не знали, ни как, ни против чего нам защищаться. Нам не объясняли тайных мотивов нашего задержания. Сперва мы объясняли себе задержку освобождения - трудностями транспорта: вагонов нет. Но проходили месяцы за месяцами, и это объяснение отпадало. Наконец, само это «мы» - начало таять. С каждым месяцем сужался круг западников. Нас были сотни, потом остались десятки, потом, в марте 1942 года, полгода после забастовки в Осиновке, остались считанные люди. Эта «амнистия» по капле высосала из нас кровь, довела нас до исступления и нервной катастрофы. Только когда мы остались последними - и 90% западников ушло из лагеря - мы поняли то, что должны были нам сказать с самого начала, чтобы избавить нас от нечеловеческой пытки ожидания: что нас не освободят, что советская власть применяет амнистию не ко всем, кого она касается, - и именно к нам, небольшой кучке оставшихся, она не будет применена.
Ряд месяцев мы жили в неописуемом нервном напряжении. Мы ждали неделями, пока придет список на освобождение. Вечером после работы мы узнавали, что в УРБ лежит список на 7 человек. - «Кто такие?» - Каждый подавлял волнение, делал вид, что он спокоен: «не в этот раз, так в следующий пойду...» Но внутри все кипело и дрожало: «столько людей уже ушло, и столько месяцев уже я жду - почему мне быть последним?»
И вот, названы 7 имен, среди них твой сосед по нарам или человек, которого знаешь давно. К радости за них примешивается горькое отчаяние за себя. Лица людей, вызванных нарядчиком - преображены и сосредоточены, серьезны и полны скрытого возбуждения... Некоторых среди дня вызвали с производства: «бросайте работу, идите немедленно в лагерь - оформляться на освобождение!» - Оформление - дело сложное. Надо сдать все лагерные вещи, некоторые переменить. Существует инструкция, по которой освобождаемым, не имеющим своих вещей, выдается обмундирование второго срока, не новое, но опрятное и прилично выглядящее. Перед уходом из лагеря - обязательно баня. Люди потрясены, но стараются не выдать своего счастья, а большинство «не верит»: «пока не отъеду сто километров отсюда - не поверю».
Но мы уже чувствуем какую-то черту между ними и нами - которая отделяет живых от мертвых. В последнюю минуту суем им записочки с адресами родных заграницей - «когда-нибудь передайте о нас, помните о нас!» - Все обещают, но большинство очень скоро и быстро забывает лагерь, как дурной сон, со всеми, кто там остался. А если кто-нибудь и вспомнит, и напишет в лагерь, где недавно сам сидел - его письмо не будет передано нам.
Все те месяцы, пока продолжалась отправка маленьких групп и партий на волю, мы боялись напоминать о себе, торопить, запрашивать - чтобы не выдать своего беспокойства и не показать, что мы вообще считаем возможной такую вещь, как исключение нас из амнистии. Потом, когда несчастье стало фактом - уже было поздно. Мы писали жалобы, польским представителям: ответа не было. Мы обратились устно к прокурору из Ерцева, когда он был в Круглице: «почему нас не отпускают?» - Прокурор засмеялся и ответил: «вы - евреи, Сикорский вас не хочет». Этот ответ мы сочли за дурную шутку. Не все среди нас были евреи. Я написал для себя и десятка товарищей жалобы начальнику Каргопольлага. Через месяц пришел ответ: моим товарищам ответили, что они задержаны «до особого распоряжения» - ничего не объясняющие непонятные слова. А мне сообщили в письме, на обратной стороне которого я должен был расписаться в том, что его прочел: «В ответ на запрос з/к Марголина Ю. Б. разъясняется ему, что он не подлежит амнистии для польских граждан, как лицо непольской национальности».
Я ответил на это «разъяснение» горячим протестом. Я писал, что амнистия имеет в виду всех польских граждан без различия национальности и вероисповедания. Что польские граждане-евреи в массе были освобождены по амнистии, и я поэтому не принимаю такого объяснения, что меня задержали как еврея и прошу сообщить действительную причину задержания. Что пока не сообщат, на каком основании исключили из амнистии, буду считать свое заключение незаконным. Что заключение угрожает моей жизни, разоряет меня материально, подвергает страданиям и лишениям мою семью, и за все это я возлагаю ответственность на правительство Советского Союза. Что польское лондонское правительство Сикорского является демократическим правительством, свободным от антисемитизма, и я отказываюсь верить, что исключение польского еврея из амнистии для польских граждан происходит с его ведома и согласия.
Я не получил ответа на это письмо. Не с кем было разговаривать, не к кому обращаться - не на что надеяться, кроме тех, кто находился заграницей - свободных людей на Западе, моих друзей и родных, которые могли интервенировать в мою пользу. На них я возлагал свою надежду, не подозревая, что ни тогда, ни позже, ни по сей день люди Запада, чьи близкие пропали без вести в Советском Союзе, не ударяют пальцем о палец для их спасения. И благо нам, что мы этого не знали.
Я был бессилен что-нибудь предпринять для своего спасения из чудовищного и бессмысленного несчастья, которое стряслось со мной. Но я надеялся на то, что война еще выяснит многое - и на то, что многолетнее и бесследное исчезновение в Сов. Союзе как мое, так и многих других людей из Европы обратит на себя внимание широких общественных кругов.
Я не потерял надежды и не отчаялся до конца. Но весной 1942 г. я пережил шок, который временно превратил меня в невменяемое и душевно-ненормальное существо. Я поседел в эти месяцы. Я был молод, когда меня арестовали в Пинске. Вдруг я услышал с удивлением, что меня окликают на работе «отец», а потом стали звать меня - «дед».
Голод иссушил мое тело, непосильная работа согнула спину, колени дрожали, лицо сморщилось, и руки тряслись. Мой слух ослабел и глаза потухли. Моя близорукость значительно усилилась, и стекла, которые я привез с собой в лагерь, уже были недостаточны. Начальник лагпункта отказался снять меня с общих работ. Я пошел просить помощи у уполномоченного. Уполномоченный - уже не Степанов, а другой, круглолицый, - сказал мне: «Да ведь я знаю вас: вы переписываетесь с иностранными консульствами». Это был намек на копию визы в Палестину, которая была мне переслана в конце 1940 г. - Когда я просил содействовать мне найти работу в конторе, ссылаясь на слабое зрение, он мне ответил: «Деревья в лесу большие, и то вы их плохо видите, так как же вы будете в конторе? Буквы на бумагах ведь совсем маленькие!» - и я не знал, смеется ли он надо мной или говорит серьезно.
Тело мое распадалось, и все во мне было растоптано и расстроено. Ничего не осталось во мне, кроме животного ужаса перед леденящим холодом и физической болью. Я выходил с утра в поле, метель засыпала мое рубище, и я прислонялся где-нибудь под деревом в снегу и стоял в оцепенении, как во сне, пока окружающие с руганью не заставляли меня взяться за колоду, что-то тащить, подымать, помогать кому-то. Но я уже ничего не мог сделать. Вокруг меня были чужие лица. То, чего я больше всего боялся, наступило. Западники ушли, и во всем лагпункте еще оставалось 15-20 таких, как я, разбросанных среди косматых, голодных, озверевших людей. Ни одна бригада не хотела меня. Настал день, когда я украл ножик у соседа.
Этот ножик не был мне нужен. Я не знаю, зачем я это сделал. - Жалкий самодельный лагерный ножик лежал на краю нары, - он выпал из бушлата соседа. Я спрятал его в свой карман. Потом сосед искал ножик, ругаясь, по всем углам. Я лежал в глубокой тени, не отзываясь, и испытывал мрачное удовлетворение от того, что никому не приходит в голову в бараке искать его в моем кармане...
Глава 23. «Работать надо»
Зимой 41 года мы выходили с ножами и серпами в леса около Круглицы - последние поляки в ожидании амнистии. Мы занимались заготовкой силосного корма для скота, т. е. нарезали тонкие березовые и ольховые прутья и вязали из них веники, норма которых составляла сто на человека. Мы вязали от 30 до 70. Весь день мы бродили по снегу между деревьев, то и дело окликаемые стрелком для проверки. Справа от меня работал Электорович, пожилой поляк с сумрачным лицом, неразговорчивый и необщительный, который, как и я, был исключен из амнистии - ив ту же зиму умер в лагере. Найдя молодую березовую поросль, мы беспощадно уничтожали ее, оставляя только черенки в земле. Слева работал бывший бургомистр города Копылинце в Зап. Украине, старый адвокат с пухлым мягким лицом, очень похожий на Молотова - на нем чудом еще уцелело долгополое черное пальто из дому. Нагнув с усилием высокую ветвь и зажав ее подмышкой, старик серпом обчищал с нее боковые ветки, и когда отпускал ветвь, она выпрямлялась с шумом, и с дерева осыпался снег на плечи и голову старого человека.
Даже на такой простой работе общая норма для всех - была варварством. Одни из нас, и в особенности молодежь с зоркими глазами, моментально находили подходящее дерево, срезывали ловко и быстро, одним метким ударом ножа наискось отделяя черенок от ствола - другие в том же положении теряли несколько секунд, чтоб осмотреться, и ударяли ножом раз, и два, и три, а еще потом отдирали рукой ветку с лоскутом коры - эти никогда не могли выполнить даже половины нормы. В нормальных рабочих условиях «норма» есть средство отбора - она отсеивает тех, кто не годится для данной работы, но годится для другой. Электорович, я и старик бурго; мистр наверное умели делать хорошо много вещей, но мы очень плохо заготовляли веники, и поэтому для нас норма, принудительного рабского труда была нормой голода и неизбежно обрекала на гибель. Мои веники плохо держались - то распадались, то сваливались со стойки, на которую я их вешал. Бригадир, проходя мимо, критически осматривал их и с сомнением качал головой. Нарубая ветки, я думал о том, какая это страшная вещь - соединение нормы, которая всегда остается несоизмеримой с индивидуальными различиями работающих, с прикреплением к месту работы и невозможностью сменить ее по своему желанию. Я знал, что в одинаковых с нами, лагерными, условиях находятся в этом отношении и «вольные» советские рабочие. Я вспомнил своего товарища, который приехал в Палестину и взялся там за огородничество. Помидоры не росли у него, и скоро он бросил возиться с грядками. Оказалось зато, что он - прекрасный пчеловод и умеет разводить кур.
В лагере, если бы его послали на огород, он бы мучился бесконечно, не выполняя нормы, и погиб бы на штрафном пайке. «Труд - дело чести!» - эта советская формула в условиях диктатуры прикрывает принудительность навязанного занятия и абсолютную, рабскую зависимость от работодателя, которая не легче, а много тяжелее, когда в роли работодателя выступает полицейское государство.
Десны мои расшатались и кровоточили, и два золотых мостика выпали из моего рта. Прежде чем я успел подумать, что с ними сделать, у меня украли один из них. Рядом со мной лежал на наре голубоглазый карпаторусский паренек. Его косвенное признание в краже выразилось в том, что он принес мне в один из ближайших вечеров целый вареный телячий язык! Из такого языка нарезали порций 20 ко второму котлу.
- Ешь! - сказал он мне великодушно и объяснил, что стянул на кухне 2 языка, один для себя, другой для меня. Он добровольно помогал на кухне, приходя с работы, мыл, убирал, чистил овощи - за это его подкармливали, и при случае он мог стащить какие-нибудь объедки, но два языка! столько мяса!.. Этому я не поверил и понял, что мой сосед просто делился со мной выручкой за золотой мостик... Не долго думая, я съел целый телячий язык без хлеба.
Второй же массивный мостик я отдал главному повару Ваське. Этот Васька был гладкий щеголеватый молодой человек, и я имел к нему полное доверие. Я решил, что мне надо завести дружбу на кухне, и отказался взять у Васьки деньги. Я сыграл на благородство. Разве можно перевести на деньги такую вещь, как дружба с главным поваром? - «Бери, Вася, а денег мне не надо - покормишь при случае»...
Дело в том, что на лагерной кухне, обслуживающей сотни людей, всегда остается и лишний суп и лишняя каша. Начальство, которое понимает, что повара должны быть сыты, да кстати, и само подъедает из того же лагерного котла, следит зорко, чтобы не переходилась известная граница, чтобы повара не обижали одних зэ-ка и не кормили других по своему усмотрению. Но уследить трудно. С утра представитель Санчасти проверяет качество пищи. Часто бывает, что прогнившая рыба или хлеб из гнилой муки запрещаются к раздаче (но это не значит, что мы получим что-нибудь взамен). При раздаче присутствует дежурный стрелок ВОХРа, и - на Круглице - представитель от заключенных. Эти «контролеры» в первую очередь страшно обжираются и рассматривают свое дежурство, как оказию поесть досыта. В условиях массового и хронического недоедания злоупотребления неустранимы. Ворует каждый причастный к материальным ценностям. Заключенные никогда не получают того, что им полагается по закону. Воруют в центральных складах, воруют при перевозках, воруют в продкаптерке, бухгалтера «продстола» берут со склада все, что им нравится, воруют в кухне и недодают при окошке. Когда повар видит, что за ним наблюдают, он размешивает демонстративным широким жестом котел черпаком и достает из глубины «густое». Работяга зорко следит за рукой повара, но не может помешать ему, если повар на него зол - так набрать черпак, что в нем ничего, кроме воды, не будет.
Поэтому, а также в виду профессиональной солидарности всех работников кухни - никогда не следует с ними спорить...
Я подходил к окну, где стоял Васька, выбрав время, когда не было очереди, стучал в окошко и без слов подавал свой железный котелок с талоном. Вася безучастно и не глядя накладывал мне полный котелок каши и сверху заливал жидкой баландой, чтобы не видно было - и молча возвращал талон. Это значило, что я могу на этот талон получить еще раз ужин.
Никогда не следует просить назойливо «добавки». Так делают только «доходяги» - лагерные нищие. Разве только - чуть заметным движением глаза, уголком рта. Нельзя забывать, что с другой стороны окошка - невидимый тебе - может стоять контролер - дежурный стрелок. Иногда приходит начальница ЧОСа (части особого снабжения) Гордеева, энергичная, нестарая женщина, но с совершенно седыми волосами - как тень, становится сбоку, скрестив руки, и наблюдает. По ее слову могут тебя накормить лишним черпаком или, наоборот, отправить в карцер. Если в такую минуту начинает кто-нибудь под окном делать неуместные дружеские знаки: «накорми, мол, Вася!» - повар с ледяным лицом наливает что полагается и официальным чужим голосом командует: «Следующий!» - Надо взять свои пол-литра баланды, черпачок в 200 грамм жидкой кашицы - и проваливать скорее.
Целую неделю кормил меня Вася по-царски, щедро, доверху наполняя котелок, и я по этому случаю уже заказал себе за 200 гр. хлеба у лагерного жестяника Чарнеги крышку на котелок, чтобы другие не видели моих богатств. Но тут случилось несчастье: у Васи обнаружили туберкулез и положили его в легочный стационар. Больше он на кухню уже не вернулся. Я остался беззубым и голоднее прежнего.
Тогда впервые созрел у меня огромный фурункул на плече, и я потерял возможность одеваться, раздеваться и ходить на работу. До этого были у меня фурункулы на шее и в таких местах, которые не мешали работать. Заболев, я прежде всего постарался, чтобы бригадир выписал мне 100% за работу последнего дня. Увидев фурункул, бригадир сразу вошел в мое положение. Дело в том, что больные, освобожденные от работы, но не положенные в стационар, получают питание по выработке последнего рабочего дня. Поэтому перед освобождением каждый старается всеми правдами и неправдами устроить себе «норму» или «стахановский», и только потом идет к врачу. На нашей Круглице позднее ввели порядок, по которому начисляли освобожденным котел, во избежание махинаций, на основании последних 3 дней до болезни. Вечером я сходил в амбулаторию и получил требуемое освобождение от добрейшего и лояльнейшего врача в мире - Максика. Два часа я стоял в очереди, в густой толпе, пока вызвали мою фамилию. На плече вздулась твердая, красная опухоль величиной со сливу. Ее намазали ихтиолом, забинтовали - и до завтра вечером я был свободен.
Фурункулезом на почве истощения болели в лагере десятки человек. Но все рекорды побил мой фурункулез. Его никоим образом нельзя было ликвидировать. Вечер за вечером я получал освобождение, и каждый раз Максик находил новый фурункул на новом месте. Наконец, когда число фурункулов на моем теле дошло до 16, Максик потерял терпение и решил меня стационировать.
Надо представить себе расположение духа зэ-ка, который возвращается из амбулатории спокойный и довольный, зная, что завтра его кладут в больницу. Гора свалилась у него с плеч. Все, что в бараке, его больше не касается. Рано утром, когда после подъема входит человек из 2 части со списком освобожденных - он уже не подымается на локте и не слушает с тревогой - есть ли его фамилия. На сегодняшний день он не просто «освобожден», а больше того: вычеркнут из списков бригады и переведен в список стационара. Он может теперь спокойно спать, пока в бараке идет обычная сутолока подъема, сборов и выхода на работу. Между 7-ью и 8-ью он может прослушать радиопередачу в бараке - фронтовую сводку, марш духового оркестра и «пионерскую зорьку» - потом сходить за супом, прождать поверку и утреннюю уборку барака. Дневальные моют пол - в это время нельзу никому сходить с нар, где лежат освобожденные или люди из ночной смены. После 9 зэ-ка, назначенный в госпиталь, идет в Санчасть. Там в канцелярии дают ему направление в баню. Все госпитализируемые кучей бредут к Сергею Ивановичу - завбаней. Это - неизбежная формальность. В бане с утра нетоплено и холодно. «Вшей нет?» - спрашивает завбаней Сергей Иванович, черноглазый худой армянин, посаженный на 10 лет. Мы божимся, что вшей нет, но все-таки для порядка приходится раздеться, войти в пустую баню, окатиться из шайки с еле теплой водой - и обратно. Теперь, с бумажкой о пройденной «санобработке», мы уже можем «ложиться». Однако, больничная еда полагается нам только с завтрашнего дня и поэтому мы ждем в бараке до вечера, и только получив ужин, начинаем укладываться в дорогу.
Хирургический барак лежит в самом конце лагеря. Дойдя до низенькой двери, нагруженный всем своим добром, с рюкзаком и деревянным сундучком, я стучусь и меня впускают в крошечные сенцы. Справа - раздаточная, слева - каморка врача: там проживает Максик - доктор Макс Альбертович Розенберг - прекрасный хирург и просвещенный человек. Ввалившись в палату, где с двух сторон лежат на койках больные, я жду терпеливо у двери, пока выйдет «завхоз» - санитар, заведующий материальной частью барака. - «Раздевайся!» Завхоз забирает на хранение мой рюкзак и сундучок, забирает лагерную одежу и выдает пару больничного белья из грубого миткаля с больничным клеймом Санчасти. Важно получить койку поближе к печке, т. к. зимой в стационаре холодно, и больные немилосердно мерзнут под тонким байковым одеялом. Минута, когда человек ложится на сенник, покрытый простыней, и вытягивается во весь рост, счастливо улыбаясь - торжественная минута. Впереди - перспектива ряда мирный дней, пока не залечатся фурункулы. Уже не кормят так хорошо, как в июле, но есть тишина и раздетость, чистота и защита от лагеря. Там - за стенами низенького побеленного барака - кромешный ад вонючих, забитых оборванной и дикой толпой логовищ - там кражи и ссоры, стоны и плач, очереди на морозе под окнами кухни, очереди на разводе, карцер и рабский труд. Сюда не придет нарядчик гнать на работу. Здесь можно отлежаться, собраться с мыслями, прийти в себя.
11 дней лежал я в хирургическом стационаре. После 21/2 лет, проведенных в состоянии непрерывного ошеломления - со времени немецкого вторжения в Польшу, когда огромная волна подхватила меня, вынесла из привычного и нормального мира и занесла «по ту сторону жизни», куда не полагается заглядывать благополучным европейцам, - я, наконец, имел возможность передохнуть и осмыслить, что произошло со мной и с человечеством.
Я был полумертв. Я весь состоял из отчаяния и страха, из упорства и надежды, но эмоциональные реакции такого рода не могли мне помочь на краю гибели. Мне надо было восстановить нормальное самоощущение. Тогда я вспомнил старую теорию Аристотеля о «катарзисе» и стал лечить себя особыми средствами.
Способность и потребность логической мысли вернулась ко мне. Часами я лежал без движения, упорно размышляя. Потом я записывал - не ход мысли, а только последние выводы и формулы. Таким образом, в течение 11 дней была написана небольшая, но очень важная для меня в тогдашнем состоянии работа: «Теория лжи».
Пока добрейший Максик лечил мои фурункулы ланцетом и мазями, я противодействовал процессу душевного распада, который начинался во мне, тем, что превращал окружавшую действительность в предмет спокойного и бесстрастного исследования. Это был мой реванш: «поп ridere, non lugere, sed intelligere». To, что окружало меня, что дыбилось над моей головой, что окутывало удушающим кольцом меня и мое поколение - была ложь. Логическая и психологическая природа лжи, ее культурно-историческое проявление были моей темой на исходе зимы 1942 года.
Ложь существовала всегда. От мимикрии примитивных организмов до дипломатических нот и правительственных деклараций можно построить лестницу лжи, аналогично той, которая привиделась во сне Иакову. Но по лестнице Иакова ангелы восходили на небо, тогда как моя лестница вела в ад и спускались по ней слабые, несчастные и грешные люди. Я различал формы «святой лжи» и «валленродовской лжи», воспетой Мицкевичем - поэтом в стане врага. Я пробивался сквозь строй индивидуальной и коллективной лжи, лжи словесной и сознательной - и такой, которая проникает в глубину подсознания и подчиняет себе разум и чувство человека. Я искал выхода из зачарованного круга лжи и рассказывал себе историю стократных разочарований на этом пути. Я собрал все доводы в пользу лжи, какие выдвинуло наше время, чтобы им противопоставить правду неустрашимого сердца, правду страдания и жертвенного подвига. Я твердо знал, что «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Наконец, я записал с телеграфно-конспективной сжатостью очерк «Теории Лжи», и даже попробовал дать его на прочтение Максику. Автору нужна аудитория. Но Максик, лучший из хирургов, был слабый философ. Он ровно ничего не понял и вернул мне рукопись с замечанием, что это слишком сложно для его чисто-медицинского ума. Мы работали неодинаковыми ланцетами.
Максик вылечил мои фурункулы, а я отплюнулся от моих преследователей работой «о лжи». Я вышел из больницы с намерением жить и не даваться врагам.
К этому времени относится мое знакомство с Семиволосом. Речь идет не о знаменитом Алексее Семиволосе, лауреате сталинской премии, советском герое и руководящем стахановце Донбасса - одной из популярнейших личностей Советского Союза - а о фигуре, гораздо более скромной: его двоюродном брате, который погиб в лагере в 1943 году. Это был человек высокого роста, богатырского сложения, киевский журналист или студент института красной журналистики, - человек советский, с украинским произношением, юмором и любознательностью. Последняя выражалась в том, что он вел со мной бесконечные беседы о странах, где я бывал, и городах, которые я видел. Семиволос снисходительно опекал меня, но я уже научился не брать слишком всерьез ни дружбы, ни вражды советских людей. Уже меня не оскорбляла брань, которая на другой день забывалась начисто, и не обманывала близость, готовая каждую минуту обернуться предательством. Слова их не обязывали и не имели веса, а чувства были легки и мимолетны. Из этих людей был как бы вынут внутренний стержень: режим диктатуры научил их, подобно плющу, виться по внешней железной штанге. Я был очень осторожен с Семиволосом, не будучи уверен - не передает ли он обо мне по начальству. Семиволос оставался и в лагере потенциально членом партии, одним из тех, кто искупал заключением вину или ошибку, старался рассеять подозрения и показать свою беззаветную преданность. Таков был Николай Семиволос, бригадир и стахановец, передовик производства, который в январе 42 года даже был выдвинут на «сокращение срока».
Зима в лагере - всегда тяжелое время. Начало года всегда совпадает с общей депрессией, когда ослабевших и отчаявшихся людей необходимо поддержать, подбодрить к работе с помощью искусной пропаганды. Начало года - время, когда начальство лансирует слухи о «близкой амнистии» или о «пересмотре дел», или о «сокращении сроков на половину», или о том, что заключенных, кому осталось сидеть меньше трех лет, отпустят по домам. Конечно, не всех, а стахановцев, заслуженных работников. В каждом лагпункте переписывают образцовых работников и объявляют им, что Управление Лагеря сочло возможным возбудить по их делу ходатайство о преждевременном освобождении. Электрическое возбуждение проходит по лагерям... Но «старики» цинически смеются и объясняют «молодым», что это старая уловка, повторяемая из года в год. Список кандидатов пойдет в ГУЛАГ в Москву, и на этом дело кончится. В самом деле: если люди хорошо работают в лагерях, как организаторы или добросовестные исполнители, то Советская власть с удовольствием оставит их на месте до скончания века. Ей нужны лагеря и они нужны лагерям. Она совсем не заинтересована, чтобы именно эти столпы лагеря пошли на волю. Неизменно гора пропаганды и слухов о преждевременном освобождении рождает мышь. В редких случаях люди, отсидевшие 5 лет, и которым остается еще столько же - получают скидку в 10 месяцев или полгода. Но и это еще не значит, что лагерь от них отказался. Сплошь и рядом освобождают их без права выезда из района, и если это специалисты - оставляют на прежней работе - уже в качестве «вольных». Семиволос тоже был назначен на преждевременное освобождение - и не дождался его. В самом разгаре его успехов вдруг обнаружилось какое-то мелкое хищение: уличили его в продаже на сторону какого-то лагерного имущества и сразу сняли с работы, переслали на другой лагпункт, передали дело прокурору, и не помог блестящий рекорд лагерной работы. Но в то время, о котором я рассказываю, Сливолос был - лев Круглицы. Неутомимо и энергично работая, он еще находил время читать школьный учебник «Древней истории», лежавший у него под подушкой. Мне было не всегда приятно его соседство, по причине огромных экстра-порций, которые он добывал для себя «по блату» на кухне. Я лежал рядом, но к участию в «экстра-питании» не допускался. Я был голоден беспрерывно, и этот аккуратно прикрытый алюминиевый котелок, стоявший на полке как раз над моей головой, раздражал меня. Часов в 11 вечера Семиволос возвращался из конторы и начинал звенеть котелком, разувшись и сидя по-турецки на верхней наре.
Учебник истории он читал не из интереса к древней Греции и Риму, а просто потому, что другой книжки не нашлось под рукой. Такого же рода было и то участие, которое он во мне принимал. Учебника истории он так и не дочитал, и я недолго удержался в его бригаде. Некоторое время Семиволос занимался мной, как занятной книжкой на иностранном языке, с картинками: быстро пересмотрел картинки и забросил книгу. Все-таки, за 2 недели, которые я работал в его «передовой» бригаде, которая была на особом счету у начальства, он мне достал кое-что из вещей и с-е-н-н-и-к - первый сенник с июня 1940 года. Полтора года я спал на голых досках; теперь я, как пристало старому лагернику, начал обзаводиться «хозяйством».
Наша бригада снабжала Круглицу дровами. Мы шли далеко по глубокому снегу. Тогда обнаружилось прискорбное обстоятельство: я не мог угнаться за бригадой. Я выходил в первой паре. Мы растягивались цепочкой, и скоро я оказывался в середине, а потом в хвосте бригады. Усердно и торопливо месил я ногами снег, стараясь попасть ногами в следы идущих впереди, но ноги не слушались. Спустя 3 месяца это явление стало всеобщим: за весну все ослабели, и ноги перестали слушаться у большинства. Но тогда еще удивлялись - те самые люди, которым предстояло пройти до конца путь голодного истощения. Удивлялись и порицали меня: «Работать надо! Работать надо!»
Я и без них знал, что надо работать, чтобы выжить в лагере. Но я уже видел, что ничто - никакое усилие не гарантирует нам спасения жизни. Я ненавидел этот вечный лагерный припев, эту единственную заповедь советского Синая, эту зловещую каторжную мудрость, которую день и ночь вколачивали в мозги и души миллионов рабов, пока она не становилась их единственным духовным достоянием. «Не рассуждать! это уже сделали за вас другие! ваше дело - работать!» - Я, человек Запада, знал, что надо прежде всего быть человеком. Только свободный человек знает радость свободного труда, и для него этот труд имеет смысл, потому что служит цели, которую он выбирает и в которую верит. - В противном случае лозунг «работать надо», который набожно и слепо повторяют миллионы темных людей в Советском Союзе, как: судьбу, как предназначение, как неотвратимый фатум их жалкой жизни, есть лошадиная мудрость, одинаково применимая к людям и животным. Эта мудрость уравнивала в достоинстве коня и возчика в лагере, сливала их в одно тело центавра, в одно понятие «рабгужсилы»! - Я сам по себе ничего не стоил, мое право на жизнь измерялось процентами рабочей нормы. - «Кто не работает, тот не ест» - это была вторая угроза, которая висела над нами. Я вспомнил:, как в занятом Львове, в сентябре 1939 года развесили по улицам и бульварам щиты с этой надписью, которая казалась откровением высшей справедливости. Неправда! Труд из-под палки, труд по принуждению не спасает человечество. Достаточно, если мы провозгласим лозунг: «кто работает, тот ест». Как лее я тосковал в Круглице по моей родине, по стране, где каждый работающий сыт, и где поэтому не считают хлеба иждивенцам семьи и общества! Здесь и тот, кто работал - не был сыт. Разница между мной - слабым работником - и Семиволосом, стахановцем - была только в степени нужды.
Было неоспоримо, что масса лагерных заключенных по мере того, как она теряла физические силы, переставала хотеть работать. Не это было удивительно, а то, что еще встречались люди, у которых не исчезла потребность работы. Такая потребность есть естественный результат здоровья, накопленных сил и нормальной трудоспособности. Наслаждение работой знакомо каждому, кто умеет что-нибудь делать - умеет по-настоящеему, как мастер в своем деле. Нас заставляли делать го, чего мы не умели, а потом обвиняли нас в том, что мы не умеем, потому что не хотим работать. Но в действительности наше нехотение означало только, что у нас нет сил и нет возможности работать. Как немыслим скрипач, который отказывается от скрипки, так немыслим физически здоровый и сильный человек, которого не тянет к работе. Мы жили в лагерях в атмосфере преступления. Но преступлением не было отвращение и страх пред работой людей, еле волочивших ноги от слабости, - преступлением была та социальная система, которая право на труд превратила в обязанность навязанного труда, - лагерная система, которая впервые объяснила мне явление вредительства. Я никогда не был вредителем в лагере, но я понял, как возникает циничное и вредительское отношение к работе у людей, полных смертельной ненависти к ярму, которое на них надели, и к упряжке, которую их заставили носить против воли.
Обо всем этом я, конечно, не разговаривал с Семиволосом. Человек этот был слишком примитивно-здоров, чтобы быть мне товарищем. Вдруг вечером, поев на наре свой бригадирский ужин, он мне протянул свой котелок и сказал небрежно и лениво, думая о чем-то другом:
- Марголин, вымойте мой котелок...
Я не понял, в чем дело - не понял, что между мной и им нет равенства, и я должен оказывать ему подобные мелкие услуги, чтобы оправдать свое существование в его великолепной бригаде, - и ответил простодушно:
- Нет, я уж свой вымыл, и не схожу больше... Через день Семиволос, не говоря мне ни слова, выписал мне на «рабочем сведении» первый (штрафной) котел и 400 грамм хлеба. Вся бригада получала по 600 грамм. Когда это повторилось на второй и третий день, я пошел к начальнику работ и попросил дать мне другую работу.
Начальник работ был у нас Александр Иванович - высокий и худой русский поляк со впалыми щеками и чеховской бородкой - мягкий и участливый человек, никогда не подымавший голоса и всеми уважаемый. Несмотря на то, что он никогда не говорил с нами по-польски и, может быть, уже не владел этим языком - он относился особенно внимательно к западникам - внимательно до жалостливости. Александру Ивановичу я объяснил, что мне трудно ходить в лес за несколько километров. Он покивал головой, подумал и сказал:
- Выходите завтра с пятой бригадой на сель-хоз... на горшечную фабрику...
Так я стал горшечником.
В пятой бригаде было человек сорок. Наполовину она состояла из женщин, работавших в теплицах совхоза, огородниц, подготовлявших рассаду капусты и других овощей. Эти женщины проводили свой рабочий день в парниковом тепле, носили чистые новые бушлаты и сапоги, ходили в мужских ушанках, но мужская одежда сидела на них аккуратнее, чем на мужчинах, и с лиц их, преждевременно поблекших и усталых, еще не стерлись следы городского происхождения. Мне нельзя было входить в большую теплицу, где висели часы - известные по всему Сов. Союзу стандартные часы с зеленым квадратным циферблатом и двумя гирьками на цепочке, - но я часто заглядывал узнать время. Если я не натыкался на стрелка, то Тася - немолодая, похожая на учительницу женщина с неторопливыми мягкими движениями и черными грустными глазами - не прогоняла меня, и я мог постоять минутку в тепле. Впрочем, пока я был горшечником, мне не нужно было этого.
Выходя из ворот лагеря, мы пересекали улицу поселка, проходили между разбросанных домиков - в одном был «ларек» для вольных, в другом жила Валентина Васильевна, главврач Круглицкого Сангородка - минуя пожарный сарай, оставляли вправо постройки ЦТРМ - шли полем, и через приоткрытые ворота входили на территорию сельхоза. Вся бригада, замыкаемая стрелком с ружьем, шла на центральный двор, откуда группками расходились на разные работы. Мы, горшечники, сворачивали, не доходя двора, и брели гуськом в свою сторону, метров за 300 в конец сельхоза. Темно еще было, когда мы доходили до двери убогой развалившейся лачуги, где спал ночью сторож. Ему полагалось натопить к нашему приходу, но когда мы вступали, спотыкаясь в темноте и пробираясь ощупью - холодище веял нам навстречу. Крошечная избушка на курьих ножках, с разбитым окошком, с земляным неровным полом, успела простыть; сторож стопил все поленья, приготовленные с вечера на ночь. В темноте мы садились на опрокинутые деревянные ящики и молчали, пока серый рассвет не проступал в окошке. Тогда выходили на двор, поискать кусок дерева на растопку, кто-нибудь отправлялся с салазками на центральный двор раздобыть дров, стащить в крайнем случае, - и, затопив печку, становились к станкам.
Мы лепили горшочки для капустной рассады. Среди избушки стояла низкая глиняная печурка-плита. Вдоль стен на уровне груди тянулись полки, засыпанные землей. У полок стояли разбитые старые станки. Их было 4-5. Они выглядели как узкие деревянные ступы, и в каждый была вставлена металлическая чашка. В эту чашку мы набивали руками землю с полки, потом туда же вставляли массивный металлический стакан на рукоятке и, нажав на ручку, несколько раз сильно вращали стакан в обе стороны. Между стаканом и стенками чашки выдавливался ладный горшочек или стаканчик. На дне чашки был стержень, на который надевался стакан, имевший отверстие на дне в центре. Края горшочка мы выравнивали ладонью. Получался гладкий плотный стаканчик для капустной рассады, с круглой дыркой внизу.
Норма на эти стаканчики была огромная, но мы все имели скидку от Санчасти, и от нас требовалось всего лишь по 500 штук с человека. Работая по 10 часов в день, мы должны были делать по 50 штук в час, чтобы выполнить свою норму. У каждого под рукой стояли плоские деревянные ящички, куда мы и укладывали один к одному свои стаканчики, как дети, лепящие бабки. Каждый час приезжала с санками Нинка, девчонка из сушилки, и отвозила нашу продукцию. В сушилке вели счет - от кого сколько принято - и браковали негодные стаканчики.
Пока 4-5 лепило, двое занималось подготовкой земли. Смесь, из которой лепили стаканчики, состояла из 3 частей: садовой земли, одной части торфа и одной части лошадиного и коровьего помета. С другой стороны печки на полу была насыпана огромная куча этих «материалов», а под потолком на наре лежала садовая земля и торф, которые «оттаивали» за ночь. Одноглазый поляк Ганько считался спецом по заготовлению смеси. Он начинал день с того, что деревянной лопатой обрушивал с нары на пол все, что было. Часов в 9 возчик привозил со скотного двора навоз. К этому времени уже в печи трещало, дым валил через расселины, и мы все работали, сбросив бушлаты. Это считалось прекрасной работой, - в тепле и в закрытом помещении - всем на зависть. Мы были довольны. За нашей спиной в котелках клокотала вода. По другую сторону печи полуголый Ганько ворочал лопатой навоз. Мы работали стоя, равномерно и быстро. Одним движением набирали в обе ладони мягкую желто-бурую навозную массу - не слишком мало и не слишком много, а ровно столько, сколько вмещает чашка - вторым движением наполняли чашку, - вставляли стакан так ловко, что он сразу надевался дыркой на стержень - потом выжимали сильно два полных оборота, один вправо, другой - влево, выбрасывали стакан и осторожно вынимали земляной горшочек. Если смесь Ганько не годилась, или земля была слишком влажна, или было ее слишком мало в чашке, или мы недостаточно энергично выжали стаканчик, - он не держался в руке и рассыпался. Стенки его надламывались, из них торчали соломинки, и Нинка, вернувшись из сушилки, объявляла:
- Галина Михайловна сердются, - половину стаканчиков забраковала!
А за ней на пороге являлась Галина Михайловна - заключенная полька из окрестностей Львова - худая, со встревоженным лицом: - Уж я не знаю, что у вас сегодня такое творится: стаканчики не держатся!
Рядом со мной работал бургомистр из Копичинец и Ячко, тот самый заносчивый молодой поляк, который так гордо держался на лесоповале в прошлую онежскую зиму. Теперь он исхудал и страшно изменился лицом, от него осталась только тень. Его, как и меня, исключили из амнистии. Мы торопились, лепили не разгибаясь с утра до вечера, и еле-еле успевали вылепить норму. Иногда бригада уже строилась у ворот, а мы еще кончали последний десяток и выбегали на дорогу, едва умыв руки и не отдохнув. Зато обе женщины, работавшие с нами, кончали свои 500 уже в половине пятого и до 6 часов сидели в тепле, отдыхая.
Одна была - пожилая низенькая проститутка с хриплым мужским голосом, коренастая, вороватая и гнилозубая, которая лучше всех работала в нашей компании, скорее всех умела раздобыть себе на цыгарку, захватить лучший станок и лучшее место между печью и окном. С Лизаветой Ивановной не стоило ссориться: язык у ней был острее всякой бритвы, и в выборе слов она не стеснялась. Ей только помела не хватало, чтобы выглядеть как Баба-Яга в ступе. Ее любимцем был одноглазый Ганько. К прочим она относилась с полным презрением, посылала нас за дровами, за ведром снегу на плиту, или совала в руки облезлый веник: «подмети, пока что!».
Нинка, несмотря на свою молодость, могла многое рассказать. Это беспризорное дитя Украины, рожденное на заре НЭПа, воспиталось в доме ксендза, а потом в еврейской семье, она прошла через советский детдом, а в 39 году попала с Красной Армией во Львов, что и было кульминационным пунктом ее биографии. Во Львове она нашла себе покровителя в лице самого Козырева - председателя Львовского горкома, хозяина города. Чего лучше? - Но каким-то таинственным образом из этого вытекло 3 года в исправительно-трудовом лагере.
Весь лагерь знал, что Нинка имеет мощного покровителя на воле, что лагерь - недоразумение, и что Нинка на самом деле - пламенная дочь трудового народа. На нас, горшечников, Нинка подозрительно смотрела блестящими карими глазами и все допытывалась: «Ты что сейчас говорил по-польски? Ты думаешь, я не понимаю?» - и грозила: - «Вот пойду сегодня к уполномоченному, все донесу, о чем шушукаетесь! Меня уполномоченный очень уважает!» - И это была правда: Нинка часто посещала уполномоченного, и потому в ее присутствии мы все ощущали веяние власти и старались выражаться лойяльно и патриотично. Нинка проверяла качество нашей работы, и каждый неудавшийся стаканчик внушал ей подозрение: «не вредитель ли?» Я, поэтому, со страху и чтобы снискать расположение Нинки, наврал ей, что знал во Львове самого Козырева, и что это человек золотой. Просил Нинку по освобождении передать Козыреву поклон от меня: «Он меня помнит наверно!» - Нинка просияла, и я сразу стал в ее глазах благонадежным.
Лизавета Ивановна и Нинка были приятельницы. Их, кроме общего советского происхождения, объединяла также и профессиональная близость - несравненная быстрота, с которой они делали стаканчики. Бургомистр из Копичинец, с пухлым лицом и круглой головой кота, пользовался их расположением, и они часто отдавали ему свой полдник: «ешь, старый!» В перерыве Лизавета Ивановна, ядреная баба, несмотря на возраст, приваливалась к Ганько, толкала его плечом, хохотала, и они обменивались серией соленых мужицких прибауток.
Люди менялись часто. Несколько дней работала при станке девушка с тонким и нервным лицом, с черными еврейскими глазами. Я вспомнил, что видел ее в стационаре. Она приходила туда мыть полы. Это лицо тогда же мне бросилось в глаза: родное лицо, интимно свое - таких девушек я видел в кибуцах Палестины, в синих блузках и платочках, - или в аудиториях Сорбонны и Льежа. - Откуда она взялась здесь? В стационаре мы познакомились: ее звали Агронская - киевская курсистка, из советской еврейской семьи. Как она забавно удивилась - не могла понять - когда я ей сказал, что предпочитаю долю чистильщика сапог в Тель-Авиве счастью комиссара в Кремле... В обеденном перерыве мы с ней сели вместе. Ганько принес в ведре полдник на горшечников. Нам роздали по 250 грамм супу. Агронская вынула кусок хлеба. - «Где ваш хлеб?» - А у меня не было хлеба, я в тот день снова получил 400 грамм, и нехватило на полдник.
Киевлянка, «девушка из кибуца», спокойно разломила свой кусок хлеба надвое и протянула мне половину. Я не понял сразу, что она делает. Как она это сделала! Так естественно и просто, так «между прочим», как будто это было только привычным исполнением какого-то общепринятого долга вежливости, о чем и не говорят и не думают особенно, - как будто мы сидели за чайным столом в доме ее родителей, и она мне подвинула сахарницу к чаю. Но это был лагерь, где люди перегрызали друг другу глотку за 100 грамм хлеба. Я взял хлеб - я был слишком голоден, чтобы отказаться, - и посмотрел на нее. Вдруг у меня задрожали губы...
Агронская не прочтет этой книги и не узнает никогда, как свято и верно я помню о куске хлеба, которым она поделилась со мной в лагере. Одним движением руки она крепко поддержала меня. - Слово «товарищ» потеряло всякий смысл в Советском Союзе. Но есть в каждой нормальной - и в каждой ненормальной человеческой жизни свои особые мгновения, иногда так малозначущие и незаметные, как булавочная головка, - от которых радиосила и непрерывный свет излучаются годами в глубину нашего существа. - По тому, как она мне подала хлеб, я знал, что Агронская - прекрасный человек, и так как я знал, кроме того, что она - самый обыкновенный массовый человек, я снова верил в человека и в скрытый смысл его существования.
Два года позже рассказали мне, что Агронская беременна, и ее отправляют в особый лагерь для родящих. Хрупкая фигурка с огромными черными еврейскими глазами снова встала передо мной, и сердце сжалось: что сделал с ней лагерь? На счастье, отец ее ребенка не был ни урка, ни лагерный парикмахер, ни комендант лагеря. Это был человек достойный ее, и в пределах лагеря они оба не могли сделать лучшего выбора.
Так как лепить горшки считалось слишком легким, женским занятием, то мне скоро пришлось уступить теплое местечко у печки и перейти в помощники к одноглазому Ганько. На этой работе я оставался целый, месяц, пока мы не наделали больше стаканчиков, чем надо было, и фабрику закрыли.
Ганько был в марте отправлен на «54-ый» - так назывался пункт, где группировали поляков, отправляемых по амнистии. Сестра Ганько находилась на «вольном поселении» в Алтайском крае, и старик, расфрантившись, в новом костюме и картузе, готовился к поездке на далекий Алтай, где по слухам было что есть. Я пожелал ему счастливого пути. Но на 54-ом квадрате не оказалось вагонов. В ожидании вагонов Ганько умер - накануне освобождения.
В тот месяц мы работали с ним немного, но тяжело. С утра мы разгребали снег при парниковых ямах, где были пласты так называемой «садовой земли». Потом мы долбили мерзлую землю мотыкой и ломом. Но я уже не мог работать ломом: поднять массивный железный дом мне было трудно, и мой удар не имел силы. Полчаса работы - и я выбывал из строя. Ганько лучше меня владел ломом. После многих горьких с его стороны замечаний и протестов, мы поделили работу: он долбил землю, а я возил ее в санках метров за 300 в нашу мастерскую. Мы нагружали огромную круглую корзину на салазки, я, напрягаясь всем телом, дергал, как рабочий конь, Ганько помогал сзади, и салазки трогались, скрипя по снегу. Пять рейсов было ежедневно. Я знал каждый метр пути, каждый подъем и поворот, спуск и ямку. Весь в поту, надрываясь в веревочной упряжи, я последним порывом сил доволакивал свою ношу до двери нашей избушки. У меня еще были силы снять огромную корзину и дотащить ее до порога. Потом горшечники выходили помочь мне перебросить корзину через порог.
В пути было одно место, на подъеме, где моих сил нехватало. По четверть часа я мучился в этом месте, втягивая груз на гору и зная, что нет другого исхода. В такие минуты, среди яркого зимнего солнца, играющего на чистом снегу, безнадежно потерянный в пустынном и страшном мире, превращенный в рабочую скотину, я испытывал настоящие пароксизмы унижения и бешенства. Никто не слышал меня, и я громко проклинал судьбу, людей, свою нечеловеческую работу и мертвый груз, который не поддавался, как я ни рвался вперед на постромках. Еще хуже было, когда на повороте показывался возчик. Тогда я должен был немедленно сбросить санки с дороги, чтобы дать ему проехать - мои санки слетали в канаву, в глубокий снег, сворачивались на бок, - и потом я их вытаскивал на дорогу, отдельно санки и корзину с землей.
Такая работа продолжалась до часу. После отдыха мы начинали вдвоем толочь лопатами торф и навоз на полу избушки. Мерзлую землю мы нагружали лопатами на верхнюю нару, чтобы она отошла за ночь. Потом мы растягивали «грохот» - рваную проволочную сетку в деревянной раме, и пропускали через нее нашу смесь, отбрасывая солому, камни и мерзлые глыбы. Потом я убирал сетку, и на полу оставалась готовая для рассыпки смесь. Я носил ее в деревянном ящике вдоль станков и насыпал каждому горшечнику запас земли под руку.
При этой работе мы были черны, засыпаны землей и вымазаны навозом, но зато днем от часу до трех имели полный отдых и ложились спать на земляном полу при печке, подложив полено под голову.
В сумерки вызывали нас строиться на дорогу. Мы умывались водой с плиты и выходили по одному. Бригада уже стояла у ворот и нетерпеливо поджидала нас. Нам кричали: «скорее!» Но мы шли очень медленно. Смертельное изнеможение сковывало наши члены. Мы шли через силу, с напряжением переставляя ноги, и угрюмо молчали.
Глава 24. Иван Александрович Кузнецов
В 1942 году жило трое Кузнецовых в Сангородке Круглица, и все - Иваны. О всех не расскажешь. Но об одном, об Иване Александровиче, я хочу рассказать. Это был мой задушевный приятель. И мой рассказ не повредит ему на том свете.
Иван Александрович был много старше меня: в 1942 году ему было 59 лет. Еще год - и ему бы стукнуло 60, и дали бы ему инвалидность 2-ой категории. Старше 60 лет не гонят на работы: они работают по своему желанию. Иван Александрович был довольно крепок. Внешний вид в этом возрасте обманчив, и физическое равновесие неустойчиво. Тело уже не имеет резервов силы. Один толчок - и нет зэ-ка.
Я познакомился с Иваном Александровичем в 9 бараке. Мы с ним сблизились на почве профессиональной: два книжника, два словесника. Я кончил Берлинский университет и был человек западный. Иван Александрович кончил Учительский институт в Воронеже и преподавал еще в царские времена русский язык и литературу. После революции он поселился в Рязанской области, в одной из деревень, где находилась школа 2-ой ступени или «десятилетка». Такие школы, соответствующие нашим гимназиям, не обязательно находятся в городах. Иван Александрович был учителем гимназии в деревне. Был у него брат-врач и сестра-колхозница. О сыне своем Иван Александрович не любил рассказывать и никогда о нем не упоминал, точно и не было его.
Деревня, где он жил безвыездно 20 лет, находилась в районе Лебедяни. Лебедянь - станция железной дороги и городишко Рязанской области, глубочайшая русская провинция в самом сердце центральной России. За всю свою деревенскую жизнь Кузнецов всего один раз съездил в Москву, на какие-то дополнительные учительские летние курсы. Это был человек мирный, провинциальный и нетребовательный. 400 рублей в месяц, скромная комнатка в деревенском домике его вполне удовлетворяли. Окна комнаты Кузнецова выходили в палисадник. Варила ему сестра-колхозница. Во дворе у сестры были куры и овцы, под окном рос подсолнух. Я подробно расспросил у Ивана Александровича, какой толк от овцы, сколько шерсти, сколько мяса и какой за ней уход. В лагере все такие вещи становятся интересны. Иван Александрович объяснял обстоятельно.
Летом Иван Александрович часто отправлялся за покупками в Лебедянь. Дороги было 16 километров по тракту. Понятно, он разувался, обувь перевешивал через плечо и шел босиком до города, а на окраине снова обувался - по-городскому.
«Возьмешь с собой в город хлеба, в котомку огурцов, молока бутылку и ветчины грамм так 400, - рассказывал Иван Александрович, - и идешь не спеша - приятно!»
У него была манера выговаривать слово «при-ятно!» сладостно жмурясь и причмокивая мясистыми губами, выпевать это слово с особой интонацией от самого сердца.
Почему такой человек должен был попасть в исправительно-трудовой лагерь - понять нетрудно. Это был человек старого поколения, а специальность у него оказалась, как назло, - идеологическая: русская словесность! Конечно, Иван Александрович преподавал лояльно и точно по учебникам Наркомпроса, где и Багрицкий, и Маяковский, - но все же это был старый учитель - еще при Николае учил по Сиповскому и Саводнику. Узнав от меня, что я на школьной скамье тоже проходил эти учебники, старик прямо обрадовался. «Что ни говорите, - заметил он, - а тогда были солидные учебники - серьезные!» Разве только под Лебедянью в деревне и мог такой словесник преподавать 20 лет. Но пришло его время, и коммунист заведующий предложил тов. Кузнецову перейти на преподавание физики. Иван Александрович обиделся и наотрез отказался. Но отказываться не полагается. Возник конфликт. Стали на Ивана Александровича смотреть волком. Поговорили с кем следует. Записали Ивана Александровича где следует - обратили внимание. Такой человек в качестве воспитателя сталинской молодежи нетерпим. И в один прекрасный день, ровно за 5 лет до нашей встречи, пришли к нему с обыском. Перерыли книжки и забрали, среди прочего, «Жизнь Христа» Ренана как доказательство клерикального образа мысли: советский педагог, а чем интересуется! И дали 10 лет.
Первый год еще ему посылали посылки от времени до времени. Но при мне Иван Александрович уже не получал посылок. Фатальный 42-й год мы проголодали вместе. Но я был моложе на 20 лет. За мной было всего 2 года советской каторги, а за ним - 5. Наконец, я находил способы тайно подкормиться в лагере сверх положенного по закону, а Ивана Александровича никто не подкармливал. Он крепился сколько мог, но весной 43 года умер от голода.
Нет в этом случае ровно ничего замечательного. Так умирают в лагере, промучившись несколько лет, анонимные зэка, над которыми никто не плачет и о которых никто не помнит. Никто не устраивает показательных процессов по этому поводу и не произносит патетиче ских речей. Иван Александрович умер не в Берген-Бельзене и не в Маутхаузене. В том же 1943 году умерли в лагерях НКВД несчетные толпы. Этих миллионов никто не считает, и одно упоминание о них уже считается грубым нарушением такта и неуважением к Советской власти.
Рассказ об Иване Александровиче есть чистейший парадокс, ирония судьбы: всю жизнь прожил в захолустье, умер в лагере, а после смерти повествуют о нем, словно он был важной особой. Но для меня Иван Александрович - очень важная особа. Это человек не выдуманный, а настоящий, и таких, как он, погибло и еще погибнет в лагерях советских и несоветских, но главным образом советских - несчитанные миллионы. Организация Объединенных Наций, Лига Защиты Прав Человека, международный контроль не занимаются такими пустяками, которые целиком предоставлены ведению советского НКВД. «Человек - это звучит гордо» - это пышное изречение Максима Горького относится к человеку с большой буквы. Иван же Александрович был человек с маленькой буквы, и рассказать о нем следует не для того, чтобы разжалобить читателя, а чтобы он знал цену высоких слов и агитационных плакатов, даже когда они подписаны мировыми именами.
Близость со мной имела для Кузнецова одно неприятное следствие. Все его стали считать евреем. С отстающими ушами и лысым лбом, с крупным носом и толстыми губами, он и в самом деле походил на еврея, но никто не обратил бы на это внимания, пока он не стал лазить ко мне на верхнюю нару. Мы были вместе - два сапога пара: оба тощие, оба в очках, перевязанных веревочкой, оба по три недели небритые, оба «ученые», оба представляли ненавистный в лагере тип беспомощного интеллигента, оба не ругались никогда. Немудрено, что меня с ним путали, и Кузнецова скоро произвели в евреи, на что он только улыбался, махал рукой, но не спорил. При всем внешнем сходстве только русские, лишенные расового чутья, могли считать Кузнецова евреем. Никакой еврей не нашел бы в этом костистом с желваками лице, в манере говорить и держаться ничего семитского. Я ценил в Кузнецове мягкость характера, архаическую вежливость и самообладание: никогда он не раздражался, и ни разу я не слышал из его уст грубого слова. Этот всеми оставленный и забытый старик имел в себе соединение педантизма и потребности притулиться к кому-нибудь и порассуждать на необыкновенные темы. Неукоснительный лагерный педантизм выражался в том, что у него всегда был запас всяких веревочек, и каждая веревочка на месте, и каждая дырочка сразу заплатана, над нарой несчетные гвоздики, и отдельно развешаны тряпочки: одна - очки вытирать, другая - нос, а третья - полотенце, четвертая - пыль сметать, пятая - шею повязывать, а отдельно мешочек с иглой и ниткой, отдельно пуговицы. В игле он мне не отказывал, но я сам старался не одалживать, видя, что это для него - большое беспокойство и нарушение порядка. Единственный же раз, когда я ее одолжил, я ее потерял, - и много было волнений, пока я достал у Галины Михайловны для него другую иголку. Читать ему уже было трудно, но зато мы разговаривали. Вечером после работы или с утра в нерабочий день Иван Александрович начинал мне сигнализировать со своего места на верхней наре у противоположной стены, помахивал рукой и запрашивал знаками: «Можно ли в гости?» Потом влезал, располагался полулежа, и начиналась беседа.
У Ивана Александровича было своеобразное направление мыслей, и я никогда не мог предвидеть, какой вопрос он мне задаст. «Юлий Борисович, - начинал он баском, с видом заговорщика и сообщника, - мне нужно ваше просвещенное мнение по важному вопросу: совместим ли мистицизм с христианством?» В другой раз мы разговаривали о «патристике», и, чтоб удовлетворить его любопытство, я должен был собрать из углов памяти все крохи моих студенческих знаний и сведений об отцах церкви. В третий раз Иван Александрович спросил меня, что я думаю об изречении: «Мне отмщение и Аз воздам».
Все эти разговоры имели форму монологов. Я - до ареста и прибытия в Россию человек, скорее, молчаливый - начал в лагере ощущать болезненную потребность говорить вслух, от которой так и не вылечился до самого конца моего приключения. Боюсь, что и эта книга представляет собой не что иное, как конечную фазу и заключение лагерной потребности. Иван Александрович слушал торжественно, как старый меломан, которому преподнесли... 10 симфонию Бетховена. Оказалось, что в библиотеке под Лебедянью он хранил полное собрание сочинений Д. С. Мережковского. О Мережковском он отзывался с глубоким уважением - это был его maitre и духовный руководитель. Я в гимназические годы тоже читал немало Мережковского. Было о чем поговорить. Затем обсуждались военные новости. В области политики я всегда просил Ивана Александровича быть сугубо осторожным. Советское правительство называлось в нашем условном шифре «Ватикан». «Ватикан-то наш, - говорил с огорчением старый учитель, - все при своем держится. Дадут они нам после войны передохнуть немного, как вы думаете?» Как и все русские люди, Кузнецов не сомневался, что Гитлера побьют. «Держится ли Ватикан?» - этот вопрос относился исключительно к внутреннему режиму диктатуры. Я утешал его, что после войны многое изменится в этом смысле к лучшему. Но Иван Александрович не предавался иллюзиям. «Вряд ли мы доживем, - говорил он, - да и не верится что-то, глядя на наших дикообразов...». Тут я смотрел на него укоризненно, и он поправлялся: «Извините, я хотел сказать „Ватикан“».
Я старался его ободрить и рисовал ему чудесную картину. Война кончена. Демократия победила. Народы и царства входят в свои берега. Освободив поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын, французов и прочих, Красная Армия со славой возвращается в свои пределы, не желая ничего чужого. Народы всего мира благодарны. Советский Союз открывает новую эру мира в международных отношениях. Теперь уже советским гражданам, в особенности таким, как Иван Александрович, старшего возраста, можно посещать заграницу. Я приглашаю Ивана Александровича к себе в Палестину. «А деньги откуда? -спрашивает пугливо и недоверчиво Иван Александрович. - Морем-то через Константинополь и Грецию ехать - это денег уйма!» Но я рукой отметал это препятствие, как несущественное, и обещал прислать и шифскарту, и денег на проезд. Тут старик сдавался и разнеживался, а я ему живописал рай на земле: Иерусалим, и Вифлеем, и апельсиновые рощи в приморских долинах...
Отсюда мы переходили к разговорам на гастрономически-бытовые темы. Иван Александрович, например, задавал мне такой вопрос: что такое шницель? Об этом блюде он знал только из книг. Это меня не удивляло. Советские люди, с которыми мы жили в лагере - а все заключенные в нем были, конечно, люди советские, и полицейская дисквалификация ничего в этом факте не меняла, - все они интересовались не демократическими свободами и политическими идеями Запада, а тем, как зарабатывают, как одеваются и едят. Я должен был рассказывать Ивану Александровичу, как у меня накрывали к столу утром, из чего состоял завтрак и обед, и мое бывшее скромное существование в городской квартире из 3-х комнат преображалось в этих рассказах в волшебный эпос. Молоко, которое с утра само появлялось под дверью, телефонный звонок, по которому продукты из лавки в том же доме доставлялись на кухню - без стояния в очереди, - или чудо газовой печи в ванной комнате - все это мой собеседник воспринимал с волнением, со вздохом: «Пожить бы так хоть с месяц». Мы дошли с Иваном Александровичем до того, что тосковали, как дети, не по лучшим временам, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», - а, просто-напросто, по теплому ватерклозету в коридоре, где стенки выложены кафелем, а сбоку висит эта смешная катушка бумаги с зеркальцем. Услышав про зеркальце, Иван Александрович смеялся от всего сердца, открыв беззубый рот, и лицом был до странности похож на верблюда. Понятно, посторонние не допускались к этим секретным беседам.
С посторонними мы никогда не были уверены, чем кончится разговор. Когда я сказал ленинградскому повару Иванову, человеку серьезному и солидному, что за границей после обеда подают кофе, ликер и сыр, повар вдруг рассердился не на шутку: «Сыр! - обиделся он. - Сыр? Вы что, меня за дурака считаете?» Иван Александрович зато имел ко мне полное доверие и слушал с увлечением, что бы я ни рассказывал.
Однако если во время беседы - все равно о гностицизме или о шницеле - проносилась по бараку весть, что под окном кухни выдают добавку, Иван Александрович сразу переставал слушать, обрывал разговор на полуслове, торопливо бормотал: «...извините, я сейчас...» - и срывался с нары прочь. Слова не выдерживали конкуренции супа. Все наши разговоры и мудрость веков, всю дружбу и сердечность он бы, конечно, отдал за кружку супа не задумываясь. Тут и сравнивать было нечего. Я как-то попросил Ивана Александровича перед выходом на работу получить на кухне и для меня завтрак. Это часто практиковалось: соседи ходили в очередь попеременно получать на двоих, чтобы не стоять на морозе обоим. Иван Александрович взял с готовностью мой котелок и талон и отправился в очередь. Увы! Он не смог совладать с искушением. По дороге он «споткнулся» и вылил половину моего супа. Вылилось все густое, и осталась только вода. Я оторопел, но не обиделся: мы были в лагере. И уже больше никогда не поручал ему получать за меня суп.
Вот идет от окошка кухни Мария Францевна, старуха с благообразным и строгим, внушающим уважение лицом. Это русская немка - умница и человек большой культуры. На воле у нее внуки, в прошлом красивая и содержательная жизнь. Поговорить с ней - удовольствие, и мы все оказываем Марии Францевне почет. Она живет при стационаре, там убирает и ведет хозяйство, обслуживает женщин-врачей, которые ее «поддерживают». Теперь она несет этим врачам котелки с обедом. Несет бережно, мелким старческим шагом, чтоб не пролить. Зашла за угол барака, но не знает, что я за ней слежу. Останавливается, вынимает деревянную ложку. Боязливо оглядывается, приоткрывает чужой котелок... и я отворачиваюсь в сторону, чтобы не смотреть. Бедная старая бабушка! Голод сильнее достоинства. Не ей надо стыдиться, а людям, которые довели ее до такого состояния.
Существует специфическая лагерная прожорливость: когда тело разбито, единственное доступное сексуальное наслаждение доставляет еда. Вскоре голод довел нас до того, что мы стали искусственно продолжать, растягивать, размазывать процесс приема пищи. Нормально можно было съесть в 5 минут. Мы ели час, два часа. Ставили котелки на угли в печке барака (какая очередь и давка перед печкой!), рукавицей доставали разожженный до красна котелок и несли к столу посреди барака. В котелке все было разом: литр лагерной баланды, черпачок кашицы, мясная «тютелька» или кусок рыбы. Крошили туда же кусок хлеба, и он, развариваясь, давал густой белый навар. Если был «цинготный», в виде 200 грамм сдобренных постным маслом овощей (брюква, капуста, турнепс), то и цинготный шел туда же, и все-таки еще было мало. Мы доливали воды, пока 2-хлитровый котелок был полон. Надо было видеть, как Иван Александрович приступал к священнодействию над котелком. В этот момент лицо его не было лицом нормального человека: оно было полно сосредоточенного и тусклого огня, оно трепетало от болезненного возбуждения. Он старался продлить как можно дольше наслаждение едой. Он не ел, а забавлялся, играл едой, он гладил ложкой поверхность варева, подбирал на ложку кусочки и ронял, набирал полную ложку и отливал половину, чтобы не сразу съесть, чтоб не вернуться слишком быстро в то безнадежно-голодное состояние, в котором мы пребывали в промежутках от одного ужина до другого. Ему было просто жалко уничтожить это богатство, руки у него дрожали, тягостно было смотреть на это старческое сладострастие, на влажные чувственные губы, на бессмысленным туманом подернутые глаза. Теперь уже с ним нельзя было разго варивать! Он не слышал, не отвечал, сердился, что отвлекают его в такую минуту. По мере того как котелок пустел, он начинал явно тосковать, огорчаться... вот и конец уже. И съев, все еще не мог успокоиться: набирал в миску горячей воды, крошил в нее остаток хлеба. И когда все уже было кончено - до последней крошки, - еще сидел некоторое время ошеломленный, с видом какого-то горестного изумления на костлявом худом лице.
Иван Александрович был мне нужен. В его приветливом и сердечном стариковском обществе я отдыхал, вспоминал старые времена и даже, злоупотребляя его мягкостью, - превращался в тирана, командовал над ним и навязывал ему свои мысли и настроения. Мы с ним, как сказано было, были два сапога пара. Естественно, поэтому, что на сельхозе, где мы весной встретились в одной бригаде, мы стали вместе работать: таскали носилки с землей на засыпку парниковых ям. Это была мирная работа: шлепали по грязи, земля осыпалась с плоских носилок. А нагружали по очереди: каждый по 5 носилок. Отнеся 20 носилок, садились отдыхать, выбрав уголок, где начальство не видит. Так мы жили мирно, пока не поссорились.
Случилось это так: я свой хлеб съедал не сразу, а делил на 2 части. Главную вечернюю часть я прятал в сундучок, стоявший на наре в головах. Сундучок не запирался, но я его так опутал веревочкой, что приоткрыть сразу нельзя было. С некоторого времени я стал замечать, что моя порция хлеба странно изменялась между утром и вечером. Утром она выглядела довольно квадратно, увесисто, как полагается на 300 грамм, а вечером, когда я ее ел, - она казалась странно легкой, высохшей, похудевшей. Я просто не узнавал ее. Трудно было подозревать Ивана Александровича в том, что он подбирается к моему хлебу, тем более что лежал он не совсем рядом, а через одно место. Но в конце концов сосед-наблюдатель донес, чем занимается Иван Александрович в мое отсутствие: достает напрактикованной рукой мою «пайку» и ножичком аккуратно срезывает с нее ломтик - не очень толстый, чтобы не было заметно.
Я был горько обижен на Ивана Александровича, но все откладывал объяснение с ним, пока не случилась крупная неприятность: Иван Александрович не мог удержаться - и съел сразу всю мою пайку.
Это надо понять: сперва он срезал один тонкий кусочек сверху. И съел, лежа на боку, в полумраке верхней нары. Съел с угрызениями совести, с сокрушением сердца. Потом подобрал крошки на подушке. Тем временем хлеб лежит, и Иван Александрович ясно видит, что он немного ошибся: отрезал слишком уж благородно. Можно бы еще немного откроить. Отрезает второй раз и - о ужас! - на этот раз слишком много. Нельзя не заметить!.. Теперь уж неизбежно Марголин подымет шум: кто трогал пайку? Слюна собирается во рту грешника, и вдруг ему становится все равно: съесть, что осталось, - и концы в воду! Семь бед - один ответ. Все равно пайка изуродована. Один головокружительный момент, одно движение руки и - прыжок в пропасть: будь что будет. Каждый грамм лишнего хлеба, украденный у судьбы, вопреки закону, вопреки норме вечного голода, - вдвойне вкусен. Как это хорошо - целых 300 грамм! Не просто хорошо, а, как Иван Александрович говорит, «при-ятно!».
На следующий день на работе, когда носили 15-е носилки, я буркнул в спину напарнику:
«Иван Александрович, признайся: ты хлеб съел?» Иван Александрович поднял плечи и зашагал быстрее. Мы донесли носилки, вывернули их в яму, и я увидел его виноватое, сконфуженное лицо. Не занимаясь упреками (дело лагерное), я предъявил требование: хлеб он мне обязан вернуть. Умел воровать - умей отдавать. И рассрочка: по 100 грамм ежедневно.
Это было с моей стороны безрассудной жестокостью. Как будто Иван Александрович мог сам, своей собственной рукой, отдать часть своей голодной пайки. Легче было бы ему выкроить кусок из собственного тела. Как раз на другой день у него была большая «ударная» пайка: 700 грамм. Он съел ее немедленно, как только получил, - из страха, что я приду отбирать свой долг.
Тогда, на третий день, я выждал, пока он сел к столу, над дымящимся своим котелком, а пайка лежала перед ним, как кулич в Светлое Христово Воскресенье. Я кипел от негодования. Я готов был проглотить его самого.
«Иван Александрович! Будешь хлеб отдавать?»
А он, побледнев, но решительно и бесповоротно: «Нет-с!.. Я никак не могу хлеба отдавать... никак не могу...»
Я, не долго думая, взял его пайку. Но он схватил ее мгновенно со своей стороны, и схватил крепко. Мы оба стали рвать хлеб из рук друг друга. Все кругом столпились, загоготали, но не вмешивались. Пусть дерутся приятели!
Я почувствовал, что эта несчастная пайка превращается в бесформенный мякиш, крошится и гибнет в наших руках, но Иван Александрович, с исступленным лицом, молча, ни слова не произнося, всеми десятью пальцами впился в нее. Вдруг я почувствовал его немое отчаяние и отступился, от хлеба. Я был вне себя от злобы, и я осрамил его пред всем бараком - назвал его вором и разными поносными словами, даже Иудушкой Головлевым.
И с тех пор - дружба врозь. Я перестал на него смотреть, разговаривать с ним. Я был оскорблен не тем, что он съел мой хлеб, а его последующим поведением, нежеланием расплатиться со мной. Я меньше был бы строг к бедному Ивану Александровичу, если бы знал, что он тогда уже умирал, уже дошел до той крайней черты, когда люди уже не владеют собой при виде хлеба. Но я думал только о себе.
Я и сам порядочно одичал к тому времени, опустился как физически, так и морально. Потом мне повезло, и меня приняли жить в барак АТП, в среду лагерных аристократов. Зимой Иван Александрович начал снова заговаривать со мной, предложил мир, и мы понемножку снова сблизились.
Иногда вечером он заходил в барак АТП. Этот барак, по сравнению с рабочими бараками, казался жилищем богов. Дневальный грубо окликал с порога: «Куда лезешь?» Старик робко показывал в мою сторону и пробирался к моей наре, у самой печки в углу. Он стоял, держась за столбик, и смотрел вверх, а я сверху вниз, наклонившись лицом, разговаривал с ним. Спуститься с верхней нары для гостя мне уже было трудно. Мы оба страшно ослабели. Иван Александрович весь осунулся и посерел, выглядел, как куцый заяц. Все на него фукали и на меня тоже - зачем ко мне всякая шваль шляется, в грязных чунях и лохмотьях...
В январе 1943 года Кузнецов отказался выходить на работу. У него окончательно иссякли силы. Его 3 дня продержали в карцере, потом присмотрелись поближе и положили в больницу. Там наконец его актировали, то есть признали официально негодным к работе. Выйдя из больницы, он залег на нару со своим инвалидским пайком в 400 грамм, на котором жить невозможно, перестал вставать - наслаждался «отдыхом». Дней 10 он лежал, отдыхал так радикально, что даже перестал вставать за едой. Соседи ему приносили хлеб и суп, а потом сообщили в Санчасть. Его вторично забрали в стационар, откуда ему уже не суждено было выйти живым.
Лишний черпак каши и кусок хлеба поддержали бы его - но, если бы советское государство кормило заключенных по их потребностям, а не по своим расчетам, оно бы обанкротилось, ему пришлось бы распустить миллионы зэка. Таким образом, чтоб мог существовать Советский Союз, отель «Москва», самое роскошное метро мира, «Дворец Советов» и самая огромная армия принудительного труда в истории, Иван Александрович Кузнецов должен был умереть, негласно и дискретно, на 6-м году пребывания в лагере от истощения, вызванного длительным недоеданием. В это время я лежал в соседнем стационаре в состоянии, весьма близком к тому, в котором находился перед смертью Кузнецов. Выйдя и узнав, что его нет в живых, я вспомнил, что у меня записан его адрес: «Рязанская область, Лебедянский район, Сельсовет такой- то...» Я хотел написать его семье. Но мне сказали, что сообщения такого рода не допускаются. Лагерь - не действующая армия, откуда сообщения о потерях приходят на частные адреса. Списки погибших не публикуются, и статистика по этому поводу составляет государственную тайну.
Кузнецова свезли на 72-й. Так называлось лагерное кладбище на 72-м квадрате, 2 или 3 километра от Круглицы. У нас не говорили «подохнешь», а - «пойдешь на 72-й». В один из осенних дней, не помню уж которого года, попал и я на 72-й.
Понадобилось спешно выкопать могилу для нескольких человек. Комендант отобрал себе на разводе 4 человека, но не сказал, для какой цели требуются люди, а посулил «легкую работу» на 2 часа. После развода мы еще с час сидели на завалинке у вахты. Потом пришел помощник коменданта, бросил каждому по лопате, и мы пошли. Но он повел нас в противоположную сторону от места, где обычно работали заключенные. Пошли без конвоя. Мы еле поспевали за ним по топкой лесной дороге. В некоторых местах она была залита водой, в других местах он перепрыгивал через широкие канавы, но мы уже не могли прыгать, как здоровый помкоменданта. Прежде чем мы добрались, мы промокли и выбились из сил.
Серый унылый осенний дождик моросил на полянку, окаймленную дрожащими осинками, мокрыми березками, а посредине была желтая скользкая слякоть. Это и был 72-й квадрат, место вечного успокоения. В одном углу он велел нам рыть яму на метр глубины. Постоял, свернул из газетной бумаги цигарку и пошел. Мы остались сами.
Земля вокруг нас была в рытвинах, но не было ни холмиков, ни крестов, ни столбиков. Прямо из земли торчали тут и там какие-то кривые палки, небрежно воткнутые в землю. На палках прибиты были деревянные «бирки», то есть маленькие дощечки с номерами, выведенными химическими чернилами. Это было все, что осталось от покойных: безымянный гроб с номером, поставленным для сведения лагерной администрации. Несколько палок торчало из земли, остальные валялись на земле и потонули в слякоти вместе с бирками и номерами. На Круглице был только один гроб, служивший для перевозок. Трупы закапывались голыми, по нескольку в одной могиле, а ящик привозили обратно. Могила находила на могилу - и через некоторое время братски перемешивались кости. Мысль о том, что и я здесь лягу - и никогда не узнает ни одна живая душа ни о месте, ни об обстоятельствах моей смерти, - пришла мне с ясностью. Из четырех зэ-ка, копавших могилу, трое до конца года легли в эту землю. По мере того как мы копали, яма наполнялась водой. Лопаты не годились, грунт был тяжелый. Мы копали по 2 на смену. Я с трудом держался на ногах. Несколько минут работы - и сердце останавливалось. Мы, копавшие, были полупокойниками, и я не мог опомниться от удивления, что я копаю другим могилу, а не наоборот. Я вспоминал тех здоровых и рослых людей, которых здесь закопали за истекшие месяцы, и не мог понять, как случилось, что я пережил их и стоял на их костях с тупой лопатой, дрожа от холода, под унылым осенним дождем, в «чете-зе», так густо облепленных глиной, что ноги не подымались.
Помкоменданта пришел в 4 часа пополудни и плюнул, увидев, что работа не сделана. Могила не была готова. Минут пять он смотрел, как мы лопатами тычем в грунт, и скомандовал решительно: «Собирайся!» Пройдя через вахту, помкоменданта повернул нас в амбулаторию: к врачу. Мы не сразу сообразили, в чем дело. Оказалось, что помкоменданта требует записки врача о том, что мы по физическому состоянию не годимся копать могилы. Либо такую записку, либо - в карцер за невыполнение задания.
На мое счастье, дежурным врачом оказался Максик. Увидев меня в роли гробокопателя, он широко раскрыл свои выпуклые светлобровые глаза. Потом с официальным видом осмотрел всех четырех «отказчиков». Двоим он выписал требуемую записку. Меня и еще одного отпустили в барак. Двух других отвели в карцер. Если бы не вмешательство Максика, я бы не отделался так легко от этой работы.
Глава 25. Письмо Эренбургу
Весной 42 года Круглицкий лагерь был поставлен пред лицом голодного истощения. В этом году мы впервые услышали слово: «алиментарная дистрофия».
Нам постепенно сокращали рационы. Силы наши убывали постепенно и непоправимо. Даже больничное питание перестало быть достаточным. Ступенчатая система лагерного питания потеряла смысл, после того как масса заключенных распалась фактически на две части, на тех, кто еще кое-как работал, и на тех, кто уже только делал вид, что работал. Между этими двумя категориями была минимальная разница в питании. Кто делал особенно тяжелую работу, получал микроскопические добавки в виде «дополнительного», «усиленного», «восстановительного» и других пайков. За этой номенклатурой скрывался черпачок жидкой арестантской кашицы или пирожок с морковкой или картофельный блин, которых каждый из нас мог бы съесть несколько дюжин без труда. Таким образом, еда нас больше раздражала, чем удовлетворяла. Мы впадали в апатию, в сонное оцепенение, как осенние мухи. Меня постоянно клонило ко сну. Когда я не работал, я ложился, и без движения проводил целые часы. В это время мне не хотелось есть. Я мог оставаться без пищи целый день, и несколько дополнительных часов ожидания не составляли разницы. Но когда, наконец, я получал свою порцию, голод разгорался, и, окончив есть, я был гораздо более голоден, чем в ожидании еды. Первые полчаса после приема пищи были мучительны. Все во мне было раздражено, и только потом я впадал незаметно в первоначальное состояние апатии, из которого меня вывела кормежка.
Есть мы были готовы все, что угодно. Иногда, неизвестно почему, раздавали на кухне горчицу. Хотя выдавали ее поздно вечером, после ужина, когда уже была съедена последняя крошка хлеба, все с волнением бежали под окно кухни. У кого не было посуды, подставлял палец, на который повар мазал горчицу, и все съедали ее, как подарок с неба. Мы ели хлеб черный и до того, сырой, что он клеился в руке, хлеб с отрубями и соломой, хлеб с примесью кукурузной муки, который, засыхая, крошился в куски. Только два года спустя в лагерях Архангельской области появилась американская мука и американский яичный порошок. Но к тому времени наши ряды уже сильно поредели: население лагерей вымирало, а новых зэ-ка за эти годы не было.
Последнее обстоятельство было для нас источником надежды. Похоже было, что лагеря находились в состоянии естественной ликвидации. На наших глазах их население уменьшалось, и мы постепенно привыкли к успокоительной мысли, что советская власть в результате войны и сближения с западной демократией постепенно отойдет от этой позорной и постыдной формы современного рабовладения.
Кругом люди валились, как скошенная трава. Власть, которая не могла удержать их при жизни, закрывала пред ними выход на волю, в условия, где каждый мог бы отстоять свою жизнь. Многие из них оставили без помощи семьи, детей, и терзались больше при мысли о них, чем о себе. Не было и речи об экономическом обосновании лагерей в это время. Огромное большинство в них состояло из псевдо-ра-ботников, доходяг, лагобслуги, из непроизводительных элементов не только среди зэ-ка, но и среди вольных, занятых в охране и в администрации: все эти люди не окупали себя и мертвым балластом ложились на лагерное хозяйство. Содержание миллионной армии доходяг было очевидно дефицитно. Их держали в заключении из страха, по соображениям госбезопасности. Не «работа» этих людей, а их массовое вымирание было нужно государству. Трудоспособные зэ-ка в массе давали в лагере только незначительную часть той пользы, которую они могли бы принести на воле. Это было особенно очевидно, когда дело касалось высоко-квалифицированных специалистов: инженеров и врачей, учителей и профессоров, хозяйственников и организаторов. Эти ценные и редкие люди, втоптанные в лагерную грязь, либо теряли образ человеческий, либо делали смешную, несоразмерную с их знаниями и никому не нужную работу.
С работы на горшечном производстве я был переброшен на скотный двор. Меня не допустили к уходу за коровами и свиньями. На этой работе я бы мог подкормиться, так как коровы доились, а свиней и поросят откармливали картошкой и овсянкой на молоке - кормили так, что скотницы имели что урвать и для себя. Но мы не имели доступа в свинарник, - как нищие, которых швейцар гонит от двери богача. Наше место было в полутемном коровнике, наполовину пустом. В углу опустелой и холодной половины стояла силосорезка, машина, нарезавшая силосный корм из веников - из тех прутьев, которые я собирал прошлой осенью.
С утра привозили нам несколько возов этих прутьев. Один подкладывал прутья в машину; двое вертели колесо. Силосорезка работала на лошадином приводе, но лошади не было. Вместо лошади приспособлен был писатель, захваченный за пределами Сов. Союза на территории другого государства, обращенный в рабство по праву победителя, как «социально-опасный элемент».
Колесо, не рассчитанное на человека, было так велико, что когда я поворачивал ручку, оно увлекало меня, то пригибало к земле, то подкидывало в воздух, я вертелся с этим колесом и на колесе, у меня темнело в глазах и захватывало дыхание. Чтобы не прийти в отчаяние, я считал обороты: 50-100 - и следил за своим напарником, который вертел то же колесо за ручку с другой стороны. Я давил ручку вниз и сразу отпускал - колесо оборачивалось на половину - и тогда нажимал мой напарник с противоположной стороны. Этот танец колеса продолжался до тех пор, пока не расстраивался ритм, и один из нас не начинал задерживать. Тогда бросали колесо и садились на минутку.
Напарником был Жуков, парень мордастый и работящий, сибиряк, из рода староверов. Он прежде всего принял меня в штыки и осыпал антисемитской бранью. На это я ему с места пригрозил уполномоченным: «Одного срока мало? Другой получишь!» - и он присмирел мгновенно, а на другой день мы уже были друзья. Жуков много мне рассказывал о сибирских нравах и житье, о своем деде, который неограниченно царствовал над семьей в 28 человек со взрослыми и женатыми сыновьями. До колхозов сибирские крестьяне на хуторах были скотоводами, лошадей держали сотнями - теперь целый колхоз имел лошадей не больше, чем когда-то один его дед. Еще он мне рассказал, что в их местах не умеют делать колбасу - «это дело немецкое» - и не хотят уметь, а просто солят свинину впрок. Старик старовер оставался в памяти внука воплощением морального авторитета. Жуков-внук редко матерился - его в детстве отучили от этого - и он мне рассказывал, как старик ругался, когда был сердит: «ах ты, е д о н а л е т ь, л я г у ш а мокра!» - это было вместо мата. Этот сибирский идиом я сразу принял и запомнил, и через год еще, встречая Жукова, кричал ему по-приятельски: - «Эй ты, едона леть! лягуша мокра!» - От таких слов Жуков сразу светлел и широко улыбался.
С утра в коровнике было холодно и темно. В конце коровника за перегородкой была печурка. Мы выходили, крадучись, на еще темный двор - своровать, где можно, несколько досок, бревно. Я шатался как пьяный под ношей бревна и шел, с трудом переставляя ноги. В каморке быстро пилили одолженной поперечкой, и, наконец, загорался огонек.
Во время паузы мои напарники куда-то исчезали - выходили на поиски еды. В коровнике пахло навозом и гнилым сеном, худые коровы стояли смирно в перегородках (на силосном питании они не давали больше 3-4 литров молока), проходила повязанная платком бледная заключенная коровница, похожая на монашку. Никуда не хотелось выходить, но через несколько дней голод выгнал меня. В конце двора была низенькая хибарка. Пор вечер мы привозили туда на санках кадь с силосной сечкой и заправляли ее в большой чан над огнем. Кроме того, был вмурован в плиту резервуар с горячей водой. В углу этой хибарки мы обнаружили бочку, куда скотники вываливали отбросы от кормежки свиней - гниющую жидкую массу испорченного картофеля, издававшую нестерпимый запах помойной ямы. Из этой бочки отбросов мои напарники набирали гнилых остатков картофеля - полный котелок. С бесконечным терпением по несколько раз перемывали каждый огрызок в горячей воде, вырезывали почерневшую мякоть и получали крошечный здоровый остаток - с наперсток величиной. На эту работу уходил час времени, а в это время колесо стояло без движения, брошенное всеми. Я сначала смотрел с брезгливостью на эти манипуляции, но когда приходило время полдника - я пил горячую воду, а у них стояло по котелку картошки на плите, и она совсем не пахла помойной ямой, а как пахнет всякая здоровая картошка - или почти так. Вода, в которой она варилась, становилась бурой, и картошка хрустела на зубах, но они ели! Никому из них даже в голову не приходило дать мне попробовать, а у меня сердце выскакивало и дурно становилось от этого вида и запаха. На третий день я решился, пошел за ними и тоже сунул руку в вонючую жижу в помойной бочке. Теперь я уже знал, какое сокровище лежит в ней. Правда, у меня не хватило умения набрать на полный котелок, но все же, когда пришло время полдника, у меня стояла полная кружечка картофельных остатков, и этого было для меня достаточно. Дело было не только в калориях, но и в психологическом эффекте: я не был исключением, я тоже умел добыть еду там, где для нас ничего не приготовили.
Еду добывали буквально из-под земли. Целыми днями рылись в канаве у отхожего места и приносили что-то, что я бы принял за засохшие экскременты, но это оказалось сплошной массой картофельного крахмала, остатками замерзшей и выброшенной месяцы назад картошки. Весь день, как голодные собаки, мы нюхали воздух, пристально следили за кухней, где варили для телят и поросят. В конце концов кто-то из нас вломился туда и схватил что-то. В наказание нас перевели со скотного двора на нефтебазу.
На нефтебазе ничего съедобного не было. Мы разгружали с платформ тяжелые баки, перекачивали из одних цистерн в другие нефть и машинное масло. На баках мы увидели надписи американской фирмы: это была заграничная нефть. Английская надпись была как привет с Запада, напоминание о том, что не все еще погибло для нас. Я смотрел на нее с волнением, как Робинзон, который на необитаемом острове находит след пребывания культурных людей. Мой бушлат в несколько дней промаслился и пропитался нефтью на долгие месяцы.
Потом пришло время на «окорковку». Эта работа заключается в том, что стволы с помощью топора и ножа очищаются начисто от коры, до белого лоска, до того, что клейкий древесный сок заливает руки. И уже в это время первое солнце светило на нас, ручьи бежали под ногами, древесина пахла. Дважды в день пробегал по полотну маленький моторный вагончик: начальство из Ерцева объезжало линию работ. По поездам мы считали время. В 8 часов утра шел поезд в одну сторону, в 5 часов возвращался обратно: старенький паровоз и два допотопных вагона царских времен. С обеих сторон жел. дороги работали заключенные, строили большой склад, мостили к нему бревенчатую подъездную дорогу.
В мае пробилась первая зеленая травка, и все бросились собирать траву. Вместе с нами искали лебеду и крапиву ребятишки из поселка - «вольняшки» на лагерном языке. Мы видели, что на воле было не сытнее, чем в лагере. Из книг я знал, что во времена голода едят «лебеду». Теперь я научился распозновать ее зеленые свежие листочки. Русские люди научили меня, что молодая крапива стоит щавеля и шпината. О шпинате, впрочем, мало кто из них и слышал (кроме украинцев). Зато я никогда не слышал о растении, называемом «иван-чай». Из «иван-чая» пробовали варить суп для зэ-ка; даже умиравшие с голоду были не в состоянии проглотить этот горько-тошнотный настой, и в те дни, когда его варили, больше половины оставалось в котлах.
Были среди нас люди, которые вообще не признавали различия между съедобными и несъедобными травами. По их мнению, любая майская трава годилась в пищу. - «Что может корова съесть, то и я могу», - говорил Стецин, высокий худой блондин с запавшими голубыми глазами - фотограф на воле. В этом он ошибся, и еще до конца года закончил свои дни. Всюду сидели люди при кострах и занимались варкой: набирали кучу травы, нарезали ее ножичком мелко-мелко, набирали воды из ручья, и варили траву долго, кипятили, доливали, мешали. У них не было даже чем посолить эту травяную безвкусную и пресную массу, не говоря уже о других добавлениях. Один раз я попробовал эту стряпню. Меня стошнило. Очевидно, я еще не был достаточно голоден. Некоторые приносили с собой утренний завтрак - лагерную «баланду» - и домешивали травы, чтобы было больше. Так набивали желудок и обманывали себя. Вмешалась Санчасть и запретила варить траву. Стрелки и бригадиры стали опрокидывать котелки и выливать их содержимое. Худые страшные люди варили траву тайком, прячась от начальников, и каждый день происходили драки, когда пытались у них отнять котелок с травой. Так и не удалось отучить их от подножного корма. Только лето, друг голодных, с ягодами и грибами, принесло облегчение. Но мы, заключенные, конечно, и тогда - только в малой мере, нелегально и случайно могли использовать богатства леса.
На весну пришли в сангородок люди из ББК - группа, замыкавшая эвакуацию зэ-ка из района Медвежегорска. В числе этапных были знакомые с 48-ого квадрата; они рассказали мне, как прошла зима в тех местах. Медвежегорск и Петрозаводск были заняты финнами, и от воздушных бомбардировок были жертвы среди лагерного населения. Этапы, ушедшие зимой и за последнее время, растаяли в пути от голода. Мой собеседник, украинский еврей Г. рассказал, что в пути его партия была отрезана от снабжения и попала в тупик, где оставалась несколько недель. Им выдавали по 100 гр. хлеба, потом по 50. Картофель был только для конвоя; этапным выдавали вместо супа - соленую воду, в которой варилась картошка для вольных. От голода и холода умирало ежедневно по 30 человек. Немногие остались в живых. Он рассказал мне сценку: конвойный выстрелил в кустах и вышел, смеясь: «Идите, я зайца убил!» Г. побежал в кусты и увидел труп собаки с размозженной головой. - «Я первый добежал, - рассказывал он, - и успел высосать мозг, пока другие доскочили...» От него же я узнал рецепт приготовления сыромятных ремней. Этапные съели в пути все кожаные пояса и голенища. Г. убеждал меня, что разрезанный на маленькие кусочки ремень, хорошо запеченный, ничем не отличается по вкусу от гусиных шкварок. Человек этот, с которым я провел несколько дней в круглицком стационаре, был в сентябре 1939 г. в составе Красной Армии, вторгшейся в Западную Украину, и от него я узнал о впечатлении, которое произвело на красноармейцев первое соприкосновение с заграницей. Эти рассказы были особенно поучительны для меня: из них было ясно, что советские люди, с которыми мы разговаривали тогда - лгали нам и скрывали свои настоящие чувства. Лгали не только нам: лгали в репортажах и путевых заметках корреспондентов, рисовавших нищету и забитость населения в «Панской Польше», как будто это был край, отставший от Сов. Союза на 200 лет, тогда как в действительности они были под впечатлением благосостояния, дешевизны и многообразия жизни в этой стране, и сознательно старались скрыть от нас то, что творилось в их собственной страшной стране. - Здесь, в лагере, мы, наконец, могли говорить начистоту. И когда я рассказал украинскому еврею о Палестине, у него появились слезы в глазах: придет ли когда-нибудь время, когда разожмется рука, которая нас держит за горло?
Настал момент, когда все у меня кончилось сразу: силы, надежды, энергия, последние вещи износились, опорки свалились с ног, и украли последнюю рубаху. Тогда велели мне жить в 9-ом бараке, месте, которое тогда представляло воровской притон и где ночевали проходившие через Круглицу этапы. Партия зэ-ка, которую сегодня привели на ночевку и которая знает, что через день-два ее выведут - как саранча налетает на окрестность, хватает и тащит все, что попадет под руку, в расчете, что завтра спрашивать будет не с кого. Входя в барак такого рода, ищешь - к кому прилепиться: какое-нибудь приличное лицо, человек постарше, внушающий доверие. Так и в этот раз я выбрал себе «хороших соседей», но вечером они исчезли: одного взяли в этап, другого - в больницу. На их место легли: черномазый вор Яшка, многократно битый за кражу, а с другой стороны парень со столь зверской рожей и узенькими татарскими щелочками глаз, что от одного вида мне стало холодно, и я помчался к помощнику коменданта - з/к Павлову: «Спасите, заберите в приличный барак! Эти люди меня разденут!» Но Павлов в ответ только нюхнул мой пропахший нефтебазой бушлат, посмотрел на мои лохмотья и ухмыльнулся. Это значило: «Куда тебя положить в таком виде?»
Проснувшись на следующее утро к подъему, я увидел, что работа сделана: мой зеленый деревянный чемоданчик был вынут из-под головы, вывернут и валялся на полу среди нар, а главное - пропала пайка хлеба, мое единственное сокровище. Потеря всего «имущества» не так поразила меня, как отсутствие хлеба в тот момент, когда я протянул за ним руку. Вор Яшка или татарин - кто из них взял мой хлеб?.. Но прежде всего надо было побежать с рапортом о пропаже вещей к коменданту Павлову. Спускаясь с верхних нар, среди шума и сутолоки, среди галдящих и занятых собой людей, я вдруг увидел на. месте парня со зверской рожей свежую пайку - кусок в 300 грамм. Все они имели свой хлеб, нетронутый, а я один должен был голодать? Я не думал ни секунды, и спускаясь с нар, положил себе в карман эту пайку моего врага. По дороге к коменданту в контору я забежал в какой-то темный угол и мгновенно съел эти 300 грамм. Съел с торжеством, с триумфом и с чувством человека, за которым осталось последнее слово.
Вернувшись в барак, я застал потасовку: на моей наре каталось двое тел, и парень со зверской рожей смертным боем лупил вора Яшку: «Где мой хлеб? Сию минуту подай сюда хлеб!» - «Я не брал, не брал твоего хлеба!» - жалобно вопил Яшка. Он был прав, но трудно ему было доказать свою правоту, когда рядом двое соседей было ограблено. Неизвестно, кто из этих двух людей, сцепившихся в яростной свалке, обворовал меня. Мне это было все равно, и оба были наказаны: один потерял 300 грамм хлеба, а другой был избит. Я с мрачным удовлетворением - и без малейшего зазрения совести - созерцал свалку.
Озираясь вокруг себя, я видел мир, по сравнению с которым «На дне» Горького и его «Бывшие Люди» - были слащавым и манерным кокетством литератора. Как эти люди, о которых писал Горький - вместе с их молодым автором - были влюблены в себя и полны сознания собственной необыкновенности и живописности! Здесь было только беспредельное унижение и забитость, здесь люди не играли в картинное бунтарство, не смели считать себя протестантами, не смели стать в позу какого-нибудь Кувалды или барона. Советская власть их выучила облизывать тарелки: когда в бараке кончали скудный ужин, большинство зэ-ка вылизывало свои миски до чиста, как собаки, а другие для той же цели пользовались ребром указательного пальца, которым старательно очищали миску, а потом облизывали палец; это считалось «более культурным».
Я не был героем и исключением. Я тоже лазил пальцем в котелок, как окружавшие меня.
Но мое несчастье было жесточе, нелепее и бессмысленнее, потому что я знал другую жизнь, был чужой, пришел с Запада, о котором эти люди ничего не подозревали. Их семьи и прошлое было разрушено, за ними ничего не было, кроме пожарища, им нечего было оплакивать! Я же, каждый вечер засыпая голодный на наре, в пронзительном электрическом свете, который горел всю ночь в круглицких бараках - закрывал глаза и не мог не думать о том, что в это время происходит дома.
Девять часов по московскому времени. Значит семь по варшавскому. Восемь в Тель-Авиве. Улица, ведущая к морю. В столовой накрыт круглый стол. Каждая мелочь на своем месте. Члены семьи и друзья за столом. В Палестине нет войны, люди и вещи выглядят как в то время, когда я еще не выпал из мира. Как сказочно накрыт стол! Белоснежная скатерть, и масло - в форме лепестков розы. Мне не нужно масла. Если бы я только мог войти тихо, никем невидимый, и за плечом той, которая ждет меня, протянуть руку и взять один-единственный кусок хлеба с блюда. Один кусок хлеба! Я умираю от голода на каторге, в аду, о котором никто на свете не знает!
За что?..
Будь я в руках нацистов, я знал бы - за то, что я еврей. Какое же право имела московская власть вырвать из моей жизни лучшие творческие годы, лишить меня лица, растоптать, замучить, обратить в рабство, довести до нужды и отчаяния мою семью, положить конец моей писательской деятельности? Ведь я даже не был их человеком, не был советским гражданином, а только пленником, от которого они не могли требовать ни советского патриотизма, ни советского энтузиазма, ни советского паспорта, ни желания оставаться в их стране. И однако, они отправили меня как преступника в «исправительно-трудовой» лагерь - за то, что у меня не было советского паспорта и было желание вернуться к себе домой!
Если бы я попал в руки китайских хунхузов или негров «ниам-ниам», у меня была бы надежда откупиться за деньги, - но я был в руках великой державы, к которой никто не смел подступиться, которая построила 10.000 лагерей и гноила в них людей втайне, в глубочайшем секрете от всего мира! Я задыхался от чудовищной неправдоподобности, от кошмарной нелепости, от нечеловеческой подлости того, что происходило со мной и с миллионами таких как я. Я предвидел, что это слишком страшно, чтобы кто-нибудь на белом свете мог поверить этому впоследствии. Это слишком далеко от них, от благополучных американцев и невинных швейцарцев, от демократов всех классов, народов и партий, которые решили легкомысленно, что фашизм и «Гитлер» есть единственная причина всех несчастий на свете.
Нельзя было задавать такого вопроса: «за что?» В этом вопросе был уже вызов страшной силе, сознание своего права, своей особой ценности и своего равноправия пред лицом государства. С нами поступали без лишних разговоров, не объясняя действительных мотивов и не вглядываясь в наши лица. Камень, раздробленный в щебень, по которому проходит тяжелый вал дорожной машины, не больше может спрашивать «за что?» Мы больше не были людьми с индивидуальным обличьем и особой судьбой. Мы были цифрами в массе, один как другой, - и все вместе - окаменелой, обледенелой поверхностью, по которой шел вперед советский танк, по головам и шеям, по спинам, по телам, по раздробленным в щебень человеческим существованиям.
Миллионы людей погибают в советских лагерях. Их слишком много, чтобы можно было поставить вопрос «за что?» Столько виновных нет во всем мире. Но остается еще вопрос: зачем? - Зачем советскому государству система, раскалывающая население страны на 2 категории и создающая подземную невидимую Россию - как страшный погреб, куда, кроме жертв, имеют право входа только посвященные и причастные «свои» люди?
Зачем?
Если этот погреб нужен для изоляции и уничтожения недовольных или потенциальных противников среди собственного населения, то какая ошибка, какое затмение ума заставило Политбюро послать туда полмиллиона польских граждан в 1940 году? На что они рассчитывали? На то, что все они там вымрут? Или на то, что они выйдут оттуда друзьями Сов. власти? А ведь у этих людей было в Польше и во всем мире несколько миллионов родственников, отцов, матерей, жен, детей, братьев, сестер, которые не могли их забыть и отречься от них, и которые до конца своих дней не перестали бы добиваться у Сов. правительства ответа на вопрос: «что вы с ними сделали?»
Не подлежит сомнению, что когда летом 40 года послали в лагеря сотни тысяч польских граждан, советское правительство не ожидало, что Польша когда-либо восстанет, как самостоятельный политический фактор. Наплевать им было не только на нас и на наших «родственников», но и на весь остальной польский народ. Кто бы мог потащить их к ответу? Польша была разделена между Россией и Германией, и некому было требовать ответа за лагерный позор. В этом они ошиблись: ровно через год положение радикально изменилось, и им пришлось объявить «амнистию» польским зэ-ка. Лагеря перестали быть тайной для мира. Но когда поляки заграницей начали рассказывать о своих переживаниях, был ответ: «это фашисты, их нечего слушать». Правда, многие поляки, прошедшие через заключение в лагерях, фашизировались под их влиянием. В других условиях они стали бы друзьями России. В этих условиях они вынесли из лагерей не только смертельную ненависть к советскому строю, но и грубый и преступный шовинизм, о котором я, как польский еврей, имею некоторое представление. В России знают действительные чувства поляков к Советскому Союзу. Таким образом, мартиролог польских граждан в Сов. .Союзе в годы войны, начало которого идет от сталинско-гитлеровского раздела Польши в сентябре 39 года, создал для Сов. Союза добавочную необходимость закрепить всеми правдами и неправдами господство и контроль над Польшей. - Летом 1942 года мы, сидевшие в лагерях польские граждане, узнали о новом конфликте между поляками и русскими, и поняли, что нам не видать свободы, пока этот конфликт не будет улажен. И мы поняли также, что он может быть улажен только под условием создания такой Польши, где Советский Союз будет «т а б у» - неприкосновенен для критики. Ибо ни в какой стране мира свобода говорить правду о Советском Союзе не может быть менее терпима для сов. правительства, как именно в Польше, где камни кричат об обиде, насилии и предательстве - не только с Запада, но и с Востока.
Весной 42 года предо мной встал остро вопрос о рубахе на теле.
Уже 3 месяца, как у меня не было рубахи. Все было покрадено, и на голом теле я носил рваную куртку, а сверху - промасленный казенный бушлат. Весной надо было раздобывать рубаху. Я вспомнил школьный рассказ о том, как больной царевне сказали, что она излечится, когда оденет рубашку счастливого человека. По всему царству искали счастливого человека, и, наконец, нашли. Это был пастух. Спросили у него рубашку - и оказалось, что счастливец не имел рубахи на теле. Отсюда мораль: в царском дворце можно горевать, а в шалаше быть счастливым. Не в богатстве дело. Однако, в лагере я убедился, что одно отсутствие рубашки еще не делает человека счастливым.
В том полусумасшедшем и невменяемом состоянии, в котором я находился в весну 1942 года, рубашка стала для меня поворотным пунктом. Я думаю, что если бы мне не удалось тогда раздобыть ее, я кончил бы полным сумасшествием. Я стоял тогда на краю душевной катастрофы. Все для меня сконцентрировалось в одном пункте: добыть рубаху. Я полагаю, что это был здоровый подход. Если бы я продолжал предаваться отчаянию по поводу вещей, которых я изменить не мог, я бы помешался. Вместо этого, я сконцентрировал все свое неистовое отчаяние на од-ном-единственном пункте: нет рубашки! Как жить без рубашки?
Я применил единственное оружие, которое было у меня в лагере: силу слова. Я написал заявление начальнице ЧОСа Гордеевой. Я довел до ее сведения, что мне нужна немедленная помощь; что я доведен до полного изнеможения; я даже не имею рубахи на теле. Как жить? Есть граница, ниже которой человек не смеет опуститься!..
Гордеева была женщина с очень энергичным худым лицом классной дамы, совершенно седыми волосами (ей было под сорок), держалась строго, серьезно и деловито, не позволяя себе ни улыбки, ни лишнего слова. Это была типичная службистка. В прошлом она уже была начальником лагпункта. - Вы слушав меня, она задумалась: проситель выглядит как чучело, но - человек ученый, «доктор философии» и западник. Пишет гладко, но известно, что чем человек грамотнее, тем хуже работает. А на весь лагпункт - только пяток рубах первого срока, - забронированных на особые случаи. Но как же быть с человеком, употребляющим столь сильные слова: «граница, ниже которой человек не смеет опуститься?» И она выписала мне рубаху первого срока.
Каптер глазам не поверил: кому рубаха? Но когда и Павел Иванович, инспектор ЧОСа, подтвердил высочайшую волю, - выдали мне новехенькую, ненадеванную рубаху толстого миткаля, с деревянными пуговицами, длинную, цвета сливочного масла - одеяние богов. Такую рубаху я сию минуту мог обменять на хлеб. Но я и не думал продавать ее! Я облачился в нее, как в чудотворную броню. В этой рубахе я мог еще год держаться в лагере.
Такова была сила слова! Но я решил идти дальше. Я написал письмо Илье Эренбургу. Понятно, я не рассчитывал на то, что Илья Эренбуг это письмо получит. Даже, если бы он его получил - никогда этот лауреат и заслуженный советский классик не позволил бы себе отвечать на письма, приходящие из лагеря! Советские писатели хорошо знают, с кем можно и с кем нельзя переписываться. Это - люди законопослушные и осторожные: «орденоносцы». Но я и не рассчитывал вовсе на И. Эренбурга, с которым когда-то, - во времена давно-прошедшие, - имел общих знакомых, и который никогда не знал меня лично. Я хотел только с помощью этого письма закрепить личный контакт с Гордеевой, начальницей ЧОСа.
Вот что я написал Эренбургу. ... Я не советский гражданин. Меня объединяет с Вами литература. В моих глазах Вы - посол русской литературы заграницей, один из людей, представляющих Советский Союз в общественном мнении Запада. Вы не можете помнить меня и тех времен, когда мы встречались в берлинском «Доме Культуры» и «Prager Diele». Я зато Вас хорошо знаю: от первых стихов.
«В одежде города синьора - на сцену выхода
я ждал
И по ошибке режиссера - на пять столетий
запоздал...». и позже, когда Вы так энергично поправили ошибку режиссера, и до «Падения Парижа» - последнего, что попало в мои руки.
... Теперь мне нужна Ваша спешная помощь. Судьба привела меня на крайний север России. Мир полон моих друзей. Но я отрезан от них, и во всем Советском Союзе нет ни одного человека, к которому я бы мог обратиться с такой просьбой. Помогите мне, как может помочь один работник пера другому. Пришлите мне несколько книг (если можно, английских), несколько слов (если можно, дружеских). Контакт с Вами имеет для меня великое значение... Если заняты, поручите кому-нибудь другому ответить...
Из головы не выходит у меня одно Ваше четверостишие (кажется, из «Звериного Тепла»):
Молю, о ненависть, пребудь на страже, Среди камней и рубенсовских тел. Пошли и мне неслыханную тяжесть, Чтоб я второй земли не захотел...Я повторяю часто эти строки, хотя мое окружение очень далеко от Рубенса и больше напоминает призраки Гойи... В оригинале было немножко иначе. И слова «ненависть» не было в последней цитате, чтобы не смущать цензуру догадкой о том, что за ненависть такая - и кому, и зачем посылается неслыханная тяжесть...
Это нелепое письмо, вроде чеховского письма «на деревню дедушке», я отнес Гордеевой. Во-первых, я поблагодарил ее за рубашку и за «человеческое участие» (хитрец!), а во-вторых, попросил у нее совета: вот, написано письмо Эренбургу. Как она думает - отсылать ли?
Мне хотелось проломить стену, которая отделяет начальство от зэ-ка, заинтересовать Гордееву, заставить ее видеть во мне человека, а не заключенную «единицу рабсилы». Я знал обычную женскую психологию (любопытство, инстинкт опекания, интерес к непонятному), но не знал психологии советской женщины. Гордееву письмо напугало, и первое ее движение было - подальше от греха. Никакого совета она мне не дала, а схватила письмо и немедленно, как только я вышел из ее кабинета, отнесла начальнику Отделения Богрову, который тогда находился в Круглице. Больше ни я с ней, ни она со мной ни о чем не разговаривали...
На следующий день я был вызван к Богрову. Начальник Отделения, (т. е. серии лагпунктов вокруг Круглицы), заинтересовался странным письмом и его автором. Письмо содержало явный «крик о помощи в пространство». Пухлощекий и толстый Богров обошелся со мной очень мило, посадил, угостил из кисета махорочкой, - и три часа разговора пролетели как одна минутка. Богров, конечно, читал Эренбурга, но были в моем письме непонятные места, которые он попросил объяснить. Что такое «Prager Diele»? А кто это Гойя? Мы разговаривали, как двое равных, точно я к нему в гости пришел. Разговор пошел сперва об Эренбурге, потом о том, как я попал в советский исправительный лагерь, наконец, о жизни в Европе и Польше. Я мог убедиться, как мало знало наше начальство об обстоятельствах, приведших в их распоряжение столько иностранцев «западников». Неподдельное удивление отражлось в глазах Богрова, когда он услышал рассказ о том, как зарегистрировали полмиллиона беженцев «на возвращение», а потом вывезли их в противоположную сторону, в лагеря. Если теория марксизма утверждает, что средний человек в капиталистическом мире обречен на фатальное непонимание целого, и мир поэтому кажется ему иррациональным и превышающим разумение, - то здесь сидел предо мной Massenmensch советской системы, который не понимал даже того, что происходило у него под носом. Наш разговор скоро ушел в сторону, и Богров начал с наивным любопытством расспрашивать о совершенно постороннем. Я работал до войны в акционерном обществе, что это такое? - Хитрый механизм этого капиталистического учреждения просто захватил его. Так мы переходили от темы к теме, совершенно забыв, где находимся. Наконец, Богров спохватился. Я спросил о письме. Он его спрятал в карман. - «Да нет, знаете, - все равно, не отошлют ведь». И спросил, как мне живется. Не стоило спрашивать: вид мой сам за себя говорил. Богров меня утешил: «летом легче будет», - и отпустил меня, в повышенном настроении. На этом и кончилась моя переписка с Эренбургом. Не знаю, было ли это случайным совпадением, но мне казалось, что после беседы с Богровым отношение ко мне круглицкой админстрации стало лучше, и работа легче. Затем, этот разговор имел продолжение, о чем позже.
Глава 26. «КАВЕЧЕ»
От полудюжины людей зависит лагерный распорядок. Вершина пирамиды власти - это начальник лагпункта и начальник ВОХРа. Командир взвода военнизированной охраны не подчиняется начальнику лагпункта. Это власть параллельная, и часто происходят между ними трения и споры. Начальник лагпункта - полновластный хозяин в четырех стенах своего лагеря, но ключи от его царства переданы другому. Комвзвода отвечает за охрану, и может в любой момент вернуть в лагерь бригаду з/к, если ему не угодно, чтобы она оставалась за границами лагеря...
Начальник лагпункта имеет под собою ряд подчиненных:
Прежде всего - начальник работ. Его дело - выполнять и перевыполнять план производства, максимально использовать наличную рабсилу. Его дело - эксплоатация. Его обязанность: каждое утро выводить зэ-ка на работу и давать государству конкретные результаты.
Деятельность его, понятно, нуждается в противовесе. Рядом с начальником работ стоит начальник Санчасти. Дело Санчасти - следить, чтобы люди сохраняли трудоспособность и не болели в убыток государству. Санчасть - не гуманитарное учреждение. Никто не занимается в лагере филантропией и милосердием. Не «res sacra miser», как учит христианство, a «res utilis miser», заключенные работают и приносят пользу заточившему их государству.
Санчасть - необходимый тормоз в деле беспощадной эксплоатации. Если бы не было Санчасти, заключенных загоняли бы до смерти, или они бы вымерли от эпидемий. Санчасть сохраняет фонд рабсилы в состоянии годном для использования, поскольку это в ее силах. Для этого у нее два средства: лечение и отдых. Оба в неадэкватной, недостаточной степени. Нельзя забывать, что Санчасть не лечит свободных людей в их интересах. Санчасть лечит рабов в интересах работодателя, и если число больных подымается в лагере, начальник Санчасти и медперсонал отвечают не за страдания и смерть людей, а за расточение рабочей силы, принадлежащей государству.
Кормлением и одеванием зэ-ка, всей материальной частью занимается ООС, - отдел особого снабжения - которому сответствует в каждом лагпункте - ЧОС: часть особого снабжения. От энергии начальника ЧОСа завасит, удастся ли получить для данного лагпункта еще одну бочку капусты, запас круп, забросят ли растительного масла, махорки и т. п. Если данный лагпункт перевыполнил план - туда подбросят, в виде поощрения, больше продуктов. Если работают плохо - начальника лагпункта снимут, а заключенные не получат и того, что полагается по закону. Лагеря снабжаются нерегулярно, с перебоями, - и как правило поступают туда продукты наихудшего качества.
Однако, схема лагерной жизни остается неполной, пока не рассказано о КВЧ - культурно-воспитательной части. В этом выражается советский гуманизм. Царская каторга не имела культурно-воспитательной части, там не воспитывали и не употребляли высоких слов. Подобно тому как Санчасть противодействует физическому упадку зэ-ка, КВЧ противодействует их духовному упадку. День, когда будут уничтожены лагеря вместе с их Санчатью и КВЧ, будет днем победы действительного гуманизма, но пока они существуют, - КВЧ исполняет роль киоска с прохладительными напитками в зале публичного дома.
Уже на 48-ом квадрате мы имели «воспитателя», но работа была там слишком тяжела, воспитатель слишком малограмотен, а человеческий материал (западники) - слишком труден для воздействия. Влияние лагерной культуры выразилось, главным образом, в усвоении российского «лексикона», который западники переняли с легкостью. Зато в сангородке Круглица КВЧ была поставлена прекрасно. Это бросалось в глаза уже при входе на территорию лагпункта: громкоговорители радио на открытом воздухе, стенгазета, плакаты, лозунги, надписи!
Утром гармонист играет на разводе: сел на ступеньку вахты, закрыл измученные старческие глаза, - венгерец, занесенный войной в Польшу - и наяривает вальс «На сопках Манчжурии». Гармонь звучит жидко, зэ-ка ежатся от холода, никому не весело, и меньше всего музыканту, который боится, что пройдет причуда начальства, и придется ему снова выходить на общие работы.
Построили трибуну у ворот вахты, и на разводе задерживают бригады на лишнюю четверть часа. Каждое утро подымается на трибуну начальник КВЧ - парень тупой и не умеющий связать двух слов, - и держит, заикаясь, речь о необходимости поднять темп весеннего сева. Откуда они берут в КВЧ таких беспросветно-нелепых людей? Ответ прост: кто поумнее, пристроился на лучшей работе, места в лагерях вообще для неудачников, а из всех лагерных функций самая неблагодарная - именно культурно-воспитательная: тут ничем не поживишься, это не производство и не кухня. За пять лет я не встретил в КВЧ ни одного интеллигентного человека - из вольных. Заключенные - другое дело: они охотно отсиживаются в КВЧ от тяжелой физической работы.
За годы войны работали в круглицкой КВЧ вольные женщины из поселка, молоденькие, невежественные и запуганные, все мысли которых были при детях, оставленных дома без присмотра. Тяжкая была у них жизнь, не много лучше нашей... Мужья на фронте, хлеба нехватало... Каждая сменила бы охотно культурно-воспитательную работу в лагере на теплое местечко при столовке или складе... Во всем круглицком поселке вряд ли можно было найти дюжину человек, умевших грамотно писать и выражаться по-русски. Среди зэ-ка не было недостатка в высокообразованных людях - но чем образованнее они были, тем подозрительнее к ним относились и понятно, не было речи о том, чтобы поручить им ответственную функцию в КВЧ. На 48-ом квадрате русские люди советовали мне скрыть знание иностранных языков. «За каждый иностранный язык - лишний год прибавят!» - говорили они. Однако, лагерная администрация была недостаточна понятлива даже для того, чтобы последовательно провести отстранение заключенной интеллигенции от участия в работе КВЧ. Нормально, политические исключались из списков «чтецов», т.е. людей, которым передавались нумера газет для чтения вслух по баракам. На 48-ом квадрате меня лишили права читать вслух газету, но это не помешало тому, что в Круглице, в мае 1943 г., я был несколько недель... инспектором КВЧ, и сбежал с этой работы только когда возложили на меня непосильное бремя: во время развода, пока гармонист настраивал лады, а начальник КВЧ произносил речь с трибуны, полагалось мне выходить с красным знаменем в руках и стоять под трибуной в качестве живой декорации.
Гармонист, речь с трубуны, инспектор КВЧ с красным знаменем - все это был даровой театр для зэ-ка. Прежде всего, это оттягивало на несколько минут выход на работу. Затем это нарушало обычный порядок развода, вносило развлечение. К самой речи толпа зэ-ка прислушивалась с каменной серьезностью, ничем не выдавая своих чувств: никто не рукоплескал в конце и не смеялся, когда оратор, запутавшись в середине, плел вздор. Выслушивали - и шли. Привычка долгих лет создает в лагере своеобразное равнодушие и иммунитет ко всякого рода словам: агитировать зэ-ка - напрасный труд. Они все знают. Разница между красивой и неудачной речью для них равна нулю.
Круглица - очаг лагерной культуры. Здесь можно ее изучать в высшем проявлении. От времени до времени КВЧ выпускает стенную газету. Она называется «За Темпы» или «Выше Знамя» или «Стахановец» и пишется от руки наилучшим рисовальщиком лагпункта. В заголовке цветная картинка: поле, над которым подымается восходящее солнце, пахарь идет за плугом, могучий и широкоплечий, как былинный Микула. Со стороны смотрят на него с обожанием: девушка с длинными косами и дети. Потом передовая статья: «перевыполним программу весеннего сева!» - Потом корреспонденция о непорядках в 10-ой бригаде: нарисован отказчик, спящий под кустом во время работы. - Потом заметка о людях, которые не соблюдают правил гигиены и оправляются за углом барака. - Потом таблица КВЧ о результатах трудсоревнования на лагпункте. - Потом большими буквами: «Честь и слава отличникам производства!» и фамилии 5 человек, дающих от 150 до 200% на косьбе и строительстве. - В сельхозе поймали заключенного на краже нескольких картошек. Нарисован этот заключенный в виде Петрушки-Паяца, рука правосудия, которая вытягивает у него краденую картошку из кармана, и подписано: «любитель печеной картошки будет иметь время в штрафизо-ляторе подумать о результатах своих действий». Эта газета вывешивается у вахты на доске за проволочной сеткой. За проволочной же сеткой раз в неделю или в 2 недели можно видеть номер «Правды Севера» - газеты, выходящей в Архангельске, или даже номер «Правды» или «Известий», 10-дневной давности. Проволочная сетка необходима - иначе газеты были бы немедленно содраны и раскурены.
Помещение КВЧ состоит из 2 комнаток: кабинет начальника, всегда запертый в его отсутствие, и комната, где стоит шкафчик с книгами, стол, скамьи по стенам. На стене - большая карта Сов. Союза. Это большая драгоценность, и имеется не на каждом лагпункте. Заключенным вообще не разрешается держать географических карт, и мы, западники, с трудом ориентировались в том, куда нас завезли. За 3 года на Круглице я наизусть выучил эту карту. Прибалтийские государства лежали еще на ней за пределами России, а половина Польши входила в состав Германии. Карта эта кочевала: иногда ее забирали в кабинет к начальнику, иногда она висела в столовке зэ-ка, сияя красным цветом на пол Азии и Европы.
Библиотека состояла из случайных книжек и брошюр, вроде «Курс свиноводства» и «Речь Молотова на 18 съезде Советов». Читать было нечего, и, что было, выдавалось только особо надежным людям, которые не раскурят книги. «Читающих» было в лагере человек 20, из числа хронических больных в стационаре, и они раздобывали себе книги через посредство вольных из поселка. Среди вольных книга тоже была редкостью. Каждая книга, которую завозили в Круглицу, обходила весь круг читателей, и мы иногда месяцами ждали своей очереди. - Отдельно стояли в шкафчике КВЧ «Вопросы ленинизма» Сталина в 3 разных изданиях, второй том популярного издания Маркса и томов 20 полного собрания сочинений Ленина. Этих книг никому не показывали и я был их единственным читателем в Круглице. Я не помню чтобы за это время хотя бы один человек заинтересовался ими. В бараке я заботливо прятал эти толстые томы, чтобы соседи-курящие не вырывали страниц. Выдавали их мне полуофициально и неохотно. Одно время уполномоченный совсем запретил выдавать их мне. Почему? КВЧ в лагере не занимается политическим образованием заключенных, и всякий интерес с их стороны к теории и классикам марксизма принимается с недоверием. Книги Ленина и Сталина очень святы, но это не предмет для критического изучения. Обыкновенный советский смертный относится к ним с некоторым испугом. Для них нужна подготовка; их читают в кружках с партийными инструкторами, а для массы существует минимум и канонические руководства, выходить за их пределы является признаком нездорового любопытства.
В КВЧ обыкновенно работает какой-нибудь смирный и неспособный к физическому труду заключенный, делающий фактическую работу за своих полуграмотных «вольных» начальников. Все на нем: библиотека, раздача и отправка писем, распределение газет для чтения по баракам, контроль процентного выполнения плана отдельными бригадами, картотека дисциплинарных взысканий, т. е. запись, кто, когда и за что сидел в карцере, составление характеристик, прилагаемых к каждому заявлению или ходатайству зэ-ка, составление газеты, развешивание плакатов, составление отчетов, заполняемых фантастическими сведениями о культурной жизни лагпункта. Он не только почтальон, редактор и культорганизатор, он, кроме того, еще и дневальный в помещении КВЧ, т. е. спит в нем, топит, моет пол и подметает. В промежутке между подметанием и разноской писем он пишет «характеристику» приблизительно такого рода: - «з/к такой-то, срок и статья такие-то, работает 6 месяцев возчиком, работу выполняет на 70%, в быту поведения хорошего, дисциплинарным взысканиям не подвергался».
Эту «характеристику» подписывает начальник КВЧ и от нее часто зависит судьба заявления, направляемого в правление Лаг'а, или в отделение.
За столом КВЧ, заваленным кистями и красками, работает двое-трое маляров, изготовляющих без конца плакаты и лозунги. Они пишут на досках и потом вывешивают их всюду, где можно. Лагпункт облеплен лозунгами до того, что их уже не замечают: если бы сняли, заключенные заметили бы перемену. Лозунги приходят готовые из центра. Нельзя изменить в них ни буквы, но можно сделать выбор из нескольких десятков лозунгов: выбирают покороче, чтобы писать не надо было много. Впрочем, художники КВЧ не заинтересованы в том, чтобы быстрее кончать работу. Наоборот, в их интересах тянуть и размазывать, так как их работа не нормирована и оплачивается, как всякая ненормированная работа - 2-ым котлом и 500 гр. хлеба в день.
Содержание плакатов патриотическое: «Родина зовет!» - «Все на борьбу с фашистскими захватчиками». - Родина рассчитывает на патриотизм людей в заключении, изолированных и лишенных права употреблять слово «товарищ». Эти люди участвуют в освободительной войне России, сидя в концлагерях под охраной! До лета 1941 года родина их рассматривала, как рабочий скот и опасность для государства. Теперь, после военной катастрофы, когда немцы проникли в глубь России, родина попрежнему держит их в лагерях, но ждет от них патриотизма! И все мы, конечно, великие патриоты.
После начала войны поток прошений полился из лагерей с просьбой об освобождении и отправке на фронт. Но Советская власть даже в самые тяжелые моменты войны не рисковала включить заключенных в ряды армии.
Другие плакаты - производственные: «Подымем темпы!» - «Беспощадно уничтожим отказчиков и бракоделов» - «Сегодня работать хорошо - завтра еще лучше!» - Внутри бараков - еще другие плакаты: «Соблюдай чистоту и следи за чистотой соседа». - «Веди себя культурно!» - «Не пей сырой воды!» - От плакатов спрятаться некуда. Засыпаешь в переполненном бараке, читая надпись на противоположной стене: «Кто не работает, тот не ест!» - а первое, что видишь, пробуждаясь, это лозунг: «Да здравствует братство народов СССР!» - Лучшей иллюстрацией этого братства была наша нара, где тесно прижавшись один к другому спали впятером: Хассан Оглы Худай Берды, Юлиус Марголин, украинский рыбак Беловченко, финн-художник Котро и китаец Ван Чан-лу, который слово «рубашка» выговаривал не иначе, как «лубашика».
Основной культурно-воспитательный дивертисмент Круглицы - это кино и радио. Круглица в этом смысле была оборудована образцово. Первый и пятый год заключения я провел в лагерях, лишенных этих удобств. Зато 3 круглицких года были сдобрены обильно музыкой и киносеансами.
Кино для заключенных устраивалось летом на открытом воздухе, а зимой в помещении столовки, выстроенном: в 43 году, а до того в одном из бараков. От времени до времени устраивались сеансы для больных, составлявших половину населения сангородка. Тогда сносились скамейки в коридор первого стационара, и из окружающих больничных бараков начинали сползаться в серых больничных халатах, с трудом передвигая ноги, те, кто еще был способен на это усилие. Для больных, месяцами лежавших на койках, это было великим событием. Человек 50 собиралось на такие сеансы. На кино для здоровых приходило до 100 человек, включая и лагерное начальство. Всего было в Круглице до 700 человек з/к. Рядовые работяги или инвалиды после еды сразу ложились спать, и им было не до кино.
Киносеансы устраивались нерегулярно, то раз в неделю, то раз в месяц. С утра уже известно, что прибыл киномеханик (под конвоем), и если успеет к вечеру поправить передвижной киноаппарат, будет кино. Аппарат почему-то всегда нуждается в ремонте. После ужина публика начинает собираться в помещении столовки. Столы сдвинуты в сторону, со всех бараков несут скамьи и табуреты, на стене растягивают белую простыню. Час и два проходит в ожидании начала. Понемножку сходятся придурки и поварихи, сиделки и медсестры в чистых платочках, щеголиха Настя Печонкина в полосатой юбке, сшитой из польской пижамы, парикмахер Гриша со смертельно влюбленной в него конторщицей Сашей, Семиво-лос и Агронская, Нинка и Лизавета Ивановна, интеллигенция лагеря, бригадиры и молодежь, металлисты из ЦТРМ с вечно-черными неотмываемыми лицами, а в самой середине - сияющий и довольный Максик, д-р Макс Альбертович Розенберг, человек неслыханного добродушия и великий любитель кино. Маленькое помещение переполнено, люди сидят на столах сбоку и толкутся у дверей. Отдельно в боковой нише, как в ложе, сидит Гордеева и несколько «вольных» гостей. Я прихожу со своим табуретом, и, подняв его над головой, проталкиваюсь в передний ряд, где и устраиваюсь у окошка.
Наконец, гаснет свет, и киномеханик, окруженный народом, начинает вертеть ручку. Сразу на экране является тень голов, слишком близко сидящих; их отсаживают подальше, и начинается действо.
Лагерное кино не совсем похоже на то, что известно под этим именем в странах капиталистической конкуренции. Что-то мелькает на полотне темно и неясно. Какое-то пятно или крюк упрямо проступает на простыне экрана. То и дело рвется старый изношенный фильм. Как в дедовские времена - после каждой части фильма - перерыв. Звукопередача никуда не годится, и в середине сеанса киноаппарат обязательно портится, и публика ждет терпеливо, пока его починят. Тем временем в дверь ломятся запоздавшие, но стража их не пускает. Запоздавшие не уходят, а ждут, пока пройдет какой-нибудь важный чин лагерной администрации, которого нельзя не пустить, и тогда валят за ним следом в приоткрывшуюся дверь. Валят скорее из принципа, так как в задних рядах стоящим все равно ничего не видать. Дело и не в фильме, который по большей части скучен, растянут и непонятен, а в том, чтобы стоять в темноте, вытягивать шею, слушать треск и хриплые шумы, томиться ожиданием: «когда уже конец?» и наслаждаться сознанием участия в культурном времяпрепровождении. Развлечение вносит появление дневального из «штаба», громко вызывающего в темноту: - «Зэ-ка такой-то! Бригадир такой-то! Немедленно явиться к начальнику лагпункта!» - После чего в гуще сидящих происходит движение, и начинается проталкивание между тесно сдвинутых рядов.
Больше всех фильмов, виденных в лагере, запомнился мне один, под названием (кажется) «День Мира». Фильм этот в один из августовских дней 1940 года накручивала в десятках пунктов Сов. Союза целая армия кинооператоров, и целью его было дать разрез обыкновенного рабочего дня великой страны. Мы видим, как на рассвете подымаются люди на работу в колхозах Камчатки и горах Кавказа, как просыпается миллионная Москва, дети идут в школу, а Михаил Иванович Калинин в здание Верховного Совета, как тракторы сходят с конвейера фабрик, а суда со стапелей верфей, как ученые работают в лабораториях, как ликует толпа на стадионах, кверху ползет занавес театра, и на сцене стоит Уланова. Прекрасный обзор дня на шестой части земной суши, симфонический и полный динамики фильм...
... Сидя в уголке на табурете, я вспомнил то, что не вошло в этот фильм: как я сам провел - этот самый августовский день 40 года на 48 квадрате Второго онежского отделения исправит.-трудовых лагерей ББК, - вспомнил, и мурашки поползли у меня по спине... Как провели этот день миллионы заключенных в тысячах концлагерей Советского Союза?
Газеты, книги, кино - все эти «эффекты» имели в жизни заключенного скорее символическое значение, как напоминание о мире, из которого он выпал: случайный привет, крупинки со стола, от которого нас прогнали. Настоящую связь с внешним миром (в советском смысле слова) составляло радио. Сангоро-док Круглица был радиофицирован в такой степени, что радио стало частью обыденной жизни. В дни, когда радио не действовало в бараке, мы чувствовали пустоту и уныние. Радио отвлекало от мыслей о еде, помогало забыть о нашей беде. Заключенным включали радио утром от 7 до 9, и вечером от 7 до 12. Утренней передачи мы не слышали, выходя на работу, - она была привилегией больных и лагобслуги. Зато вечер в круглицких бараках без радио - непредставим.
Не надо и здесь представлять себе идиллии. Советское радио не надо смешивать с тем, которое читатель этих строк имеет с своей комнате. Радиоаппаратов нет. Огромное большинство советских людей впервые увидело их заграницей в годы войны. Дома - радиопреемники составляют привилегию надежных «своих» людей - советской аристократии. Из тысяч советских людей, с которыми я разговаривал в лагерях, только один до ареста имел настоящий радиоаппарат у себя на квартире: это был директор днепропетровского завода пищевой индустрии и член партии. Серая масса обслуживается «радиоузлами» - как население лагерей, так и вольные.
В глубине барака под потолком или на столбе укреплен из восковой бумаги диск громкоговорителя. Нельзя ни выключить, ни регулировать передачи. Это «Zwangsradio». Воронка, вставленная в наши уши. Хочешь, не хочешь - радио говорит. Кто не любит «радиовещания» - ложится подальше: радио слышно ясно и внятно только в непосредственной близости. Поэтому вечером, когда сто человек, или больше, гомонит в бараке, обедает, перетряхивает вещи, ссорится, раздевается, ищет вшей, играет в карты, курит, варит, когда дневальный в одном конце рубит дрова, а в другом у боченка с водой стоит очередь с кружками - в эту кутерьму вливается гудение и дребезжание из эфира, которое никого особенно не беспокоит и воспринимается привычным ухом, как обычный лагерный шум. Только когда приходит время фронтовой сводки - начинается шиканье и крики: «дайте слушать!» Кто действительно хочет слушать - подходит вплотную под диск и наставляет ухо. Потом эти люди перескажут другим, что слышали. Большинство не слушает, а если и слушает, не разбирается. В каждом бараке есть один-два человека, у которых все спрашивают: что сегодня передавали? Музыки зато не надо слушать. Она сама входит в уши. И что это за музыка!
Каждый из нас, услышав нечто подобное дома, поскорее выключил бы радио и позвал монтера посмотреть, что испортилось. Но здесь - это нормальное явление. Именно так должно звучить радио, монополизированное государством. Можно (вольному) отказаться от него, но нельзя заменить его лучшим. Нам, зэ-ка, нельзя и отказаться. Половина бараков на Круглице, если бы; их опросили, отказалась бы от этого фальсификата, который так же похож на нормальное радио, как лагерная баланда на нормальную еду, лагерный барак на нормальное жилище и советская демократия на свободную человеческую жизнь. Это - те бараки, где громко выражают удовольствие, когда ломается громкоговоритель, и по неделям не беспокоят КВЧ просьбой о поправке. Однако, не все так бесчувственны и некультурны! Мы, любители радио, понемножку приноровились к его хрипу и визгу, научились различать музыкальный смысл в его какофонии: мы знаем, что это Бетховен и Глинка, с поправкой на несовершенство передачи. Мы были терпимы и терпеливы. Иногда радио рычало, как тысяча буйволов, но вдруг вырывалась из него чистая кантилена Ойстраха, и мы слушали ее набожно, хотя в этом смрадном логове голос скрипки звучал почти как контрреволюция.
С годами я привык засыпать под морской прибой, под лепет и шумы радио. Всегда мое место было на верхней наре. Там не только теплее, но и дальше от людей. Над головой потолок, угрюмые балки в паутине и трещинах. Барак с его толчеей где-то внизу - невиден. Радио - в ногах, или совсем близко. День кончен, и съеден отложенный на вечер хлеб - и остается слушать низкий голос Руслановой (этой советской Плевицкой) или хор Пятницкого с гнусаво-задорным рефреном песни... «И кто его знает, зачем он моргает»... и снова Чайковского, которым так же злоупотребляют в советском радио, как в польском до войны злоупотребляли Шопеном. Слушая, я засыпал, и только в половине двенадцатого открывал глаза - выслушать последние новости. Последние 5 минут посвящены новостям из-за границы, тогда напрягается внимание и садишься на наре: не пропустить ни слова. Весь барак спит уже с 10-ти. Спят возчики, землекопы, живые скелеты, голодные русские мужики, а над ними, как привидение, как нелепый абсурд, порхает мелодия: Дебюсси для каторжников. Дебюсси хоть не мешает им спать. Но иногда в нашем бараке, полном храпа, клопов, разутых портянок и зэ-ка, так и не раздевшихся из-за холода, или крайней слабости, начинает заливаться колоратурное сопрано. Надо представить себе комбинацию отчаянного женского визга с трелями и фиоритурами советской радиотехники и мозолистых мужицких ушей в поздний час всеобщей смертельной усталости. Такая комбинация на Западе немыслима: для этого необходимы советские лагеря и КВЧ. Вдруг, за три места от меня, подымается дико мужик со сна. Это кубанский садовник Таврило, человек под 60, который в лагере возит навоз, ходит в рыжей хламиде из дерюги и в ней же спит. Его всклокоченная голова с торчащей вперед острой бороденкой, пьяные со сна глаза, полминуты всматривается по направлению, откуда несутся пронзительные нечеловеческие «staccato», и произносит раздельно и тихо:
- Рррегочет, кобыла!
Столько смертельной ненависти, столько бессилия защититься от этого ночного наваждения и глумления в этих двух словах, что мне становится и смешно, и жалко. Радио - отличная вещь, итальянская ария - и подавно, а садовник Таврило - мастер в своем деле не меньше, чем Верди в своем. Жаль, что Иосиф Виссарионович, вдохновитель и создатель КВЧ, в большом кабинете кремлевского дворца, где стоит прекрасный заграничный аппарат, не слышит ни этой музыки, ни этого комментария. Может быть, он упразднил бы - если не лагеря, то хоть колоратурные упражнения в лагерях...
В полночь радиопрограмма кончалась «Интернационалом». Среди войны ввели новый гимн, - и воскресло слово, которое, казалось, уже было забыто:
Союз нерушимый республик советских Сплотила навеки великая Русь...
Мелодия этого гимна, медленно-тяжелая, клубящаяся и мощная, как грохочущий исполинский танк - несложная до того, что ее могут петь даже безголосые - навеки врезалась в мою память. Тысячу раз я слышал в лагере старый и новый советский гимн. На всю жизнь они связаны у меня с воспоминанием о телах, простертых на нарах и поверженных в оцепенение - или с видом бригад, стягивающихся на вахту в ранний рассветный час. - «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов...» - это мы понимали буквально, как сигнал на побудку... Пять лет спустя я был с товарищем лагерных лет на собрании в Тель-Авиве, которое закончилось пением «Интернационала». Когда раздались первые знакомые звуки, я оглянулся на товарища и увидел, что ему нехорошо. Лицо его покрылось бледностью, глаза блуждали... Ему, должно быть, показалось, что он снова в старой мышеловке. Он повернулся и начал крадучись пробираться к выходу. Но выйти ему не дали. Молодые люди загородили ему дорогу и заставили прослушать «Интернационал» до конца. Он закрыл глаза и сразу успокоился. На улице я его спросил: «куда ты побежал?» Он ответил: «Знаешь - как только заставили меня слушать, я сразу вернулся в то старое привычное состояние лагерника. Я закрыл глаза, и мне показалось, что рядом со мною стоит еще 200 миллионов советских граждан. Так это нормально, так это полагается: слушать „Интернационал“ по принуждению... А иначе слушать я уже никогда больше не смогу»...
Советское радио, без сомнения, является самым скверным, самым серым и скучным во всем мире; оно перегружено однообразной пропагандой, не обязано быть интересным и рассчитано на самых примитивных слушателей. Путем настойчивых и монотонных повторений приучают массу к определенным стандартам, одобренным свыше всесоюзной КВЧ. Песни Руслановой мне очень нравились в первый раз, но в тысячный раз они меня раздражали, как назойливая муха. Сладкая лиричность Чайковского в этих условиях - тягостна и оскорбительна. Но все равно - все это вместе, Чайковский и Русланова, передовицы «Правды» и лозунг «убей немца», были прочно вколочены в мой мозг и подсознание. Нет такого лозунга, нет такой нелепицы и лжи, которых нельзя было бы путем тысячекратных и многолетних повторений навязать сознанию человека. На этом механическом подходе и основана колоссальная работа советского радио на службе кремлевской диктатуры. Миллионы советских людей, которые с детства слышат одно и то же и никогда не слышали другого радио, кроме советского, беззащитны против систематического его влияния. Не надо убеждать; достаточно повторять.
Если бы радио трижды в день в течение 25 лет повторяло, что 2x2 = 5, то и это стало бы обычным убеждением советских граждан. В этом страшная опасность оглупления, которую современная техника создает в странах тоталитарного режима. У нас не было в лагере хлеба досыта, но именно поэтому мы имели вдоволь радио - «опиум для народа» по рецепту Политбюро. Только в лагере я понял, что значит «свобода выбора», и думаю, что короткое пребывание в нем научило бы каждого западного «скептика» лучше понимать смысл политической свободы, которой он пользуется, и демократических вольностей, которыми он избалован до снобистского пресыщения.
Два явления с железной логикой вытекают из системы лагерного воспитания:
1. Чисто городское интеллигентское слово «культура», до советской власти вообще чуждое массовому человеку, теперь употребляет и знает каждый лагерник, наравне с такими словами, как «план», «норма» и «сто грамм». Понятие культуры в лагере равнозначно с понятием «гигиена». В уме обыкновенного русского человека оно ассоциируется с мылом и зубной щеткой. Быть культурным значит мыться, быть чистым и не плевать на пол. Величайшее преступление против культуры - пропустить баню. Достижение Советской власти в том, что слова «культура», которое раньше было известно немногим избранным, теперь поступило в мещанский обиход. Но под этим именем насаждается жалкий эрзатц. Перед культурой каждый уважающий себя советский обыватель чувствует себя не в порядке, если у него не вычищены до глянца ботинки и нет простыни на кровати. Сплошь и рядом в бараке можно слышать, как комендант сыплет матерной грязной бранью за некультурность, т. е. за то, что люди после нечеловеческой работы легли не раздевшись на нары. Он не понимает, что, кроме чистоты телесной, есть еще чистота другого рода, и его сквернословие по крайней мере так же некультурно, как неподметенный пол и грязные нары. Еще меньше он в состоянии понять, что лагерные нары, даже дочиста вымытые руками зэ-ка - несовместимы с культурой и представляют глубочайший позор и унижение человека. Чтобы сделать из зэ-ка культурных людей, надо было бы их, прежде всего, вывести из лагерей. Советская власть поступает наоборот: сажает в лагеря миллионы людей, а потом организует для них, лишенных образа и подобия человеческого - «культурно-воспитательную часть». Она не отрицает культуры: она только передает ее в ведение жандармов, и так ее препарирует, что каждый хам и тюремщик может чувствовать себя ее представителем и инструктором.
2. За пределами культурной гигиены и внешнего приличия каждая культурная ценность скомпрометирована в глазах массы з/к, и подорвано уважение к культуре, монополизированной и представляемой служащими КВЧ. Лагерника нельзя научить уважать книгу, или научную мысль, или музыку. Наоборот: все эти вещи для него очевидно составляют часть хомута, надетого на его шею, - орудие вражеской силы. - КВЧ периодически отбирает способную лагерную молодежь и посылает на особые курсы для нормировщиков, приемщиков, конторщиков, приспособленные к особым требованиям лагеря. Люди, прошедшие эти курсы, получают квалификацию, но не могут проникнуться уважением к знанию, которое, как они видят, поставлено на службу НКВД. В уме этих людей создается опасная ассоциация между ценностями культуры и формой порабощения, существующей в лагерях и направляемой извне.
И вот типичная картинка: я прихожу на вечерний прием в амбулаторию с книгой, зная, что в очереди придется ждать больше часу. Но человек с книгой раздражает окружение. Вид человека, читающего книгу, действует им на нервы. Казалось бы я сижу тихо и никому не мешаю. Но вокруг меня постепенно нарастает атмосфера отчуждения и обиды, как будто бы я среди богомольных евреев закурил в субботу папиросу... Неприязненные взгляды... И наконец, долговязый лохматый работяга, весь в бинтах от фурункулов, не выдерживает и обращается ко мне: «Слушай! - говорит он, - сделай милость, закрой ты эту книжку... не могу я смотреть, как ты в ее уткнулся... чего это все с книжками ходят... образованные...» Человек этот чувствует какую-то связь между моей книжкой и своим несчастьем. Ненависть к режиму, которая не находит себе никакого политического проявления, приняла форму ненависти к интеллигенции вообще, от которой все несчастье. Темная масса в России не знает ни другой интеллигенции, ни другой книги, ни другой науки, ни другой идеологии, кроме коммунистической. Глухое и стихийное отвращение к идеологии, равнодушие и презрение ко всякой идеологии охватило все слои населения, залило шестую часть земного шара.
Русский народ поразительно талантлив, и нет такого лагеря, где бы в тысячной массе не отыскалось певцов, танцоров и рассказчиков. Эти люди под руководством заключенных в лагеря профессиональных артистов развлекают, как могут, себя и других. На Круглице находилась вдова расстрелянного в Советском Союзе польского поэта-коммуниста Вандурского. Это была полька из Киева, опереточная артистка. В лагерь она попала в 1937 году, как жена своего мужа, уже несколько лет после его расстрела, - увяла и состарилась в короткий срок, - но еще сохраняла претензии и манеры «звезды». Она работала в портняжной мастерской, и весь Каргопольлаг знал «Ванду». На открытой сцене в Сангородке я видел одно ее выступление. Густо набеленная и наряженная в пестрый ситец, она пела, кокетливо улыбаясь и поводя плечами: «Мирандолина! Миранд-о-лина!» - а на скамьях сидели кругом сотни заключенных. Это было в июле, во время короткого северного лета. На четырех вышках в четырех углах ограды лагеря стояли часовые с ружьями, тюремный частокол с высоким проволочным заграждением отделял нас от воли, а на площадке внутри шло «представление». Сыграли скетч: все были в пиджаках, с трудом раздобытых у вольных жителей поселка. Вид заключенных в пиджаках вызывал взрывы хохота. Потом были танцы. Под звуки баяна танцовали вальс и польку; заключенные женщины в мужских телогрейках и юбках с обтрепанным подолом кружились с кавалерами в заплатанных штанах и гимнастерках второго срока, с мертвенно-бледными изрытыми лицами и ввалившимися щеками, с выбитыми зубами и остриженными головами. Направо был карцер, налево вошебойка, сзади вахта, спереди запретная зона. Каждый из этих людей имел за собой тюрьму и голод, разрушенную жизнь, смерть любимых и разлуку с родными. Это была лагерная идиллия, лагерный праздник. Танцовала лагерная б. с нарядчиком, Ванда с поваром, Нинка с Семиволосом, фармацевт с поломойкой, осетин с латышкой, китаец с воровкой, парикмахер Гриша с конторщицей Соней; две приземистых бабы со вздернутыми носами, из прачечной, для которых не нашлось кавалеров, танцовали друг с другом, с видом деревянных манекенов. А сбоку стоял начальник КВЧ в армейской шинели и смятой фуражке и смотрел с удовольствием. - Конторщица Саня была счастлива, не подозревая, что завтра утром отправят ее по этапу в другой лагпункт, и не увидит она больше ни своего Гриши, ни конторы, ни Сангородка Круглица, где так замечательно поставлена КВЧ.
Глава 27. Исаак Пятый
С течением времени жизнь в лагере приняла черты тихого и ровного безумия, экспериментального Бедлама или фильма, накручиваемого вверх ногами в кривом зеркале. Мы то ходили в сельхоз собирать гусениц; то убирали камни с полей; то воздвигали изгороди из выкорчеванных пней; то ощипывали хвою с еловых ветвей. Каждая из этих работ была нужна в том особом мире, где мы жили.
Я вижу себя ползающим по сырой борозде капустного огорода. Гектары молодой капусты изъедены червями. Зеленые листья качанов густо покрыты жирными зелеными червями, гусеницами большими и малыми, еле видными глазу. С одного качана можно снять 20 и 40 штук, смотря по прилежанию. Каждый из нас вооружен дощечкой и деревянной спицей, которой он сковыривает червей. Скоро мы бросаем эти неудобные спицы и начинаем руками давить гусениц. Сперва это кажется противно, но через полчаса нам уже все равно. По 15 бороздам движутся 15 зэ-ка, которые сами похожи на огромных серых гусениц. Они то приседают на корточки, то стремительно бегут вперед, когда видят, что соседи обогнали их. Это не работа для людей брезгливых или нервных. Сколько ни снимешь червей - еще останется их довольно, и ни у кого нет ни терпения, ни времени долго возиться с одним качаном. Качаны опрысканы чем-то ядовитым и горьким, и зеленые листья несъедобны. Но все суют их в рот, и на завтра полбригады будет больна желудком. Сколько времени можно обирать червей с капусты? Половина из нас - окретиневшие полуидиоты, половина - тяжкие неврастеники, но и те и другие через несколько часов уже только делают вид, что работают. Их без труда уличают в преступном нерадении (вредительство!), т. е. в том, что пройденные борозды кишат по-прежнему червями, - и заставляют проделать работу сначала.
Тем временем есть на складе в сельхозе квашенная капуста, и надо только улучить мгновение, и, пока дремлет стрелок, метров на 200 пробраться в сторону, где склад. Двери открыты, работники выкатывают наружу огромные порожние бочки. Во внутрь склада прорваться невозможно. Там стоит заключенный завскладом Анисим Петрович, мужик злой, бородатый, глаза волчьи и кулак с гирю. Но в сенях склада застряла бочка с капустой. Известие об этом с молниеносной быстротой расходится по всему сель-хозу. Со всех сторон подходят смельчаки, заглядывая в дверь. Анисим Петрович в глубине склада чем-то занят. Кто-то набрался духу, вскочил, свернул с бочки тяжелую крышку. Засунул руку, еще всю в беловато-зеленой течи от капустных червей, - и цап одну пригоршню капусты, потом вторую. Куда? В карман бушлата. Зубы ломит от мерзлой холодной капусты. Одному удалось, за ним второй и третий. И вдруг из-за дверей выскакивает Анисим Петрович с лицом, искаженным злобой и яростью. Люди опрометью бегут прочь, но один паренек (берлинского происхождения), с нежным ртом и грустными семитскими глазами, не уступает. Он продолжает торопливо набивать карманы, пока Анисим не подлетает к нему, вырывает из рук капусту и повернув за плечи к выходу, бьет из всей силы в спину, по шее:
- Сволочь, ворюга!
Все равно, капуста наша. Мы набиваем капустой котелок - я и парень, родившийся в Берлине - и ставим его на огонь в печке теплицы. Часа через два доспеют капустные щи. Но, к несчастью, кто-то подсмотрел, как мы ставили на огонь котелок. Через полчаса бежит берлинец, на лице ни кровинки. Кто-то спер котелок вместе с капустой. До слез обидно Исааку: ни котелка, ни капусты, а главное - даром, ни за что получил по шее от Анисима Петровича.
Пять Исааков было в моей жизни, и это был - пятый. Все пять были непохожи друг на друга.
Первый Исаак был мой дядя, старший брат моей матери. Он жил в городе Пинске, и у него в доме я воспитывался, когда мне было 10 лет.
Это был человек мягкий, добрый и слабохарактерный. Ему я обязан тем, что играю в шахматы с 10-летнего возраста. В 10 лет его шахматное искусство восхищало и озадачивало меня, но в 15 я уже его обыгрывал. Дядя Исаак обанкротился в том самом году, когда я поселился в его доме. Под окнами собирались скандалить шумные кредиторы, и все были в доме несчастны, но ничто не могло поколебать стихийного добродушия дяди Исаака.
До банкротства дядя Исаак был состоятельным человеком, а после банкротства дети его выросли коммунистами, помогали делать Октябрьскую революцию на Украине, и дядя Исаак умер в доме, дочери-коммунистки где-то в советской Пензе.
Второй Исаак был мой любимый старший кузен, пролетарий и революционер. Он боролся с царским самодержавием, сидел по тюрьмам, и от него я узнал впервые, что можно любить «свободу», и ничего нет вкуснее куска хлеба с головкой чесноку. Он и меня выучил есть хлеб с чесноком. Это был рыжеватый парень с серыми веселыми глазами - «бундист». В 1920 году мой кузен Исаак наступал с Красной Армией на Польшу, взял родной город Пинск и был в нем членом Ревкома. При отступлении из города он был убит, вернее - пропал без вести. Вышел из города последним - и след его пропал. Больше никто, нигде и никогда не видел кузена Исаака.
Третий Исаак играл прекрасно в теннис, кончил медицинский факультет в Цюрихе, и когда вернулся в Польшу, то оказалось, что ему, как Исааку, нельзя нигде получить даже бесплатной работы. Этот Исаак не был ни еврей, ни поляк, ни русский. Поэтому он стал американцем. Он во-время, т. е. в 1938 году, уехал из Польши в Америку. Пришлось ему там первое время заниматься фотографией, но в конце концов американцы согласились использовать его как врача, и мой шурин Исаак назвал свою дочку «Франсес-Карол» - и купил себе в рассрочку автомобиль недурной марки.
Четвертый Исаак не был родственник, а просто товарищ. Был у него в Польше родительский дом и наследственные перины, но когда отец не захотел отпустить его в Палестину (отец в Ченстохове решил дожидаться пришествия Мессии), юный Исаак бросил отчий дом, спал в Варшаве полтора года на столе в «организации» и потом уехал в Палестину нелегально. Вдоль далматского и албанского побережья, через Зару, мимо Корфу и многих островов привел нелегальный кораблик человек триста к еврейскому берегу. Это было в 1938 году. На родине Исааку пришлось поголодать. Ему принадлежит историческая заслуга: он боролся героически за передачу ассенизационного обоза в Тель-Авиве, оккупированного арабами, в еврейские руки. Он один из первых поехал на бочке, но через год все увидели Исаака на более квалифицированной работе, а о дальнейших его превращениях хроника умалчивает (до поры до времени).
Историю четырех Исааков я рассказывал пятому не так коротко, как она приводится здесь, ибо в лагере мы не были заинтересованы в сжатости. Сроки у нас были длинные, времени много, и мы рассказами убивали время, разменивали настоящее на прошлое, чтобы скорее дождаться будущего. Как врага, мы встречали каждый месяц - и провожали, не жалея. Мы верили, что придет когда-нибудь такой месяц, который будет нашим другом.
Исаак пятый пристал ко мне в сангородке Круглица в ту весну, когда нам обоим было достаточно плохо. Нас обоих исключили из амнистии. Его и нельзя было амнистировать, за отсутствием приговора. Он сидел в лагере «без срока», - так, просто, - в ожидании, что начальство вспомнит о нем и выпишет ему какой-нибудь срок. Это был сын берлинского домовладельца, по фамилии Кнопф. Родители его были польские евреи, осевшие в Берлине еще до убийства Ратенау. Отец имел галантерейный магазинчик где-то в окрестностях Uhlandstrasse, двадцать лет копил деньги и купил себе дом в Шарлоттенбурге. Исаак родился в Берлине и провел в нем первые 17 лет своей жизни. Это был настоящий «Berlinerjunge», со всеми ужимками и берлинским диалектом, единственный маменькин сынок, нежнолицый, большеглазый. После захвата власти Гитлером семья еще 5 лет оставалась в Берлине. И дом и магазинчик немцы отобрали, но, видно, еще не так плохо жилось берлинским евреям, если 80.000 их упорно оставалось на старом месте. Наконец, в 1938 году немцы их силой вернули в Польшу, и юный Исаак, 17-ти лет отроду попал в Галицию, которая ему сильно не понравилась после Берлина. За год он кое-как научился по-польски, но тут разразилась война и разделила семью. Родители остались в «немецком» Кракове, а юный Исаак у тетки в «советском» Львове. Он поступил кельнером в ресторан, но весной 1940 года дал маху, записавшись на возвращение к папе-маме в Краков. В июне его арестовали и без объявления срока привезли в Каргопольлаг. Теперь, спустя 2 года, стоял предо мной тощий, долговязый и слабосильный юноша, искавший защиты и объяснения - что такое делается на свете?
То, что он вырос в Берлине и говорил по-немецки, как настоящий наци - сильно скомпрометировало его в глазах советской власти. На всякий случай оставили его в лагере «до особого распоряжения», которое м. б. и до сих пор не наступило. Дальнейшая судьба пятого Исаака мне неизвестна. Но на Круглице мы были большими друзьями. Мы помещались вместе, вместе работали и учились. Исаак пятый стал моим духовным сыном. Знакомство началось с того, что он подошел ко мне попросить почитать книжку. В разговоре он застенчиво улыбался и, опустив ресницы, глядел «в себя», - как будто не стоило глядеть на все окружающее. Он выражался очень благовоспитанно, по-немецки - и был курьезно непохож на лагерный тип молодежи. Не волчонок и не шакал, а смирная комнатная собачка, которая потерялась на улице, набрала вшей и впервые сделала открытие, что существует на свете живодер.
Я постарался объяснить ему, что он - всего лишь пятый: не первый и не последний, а один из тех, кем судьба играет как мячиком, - и что надо пробовать отбиться от несчастья путем мобилизации внутренних ресурсов. Но таких ресурсов не было у него по молодости лет. Сладкое немецкое детство перешло в заячий страх и стыд, потом была чужая Польша с чужими и неприятными евреями в кафтанах и пейсах, потом «советский гуманизм», от которого мог растеряться и более умудренный опытом человек. То, что держало этого еврейского немчика на поверхности - было знание о другой жизни: он знал и помнил, что есть Европа дивной красоты, совсем непохожая на эту лагерную трясину, но с ней и с ним что-то случилось, чего он понять не мог. И вот я принялся ему рассказывать о людях, о вещах, событиях и идеях, обо всем, что, как я надеялся, могло его поддержать и укрепить. Я ему преподавал, я хотел из него сделать «сильного человека» в лагере. Сперва он заинтересовался, но одних рассказов мало в лагере. Потом наступил процесс, который я напрасно старался задержать - процесс «захлебывания». Человек захлебывается в лагере, как утопающий в соленой воде моря. Некоторое время он держится - на доске, на спасательном круге. Но в конце концов, если не вытащить его из воды, он идет ко дну.
В сельхозе сеяли картошку. Семенной картофель привозили под охраной вооруженных, складывали в поле, и стрелки с винтовками оберегали мешки от зэ-ка, которые весь день кружили около. У самих стрелков карманы были полны краденной картошки и овощей: у них дома были голодные дети. Мы с Исааком пятым тоже попробовали стянуть картошку, но позорно провалились. Когда мы пришли, никого не было видно из охраны, и у нас дух захватило от такой удачи: мы быстро подкрались и положили себе каждый по 10 картошек в карман. Но стрелок сидел в засаде за пустыми ящиками и все видел. Он нам дал отойти на несколько шагов, потом выскочил и заставил вернуться. Возвращаясь под дулом винтовки, мы нехотя и через силу выбрасывали картошку из карманов на дорогу. Когда мы подошли к стрелку, наши карманы были пусты, но за нами по земле тянулся предательский след из картофелин. Другие зэ-ка бросились подбирать их, и пока стрелок вырывал у них картошку, мы успехи сбежать.
Больше нас к картошке не подпускали. Мы с Исааком нашли себе другую специальность как «маркировщики».
Садили зеленый лук. То и дело подносили из теплицы рассаду зеленого лука в лукошках. Этим делом занимались женщины. Мы двигались перед ними с тяжелой доской, на которой было 10 зубов в 2 ряда.
Эту доску мы укладывали поперек гряды и потом вступали на нее, нажимали ногами с двух сторон и исполняли на ней индийский танец. Зубцы входили в рыхлую землю, и в гряде оставались 10 ямок-луночек в 2 ряда. Мы перекладывали доску и так покрывали всю гряду ровными рядами луночек. За нами шли женщины с луком, в каждую луночку вставляли рассаду и присыпали землей. Эта нетрудная для здорового человека работа вгоняла нас в пот. Кончив гряду в 80 метров длины, мы ложились на землю и отдыхали, не говоря ни слова.
Когда из теплицы подходила женщина с рассадой, мы настораживались и пристально следили за ее движениями. Подойти к ней мы не могли, но мы ее просили глазами. Незаметно она выбрасывала в борозду несколько пучков луку. Когда она уходила - не раньше - мы подбирали этот лук. К сожалению, нельзя много съесть зеленого луку. Мы слабели со дня на день.
Среди этой работы вызвали меня в «штаб». Это было продолжение беседы с Богровым. На этот раз в кабинете сидел человек из правления Каргопольлага, не то следователь, не то сверх-уполномоченный. Он начал очень любезно расспрашивать меня, но вдруг я увидел, что он записывает мои ответы. Мне стало нехорошо. Я проклинал несчастную глупость с письмом Эренбургу, которая сосредоточила на мне внимание НКВД. Наконец, я сообразил, что в советском лагере здоровее всего притаиться как мышь и не вдаваться ни в какие лишние разговоры с властью. Гордеева передала меня Богрову, а Богров этому человеку. Я решил, что на этом мои отношения с официальными лицами кончатся.
- Вы доктор философии, - сказал он, - заграницей учились. Стало быть, философ буржуазный. Правильно?
- Нет, - сказал я, - я не буржуазный философ. Я по своим воззрениям даже близок к диалектическому материализму.
- Как же можно назвать ваше направление?
Я подумал и сказал решительно:
- Диалектический реализм. Мой собеседник быстро записал этот термин.
- Какая разница между диалектическим реализмом и диалектическим материализмом?
- Да почти никакой, - улыбнулся я... - Знаете, Ленин употреблял слово «материализм» как равнозначащее слову «реализм».
- Гм!.. - сказал он и начал что-то вспоминать... - А как вы смотрите на Гегеля?
- Гегель - сказал я твердо - имеет большое историческое значение. Маркс поставил его впервые на ноги, а до того он стоял на голове. Мы взяли от Гегеля его диалектический метод, но отбросили устаревшее содержание его идеалистической системы.
Тут мой следователь сдался. Отложил карандаш и рассмеялся.
- Да что я буду записывать, - сказал он. - По части философии я, скажу прямо, слаб. - Скажите, на вас лагерь, вероятно, произвел сильное впечатление. Будете помнить, возможно, писать о нем?
- О да, - сказал я восторженно, - очень большое впечатление. У меня есть основания быть благодарным лагерю. Мы, книжные люди, в лагере научаемся новым вещам, перевоспитываемся. Я только здесь понял, что такое действительный советский гуманизм. Считаю, что пребывание в лагере оздоровило меня, пошло на пользу. Жаль, конечно, что оно несколько... затягивается. А насчет того, чтобы писать, то я, конечно, буду писать. Не о лагерях, понятно, а по специальности: я думаю, что смогу развить теорию диалектики, двинуть ее вперед... в духе классиков марксизма.
- Вы ценный человек! - сказал с убеждением следователь. - Надо, надо помочь такому человеку. Было бы жаль, если бы такой высококультурный человек погиб в лагере. Кстати, вы здесь с кем-нибудь разговариваете на философские темы?
- Нет, - сказал я с грустью. - Здесь нет философов. И я ни с кем не могу поговорить о философии. Вы - первый человек...
- Знаете, вы бы очень могли помочь нам, как человек интеллигентный. Здесь много скрытых врагов Советского Союза. Вы часто слышите их высказывания, и вам, конечно, легче понять, что они говорят, чем какому-нибудь темному человеку. Мы очень бы ценили, если бы вы от времени до времени сообщали нам...
Предложение такого рода делается почти каждому зэ-ка, и совсем не значит, что вас считают за «своего» человека. Доносчика можно сделать из каждого робкого и голодного человека, если втянуть его понемногу на дорогу дружеских бесед и личного контакта. Сперва расспрашивают о самочувствии, о впечатлениях, потом об отдельных людях, потом приглашают еще разок, потом встречают как старого приятеля, потом оказывают давление, переходят к угрозам. Надо уметь выкрутиться из этой сети, не раздражая своих милых и любезных собеседников.
Я начал смеяться от души.
- На Круглице все меня хорошо знают. Если бы я сам, гражданин начальник, предложил вам свои услуги в качестве информатора, вам бы надо было обеими руками от меня отмахнуться. Я не гожусь для этой работы: меня всякий видит, а я сам - человек подслеповатый. Мне не с людьми, а с книгами только можно дело иметь...
- Вы не поняли меня! - сказал начальник. - Я не имел в виду систематических рапортов. Но если вы что-нибудь услышите, то это ваш прямой долг - передать нам!
- О, конечно! Об этом и говорить нечего! Это само собой понятно! Это не только долг, это для каждого порядочного человека удовольствие. Для каждого зэ-ка без исключения. Я только ничего специально не могу взять на себя.
Мы расстались очень мило. Разговор с начальством был наедине, и потом местные начальники с беспокойством расспрашивали меня, чем и кем он интересовался. Мне нечего было им рассказывать, и я их успокоил с чистой совестью, сказав, что разговор не касался людей из Круглицы.
Тем временем Исаак пятый начал огорчать меня. На примере этого юноши мне начинало уясняться то, что можно назвать - лагерным неврозом. Заключенным не полагается иметь нервов. Никто не плачет в лагере, и однако нет в нем ни одного человека, который не пережил бы своего потрясения. В лагере нет нормальных людей, это лишь следствие того факта, что лагерь в целом не есть нормальное учреждение. Никто из моих созаключенных не был нормальным человеком. Исаак пятый был относительно душевно здоров, когда мы подружились; он только был очень напуган. На моих глазах этот страх стал принимать истерические формы.
Страх Исаака пятого стал сосредоточиваться вокруг одного пункта: он боялся голода. Едва мы приходили с работы, он бежал в контору, проверить «рабочее сведение». Для каждой бригады была выложена ведомость, там было указано, кому какой паек и сколько хлеба на сегодня. Иногда у нас оказывался первый котел. Тогда он был вне себя от горя. Его лицо темнело. Он ломал руки. Он не мог перенести такого несчастья, такой неудачи. Я тоже был в этих случаях огорчен. Но его реакция была необычна, точно черным облаком была окутана его душа, и глубокое уныние, в которое он впадал, было несоизмеримо с поводом.
Лежа рядом на наре, он вздыхал так глубоко и тяжко, что я начинал сердиться. Но я уже не мог утешить его. Наоборот, он приходил в ярость, когда я хотел его вывести из этого состояния исступленной печали. Он обвинял меня, что я не хочу видеть, как это страшно, как это непоправимо, что у нас снова отняли 200 грамм хлеба. Он трепетал от этой обиды и несправедливости, и от моего преступного легкомыслия, и он отворачивался от меня.
Но почему другие не реагировали так неистово, как он? - Исаак пятый был еврейский трусливый мальчик, невротическая, нежная, пугливая натура. Он с детства боялся входить в темную комнату, а потом боялся собак, боялся жизни - потому что вырос в гитлеровском Берлине, и потому что в его возрасте страх родится беспричинно из неумения приспособиться к жизни на крутом повороте. А Круглица была не просто крутой поворот, это была яма. И нельзя было реагировать на одну ненормальность иначе, как другой ненормальностью.
То, что я видел у Исаака пятого, еще не было неврозом. Это была душевная предпосылка всех неврозов: поражение, с которым человек не может справиться - горесть, которая заливает душу, как соленая волна заливает ноздри утопающего.
Я не мог с ним долго возиться, потому что неврозы на лагпункте вообще не подлежат лечению. Их лечат не анализом, а палкой по голове, т. е. таким грубым потрясением, которое моментально вправляет душевный вывих - или окончательно губит человека.
В одно летнее утро повели нас всемером на железнодорожное полотно - разгружать мешки с крупой. Открытая вагонная платформа с грузом стояла против деревянной площадки-помоста на столбах. За помостом был склад. Мы выгружали по трапу с платформы на помост мешки с ячменем и овсом.
Площадка склада была чисто выметена, но всюду между досок и под стенками были зернышки крупы. Заключенные, перенося мешки, надрезывали их ножичками и воровали крупу. Крупа высыпалась. Везде были следы ее. Мы уже не в первый раз работали на этом месте и, первым делом, с утра осматривали площадку, не осталось ли где просыпанных зерен. Сторож Титов, старый зэ-ка, с лысой головой Сократа, у которого в карманах полно было краденой крупы (ему, как сторожу, можно было), зорко следил за тем, чтобы мы не грабили открыто. Крупы, подобранной под ногами, было слишком мало, чтобы варить: мы ели ее сырую или поджаривали ее на железном листе на углях костра, пока она не становилась коричневой, как зерна кофе.
В это утро я нашел целую горсть ячменя под дверью склада. Но меня поражало, что никто не искал крупы, кроме меня. Даже Стецин, тот ходячий скелет и бывший фотограф, который варил траву без разбора и уверял, что может съесть все то, что ест корова, - тоже не обращал внимания на зерна. Я не мог понять, в чем дело. - «Стецин, сюда!» - Не идет! Меня поставили подымать мешки на весы. На площадке вертелся смотритель склада.
Это всеобщее равнодушие к крупе не давало мне покоя. Я чувствовал что-то в воздухе. Люди толпились на платформе, задерживались слишком долго. Там что-то было. Я, наконец, не выдержал, подкрался, заглянул сзади.
Дух у меня заняло: это была горбуша, прекрасная соленая рыба с розовым мясом, архангельская «семга» заключенных. Нам ее иногда выдавали по ломтику. За мешками с крупой были плоские длинные ящики с рыбой, и один уже был взломан. Отодрали боковую доску. В руках зэка была серебристая рыбина, одна, другая, - каждая весом в доброе кило.
По другую сторону полотна был откос и зеленый луг. Серебристые птицы слетали с платформы в траву. Мы выбросили в траву несколько рыб. Меня тем временем отправили к весам, чтобы смотритель не беспокоился.
Мы работали до полудня. Потом сошли под откос и собрали рыбу. Отнесли в сторонку и накрыли бушлатом. Звено было в возбуждении. Еще надо было поделить рыбу и пронести в барак.
И только один Стецин, травоед с голубыми глазами, уперся: он ждать не будет, и не надо ему целой рыбы, пусть дадут половину, но зато сейчас. Ему отрезали кусок, и он пропал. - «Где Стецин?» - закричал с насыпи стрелок-конвойный. - «Пошел оправиться, гражданин стрелок!»
Стецин зашел за дрова и мгновенно сожрал полкило соленой рыбы.
Смотритель хватился совершенно случайно. Початый ящик с рыбой забили, поставили на самый низ. Но что-то ему подсказало, что надо этот ящик перевесить. Нехватало больше 6 кило. Он ни слова не сказал, спрятался за вагон и стал наблюдать за нами.
Мы всем звеном лежали у костра. У нас был отдых от 12 до часу. Но мы не были спокойны. Мы шушукались. Один только Стецин лежал в стороне пузом вверх и подремывал. Кто-то из нас не выдержал, стал кружить около бушлата, поглядывать на него. Смотритель выскочил из засады, пошел прямо к бушлату и поднял: вся рыба лежала под ним. Позвал на помощь конвойного. - «Чей бушлат?»
Такого случая довольно в лагере, чтобы приклеили второй срок, т. е. еще 5 или 10 лет. Нас обыскали и нашли за пазухой одного из зэ-ка еще одну рыбину, которую он утаил от товарищей. Он и владелец бушлата были пойманы с поличным. Остальные могли вывернуться. Нас немедленно сняли с работы и отвели на вахту. Составили «акт».
Пока мы сидели на вахте, прошла в лагерь Гордеева, начальник ЧОСа, деловитым энергичным шагом, потряхивая седыми стрижеными волосами. Ей доложили. Гордеева окинула нас холодными глазами. - «Марголин, вы тоже воровали рыбу?» - «Лично рыбы не брал и не ел... не успел...» - Гордеева прошла в дверь и на ходу сказала: «Всех в карцер».
Карцер находился в Круглице за лагерем, в отдельном домике, за отдельной оградой. Хозяином в ШИЗО был Гошка, симпатичный и красивый парень, с военной выправкой - бывший милиционер, посаженный в лагерь по пьяному делу. Он сам рассказал нам свою историю: пришлось ему когда-то арестовать приятеля. Служба не дружба: арестовал и повел, но по дороге горло у них пересохло - «нехай в последний раз выпьем» - зашли к третьему приятелю и устроили арестованному проводы - т. е. втроем напились до потери сознания. Потом арестованный и другой приятель привели Гошку в милицию, поддерживая с двух сторон под руки. Ему дали четыре года и, как бывшему милиционеру, поручили в лагере заведывать карцером.
В карцере было у Гошки чисто, отдельно помещение для женщин, отдельно для мужчин. Это был лучший карцер, в котором я сидел за все годы, и зимой там было даже лучше, чем в рабочих бараках Круглицы. Гошка негрубо, но очень ловко, искусной рукой, обыскал нас, раздел каждого, отобрал разные мелочи, вытащил у меня спрятанный в подошве ножик (в который уже раз!) - и предложил расписаться в «журнале». Я заглянул в журнал: написано «за кражу рыбы» - и отказался расписаться.
- «Рыбы я не воровал и не ел! - сказал я. - Все звено посадили! Они бы еще всю бригаду посадили! Расписываться отказываюсь, и объявляю голодовку впредь до освобождения!»
Это была неприятность для Гошки, и он на меня осерчал. О случае голодовки он обязан был довести до сведения начальника лагпункта, но не брать для меня еды на лагерной кухне он не мог. В 6 часов он принес ведро баланды для арестованных, отомкнул двери, и через порог каждому подал его суп и хлеб. Гошка был парень свойский, и на кухне давали ему ведро с добавкой, так что супу выходило больше, чем по норме. Он поставил мне на нару чашку супу и положил хлеб. Я их не тронул.
Положение осложнилось тем, что кругом сидели зэ-ка, которые не привыкли смотреть на чужой хлеб и суп, когда у них бурчало в животе. Вид еды раздражал их. Голодные люди стали подбираться к моему ужину, кто-то стал клянчить: «дай, если сам не ешь».
Получалась чепуха, потому что если бы я дал, то для лагерной администрации было бы все равно, кто съел мой ужин. Раз он принят и съеден, то никакой голодовки нет, а мое фактическое голодание никого не интересует. Гошка должен был унести этот ужин нетронутым обратно. Мне пришлось взять этот хлеб и суп к себе на верхнюю нару и сидеть над ним, как сторож, чтобы не украли.
Не знаю, как долго я бы выдержал голодовку в таких условиях, но утром следующего дня Гошка звякнул ключами и сказал мне: «Твоя взяла! Одевайся, иди в лагерь!»
Я вышел с триумфом, но радость сразу увяла, когда в бараке мне объявили, что я сию же минуту должен собираться с вещами на вахту: меня отправляют на этап, в Онуфриевку!
На этап! Это известие поразило меня громом. Я привык к Сангородку, здесь меня знали, здесь был сельхоз и возможность подкормиться. Эта Онуфриев-ка - в 20 километрах - была лесопункт вроде 48 квадрата, с тяжелой работой в лесу, и именно на лесоповал меня и отправляли. В партии было 30 человек, и мы шли, как «рабочее пополнение».
Всеми силами я держался за Круглицу, только здесь еще я мог надеяться выжить! До сих пор я изворачивался из всех этапов, благодаря помощи Максика: он узнавал в Санчасти о всех этапах на день раньше, и если я был в списке, меня укладывали в стационар на 2-3 дня, пока этап уходил. Но теперь уже было поздно: этап уходил через полчаса. Я мог еще спрятаться, как это делали многие. Но если бы я так открыто показал, что боюсь этапа, то меня уже нарочно включили бы в следующий этап... Лежать где-нибудь на чердаке или под нарой чужого барака и слушать, как тебя ищут по всему лагерю... нет, этого я не хотел.
Единственный человек, с которым я успел попрощаться, был Максик. Он дал мне записку, несколько рекомендательных слов к врачу на Онуфриевке - как первую зацепку в новом месте. Через час я уже шел, навьюченный мешком, по неровной дороге. Прощай, Круглица! Вечером вернется с работы Исаак пятый - и уже не найдет меня.
Полдороги мы шли пешком. Состав партии был неважный. Всегда, когда переводят группу рабочих с одного лагпункта на другой, пользуются этим случаем, чтобы избавиться от неприятных людей. На Онуфриевке требовались здоровые работяги. Но начальник круглицкого ОЛП'а не дурак отдавать здоровых работяг. Они ему самому нужны. В партию были включены доходяги, лодыри, бунтари, хулиганы и беспокойные элементы. Марголин объявил голодовку? - в этап! Пусть голодает на другом лагпункте.
На 10-ом километре, в Медведевке - иначе «3-ий Лагпункт», место концентрации инвалидов - был привал. Отсюда нас должны были подвезти поездом.
В ожидании поезда заключенные, свалив мешки с плеч, легли на откосе. Я пошел вдоль лежащих и нашел себе место на досках, где было просторнее. Едва я лег, чернобородый мужик около меня метнулся как ужаленный.
- Уходи! - сказал он. - Уходи скорей!
- Что, места нехватает?
Урка встал деловито, поднял струганную белую доску, на которой лежал, и наотмашь, всей силой, как по неодушевленной вещи, ударил меня доской по груди.
Дыхание прервалось у меня, и в глазах потемнело. Я задохнулся. Все «переживания» выпали из меня, кроме физиологического эффекта этого удара. Меня сводило, тошнило от невыносимой боли... Если бы не ватный бушлат, он бы мне сломал грудную клетку...
Урка поднял доску во второй раз. Но меня уже оттащили в сторону.
- Ты с кем связался? Это Афанасьев. Афанасьев был знаменитый бандит на Круглице - бешеный пес, который бросался на лагерных и на стрелков. Услышав это имя, я сейчас же отошел в сторону.
Через несколько минут я почувствовал, что слезы сами собой льются у меня из глаз. Я не плакал, но не мог ничего поделать: из меня плакало... Во мне не было никакой силы для огорчения или обиды... Я только чувствовал, как это страшно - быть слабым среди чужих и врагов.
Часов в 5 привезли нас в Онуфриевку. Опять тянулся палисад, остроконечные колья, и та же вахта, и те же лозунги: «Да здраствует... да здравствует... да здравствует...» - «Дадим родине как можно больше леса!»... Начальник лагпункта вышел за вахту посмотреть, какой ему товар прислали, и, увидев этапных, лежавших на земле вповалку, ахнул:
- Это что за инвалиды, уроды! Не принимаю! Мне таких не нужно! На медицинский осмотр! Прямо с вахты отвели нас в баню, где в раздевалке уже сидели врачи за отдельным столиком. Я с трудом разделся. Сил не было у меня стаскивать лохмотья, онучи, рваный бушлат, распутывать веревочки, которыми все было на мне подвязано, перевязано, связано. Но в баню мне так и не пришлось идти. Произошло чудо.
В Онуфриевке была особая смесь народов. Уже по дороге в баню зацепил меня худой и жилистый черный человек с исполинским носом, говоривший по-французски. Это был эльзасский еврей, по фамилии Леви. Какими судьбами занесло его в советский трудлагерь, я не успел расспросить. В бане я отдал записочку Макса адресату, русскому лекпому, но сразу же привлек мое внимание другой врач при столе Санчасти: нацмен, очевидный, несомненный нацмен, но не казах, не узбек и не туркмен, а какой-то другой нацмен со странно знакомым лицом. Я мог поклясться, что я уже видел такие лица где-то, но не в России. И это лицо улыбалось мне, как лицо друга - я почувствовал симпатию в его выражении.
- «Марголин из Круглицы, да мы о вас слышали... - сказал странный нацмен, - очень приятно. Вы палестинец! Оставайтесь с нами жить в Онуфриевке. Мы вам выпишем цынготный, найдем работу полегче... оставайтесь с нами...» Это был д-р Селям, араб, левантинец, александрийский араб, который, наверно, бывал и в соседней Палестине. Вот где арабы и евреи были, наконец, друзьями: в Онуфриевке. Услышав, что меня спрашивают, чего я хочу, я просиял. Обратно, обратно! И никакие уговоры не помогли. Селям выписал мне бумажку, форменное удостоверение в том, что я не гожусь на физическую работу - разве только «бисквиты перебирать». Эту патентованную лагерную остроту он повторил раза три, с забавным русским акцентом и ослепительной улыбкой белых зубов. Таким образом отослали меня обратно, а со мной еще 15 человек, половину всех присланных - как негодных на тяжелую работу. Нас немедленно вывели за вахту и погнали по шпалам тем же путем, которым мы прибыли.
Было уже 11 часов, когда я ввалился в спящий барак в Круглице.
Я был очень доволен тем, что вернулся на старое место. Отдыхать я еще не мог: мое место на наре уже было занято. Я расположился на полу переполненного барака. Потом в продстол, где табельщик выписал нам хлеб и ужин. На кухне дали нам остатки супа. Но больше всех поразил меня Исаак пятый.
Лицо его горело румянцем, он был вне себя. Только что объявил ему нарядчик, что пришел на него наряд из Ерцева, и завтра утром отправят его в Управление ерцевских лагерей. И так как у него не было «срока», то этот индивидуальный вызов в его воображении сразу превратился в весть об освобождении. Все кругом поверили сразу, что это освобождение, и он сам горел, дергался от возбуждения, не мог спать и не понимал, что ему говорили.
Я выслушал эту необыкновенную новость и лег спать на полу. Но Исаак еще долго сидел на нарах, вертя головой во все стороны, ошеломленный и испуганный своим счастьем.
На утро я сказал ему, что перед отправкой нам надо серьезно поговорить. Я думал, что этот юноша когда-нибудь через годы передаст весть обо мне моей семье, если мне суждено погибнуть. Я очень привязался к нему и считал его как бы членом своей семьи. Но к моему удивлению и огорчению - последняя беседа не состоялась. Исаак пятый, мой лагерный товарищ и духовный сын, с которым мы провели много часов в задушевной беседе, с которым мы делились надеждами и мечтами - забыл меня еще прежде, чем вышел из Круглицы. Все, что я мог сказать ему на пороге свободы, мгновенно перестало интересовать его. Я был глубоко уязвлен и обижен, я не мог понять этой страшной способности забвения или неспособности запоминать, которая отличает хилое человеческое сердце. Время лечит раны, но не нужно много времени, довольно одного дня, одного часа, одного поворота судьбы, чтобы сдунуть прочь бесследно то, чем мы жили, что казалось нам важным, наши печали и радости, наши намерения, решения и обеты. Я чувствовал себя обманутым. Исаак побежал к выходу, едва кивнув мне. Я не успел передать ему даже адреса моей семьи.
Я перегнулся с верхней нары - я унаследовал его место - и крикнул вслед дико:
- Будь человеком! Помни, будь человеком! Но эти слова уже не дошли до него.
Никуда не отпустили Исаака, и его сон о свободе развеялся в Ерцеве. Еще целый год он прожил там, а потом потонул в море лагерной России. И до сих пор я не знаю, выжил ли он, или погиб, и как пережил разочарование своего мнимого «освобождения».
Глава 28. Лагерный невроз
Человек, пред которым проходит за годы заключения Ниагара несчастья, бесчисленное количество лагерных судеб, постепенно перестает реагировать на окружающую ненормальность с остротой первых месяцев. Первое время все его поражает и потрясает. Потом он перестает удивляться. Он уже не замечает ненормальности ненормального. Наоборот: на него производит впечатление ненормальность нормального.
В один зимний день, когда наша бригада возвращалась с работы, мы вдруг увидели, как летели где-то по боковой дороге санки, запряженные великолепной лошадью. Крутая шея лошади была красиво выгнута, хвост и грива летели по ветру, санки были небольшие, изящной работы, в них сидел тепло и по-европейски одетый человек. На нем было даже кашне.
И мы остолбенели. Нам казалось, это сон, галлюцинация. Человек, лошадь, санки - все выглядело так, как никогда не выглядят люди, животные и вещи в лагере. Мы отвыкли от вида нормальных вещей. Люди начали смеяться каким-то глупым смехом, как будто это было немножко смешно.
В лагере были изуродованы все без исключения люди и все вещи. Те же самые слова русского языка, которые употреблялись на воле, в лагере значили что-то другое. В лагере говорят: человек-культура-дом-работа-радио-обед-котлета, - но ни одно из этих слов не значит того, что на воле нормально обозначается этими словами.
Под страшным воздействием лагерных условий каждый человек подвергается деформации. Никто не сохраняет первоначальной формы. Трудность наблюдения в том, что сам наблюдатель тоже деформирован. Он тоже ненормален. Чтобы правильно оценить все происходящее, ему следовало бы прежде всего учесть собственную ненормальность. В лагере нет неповрежденных. Все - жертвы, все одели казенный бушлат не только на тело, но и на душу.
И, однако, есть в лагере люди, которым живется хорошо, и они довольны. По крайней мере, они говорят так. Эти люди интересовали меня в особенности, потому что в них исполнялось одно из назначений лагеря. Лагерная система существует для того, чтобы сломить душевное сопротивление - и либо уничтожить человека, либо идеально приспособить его. А первый знак приспособления - это, когда лагерь становится домом, естественной формой существования.
- Чем здесь плохо? - говорили некоторые бывшие колхозники, - каждый день пайка готовая, заботятся: одевают, обувают, лечат, кормят. Только работай. Да я и на воле не жил лучше.
Масса зэ-ка относилась к таким энтузиастам лагеря с некоторой насмешливостью, с презрительным оттенком собственного превосходства. Но, во-первых, никогда нельзя было понять, действительно ли они серьезно это говорят. Во-вторых, мне казалось, что это, в самом деле, самый здоровый элемент лагерного населения: люди абсолютного послушания и безропотности, ничего им не нужно, и они себя хорошо чувствуют в лагере. Идеальные советские зэ-ка: их мысли и желания, их функции и реакции целиком определены извне, можно их освободить - на таких советская власть может целиком положиться. Даже и на воле невидимая стена лагеря будет окружать их.
Все же остальные в большей или меньшей степени подлежат лагерному неврозу. Если принять во внимание, что за время существования Советской власти через лагеря прошли десятки миллионов, то выйдет, что в мире еще не было такого гигантского психологического процесса, такой глубокой борозды через душу и характер мирового народа.
Под «лагерным неврозом» я понимаю болезненное искривление, которое возникает в человеческой психике в результате долговременного пребывания в лагерных условиях. Лагерная «изоляция» насквозь искусственна, противна человеческой природе и навязывается ей силой. Надо быть чудовищем тупости или сверхчеловеком, чтобы в этих условиях не измениться. Обыкновенный же человек реагирует тем болезненнее, чем острее нанесенная ему рана, и чем глубже подавляемый им протест. Мало того, что обитатели лагеря терпят известные лишения, т. е. голод, разлуку с семьей, родиной, материальную и всякую иную нужду в степени, приводящей их в подчелове-ческое состояние, - все они душевно ранены, и каждый по-своему внутренне обеспокоен. Несмотря на то, что лагеря выросли в 20-м веке, - существует классический пример «лагерного невроза» в 19-ом веке. Этот классический и знаменитый пример: Федор Михайлович Достоевский, человек, который 4 года просидел на царской каторге и никогда не был в состоянии преодолеть в себе травмы тех лет.
Достоевский прибыл на каторгу молодым человеком прогрессивных воззрений, типичным российским интеллигентом, а вышел сломленным, тяжким невротиком. Эти 4 года его сломали, опрокинули все его предшествовавшие представления об обществе и человеке. То, что он там увидел и пережил - оказалось ему не под силу. Как стекляшки, брякнули его «петербургские идеи» об эту громаду зла и разбились. Все дальнейшее его развитие - было чудовищной попыткой каторжанина побороть свой невроз. Причем существенно то, что он никогда не освободился из плена каторги внутренне - он принял каторгу, смирился пред ней и еще послал туда своего Раскольникова. Он не вынес с каторги ненависти к палачам, а убеждение, что палачество и мучение принадлежат к сущности мира - и в дальнейшей своей жизни он стал мистическим союзником тех, кто распоряжался российской каторгой. Книга, в которой зафиксирован «лагерный невроз» Достоевского - это его «Записки из мертвого дома».
Пусть перечтут эту книгу читатели настоящей работы, уже не о Мертвом Доме, а о целом Мертвом Царстве. Как различны масштабы царской и советской каторги! В остроге Достоевского сидело 250 человек, и это все, что он видел. Четыре года он провел в условиях, которым позавидует каждый советский зэ-ка. Достаточно скзаать, что он имел на каторге своего слугу, который за 30 копеек в месяц варил ему, ставил самовар и ухаживал за ним. Достоевский за все 4 года не ел казенного - у него была возможность питаться за свой счет. - «Обыкновенно я покупал кусок говядины по фунту в день»... - «Осип стряпал мне несколько лет сряду все один и тот же кусок зажаренной говядины». - О таких вещах, как хлеб, каша, калачи - не говорят, этого было в остроге вдоволь. Работа не была нормирована, никто не надорвался на работе, и все ели одинаково. Были на царской каторге плети и розги. Прошло сто лет - и их заменили расстрелы за отказ от работы. Унижение телесного наказания не более страшно, чем то, которому мы были подвергнуты в советских лагерях, где нас заставили лгать, притворяться и отрицать то, что нам было свято. Каждый, прошедший школу обезличения в советских лагерях, подтвердит, что неуважение к человеку там далеко превзошло все, что существовало на царской каторге. Это неуважение к человеку выражается уже в самой цифре лагерного населения. Место тысяч, как во времена Достоевского, заняли миллионы.
На четвертом году заключения я раздобыл в лагере «Записки из мертвого дома» Достоевского и прочел их, сравнивая эволюцию каторги со времен Николая I. Сравнение это не в пользу Советской власти. Я читал отрывки из этой книги своим соседям зэ-ка: люди эти смеялись и... завидовали. Я прочел описание праздника из «Записок» (у нас праздников не было). Когда я дошел до слов: «К вечеру инвалиды, ходившие на базар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины из съестного: говядину, поросят, даже гусей...» раздался хоохт: «Вот так каторга! на базар ходили!..» - «Поросенок Акима Акимыча был зажарен превосходно». Поразительно, на какие мелочи обращали внимание зэ-ка при чтении. Описание госпиталя: «Больной арестант обыкновенно брал с собой сколько мог денег, хлеба, потому что в тот день не мог ожидать себе в госпитале порции, крошечную трубку и кисет с табаком, кремнем и огнивом. Эти последние предметы тщательно запрятывались в сапоги...» Тут меня прервали слушавшие: «Табак был! - сказал с завистью один - и в сапоги прятали...» И все засмеялись, потому что сапоги в советском лагере это вещь, которая имеется только у единиц.
Всем очевидно было, что на каторге, о которой рассказал Достоевский (а это еще была самая тяжелая из разных видов царской каторги) кормили досыта и не замучивали на работе. С точки зрения советского зэ-ка - доходяги все остальное уже не так важно.
Наконец, сидевшие там были уверены, что с концом срока выйдут на свободу, тогда как самую ужасную черту советских лагерей составляет отсутствие этой уверенности до самого последнего момента. И однако, именно на этой каторге, которая нам казалась такой негрозной, Достоевский надорвался душевно. Каждый, читающий его книгу, сразу видит в чем дело, видит «больное место» - описания сцен мучительства, детализованные описания наказаний плетьми и розгами (которым сам автор никогда не подвергался), сладострастное и уже гениальное раскапывание психологии палача и жертвы, безграничный ужас припертого к стенке человека, не знающего выхода. И чтобы не думали, что это все от доброты и обиды за человека - рядом удивительное по контрасту бесчеловечие в знаменитом описании жида и «полячишек» - без умения и без желания сочувственно проникнуть в их чужую и рядом протекающую жизнь, - как будто это существа с другой планеты или только плоские картинки на стене, а не живые люди.
«Лагерный невроз» Достоевского, который в будущем исказил все его восприятие мира и тенью лег на все его творчество - разумеется, не результат особой «деликатности», а сильного ожога, содранной кожи, обнаженной раны. В лагере люди теряют деликатность, грубеют. Неженок нет в лагере, и зубы там рвут без кокаина. Явления, которые сверхчувствительных людей Запада выводят из равновесия, нам из-за ограды лагеря представляются совсем в другом свете. Мне удалось в лагере прочесть книгу Стейнбека «Гроздья гнева», очень популярную в Советском Союзе. Она изображает процесс пауперизации американских фермеров, но в самых сильных местах я не чувствовал ни сострадания, ни особого ужаса их положения. Я видел только то, что их «голод» был лучше, чем наша «сытость», и что они были свободны передвигаться по стране, протестовать, бороться. К их услугам было перо Стейнбека, а у нас был во рту кляп. Если бы Стейнбек пожил немного в нашем лагере, он бы менее нервно реагировал на американские непорядки. - Нет, мы не были слабонервными людьми. «Лагерный невроз» не был следствием нашей «утонченности» или «нервности», а необходимой, иногда фантастической гримасой, уловкой или защитным приспособлением души.
Мера нашего внутреннего сопротивления и отклонения лагерной жизни выражалась в том, каковы были наши сны. В течение всего первого года в заключении я неизменно каждую ночь видел себя свободным. Мое отвращение к лагерю было так велико, что подсознание как бы выталкивало всякий след лагеря. Ничто лагерное не проникало в мои сны, хотя бы в форме радости, что я уже не зэ-ка. Я просто ничего не помнил о лагере, как будто его никогда и не было ни в мире, ни в моей жизни. Я гордился тем, что остаюсь свободным в глубине подсознания, и ждал с нетерпением ночи, чтобы хоть во сне выйти из лагеря. Я вообразил себе, что так будет всегда, и видел в этом доказательство своей душевной стойкости.
Но постепенно лагерь стал брать верх. Год прошел, и я так далеко отплыл от берега свободы, что даже в сонном видении не мог уже перелететь через все, что было между нами. Теперь лагерь стал примешиваться ко всему, что мне снилось, - и сны мои стали продолжением лагерной дневной жизни. Я даже во сне носил арестантский бушлат, озирался во все стороны и был полон страха или других лагерных эмоций. Душа моя не могла выйти из лагеря. Иногда мне снилось, что я в далекой стране, среди моих близких и родных, но, говоря с ними, я был полон безотчетного горя, которое совсем не вытекало из содержания сна. Во сне у меня было странное ощущение, что меня что-то отделяет от них, и я как собака привязан невидимой цепью.
Потом начались голодные сны. Типичные и массовые, у всех одинаковые сны зэ-ка. Еда снится во всех видах и вариантах, каждую ночь, в каждом сне, в совершенно неожиданных моментах сна. Снятся гастрономические дворцы и пышные приемы, снятся оброненные кем-то кульки, хлеб лежит по дороге, на столе лежит что-то, и вдруг, в средине сна на совсем другую тему, холод проходит по сердцу: то, что лежит на столе от начала сна - это шоколад, никем не замеченный, и можно так просто взять его...
Один из снов я помню особенно отчетливо: я был на улице, и это была пестрая, оживленная торговая улица Лодзи, но магазины на ней были величавые, берлинские времен моего студенчества. Я выбежал на улицу, как бы спасаясь от погони, и знал, что у меня очень мало времени. Я должен был очень торопиться. Но я растерялся среди витрин и не знал, куда мне кинуться: в молочную, где масло и сыры? или в колбасную, где было столько ветчины, что я даже во сне услышал ее свежий запах? или в кондитерскую, где было печенье?.. Я обезумел во сне и метался по улице, и не знал, в какую дверь войти сперва.
Все эти сны неизбежно кончались катастрофой. Сколько раз я ни набирал полные пригоршни всякой еды, - ни разу мне не удалось ее отведать. Всегда что-то случалось, что мне мешало, и я просыпался разочарованный и раздраженный. Даже во сне я лишен был возможности испытать призрачную сытость. Неумолимый цензор в подсознании обрывал все голодные экстазы в последнюю минуту, не допуская их до осуществления. Почему? Здесь «нельзя» диктовалось очевидным отказом нервной системы, таким истощением нервной системы, которое даже в воображении не позволяло уже реализовать того, что так страшно превышало реальные возможности. Людям снится полет, и не умеющим играть снится, что они играют на рояли, как виртуозы. Во сне плавают неумеющие плавать, и ездят верхом те, кто никогда не пробовал сесть на лошадь. Но я в лагере никогда не мог положить себе в рот тех замечательных вещей, которые мне снились, и я все откладывал и откладывал, собирался и медлил - пока не просыпался.
Потом пришли бесстыдные воровские сны. Не было среди нас ни одного, кому бы не снилось, что он ворует, так как это был в лагере единственный способ обмануть судьбу, и все задерживающие центры рухнули во сне еще раньше, чем в действительности. Мы воровали во сне с увлечением и торжеством. Это были яркие сны, и я выслушал о них сто отчетов от зэ-ка всех возрастов и положений, и сам видел такие же сны. Мы крали во сне, потому что нам случалось красть и днем.
Эти голодные и эксцентричные сны миновали со временем, когда голод вошел в норму, до того, что мы уже не реагировали, а просто хирели и умирали от него. Голодный сон означает, что в нас что-то бунтует, томится, дергается, тянется за удовлетворением. Но люди, умирающие от алиментарной дистрофии, уже не имеют голодных снов. Они лежат тихо.
Наше борение с судьбой приняло другую форму. Тогда стали возникать маниакальные чудачества в приеме пищи. Массовое нежелание есть пищу в таком виде, как ее давали. Непременно мы должны были манипулировать ею, поступать с нею каким-то особенным образом. Нельзя было просто съесть приготовленную чужими, равнодушными руками пищу. Мы не доверяли, что ее приготовили наилучшим для нас образом. Непременно надо было поправить, переделать. Эта «мания поправки» принимала разные чудаческие формы. Не ели ничего, не разогрев до кипения, доливали воды, пекли соленую рыбу на огне. Возились без конца и тратили драгоценные часы отдыха. Это были мученики своего невроза, о чем я имею представление, так как сам принадлежал к их числу. Теперь мне странно вспомнить, что я проделывал.
Вместо того, чтобы быстро поужинать и лечь спать, я метался по лагпункту, в поисках печки, где бы позволили подогреть. Проходил час и два, пока я находил летом возможность приставить свой котелок на огонь где-нибудь в кипятилке, дезокамере или другом месте, где топилась печь. Мысль о том, чтобы съесть, как получено, приводила меня в ужас. Это было бы несчастием, катастрофой, позорным провалом. Меня и таких как я - знали, и куда бы я ни приходил ткнуть свой ржавый котелок, везде я имел врагов, которые гнали меня от огня. Как только «подогревальщик» показывается в чужом бараке, подымается крик: «не пускайте его!..» Зимой в каждом бараке есть огонь. Но тогда война идет с дневальным, который немилосердно выбрасывает котелки, потому что они гасят ему огонь и не дают разгореться дровам. А летом вообще запрещено разводить огонь в бараках. И сколько надо тогда изобретательности и сложных протекций, чтобы пробиться к чужому огню, или, в крайнем случае, найти приятеля, который от своего имени поставит твой котелок там, куда тебя не пускают.
С течением времени это нагревание, доливание, кипячение стало для меня пунктом форменного помешательства. Напряжение разрешалось в тот момент, когда я добивался своего. В упорстве, с которым я настаивал на своем способе питания, уже не было ничего нормального. С полным и дымящимся котелком я забирался на верхнюю нару, и там, вне досягаемости от взоров посторонних, лежа, как зверь, заползший в берлогу, насыщался. К этой минуте вели нити целого дня. Я не ел полдника, чтобы вечером получить больше. Весь почти хлеб я оставлял на вечер. То, что я ел, лежа на наре, а не за столом, восстанавливало против меня соседей, но я уже не владел собой. Я патологически ненавидел совместное «общественное» питание.
В 1944 году построили в Круглице столовку и прекратили выдавать нам еду через окошечко кухни. До того времени мы стояли во дворе под окном, получали в свою посуду, несли еду в барак и там ели. Теперь порядок стал другой: каждый, войдя в столовку, отдавал талон, и ему подавали его ужин. Это было «культурно». Но в действительности это значило, что ели спешно, понукаемые, в мокрых бушлатах, в давке, - вместо того, чтобы у себя в бараке раздеться, не спеша, обсушиться, и не торопясь похлебать горячее. Для маниаков, подобных мне, это была беда: конец всех манипуляций! Ешь как подали, вставай и уходи.
Но мы не сдались, и началась война. Каждый, приходя на ужин, приносил контрабандой котелок под бушлатом. Потом, под столом, улучив момент, переливали суп из глиняной миски в котелок. Но при дверях стоял сторож, и следил, чтобы никто не выносил котелков. Надо было незаметно проскочить мимо него. Иногда становился в дверях дежурный стрелок, и мы терпеливо ждали, чтоб он ушел. Люди пускались на невероятные ухищрения, чтобы вынести ужин из столовой. Например, разливали его по кружкам, а кружки рассовывали в карманы, чтобы не было видно, а когда выходили за порог столовки, карманы у них были мокрые от пролившегося супа.
Другая ненормальность была в том, чтобы не есть свежего хлеба, а сушить его. За последние 2 года я почти не ел хлеба иначе, как в форме сухарей. В условиях лагеря это мучительно усложняло жизнь. Заключенному не так просто высушить хлеб.
Когда я ложился в стационар, Максик или другой врач сразу выписывали мне сухари (из расчета 400 гр. хлеба = 200 гр. сухарей), чтобы не раздражать меня, а иногда потому, что невыпеченный хлеб и в самом деле был для меня тяжел. Если же этого не делали, то я сам себе сушил хлеб, нелегально, украдкой, со страхом, что украдут или обругают. Пока хлеб не был высушен, я его не касался. 200 грамм, принесенных с утра из больничной кухни, представляли 7-8 сухариков. Один я съедал утром, два - в обед, а остальное на ночь. Ржаной сухарик, твердый как камень - грызется долго и медленно, - не то, что свежая пайка, которая так быстро тает во рту, что и не спохватишься, как нет ее. Это - «объяснение» сухарной мании, но не объясняет дикого упорства, с которым мы ее отстаивали, ни искусства, с которым пайку в 380 грамм разрезывали на 44 части. В этой истерической и смешной форме мы защищали что-то другое: свою индивидуальность, свое право устраиваться, как нам нравится, и распоряжаться своим хлебом. И чем больше нас зажимали в клещи лагерной регламентации, тем более нелепые формы принимал этот «индивидуальный» протест.
Лагерник, проживший годы в заключении - а есть такие, которые сидят с молоду до смерти - может быть как угодно тих, смирен и спокоен. Но есть в нем «укрытый» пункт, который от времени до времени дает о себе знать. Например, хороший работяга вдруг ни с того ни с сего отказывается работать. - «Сегодня ничего не буду делать!» - «Почему?» - «Не хочу, и все!» - Лучше всего оставить его в покое. Иначе будет хуже. На воле человек в этом состоянии напивается. Но в лагере нет водки, и нет денег на водку. Пьяный зэ-ка - величайшая редкость. Но он и без водки всегда полупьян, оглушен и не до конца вменяем. Зэ-ка - как дресированные звери - нет-нет и огрызнутся.
Сосед мой был самый безобидный и тихий человек, который посидел в лагерях от Забайкалья до Белого Моря. Сидел он раз за ужином, когда пришли нас гнать в баню - после дня работы, голодных и неотдохнувших. Он заупрямился, хотел раньше съесть. Тут припуталась в барак Марья Иванна из КВЧ, курносая вольная бабенка в ситцевой блузке. Прилипла: «Сию минуту иди в баню!» - И вдруг старик побагровел и взревел как бешеный: «Прошу не тыкать! Я вам не „ты“, а „вы“!» - Сколько лет он слышал со всех сторон «ты», и еще с прибавлением словечек покрепче, и вдруг именно от Марьи Иванны он не мог этого вынести. Марья Иванна растерялась и струсила. Тут выскочил из-за перегородки «хозяйский пес», нарядчик Ласкин, с перекошенным лицом, кинулся как зверь, вырвал из рук котелок и миску, и унес к себе под ключ. - «Ты как с начальством разговариваешь? Вот не получишь ужина, пока не вернешься из бани!»... На это разно отозвались люди в бараке. Одни одобрили: «Молодец, что не позволил себе „ты“ говорить!» - а другие взяли сторону нарядчика: «Ах ты, вошь лагерная! уже и ты нельзя тебе говорить? Важный барин нашелся... такое же, как и мы, дерьмо!..» Старик опомнился, подошел к Марье Иванне, извинился и пошел в баню среди ужина.
Случаи, когда лагерный невроз укладывался в чудачество, вроде возни с котелками и сухариками, были самые легкие и неважные. Эти люди внутренне оставались нетронутыми, их расстройство было неглубокое, не касалось душевных основ. Но рядом были люди другие - серьезные, корректные, подтянутые. Они вели себя примерно, не нарушали порядка, не выделялись странностями. - Один был в бывшей жизни офицер высокого ранга, военный атташэ за границей - другой инженер-специалист, 7-ой год составлявший в лагере математический задачник - третий перебежчик в 1932 году из Польши. Двое из них работало в конторе, третий на кухне. Внешне как будто - нормальные люди. Надо было очень близко подойти к ним, чтобы почувствовать трупный запах. В действительности это были глубоконесчастные, безнадежно-порченые люди. Но порча их вся вошла вовнутрь. Из них как будто выжгли способность нормального человеческого самоощущения. Вынули из них веру в человека, в логику и разумный порядок мира.
В жилах тек у них концентрат желчи и серной кислоты. Когда-то они все начинали с книжного коммунизма, с душевной бодрости и широких планов. Один из них рассказал мне, как он перешел границу в 1932 г., как писался на пограничном посту акт задержания на куске обоев, сорванном со стены - этот кусок обоев очень его поразил - и как потом ужаснула его Минская тюрьма. Не то, что он рассказал, а к а к рассказал, запомнилось: с цинической, гаденькой усмешкой, с замгленным, тупым, никуда не глядящим взглядом - в 30 лет живая развалина, конченый человек. - Недаром все такие были замкнуты и необщительны: от них несло гнилью, ядом разложения. Достоевский хоть Христом спасался. А у этих ничего не было, кроме безнадежного отчаяния и переживания какой-то универсальной мировой обгаженности.
Эти люди были больны. Их высказывания были формой невроза. За кем сила, за тем и правда, все лгут, все подлецы, а дураков учить надо. У них помутилось в голове в тот момент, когда обвинили их в чем-то, чего не было, и опрокинули их веру в то, что они сами себе выдумали. Уравновесить это потрясение им было нечем. Пусто было внутри. Они не совали котелков в печку, но у меня было впечатление, точно все эти люди морально смердели, морально делали под себя.
Что происходит с человеком, который душевно раздавлен до полной утраты сопротивляемости? Советские теоретики насилия создали понятие «перековки». Это понятие характерно, т.к. оно относится к неорганическому, мертвому веществу. Железо можно перековать, превратив его раньше в раскаленную текучую массу. Но человек не из железа, и если раздавить его до утери некоторых основных черт индивидуальности, - нельзя уже привести его в состояние бывшей твердости и целостности. В результате грубого механического воздействия («молотом по душе») некоторые «бывшие переживания» выпадают из сознания зэ-ка, образуя надлом, трещину в фундаменте. Но все забытое и почти забытое, неуловимое и похороненное - обращенное в страх и горечь, продолжает тревожить зэ-ка - отнимая у его «новой жизни» устойчивость и создавая ту неудовлетворенность, и неуверенность, и злобу на себя и окружающее, по которой легко узнать лагерного невротика.
Статус этого лагерного невроза я научился различать очень хорошо спустя два-три года в лагере. У зэ-ка из Западной Европы была тоска по родине и свободе. У русских зэ-ка «родина» и «свобода» тоже были втянуты в невротический процесс, т.е. от этих слов им становилось не лучше, а хуже.
Лагерный невроз - явление специфическое. Пока я не попал в лагеря, и с тех пор, как оттуда вышел - я ничего подобного даже приближенно не видел. Сколько там было шутников, и весельчаков, и просто вежливых, обязательных людей. И все равно: кислый запах шел от них, и среди самых веселых острот можно было поймать чужой, испуганный и совершенно ненормальный, искоса, взгляд. Действительное их существо притаилось в них: угрюмость и горечь, которыми пропитались все поры душевные.
Все отравлено до степени предельного самонеуважения Разума. «Гуманность» - это почти бранное слово у тех несчастных. Кто-то им плюнул в душу - и плевок этот навеки остался лежать там.
В немецком лагере смерти оторвали дочь от матери и пристрелили на месте. И мать пошла дальше, только на губах ее была улыбка: уже не от мира сего, улыбка сумасшедшей.
В советских лагерях нет этих ужасов, но сами они целиком - ужас, нечто невероятное своей деловитостью, прочной хозяйственностью и организованностью преступления государства над маленьким человеком. И советские лагеря полны людей, которые внешне в порядке, идут в общем строю, держатся лучше других - но внутри их нет живого места. Они не плачут, не протестуют. Если бы они плакали и протестовали, они были бы здоровы. Но эти люди уже не в состоянии понимать что-нибудь в мире, в лагере, в собственной смятенной душе. Все их существо искажено глумительской гримасой цинизма, и они не находят в мире ничего, на что бы они могли опереться. Скажите им: Сталин, Человечество, социализм, демократия. Они улыбаются, как та мать, у которой на глазах расстреляли дитя.
Это не преступники, не контрреволюционеры, а больные люди, которых следовало бы перевести в страну, где нет лагерей и тотальной лжи. Там они, может быть, пришли бы в себя.
Надо сказать ясно, что вне пределов досягаемости общественного мнения мира происходит по ту сторону советской границы небывалая в истории человечества расправа, небывалый погром душ, небывалая казнь человеческих сердец. То, что происходит с погромленными людьми, нельзя назвать даже трагедией - настолько это лишено всякого смысла и оправдания. Всего этого могло бы не быть, если бы Советская власть не опиралась на систему насилия, вытекающую из ложных теоретических предпосылок. «Лагерный невроз», который также можно было бы назвать «неврозом Сталина», по имени его насадителя, вытекает из бессмысленности человеческих страданий в лагере, по сравнению с которой немецкое народоистреб-ление было идеалом логической последовательности. - Не может остаться душевно-здоровым человек, или общество, которое является жертвой или хотя бы свидетелем чудовищного преступления, возведенного в норму, укрытого так, как в каждом приличном доме бывает укрыт ватерклозет, - преступления, о котором все знают, но никто не говорит, - которое не вызывает протеста в мире и просто принимается к сведению и даже оправдывается людьми, претендующими на высокое достоинство. Было много преступлений в истории человечества, и против каждого из них подымался голос негодования. Люди, умиравшие в газовых камерах немцев, знали умирая, что мир поднялся против их палачей, и это было их утешением. Но люди в лагерях не имеют и этого утешения, которое могло бы снизить страшное внутреннее давление, под которым они живут - мысли о том, что их судьба находит какой-либо отклик в мире. - Человек способен страдать безгранично, оставаясь душевно-здоровым, только в том случае, если ему понятно, за что и почему он страдает. Если он не понимает, то он рано или поздно теряет рассудок или душевное равновесие. Советские ИТЛ - исправительно-трудовые лагеря - есть гигантская, величайшая и единственная в мире фабрика душевных калек и психопатов. Граница между нормальным и сумасшедшим стерлась в этом Мертвом Царстве. Поясним это примером. В последнем году моего заключения я лежал Б больнице рядом с помешанным. Полгода он был моим соседом в бараке № 5 котласского пересылочного пункта. Звали его Алеша.
Алеша был 20-летний паренек из деревни Ярославской области, с льняными волосами и голубыми глазами - херувим. Алешу взяли 18-и лет на фронт.
Под Новгородом он попал в немецкий плен, и его взяли в немецкую школу диверсантов. Это значит, что тогда он был при полном сознании, или немцы не приглядывались, как следует к тем, кого выбирали. Их учили 3 месяца, «кормили хорошо», и даже раз повезли с экскурсией в столицу Германии - Берлин. О Берлине Алеша ничего не помнил, кроме того, что в кино водили (а что показывали, забыл) и, опять-таки «хорошо кормили». Через 3 месяца немецкий самолет перевез группу Алеши через линию фронта и в темную ночь на парашютах сбросил на советскую территорию. Вся группа со всем снаряжением немедленно явилась на ближайший пост милиции и отдалась в распоряжение советских властей. Что произошло далее - Алеша не помнил. Результат был налицо: сумасшедший в лагере со сроком не то в 5, не то в 8 лет.
Сумасшествие Алеши было неопасное: у него помутилось в голове, говорил он необыкновенно медленно, внимательно глядя в глаза собеседнику, с явным трудом подбирал слова для ответа, и иногда вовсе останавливался в смущении. Он был кроткий блаженный дурачок, никогда ни с кем не заговаривал первый и ни за чем ни к кому не обращался. Если случайно пропускали его при раздаче, не напоминал о себе и лежал голодный дальше. Он никому не мешал, и все его любили. Но вдруг - раз недели в три - овладевала им тревога. Тогда он вставал и прямо шел на вахту, к воротам. «Куда? - Я домой, - объяснял серьезно Алеша, - к Маше и Нюре.» - «Что за Маша и Нюра такие?» Это были его сестры, у которых он жил до начала войны в ярославском колхозе. Алеша, не считаясь со стрелками, держал курс на ворота из лагеря, как магнитная стрелка на север. Его выгоняли, но он не шел. Кончалось тем, что его в растерзанном виде приводили в Санчасть, и дежурный врач водворял его на койку в стационар.
В стационаре надо было за ним наблюдать в оба, так как он вставал в одном белье, и среди зимы отправлялся на вахту - «домой», если не успевали его перехватить у выходной двери. В этом случае дежурная сестра, Марья Максимовна, получала карцер за нерадение. Если же удавалось Алешу задержать у двери, он добром не ложился в постель. Начиналась свалка, сбегались санитары, Алеша свирепел. Санитары вязали его, надевали смирительную рубашку и привязывали его к койке. Тогда Алеша начинал биться и кричать. По 12 часов, в течение которых пена текла у него изо рта, он бешено рвался и не переставая кричал чужим голосом одну и ту же фразу: «Отойдите от меня! - Отойдите от меня! - Отойдите от меня!»
В это время никто в палате, где лежали умиравшие с голоду дистрофики и другие тяжело-больные, не мог сомкнуть глаз. Если бы не эти припадки, когда Алеша показывал необычную силу и бешенство - то зэ-ка бы не верили, что он помешан. В лагере подозревают в каждом симулянта. Но Алеша не прикидывался - это было видно не только из припадков, но из того, что он не реагировал, когда обносили его при раздаче еды. Однако, голоден он был страшно, - и как только показывалась раздатчица Соня, - просил у нее «косточки».
Косточки принадлежали Алеше. Ему приносили миску костей из кухни, и он их часами грыз, как собака. Я был его соседом, и привык к хрусту костей, разгрызаемых крепкими белыми зубами. Все мы открыто завидовали Алеше, и если бы их дали другому, то были бы протесты. Но Алеша был на особом положении. После припадка проходило 2-3 недели. Алеша чувствовал себя крепче и начинал снова готовиться в дорогу. Тогда приходил к нему врач, садился на койку и начинал ему объяснять: он в заключении, нельзя идти к Маше и Нюре. - «Почему нельзя? - спрашивал очень серьезно Алеша. - Я ведь ничего не сделал. Я никого не обидел и хочу домой!» Врач объяснял, что все кругом одинаковые, и все заключенные, и все домой хотят, но не могут... «Почему?» - спрашивал Алеша, и тогда на минуту наступало в палате молчание, и всем казалось, что это не Алеша с ума сошел, а мы, все окружающие, мы, которые не можем ему объяснить, почему нельзя идти домой, а только требуем, чтобы он оставался с нами, потому что мы все, как он, задержаны и втоптаны в грязь. И, повернувшись ко мне, врач разводил руками и говорил: «Да ведь он прав! Он, сумасшедший, совершенно прав, и я ему ничего объяснить не могу!»
Алеше предстояло годы лежать в стационаре, грызть кости и терпеть голод, хотя были где-то Маша и Нюра, и никому ни с какой точки зрения не было нужно его умирание в лагере.
Ночью он бешено кричал: «Отойдите от меня! Отойдите от меня!» - и выгибался, веревки, которыми его опутали, напрягались и врезались в тело, койка трещала - и я лежал рядом, смотрел на льняную голову бесноватого в поту и огне - и думал, что этот крик обезумевшей жертвы пред лицом палачей может повторить каждый из нас, над кем замкнулся круг советского «правосудия», каждый опутанный и замкнутый в огромной темнице народов, называемой Советским Союзом.
Глава 29. В бане
«Баня для вольных» (в отличие от лагерной бани) находилась по выходе за лагерные ворота, метров 300 направо, по той же стороне единственной улицы поселка Круглица. На разводе мы выходили с бригадой ЦТРМ («цэтэрэм»), проходили мимо лагерной ограды со сторожевой вышкой на углу (за этим углом вела тропка в карцер), потом переходили железнодорожное полотно. За ним было большое лагерное «овощехранилище». Мы шли, позвякивая котелками. Сергей Юлич, «завбаней», первый входил на ветхое крылечко, отпирал двери, входил в сени, я за ним. Мы вступали в первую комнатку бани, с крошечным оконцем, скамьей и столиком. Одна дверь вела в чулан, другая -в предбанник, где ничего не было, кроме скамей по стенам, а оттуда уже был вход в баню. В бане пахло вечной сыростью и рядком стояли шайки на скамье под окном. Шаек было 14, и почти все текли. В углу стоял на возвышении пузатый деревянный бак на 70 ведер, а рядом еще две «вспомогательные» бочки, куда входило вместе еще 30 ведер.
Наконец, в глубине крошечная дверца вела в помещение с полками, где парились. Первым долгом я брал железный лист и отправлялся через улицу наискось в кузницу ЦТРМ за углем.Тем временем Сергей Юлич заряжал дровами две главные топки: на горячую воду и на пар - и третью маленькую печурку в первой комнате. Топить эти три печи не позволял мне Сергей Юлич: регулировать огонь было его специальностью, и он, как заведующий, отвечал за то, чтобы баня была готова точно к сроку. Пока он затапливал, я наливал 50 ведер в бак. Мое дело было - вода. Воду я брал из колодца во дворе - длинным багром. Вытянув багор, я на весу отцеплял ведро с крюка, широким движением переносил полное, плескавшее ведро через край деревянного сруба, наливал второе - и оба ведра относил по кладке среди огромной лужи к бане. Нести было недалеко, но в самой бане приходилось подыматься по лесенке. Всего было 6 ступеней вверх, я их брал с усилием,с бьющимся сердцем и наверху выливал оба ведра в деревянный желоб, торчавший в стене. По желобу вода стекала в деревянный бак, стоявший в бане. В тот же бак проходили железные трубы из печи. До 300 ведер приходилось мне подымать по этой узкой, крутой лесенке в банные дни. Банных дней было всего три в неделю. По пятницам мылись мужчины, по субботам - стрелки ВОХРА, по воскресеньям - женщины. В эти дни мы тяжело работали. Последние посетители покидали баню часам к 9 вечера, а мы возвращались в барак не раньше 10, когда стрелок выводил ночную смену металлистов и на обратном пути забирал нас «домой». В свободные от бани дни мы занимались заготовкой дров. Под стеной бани всегда стоял длинный штабель поленьев - запас на неделю вперед. Время от времени подвозили нам несколько подвод стволов, и мы их сами резали на метровые поленья. Баня поглощала столько дров, что мы всегда были в страхе: «а вдруг не подвезут? а вдруг дров не хватит?»
Мой принципал, Сергей Юльевич Кнауэр, или, как его все звали «Юлич», был шестидесятилетний аккуратный старичок, с круглым мягким лицом, на котором еще сохранился след его прошлой благополучной жизни. Это был многолетний директор проволочно-гвоздильного завода в Москве, коренной русский немец, проживший в Москве 30 лет сряду, а до того живший где-то на западной окраине России, около Белостока. Сергей Юлич был душой немец и москвич, великий педант в своем банном деле. Баня была для него святилищем и средоточием жизни, он держал ее в нерусской чистоте, сам мыл пол в бане, сам готовил веники для посетителей, каждого провожал из баньки, кланяясь и спрашивая: «как сегодня банька, хороша?» Стрелки и гражданские, выходя, давали ему за услугу - махорочки на цыгарку. Юлич курил редко, а махорочку собирал и обменивал в лагере на хлеб.
Юлич был доволен, что получил в помощники образованного человека, с которым мог поговорить по душам, по-немецки, и, кроме того, вспомнить старую Москву-матушку. Он прекрасно знал дореволюционную Москву, с ее дружной немецкой колонией, образно мне описывал и «Мартьяныча», и прочие знаменитые московские трактиры и рестораны, объяснял мне расстегай, и селянку, и технику чаепития до 7-го пота «с полотенчиком». По рассказам Юлича выходило, что он был образцовым хозяином своего завода, перевыполнял план, получал премии и держался вне политики. Это и оказалось плохо. Нашлись на заводе карьеристы с партийным билетом, которые его оговорили, высидели и унаследовали его место. В НКВД Юлич пережил великое потрясение на первом же допросе, когда обратились к нему на «ты», обложили матерщиной, избили и предъявили чудовищно-нелепое «обвинение». Все это (кроме битья) я знал по собственному опыту и выслушал подобных историй тысячу. Проверить их я не мог, но весь душевный склад Юлича, стариковский, трудолюбиво-мещанский и лояльный, исключал мысль о какой-то вредности или политической опасности. Это был еще один пример бессмысленной жестокости, принципиального пренебрежения к чело веку. У старика были взрослые дети и внуки. Жена Юлича была эвакуирована в Среднюю Азию, не имела на жизнь и напрасно добивалась позволения жить с детьми. Три или четыре года он уже сидел в лагере, и главным событием за это время был приезд - накануне войны - на свидание его жены. Здесь, на Круглице, была его жена и рассказала то, чего не могла доверить никакому письму: как она после несчастья ходила к самому Михаилу Ивановичу Калинину просить за мужа. Им обоим казалось, что «быть не может», что это какое-то недоразумение или ошибка власти. Нелегко было добиться аудиенции у «всероссийского старосты», председателя Президиума Верховного Совета СССР, у человека, который воплощал советский гуманизм и человеколюбие. К этому человеколюбцу вошла в кабинет плачущая и дрожащая женщина. После первых слов Калинин вскочил с места. Советский апостол гуманности в золотых очках и с седой бородкой клинышком торопливо спросил женщину: «Где находится ваш муж?» - «В Ерцевских лагерях». - «Ах, - заликовал Калинин: - да ведь это чудесно! Это наши наилучшие лагеря! Это просто санаторий! Как я рад за вашего мужа! Ему неплохо там будет! Чудесно, чудесно, чудесно!» - и, схватив за плечо оторопевшую женщину, не давая ей сказать ни слова, подтолкнул к двери и выпроводил в мгновение ока, приговаривая: «чудесно, чудесно, чудесно!» Bcя «аудиенция» заняла три минуты...
С тех пор я много раз видел Калинина на экране и на снимках, читал также слащаво-елейные рассуждения этого проповедника пролетарской культуры - и всегда звучал в моих ушах этот рефрен: «чудесно, чудесно, чудесно!»
Стояли прекрасные дни лета, и я был счастлив, что попал на одну из лучших работ в Круглице. Многие завидовали мне. Оба банщика - старший и младший - жили в «аристократическом» бараке АТП, где кроме административнo-технического персонала помещаются и повара, и все, кто по условиям работы должен жить в более чистом помещении. Банщики лагерной бани (для зэка) жили при бане, а мы, имевшие дело с вольными, - в бараке АТП, где было в самом деле чудесно: висели на стене часы с гирькой, и нары были устроены «вагонной системой», то есть не сплошные, а с перерывами, чтобы было просторнее.
На вольной бане была идиллия. Накачав первым делом, сразу по приходе, 50 ведер в бак, я успевал еще сбегать на четверть часа в соседний домик, в контору ЦТРМ, где был радиоприемник. Контора, где заключенные сидели за столами и бумагами, казалась мне, мокрому водоносу, жилищем богов. Я скромно стоял при двери и слушал фронтовую сводку. Если в это время входил кто-нибудь из начальников лагеря или стрелок-конвойный, я моментально уходил, так как я не имел права отлучаться с места работы. Вернувшись, я докладывал Юличу о последних радиоизвестиях. Потом шел пилить дрова, а Сергей Юлич топил, чистил и готовил баню к 2 часам пополудни. Напиленные дрова мы кололи вдвоем: устанавливали круглую чурку сантиметров 40 в диаметре, я держал колун, а Юлич ударял по обуху палицей, пока чурка не кололась надвое, а потом на четыре части. От часу до двух нас свистели на Дорогу, где уже строилась парами бригада ЦТРМ. Мы шли в лагерь на полдник. Выдавалось по 300 грамм воды, где плавало несколько круп. Пройдя ворота, люди сразу бежали в очередь под окно кухни, но я полдника не брал (чтобы вечером было больше) и сразу шел спать в барак. Без пяти два я уже был на вахте, где понемногу сходилась бригада. Люди сидели на завалинке, на ступеньках вахты, пока не выходил стрелок, командовал «стройся», считал, все ли на лицо, и выводил на работу.
Подходя к бане, мы видели издалека с Юличем, что на крылечке уже сидят с узелками люди. Самый трудный день был женский. Мужчина расходует не более двух шаек воды, моется быстро и, уходя, еще угощает окурком папиросы или махоркой из кисета. Женщины зато приводят с собой семьи, волокут миски, жестяные ванночки, купают ребят, моют волосы, стирают и изводят воды безсчета. Никто не думает о том, что каждое вылитое ведро я немедленно должен восполнить. Две бабы с выводком ребят способны опорожнить полбака. Каждый новый пяток баб на дороге - сигнал тревоги для меня. Сергей Юлич с достойным и услужливым видом располагается в первой комнате за столиком, принимает по 50 копеек с человека, записывает фамилии клиентов в список, а я бегу к колодцу и таскаю ведра. Дело серьезное: если вода в баке опустится ниже уровня раскаленных труб -деревянный бак рассохнется. То и дело завбаней выходит на двор и кричит мне с озабоченным лицом: «сию минуту 20 ведер!» или «еще 30 ведер, духом!» Бак опорожняется мгновенно, и доливаемая вода не успевает нагреться. Через некоторое время несется из бани крик: «вода холодна!» Тут Юлич открывает резерв горячей воды в 2 бочках, которые мы наполнили отдельно на этот случай. Оба банщика мечутся как угорелые. Юлич держит кассу, выдает билеты, записывает, следит за одеждой, чтоб не украли, и топит не переставая обе печки, для чего ему надо выходить из бани, потому что печки топятся снаружи. Самое же главное, ему надо не пропустить проводить уходящих, спросить, довольны ли остались, - и получить при этом махорочки или обещание прислать на вечер супчику... Тем временем я мечусь между колодцем и баней. Иногда несется из бани дружный крик (его слышно через стенку) : «довольно лить, переливается!» - но чаще приходится посмотреть самому, что там делается. Сперва я стеснялся входить в женскую баню, но скоро привык к тому, что банщики, как врачи,- не имеют пола. Седой и худой, я был в начале 3-го года заключения сморщен, как Ганди, и все меня звали «дедом», как настоящего деда Юлича. Тесная баня плавала в облаках пара, на деревянном полу стояло озеро. Молодые девчонки отворачивались при виде банщика, но взрослое женское население до такой степени не обращало на меня внимания, что я скоро перестал стесняться при исполнении служебных обязанностей. Когда я видел, что вода в баке стоит угрожающе низко и не скоро нагреется, я объявлял на полчаса «Sperre», то есть запрет брать воду. Все тогда садились на скамьи и подмостки, на которых стоял бак, и терпеливо ждали. Я поворачивался - в резиновых опорках на босу ногу и подвернутых штанах - и шел качать воду, а Юлич следил, чтобы никто не брал воды. Понятно, когда в бане мылись Гордеева или жена начальника лагпункта, мы из кожи лезли, чтобы не было перебоев. Тут в случае недовольства мы рисковали местом: довольно было одного их слова, чтобы снять нас с работы. Не раз многолюдные семьи вольных, придя в баню и узнав, что «Гордеева моется», уходили, чтобы помочь нам: не создавать в бане затора при начальстве.
Зато в мужские дни - благодать. Выходя из парной бани (парятся, поддавая водой на раскаленные камни), краснорожие, ублаготворенные, одеваются стрелки и прочие «вольные», сидят еще некоторое время, выкуривают папироску жестокого «самосада». У нас было нечто вроде щипцов, чтобы подносить уголек прикурить. Я научился ловко хватать щипцами уголек из печки и подавать в предбанник. Юлича все знали в Круглице, и он получал основной доход. Но и мне перепадало в иной день с полдюжины окурков и малая толика махорки или самосада, за который давали в лагере талон или кусок хлеба.
Главные доходы банщиков были от соседок-хозяек. Мы работали на поселке среди вольных. То и дело прибегали к нам попросить воды горячей - постирать. Мы не скупились, отпускали казенную воду, а зато днем позже заявлялась в баню курносая босая Глашка или Машка с котелком - «Суп дедушке». Сергей Юлич принимал с благодарностью, переливал в свою посуду и садился кушать. Через 15 минут та же девчонка являлась снова: «Работнику суп!» Это уже была моя порция. Суп нам отдавали тот, которого сами не ели: казенный из столовки. Мы в лагере точно знали, что готовят в столовке для вольных: так же скверно, как для заключенных. Разница была только в карточных продуктах - им полагалось в месяц 5 кило картошки, мясо и жиры, от отсутствия которых мы погибали. Вольных спасали не эти выдачи, а «индивидуальные огороды»: своя картошка и овощи. Суп они себе сами варили, а казенную баланду отдавали иногда банщикам. Для нас каждая ложка варева была важна. Иногда посылали нам немного мелкой картошки, морковку, брюкву, грибов. Из всего этого Сергей Юлич варил замечательный суп.
В 6 часов возвращалась в лагерь бригада ЦТРМ, я забирал посуду на двоих и шел получать обед. Юлич отлучиться не мог, а я с обедом шел к вахте, и там, против правил, пропускали меня с котелками в баню.
Раз в неделю выходил со мной заключенный парикмахер Гриша. При нашей бане он обслуживал раз в неделю вольное население Круглицы. В другие дни вольные приходили в лагерную парикмахерскую, где их брили и стригли вне очереди.
Случалось, что стрелок упрямился и не пропускал меня обратно в баню. Юлич оставался без обеда и без помощника. Через полчаса наступала катастрофа в бане, и кто-нибудь из моющихся прибегал на вахту с криком: «Пропустите водоноса, баня стала». Я терпеливо сидел с котелками под вахтой и ждал, пока меня кликнут: «Который в очках из бани, проходи!» Съесть обед было у нас время только часов в 9, когда все расходились из бани. Перед уходом надо было баню вымыть и убрать. Наконец при керосиновой лампе (электричество было проведено в баню, но не хватило лампочек) мы ложились на лавки и дремали, пока под крыльцом в темноте не раздавался зов стрелка: «Банщики, выходите!» Это возвращалась в лагерь последняя группа зэка из ЦТРМ. Мы шли гуськом в чернильной темноте осеннего вечера. Улица утопала в непролазной грязи, впереди чернела ограда лагеря, и с лагерной вышки окликал нас голос сторожевого: «Кто идет?»
Сторожевые были нацмены, малорослые казахи или удмурты, с физическими недостатками, из-за которых не взяли их на фронт, и нерусской речью. «Кто идет? Убьем!» - кричал с вышки такой охранник испуганным голосом, а зэ-ка смеялись, идя мимо. Никак не получалось из этих охранников представителей власти. Скоро и этих угнали на фронт, и сторожить нас стали женщины. Много уже было вдов среди них: из 40 мобилизованных на Круглице было к лету 44-го года убитых 11.
Вольные люди не разговаривали с заключенными на «опасные» темы. Но один раз я подслушал разговор, не предназначенный для моих ушей. Поздним вечером в опустевшей бане шепталось между собой двое последних наших гостей. Они говорили о том, о чем тогда - осенью 1942 года - говорила потихоньку вся Россия: о том, что происходит в оккупированных местностях. Офицер, вернувшийся с финского фронта, рассказывал о том, как он провел 3 дня в районе, занятом финнами. Можно было понять, что он хотел там остаться. Но прежде он хотел посмотреть, что там делается. Он увидел там голод, рабство и виселицы. У финнов не было хлеба, не было теплой одежды; это были не освободители, а беспощадные завоеватели. Через 3 дня офицер вернулся в свою часть.
Этот рассказ дал мне ясный ответ на вопрос, почему нищая колхозная Россия держала фронт и умирала за Политбюро. Не потому, что эти люди хотели коммунизма и диктатуры. Они ее так же хотели, как во времена первой Отечественной войны в 1812 году русские мужики хотели царя и сохранения крепостного права. И не потому, что все недовольные сидели в лагерях. Недовольство вытекает в Советском Союзе из объективных условий, и нельзя его устранить репрессиями. Сажать недовольных в лагеря - все равно, что стричь ногти и волосы, которые всегда отрастают на живом организме. Надо понять, что этим людям рассказывали четверть века страшные вещи о капитализме за границей. То, что они наконец увидели - Европа каннибалов нацизма, - оказалось еще хуже, чем им рассказывали. Величайшее преступление Гитлера в том, что он скомпрометировал Европу в глазах советского народа и не оставил русским людям другого пути, как защищаться от каннибализма. То, что он продемонст рировал на оккупированной территории с населением в 70 миллионов, было ничем не лучше, а много хуже, чем советский строй. Это не сразу выяснилось. В первые месяцы Красная Армия колебалась. Целые дивизии и корпуса сдавались в плен, миллионы сложили оружие. Если бы русскому народу - одному из великих, хотя политически отсталых народов мира - дали тогда хлеб, свободу и уважение его национальных и человеческих прав, - он сам бы ликвидировал чудовищный строй, навязанный ему партийным захватом. Офицер из Круглицы сперва посмотрел, что делается за линией фронта, а потом вернулся. Из двух зол он выбрал меньшее. Под Сталинградом и Курском он защищал, конечно, не лагеря и террор НКВД, а свою страну от немцев. Каждый из нас, отвергающих сталинизм, поступил бы точно так же. Система циничной лжи и насилия, существующая в России, не может быть опрокинута нечистыми руками. Население лагерей, отделенное от остальной России, и вся эта Россия, отделенная «Железным Занавесом» от Западной Демократии, нуждаются в помощи извне - не в фашизме, а в подъеме и идейной поддержке Западной Демократии, которая бы убедила русский народ, что ему стоит обменять свой нечеловеческий строй на Демократию Запада. Менять его на гитлеризм явно не стоило. Коммунизм введен в России гражданской войной, и только внутренний переворот в состоянии его уничтожить - при условии, что советскому обществу будет ясно, во имя чего оно восстает. Очевидно, Западная Демократия должна пройти еще большую дорогу развития и самоопределения, чтобы стать понятной и привлекательной для советского человека. Люди в Круглице не знают Западной Демократии и видят ее в кривом зеркале советской пропаганды. Им известны все происходящие на Западе тяжелые безобразия, но не известно основание гражданской свободы, сила индивидуальности и яркая многоцветность жизни на Западе.
Выходя на крылечко бани, мы видели, как шли из леса дети и женщины поселка с полными лукошками ягод, с ведрами грибов. Продавать они ничего не хотели, а менять на хлеб мы не могли. И, однако, в это лето мы, банщики, тоже попользовались «ненормированными» дарами природы. Мы находились за чертой лагеря и вне бригады: стрелок не мог уследить за нами. Под надзором стрелка было полсотни работников, раскиданных по мастерским и зданиям «ЦТРМ» по обе стороны улицы: тут и склады, и кузня, и токарная, и электростанция, столярня, каптерка, контора. Стрелок редко заглядывал к нам в часы работы. Была невидимая линия вокруг зданий, через которую заключенным нельзя было переходить. Наша «запретная зона» находилась в 50 шагах за баней, там росли лопухи, за лопухами избенка, где жила бедная вдова с детьми, а за избенкой болотистый луг: на луг уже нельзя было ходить. Но луг был близко и порос кустами, за которыми легко было спрятаться. И я скоро стал бегать в лес, благословенный лес, кормивший кругличан без карточки.
Сергей Юлич отпускал меня на час-полтора, сразу после полдника, в небанные дни. Тогда стрелок заваливался спать. Я забирал две стеклянные банки и уходил со двора. Вот и узкая тропка за лопухами, и на ней потемневшая надпись на деревянном щите: «запретная зона». Я шел деловито, весь поглощенный своей задачей. Это не была прогулка для удовольствия. Я не оглядывался на лагерь, который очень красиво выделялся издалека на фоне ясного неба. Самолет летел низко-низко на север, в Архангельск. С высоты самолета белые бараки и вышки Круглицы, наверное, были очень живописны. Но я уже наизусть знал этот вид и поля кругом, где проводили дни бригады косарей. Золотистый стрелистый пырей стелился под ноги, иногда попадалась черемуха, черные глянцевитые ягоды которой очень ценились. По лугам был раскидан шиповник; его пурпурные коробочки были особенно вкусны в первые заморозки, в сентябре. Много мы поели этого шиповника, идя с косами и граблями на работу. Все дальше и дальше уходил я от бани. Куманика и брусника попадались на топком лугу, но я не останавливался.
Редко попадался прохожий. От прохожих я уходил в кусты. Меня сразу можно было признать как зэ-ка по виду и как чужого: в Круглицком поселке все вольные знали друг друга. Если бы стрелок поднял тревогу или я бы за зоной напоролся на лагерного начальника - была бы беда: могли бы меня обвинить в попытке бегства. Бежать из лагеря было нетрудно. Во всякой другой стране было бы много случаев побега. Но в Советском Союзе - особые условия. Тут каждый человек и каждый кусок хлеба - нумерован. Некуда бежать и негде спрятаться. Сразу при дороге начиналась малина. Никогда еще в жизни я не видел такого изобилия дикорастущей лесной малины. Бледно-зеленые листья с серебристой изнанкой то и дело попадались на лужайках и в лесной тени. Кусты гнулись под тяжестью спелых рубиновых ягод, всюду светилась малина. Я бросал необобранный куст и переходил к другому, где ветви просто ломились от осыпавшихся ягод. А в траве на деликатных тоненьких стебельках была земляника... Скоро пальцы у меня были красны от сока... Я ел и собирал малину в банки. Пол-литра я приносил Юличу, другие пол-литра оставлял себе на ужин. За два года это были первые ягоды. В лагере за 1/2 литра малины давали 200 грамм хлеба, но я ни разу не обменял ее на хлеб.
Я торопился: времени было немного. Мальчишки, которых я встречал в гуще леса, все были привычны к виду зэ-ка и могли думать, что где-нибудь близко работает моя бригада. Малины хватало на всех. Дети в поселке не голодали летом. И зэ-ка голодали бы меньше, если бы им позволили собирать ягоды. Но об этом никто не думал. Несколько инвалидов собирали в Круглице ягоды и грибы. Ягоды они отдавали в аптекоуправление, а грибы сушили на зиму. Грибы с их 90-процентным содержанием воды были наименее питательным продуктом леса. И то, и другое инвалиды должны были собирать по норме. По возвращении из леса их обыскивали: не спрятали ли они чего-нибудь для себя.
Дни наши были заполнены охотой за пищей. В этой борьбе за существование были удачи и поражения. Несколько дней мимо бани возил капусту возчик Гаврилкж, добродушный хохол, посаженный в лагерь за нелюбовь к колхозу. Юлич и Гаврилюк сговорились, и раз, когда Гаврилкж ехал мимо, Юлич выслал меня к нему. Я подошел к возу, и Гаврилюк, оглянувшись, скинул с воза кочан капусты. Я его моментально бросил в ведро и принес в баню. Не успели мы спрятать ведро в чуланчик, как следом вошел стрелок. Он, оказывается, прятался за углом и видел всю операцию. «Где спрятали капусту?» Пришлось отдать. Это было большое разочарование. Мне и Гаврилюку угрожал карцер. Я уже приготовился на ночь в домик Гошки, но на этот раз все обошлось благополучно: стрелок, вместо того чтобы сдать кочан капусты на вахту и составить протокол («акт»), снес его жене домой и смолчал о происшедшем.
В другой раз я пошел в соседнее овощехранилище - за ведром, которое мы туда одолжили. Меня повели в особую землянку, куда был запрещен вход даже своим работникам. Только заведующий входил туда, и сторож сидел при сокровище. Я стал под стеной и вдруг увидел под столом корзинку с чем-то розовым и белым. В сумерках я не мог рассмотреть, что там такое. Заведующий вышел за ведром, а сторож повернулся ко мне спиной. Он сразу что-то почувствовал, быстро обернулся и подозрительно посмотрел на меня. Я невинно стоял у стены. В ту секунду, что сторож стал ко мне спиной, я успел сунуть руку в корзину, набрал полную горсть чего-то липкого, скользкого и положил в карман бушлата. Вернувшись в баню, я обнаружил, что в кармане у меня - куски свежего говяжьего жира: неслыханное богатство. Добычу я сдал Сергею Юличу, и мы в тот день ели необыкновенную похлебку из грибов, жирную и с солью, которая на этот случай нашлась у Сергея Юлича.
1 ноября 1942 года произошло резкое сокращение питания в лагерях. Это было уже не в первый раз, но никогда еще так резко не уменьшали нам выдачи хлеба и каши. Даже порция супа - лагерной баланды - была уменьшена с 800 грамм до 500. Выдача кашицы сократилась для выполняющих норму вчетверо. Начиналась вторая военная зима в лагерях, где голод и до войны был в порядке вещей. А одновременно моя работа в бане стала гораздо труднее с наступлением холодов. Больше дров поглощали печи, пилить и носить воду приходилось на морозе, и так как в 4 часа уже темнело, то я должен был черпать и таскать ведра в кромешном мраке. Начались осенние ливни и бури. Дождь хлестал часами. Люди теперь охотнее шли в баню из своих холодных домишек и сидели там, как в клубе. Под проливным дождем в мокром и рваном рубище я метался в темноте осенних вечеров от колодца и по лесенке вверх с парой ведер. Утром вода в колодце замерзала, надо было пробивать лед. Ведра срывались с крюков и тонули в колодце - приходилось лезть за ними в колодец. Начались кражи дров. Каждый день, приходя утром, мы видели, что соседи растаскали напиленные нами дрова - в поселке не было достаточно топлива. Мы не успевали пилить. Работа в бане превращалась для меня в кошмар. В один-единственный месяц - в ноябре 42 года - я лишился сил и превратился в живой труп. На моих глазах начал таять Сергей Юлич, у него ввалились щеки и потухли глаза. Он ко мне привык за 5 месяцев и понимал, что, если пошлют меня на другую черную работу, я не выживу. Но ему надо было думать о собственном спасении. Со мной вдвоем он не мог управиться с работой. Ему нужен был молодой и здоровый работник. После долгих колебаний он наконец решился: сходил вечером к начальнику работ и попросил, чтобы ему назначили другого работника. В конце ноября меня без предупреждения сняли с работы в бане. Трудно передать ужас, с которым я принял это известие. Это был конец. Я не знал, куда мне деваться и где спрятаться. На другой день должны были выгнать меня в открытое поле, в стужу, среди озверевших и озлобленных людей, для которых я не имел лица и которые за малейшее проявление слабости, за неверное движение затоптали бы меня. Утром на разводе я попросился еще на один, последний день в баню - под предлогом, что там остались мои вещи, которые надо забрать. Александр Иванович, начальник работ, позволил мне пойти третьим. Уже другой водонос работал на моем месте. Я пошел в контору «ЦТРМ» рядом, где за 5 месяцев привыкли к тому, что я каждое утро приходил слушать радио. Там было двое-трое людей, которые знали меня ближе. Надо было спасать меня. Они пошептались между собой - и предложили, мне с завтрашнего дня работать у них чертежником.
Глава 30. В конторе
О работе чертежника я не имел ни малейшего понятия. В конторе «Цетерэм» было незанято место чертежника, и поэтому записали меня, с согласия старшего бухгалтера и начальника мастерских, на эту работу, чтобы дать мне передохнуть несколько дней и посмотреть, не найдется ли для меня какого-нибудь применения в будущем. Я провел в конторе ЦТРМ полных 5 недель.
Это время: январь 1943 года, когда под Сталинградом совершился перелом войны, для меня было временем физической катастрофы. Работа в конторе уже не могла спасти меня. Я знал, что умираю. Но людям, среди которых я находился, я не смел показать этого - из страха, что меня выбросят. Я из всех сил держался за свое место в конторе. Скоро я узнал, как тяжела чужая милость и как трудно утопающему держаться на поверхности воды.
Я был как человек упавший с парохода в море. Пароход ушел. Последние огни его потонули в темной ночи. Человек остается один среди океана. Мускулы немеют, и он знает: это последние минуты его жизни.
Я завидовал людям, которые умирали достойно, спокойно, в домашнем уюте, в белоснежной постели - или героям, умиравшим с оружием в руках за правое дело, чью память потом благоговейно хранила нация. Наконец, я завидовал псу, который пред смертью заползал в свою конуру. Наша смерть была уродливее и мучительнее во много раз.
Алиментарная дистрофия, или распад организма в результате голодного истощения, в это время уже становилась массовым явлением в лагерях. Но, как всегда, первые жертвы, авангард миллионного шествия мертвецов, были окружены недоверием, досадой и равнодушием тех, кто еще имел в себе запас сил на несколько месяцев. Мы были пионерами лагерной смерти: хилые интеллигенты, душевно и физически неприспособленные, которых втянуло в самую гущу лагерного водоворота, в анонимную груду рабочего лагерного мяса.
Теперь я жил в бараке ЦТРМ, где меня окружали особые люди: кузнецы, слесаря, токари по металлу, сварщики, электромонтеры, трактористы, механики и столяры - все мастера, которые находились в лучшем физическом состоянии, чем другие, благодаря тому, что они торговали с вольными из-под полы своей продукцией: ключами, замками, котелками, мисками, металлическими частями. Их лучше кормили. То, что я попал в их среду, было успехом для меня - но я не имел права быть среди них, и это недоразумение должно было скоро выясниться. Пять недель в ЦТРМ не спасли меня, но замедлили темп катастрофы, как будто я не круто сорвался, а скатился на дно по наклонной плоскости.
Два года спустя, прикованный к постели, я наблюдал алиментарную дистрофию в последней стадии. Смерть атакует разрушенный и неспособный к сопротивлению организм в одной какой-нибудь точке. Люди умирают от сердечной болезни, от горловой чахотки, чаще всего от водянки. К этому времени они уже не в состоянии двигаться и без помощи санитара не могут исполнить естественной надобности. Их как младенцев сажают и переносят с места на место. Врачи указывали в своих сводках алиментарную дистрофию, как причину смерти. Но в мае 1945 г. было передано распоряжение из Московского ГУЛАГа: не приводить более алиментарной дистрофии в рубрике повод: поражение сердца, легких и т.п. Таким образом, одним распоряжением свыше была уничтожена голодная смерть в советских лагерях. Надо думать, что статистика смертности в бесчисленных тысячах лагерей, с одним монотонным припевом «АД» - наконец, надоела людям, которые нас убивали, но считали при этом нужным соблюдать формы. С мая 45 года ни один человек больше не умер с голоду в местах советского заключения. То, что это распоряжение было помечено как строго секретное, показывает, что его авторы сознавали позорный смысл его.
В начале 43 года я вступил на дорогу смерти, но прошел только первые стадии алиментарной дистрофии. Мой вес, с довоенных 80 кило сократился до 45. Я начал испытывать трудности при ходьбе. Триста метров, которые мне приходилось проходить каждое утро до конторы ЦТРМ, я одолевал с крайним напряжением, обливаясь потом. Я с усилием передвигал ноги. У меня появилось ощущение их полости, но когда я пробовал поднять ногу, она оказывалась чужой, как будто вместо ног у меня были протезы или свинцовые болванки. Это было странное ощущение, когда мои старые ноги, которые 42 года служили мне и составляли часть моего тела, вдруг перестали меня слушаться и исполнять мои приказы. Подходя к крылечку о трех ступеньках, я сперва ставил одну ногу на нижнюю ступень, потом подтягивал другую. Потом, с сосредоточенным лицом, точно решая трудную задачу, я принимался за вторую ступеньку. Я ходил так, как ходят дряхлые 80-летние старики. Процесс ходьбы стал для меня драматическим переживанием. Но я не был исключением; с каждым днем становилось все больше таких, как я.
Вторым симптомом была сыпь в локтях, коленях и крестце, ярко-красная на высохшей коже, лишенной жировой подкладки. Кости торчали наружу, ключицы, ребра проступали, - плоть таяла на нас, и скелет выходил наружу. Медицинский осмотр дистрофиков состоял в том, что нам командовали спустить штаны и повернуться. Один беглый взгляд на то место, где раньше были ягодицы, заменял всю проверку. Нам уже не на чем было сидеть. Приходя в контору, я приносил с собой маленькую подушечку на стул. Но уже и сидеть было трудно. Я нуждался в том, чтобы лечь.
А лежать я не имел права, потому что меня не освобождали от работы. В том состоянии глубокого старческого изнеможения, когда человека тянет к покою, когда сами собой опускаются руки и замирает сердце, когда беспрерывно ноют ноги, как после долгой дороги, когда температура понижается на градус против нормальной и человек гаснет, как уголек, оброненный в снег - я с утра до вечера вертелся на людях, при исполнении обязанностей. - Мне приказывали, меня посылали, подымали с места, подгоняли, торопили, - и я не просто умирал, а умирал на ходу, в работе, в толчее, в давке, в страхе и вечной оглядке - откуда идет беда.
Зэ-ка обыкновенно говорят: «мы не живем, а существуем», понимая под этим, что для них жизнь сводится к поддержанию физиологических функций организма. Теперь и это «существование» превращалось для меня в невыносимую муку, в непрекращающееся телесное страдание. Засыпая в бараке, я искренне желал себе не проснуться на следующее утро.
В конторе я был переписчиком. Мне давали переписывать акты, отчеты, рассчетные ведомости, мое дело было проверять, все ли пришли на работу. Перед лагерным разводом я брал себе выписку в Санчасти - кто освобожден по болезни из нашей бригады. Потом я обходил цехи и все рабочие места - проверял, все ли налицо. И я же подметал, носил уголь для растопки, носил дрова, а когда темнело - закрывал ставни. Весь день посылали меня с разными поручениями. И все это я делал очень плохо, очень медленно, с видимым напряжением, от которого окружающим становилось неловко. Очень скоро я надоел лагерной аристократии, которая позволила мне укрываться от общих работ в конторе под условием, что я буду бодрым, веселым и услужливым товарищем. Но уже в первый день возник конфликт, когда оказалось, что я не в состоянии наколоть дров. Нам не давали дров в контору, мы их воровали на пустыре против электростанции. Я пошел со всеми на этот пустырь, принес на плече бревно - но пилил я уже слабо, медленно, а колоть и совсем отказался. Вот этого отказа и не могли мне простить мои сотоварищи. Я, принятый из милости псевдочертежник, не имел права отказываться от работы, которую мне указывали.
Возможно, что все это не было так страшно, как мне казалось. Но я трагически переживал всеобщую враждебность ко мне. Я чувствовал себя лишним и ненужным человеком в конторе. Один из симптомов алиментарной дистрофии есть ослабление памяти и умственных способностей до степени слабоумия. Я забыл адреса своих самых близких друзей. Я забыл имена своих любимых писателей, названия диалогов Платона. Через некоторое время оказалось, что я не в состоянии написать ни одной бумаги без ошибок, и во всех моих счетах и подсчетах всегда что-то не сходится. Все вокруг меня щелкали с пулеметной скоростью на «счетах». Сухой треск костяшек стоял в конторе с утра до вечера, и только я один не умел достаточно быстро считать на «счетах», и у меня скорее получалось на бумаге.
Места в конторе не было у меня. Был стол бухгалтеров, и стол инженерно-конструкторского бюро, и стол завхоза бригады, а я сидел на месте того, кто в данный момент отсутствовал. Однако, на место старшего бухгалтера я не смел садиться даже тогда, когда его не было. Пера и чернил мне также не полагалось. Письменных принадлежностей не было, каждый, кого «допустили» в контору, добывал их где мог, берег, запирал, и не давал никому притронуться. Чернила сами делали из химического карандаша, а химический карандаш покупали тайком за хлеб, потому что он запрещен в лагере. У меня было свое перо. Я оставил его в незапертом ящике стола - на другое утро его уже не было: украли. Я раздобыл другое перо, сунул его в чернильницу - и получил жестокий нагоняй: «не лазь в чужую чернильницу, свою принеси»... все сидели с безучастными лицами за своими чернильницами, а я не мог написать акта для начальника, потому что у меня не было чернил. Это было больше чем злорадство - это было холодное бешенство над отсутствием у меня сил, чернил, памяти, изворотливости и теплых рукавиц. ЦТРМ имел свою каптерку, и они все получили в конторе на зиму и рукавицы, и обувь. Но я был временный гость, чужой, и меня в список не включили. Это были советские люди, беспощадные к чужой нужде, которые зубами держались за свое и ненавидели слабых, обременяющих «коллектив».
Понемногу перестали мне давать работу. Мне нечего было делать в конторе. У меня мерзли ноги. От времени до времени я вставал от стола и шел к печке погреться. И однако мне не следовало этого делать! Я чувствовал, как сгущалась в комнате враждебность против меня. Наконец, кто-то, расположенный ко мне больше других, не выдержал и сказал мне прямо, что я меньше всех работаю и больше всех греюсь, и это действует ему на нервы. И однако на нем были валенки, а на мне худые рваные опорки «четезэ».
Все время я должен был остерегаться провокационных вопросов. Старший бухгалтер Петров обратился ко мне однажды с вопросом: «Что такое фашизм?» Прежде чем я успел собраться с мыслями для ответа, я увидел, как мне делают из-за его спины бешеные знаки, чтобы я молчал. Надо было остерегаться таких бесед, которые могли повредить не только мне, но и слушателям.
Начальником бригады был инженер Моргунов, человек, в котором по внешнему виду никто не признал бы еврея: высокий, смуглый и крепкий человек. Зэ-ка Моргунов провел много лет в Китае, говорил по-английски. Потому то он и сидел в лагере: он принадлежал к той группе служащих Дальне-Восточной жел. дороги, в Манчжурии, которая после уступки этой дороги Японии, вернулась в Россию и целиком была посажена в лагерь, как зараженная соприкосновением с заграницей. Моргунов не унывал: это был лагерный «ницшеанец» в советском варианте, который как-то напрямик мне сказал, что слабым в лагере не место: «пусть умирают». Этот принцип «падающего толкни» он ко мне применял с полной последовательностью. Когда Моргунов входил в контору, я знал, что меня сейчас пошлют куда-нибудь, подымут с места, выдумают что-нибудь для меня. Моргунов посылал меня на розыски какого-нибудь человека, и я ползал, как собака с перебитой ногой, из цеха в цех, из помещения в помещение, проваливаясь в сугробах снега как во сне, и сам был удивлен, если вдруг натыкался на этого человека, который, впрочем, не обращал никакого внимания на вызов. Моргунов посылал меня в поле принести чурки, которых я заведомо не мог поднять. Я до тех пор мучился над ними, пока из конторы не выходил кто-нибудь помочь мне.
Людей из конторы часто вызывали на физическую работу, когда требовалось спешно расчистить от снега полотно ж. дороги или разгрузить какой-нибудь вагон. Шел и я, хотя мое участие в работе было совершенно бесполезно. Но за физическую работу полагалось 100 или 200 гр. добавки хлеба. Я ковырял лопатой или подставлял где-нибудь плечо, - а потом открыто и бесстыдно садился где-нибудь в стороне. Другие еще пробовали показать вид, что работают, но я и для этого уже не годился.
Максимальное физическое усилие наступало вечером, когда мы возвращались в лагерь. Каждый брал с собой по толстому полену или чурке в барак. Несли его подмышкой или на плече, прислонив голову к мерзлой ледяной коре полена. Это полено давало право греться у печки. Кто не приносил ничего, тех гнали от печки.
Подняться на верхнюю нару мне уже было трудно. Раз взойдя на верх, я уже не спускался без крайней необходимости. Я также перестал раздеваться на ночь. Физическое усилие, нужное для того, чтобы освободиться от ватных брюк и всего, что на мне было наворочено, уже превышало мои возможности. Я только скидывал с ног «четезэ», снимал бушлат, накрывался с головой лагерным байковым одеялом и засыпал под шум разговоров и жужжание радио.
Население Сангородка Круглица не уменьшалось. Беспрерывно поступали в сангородок больные из окружающих лагпунктов и, выписываясь, оставались на месте в рабочих бригадах. Зато в обыкновенных рабочих лагпунктах по соседству с начала 43 года стал заметен отлив. Лагерное население убывало. Отлив шел не столько за счет освобождения по отбытии срока, сколько за счет вымирания. А так как новых зэ-ка в первые 2 года войны не присылали, то у сидевших в заключении была иллюзия, что с концом войны наступит и конец - естественный - лагерей. Как часто, глядя на грязные стены бараков, на ограду с колючей проволокой, на лица охранников, я говорил себе: «Все это скоро исчезнет, пройдет как дурной сон, растает как снег на солнце... и места не найдут, где это было...» и радовался, когда слышал, что два соседние лагпункта, где население сильно поредело, соединяются в один. - Эта иллюзия о конце лагерей держалась у нас до второй половины 44 года, когда из местностей, очищенных от немцев, хлынула в лагеря новая мощная волна заключенных.
В начале 43 года, т.е. в третью лагерную зиму, умер Яцко. Я помнил его молодцеватым, самоуверенным лучкистом, потом - когда исключили его из амнистии для поляков - озлобленным почитателем Гитлера, полным ненависти к своим палачам. В довоенной Польше Яцко был националист, и со мною, евреем, наверное, не стал бы разговаривать. Но в Круглице, где он догорал от чахотки, я был одним из немногих, с кем он мог говорить по-польски. Раз в месяц или два месяца я заходил к нему в стационар для туберкулезных - тот самый, где я провел 3 таких хороших дня в июле 41 года. Стационар был полон умиравших, и Яцко присмирел: он знал, что уже не выйдет живым отсюда. У него был план: подать заявление уполномоченному просить беседы. Какое-то «важное сообщение» он хотел сделать уполномоченному - открыть ему секрет. Я всячески старался отговорить его от этой мысли. Не стоило открывать никаких секретов уполномоченным. Яцко очень боялся смерти среди чужих, смерти вдвойне безвестной, т. к. он был в лагере под чужой фамилией. Яцко не был Яцко, а кто-то другой, и было у него что-то важное, что он непременно хотел спасти от забвения, передать в верные руки. Наконец, он мне намекнул, что должен будет особо поговорить со мной, о важном деле. Но он не успел этого сделать. Как раз в его последние дни я сам слег в больницу, и Яцко напрасно просил санитара найти меня и вызвать к нему. Я узнал о том, что он вызывал меня, уже после его смерти.
Так и неизвестно, кто скрывался под фамилией Яцко, и какие невыполненные важные дела были у него в мире. Человек этот, пока был здоров, казался мне ничтожным и неприятным (как вероятно и я ему) - его мысли и чувства были мне чужды и враждебны, и в других условиях он бы легко мог стать моим палачом. Но ясно и непреложно я видел, что все это не имело большого значения. Не в этом был корень зла. Яцко не был ни лучше, ни хуже других. Яцко был моим сочеловеком.
Мне было ясно, что люди не могут побороть границ, естественных, исторических, социальных и личных, которые их делят, и не в этом зло. В лагере все умирали одинаково: фашисты и демократы, евреи и антисемиты, русские и поляки, добрые и злые. Личности, как и целые общества и народы, надо уметь оставить в покое с их слабостями и несовершенством, и надо помнить, что каждый человек способен на преступление в известных условиях. Зло же - настоящее, смертельной ненависти заслуживающее зло - представляет только то, что зачеркивает живого человека во имя фетишизма, во имя цифры, плана и расчета, во имя «Хеопсовой пирамиды», как бы она ни называлась на языке политиков и завоевателей. Каждый понимает разницу между человеком, хотя бы самым враждебным, и бездушной машиной, которая сеет смерть и умножает в мире страдание. Преступлением, которого нельзя простить, является отказ человека от сочеловечества и превращение его в бездушное орудие убийства и порабощения.
В лагере я научился видеть изнанку вещей, изнанку каждого слова. Такое слово, как «фашист», означало безусловное зло, - и это же слово служило поводом для палачей ломать и кромсать живую жизнь во имя чего-то, что было не меньшим злом, чем фашизм.
Приблизительно в то же время умер Семиволос. Этот крепкий и сильный человек рухнул, как дуб в бурю. Случайная болезнь - воспаление легких - свалила его. Тогда обнаружилось, как глубоко годы в лагере подточили его изнутри. Этот человек учил меня, новичка, как надо жить в лагере, как устраиваться, как раскладывать костер в лесу, как надо и не надо питаться. И вот, оказалось, что я, слабый и ничего не умеющий - пережил его, героя и стахановца. Моя сила сопротивления была больше, и это имеет свое простое объяснение. Семиволос был в лагере передовик и знатный человек, а я - вне лагеря человек нормального вида - в лагере был бесформенным и жалким комком живой протоплазмы. У меня не было никаких амбиций в лагере, и я пользовался любой щелью, любым углублением в почве, где я мог спрятаться. Если бы все люди в лагере были такие, как я, - пришлось бы лагеря ликвидировать. Лагеря держались на Семиволосах, которые хотели быть «достойными лагерниками», на исправных рабах, которые тянули из себя жилы, и из которых бессовестный лагерный порядок вытягивал последнюю каплю силы. Смерть Семиволоса в лагере, конечно, равняется убийству. Мы, человеческая пыль, погибали миллионами от болезней и голода, но иногда мы переживали силачей, потому что меньше поддавались эксплоатации и легче находили нелегальные лазейки в трудном положении.
В начале февраля мое благополучие кончилось. Меня изгнали из рая. Поздно вечером разбудила меня в бараке женщина-нарядчик, тронула за плечо и сухо сообщила: «завтра в другую бригаду». Я был оскорблен смертельно тем, что Моргунов и Петров не сочли нужным предупредить меня и дать мне время приготовиться. Теперь мне не оставалось ничего, кроме фатализма: будь что будет...
На несколько дней наступает провал в моей памяти, и я не знаю, как провел следующие дни. Только дата 8 февраля 1943 года врезалась прочно в мою память.
В этот день принесли меня в глубоком обмороке в амбулаторию, и я слег в больницу, слег надолго - до 20 апреля. И снова - это был хирургический стационар, неизменный приют мой, где я находил защиту и спасение всякий раз, когда волны уже смыкались над моей головой. Первые двое суток я пролежал в палате Максика замертво. Садился я только к еде, а остальное время лежал неподвижно, отдыхал всем существом, дремал, спал, ни о чем не думая и переживая счастье человека, которого волны выбросили после кораблекрушения на мягкий песок. Мое воображение не шло дальше, как полежать здесь еще недельку или две.
Утром 15 февраля пронеслась тревога по стационару: начали вызывать больных на проверку.
Дверь из палаты отворялась в боковой коридор, из которого еще 4 двери вели: в чулан завхоза, в процедурную, в комнату лекпома, где лежал Раевский, и в операционную. Перед входом в процедурную стояла очередь больных. Все были в страхе. Какой-то незнакомый врач сидел там. Нам уже были известны такие контрольные налеты, с одно-минутным осмотром и кратким распоряжением: «выписать немедленно».
Я пришел в отчаяние, когда Максик в белом халате забежал в палату, скользнул глазами по ряду коек и показал на меня пальцем:
- На осмотр! Слезы выступили у меня на глазах. Зачем не оставляют меня в покое?
- Макс Альбертович! - я смотрел на него умоляюще. Я хотел ему сказать, что одной недели мне мало, что ноги еще не держат меня. Но Максик торопливо повернулся, сделал вид, что не слышит и ушел. Я с горечью подумал: «Предатели, трусы». Больные выходили по очереди в коридор, а я лежал. - «Чем позже, тем лучше, - думал я - а вдруг забудет про меня». Но Карахан, наш туркменский лекпом, подошел ко мне и строго напомнил: «Марголин, вставайте, ведь вам уже было сказано».
В процедурной незнакомый врач, которого я до того и в глаза не видел, в присутствии начальника Санчасти, человека вольного и мало понимавшего в медицине, велел мне раздеться и начал записывать:
- Цынга, - диктовал он, - крайнее истощение, ороговение кожи, сердце расширено на 2 пальца, шумы в верхушке правого легкого. Плеврит был? Пишите, что был. Мокрый, сухой? Пишите, мокрый. Что, язва желудка? Превосходно. Зрение, близорукость, 11 диоптрий. Частые головные боли? Пишите, все пишите.. Дистрофия, поллагра, фурункулез... Макс Альбертович, а чего бы еще написать?..
Я видел, что этому человеку можно жаловаться, следует жаловаться, стоит жаловаться, и я раскрыл рот и вылил свою душу. Я описал ему свое состояние с такими подробностями, что и камень бы расстроился. Я видел, что сегодня меня еще не выбросят из больницы - сегодня, во всяком случае, нет.
Я ушел и прилег на койку. Я был очень далек от мысли, что в эту минуту решается моя судьба. Незаметно я впал в сон. Заснул я рабочим 3 категории («облегченный труд»), а проснулся инвалидом 2-ой группы. Меня актировали. Невероятное, головокружительное известие порхало по всей палате, передавалось от койки к койке. Все с завистью смотрели на меня. Лекпом Карахан Шалахаев первый поздравил меня, но я не поверил, пока сам Максик не пришел, сел на край койки и сказал, потирая руки:
- Ну-с, товарищ Марголин, мы вас актировали. Кончены трудовые подвиги. Вы довольны?
Был ли я доволен? Я обезумел от счастья, я не знал, что со мной делается, это был мой самый светлый праздник в лагере. Актировка - больше, чем инвалидность 2-ой группы. Актировать заключенного - значит официально подтвердить, что он не только непригоден к физическому труду, но и не может восстановить своего здоровья в лагерных условиях. Эта формулировка: - «в лагерных условиях» очень важна. В нормальных условиях он еще может восстановить свою трудоспособность, но в лагере - Санчасть складывает оружие. В 1943 году на основании «актировки» освободили много инвалидов. Этот документ давал формальное основание для моего освобождения. Мое положение в лагере менялось радикально, и эта смена пришла неожиданно. Я был ошеломлен.
Еще несколько дней назад Моргунов гонял меня как собаку, и моя очевидная слабость только раздражала всех, окружавших меня. То, что я был доведен до инвалидного состояния, само по себе было недостаточно. Если бы не интервенция Максика, который стационировал меня и потом подсунул заезжему гостю - если бы не протекция и личное знакомство, я продолжал бы ходить на работу, как другие, которые не были в лучшем состоянии, чем я, и которых актировали за 2 недели до смерти.
В стационаре я помогал вести отчетность. Карахан повел меня в процедурную, усадил за столик, дал перо и чернила, и я переписал в 2 экземплярах 15 актов, 15 документов актировки, среди которых был и мой собственный. Забавно было то, что этот документ, который равнялся для меня спасению жизни в последнюю минуту - был мистификацией. 24 болезни выписали мне в этом документе, потому что, если бы просто написали правду, что спустя 21/2 года пребывания в лагере я больше не в состоянии стоять на ногах - этого было бы недостаточно.
Последующие дни я провел в радостном возбуждении, в праздничном тумане. Прежде всего было ясно, что на основании актировки оставят меня лежать в стационаре продолжительное время. Документы актировки были отправлены на утверждение в Ерцево. Там половина из них потерялась, в том числе и мой собственный. До конца года поэтому меня еще дважды вызывали на переосвидетельствование. Всякий раз спасал меня мой внешний вид - седая голова в 42 года, исключительная худоба, жалкое бессилие и измождение.
Власть нарядчика кончилась надо мною со дня актировки. С того времени я работал только добровольно и по своему желанию - чтобы не умереть с голоду на инвалидском пайке. Самочувствие мое поднялось. Лагерник, которого не имеют права выгнать каждое утро на работу по усмотрению администрации - продолжает быть зэ-ка, но на половину он уже вне лагеря, - он уже не лагерник в специфическом каторжном смысле этого слова, означающем рабский труд. Он может выбрать, может бросить работу, которая ему слишком тяжела, и не работать совсем, если предпочитает голодную смерть.
В первые дни после актировки я, как счастливый ребенок, лежал улыбаясь всему свету и примиренный со всеми. Я не получил религиозного воспитания и до лагеря никогда не беспокоил Бога своими молитвами. В лагере, где моя судьба превратилась в игрушку стихий и случайности, я впервые ощутил потребность выразить словом упрямую веру в чудо спасения, в мировой Разум, незримо присутствующий за мировой бессмыслицей. Тогда я научился кончать свой день словами: «Боже, выведи меня из грязи и верни на Родину». Но только сейчас я почувствовал, что этот счастливый исход становится действительно возможным.
У меня была потребность поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Я написал письмо в Палестину, письмо домой, жене, заадресовав его своим собственным именем: «Д-р Юлиус Марголин»... В ту минуту, когда я кончал его, вошел в палату уполномоченный и увидел издалека, что я что-то пишу. Это было вечером, тусклая электрическая лампочка горела против моей койки, и я не заметил недоброго гостя. Он подошел ко мне, отобрал письмо, произвел обыск в моей тумбочке и нашел неизменные «Вопросы Ленинизма» Сталина. Внутри лежала фотография сына - единственное, что у меня еще осталось от прошлой жизни. Он забрал и фотографию.
В другое время я бы очень огорчился. Но теперь ничто не могло меня омрачить и вывести из состояния блаженного счастья.
Слава Богу, я был инвалидом!
Часть IV
Глава 31. Максик
Суммируем факты.
Д-р Юлий Марголин, независимый журналист, человек здоровый и отец семьи, польский гражданин, с местом постоянного жительства в Палестине, ничего общего не имеющий с Советским Союзом и ничем пред ним не повинный, был в сентябре 1939 года захвачен Красной Армией на территории Польши, в момент, когда он возвращался, к себе домой, в Тель-Авив. Документы, паспорт, визы были у него в полном порядке. Что должно было произойти?
Очевидно по проверке документов и выяснении, что данное лицо не является ни шпионом, ни вором, ни убийцей, следовало дать ему возможность продолжать дорогу к домашним пенатам. В этом случае данная книга не была бы написана, и д-р Юлий Марголин до конца своих дней оставался бы в приятном убеждении, что Советский Союз есть государство, идущее в авангарде революционной Демократии. Что произошло?
Д-р Марголин был задержан на 9 месяцев, после чего арестован и по неправдоподобно-нелепому обвинению, в отсутствии у него легальных документов /как будто наличие польского паспорта у польского гражданина нарушает законы Сов.Союза/, - водворен на пять лет в исправительно - трудовой лагерь. Там след его заглох для мира. Через 2 с половиной года он был превращен в калеку, в жалкое и вечно-голодное существо, которого при встрече не узнали бы самые близкие люди. Ясно, что первое время д-р Марголин был поражен, был ошеломлен таким обращением. Ему казалось, что это ошибка или его личная неудача. Но в лагере у него открылись глаза, и он увидел, к ужасу своему, вокруг себя миллионы людей, советских и несоветских, которые находились точно в таком же положении. Он сделал удивительное открытие, от которого у него дух занялся: что это не ошибка, а с и с т е м а - особый способ управления государством, занимающим шестую часть света, и народом, который только таким путем возможно удержать в повиновении. Лагеря с исторической необходимостью возникают и системы принудительного труда, введенной в Советской России. Система же принудительного труда с логической необходимостью вытекает из коммунизма. Не может быть коммунизма во всенародном масштабе, который бы не опирался на жестокую центральную власть, осуществляющую хозяйственный план мерами крутого принуждения. Нет коммунизма без государственного планирования продукции. Нет планирования продукции без принуждения к труду. И нет принуждения к труду без лагерных санкций. Все это, очевидно, с согласия населения. Обеспечить это согласие - плевое дело для власти, которая безраздельно и монодольно господствует над потом, кровью и каждой укрытой мыслью последнего из своих подданных. Выборный аппарат опасен только слабым владыкам. Сильным он служит послушно, как собачка на задних лапках.
Назначение лагерей - изолировать из советского общества все элементы, которые не входят гармонически - добровольно или «как бы» добровольно - в установленную для них свыше схему. Понятно, что человеческая жизнь при этом не имеет никакого значения. При водворении в лагеря возможны и даже неизбежны ошибки. «Лес рубят, щепки летят». Разве возможно при 10-ти или 15-миллионном лагерном населении уследить за каждой единичной несправедливостью? Но не в этом и дело. Советский гражданин, если он действительно лоялен, не должен возмущаться происходящей с ним лично, или с его ближним ошибкой. Он должен понять, что перевоспитание общества не может обойтись без таких, пусть даже массовых, ошибок, - и даже находясь в лагере невинно - он обязан работать добросовестно для государства в границах плана - ибо в э т о м, а не в его личных мечтаниях и желаниях состоит его объективное предназначение. И если он хочет быть лоялен до конца, то он не просто должен подавить в себе протест и личные чувства /что равняется скрытой контрреволюции/, а должен привести себя в гармоническое созвучание с системой. Он должен хотеть того самого, что хочет Политбюро, он должен не просто слушаться, а л ю б и т ь Партию, любить НКВД, любить лагерь, любить свою лагерную долю и лагерную смерть, на которой строится эта прекрасная, первая и единственная в мире пролетарская Демократия.
Поняв это, д-р Марголин перестал удивляться, но не стал другом Советского строя. Теперь ему было ясно, что этот строй имел, со своей точки зрения, право послать его в лагеря, потому что в системе современного рабовладения каждый человек потенциально входит в великую семью трудящихся - все равно, поляк ли он, американец или китаец. Однако, американцев еще нельзя использовать для блага организованного коммунистического Универсума, так как они имеют защиту в виде консулатов и всего, что стоит за ними. С китайцами можно уже меньше церемониться. В советских лагерях много китайцев. Поляки же летом 1940 года и в последующие годы не имели никакой защиты и никакой силы, с которой бы стоило считаться. Поэтому их сажали в лагеря и ссылали без разбора и стеснения в каждом случае, когда этого требовал объединенный полицейскопроизводственный план. Отослать д-ра Марголина к жене и детям заграницу или даже просто входить в рассмотрение его частного случая было совершенно излишне, поскольку никто заграницей не поднимал шума из-за его судьбы, а на месте он мог принести некоторую пользу советскому государству в качестве землекопа, пильщика или грузчика.
В предыдущих главах рассказана история первых 2,5 лет моего пребывания за кулисами советского строя. В качестве безнадежного актированного инвалида я надеялся, что меня отпустят на волю. Однако я ждал напрасно. Это было мое второе разочарование в лагере. В первый раз меня произвольно исключили из амнистии для польских граждан зимой I94I года. В 1943 году меня оставили в лагере несмотря на актировку. Отпустили многих «бытовиков», но все «подозрительные» в политическом отношении зэка были оставлены в лагере, несмотря на актировку. О второй половине моего лагерного заключения я расскажу как можно короче. Специфическая трудность моего рассказа в том, что я принужден выпустить многие события и подробности, многие имена людей, которые продолжают оставаться во власти советского правительства - чтобы не повредить им. Ряд существенных моментов выпадает из моего повествования. Советское лагерное царство - не только институция. Это - миллионы живых людей, миллионы маленьких существований в условиях, которых не может себе представить воображение европейца. Важно не только то, ч т о о них рассказывается, но и самый факт, что о них рассказывается, вопреки воле и решению советской диктатуры, которая их изолировала от мира. Каждый кто слышит эти два слова «советские лагеря», должен знать, что это - не только метод, не только знамя и символ режима. Это - нечто, переходящее границы политических споров, агитации и контр-агитации: л ю д и в н е в о л е.
По сей день жив и здравствует в Советском Союзе д-р Макс Альбертович Розенберг - человек, с которым я жил 3 года на Круглице. Он отбывал там 10-тилетний cpoк. Взяли его в 1937 году, по статье 58-ой, за контрреволюцию. Макс Альбертович происходил из Перемышля в Галиции, из ортодоксальной еврейской семьи. Отец его был «хасид»; сын же не умел ни читать, ни писать по еврейски. В 1915 году, в первую мировую войну, царская армия взяла после долгой осады австрийскую крепость Перемышль, 120.000 пленных с генералом Кусманском. В числе пленных был и молодой австрийский студент медицины Макс Розенберг. Два года провел он в русском плену, в городе Шуя, Костромской губернии. Основной чертой Максика как тогда, так и впоследствии было любвеобильное сердце. Он влюбился в русскую девушку. В 1917 году произошла русская революция, а в 1918 он вернулся в Перемышль и отправился в Вену заканчивать свое медицинское образование. В 1921 году Максик кончил Венский Университет. К этому времени Перемышль был уже польским городом. Но Польша не понравилась молодому врачу, как полякам не понравился крупный еврейский нос Максика. Он не получил права практики, на каждом шагу ему делали трудности, - а в Шуе ждала любимая девушка. Максик не долго думал и в 1922 году перешел границу.
Времена тогда были романтические, порядку мало, и факт перехода границы припомнили Максику только спустя 15 лет. 15 лет Макс Альбертович с полным удовольствием прожил в Советском Союзе. Из него вышел прекрасный хирург и солидный законопослушный гражданин. Макс Альбертович всегда подчеркивал, что ему очень хорошо жилось до ареста, и он ничего лучше не желает, как вернуться к той же поре своей жизни, когда он был свободным советским гражданином. Он не раскаивался в том, что перешел советскую границу, как раскаивались многие другие. В Сов. Союзе прошла вся его жизнь. Он не представлял себе, что может когда-нибудь вернуться в Европу, и никакого места не занимала она в его сердце. Он был советский русский врач. По-русски говорил он чисто и свободно, и только некоторые особенности выдавали его западное происхождение: вместо «нет» он иногда, забывшись, выговаривал «нэт», и вместо «с вами» - «з вами». Первая черта - немецкая, а вторая - польская, и надо было знать биографию Макса Альбертовича, чтобы понять их. Потом я сделал открытие, что Макс Альбертович читает по-польски, но не любит и не ценит этого языка. Зато другие европейские языки Максик не просто любил: они были его увлечением, его коньком.
Макс Альбертович был человеком прекрасного характера, ровно-невозмутимого и полного спокойной приязни к людям. Один из лучших людей, каких я встречал в своей жизни. И то, что он - при своей искреннейшей, настоящей лояльности к советской власти - сидел в лагере и не имел права выйти к больному в поселок иначе, как под конвоем стрелка с винтов.кой наперевес - было одной из советских нелепостей, которая никого в лагере не удивляла, кроме него самого. -Он был не оскорблен, а именно безмерно удивлен непонятностью происшедшего. Надо было видеть выражение озадаченного недоумения, когда он передавал - действительно гротескную - историю своего «следствия и суда». В 1937 году были изолированы все прибывшие из-за границы, в том числе и Максик. Не помогли 15 лет безупречной работы. Так как Максик был действительным и искренним патриотом советской родины, которого отпугнуло бы малейшее резкое слово по адресу власти, то я забавлялся тем, что «объяснял» ему глубокий смысл его заключения в лагерь, и показывал, что он, как советский патриот, должен принять и одобрить свое нахождение в лагере. Но Максик не был диалектиком, я чувствовал, что ему в глубине души все-таки что-то непонятно. Ни понять, ни оправдать своего несчастья он не мог. Но он с ним примирился. В этом помогли ему добродушие, кротость и неистощимая жизненность этого человека.
В 1943 году было ему 54 года. Он был сутуловат, с энергичным лицом моряка, на котором выдавались ясные глаза, живые и молодые, под светлыми бровями. Ходил он в коротком собственном полушубке и суконном картузе, подавшись корпусом вперед, и быстро-быстро, точно боялся опоздать В разговоре прислушивался к собеседнику, как будто вбирал в себя, что ему говорят, а потом отзывался очень решительно, обдавая собеседника своим убеждением и настойчивостью. Это была манера врача, который внушает своим бестолковым и непонимающим пациентам, как они должны принимать лекарство. При всем том Максик был человек мягкий, человек лиричный. Никогда я не слышал, чтобы он поднял голос, крикнул, ругнул человека. Под его ведением находились первый, хирургический, стационар, кроватей на 50, и амбулатория, но тут и там он передал административную сторону более энергичным помощникам и ограничивался одним лечением. - Больные относились к нему с тем особым почтением, смешанным с опаской, которое всегда вызывает у людей простых /впрочем, и не только простых/ хирург, оператор, человек режущий тело. Чем спокойнее и мирнее был Максик в белом халате, с твердым бритым подбородком, большим плебейским ртом, солидным массивным носом и прозрачным взглядом из-под белесых бровей, тем фантастичнее казалась его профессия: взломщик животов, пильщик по человеческой кости. Максик трепанировал черепа, ампутировал конечности, сшивал кишки, накладывал швы, орудовал ножом.
Такое искусство даже в самом последнем бандите не может не вызвать уважения. Когда он выходил из коридора на середину палаты и, заложив руки за спину, становился слушать под столбом, где висел рупор радио -больные снижали голоса, и в палате наступала относительная тишина.
Хирургический стационар был последний в первой линии бараков сан-городка, в самом углу лагерного четырехугольника. Идя по узким мосткам вдоль запретной зоны, надо было миновать «ЧОС», два рабочих барака, один госпитальный, и еще завернуть за угол. Низенькая дверь отворялась в крошечные сенцы. Оттуда прямо входили в палату, направо - в «раздаточную» или «кухню», налево - в резиденцию Максика. В комнате его, размером 3 метра на 1,5 помещалась побеленная низенькая печурка -плита, против нее - железная кровать. Под окошком с желтой ситцевой занавесочкой стоял деревянный шкафчик-стол, сбоку - полочка книг. Над дверью - еще полочка. Под кроватью - чемодан с бельем. Два табурета. В дверь были вбиты гвозди, на которых висел полушубок, халат и другие вещи врача.
Нормально в таких каморках врачи и лекпомы помещались по два. Но каморка Макса была так мала, что там не было места двоим, и ему позволили проживать там одному. Это в лагере - исключительная роскошь. Но Максик был ценим начальством, как выдающийся врач. Он зарабатывал также и у вольных. Конечно, это было очень относительное благополучие, но все же в шкафчике под окошком были заперты вещи, которых не было в общем бараке: несколько картофелин, морковок, луковиц, иногда стакан топленого жира, иногда лишний кусок хлеба. Казенное питание полагалось врачу «по 2-му котлу», но больничная кухня помещалась на Круглице отдельно от общей, и поварихи там, конечно, не соблюдали нормы, накладывая в котелки врачам и лекпомам. Никто из медперсонала не голодая, хотя больничного питания в это время уже не хватало, чтобы накормить досыта больных.
В комнате Макса Альбертовича были предметы роскоши: стоячая лампа на столе, лагерной конструкции, а на ней абажур из ситца, сшитый женской рукой. И громкоговоритель радио - не казенный, а свой собственный. Не раз КВЧ пробовала забрать его у врача, когда не хватало в другом месте, но Макс Альбертович всегда доказывал, что это его личная собственность, и ему оставляли. Самую поразительную особенность жилища Максика составляли картины. Вся стена над постелью высоко до потолка была завешана картинками небольшого размера, акварелями и масляными красками. Это была работа лагерного художника - финна Котро, высокого и угрюмого человека, которого Максик , из любви к искусству, устроил санитаром в свой стационар. Котро плохо говорил по-русски и еще хуже рисовал. Но Максик был доволен его живописью. - «Как вам нравится?» - спрашивал он с видом мецената и любовался новой работой Котро: светло-голубым северным пейзажем или натюрмортом из пунцовых роз. Удовольствие, которое доставляли Максику эти виды, было так очевидно, что у меня не хватало духу подвергать их критике. Это была ужасная мазня. Однако, на побеленной стене над железной кроватью заключенного эти цветные пятна что-то значили, и они удовлетворяли эстетическую потребность Максика. И трогательно было то, что он вообще имел такую потребность, имел уважение к искусству, даже в виде произведений Котро. Уже умер санитар и живописец Котро, который когда-то учил меня в лагере по-фински, и Максика давно нет в Круглице. Но вещи переживают людей, и «коллекция Котро», наверно, еще сохраняется в стационаре заключенными, в жалкой и серой жизни которых каждая цветная открытка, каждый след внелагерного быта означает напоминание о чем-то непохожем на их жизнь,о чем-то прекрасном и волшебном.
В этой комнате я провел много часов в беседе с хозяином, и даже имел право заходить туда в его отсутствие. Сюда я спасался из общего барака, здесь я чувствовал себя человеком. Когда в 5 часов, во время поверки, стучали в дверь, Макс Альбертович отвечал «двое», и все знали, что второй за дверью, это я. У нас была с Максиком общая страсть: лингвистика. Свободное время он проводил за столиком, за чтением французских и английских книг. Для лагерника это изысканная, аристократическая пассия. Максик упорно, усидчиво и настойчиво изучал эти языки, по-французски читал порядочно, но английский давался ему трудно. Всеми возможными путями он раздобывал книги, попадавшие в Круглицкую глушь; ни одна поездка вольного жителя Круглицы по служебному делу в Москву не обходилась, чтоб не привезли ему какого-нибудь учебника. Таким образом, за 6 лет в лагере он собрал с дюжину книг. В 1944 году он приобрел клад: тогда привезли в Ерцево из Архангельска двух английских матросов, которые по пьяному делу набезобразничали в порту. Пребывание англичан в лагере не продолжалось долго. Не знали, что с ними делать: поселили их отдельно, дали им «блатную» работу на мельнице при помоле муки и через две недели освободили. Сам прокурор приехал из Архангельска уладить это «недоразумение». Уезжая, англичане оставили клад: с полдюжины дешевых криминальных повестей по английски. Максик их купил со вторых рук по 50 рублей за книжку. Все эти книжка мы прочитали вместе. Я преподавал Максику английский, или, вернее, учился вместе с ним. Несмотря на то, что я позже него начал изучать язык, я легче разбирался в тексте. Скоро Максик привык читать со мной вместе каждый вечер насколько страниц по-английски. Для него это была единственная оказия найти учителя, а для меня - ученика. В течение полутора лет в Круглице я каждый вечер приходил к нему под окошко, стучал, и он сам отворял мне запертую дверь стационара. Книга, по которой мы учились языку, где каждое слово было нами прожевано и обсуждено - была повесть Синклера Льюиса «Elmer Gantry»
Я трижды перечитал ее в лагере, и уверен, что Синклер Льюис никогда не имел более благодарных и верных читателей, чем мы с Максиком. Зимой в этой каморке было тепло по вечерам. Макс Альбертович сам топил печурку часов в 9, по возвращении с приема в амбулатории. Входя, я прежде всего косился на плиту, где стояла для меня мисочка больничного супа. Это был мой гонорар. Больничный суп считался лучше общего: он был «на масле». Иногда Максик сберегал для меня «на добавку» еще что-нибудь: кусочек соленой рыбы или ломтик хлеба. Если ничего не было, он извинялся, но я был доволен уже тем, что нахожусь в тепле, чистоте, при лампе и за книгой. Эта регулярная мисочка супа в течение полутора лет, этот уголок в лагере, где я чувствовал себя человеком, конечно, были для меня великой помощью и помогли мне сохранить жизнь в 43-44- году.
Темы наших разговоров были неисчерпаемы. Я ему рассказывал о западной литературе то,чего он не знал, или о кино, называл имена писателей и режиссеров. Максик записывал такие фамилии, как Роже Мартэн дю Гара, автора «Семьи Тибо», или неизвестного в России Ренэ Клера. Он трогательно любил всё то, от чего был отрезан в лагере: хорошие книги, хорошую музыку, хорошее кино. Ни одной кино-картины он не пропустив в лагере, и видя, с каким увлечением он реагирует на всё, что читает или видит, я от всей души желал ему когда-нибудь быть в настоящем кино и читать наилучшие книги мира. Макс был ценитель: он умел испытывать искреннейшее наслаждение от книг и искусства, и именно этот человек был осужден на жалкие суррогаты всю жизнь - в лагере и в глухой советской провинции, самой безотрадной в мире.
Он был прекрасный рассказчик. В один вечер мы с ним вспоминали немецкие фильмы начала 20-х годов - время его и моего студенчества:
Henny Porten и Lil Dagover, Ольгу Чехову и Ксению Десни. В другой вечер он рассказывал о своих путешествиях по Сов. Союзу. Максик плавал на ледоколе «Сибиряков» и 2 года служил на Шпицбергене. Целую книгу можно было бы составить из этих рассказов. Один раз был о нем репортаж в «Вечерней Москве»: это было во время его пребывания на Шпицбергене, где на концессионных началах разрабатывают в 2-х пунктах угольные рудники и живут своей замкнутой жизнью, почти не соприкасаясь с норвежцами, хозяевами острова. Так случилось, что его вызвали в бурную ночь через залив на норвежскую сторону, к молодому коллеге-врачу, который боялся без помощи старшего товарища производить какую-то сложную операцию. Не было времени объезжать залив по берегу, и Макс Альбертович смело переправился в шторм и непогоду через залив на лодке. Это был подвиг. Он был принят с почетом в пятикомнатной европейской квартире норвежского врача, сделал операцию и на утро уехал, отказавшись принять гонорар. Обратно его доставили в санях вдоль залива, и на прощанье норвежцы дали ему на дорогу меховые рукавицы - они остались у Макса Альбертовича на память о «поездке в Норвегию». Отчет о ночной переправе через, бурный залив и фотография Макса попала тогда в «Вечернюю Москву». Подобные рассказы и радио часто отвлекали нас от английского чтения. Радио-новости подвергались, конечно, подробному анализу. Это уже было моей специальностью. Я был, «профессиональный радио-комментатор». Максик был стопроцентным и горячим советским патриотом. Он естественно и натурально мыслил в категориях советского мышления - в результате 20-летней привычки.
С гордостью и волнением принимал он известия о советских победах, а если приходила какая-либо радио-сенсация в мое отсутствие, а я в это время лежал в его стационаре,- то он бежал к моей койке передать новость и выслушать мое мнение. Конечно, мы оба всей душой и сердцем были с Красной Армией, но иногда меня поражал этот энтузиазм человека, осужденного на 10 лет по политической статье. Я радовался поражению Гитлера, а он - сверх того еще - славе советского оружия. Но этого «нюанса» я ему не выявлял, и мы оба радовались вместе, не заглядывая в далекое будущее.
Давно прервался у него контакт с семьей. Жена ему писала раз в год, а дочь - и вовсе не писала. Дочь Макса Альбертовича унаследовала его лингвистические наклонности и кончила Институт Иностранных Языков. Он вспоминал о семье с оттенком резигнации и горечи, как и о всех тех, с кем встречался в жизни, и кто его больше не помнил, - о людях, которым спас жизнь в лагере и которые обещали ему благодарность до гроба, и забыли, едва выйдя на свободу. - Макс был абсолютно уверен,что и я забуду его, как только наши пути разойдутся, и только посмеивался, когда я его уверял, что у меня хорошая память. Это не значит, что он был мизантропом. Совсем нет. Но он знал жизнь и имел свой опыт.
Этот человек завоевал мое сердце одной особенностью. Надо принести повинную: я безбожно обкрадывал Максика. Дело происходит в подземном царстве, между зэ-ка. Там свои обычаи и свои масштабы поведения. Будучи актированным инвалидом, я продолжал варварски голодать, и мысль о пище никогда не покидала меня. Максик меня поддерживал кое-чем. Но мне было мало. Оставаясь один в его комнатке, я открывал шкафчик, и если находил несколько луковиц или картошек, брал себе одну, если находил мисочку с кашей, съедал 2-3 ложки. Судить об этом могут только люди, просидевшие несколько лет в советском лагере. Конечно, Макс Альбертович скоро заметил, что меня небезопасно оставлять одного... Он начал запирать на ключ шкафчик с едой, но это не помогло. На четвертом году заключения я уже умел находить дорогу внутрь запертых шкафчиков... Однажды я обнаружил на полочке зашитый мешочек с сухарями. Этот мешочек дала Максу на хранение заключенная старушка, работавшая в стационаре, Но я этого не знал и думал, что Максик раздобыл сухари где-нибудь от пациента на воле. Там было кило два сухарей. В этот мешочек я вломился, надрезал по шву, вынул сухарик, через день второй, потом третий... Через несколько дней старушка пришла за своим сокровищем и подняла крик... В комнату Максика имели доступ считанные люди... Мы были оба чрезвычайно сконфужены... Максик смотрел на меня с немым укором. Но даже и тогда он не сказал мне ничего. Все было ясно без слов. Никогда - ни тогда, ни впоследствии - он не сказал мне ни одного грубого слова, не упомянул даже намеком, не пристыдил, не закрыл предо мной своей двери и не отказал мне в своем уважении, которое так было мне нужно в то горькое время унижения и упадка. В этом была уже душевная красота. Человек этот показал себя по отношению ко мне - совершенным джентльменом.
Одиночества Максик не переносил. Тут я подхожу к щекотливому пункту. Можно ли касаться интимной жизни человека, который жив и является твоим современником? Однако между нами и этим человекам воздвигнута непроницаемая преграда, опущен железным занавес величайшей деспотии мира. Эта книга никогда не попадет в его руки, ни в руки его окружающих, пока существует сталинизм. Он - как бы житель другой планеты. Говоря о нем, МЫ не нарушаем законов общежития, потому - что Н Е Т моста и нет больше связи между ним и нами. Нескромно читать чужие письма и заглядывать в чужую жизнь. Но для нас жизнь д-ра Макса Розенберга в подземном царстве, случайным свидетелем которой оказался гость из дневного мира, не есть обыкновенная частная жизнь! Он нам не ровня. Он - советский заключенный, от которого отвернулся мир, и судьба которого интересует нас, как жуткое предзнаменование и пример. Как же проходит жизнь этих людей в условиях, которые, правда, не имеют прецедента в мировой истории, но как живая угроза нависли над жизнью Европы?
Я уже сказал, что основной чертой Максика было любвеобильное сердце. Этот деликатный, солидный и немолодой человек не мог обойтись без женщины, физически и душевно он в этом нуждался, а социальное положение врача давало ему самые большие возможности в лагере. Сколько я его помню, Максик всегда был запутан в романтическую «историю». И самое прозвище «Максик», интимно-ласковое, пошло из женских уст. Но поэзии в этом было мало. Он мне высказал свой взгляд на женщин - взгляд старого холостяка: каждая норовит беспощадно использовать, требует вещей, еды, Освобождения от работы - к этому всё сводится. Каждая думает только о личной выгоде, и надо с первого же дня занять твердую позицию и не давать себя эксплуатировать. Меня поразила горечь и ожесточение в его тоне, и я понял, что это не цинизм, а лишь осадок лагерного опыта, а в действительности Максик глубоко нуждается в настоящей женской привязанности, в тепле и ласке, которых он был лишен столько лет.
Верно, что женщины в лагере, в общем, гораздо бесцеремоннее и «прозаичнее» мужчин. Они не забавляются в «чувства», а зарабатывают. Объяснить это надо не только советским развенчанием половых отношений, но и всем строем лагерной жизни, где мужчины-заключенные так .... далеки от идеала и так окарикатурены каждый по своему, трудно любить раба. Любовь женщины в лагере всегда имеет примесь самоиронии и жестокого отсутствия иллюзий. Но Максику после многих встреч и разочарований улыбнулось счастье.
Простая и хорошая русская женщина полюбила его - одно из тех тихих и безропотных созданий, которые созданы, чтобы привязываться и умеют быть верны всю жизнь. Я очень хорошо ее помню: круглое русское лицо не красивое, а приятное, очень спокойная, очень тихая, с кроткой улыбкой. Она не только ничего не просила у Макса Альбертовича, но еще сама ему носила с сельхоза, где работала, картошку, убирала комнату, обшила его, привела всё в порядок, как только женщина умеет. И держалась с достоинством, без навязчивости, неслышно приходила и уходила, а Макс в ней души не чаял. Он не только при ней, но и в одном ожидании ее прихода весь светлел.
Когда часов в 9 раздавался ее осторожный стук под окном, я сразу уходил - через дверь в коридоре, чтобы не встретиться с нею. Ей было лет 25, т.е. она была вдвое моложе его - миловидная, русая, в чистом платочке и с большими глазами, которые уже много видели в жизни. Один раз придя к Максику днем, она застала в его пустой комнате женщину. Эта была та, с которой Макс дружил до нее. Теперь она находилась на другом лагпункте и случайно попала в Круглицу на день-два «по наряду». Она, понятно, навестила Максика. Обе женщины разговаривали между собой без следа стеснения или ревности. В лагере нет семейной жизни и семейных уз, всё там сковано, и только любовь свободна. Но эта любовь, как былинка под колесом, в каждое мгновение может быть смята и раздавлена.
Счастье Максика кончилось, когда его подругу перевели по этапу на другой лагпункт. В тот вечер, когда он узнал, что ее завтра отправят из Круглицы, он был потрясен и убит горем. Он слишком поздно узнал об этом, когда уже ничего нельзя было поправить. В тот вечер мы уже не занимались с ним, и до глубокой ночи они просидели вместе в маленькой комнатке. Макс Альбертович, как нянька, снаряжал ее в дорогу, добывал всё необходимое, а она сидела заплаканная и повторяла: «ничего не надо, ничего не надо»...
Через некоторое время Максик устроил так, что ее вызвали обратно в Круглицу. Но потом пришла настоящая разлука: она кончила свой срок. У нее был маленький срок, три или пять лет, и ей разрешили поселиться в Центральной России, в Тамбовской области. Уезжая, она обещала Максику ждать его хоть годы, слать посылки и книги, была счастлива, что теперь сможет «с воли» заботиться о нем. Много писем отправил Максик в Тамбовскую область. А от нее пришло с дороги два письма, полных заботы и ласки - два очень хороших письма. Потом наступило молчание,
Что там произошло - неизвестно. Письма с дороги дышали такой преданностью, таким горячим нетерпением поскорее добраться до места, и оттуда уже дать знать обо всем, и сделать всё - даже английские книги раздобыть для Макса. И вдруг - ничего. Две недели, месяц. Три месяца. В одном мы были уверены - что она не забыла Максика. Может быть, она заболела, не получила писем Максика, а ему не передали ее писем. Что сталось с обещанной посылкой, с памятью, с нежностью, с твердым решением никогда не расходиться в жизни?
Год прошел, и мы перестали даже вспоминать о ней. Непонятно? Это не была единственная непонятность в жизни Максика. Всё кругом было непонятно. По жизни ходили чужие. Ничего нельзя было предвидеть, рассчитать заранее. Всё переиначивалось, переставлялось, бесцеремонно опрокидывалось чужой рукой. Человек не мог знать, что ждет его за ближайшим поворотом дороги. Почему, в самом деле, эти двое людей не могли быть вместе и не могли даже больше знать друг о друге? А почему умирали на севере - люди Юга, а на Юге, в лагерях Караганды - люди Севера? Почему погибали в заточении и разлуке люди, необходимые не только друг другу, но и обществу, которое готово было окружить их любовью? Почему перо было вырвано из руки писателя, и остановлена мысль ученого и философа? Почему в лагерь, где находится Максик, ныне нельзя послать книг, которые так нужны ему и другим? - Почему спустя 30 лет после революции человеческая жизнь в этой стране похожа на сад, куда каждую минуту может ворваться железная борона, проехать по грядкам, с корнем вырвать цветы и не оставить места для нового сева? - В развороченную землю сеют ненависть и ложь. Десятки миллионов сгоняют за колючую проволоку, и там, где могла бы развиваться свободная жизнь, возникает лагерь, место каторжного принуждения и холодного отчаяния.
Глава 32. Учение о ненависти
Выписавшись из больницы Максика, отдохнув и во всеоружии инвалидности, я вернулся в лагерный строй. Перед актированным инвалидом с высшим образованием открывались в Круглице богатые возможности. Хочешь - помогай нарядчику составлять списки «личного состава» бригад. Хочешь - иди работать в «КВЧ». Хочешь - становись дневальным в барак. Пока заключенный не списан со счетов рабсилы, его не пошлют на такие непроизводительные занятия. Здоровым и. трудоспособным место в лесу и в поле, где требуются руки и плечи. Начальник работ не разрешит полноценного работника держать в конторе или лагобслуге. Другое дело - инвалид. Всё, что он может и хочет делать, не будучи к тому обязан - чистая прибыль для государства.
В первое время меня забавляла доступность тех работ, которые еще недавно были закрыты для меня, как работника III категории. Когда узнали, что Марголин актирован, сразу позвали меня работать в разные места, и я соблазнился. Инвалиду полагается I котел и 400 грамм хлеба. Работая, я получал II котел и 500 грамм.
Целый месяц я сидел за разными столами. После 10-недельного пребывания в больнице приятно было быть занятым и числиться при должности. Но через месяц я почувствовал, что меня актировали недаром. Сил не хватало. Работа у нарядчика затягивалась до глубокой ночи. Работа в «КВЧ» заставляла весь день быть в движении, кружить по баракам, вставать до подъема. В качестве работника культурно-воспитательной части мне приходилось вставать на час раньше всех, потому что к моменту выхода бригады на работу, я должен был нанести на огромную доску при воротах проценты выполнения плана для каждой бригады, за вчерашний день. Эти проценты ночью вычислял нормировщик в «штабе» и, ложась спать, оставлял для меня справку в ящике стола в конторе. Лагерь спал еще, за бараками розовела заря, сторожевые дремали на угловых вышках, когда я устанавливал табуретку перед исполинской таблицей, с усилием влезал и начиная рисовать мелом на черной крашеной доске цифры для 20 бригад.
Это мне надоело. Мысль о том, что я инвалид и не обязан мучиться, не давала мне покоя. Уже целый месяц я был инвалидом, и всё еще не использовал блаженного права ничего не делать, не привел в исполнение своей чудесной, невероятной свободы. Конечно, совсем иначе работалось, когда человек знал, что это его добрая воля, и он может хоть завтра не выйти на работу, если ему так захочется. Но, в конце-концов, надо же было и захотеть когда-нибудь, и испробовать легкокрылую беспечную лагерную свободу советского инвалида.
В середине лета 43 года я, наконец, решился и объявил великие каникулы. Одновременно это был и великий пост: 400 грамм хлеба и жидкий суп. Это было в июне. Голубенькие и желтые цветочки выросли на клумбах перед «штабом», под окнами стационаров медперсонал посадил картофель и табак, больные с утра выползали на солнце и в исподнем ложились на траву или грелись на завалинках. Когда я шел мимо, босой, в серо-мышиной гимнастерке без пояса об одной деревянной пуговице у ворота, меня окликали:
- «Марголин, ты жив? а мы думали, что тебя уже нету!» - но я , не останавливаясь, шел дальше, в самый дальний угол лагерной территории. Со мной было одеяло, карандашик, бумага. Бумаги было много. За последний месяц я отложил себе порядочный запас. От работы в КВЧ осталась даже бутылочка чернил. Я отдыхал от людей, от лагеря, от работы и вечного страха. Я лежал на спине, смотрел как облака плыли над Круглицей. Год тому назад я работал в бане и бегал в лес за малиной. Поразительно, что я был в состоянии тогда носить по 300 ведер воды. Этот год обескровил меня. Теперь не было малины, но не было зато и тасканья воды. Я был доволен. Глубокий покой.
Летом 43 года сорвалась буря под Курском, и советские сводки говорили о гигантских боях. Как будто вся кровь отхлынула из великой страны и сосредоточилась в одном-единственном напряжении и на одном месте. В Круглице почти не было видно здоровых мужчин. Женщины сторожили заключенных и выводили на работу бригады. Гаврилюк, который в прошлое лето был еще стахановским возчиком, теперь, как и Я, был актирован, и возчицами были в лагере заключенные женщины. Женщины, как резерв, выходили на первую линию труда. Мы знали из газет, что по всей стране женщины работают трактористками, на фабриках и полях. Мужчины - держали фронт на воле, а в лагере - таяли, как снег на весеннем солнце, и уходили в землю. Я знал, что через год буду еще слабее, чем сейчас. Если война затянется, я умру и даже не узнаю, нем она кончится. Мне из чистого любопытства хотелось дотянуть до конца войны.
В то лето, в мой первый большой инвалидский антракт, я писал «Учение о ненависти». Всего я умудрился написать в годы заключения три работы, О первой я уже упомянул, это была вторая, а третья называлась «Учение о свободе». В то лето тема о ненависти захватила все мои мысли. Лежа в траве за последним стационаром, я изо дня в день возвращался к ней и обтачивал главу за главой. Я испытывал глубокое и чистое наслаждение от самого процесса мысли, и от сознания, что это была внелагерная, нормальная, свободная мысль, вопреки условиям, в которых я находился, вопреки колючей проволоке и страже. Это было «чистое искусство»: мне некому было читать или показывать то, что я писал, и я испытывал удовольствие от самого процесса формулированья мысли и, по мере того, как работа продвигалась, также и чувство гордости от того, что я в известной мере господствовал над ненавистью, был в состоянии охватить ее и подчинить суду Разума,
Тема эта подсказывалась мне самой жизнью. То, что я перенес и видел вокруг себя, было настоящим откровением ненависти. В моей предыдущей жизни я только слышал о ней, или читал о ней. Я не встречался с ней лично. Расовая и партийная ненависть не преступили порога моего мирного дома. В лагере я впервые услышал слово «жид» по своему адресу, впервые ощутил, что кто-то хочет моей гибели - впервые увидел вокруг себя жертвы ненависти и ее организованный аппарат. В лагере же я впервые научился и сам ненавидеть.
Теперь пришло мое время теоретически «проработать» весь этот материал. Как просто было бы уйти от ненавидящих - в то светлое царство тепла и человечности, в котором я, не зная того, жил до катастрофы. Человеку естественно жить среди любящих и любимых, а не среди врагов и ненавистников. Но это не было дано мне. Я также не мог активно воспретивиться ненависти. Единственное, что еще оставалось во мне свободно - была мысль. И только мыслью я мог реагировать. Мне ничего не оставалось, как стараться понять - ту силу, которая хотела меня уничтожить.
При этом психология индивидуальной ненависти интересовала меня меньше, чем ее социальная функция, ее духовный и исторический смысл. Ненависть представала предо мною, как орудие или факт современной культуры.
И прежде всего - диалектика ненависти: с этого я начал. Ненависть есть то, что соединяет людей, разделяя. Связь через ненависть - одна из самых крепких в истории. Души сближаются в ненависти, как тела борющихся - ищут друг друга, как борцы в схватке. Нельзя понять ненависти, как чистого отрицания, потому что, если мы только не любим и не хотим чего-то, - мы просто уходим прочь и стараемся вычеркнуть из нашей жизни то, что нам ненужно и неприятно. Было что-то в моей ненависти к лагерной системе, что заставляли меня думать о ней, и я знал, что моя ненависть не позволит мне забыть о ней и тогда, когда я выйду отсюда. Ненависть возникает в условиях, когда мы не можем уйти. Ненависть - дело соседское. Личная - классовая - национальная: - всегда между сожителями, между соседями, между Монтекки и Капулетти - через межу и границу.
Тут возникает парадокс ненависти, которая оставляет нас в духовной близости того, что мы ненавидим, - до того что возникает, наконец, сближение и подобие, - причем иногда сама ненависть оказывается лишь потаенным страхом перед тем, что нас притягивает, как в Катулловском «Odi et amo», как в Гамсуновском «поединке полов», как в ненависти лакея к барину, и, наконец, в антисемитизме известного маниакального типа, когда люди уже не в состоянии обойтись без евреев. Вот резкий пример: Н о в а ч и н с к и й, талантливый польский писатель и злобный ненавистник всего еврейского, - Новачинский под старость собрался в Палестину - посмотреть своими глазами - и оказалось, что он совсем неплохо чувствует себя в Тель-Авиве. Жизнь этого человека была бы пуста без евреев. Если бы их не было, он бы их себе выдумал, и, в конце концов, он именно этим занимался всю жизнь. Есть ненависть к фашизму и даже ненависть к коммунизму, которая вытекает из некоторой духовной близости и - во всяком случае - ведет к ней со временем. Того, что нам абсолютно непонятно и чуждо, нельзя и ненавидеть. Непонятное возбуждает страх. Ненависть же нуждается в интимном знании и умножает его, и без конца заставляет нас интересоваться тем, что нам ненавистно.
Таков был парадокс ненависти, который я обсудил со всех сторон, лежа на солнце, в углу лагерного двора. Ненависть была не только предо мной - она была во мне. Однако, во мне она была д р у г а я, чем та, против которой восставало все мое существо. Итак, надо было различить разные формы ненависти, чтобы отделить то, что было во мне, от того, что было злою и ненавистной мне ненавистью.
Но прежде всего я выделил некоторые мнимые и заменные формы - ту псевдоненависть, которая нам только загораживает понимание существа дела. Я видел, что под вывеской ненависти идет негодный товар или что-то имеющее внешнее подобие. В сторону подделки!
Во-первых: детская ненависть, «Odium infantile». Дети способны к самой ярой, исступленной ненависти, но это только «эрзац», несерьезное переживание. Детская ненависть есть мгновенная реакция и выходка. Она вскипает мгновенно и не оставляет следа, возникает и лопается, как мыльный пузырь. По сути дела это вспышка - состояние аффекта. И именно поэтому, в массовом проявлении, в силу своих качеств легкой возбудимости, легкой управляемости и недолговечности - она особенно удобна для целей хладнокровных режиссеров этой ненависти и поджигателей, которые мобилизуют ее в массах всегда, когда требуется поднять их на необыкновенное усилие, на борьбу во имя меняющихся целей. Ненависть идет в массы, течет по каналам рассчитанной пропаганды - она вся на поверхности, но нет в ней ни глубины, ни устойчивости. Предоставленная самой себе, она тухнет иди неожиданно меняет направление, как в 1917 году, когда масса нагроможденной царским правительствам погромной и фронтовой ненависти обратилась против него самого. Дикарская ненависть натравленной массы, как бензин в автомобиле, вращает колеса военной машины, но те, кто сидит у руля - спокойны и холодны. Зрелая и взрослая ненависть не имеет характера мгновенной реакции - это спонтанная, внутренне обусловленная и устойчивая позиция человека. Она не истощается в одном неистовом взрыве, а гложет человека всю жизнь, и кроется за всеми проявлениями и делами его. Психологически она проявляется на тысячу ладов. От открытой враждебности до глухого неузнавания, все оттенки ярости, злобы, злорадства, злости и гнева, все оттенки неприязни, недружелюбия, мстительности, коварства и зависти, осмеяния, лжи, клеветы - образуют одеяние ненависти, но ни с одним из этих переживаний она не связана исключительно. Специфического чувства ненависти нет, в крайнем своем напряжении она вообще перестает нуждаться в каком бы то ни было «выражении». Ненависть ребенка выражается в крике, в топаний ногами, в кусании за палец. Ненависть дикаря, которая есть та же детская ненависть, элементарное животное бешенство, выражается в погроме, в расколотых черепах и кровопролитии. Но есть взрослая ненависть, которая выражается ни в чем - в любезном улыбке и вежливом поклоне.
Совершенная ненависть - это Риббентроп в Москве, целующий руки у жен комиссаров, или Молотов, улыбающиеся на прессконференции. Мы, взрослые люди, научились подавлять и регулировать проявления своей ненависти, как радиоприемник - тушить и зажигать ее, как электрический свет. Наша ненависть есть потенциальная сила, и потому она может быть вежлива и спокойна, ни в чем не проявляясь вовне - но горе тому, кто пожимает протянутую руку врага и идет с ним рядом.
Вторая форма псевдоненависти есть «Odium intellectuale» : ненависть ученых, философов и гуманистов - ненависть неспособных ненавидеть, академическая ненависть книжников, которую ввели как противоядие и поставили как громоотвод против варварства. Эта вегетарианская, литературная ненависть велит нам ненавидеть абстрактные понятия - не злого человека, а злое в человеке, не грешника, а грех. Без устали экспонирует она пороки и заблуждения, ошибки и извращения, против которых велит нам бороться. Эта теоретическая ненависть всячески отгораживается от практической. На беду, улица не понимает этих тонкостей: массовая ненависть признает только такого врага, которому можно разбить голову.
Гуманизм по сути своей не может не противиться ненависти. Мы знаем две попытки в истории культуры начисто изъять ненависть из человеческих отношений: «непротивление злу» и то воззрение, по которому никакая целесообразность не оправдывает дурных средств. Однако, неизменно пассивное сопротивление злу переходило в активное сопротивление носителям злого, а вопрос о «цели и средствах», с его искусственным разделением неразделимого, остается неразрешим, пока Mi не знаем, какие именно средства применяются для какой именно цели. Отвлеченная теоретическая ненависть неизменно в истории поступала в распоряжение мясников и убийц, которыми делали из нее умелое употребление - и каждый интеллектуальный препарат ухитрялись превратить в орудие массового убийства и неограниченной резни.
Христос изгнал торгашей из храма. Его преемники выгнали еретиков из церкви и зажгли костры инквизиции, вплоть до Торквемады и того папского легата, который при подавлении альбигойского иноверия сказал: «Убивайте всех, Бог разберет своих». Энциклопедисты и Руссо ненавидели порок и верили в торжество добродетели. Французская Революция ввела гильотину. Маркс начал с ликвидации классов и эксплуатации, как известного отношения между людьми. Его продолжатели превратили марксизм в формулу массового террора, когда «класс» уничтожается уже не как экономическая категория, а в миллионах живых и неповинных людей. «Убивайте всех - история сама возродит, что ей будет нужно». - Есть в этом процессе трагическая неизбежность развития, и неизбежно воитель - гуманист оказывается в плену чуждой стихии - как Максим Горький - в роли кремлевского сановника. Учителя либо капитулируют перед выводами, кото рые ученики делают из их науки, либо гибнут в застенках и на эшафотах.
Так «Odium intellectuale», кабинетная ненависть мудрецов, не достигает цели или приводит к результатам прямо противоположным первоначальному замыслу. Лютер бросает в дьявола чернильницу. Дьявол превращает чернила философа в кровь и море слез.
Третья форма ненависти, которую я изолировал в своем анализе - «Odium natonale» - добрая ненависть тех, кто берет в свои руки оружие, чтобы остановить силу зла. Очевидно, не было еще в истории такой черной силы, которая бы сама себя не выдавала за праведную и достойную. Очевидно, нет у нас другого средства различить между добром и злом, как Разум и Опыт, которые нас учат познавать сущность явлений из их проявлений и следствий. Итак, есть в мире ненависть рациональная и прозрачная во всех своих проявлениях. Нам ясно, почему и когда она возникает. Ее логическая обоснованность есть вместе с тем и ее условность - т.к. она проходит вместе с теми причинами во внешнем мире, которые ее вызвали. Эта ненависть до такой степени вторична и ответна, что мы можем смело обозначить ее, как противо - ненависть/«Gegehass»/. Она не нужна нам сама по себе. Но когда она навязывается нам врагом, мы не боимся принять вызов и знаем, что есть в мире вещи, за которые стоит бороться - есть страсть и сила переживания, которые не уступают силе и страсти врага, но не имеют с ним ничего общего в своем внутреннем существе.
Так, заботливо отделяя исторически-наличные формы псевдоненависти - массово-детской и интеллектуально-абстрактной - и разумную противоненавистъ бойца - я подходил к тому безглазому чудовищу, которое в момент моего заключения распростиралось над всей Европой.
В отличие от поверхностно-аффективной , инфантильной ненависти толпы, - от теоретизирующей ненависти интеллектуалистов - и от зрячего, ясного убеждения защитников человечества, - есть сила первоначальной и/чистой ненависти, инициативной вопреки своей слепоте, слепой вопреки своей инициативности и деятельной тем более, чем менее есть для нее поводов. Боится она только дневного света. Разум - ее естественный противник. Ненавистники всего мира едины в своем отрицании свободы интеллекта. Каиново пятно, по которому познается подлинная ненависть, это презрение свободной мысли, отрицание интеллекта. Для гитлеризма это - «еврейское изобретение», для инквизиции - смертный грех, для идеологов коммунизма - контр-революция и мещанский предрассудок. Каждое основание такой ненависти - мнимо и псевдо-рационально. Поэтому естественно, что люди, создавшие лагеря в России, одновременно уничтожили в ней свободу дискуссии и право самостоятельного исследования. В чистом и беспримесном виде ненависть есть самоутверждение через чужое страдание. Люди становятся ненавистниками не потому, что их к этому вынуждает окружающая действительность. Нет достаточного основания для ненависти во внешнем мире. Нет ничего в мире, что могло бы оправдать уничтожение цветущей жизни и гордой свободы, предпринятое Гитлером, костры инквизиции, застенки и погромы, лагерный ад Гестапо и НКВД.
Есть пирамида ненависти, выше того Дворца, который строят в Москве ценой сотен миллионов, пока люди умирают от голода в лагерях. В основе этой пирамиды: люди подобные детям, свирепые дикари, как тот, который ударил меня доской по дороге в Онуфриевку, или тот SS-Mann, который застрелил мою старую мать в день ликвидации пинского гетто. Эти люди насилуют, разрушают и убивают, но завтра они же будут самыми скромными и послушными, и будут служить новым хозяевам или верить в обратное тому, чему верили вчера - и другие, такие же, как они, придут убивать и насиловать в их дома. - Над этими людьми стоят другие люди, которые их учат и поручают им делать то, что они делают. Над этими еще другие, которые занимаются идеологией и теоретическими обобщениями, и те украшатели, которые обслуживают ненависть, причесывают ее, кладут ее на ноты и одевают в красивые слова. Но в конце концов, на самом верху пирамиды стоит человек, которому все это нужно: воплощение ненависти. Это - распорядитель, вдохновитель, машинист и главный механик. Он собрал в свою руку все нити, все подземные струйки и разрозненные капли ненависти, он ей дал направление, исторический полет и масштаб. По его знаку армии переходят границы, партийные съезды принимают решения, уничтожаются целые народы в муках и воздвигаются тысячи лагерей. И это может быть добрый, сладко-добрый: у него шестеро детей, как у Геббельса, или «золотое сердце», как у Дзержинского, артистическая натура, как у Нерона или Гитлера, и над его гуманностью не перестают умиляться Горькие и Барбюсы. Но он постановил, что где-то должны мучиться люди. Он их казнил мысленно, еще тогда, когда никто не знал о его существовании. Уже тогда это ему было нужно.
И здесь возникает центральный вопрос учения о ненависти: «как должен быть устроен человек - общество - эпоха - чтобы нагая ненависть стала для них необходимостью, чтобы они питались бессмысленными мучениями своих жертв, как необходимым условием собственного существования?» Совсем не так просто ответить на этот вопрос, если не приводить известных «аргументов» о том, что германский народ «защищался пред евреями», христианская инквизиция «спасала души», а Сталин перевоспитывает и исправляет при помощи лагерей «отсталые и преступные элементы». Это очевидный нонсенс. Конечно, я ничем не обидел немцев и не и нуждался в сталинском перевоспитании, но даже если бы это было так, то и тогда это не оправдывает газовых камер и обращения в рабство миллионов людей. Газовые камеры не были нужны Германии, лагеря не нужны русскому народу. Но они действительно нужны Гитлерам и Гиммлерам, Ленинам и большим и маленьким сталинам всего мира. Так в чем же дело?
Надо ясно и живо представить себе, что вся та лавина человеческой и нечеловеческой муки, которая нам, маленьким людям, представляется чем-то вроде стихийного бедствия, - прекрасна и во всем своем объеме известна людям, держащим ключи власти. Люди эти в каждую минуту и секунду ответственны за ее существование. Они ее привели в движение и контролируют, - и существует она не по их незнанию или бессилию, а именно, что они отчетливо знают, что делают - к делают именно то, что им нужно. - Только такому тупому деревянному немцу, лишенному воображения, как Гиммлер, надо было лично навещать Освенцим, чтобы через окошечко газовой камеры наблюдать, как задыхались сотни молодых еврейских девушек, которых для этой цели в тот день специально доставили на казнь. Людям из Кремля не надо лично наблюдать, у них есть статистика лагерной смертности. И на вопрос - почему нужно?, нет другого ответа, как анализ известных патологических особенностей человеческой природы. Рационального, «экономического» или другого объяснения ненависти нет. Логика ненависти - есть логика безумия.
Человек ненавидит. Значит, ему нельзя обойтись без этого отношения к людям, он без него задыхается. Ненависть - кислород, которым он дышит. Забрать у него ненависть, значит обездолить его.
Человек ненавидит. Значит, какая-то внутренняя слабость в нем , выравнивается ненавистью, - есть в нем органическое неблагополучие. Наличие неполноты, дефекта, несчастья может остаться в пределах его личного самоощущения, но может и распространиться на всю окружающую социальную среду и передаться другим людям. Существуют раненые народы, уязвленные классы, готовые превратиться в рассадники коллективной ненависти. Существуют жизненные ситуации, когда люди, группы, общества не умеют и не хотят смотреть в лицо правде.
Молодой Гитлер в Вене сделал открытие, что евреи виноваты в том, что он и весь немецким народ не имеют того места под солнцам, которое им принадлежит. Это нелепо, но неоспоримо, то, что этот человек исходил из какого то чувства боли, он был глубоко уязвлен. Если бы он хотел, правды, он бы нашел действительные причины, но правды была для него слишком нелестна, не по плечу. Поэтому он стал искать виновных вне себя. Тут начинает действовать механизм ненависти. Действительная боль превращается в воображаемую обиду. Должен быть найден враг и обидчик. Потребность врага - в корне отличается от потребности борьбы, свойственной каждому сильному человеку. Сильные люди ищут поприща, выхода силам. Ненавистник ищет виновных для обвинения. Из потребности борьбы родится отвага и предприимчивость. А из потребности разделаться с коварным врагом родится агрессивность и злоба. Обидчик всегда близко. Если же его не видно, то значит он маскируется. Надо его разоблачить.
Все ненавистники - великие разоблачители. Только, что вместо маски и внешнего покрова, они сдирают с явлений их живую кожу, их действительное содержание - и заменяют действительность порождением распаленной фантазии.
Ненависть начинает с мнимого разоблачения и кончает живодерством - уже не в теории, а на практике.
Анализ нашей эпохи, данный Марксом и развитый Лениным, перешел все границы разумного истолкования действительности. Псевдорациональная теория превратилась в прокрустово ложе, куда не укладывается живая жизнь. Достаточно сравнить тирады «Майн Кампф» со страстными полемическими выпадами Ленина и его громовым обвинением капитализма, чтобы почувствовать их психологическое сродство. Это язык ненависти, а не объективного исследования. Из ленинско-сталинской схоластики мы столько же можем узнать об окружающей действительности, как из «Протоколов мудрецов Сиона».
В каждой ненависти, перетолковывающей боль в обиду, создается «перенесение» /«Uebertragung»/, говоря языком современного психоанализа.
Очаг болезни - внутри, но мы переносим его вовне. Другие виноваты в том, что нам плохо, что не удаются наши планы и терпят крушение наши надежды. Этим создается выход, облегчение, но только - мнимое. Ненависть получает адрес - фальшивый. И месть, диктуемая ненавистью, не доходит - как письмо направленное по фальшивому адресу. Результат ненависти - вечно голодная мстительность .
Воображаемая или реальная обида становится поводом для актов ненависти, если существует в человеке потребность и готовность ненавидеть. Рано или поздно эта потребность выражается в агрессии. И даже если лежит в основе ненависти реальный повод - всегда он несоизмерим с репрессией, и возмездие, рожденное ненавистью, далеко превосходит все, что может принять разум и нормальная человеческая психология. В подлинной мести, как мы ее знаем из истории - ищется и достигаетсяискупление. Акт мести - акт конечный и замыкающий расчет. Кровь смывалась кровью, и обида погашалась обидой. Потребность чужого страдания, составляющая существо ненависти, вытекает из иллюзии, что этим путем будет погашено свое страдание и восстановлено душевное равновесие.
Но так как связь, установленная между своей бедой и чужой виной - воображаема, то все дела, вытекающие из ненависти, не погашают ее - и она превращается в неугасимое и вечное томление духа. Нет больше евреев в германских и польских городах, но легче от этого не стало. Миллионы людей уничтожены в советских лагерях, и постепенно уясняется миру, что ненависть к «капитализму» совсем не вытекает из его преступности - потому что преступления коммунизма ничем не меньше. Но нет ни пользы, ни удовлетворения от совершаемых преступлений, и нет им конца, пока ненависть вращается в порочном кругу, из которого нет выхода.
Люди, которые летом 1940 года сломали мою жизнь и превратили меня в раба - не знали меня, и я не знал их. Но между нами стала ненависть. Это была не их личная ненависть, а коллективное порождение эпохи, ленинско-сталинский препарат, абстрактный яд, вошедший в плоть и кровь поколения. Равнодушно, спокойно и бюрократически холодно они сделали свое. Но дело не в психологическом выражении ненависти. Те же люди были бы способны и пытать меня. Равнодушие к человеческой жизни и достоинству, как если бы речь шла о животном на бойне - есть высшая мера конденсированной ненависти. Дело в неистовой, чудовищной, но совершенно о б ъ е к т и в н о й мертвящей силе, которая вытекает из безнадежной попытки построить свое собственное проклятое существование на несчастии и смерти окружающих.
Эта мертвящая сила, чтобы найти себе упор во внешнем мире, должна его необходимо фальсифицировать. Какой он есть, он не подходит. Буквально верно, что Штрайхер и Геббельс не могли ненавидеть евреев, потому что они не знали их, даже не подозревали, о них. Если бы они знали этот народ действительным живым знанием, ненависть не могла бы развиться. Их ненависть относилась к тому извращенному, уродливому представлению о еврейском народе, которое они сами себе создали, и которое было им продиктовано их потребностью ненавидеть. В учреждениях национально-социалистической партии, в их Эрфуртском Институте был нагроможден огромный материал о еврейском народе, но тысячи камешков служили им только для того, чтобы сложить чудовищную мозаику клеветы. И точно так же - люди, пославшие меня в лагерь, не знали меня. Их ненависть именно в том и состояла, что они не хотели меня знать, но не задумались сделать из моего существования и живого лица э к р а н, на котором был проецирован фильм НКВД: «Угроза для общества, правонарушитель. Отныне этот человек не будет тем, чем он сам себя считал, а тем, чем мы велим ему быть, и что мы из него сделаем». Чтобы так зачеркнуть мое существование, как они это сделали, надо было иметь за собой великую, грозную ненависть к человеку,
До тех пор , пока мы с корнем не вырвем этой ненависти - она не перестанет клеветать на человека, на его действительные побуждения, не перестанет кружиться вокруг нас, выискивая каждую нашу слабость, ошибку и грех, которых много - не для того, чтобы лучше понять нас или помочь нам, но чтобы на нас возложить ответственность за собственную жажду мучительства и крови.
В зеркале патологической ненависти отражается первобытный инстинкт хищного зверя, который знает, что свое мучение голода можно погасить теплой чужой кровью. Тысячелетия культурного развития бесконечно отдалили от нас и усложнили этот инстинкт всей софистикой псевдорациональной аргументации и самообмана. Человеческая хищность превысила звериную, отличаясь от нее тем, что проявляется по бессмысленным поводам во имя воображаемых целей. Таким образом, борьба с ненавистью не ограничивается зоологической природой человека, а охватывает всё то специфическое бесчеловечие, перверсию и ложь, которые составляют аномалию высокоразвитой культуры, и не могут быть уничтожены, пока знание о них не станет всеобщим. Свободные и зрячие люди некогда уничтожат ненависть, и создадут мир, где никому не надо будет ни ненавидеть, ни противиться ненависти. Человеческое стремление к свободе несовместимо с ненавистью. Не вдаваясь в сложные определения свободы, можно принять, что она в своем развитии вытесняет неуклонно ложь и ненависть не только из человеческого сердца, но и из человеческих отношений и социального порядка. Таким образом, оппозиция лжи и ненависти сама по себе уже есть первое проявление человеческой свободы...
Закончив этим гордым словом свое исследование ненависти, я повернулся на спину и посмотрел вокруг себя, Я лежал на полянке, на зеленой траве, в конце лагеря. Пять шагов дальше начиналась запретная зона и тянулся высокий палисад с колючей проволокой. В запретной зоне копошилось несколько заключенных, они пололи траву и перекапывали землю. Под окном больничной кухни выстраивалась очередь санитаров с ведрами на суп и кашу.
Я еще раз заботливо пересмотрел рукопись, кипу длинных полосок сине бумаги, исписанных мельчайшим маком, вымарал все опасные намеки. Я прочел ее глазами уполномоченного: это был «антифашистский» документ, написанный иностранцем, но не явно контр-революционный. Понятно, ни слова о советской действительности не было в этой рукописи, Я должен был считаться с тем, что она в любой момент могла быть отобрана у меня при обыске...
Но мне было жаль моей рукописи. Работу таких размеров не было никаких шансов долго укрывать в лагере. Вдруг мне пришла в голову фантастическая мысль. Я встал и пошел в КВЧ.
В Ка-Ве-Че за двумя столами сидели две девушки. Обе были вольные, недавно принятые из поселка, типичные служащие в глубокой советской провинции.
- «Вам чего?»
- «Мне вот чего», сказал я медленно: «у меня имеется рукопись страниц на сто... Я научный работник и написал кое-что по специальности, В бараке, знаете, держать небезопасно. Раскрадут на цыгарки.
Я хочу отдать рукопись на хранение в КВЧ. Когда я выйду отсюда, вы мне ее вернете».
Девушка растерялась. Она и ее товарка с тупым удивлением посмотрели на меня, подозрительно, как на не совсем нормального. Но я говорил очень спокойно и рассудительно.
В конце-концов она подошла к телефону и попросила вахту соединить ее ... с уполномоченным.
- «Товарищ уполномоченный, тут пришел какой-то, принес рукопись, просит принять на хранение. Говорит, он научный работник.»
Она повторила это несколько раз в телефон, потом повернулась ко мне:
- «Фамилия?» -
Я сказал.
Девушка передала мою фамилию, выслушала ответ и повесила трубку
- «Уполномоченный сказал», обратилась она ко мне, и с трудом удерживая смех, «пусть выбросит свою рукопись в нужник».
Глава 33. Инвалидская доля
Выкосили полянку, на которой я лежал. Подняли в этап соседей, с которыми я спал. Они ушли в Удмуртию, в Ижевские лагеря. Надо было и мне пошевеливаться. Райское состояние неработающего инвалида кончалось.
Тому были две причины. Первая - экономическая. На 400 граммах хлеба прожить нельзя. Инвалид съедает 200 гр. хлеба утром и 200 гр. вечером. Ему дают их в два приема. Иначе он бы сразу проглотил свой кусок хлеба и на круглые сутки остался бы ни с чем. Остальное, что он получает к хлебу, стоит немного: талон первого и даже второго котла обменивается в лагере на 150 или 200 гр. хлеба. Неизбежно все мысли инвалида сосредоточиваются на том ,как бы подработать. Заработать много он, правда, не может. Стахановского или ударного пайка не полагается ему ни в коем случае (если может перевыполнить норму, то какой же это инвалид?). На физической работе могут его - максимально - сравнить с выполняющими норму. Это - еще 200 гр. хлеба. В 1944 году разница составляла всего 150 грамм. Помимо хлеба, разница в питании между I и II котлом была незначительна. Жиры выдавались по 10 гр. растительного масла в кашу, а сахар на Круглице, по 20 грамм в день, получали только стационарные больные, и то не всегда.
Но не только погоня за хлебом заставила меня снова выйти на работу. Была другая серьезная причина. По мере того как на лагпункте собиралось большое число инвалидов, их переправляли в особые концентрационные пункты, чтоб не путались под ногами. Инвалидов из Сангородка отправляли в Островное или Медведевку. Там собирались человеческие отбросы лагеря, отработанный пар. - Для них был там особый режим и особая работа, о чем недобрая слава ходила в Круглице. Человек, который туда попадал, как в болото, уже не мог подняться. Там была концентрация ненужных и лишних элементов, которыми уже не интересовалось начальство. Над нами, инвалидами, всегда висела угроза: «Отправят в Островное, там пропадешь». Быть инвалидом среди здоровых на нормальном рабочем лагпункте - большое преимущество. Тут и пристроиться легче, в контору или в лагобслугу, - и кормят лучше. Там же, где все кругом тебя такие же инвалиды, как и ты, - невозможно выбиться из общей массы, и всем одна участь. Итак, я всеми силами держался за мой прекрасный Сангородок. Приблизительно раз в месяц производили чистку, собирали неработающих инвалидов и отправляли прочь. Чтоб не попасть в роковой список, надо было исполнять какую-нибудь полезную функцию, быть «работающим инвалидом» и вообще иметь репутацию человека, который без дела не сидит. И я снова взялся за «дело».
Пока не было холодов, ходили за вахту. Инвалидская бригада отправлялась куда-нибудь «на затычку», на подборку мусора, на очистку полей от камней и тому подобные работы. Состав ее был самый пестрый: старики, которые еще хорохорились и не сдавались, ветераны труда, у которых тряслись колени и впали щеки, чахоточные, не совсем еще созревшие для больницы, калеки, хромые, уроды со всех концов мира - югославы, корейцы, армяне и финны; - кто-то, знавший проф. Ланжевена в Париже, стоял рядом с колхозным пастухом. Каждый из нас срезал себе палку - и тяжело опирался при ходьбе. Я тоже выходил с палкой, становился в строй и ждал, пока проверяли. А проверяли нас поименно, чтобы не припутался случайно кто-нибудь здоровый.
Инвалидное шествие трогалось в путь. Четверки быстро расстраивались, растягивались нестройной толпой по пыльной или грязной дороге. Сбоку плелся стрелок, тоже инвалид, забракованный для фронта, или баба-солдат, в бушлате и фуражке с красной звездой, которая ружье держала как хворостину против гусей. - «Прибавь шагу!» - «Подтянись!» - «Прекратить разговоры!» - а когда мы уже очень выбивались из строя: «Приставь ногу!» - Тут передние останавливались и ждали, пока подойдут задние. Стрелок опять пересчитывал людей и переставлял задних вперед. Впереди бригады всегда шли самые слабые ходоки, а прочие топтались за ними и наступали на ноги.
Пройдя с полкилометра, бригада сама без спросу садилась отдыхать. Рассаживались на камушках вдоль дороги, откладывали посохи, а некоторые прямо валились на землю, на бок и навзничь. - «Отдыхай, слабкоманда!» - говорил стрелок и терпеливо закуривал в стороне. Нам по инструкции не полагалось подходить к стрелку ближе чем на 3-4 метра, но запрет часто нарушался. Бригадир, как представитель власти, часто садился рядом. В отношении стрелков к заключенным не было ни враждебности, ни особой начальственности. Было слишком очевидно, что мы, заключенные, сделаны из того же теста, не враги и не преступники, а та же серая рабочая скотинка, которой приказано властью жить в лагерях.
Бригадир не работал. По правилам только в больших бригадах, числом в 25 и 30 человек (кажется), бригадиры освобождаются от работы, а в меньших - обязаны работать наравне с другими. Но на деле бригадир никогда не работает: он только расставляет людей, учит, показывает и погоняет, а вечером составляет рабочие сведения, получает на бригаду хлеб и ходит по делам бригады в контору и ЧОС. Понятно, что в инвалидской бригаде работы у него не много.
Мы занимались плетением матов из тонких деревянных планок во дворе сельхоза. Этими матами потом покрывали стеклянные рамы парников.
Осенью посылали нас на уже убранные гектары картофельных полей - подобрать мелкую картошку, которая осталась незамеченной при уборке. Весь день мы копошились в бороздах и находили массу картошки. Есть ее нам не позволяли, и не было огня, чтобы спечь. Только стрелок весь день пек картошку в золе своего костра. Некоторые не выдерживали и подходили клянчить. Они клянчили лживыми, сладкими голосами, как маленькие дети, и стрелок иногда бросал им картофелину, со злостью, чтобы отвязались. Все мы ели картошку сырую, ели украдкой, чуть почистив рукавом. Я был в состоянии съесть 20 сырых картошек. Если бы позволили спечь, хватило бы половины. Но никто не имел права позволить нам этого. Каждая картошка принадлежала Государству.
С наступлением холодов я стал дневальным ЧОСа. Обязанностью моей было убирать две комнатки. В первой помещались «продстол» и «вещстол». Во второй - кабинетик начальницы ЧОСа, Гордеевой. Стол, большое деревянное кресло, портрет Сталина, шкаф с бумагами - составляли мебель кабинетика, а на столе стоял большой стеклянный графин - вещь в лагере необыкновенная и поражающая внимание. Каждое утро я наполнял графин свежей водой. За водой приходилось идти в другой конец лагеря, в кипятилку. Кипятилыцик Арон Штернфельд, черноволосый украинский еврей, был моим приятелем. Я получал у него вне очереди ведро кипятку для ЧОСа. В первой комнатке за деревянным барьером сидели счетоводы. Главбух, лысый армянин, сыпал анекдотами и шутил с бабенками. В углу помещался вещстол. За ним сидел старил лет 60-ти, как будто приросший к табурету, непогрешимый канцелярист, идеальный счетовод. Третий, хлебодатчик, однорукий (другая рука у него высохла), с бритым и твердым лицом, широкими плечами, был полон иронической вежливости и непроницаемости. Все трое были сыты, веселы - балагурили. Можно было годы с ними жить и не узнать, кто они такие в глубине души. Это были советские чиновники в лагере, придурки. В течение дня я стоял при печке и ходил с поручениями. Нельзя сказать, что я бегал: ноги еле-еле волочились у меня. Счетоводы ходили в продкаптерку и приносили оттуда картошку. Они пекли ее в печке, и такт требовал, чтобы я этого не замечал. Бог видит, каких усилий стоило мне не показать им, как тянет меня за сердце дух печеной картошки, и не стянуть хотя бы одной картофелины. Они делились между собой и с полным бесстыдством съедали на моих глазах все до конца. Никто из них никогда не предложил мне ничего, и я думаю, им даже доставляло удовольствие присутствие у печки человека, который стискивал зубы и смотрел в сторону.
Вечером я заправлял лампы на случай порчи электричества (которая бывала каждый второй день), закрывал окна тяжелыми деревянными щитами. От 8 до 10 ЧОС заполнялся толпой работяг. Густая толпа стояла за барьером, а под дверью Гордеевой выстраивалась длинная очередь. Тут выписывались наряды в вещкаптерку на рукавицы, обувь, одеяла и одежду. Кроме работы дневального, я составлял всякие акты, отчеты, записывал и отправлял почту с людьми, которые отправлялись от нас в Ерцево и соседние лагпункты. На этой работе мне полагался I котел и 500 гр. хлеба - норма для дневальных. Разница с инвалидским пайком составляла всего 100 гр. хлеба. Так как дневальные не могут жить на таком пайке, то их неофициально «подкармливают» на кухне. Меня тоже «подкармливали». Это была унизительная и отвратительная процедура. В 8 часов, после раздачи завтрака, я подходил к закрытому окошку кухни и стучал. Друзей у меня на кухне не было, и они не торопились открывать мне окошко. Часто, простояв полчаса, я уходил ни с чем. - «Нету ничего!» - Этот котелок «баланды», жалкого лагерного супа, составлял всю мою зарплату за работу в ЧОСе (кроме 100 лишних гр. хлеба), - но мне всегда давали его как бы из милости, с досадой и злостью.
Совершенно чужими были мне также люди в ЧОС'е. Гордеева, начальник ЧОСа, вольная, приходила часа на два ежедневно. Это была та самая, которая мне когда-то выписала новую рубашку, а потом испугалась моего «письма к Эренбургу», и в конце концов посадила меня в карцер за кражу рыбы... Помощником ее, со званием «инспектора ЧОСа», был молодой зэ-ка Павел Иванович... Оба - люди, по-видимому, европейского типа, но пропасть отделяла меня от них. Это была лагерная интеллигенция. Никто не заставлял Гордееву принимать участие в обысках по баракам, и, однако, и она, и Павел Иванович очень любили этим заниматься. Заключенные часто задерживали казенное имущество, имели по две пары ватных чулок, краденое одеяло и прочие «излишки». Для изъятия излишков устраивались внезапные налеты на тот или иной барак. Гордеева приходила со своими помощниками, но всегда сама обыскивала. Женщина с лицом классной дамы и седыми волосами доставала мешки заключенных, сама их вытряхивала, рылась в тряпье, вскакивала на верхние нары и переворачивала сенники. Глядя на то, с каким искусством и увлечением она обыскивает, я начал постигать в ней душу городового. Должно быть, я не сумел скрыть своего отвращения к процедуре обыска, потому что скоро стали надо мной подшучивать в ЧОСе и угрожать тем, что пошлют меня производить обыск. - «Марголин! - говорил Павел Иванович строго: - вы не можете работать в ЧОСе и уклоняться от участия в обысках!» - «Да ведь я слепой, Павел Иванович, разве я увижу что-нибудь!» - «Вы будете принимать и записывать отобранные вещи и светить нам фонариком!» - Я отшучивался, как мог, но про себя решил, что скорее уйду из ЧОСа, чем буду с ними ходить по баракам. Однако, через 3 месяца моя работа и так кончилась.
К этому времени были приняты спешные меры, чтобы поддержать инвалидов. Работающие, неработающие - все угасали. Тут и сказалось преимущество находиться в Сангородке - медицинском центре, где никоим образом не могли допустить до массовой гибели людей. Трюк, примененный Санчастью, заключался в том, что инвалидов переименовали в «хроников».
Что такое «хроники»? - Это люди больные, хронически больные, которые лежали в больнице, пока их не выписали без улучшения - люди, которые не хотят ни поправляться, ни умирать. Нет смысла больше держать их в больнице, и невозможно поместить их со здоровыми. Их место посредине. Барак их находится под особым наблюдением сестры и врача. Хроники получают 2-ой котел и 500 грамм хлеба, т. е. сравнены в смысле питания с конторой и лагобслугой. Инвалидам не повысили нормы (это могла бы сделать только Москва), но зато придумали для них новую рубрику - словцо, которое позволило вывести их из круга смертников и, по крайней мере на время, замедлить темп голодного истощения. На время - потому что, конечно, и питание хроников было недостаточно для ослабевших людей. У нас уже так мало оставалось физических резервов, что один какой-нибудь перебой в питании, вроде украденной пайки хлеба или потерянного талона на ужин - мог свалить нас с ног.
Настали холода, и дорожки в лагере обледенели. Тогда начало случаться, что я падал в снегу. В особенности часто - в темные вечера, на обратном пути из-под окошка кухни в барак, с ужином в котелке. Котелки эти, из ржавого железа, редко имели ручку, и носить их приходилось в обеих руках, осторожно, пока ноги нащупывали дорогу в снегу. У меня были соломенные, чужие ноги. Они спотыкались и разъезжались, как у годовалого ребенка, только не было матери, чтобы поддержать в последнюю минуту. Пускаясь в дорогу, 100-200 метров, я уже готовился к тому, что где-нибудь по пути упаду. Я научился падать так, чтобы котелок оставался непролитым. Это было особое искусство. Но когда случалось несчастье, и мой котелок выливался, я оставался без еды до следующего утра. И этого уже было достаточно, чтобы заметным образом обессилить меня. Между ежедневным приемом пищи и способностью двигать руки и ноги установилась очевидная связь. Налицо был нищий баланс прихода и расхода: ежедневный кусок хлеба и считанные калории утром и вечером - расходовались в движениях тела. Если этого прихода не было - я замирал, и останавливался, как часы, которые забыли завести. Тело стало ломким и хрупким. От каждого резкого потрясения или трения оставались царапины, разрывы, и ткань не заживала неделями, кровоточила и нарывала.
Всех инвалидов Круглицы произвели в хроники, а хроников разделили на 2 группы. Человек 16 туберкулезных поселили вместе в одной комнате. Это были люди с закрытым процессом, которым еще рано было ложиться в легочный стационар. Они имели свою посуду и находились под особым присмотром врача. Остальных хроников, человек 25, поселили в другом бараке. С нами помещалась еще другая бригада и «слабосилка», т. е. группа ослабевших рабочих, которым на 2 недели давали облегченные условия работы.
Наш барак, «16-ый», был обширный, темный, с двухъярусными нарами «вагонкой». Лучшие места были при печке. Бригада, которая помещалась с нами, ходила на распилку дров и поэтому мы были в ту зиму хорошо обеспечены дровами. Под вечер отворялись двери, и гуськом входила процессия закутанных, засыпанных снегом, замерзших людей. Каждый нес дерево, и сразу у печки нагромождалась гора чурок и досок. Пилили быстро, и скоро плита накалялась до того, что железо просвечивало красным. Плиту заставляли котелками и кружками, дневальный вносил два ведра с горячей водой, - и начинались споры за воду и место у печки: обычная картина, четвертый год одно и то же. Одна новость была в ту зиму: картофельная шелуха. К печке больше всех теснились казахи, жители знойной Средней Азии, и они приносили с собой картофельную шелуху, «очистки», которые им удавалось набрать около кухни или выпросить у поваров. Эти «очистки» они сушили на железном листе, до того, что они превращались в тонкие хрустящие коричневые пластинки, - и ели в этом виде. Казах, желтолицый и косоглазый, стоял у печки и сторожил свою шелуху, но все-таки у него брали «попробовать», и скоро все стали гнаться за этой шелухой, всем понравилось.
Каждую неделю появлялся в бараке врач, становился у стола и проверял «хроников», а среди недели забегала сестра и садилась на нару поговорить со знакомыми. Но все это было только формальностью. Помочь они нам ничем не могли, потому что нуждались мы все не в лекарствах, а в хлебе и мясе, жирах и сахаре, в доме и свободе. Все мы, прежде всего, нуждались в освобождении.
Теперь мы работали редко и мало, так как разница между питанием «хроника» и «работяги» составляла всего 100, потом уже только 50 грамм хлеба. За день, когда мы работали, нам давали вместо 500 - 550 гр. хлеба. И однако, даже эти 50 грамм стоили того, чтобы повозиться несколько часов. С утра заходил в барак «хроников» комендант лагеря, или зав-пекарней, или кто-нибудь другой, кому не хватало рабочих рук.
- Ребята, кто охотник снег почистить, или дров наколоть?..
И комендант обещал «пo-блату» дать супу, а зав-пекарней ничего не обещал, но сразу начинали шевелиться тела, лежавшие на нарах без движения под бушлатами. Кто-то с усилием подымался, кто-то оглядывался на соседа:
- Пойдем, что ли? Может хлебца дадут.
Кто уже не мог ходить, занимался чем-нибудь на месте. В самом бараке производились разные работы. Три человека щипало хвою: Беловченко, Николай и я.
Хвоевар помещался в том же бараке. Это был человек вечно-заспанный, которого мы иначе не видели как спящим или зевающим. Работал он по ночам: варил на кухне «хвойный настой» или квас, как его называли заключенные. Хвойный настой был советским средством против цынги.
Варится он из свежих зеленых игл молодых елок. Работа распадается на три стадии. На первой инвалид Конев, однофамилец маршала, но не родственник, отправлялся в лес, рубил елки и на себе приносил их во двор лагпункта. Он сваливал их на пустырь между кухней и пекарней. - Потом наше звено переносило елки в барак и ощипывало хвою с веток. С утра мы садились к столу, ставили деревянный ящик и часа в два наполняли его доверху. Никто не проверял, сколько мы щиплем, и вся работа никем не бралась всерьез. - Хвоевар принимал у нас ящик и варил из елки ярко-зеленый и терпко-горький напиток, который разливался в бутыли и ведра и разносился по баракам и стационарам. В амбулатории на видном месте стояла бутыль с еловым квасом, и всегда находились желающие выпить кружечку, хотя никого не принуждали, и напиток был так едко-горек, что только нёбо лагерника, отвыкшее от резких вкусовых раздражений, и могло находить в нем приманку. Больше выливалось этого квасу, чем выпивалось, но полдюжины хроников всегда находилось на его производстве, и каждый получал за работу 50 грамм хлеба, не говоря о хвоеваре, который, находясь на кухне, имел свою особую калькуляцию.
Беловченко, мой сосед по наре, был молодой человек лет 30, с кротким, бледным истощенным лицом, с тоскливым потухшим взглядом. Это был человек деликатный и мягкий, сломленный судьбой и угасавший без протеста и шума. Где-то осталась у него молодая жена и ребенок, но он уже не вспоминал о них. Беловченко был рыбак, вырос в доме деда-рыбака над Черным морем у румынской границы. - «Что такое кефаль, Беловченко? Как ловят кефаль?» - И лежа на спине рядом со мной, вечером после ужина, с головой на мешке, он начинал рассказывать обстоятельно, спокойно, лучше всякой книги - о чудесных рыбах и ловах, о ночных выездах с неводом, о рыбачьей жизни и морских тайнах - низким и слабым голосом, замиравшим, как его жизнь в лагере.
Инвалиды собирались у печки, и начинались бесконечные разговоры на основную лагерную тему: о еде. Нацмены рассказывали о курдюке и пилаве, а башкиры - о баранине; сибиряки - о пельменях, а немцы Закавказья - о временах, когда вино на Кавказе стоило 3 копейки ведро. Голодные люди могли часами толковать о хлебе, муке и разных способах выпечки хлеба. Глаза блестели, воображение разгоралось. Каждый, судя по рассказам, пришел в лагерь из страны неслыханного изобилия. Украинец живописал борщ, который ему с утра подавала старуха, так, что у всех нас кружилась голова. Тут я только убедился, как я поверхностно и бездарно питался в своей прежней жизни. До лагеря я жил окруженный чудесами, не умея их использовать, не зная, ни что такое голод, ни что такое настоящий аппетит. Я не успевал проголодаться от завтрака до обеда и от обеда до ужина. Я ел 5 раз в день, но разве я понимал, что такое еда? Мог ли я оценить, например, что такое горох? Поляк, хозяин фольварка под Вильной, начал мне объяснять, какой бывает горох, и что можно из него приготовить. Он говорил, не умолкая, час. Я был ослеплен. Я не знал, что горох в руках художника кухни - как слово в руках поэта - обращается в шедевр. Это была поэма о горохе гомеровской силы. Только многолетний голод - и тоска по дому - могут довести человека до такого экстаза, так окрылить его воображение и уста. - Мы все были ненормально возбуждены. Здоровее было бы поменьше говорить и думать о еде. Но жизнь вообще, а лагерная в особенности - представляет собою очень нездоровое явление...
Иногда мы слушали сказки. Был среди нас белорусс-сказочник, и впервые в жизни я слышал народные сюжеты, известные мне только по книгам, в мастерском пересказе и во всей свежести фольклора, когда они предназначаются не для детей, а для взрослых. Я слышал солдатские сказки, где герой надувает начальство и женится на генеральской дочери - и советский фольклор, очень неприятный, где уже не Баба-Яга заманивает детей, чтобы съесть, а шайка бандитов в Москве заманивает жертвы и продает человеческое мясо. В некоторых рассказах фигурировал «граф Юсупов, который убил Распутина». Чека его арестует, но он чудесным образом спасается из тюрьмы.
Я начал записывать - не эти рассказы, для чего у меня не было бумаги, - а слова и выражения лагерного языка. Это был язык, не похожий на русскую литературную речь. Я не знал прежде таких слов, как «баланда» (лагерный жидкий суп), «туфта» (скверная работа для отвода глаз), «блат» для обозначения тайной протекции, «птюшка» - лагерная пайка хлеба, «балдоха» - солнце. В ЧОСе заключенная девушка просила табельщика: - «Ваня, выпиши птюшечку побольше», а на работе заключенные кричали начальнику работ: - «Начальничек, балдоха-то светит!» Я записывал десятки таких слов. Одни из них были тюремного, воровского происхождения, другие родились в лагере. Лагерь обогатил русский язык словом «шизо» (штрафной изолятор). «По блату» было, очевидно, еврейского происхождения. «B'laat» на языке Библии и Бялика значит «в тишине, потихоньку». Сложной и долгой дорогой докатилось это слово с берегов Иордана на крайний север России, в лагеря Сов. Союза.
В один зимний вечер, подойдя к печке, где, как всегда, набилось много народу, я вдруг услышал странные звуки.
Худой остроносый доходяга прикорнул на лавке, съежился в тепле и с закрытыми глазами что-то нашептывал про себя. Я прислушался:
- Мэнин аэйде теа, пэлэнадео ахилэос...
Человек с синими тонкими губами, трупным свинцовым цветом лица, неопределимого возраста, в бушлате, покрытом заплатами, по виду колхозник, как большинство из инвалидов, сидел скрючившись и шептал начало Илиады!
- Кто вы? - Откуда вы знаете Гомера?
Инвалид открыл глаза и уставился на меня с неменьшим удивлением. Мы познакомились, а потом разговорились, а потом подружились крепко.
Николай был для меня совсем новым человеком, из особого мира. Это был украинец, из Днепропетровска, где и я провел юные годы, еще когда этот город назывался Екатеринославом. По специальности - учитель украинского языка, по складу - мягкий мечтатель и библиофил. В двух комнатках его холостой квартиры на Первозвановской улице было 2000 книг. В советских условиях такую частную библиотеку может иметь только маньяк или ученый, всю жизнь коллекционирующий книги. Николаю было 40 лет, и единственной страстью его жизни была литература. В лагерь он попал за «националистический уклон». Во время одной из массовых идеологических чисток на Украине, когда были изъяты люди чересчур темпераментного украинского патриотизма, припомнили ему какую-то печатную заметку, где он похвально отозвался о ком-то из украинских коммунистов, позднее ликвидированных по приказу из Москвы. Этого было достаточно, чтобы разлучить его с любимыми книгами и сгноить в подземном царстве. Он сидел уже лет 6 - и держался неплохо. Помимо крайнего физического истощения, он был внутренне еще полон силы. Он помнил Гомера.
Внимание, которое он мне оказал, было исключительно. Он был несколько крепче меня, и поэтому помогал мне щипать хвою, помогал в быту, в тех мелочах, от которых зависит настроение и самочувствие человека. Я почувствовал, что имею союзника в бараке, и привязался к нему со всей нежностью и благодарностью, на которую было способно мое ослабевшее, одичавшее сердце.
Каких только людей не было в этой Богом забытой круглицкой глуши! Сколько тонкости было в этом человеке, сколько музыкальности в его ухе, которое реагировало не только на гекзаметры Гомера, но и на каждую утонченность современной поэзии. Николай все понимал, и он первый научил меня уважать украинскую культуру, которая вырастила таких людей. Его культ украинского слова передался мне. Я услышал от него в первый раз имена Максима Рыльского, Павла Тычины и др., и живой плотью облеклись для меня имена Франко или Марко Вовчок. Я эти имена слышал, но ничего не знал о них. А Николая только надо было попросить: «Расскажите, кто такой Марко Вовчок», - и вдруг оказывалось, что это была женщина, и такой прекрасный человек и писатель, что Николай просто сиял, рассказывая про нее.
Чтобы со своей стороны что-нибудь дать Николаю, я его стал учить английскому языку. Бумаги у нас не было. Каждый день он мне доставал деревянную дощечку, а я писал на ней карандашом 10-15 слов по-английски. Потом я написал ему целый маленький текст. Наконец, я ему раздобыл учебник у Максика. Николай умел учиться. Через 3 месяца он уже не нуждался в моих уроках. Он проявил железное упорство и усидчивость, - настоящее украинское упрямство. В полночь, когда барак спал, он просыпался, спускался с верхней нары к столу, на котором горела тусклая коптилка, и с каменным остроносым лицом сидел часы напролет над учебником. Весной он уже читал самостоятельно английские книжки.
У еврейского и украинского народа имеется свой старый и недобрый счет. Трудно представить себе, что может заставить еврея в широком мире интересоваться украинской культурой, или наоборот. И однако, в советском лагере были братьями еврей и украинец, и я понял, что можно сочувствовать этому народу, самому музыкальному и самому незадачливому среди славянских народов. Украинская народная песня одна из самых богатых на свете, и по численности украинцы не уступают французам, но Шопен не родился среди украинцев, и никогда этот народ не был политически свободным. Придет еще время, когда украинцы и евреи встретятся на мировой арене, не в концлагере и не в условиях погрома или бесчеловечного полицейского угнетения, а как свободные народы. Николай мог бы быть деятелем еврейско-украинского сближения или культурной связи. Но след его заглох в подземном царстве, и я не знаю, жив ли он еще...
В январе 1944 года бригадир хроников Шульга, который благоволил к Николаю, предложил ему работу в овощехранилище. Николай отказался без меня выйти на работу. Таким образом, включили меня в группу из 4 инвалидов: Шульга, Николай и Беловченко - трое украинцев, я был четвертым. Мы вставали в 6, выходили на развод в 7 и работали до часу дня. Шесть часов мы сидели в темном обширном подвале, куда свет доходил через отдушины. Подвал был разделен на закрома, и в каждом лежала отсортированная картошка. Здесь были десятки тонн ее. Нас посадили перебирать картошку и выбрасывать гниль. В подвале было прохладно. Температура овощехранилища не может быть ниже нуля (чтобы картошка не замерзла) и выше 4╟ (чтобы она не проросла). Завскладом регулировал температуру при помощи маленькой печки и следил, чтобы мы не воровали картошки. Его место было в маленькой каморке при складе, где было тепло, и мы, входя, нюхали воздух и искали, где стоит картошка, которую он сам наварил. При каждом налете начальства прежде всего проверялись печки - не стоит ли где-нибудь преступный котелок... Понятно, начальство знало, что завскладом не может не пользоваться картошкой, но все же строго контролировало его, учитывая, что он в противном случае может перейти все границы. Начальство следило за завскладом, а завскладом за нами - и все, без исключения, воровали; даже стрелок, заходя в подвал на минуту, набивал карманы.
Наш шеф был горбоносый кавказец, осетин - человек степенный, очень деликатный, никого не ругавший и не бивший. Обыкновенно, заведующие складами имеют тяжелую руку. Но наш осетин не был обыкновенный человек... при случае выяснилось, что он понимает по-английски... и даже имеет жену в Лондоне... больше он, однако, ничего не сказал о себе. Наш осетин понимал, что ради 50 гр. хлеба не сидят 6 часов в холодном и темном подвале, и что надо нам дать что-нибудь. Но он боялся кормить нас - боялся, что мы проговоримся, если что-нибудь получим из его рук. В полдень, за час до конца работы, он выносил нам по одной вареной картофелине на брата. Иногда это была репа. Это было все. Но мы не обижались. Мы сами себя кормили.
Для этого имелось три способа. - Во-первых, мы выносили картошку на себе. При выходе из подвала нас обыскивали. При вахте угрожал нам вторичный обыск, с тем, что если бы нашлась картошка, в карцер на 5 суток попал бы не только вор, но и завскладом. Понятно, что наш заведующий при выходе тщательно ощупывал нас и очень просил не подводить под неприятность. Однако, все-таки выносили. Пришивали себе карманы под мышками, между ног, в самых разных местах, в надежде, что одно какое-нибудь место останется незамеченным при обыске. Прятали мелкую картошку под шапку, в ватные чулки, в «четезэ». В подкладке бушлатов выносили картошку, нарезанную плоскими ломтиками. Иногда это удавалось. Но в общем - трудно утаить что-нибудь заключенному от заключенного. Поэтому действовали иначе.
Работники выходили из подвала за нуждой. Подвал был заперт. Завскладом отпирал наружную дверь и выпускал нас - на минуту. Тут обыска не было, и мы набирали в карман картошки, самые крупные клубни, какие были, - за углом подвала выбрасывали ее в сугроб и делали метку в этом месте: клали сучок или камешек. Потом с чистой совестью давали себя обшарить при уходе с работы. - «У Марголина ничего нет!» - говорил осетин, едва касаясь меня. Одну минуту он возился, запирая на замок тяжелую наружную дверь, и за это время мы за углом барака выуживали наше сокровище из сугроба. Тут уж каждая секунда была дорога; прятать картошку не было времени, и мы ее несли прямо в карманах на вахту, полагаясь на счастье: не будут обыскивать. Иногда мы не успевали выбрать картошку из снега. Иногда она уже была украдена кем-то, кто заметил, как мы ее прятали. На дороге, в ста шагах от нас, строилась бригада ЦТРМ - десятки людей становились парами и кричали нам «скорей».
Если стрелок-конвойный подходил ближе к складу - опять-таки нельзя было доставать картошку на его глазах. Зато, если удавалось, мы проносили в барак 2-3 кило картошки. Это была победа. Теперь надо было сварить и съесть, не привлекая общего внимания. Тут уж Николай полагался на меня. Я имел в кипятилке приятеля, Арона. Под бушлатом приносился котелок в кипятилку, и Арон сам его ставил на угли. Потом на верхней наре мы ели с Николаем из одного котелка, а сосед делал вид, что не замечает, и завидовал нам.
Но такая удача была редка. Магнит же, заставивший четырех еле живых инвалидов выходить на работу в складе, был совсем иного свойства. В первый же день мы сделали открытие, что в самом конце подвала среди перегородок с картошкой имеется закром с морковью. Моркови мы не ели уже несколько лет.
Морковь не надо было варить. Это было само здоровье, и величайшее лакомство. С утра мы смирно садились над гнилой и мерзлой картошкой, но все мысли были на другом конце подвала. Постояв над нами несколько минут и убедившись, что работа налажена, завскладом уходил в свою каморку. Как только закрывалась за ним дверь, один из инвалидов подымался и бежал, что было духу, в темный угол, где морковь. Чистить не было возможности, мы ее скоблили ножичком или просто вытирали о полу бушлата. Через 10 минут возвращался завскладом и становился за нашими плечами. Тот, у кого рот не был набит, начинал с ним разговор. Другие жевали как можно тише и глотали поскорей.
Завскладом что-то чувствовал. Он подозрительно смотрел на нас. У нас останавливались скулы и переставали двигаться челюсти. Мы замирали. Завскладом слушал. Не чавкнет ли кто-нибудь, не хрустнет ли на зубах. - «Ты что жуешь? - подходил он вдруг к Беловченко. - А ну ка, открой рот!» Несчастный Беловченко спешно давился, мотал головой и открывал рот. - «Я ничего, - оправдывался он, - я здесь огрызочек нашел в картошке...» Осетин только качал головой с укором. Между нами, заключенными, это было дело семейное, неопасное. Другое дело, если бы морковку во рту Беловченко нашел представитель власти. Тогда был бы карцер, и если бы составили «акт» и оформили «дело», то за морковку могли бы ему влепить лишних 3 года, как за расхищение «социалистической собственности».
Этот «морковный рай» или «морковный оазис» в январе 1944 года был выдающимся событием в истории моего круглицкого сидения. Мы жили в морковном экстазе. Все остальное отступило на задний план. От 8 до И ежедневно мы ели морковь. Каждые 5 минут кто-нибудь из нас бегал к волшебному источнику. В 11 часов мы уже не были в состоянии ничего больше проглотить. В моей прошлой жизни я не любил и не понимал моркови. Теперь я ее оценил. За две недели я съел пуда два моркови. Морковь струилась в моих жилах, мир был окрашен в ее веселый цвет. Мы воспрянули духом с Николаем. Морковный румянец заиграл на наших щеках. Мы вошли во вкус. Если бы нас оставили еще на две недели, мы бы съели весь закром.
Но все кончается. Изгнание из морковного рая далось нам трудно. Но все же мы утешали себя тем, что не потеряли там даром времени. «Подъели малость», - говорил Николай.
К этому времени он уже был бригадиром хроников вместо Шульги, которого отпустили в начале 44 года. Весной я расстался с Николаем. Его отправили в Островное. Я унаследовал его место, и до 15 июля 1944 года управлял хрониками в Круглице.
Глава 34. Бригадир хроников
Товарища Коберштейна нет надобности описывать. Это был живой, вылитый Паташон. Увидя в первый раз его долговязую унылую фигуру с болтающимися руками в слишком коротких рукавах и голубыми детскими глазами, я невольно оглянулся: - «А где же Пат?» - и мне сразу стало весело, как в кино.
Товарищ Густав Коберштейн был немецкий колонист из-под Житомира, лет шестидесяти. Дедушка. В колхозе он не понравился, и его отправили в лагерь. Всех немцев из его района выселили в Центральную Азию. Оттуда он получил от жены письмо, которое я ему прочел, и я же составил ответ. Все письма зэ-ка на один лад: «Пришлите посылку». Но Густав стеснялся просить жену о посылке. На воле тоже что-то было не в порядке. Цензура зачеркнула половину письма жены, а в незачеркнутой половине было сказано, что «тетя Матильда умерла с голоду».
Два миллиона советских немцев были разгромлены советским правительством еще до того, как они проявили свои гитлеровские симпатии. Их выселили в казахские степи, а их молодежь взяли в «трудармию» и послали на Урал, где условия были приблизительно такие же, как в лагерях. В немцы были записаны также дети от смешанных браков, где мать была еврейка, а отец немец. Отец мог умереть, а сына в 17 лет, как немца, отправляли в трудармию, несмотря на то, что он ни слова не умел по-немецки и считал себя русским. Есть «демократы», оправдывающие насильственное переселение целых племен, как приволжские немцы, крымские татары или кавказские карачаи, с их исторических мест в глубину Азии их враждебностью советскому строю. Возможно, что с точки зрения братства народов тетя Матильда заслужила свою участь. Коберштейн же был просто старый крестьянин, которого не стоило сажать в лагерь. Его посадили на всякий случай, как потенциального врага. В лагере, где радио каждый день повторяло лозунг «убей немца», Коберштейн в качестве инвалида и хроника нашел подходящую работу: устроился в сушилке.
За всеми бараками и стационарами, на краю света, в дальнем углу лагерного четырехугольника стояла жалкая лачуга. Бревна ее потемнели и потрескались, стекла в окошках полопались и были заткнуты соломой, тряпками, досками. Дверь висела на одной петле и не притворялась. Из сеней с земляным полом был вход - налево в кипятилку, направо в сушилку. Кипятилыцик Арон и сушильщик Коберштейн не жаловались на холод. Вода клокотала в огромных бочках у Арона, труба выходила наружу, и под окном стояла очередь дневальных с ведрами. Арон трижды в день отпускал им кипяток по счету. Открывал кран и глядел через окно, кто получает. Внутри кипятилки была большая печь, нары, стол, много дров под столом, под нарами и на печи, и кроме того общество гостей, с которыми разговаривал общительный хозяин, заросший и черный, как цыган, Арон Штернфельд.
Погреться в кипятилке зимой - дело хорошее. Но скоро я сделал открытие, что напротив, у Коберштейна, еще теплее. Сушилка была узкая камера, во всю длину которой шли две железные трубы, сантиметров по 30 в диаметре. Хозяин был Паташон, с пугливым взглядом голубых глаз. Я с ним поговорил по-немецки, написал ему письмо, и он мне позволил приходить к нему греться.
В два часа я приходил из холодного барака хроников (там топить начинали только вечером) и укладывался под трубы. Свернувшись калачиком на подстеленном бушлате, я утопал в блаженном тепле. Я лежал там до сумерек. Там была моя Африка, мой Экватор. Где-то бушевали ветры, снег кружил в открытом поле, люди мерзли и старались прийти в себя у костров, а я лежал в струе горячего воздуха, пока раскаленные трубы и позднее время не выгоняли меня из моего убежища. В конце концов Коберштейн предложил мне работать вместе.
Надо объяснить, что такое сушилка. Это учреждение, фунционирующее 24 часа в сутки, где одному трудно управиться. Это камера, в потолок и стены которой вбиты деревянные крюки. У нас их было до 200. Вечером, когда бригады ложатся спать, начинается шествие дневальных из бараков в сушилку. Каждый несет на себе неправдоподобную гору мокрых вещей. Бригады весь день работали в грязи, под снегом и дождем. Все на людях промокло, напиталось грязью. Несут вывалянные в грязи тяжелые ватные брюки, сырые бушлаты, мокрые, как из воды, ватные чулки, опорки, валенки, «четезэ». Все это с. помощью высокого шеста развешивается на крюках. Нелегко развесить под потолком сто мокрых и тяжелых бушлатов. Надо каждую вещь повесить умеючи, расправить и выворотить, обувь поставить на печи или повесить над трубами низко-низко, чтоб к утру она была совершенно суха. При этом ничего не перепутать, вещи каждой бригады принять по счету и повесить отдельно. Вся эта развеска производится при свете тусклой керосиновой лампочки без стекла.
Печь топится из сеней. В 10 часов температура начинает подыматься. Тени дрожат и волнуются в узкой полутемной камере, завешенной фантастическим тряпьем, под которым можно пройти только согнувшись. Воздух невыносимо тяжел - это воздух прачечной в подвале, где все испаряется и смердит. Горячие и едкие волны ходят по сушилке. С 10 часов сушильщики работают нагие. И этого мало. В полночь, когда трубы накалены докрасна, невозможно оставаться на нарах. Единственное место - на земляном полу у двери. Оттуда через отверстия тянет ледяной воздух. Коберштейн спит. Я топлю ночью. Каждые полчаса я выскакиваю нагишом в сени и наполняю печь дровами. Всю ночь продолжается метание между сенями и раскаленной сушилкой. Уже в 10 часов люди, заглядывающие в сушилку, не могут там оставаться больше 5 минут, но настоящий жар начинается только после полуночи. Из этого жара, как из духовой печи, нагой сушильщик выскакивает во двор, в снег, на тридцатиградусный мороз архангельской ночи, и обратно. Такие переходы не вредят ему, он привык.
За час до подъема в темноте хрустят шаги за стеной, и первый дневальный стучит в дверь. Сушильщики подымаются, зажигают свет. Печь выгорела. Удушливый ночной жар прошел. Первый дневальный не торопится, ему приятно посидеть в тепле, поговорить о вчерашних новостях. Минут 5 он так сидит, потом встает и поворачивается спиной, расставив ноги. Ему на плечи набрасывают один сухой и горячий бушлат, на него второй и третий, через руку перевешивают связку ватных чулок, через другую связку обуви. Он навьючен до того, что сам уже не в состоянии отворить себе двери. Распахивают пред ним дверь, говорят: «не споткнись на пороге», и дневальный, как доисторическое чудовище, бредет, согнувшись в три погибели, под своей ношей...
В полчаса разобрана вся сушилка. Сереет день... Сушильщики ложатся до 8,т. е. до завтрака.
На поверку нас не вызывают. Дважды в день, утром и в 5 часов пополудни, стрелок или помощник нарядчика кричат издалека: «Эй, сколько вас там?» - Арон-кипятилыцик или кто-нибудь из нас, быстро проверив, сколько людей у соседа, кричит из двери:«четверо!» или «пятеро!» - и на этом конец. Но выйти нам из дверей нельзя, пока не кончится проверка, и мы не услышим издалека отбой.
В 9 часов начинают сносить белье. На лагпункте две прачечные, общая и больничная. Там же стирают и вольным. Белье у всех одинаковое: грубый миткаль с клеймом лагеря или Санчасти, рваные рубахи, кальсоны в клочьях, желтые простыни, серые гимнастерки, синие майки. Женщины носят то же казенное мужское белье. Огромные узлы белья связаны жгутом, свернутым из пары кальсон. Если открыть днем дверь в сушилку, из-за непроницаемой завесы мокрого белья, не видно ни окна, ни стен. Мыло в лагере - величайшая редкость, и потому белье, постиранное без мыла или с помощью чернозеленой мази, напоминающей деготь, почти так же грязно, как до стирки. За бельем надо следить в оба, а то стянет какой-нибудь незваный гость.
Осенью и весной много работы. Зато летом сушилка отдыхает. Если днем не дождило - сушить нечего. Белье бывает не каждый день. Тогда сушилка - дача. Два инвалида живут в ней уединенной жизнью. Сюда редко заходит начальство. Нет ни радио, ни электричества, ни суеты барака. Провинция, глушь. В полдень Коберштейн и Марголин сидят на завалинке, греются на солнце. Внутри сушилки чисто и пусто.
Настали теплые дни. Моя помощь больше не нужна была Густаву. Я продолжал еще жить в сушилке. Но теперь главное мое занятие было другое. Я стал бригадиром хроников.
Два атрибута бригадирской должности это - фанерная дощечка со списком членов бригады и хлебный ящик.
Обыкновенно бригадир и его рабочие помещаются вместе, одной семьей. Но мои хроники были разбросаны по всему лагерю. Было их от 20 до 30. В АТП и в женском бараке, в рабочих бараках - всюду были мои люди. День бригадира начинался рано. Я вставал за 1/4 часа до подъема, выходил на двор, умывался из кружки, и с хлебным ящиком на груди отправлялся на другой конец лагеря. Под окном хлеборезки уже стояла очередь. Окно было заперто. Только когда с вахты доносился сигнал побудки, подымалось фанерное оконце, и из-за него высовывалась здоровая и широкая физиономия хлебореза Сени. - «Подходи за хлебом!»
Хлеборез - аристократ и богач лагпункта. Живет он в АТП и ест хлеба сколько хочет. С вечера продтабелыцик дает ему точный расчет паек по бригадам. За ночь хлеборез с помощником нарезают в Круглице около 700 паек разного веса. Со мной ему меньше всего хлопот. Мои хроники получают все по 500 гр. Кто работает физически - 550. Таких - человек 8. Работа сушильщиков не считается за физическую, т. е. мы с Коберштейном ничего не получаем за нее. Почему же мы работаем? Во-первых, чтобы не отправили нас, как неработающих, в этап куда-нибудь в гиблое место. Во-вторых, чтобы иметь возможность клянчить на основании нашей неоплаченной работы в Санчасти «цынготный» паек. Таким, как мы, дают его в первую очередь. Раз в месяц выписывают мне или Коберштейну, или обоим вместе «цынготный» на две недели. «Цынготный» в Сангородке Круглица исключительно хороший: 200 гр. брюквы, сдобренной постным маслом.
Вернемся к хлеборезу. Утром я получаю на всю бригаду одинаковые пайки, по 200 гр., и талоны на питание. После полуденной поверки, в 5 часов, я получаю «малые» пайки по 300 грамм, а для моих 8 «работников» - по 350 гр. - «большие» пайки. Получив хлеб и расписавшись, я несу свой ящик в сушилку. Есть лагпункты, где ходить с хлебом - опасно. Бригадира сопровождает охрана из членов его бригады. Но у нас на Круглице - все культурно и прилично. Я иду один, и по дороге, завидев меня, выходят из всех бараков мои хроники. Когда я подхожу к сушилке, за мной тянется длинный хвост хроников.
Начинается раздача хлеба. Тут тоже своя техника. Прежде всего, следует так поставить ящик с хлебом, чтобы получающие не видели его, не лезли руками и не тыкали пальцами: «Этой пайки не хочу, та лучше». Иначе споров не оберешься. Заключенные как дети ссорятся из-за паек.
Двухкиловые бруски хлеба режутся хлеборезом на 10 паек по 200 грамм. Две из них - «горбушки». Горбушки считаются самыми лакомыми и выгодными, и каждый зэ-ка требует для себя горбушку. Надо каждый день так распределять горбушки, чтобы никого не обидеть. Есть еще разница между пайкой целой и сложенной из кусочков. Одни пайки бывают со срезанными углами, другие - с «приколками». Крошечный довесок хлеба приколот деревянной палочкой к пайке. Иногда, чтобы выравнять вес, нужны 2-3 приколки. В 700 пайках, нарезанных хлеборезом, содержится как прикол целое полено. Получив, пайку, зэ-ка подозрительно вертит ее в руке: не снят ли довесок? Иногда в хлебе дырка: значит, была приколка, которая упала или кем-то украдена. Редко какая раздача обходится без горячего протеста: «разве это 200 грамм? разве это триста грамм?» Иногда обиженный зэ-ка засатвляет бригадира сходить с ним в хлеборезку - проверить вес. Поэтому бригадир хорошо сделает, если внимательно пересмотрит получаемые пайки, и если есть малейшее сомнение, на месте потребует перевесить. Иногда, таким образом, удается своевременно обнаружить недохватку в 10 или 20 грамм.
Какой же расчет бригадиру в такой жалкой бригаде, как хроники, тратить даром свое время? Другое дело - рабочая бригада: там бригадир не работая пишет себе проценты, стахановский котел. А из-за чего хлопочет бригадир хроников? Я этого не понимал, пока сам не занялся бригадирством. Секрет выяснился очень скоро. Хлеборез - парень здоровый, но неученый - регулярно ошибался в выдаче паек. Наш Сеня путал постоянно. Зато я твердо знал счет паек. Если хлеборез недодавал, я подымал крик. Если он ошибался в мою пользу, т. е. передавал лишнее, я без дальних слов забирал ящик и уходил поскорей. На мое счастье, хлеборез Сеня ошибался преимущественно в мою пользу. В один незабвенный майский день он выдал мне вместо 21-ой - 28 паек по 200 грамм. По раздаче всех паек у меня осталось в ящике 7 раз по 200 грамм - кило и четыреста гр. хлеба. Я был так благоразумен, что съел их не сразу, а в два приема. В тот день я был сыт до того, что уступил свой полдник Густаву. Он не привык к такой щедрости с моей стороны, видел, что я чем-то объелся, но не мог понять, - чем и откуда?
Было очевидно, что Сеня не мне одному передавал хлеб. В Круглице было бригад пятнадцать. Как же у него сходился вечером счет? Это мне дало представление о размерах краж в хлеборезке. Там всегда был лишний хлеб. И не только там. В особенности грандиозно крала пекарня. Там ставились ведра с водой под тесто, чтоб оно разбухло от влаги, - крали на проценте влажности и на припеке. Никакой контроль и анализ хлеба не помогал. Контроль качества выпечки производили те же голодные зэ-ка. Некому было контролировать контролеров.
В то лето я съел много лишнего хлеба. Всегда что-нибудь случалось. То ошибался хлеборез, то продтабельщик забывал в срок снять со снабжения хроника, положенного в больницу или усланного в этап. Таким образом, я питался насчет беспорядка и несовершенства лагерного механизма. Все мы были в лагере опутаны сетью и беспрерывно искали в ней какую-нибудь лазейку. Мы жили как человек, запертый в корзине, - за счет того воздуха, который пропускают стенки. Я уяснил диалектику советской легальности, которой не только в лагерном, но и во всесоветском масштабе противостоит мелкая, мышиная нелегальность частного существования. Для того, чтобы люди могли выжить, - беспощадная эксплоатация человека государством беспрерывно уравнивается столь же беспощадным и повальным расхищением государственных ресурсов всюду, где представляется малейшая возможность, в согласии с ленинской формулой: «грабь награбленное!» - В системе монопольного государственного хозяйства, где не действует автоматически регулятор конкуренции, коррупция неизбежна.
Считалось само собой понятным, что лагерник без церемонии съедает каждый кусок хлеба, который государство по ошибке ему передало. Надо смотреть при выдаче, но если случилась ошибка - поздно уже требовать. Понятно, что хлеб уже съеден. Виноват тот, кто ошибся при выдаче - и он молчит. Смешно требовать от хлебореза Сени, который сам ест хлеб без счета, чтобы у него сердце болело за «социалистическую собственность». Для охраны государственных интересов существует прокуратура, НКВД и органы контроля. В системе, обрекающей миллионные массы на беспрекословное повиновение и недоедание, нет возможности положить конец универсальным злоупотреблениям. Для этого есть только один путь: перестать мерить хлеб на граммы, а население лагерей - на миллионы.
Получив хлеб, хроники не расходились. Они садились под дверью сушилки и терпеливо ждали, пока позовут их на завтрак. Очередь хроников была после рабочих бригад. Летом 44 года в Круглице уже функционировала столовка, индивидуальных выдач не было, питались побригадно. Когда я приводил свое воинство к столовке, там еще было полно. Мы кучей стояли у входа и ждали, пока нас позовут. Помещение было то самое, где вечером происходили киносеансы. Мы располагались у стены, за 6-7 столиками, по четыре при одном столике. Бригадир рассаживал, считал своих людей, посылал за опоздавшими.
Столовка сообщалась с кухней - туда вела дверь и два окошка для выдачи в стене. Когда уже все были в сборе, бригадир становился при окошке в кухню, и начиналась выдача. «Официантки», т. е. работавшие на кухне женщины, клали деревянные ложки, ставили в глиняных мисках суп (поллитра), потом по 200 гр. жидкой кашицы. В четверть часа все было кончено, люди выходили, а некоторые оставались на месте. Чего ждали остающиеся?
Хроники не были последние к завтраку. После них еще завтракали «придурки», люди конторские, начинавшие работу в 9.
Некоторые из них, вроде продкаптера или завпекарней, были сыты и брезговали лагерной баландой. После них оставались остатки в мисках. Женщины из портняжной, прачечной и конторы часто ели только кашу и оставляли суп нетронутым. Под конец садились завтракать работницы кухни. Эти завтракали только для виду. Они брали себе полные миски баланды, пробовали несколько ложек и потом отдавали кому-нибудь из тех, кто сидел у стены и смотрел на них упорно и тоскливо. Обыкновенно каждый из ожидавших имел кого-нибудь, кто отдавал свой суп именно ему. Этих ожидающих «попрошаек» беспрестанно гнали из столовой с пинками и руганью, но избавиться от них было невозможно.
Их выгоняли, а они через пять минут возвращались, прокрадывались мимо дневального и садились опять в уголку. Доходяга, окинув глазом столовку, сразу соображал, возле кого сесть, где есть шанс поживиться. Особенно выгодно было сидеть возле Гошки, заведующего изолятором. Одна из подававших женщин была влюблена в Гошку. Он садился с небрежной грацией, казацкий чуб вился над его смуглым лицом, женщина ставила ему с покорной преданностью полную миску и сама присаживалась, чтобы посмотреть, как он ест. А он и не смотрел - ни на нее, ни на миску, брал ложки две и оглядывался, кому бы отдать. И все тогда принимали необыкновенно достойный вид и старались смотреть в сторону, потому что Гошка не любил попрошаек и никогда не давал тому, кто смотрел на него умоляюще. Когда моя бригада кончала завтрак и расходилась, наступала моя очередь. Я не ел за столом и получал в котелок двойную «бригадирскую» порцию супу. Нет такого закона, чтобы давать бригадирам два черпака супа вместо одного, но в Круглице такой обычай существовал с ведома и согласия начальства. Дважды в день, утром и вечером, я получал добавку.
После завтрака я садился с Коберштейном демонстративно у дверей сушилки: груда еловых ветвей лежала пред нами, и у ног большой ящик. Это было нужно, потому что в качестве бригадира я регулярно выписывал себе и Густаву за щипание хвои рабочую пайку, т. е. лишних 50 грамм хлеба, которых мы не зарабатывали своей работой в сушилке. Это была фикция. Хвоевар ежедневно расписывался в получении хвои от 3-4 человек, а фактически работал 1-2, а иногда и вовсе не было желающих.
В 5 часов я получал у нарядчика бланк «рабочих сведений» и заполнял его, отмечая тех хроников, которым полагались лишние 50 грамм. Одних «проводили» через ЧОС, других через коменданта или еще иначе. Это была сложная процедура. Чтобы «оформить» хвоещипателей, я должен был получить квитанцию хвоевара, а на квитанции - резолюцию Гордеевой или старшего бухгалтера ЧОС'а. Если же Гордеева вечером не приходила в ЧОС, а лысый армянин-бухгалтер капризничал и не подписывал мне бумажки, то одна квитанция хвоевара не имела силы, и мы за этот день не получали добавки хлеба. На второй день я шел к Гордеевой требовать записку на недополученные 50 грамм. И хотя нам их вообще не следовало, потому что никто хвои не щипал, но если посчитать часы, когда я дежурил в ЧОСе, ругался с бухгалтером, объяснялся с Гордеевой и искал на кухне хвоевара, то выйдет, что эти 50 гр. хлеба стоили гору времени, энергии и нервов. На бумаге все выглядело гладко: один зэ-ка, два кило хвои, 50 гр. хлеба. В действительности не было ни хвои, ни труда, ни нормальных трудовых отношений, - были несчастные люди, которые барахтались в лагерной тине и тратили жизнь в погоне за лишней крошкой лагерного хлеба, который государство вырвало у других таких же несчастных людей.
Несмотря на то, что я был официально инвалидом-хроником, списанным со счетов, дни мои были полны возни. Я вставал на заре, через мои руки проходили десятки паек хлеба, узлы с бельем, корыта с хвоей, я пилил с Густавом дрова, дважды в день меня считали, по вечерам я возился с документами, раздавал талоны и бегал то за резолюцией в контору, то за керосином для сушилки к коменданту. Особенное волнение подымалось в бригаде, когда выдавали хроникам раз в месяц по 100 гр. корешков «самосаду» и по 400 гр. «повидла» из брюквы, которое совсем не было сладко, но заменяло нам сахар. Я получал на всех сразу, одалживал весы на больничной кухне и производил дележ публично в сушилке. Месячную порцию «повидла» съедали в тот же день. «Самосад» же многие обменивали на сахар у стационарных больных, которые не получали махорки, но зато имели 20 гр. сахару ежедневно. Меняли 100 гр. корешков на порцию сахару.
Весной 1944 года произошло обострение лагерного режима: ввели «надзирателей», которые должны были поднять дисциплину в лагере и, в особенности, следить, чтобы после отбоя каждый зэка был на своем месте в бараке. Теперь, когда я поздним вечером прокрадывался в хирургический стационар к Максику, мне надо было остерегаться. Если надзиратель ловил меня на дороге, он поворачивал меня обратно в сушилку. Я выжидал минут пять и снова пускался в путь, прячась в тени. В полночь я возвращался в сушилку. В сенцах трещало пламя, внутри был нестерпимый жар, по столу, по нарам и стенам ползали полчища тараканов. На раскаленной трубе кипел котелок с водой. Котелок почернел, и вода в нем наполовину выкипела. Густав лежал голый на земле, подложив под сенник доску. Я тоже раздевался до нага и ложился на нару под окном. Голова моя кружилась от только что слышанных по радио новостей, от названий занятых городов, горячий воздух ходил по камере, тараканы шуршали, луна смотрела в разбитое запыленное окошко. Пять лет тому назад я выехал из дому. Что там теперь? Помнят ли меня еще? Вернусь ли я когда-нибудь домой? И что найду, если вернусь?
Летом 44 года я добывал себе суп на кухне и хлеб у хлебореза Сени. Нехватало овощей. До осенней уборки оставалось много времени. Однако, были овощи в лагере. Прямо против вахты стояла продкаптерка. Здесь был склад продуктов не только для зэка, но и для вольных служащих Сангородка, которые здесь получали свой месячный паек. Хранителем этих сокровищ был низенький старый еврей Кремер, краснолицый, красноглазый, со знакомой внешностью местечкового лавочника. Глаза у него были, точно он только что хорошенько выплакался. Кремер был в каптерке на своем месте. Принимал, записывал, отвешивал и выдавал, но не заворачивал, ибо ни бумаги упаковочной, ни тары в советских ларьках не полагается. Кремер спал в бараке АТП на отдельной наре и ни с кем не сходился в лагере - из-за своей должности. Дружба вообще накладывает обязанности, а на продкаптера в лагере - двойные. Всех не накормишь. Кремер был недоступен. Но я скоро нашел к нему дорогу.
В сушилку раз в неделю приносили мокрые мешки из каптерки. Мы сушили их с особым старанием, и я сам относил их в каптерку. За эту услугу обычно кое-что перепадало сушильщикам: несколько картошек, бурак, марковка. Эти мешки давали мне предлог войти в каптерку. Нормально вход туда был строжайше запрещен. Я старался так выбрать время относки мешков, чтобы застать Кремера одного. Но как же я был разочарован, когда Кремер раз и другой ничего мне не дал. В третий раз он мне сказал открыто, что мои посещения ему нежелательны. - «Пусть кто-нибудь другой относит мешки!» - «Почему?» - спросил я и получил очень характерное объяснение.
- Ты знаешь, - сказал Кремер, - что я бы охотно хотел помочь тебе. В конце концов, я кое-что давал твоему предшественнику, как его звали, Эдуард.
Это был немец. А ты еврей. И я - еврей. И поэтому я тебе ничего не могу дать. За нами смотрят со всех сторон. На другого не подумают. А если ты входишь в каптерку, сейчас подумает стрелок на вахте, инспектор ЧОСа или каждый, кто увидит: Марголин пошел к Кремеру, ага! Два еврея. И будут смотреть за тобой, пока не увидят, как ты вынимаешь из кармана эту несчастную картошку или морковку. Тогда мне конец. Снимут с работы. Охотников на мое место много.
Это была правда. Двери каптерки находились под особым наблюдением. Вблизи их дежурили доходяги, слонялись урки, выглядывали, не подвезут ли чего, не обронят ли чего случайно на землю, не высыпется ли крупа из дырявого мешка. Под дверью стояла плаха, на которой Кремер рубил мясо для вольных. К плахе прилипали микроскопические кусочки сырого мяса, их сразу же подбирали и глотали на месте. Горящие глаза смотрели на каждого, кто входил и выходил. Был риск, что меня обыщут при выходе из каптерки.
- Значит, - сказал я, - будь я немец, вы бы могли дать мне этих пару картошек. Беда, что я еврей.
Меня охватил гнев. Я боролся за свою жизнь. Человек в состоянии алиментарной дистрофии глух к голосу рассудка. Какое мне дело, что тебя прогонят? Тебе ли место потерять, либо мне умереть в этой норе от истощения?..
Этого я ему не сказал. Я даже не показал ему своего негодования. Я повернулся и ушел.
Но карманы у меня были полны картошки. Пока старик читал мне нравоучение, что еврей не должен подводить еврея в лагере, полном антисемитов, я сунул руку в ближайший мешок и под звуки его речей, пока он стоял вполоборота, набрал полный карман. У меня не было никакого сомнения в своем праве.
Кремер все-таки был старый и сердобольный еврей. Когда я перестал ходить в его каптерку, он начал мне отдавать от времени до времени свой талон на ужин. Надо помнить, что всякая помощь, оказываемая мне, была сопряжена с риском. Я не был «как все» - анонимный доходяга, тонущий в общей массе. Я имел несчастье всем бросаться в глаза. За мной следили, я был близорук, неловок, западник, странное существо. На 3-ьем году пребывания в Круглице все меня знали. Даже в сушилке я не мог спрятаться от чужих глаз, и каждого интересовало, где я добываю еду, и почему еще не умер.
Тем временем, я продолжал жить вместе с Коберштейном. С наступлением тепла мой долговязый сожитель заметно изменился ко мне. Я почувствовал, что в чем-то его стесняю. Он был похож на Паташона, но я совсем не походил на круглого маленького жизнерадостного Пата. И у меня явно нехватало чувства юмора, чтобы уравновесить меланхолическое молчаливое неодобрение, с которым он относился к моему присутствию. В чем дело? - В летние месяцы огонь нашей печки стал привлекать особых клиентов. Едва смеркалось, начинали сползаться, крадучись, темные фигуры в сенцы нашей сушилки, отворяли дверцы печки и совали внутрь котелки. В котелках была трава, грибы или ворованая картошка. Одни заходили к хозяину, и с его разрешения ставили котелок. С этих полагался «могарыч». Другие норовили поставить без спросу и улизнуть с готовым котелком, ничего не давши. Всегда кто-нибудь, как мышь, ворошился в темных сенцах, присевши на корточки у огня. Доходы от печки принадлежали Коберштейну. Он позволял и запрещал, гнал контрабандистов и ставил на огонь приносимые котелки. Я отказался от доходов этого рода. Вечером я был занят в конторе по делам хроников, а Коберштейн председательствовал в собрании под печкой сушилки при котелках. С каждого котелка сходила ему маленькая кружечка.
Но скоро оказалось, что меланхолический Паташон имел еще другой источник дохода.
Две низкие нары находились внутри сушилки.
Это были доски, положенные на деревянные обрубки. На моей наре лежала красная подушечка крестьянского полотна, привезенная из Пинска, поверх сенника набитого стружками и серого казенного байкового одеяла. У Коберштейна не было подушки, и он подкладывал под голову полено, обернутое в бушлат. Вечером, когда я уже разделся и лежал под окном, в сумраке белой ночи, в томительном жару сушилки, к Коберштейну пришли гости. Один был Митя, знакомый зэ-ка, с которым я косил прошлое лето в бригаде покойного Семиволоса. Теперь он был десятник - сделал карьеру в лагере. С ним была женщина. Они сидели втроем на наре Коберштейна и тихо переговаривались. Митя и Густав курили. Докурив, Коберштейн поднялся и пошел к выходу. В дверях он остановился.
- Спит! -- сказал он, глядя на меня.
- Нет, нет! - отозвалась женщина. - Как же так! Вы его разбудите.
Она смущенно засмеялась. Коберштейн окликнул меня и сделал знак, чтоб я вышел.
В сенях он попросил, чтоб я полчасика посидел у Арона в кипятилке.
Полуразвалившаяся сушилка на краю лагеря была лагерным домом свиданий. Это было одно из очень немногих мест, где двое людей могло уединиться, не обращая на себя внимания. Теперь я понял, почему Коберштейн с началом теплого времени забеспокоился и все меня уговаривал перейти спать в другое место. Я ему мешал. Он боялся, что я потребую свою долю.
Бедный лагерный Паташон. Он тоже, вероятно, не готовился в жизни к такой карьере, и был бы очень удивлен, если бы сказали ему в те годы, когда он был на воле почтенным отцом семейства, что так кончится его жизненный путь в «исправительно-трудовом» лагере. Я ничего ему не сказал. Через час, когда я вернулся в сушилку, он уже лежал смирно на своей наре, и никаких разговоров на эту тему у нас не быдо. Но через неделю опять пожаловали гости. Тут уж я не ждал, а сразу оделся и ушел «из дому».
А как хорошо было в сушилке! Зимой тепло, вари, суши хлеб сколько хочешь. Свой угол - без шума и грохота в многолюдном бараке, без ежедневных драк и ссор, без глаз, которые следят за тобой со всех сторон, без воров, даже без клопов. Одни тараканы... И вот, это неожиданное осложнение. Я недоумевал, как мне поступить, и куда мне теперь деваться...
А на следующий день в столовке за ужином благодарный Митя уже весело махал мне: «Хочешь супу? Я оставлю».
Я представлял себе, как это будет выглядеть месяца через два, если я останусь: два инвалида в гнусной норе, куда по вечерам сходятся гости - с котелками, и без котелков...
Это было дно падения. Отсюда оставалась мне дорога разве только на кладбище, на «72-ой квадрат». Я должен был что-то предпринять, что-то изменить в своей жизни. Но я уже не был хозяином над собой, даже настолько, чтобы выбрать самому место и условия своей смерти. Только чудо могло меня вырвать из призрачного шествия миллионов скованных и обреченных людей.
В июле 1944 года наступила резкая перемена в моей жизни.
Глава 35. Путь на север
30 мая 1944 года поступила бумага в Круглицу относительно 4 поляков, т. е. «западников», пригнанных из Польши. Предлагалось немедленно освидетельствовать их на предмет годности к военной службе в частях польской армии. Эта бумажка привела в неописуемое волнение всех круглицких поляков. Их было человек 12. Непонятно было, почему выбрали именно этих четырех. Среди них был и я.
В то лето формировалась новая польская армия под начальством полк. Берлинга на советской территории. Это была та армия, которой суждено было под верховным советским командованием пройти боевой путь до Берлина и принять участие в изгнании немцев из Польши. Организаторы ее просили советское правительство отпустить из лагерей тех польских граждан, которые могли быть использованы в рядах новой армии.
Мне оставалось еще свыше года до конца срока. Из первой «амнистии» для поляков меня ислючили под невероятным предлогом, что я - «лицо непольской национальности» (попросту - польский еврей). А теперь предлагали Санчасти в Круглице немедленно проверить мою пригодность для службы в рядах польской армии. Я не удивлялся. Это был «новый курс». Я был счастлив. Меня и других 3 поляков повели в продкаптерку, где стояли большие весы, на которых Крамер отвешивал продукты. Там установили мой вес: 30 мая 44 года я весил ровно 45 кило против 80, которые я весил до лагеря. Потом главврач Круглицы, Валентина Васильевна (вольная) осмотрела меня. И тут наступило жестокое разочарование.
Валентина Васильевна отказалась написать, что я гожусь для военной службы. Я знал, что она хорошо относится ко мне и, наверное, не хочет мне зла. Как же она могла закрыть предо мной дверь на свободу? Я умолял ее написать, что я гожусь хотя бы для нестроевой службы. Но она категорически отказалась. - Я не могу писать нелепых вещей, - сказала она. - Людей в вашем физическом состоянии не посылают в армию. Вы же дохлый. Вам надо месяцев шесть посидеть в Доме отдыха на усиленном питании, и то еще неизвестно, станете ли на ноги.
Тогда я написал заявление начальнику Ерцевских Лагерей. «Меня забраковали, - писал я, - но это неправильно. Я знаю языки. Я кончил университет и могу найти при армии применение, не требующее физической силы. Фронтовой паек быстро поставит меня на ноги, тогда как в лагере никаких шансов на поправку у меня нет. Я прошу дать мне возможность исполнить свой долг польского гражданина и антифашиста».
Все четыре поляка были признаны негодными к военной службе, и все написали заявления вроде моего, но не дождались никакого ответа.
Вместо этого пришла неожиданная перемена. В июне я потерял инвалидность. Ту самую инвалидность, с которой уже свыкся как со своим естественным состоянием до того, что забыл основной лагерный закон: «ничто не вечно». Начальство, которое сделало меня инвалидом, могло в любой момент сделать меня трудоспособным. Для этого требовался только росчерк пера. Летом 44 года ощущался в лагерях НКВД резкий недостаток рабсилы. Слишком много инвалидов! Было решено, что впредь только калеки или умирающие будут пользоваться преимуществами инвалидного положения. В Круглицу приехала комиссия для переосвидетельствования инвалидов. В полдня всех пересмотрели. «Пересмотрели» буквально. По две минуты на каждого. Мы уже знали, что приехала комиссия «упразднять инвалидов». Мне даже не пришлось раздеваться. Меня ни о чем не спрашивали и записали: «Годен к работе. 3-ья категория, индивидуальный труд».
Пометка «индивидуальный труд» была новостью. Это значит, что посылать меня на работу надо было с разбором. В каждом случае надо было присмотреться ко мне и решить: гожусь ли я именно на эту работу. Однако, я уже знал, что на практике некому будет обращать внимание на мое «индивидуальное» состояние.
После вердикта ничего фактически не изменилось. Все в Круглице знали, что как ни записывай, от инвалидов проку нет. Меня поэтому оставили жить попрежнему в сушилке и руководить бригадой хроников. Но теперь почва под ногами у меня уже была вырвана. Теперь, как «работник 3-ей категории», я мог каждый день быть снят с места и переброшен с рабочим пополнением в любой лагпункт, где требовалась Рабсила. А на новом месте, где никто не знал меня, могли меня загонять до смертельного изнеможения и катастрофы.
Что было делать? Я обратился к «уполномоченному», к представителю 3-ей, политической, части, с просьбой помочь мне получить направление на фронт, в польскую армию. Это был тот самый уполномоченный, который запретил выдавать мне сочинения Ленина, который отобрал у меня фотографию сына, который угрожал мне открыто летом 1942 года. - «Вас кормят, - сказал он мне тогда, - дают вам работу, а вы все недовольны! Таких, как вы, надо судить! - Теперь война, не до вас -- но погодите, кончится война, и мы вами займемся!» - Этого человека, который угрожал мне вторым сроком, я теперь просил о помощи.
«Ваше дело рассматривается, - ответил он: - ваше дело скоро решится.»
Утром 13 июля 1944 года пришел в Круглицу наряд на 7 человек поляков. В их числе были те 4, которых собирались отправить в польскую армию. И мы решили: это освобождение. Так сказал нам нарядчик, и весь лагерь мгновенно поверил. Все бросились поздравлять нас. Весь следующий день я прожил в лихорадочном возбуждении, во сне, сам себе не веря. Я просто не мог представить себе свободы, воображение слепло, как пред солнцем. Незнакомые люди подходили ко мне попрощаться. Максик принес подарок на дорогу: английскую книжку, повесть Джека Лондона. Сосед - в бывшей жизни профессор-бактериолог - принес белую верхнюю рубашку: у меня ничего не было, кроме лохмотьев, нельзя было в таком виде идти на свободу. Все мои вещи уложились в рюкзак, на дне лежали мои рукописи и мешочек с сухарями: кило сухарей на дорогу. После обеда я сдал казенное имущество в ЧОС. Одеяло у меня отобрали, но позволили задержать бушлат. Сдал несложные дела бригады хроников преемнику. Вечером сходил в баню - в последний раз в лагерную баню, где мылся 4 года. Не утерпел и сходил во 2-ую часть, в УРБ. Там спросили у начальницы: «Куда нас направляют? Верно ли, что на освобождение? А может быть, это только этап? Ведь вы знаете, почему не сказать нам?» Но женщина за столом завурб только сжала губы: «завтра узнаете». Она знала, но не ее дело было информировать зэ-ка о том, что их ждет. И я вышел с темным предчувствием, что все это - ошибка, страшная ошибка, недоразумение.
Последнюю ночь в Круглице я пролежал с открытыми глазами, без сна. О том, что впереди, я не думал. Это было непостижимо. Четыре лагерных года стояли предо мной, как глухая стена, как горный хребет, закрывая горизонт. Как далеко надо было отойти, чтобы их больше не видеть? Как вырвать из сердца память о погибших и тех, кто еще оставался?
Утром 15 июля вывели семерых поляков на вахту. Обыскали при выходе, как принято. Мы долго ждали, пока пришел конвойный. Прощай, Круглица! Солнце взошло высоко. Нас повели по улице поселка на переезд, там мы сели на штабеле досок, в ожидании поезда. Теперь я знал наверно, что это не свобода. Освобождаемых отправляли в Ерцево без конвоя. А мы под конвоем, значит арестанты попрежнему. Ко мне подошел стрелок, специально посланный с вахты. - «Развязывай!» - Уполномоченный велел ему вытряхнуть мой мешок и отобрать все книги. Только у меня одного. У других, он знал, книг искать не надо. Стрелок забрал у меня подарок Максика, английскую повесть Джека Лондона. На письма и тетради он не обратил внимания. Уполномоченный забыл ему сказать про бумаги.
Подошел поезд: допотопный паровозик и два вагона. Первый - пассажирский жесткий вагон для вольных. Второй - товарный - для заключенных. Он уже был переполнен. Мы вскарабкались, сняли с плеч мешки и расположились в гуще народа. Конвойные задвинули дверь вагона, и мы тронулись.
В Ерцеве сдали нас на вахте по счету, как партию товара. Мы вошли в большой лагпункт, гораздо больше Круглицы с поместительными бараками, широкой деревянной мостовой среди лагеря. Сразу от вахты в баню. Полдня мы валялись в предбаннике. Вечером отвели нас в барак для этапных.
На следующий день мы узнали, куда нас посылают. С первым эшелоном на север в Воркуту. - Семь поляков было поражено ужасом. Имя Воркуты мы хорошо знали. Воркута на севере - то самое, что Караганда на юге: рудники. Это - мерзлая пустыня, далеко за Печорой, за полярным кругом. Там, на краю света, в соседстве с Сев. Ледовитым океаном вырос город подобный Медвежегорску, столице рабского труда над Онегой. Воркута - столица Заполярья. Земля вокруг промерзла на метры в глубину и ничего не родит. Едят привозное. В течение долгой полярной ночи люди не видят солнца месяцами. Там нет вольных поселенцев. Десятки тысяч зэ-ка работают под землей, в угольных шахтах НКВД. Это самая тяжелая работа, какая бывает в лагерях, и люди, которые там заняты, получают водку и усиленный полярный паек. Шахтеру полагается 900 гр. хлеба против 550 в наших местах. Лишь бы силы были... «Поезжайте, - сказали нам, - шахтерами будете».
Я понял, что не вернусь живым из Воркуты. Вечером следующего дня позвали нас в хлеборезку и выдали по кило триста хлеба. Это был наш паек за 2 дня этапа до Вологды. Хлеб посоветовали нам сдать на ночь на хранение в КВЧ. Совет был благоразумный, т.к. в общем бараке ночью у нас бы отобрали хлеб.
Утром нас вывели из Ерцева. Перед самым выходом за ворота, в последнюю минуту отдали нам хлеб, пролежавший ночь в культурно-воспитательной части. Моя пайка была цела, но несколько человек подняло крик: их пайки были обрезаны. - «Обокрали!» - Женщина-инспектор КВЧ послала нас перевешивать пайки в хлеборезку. Нехватало в пайках по 400 грамм. Она очень огорчилась, но делать было нечего. Поздно было искать вора. Нас вытолкали за ворота и повели к поезду.
Такого поезда я еще не видел. До сих пор я ездил по России в товарных вагонах, в каких перевозят скот, с нарами внутри. Теперь я увидел настоящий арестантский поезд из «столыпинских» вагонов. «Столыпинский вагон» - это тюрьма на колесах. Он устроен как пульмановский вагон, с коридором и купе. Но окошки в нем маленькие, квадратные, находятся в коридоре высоко и забраны решетками. В дверях решетки. Купе запираются на ключ, и в каждом - скамьи в три яруса. Купе - темные. Свет поступает в них из коридора через запертую решетчатую дверь.
На этот раз было нас много. Целую колонну повели к поезду. Семеро поляков старалось держаться вместе. Нас окружили люди в кепках, с колючими быстрыми глазами, с озлобленными острыми лицами. Я уже знал, что это за публика. Я услышал, как подошли к Ковальчику, молодому парню из нашей партии, и начали расспрашивать его: кто он такой? и кто его товарищи? Ковальчик сказал: «поляки». Эти люди уже знали, что в эшелоне едут поляки и искали их. У поляков могли быть польские вещи. Теперь мы были окружены. Нам не удалось войти в одно купе. Нас разделили.
Еще до посадки в вагон Ковальчик и другие поляки съели весь хлеб, выданный на 2 дня. Я заупрямился. Одно из моих чудачеств было - оставлять хлеб на вечер. Я решил не касаться хлеба до наступления темноты.
Едва тронулся поезд, соседи стали теребить у меня красную подушечку крестьянского полотна, которая от пинской тюрьмы сопровождала меня во всех странствиях. До сих под воры пренебрегали ею. - «Дай под голову!» - Но я не выпустил ее из рук. Конвойный стоял под решеткой двери. Меня оставили в покое. В полдень мы прибыли в Вологду.
Поезд с заключенными остановился, не доходя метров 200 до вокзала. Выходя, мы видели издали циферблат вокзальных часов, перроны, толпу - все, как во сне. Конвойные окружили нас и погнали через рельсы в обход станции. Мы вышли на длинную улицу с маленькими деревянными домишками и булыжной мостовой. Это был областной город Вологда, где сто лет назад жил в ссылке Герцен. Теперь в Вологде была улица им. Герцена, а по ней пылила длинная колонна советских зэ-ка. Сосед мой был бос. Мы шли долго, и я изнемог в строю, стал отставать, меня толкали. Каждую секунду я ожидал увидеть высокий палисад и вышки лагпункта. Редкие прохожие на окраине города отворачивались, не глядя на нас. Наконец, мы свернули с улицы, дорога поднялась в гору, и мы увидели пред собой массивное белое здание, построенное еще в царские времена. Это была Вологодская пересыльная тюрьма.
Люди, шедшие с нами, видно, не в первый раз приходили сюда. Они приветствовали тюрьму, как старого знакомого. У входа встретил их комендант Володя (заключенный) и принял, как старых друзей. - «Здорово Ваня! Здорово Петя!» В мгновение ока - перемигнулись, пошептали .- и нас семерых отвели в тесную камеру-погреб, с окошечком сверху. Вслед за нами вошло еще несколько «друзей коменданта», в кепках и с видом апашей. Тут были и Ваня, и Петя, и те, кто в поезде рвал у меня из рук мою подушечку.
Едва закрылась дверь, и мы расположились на полу, в полутемной сырой и пустой камере, как начался грабеж. Деловито и просто, как если бы это было самой естественной в мире вещью, отобрали у нас наши пожитки, мешки и сумки. Ваня, стоя на коленях, развязал мой рюкзак и стал по очереди выкидать оттуда вещи. Я к нему рванулся. Его товарищ придержал меня за плечо.
- Сиди тихо! А то хуже будет!
Я смотрел с бессильным бешенством, как они делили между собой мои вещи. Не только хлеб, выданный на 2 дня, но и кило сухарей, которые я себе собрал на дорогу, были съедены во мгновение ока.
- А вот это моя думка будет, - сказал один, любовно поглаживая красную подушечку крестьянского полотна, которая ему приглянулась еще в вагоне. - Хорошая думка, братцы.
Все семеро поляков были ограблены дочиста. Нам оставили только лохмотья. С меня сняли чистую белую рубашку, которую мне дал «на волю» круглицкий профессор. Вместо нее бросили мне казенную рваную и грязную рубаху.
- Пикнете - убьем.
Я лежал на полу, оглушенный, испуганный и пристыженный. - Деньги есть? - подошел ко мне один из урок. - Отдай деньги, а то хуже будет, если сами найдем.
Он ощупал меня, вывернул карманы, ничего не нашел и махнул рукой.
Смеркалось. Урки начали бешено колотить в дверь. Немедленно кто-то подошел к глазку с другой стороны. - Чего надо?
- Скажи на кухне, - прокричал Ваня через дверь, - что мы голодны! Пусть принесут чего, а то голову оторвем...
Наступило молчание. Через десять минуть снова началась канонада в двери. Опять кто-то подошел к двери. - Чего вам?
- Жрать сию минуту! Забыл?
- Да нет ничего. Только суп остался.
- Тащи суп.
В этот день нам не полагалось никакого питания в Вологодской тюрьме. Но, к моему удивлению, им принесли в большой посудине суп, который они съели впятером. Шестой, который был с ними, не принадлежал к их кампании. Это был их «пленник» - человек с интеллигентным лицом, не принимавший участия в грабеже и разделе добычи.
Этот шестой был молодой ленинградский врач Вахрамеев. Он был совершенно терроризован своими спутниками.
- Видишь, - говорили они ему, - мы с тобой обошлись благородно. Вещей у тебя, почитай, и не тронули. Взяли мелочь. А почему? Нам с тобой дорога одна - Воркута. На месте, коли жить будешь с умом - никто тебя не тронет. Ты врач, ты нам пригодишься, а мы тебе. Знаешь, какой закон в лагерях? С нами надо жить в мире, от нас нигде не спрячешься...
Вахрамеев, еще совсем молодой человек, со страхом смотрел на них. Он был новичок, только из тюрьмы. Они его «воспитывали».
- Вот, допустим, пожалуешься начальству. Ну, заберут тебя от нас в соседнюю камеру. Так там те же люди сидят. Я через стенку стукну, скажу «давите гада» - и задавят тебя в два счета. Живой до Воркуты не доедешь. Это помни.
Весь остаток дня, сытые и довольные удачей, они похвалялись своими воровскими подвигами, необыкновенной удалью, и муштровали Вахрамеева. И уже кто-то из ограбленных поляков, молоденький, подобрался к ним - «господам положения» - и начал втираться в кампанию. До вечера они рассказывали похабные истории, а он льстиво смеялся, подвигался поближе, вставлял свои слова - он уже был наполовину их.
Ночью разбудил меня Ваня. Все спали кругом. Он ждал этой минуты, вытащил мешок из-под моей головы, и еще раз перетряхнул. На этот раз ему удалось найти 109 рублей - всю сумму, которую собрали мне на дорогу друзья, думая, что я иду «на волю».
- Хитер ты, хитер, - пробормотал Ваня и оглянулся на спящих товарищей, - да от меня не спрячешь. А теперь смотри, молчи.
Таким образом, он утаил эти деньги от своих товарищей, чтобы не делиться с ними. За эти деньги можно было купить стаканов пять табаку-самосаду.
Два дня я лежал без хлеба. На второй день принесли нам обед. Суп и кашу. Еду подавали через окошко в двери. Поляков не допустили к окошку. Нашу еду приняли урки. Они отдали нам суп, жидкий как вода, и по одной порции каши на двоих. Таким образом, им досталась половина нашей каши. Потом им принесли еще добавку. Мы могли убедиться, что это, действительно, грозные люди. Даже персонал тюрьмы их боялся. В действительности дело было не в боязни. Комендант Володя был их человек, такой же, как они. Он им подводил людей для грабежа, а они с ним делились: обычная в лагерях «кооперация».
В нашем «продовольственном аттестате» была отметка, что мы получили довольствие на 2 дня. Поэтому хлеб полагался нам в вологодской тюрьме только с 3-го дня. Мы были ослаблены постом и еле-еле дождались третьего дня. Только в час дня отворили окошко и выдали каждому на руки его пайку. Я принял бережно хлеб, как величайшую драгоценность, но не успело окошко закрыться, как Ваня подошел к нам:
- Пайку пополам!
Я не сразу понял, чего он хочет, до того я был далек от мысли, что люди, которые отняли у меня хлеб за два дня, могут на третий день сделать то же самое. Хлеб - самое основание жизни. Я смотрел в оцепенении, как поляки послушно отдавали свои пайки, как им ножичком разрезали пайку и оставляли половину, взглянул на эти разбойничьи наглые лица, и горячая волна негодования и ненависти поднялась во мне, кровь хлынула в лицо.
- Не дам! - сказал я тихо и раздельно Ване.
Я был ко всему готов. Я их перестал бояться. Эту пайку могли у меня взять только с жизнью. Я сунул ее в бездонный карман своего бушлата и приготовился защищать ее, как раненая медведица детеныша.
Я увидел совсем близко угрожающее, отвратительное, с оскаленными зубами лицо хулигана. Он взял меня за горло. Я не мог оторвать этих пальцев - и тоже вцепился ему в глотку, в волосы. Мы оба рухнули на пол.
Он был молод, а я - полуживой инвалид, кожа Да кости. Мои очки, связанные веревочкой, слетели в сторону. Он подмял меня под себя, и я напрасно старался содрать со своей шеи эти 10 железных пиявок. Я начал задыхаться. Рот мой открылся, из него вырывалос хрипение, нечленораздельные слова, пополам со слюной. Колени поднялись, но грудь не могла втянуть воздуха.
Он душил меня спокойно и медленно, а под стеной сидело в ряд шесть поляков и безучастно смотрело, храня строгое молчание.
Я испытал детское изумление от сознания, что меня могут удавить в камере полной народа, и ни одна рука, ни один голос не подымутся в мою защиту.
Камера была полна моего хрипения. В мозгу моем встало отдаленное воспоминание о том, что я изучал когда-то философию на Западе, и этот хрип, если бы его перевести на человечий язык, значил: «Меня! Меня, доктора философии! Меня, кладезь премудрости, образ и подобие Божие!»
Я пережил то, что предшествует смерти от удушения, и дошел до затмения сознания. Мои мысли распались, но тело, напряженное как лук, еще держало жизнь, как невыпущенную стрелу. Через одну очень долгую минуту я услышал чей-то голос в тумане:
- Год за него прибавят, ребята, и то не стоит...
Я понял, что свободен. Я, один из всех, не отдал хлеба. Я вскочил и кинулся к двери. Я стал бить в нее ногами и кулаками, дико крича: «Убивают!» - А за мной кричали урки: «Он с ума сошел!»
С другой стороны двери, в глазке, показался живой человеческий глаз, и я услышал или понял: - «Мы все видим!»
Но никто не открыл двери и не вошел в камеру.
Тогда вскочил один из парней и со всего размаху швырнул в меня мой собственный железный котелок. Я не почувствовал боли. Я схватил этот котелок и швырнул обратно в его голову. Я промахнулся, и котелок шваркнулся о голову соседа, ударился в стену и с лязгом отлетел на средину камеры. Ушибленный вскочил, посмотрел на меня - и снова сел.
Победа была за мной. Теперь я как будто сорвался с цепи. Я осыпал их неистовой бранью. Заодно и своих товарищей - поляков:
- Сволочь, трусы! Вас больше, а вы позволяете издеваться над собой этим подонкам! - Два дня подавленного бешенства унижений и страха выходили из меня с дымом и грохотом обвала.
- Уймись! Не раздражай!
Через полчаса я увидел, как двое из них подошли к поляку и стали стягивать с него ботинки. Это был больной, чахоточный сапожник, из Круглицы, и все его состояние были эти кожаные ботинки. Он расплакался. Слезы текли по его безволосому бабьему лицу.
Но я еще был полон боевого подъема. Я подошел, и не сказал, а распорядился:
- Верни ему ботинки!
- Что? - сказали ребята. - Командовать собираешься, дохлый жид? Все равно, пришьем. Не доедешь живой до Воркуты.
Они забрали ботинки и ушли в свой угол. - Не реви, psia krew, - сказал я со злостью сапожнику: - Получишь ты свои ботинки обратно.
Под вечер вошел в камеру дежурный надзиратель в форменной фуражке. Мы стояли в шеренге. Когда он просчитал нас и повернулся уходить, я выступил вперед:
- Разрешите сделать заявление.
- В чем дело?
- Прошу перевести меня немедленно из этой камеры.
- Почему?
- Здесь моя жизнь в опасности. Дежурный поднял брови и свистнул.
- Ишь ты! - удивился он:
- А кто еще хочет уходить из этой камеры? Шестеро поляков дрогнули и, как один человек, выступили из шеренги. Вахрамеев, ленинградский врач, затрепетал как птица, пережил момент колебания и вдруг, набравшись смелости, шагнул вперед.
- Я тоже... меня тоже возьмите.
Дежурный посмотрел на пятерых оставшихся и все понял.
- На что жалуетесь? Мертвое молчание.
- Гражданин дежурный, - сказал я. - Разве вы не видите, что они все терроризованы этой бандой? В их присутствии они ничего не скажут. Возьмите их в другую камеру, там небось рты поразвяжутся.
- Забирай вещи, выходи.
И нас перевели в пустую камеру, в том же коридоре напротив. Дежурный вызвал коменданта. Теперь все оживились, точно проснулись. Посыпался град жалоб. Комендант составил список вещей, ограбленных у нас за последние два дня. Все они никуда не могли деваться из камеры, где мы сидели вместе.
- А 109 рублей, - сказал комендант, - и искать не надо. Вчера я получил от этой компании 130 рублей на покупку табаку. Еще я удивлялся, где они деньги украли.
Через час отворилась дверь и бросили нам кучу вещей на пол. Поляки разобрали свои вещи во мгновение ока. Сапожник получил обратно ботинки, а я - красную подушечку крестьянского полотна. Мы были так обрадованы, что махнули рукой на странное обстоятельство, что некоторые вещи так и не нашлись. Это уже был гонорар для коменданта Володи.
- А деньги? - спросил я наивно.
- Я ж тебе сказал, что деньги у меня. Получишь потом.
Это «потом» так и не наступило. Оставшись в камере одни, мы ликовали и смеялись как дети. С нас точно бремя свалилось. Один из поляков подошел ко мне, пожал руку и поблагодарил за успешную интервенцию. Я расположился рядом с доктором Вахрамеевым, который тоже заметно повеселел. Два дня мы провели с ним вместе в дружеской беседе, после чего наши пути разошлись навсегда. Это был очень милый человек, и я надеюсь, что он и по сей день еще здравствует в Советском Союзе, в одном из лагерей Севера, уже не как новичок, а как опытный, закаленный зэ-ка.
Одного я опасался - как бы в дальнейшем не оказаться в слишком близком соседстве с «Ваней и Петей».
Через 2 дня мы покинули Вологду. Нас вывели во двор пересыльной тюрьмы, партией в 50 или 60 человек. Пятеро бандитов из нашей камеры - в первом ряду. Я стал от них подальше, сзади. Началась обычная процедура перед отправлением этапа. Во дворе поставили столик, за ним село начальство, мы подходили по одному и раздевались догола.
Тут, во дворе Вологодской пересыльной тюрьмы, 22 июля 1944 года, и произошло то, чего давно уже следовало ожидать.
Стрелок с рябым равнодушным лицом вытряхнул мой мешок и нашел пачку с бумагами. Там были письма моей матери, в том числе и то, где она писала о последних днях жизни моего отца. Это было последнее письмо, которое я получил в лагере ББК от старой женщины, за 1/2 года до ее мученической смерти от руки немецких убийц. Это письмо, которое было для меня реликвией, и пачку листов - рукопись моих 3 работ: «Теория Лжи», «Учение о Ненависти» и «О Свободе» - взял, не глядя, человек с сонным тупым лицом. Мне не полагалось иметь при себе никаких бумаг. Никто не интересовался их содержанием. При мне все выбросили в грязь, в кучу мусора. Я, голый, стоял рядом и смотрел, как исчезли 3 года моей мысли и труда - не советского нормированного труда, а того, который родится однажды, без позволения и без предупреждения, в одиночестве, - и так же неповторим, как жизнь, породившая его.
Пропала книга! - и никогда уже, ни мною, ни кем-либо другим она не будет написана так, как создавалась в те годы, когда не было под рукой ни библиотек, ни самых элементарных удобств, когда каждая строка добывалась с бою и была вызовом судьбе. Пропала книга, писанная в лагере, в страхе, с оглядкой и с соблюдением всех предосторожностей, которую годами надо было укрывать от обысков и шпионов. Пропал трагический и странный парадокс - книга о лжи, писанная среди лжи, книга о ненависти, писанная среди ненависти, - книга о свободе, писанная в заключении. В продолжение лет я, как ребенка, носил ее с собой, - и она росла с годами мучений, пока плоть моя убывала, точно вся моя жизнь переходила в нее. 28 глав «Учения о Свободе» были, наверное, единственным в истории литературы документом, где рациональный анализ неразличимо сливался с безумием, а жизнь со смертью, стоявшей неотступно за плечами. Никогда не повторятся для меня годы, проведенные в мрачном плену, и никогда я не буду в состоянии ни восстановить хода той мысли, ни отделить ее от условий, в которых она родилась. Другие времена, другие песни!.. Пропала книга! Ясно, нельзя писать книг в лагерях. Но разве это единственная книга, которая пропала в мире? Над могилой миллионов, над свежим пепелищем, над океаном человеческой крови и злодеяний за нами, вокруг нас и в будущем - разве место и время вспоминать об одной единственной книге?..
Уходя со двора Вологодской тюрьмы, я увидел при столе начальства коменданта Володю и вспомнил про мои 109 рублей.
- Где деньги, которые вы задержали?
Он засмеялся мне в лицо. Я повернулся к людям за столом:
- Этот человек забрал у меня деньги! Велите отдать!
Но и они засмеялись, и кто-то заметил мне:
- С кого спрашиваешь? Ведь он заключенный. Не надо было из рук выпускать.
Глава 36. Котлас
Двое суток тянулся арестантский поезд из Вологды на северо-восток. По утрам конвой раздавал нам суточное питание: 500 гр. хлеба и кусок соленой рыбы. Пища нас оглушала. Поев, мы тяжелели и засыпали.
Мое место было на полу под лавкой. Туда я заползал, вытягивался и проводил долгие часы во мраке и оцепенении, в дремоте и свинцовом сне без сновидений. Полдня мы спали, полдня томил нас голод и жажда. Еды уже не полагалось до следующего утра, но воду мы получали на станциях. Тогда конвойный, набрав ведро, обходил клетки с людьми и, приоткрыв дверь, наполнял наши котелки и кружки. Мы пили много и жадно, а потом начиналось нытье: «стрелочек, оправиться»...
25 июля 1944 г. привезли нас в Котлас, город на берегу Сев. Двины, с населением тысяч в 15. Это центр «Котласлага», а кроме того перевалочный пункт для масс заключенных, направляемых отсюда в лагеря Печоры и Заполярье. Мы стали в нескольких километрах за городом. Вдоль нескончаемых деревянных складов, амбаров, сараев, лачуг и бараков повели нас к назначенному месту. Мы дошли до вахты. Все та же картина, в бесконечных тысячах вариантов, всегда одна и та же, в любом углу, на всем протяжении гигантской страны: ограда из деревянных кольев с колючей проволокой, массивные деревянные ворота и домик охраны, мимо которого проходят в лагерь.
- Ложись! - скомандовал конвоир и одним этим словом подкосил нас, как траву в поле. Мы, как стояли, повалились на землю. Так мы лежали довольно долго, в ожидании человека из УРБ, который должен был принять нас...
Первое, что я увидел, войдя с партией этапных в ворота Котласского перпункта, были знакомые плечи. Невозможно было ошибиться. Только один человек в мире имел эту линию плеч и манеру откидывать голову. Я ускорил шаги, поровнялся, заглянул в лицо. Теперь я знал, что я спасен. Эта встреча была - спасение.
Предо мной стоял д-р Шпицнагель - тот, который три года назад выручил меня в Круглице, положив на 3 дня в легочный стационар - тот самый, с которым мы вместе бастовали и сидели в карцере на первой Осиновке в сентябре 1941 года.
- Шпицнагель! - Он обернулся и - протянул мне обе руки.
Этапных загнали в «клуб» - деревянный домик на краю лагеря - потом повели в баню. Но еще до того Шпицнагель забежал в клуб, посмотрел на меня, поахал, а когда узнал, что меня везут в Воркуту, рассмеялся.
- Здесь конец твоей дороги, дальше не поедешь.
Шпицнагель сам не мог удержаться в Котласе, и его через неделю услали оттуда. В течение этой недели он вырвал меня из этапной массы и обратил на меня внимание врачей, которые просматривали в котласском перпункте проходящие эшелоны. В Котласе еще раз переломилась моя лагерная жизнь, и здесь я «сошел под землю» - исчез с поверхности лагеря, чтобы через 10 месяцев выйти к солнцу, к свету, на волю - воскреснуть из мертвых.
Август пришел, с холодными ночами, но днем еще было тепло. Каждый день прибывали к нам новые партии, и каждый день заседала комиссия в Санчасти, которая проверяла прибывших. Некоторых сразу отправляли дальше, некоторых оставляли «на поправку». Среди оставленных был и я. Этих последних каждые несколько дней вызывали на комиссию, чтобы проверить, достаточно ли они уже поправились, чтобы продолжать дорогу на север или в окружающие лагеря.
Территория перпункта делилась на «зоны». Налево от вахты располагались «коммунальные» здания: клуб, баня и прачечная, кипятилка, санчасть, кухня, хлеборезка и контора. Тут же был и карцер. Направо от вахты тянулись с двух сторон деревянной мостовой низенькие госпитальные бараки. Здесь их называли «корпусами». Этот госпитальный участок замыкался с двух сторон воротами; ворота запирались на время поверок. Больные не могли тогда выйти из своей зоны, а здоровые зэ-ка не могли войти в нее. При воротах стояли «вахтёры» и регулировали движение: одних пропускали, других задерживали. За госпитальной зоной находился женский барак, несколько этапных, и в самом конце нечто для меня новое: «БУР».
БУР (т. е. барак усиленного режима) стоял за отдельным забором в отдельном дворе и был наглухо заперт 24 часа в сутки. Ключ от калитки имел комендант или вахтёр при двери. В БУРе жили каторжане.
Каторжане - новая лагерная формация, выросшая в результате войны. По следам Красной Армии, очищавшей территорию Сов. Союза от внешних врагов, двигалась армия НКВД, которая очищала ее от внутренних врагов. При этом врагов действительных, т. е. активных помощников оккупанта, вешали и расстреливали. Но оставалась еще масса населения, которая запятнала себя сотрудничеством с немцами. Все, кто пошел на службу к немцам, кто хорошо с ними уживался, кланялся им низенько или выказал довольство уходом большевиков. Всех таких людей, а было их очень много, теперь выловили, и для них воскресили старое царское наименование: «каторга». В то время, как для обыкновенных политических по ст. 58 максимум заключения составляет 10 лет, для этих установили 2 срока: 15 и 20 лет. Другими словами, вырвали их из жизни. Миллионная волна каторжан хлынула в лагеря, и с этим рассеялись иллюзии тех, кто надеялся, что в повоенной России лагерная система будет ликвидирована или, хотя бы, смягчена.
«Каторжане» - означают ренессанс лагерной системы, свежий приток рабочей силы не на год-два, а надолго. Они пришли во-время. Здесь, в перпункте, было особенно очевидно страшное физическое вырождение лагерного населения под конец войны. Прибывавшие каждые несколько дней эшелоны состояли из полукалек, бывших, настоящих и будущих инвалидов. Алиментарная дистрофия косила людей. В Котласе я увидел женщин, которых не было в сельхозной «богатой» Круглице: их вид потряс меня. Ничего женского уже не оставалось в них. Это были костлявые тени, с руками и ногами как палочки, в зловонных лохмотьях и грязном тряпье. Можно было смело их сфотографировать и подписать: «жертвы немецких зверств, освобожденные в Берген-Бельзен войсками союзников». Это был грозный знак: женщина «доходит» всегда в последнюю очередь уже после мужчин. И действительно, скоро мне рассказали о страшных местах вокруг Котласа, о лагпункте, где на 2400 чел. 1600 лежало не вставая, и ежедневно умирало по 30 человек. Советская власть посылала туда врачей и лекарства, но не касалась корня лагерной системы, которая всегда была связана с систематическим вымиранием истощенных людей. Люди на месте не много могли помочь. Убийцы заключенных - находились в Москве и в каждом пункте земного шара за пределами СССР, где сознательно замалчивалось страшное преступление. Озираясь вокруг себя, я думал, что американец с фотографическим аппаратом, которому бы удалось сделать на котласском перпункте 16 снимков и привезти их в Европу, убедил бы общественное мнение мира лучше, чем могут сделать все отчеты и описания.
Теоретически полагалось в этапных бараках пробыть неделю-две и ехать дальше. Но в действительности люди оставались на перпункте месяцами и годами. Все их усилия вырваться из этого гиблого места не помогали. По состоянию здоровья их не отправляли, и в то же время они не были настолько больны, чтобы лечь в госпиталь. Они жили в бараках, которые представляли собой большие полуразвалившиеся сараи, сырые и затхлые. В один из таких бараков («15-ый») был и я водворен. Это была темная нора, где половина досок истлела или была выломана. Барак этот был сломан и перестроен осенью того же года, но к тому времени меня уже там не было. Несмотря на большой опыт и выносливость, я не мог спать в 15 бараке из-за клопов. Котласские клопы могли бы обратить в бегство моторизованную дивизию с танками и броневиками. В белые холодные августовские ночи половина населения барака спасалась на двор. Уже было сыро и невозможно долго улежать на земле. Ночью я слонялся по двору с рюкзаком и бушлатом - одеяла у меня не было. За оградой лагеря текла Северная Двина. Река была близко, в нескольких метрах, - но за все 11 месяцев в Котласе я так и не увидел ее. Несколько ночей я спал на старых ящиках, на большой бочке, потом прокрался в чужой барак (что довольно опасно - могут принять за вора и изгнать с побоями), но там было еще больше клопов, чем в 15-ом. Наконец, я нашел место без клопов: это был «клуб», в противоположном конце лагеря. Чтобы попасть туда, я должен был прорваться через двое ворот и войти потихоньку, чтобы никто не видел. В самом «клубе», т. е. просторной, только что выстроенной избе, плотники начали уставлять нары. Там должна была поместиться какая-то отборная бригада, но пока еще не все нары были поставлены, я там спасался от клопов. Из «клуба» отворялась дверь в боковую комнатку, где проживал «воспитатель» КВЧ и дневальный. Дневальным КВЧ был мой новый приятель, Нил Васильич Елецкий. Его протекции я был обязан возможностью спать в клубе. Могу признаться в этом открыто, не боясь повредить Нилу Васильичу, который уже давно вне власти НКВД.
Кроме клопов, мне в первую неделю сильно досаждали приятели из Вологодской тюрьмы: Ваня, Петя и компания. Один из них оказался моим бригадиром. Весь день я их не видел: они работали за зоной. Ночью мы спали в разных местах. Но при раздаче хлеба происходили неприятности. В первый же день я получил из рук бригадира подозрительный огрызок, но смолчал. Тогда на второй день мне совсем не дали хлеба. Когда дошла до меня очередь, бригадир просто оттолкнул меня:
- Куда лезешь? Тебе уже дадено.
И сейчас же нашлись «свидетели», из той же шайки, которые подтвердили, что я уже получил хлеб. Я не стал спорить и пошел к коменданту.
Было несколько заключенных помощников коменданта, и один из них, на счастье, был еврей. Его звали «Мосеич»: редкий случай интеллигента, который в лагере оказался «сильным человеком», плотный, энергичный, с серыми холодными глазами и выправкой начальника. Он умел держать свою «публику» в руках. Услышав, в чем дело, Мосеич вызвал моего бригадира в контору и не дал ему выговорить слова.
- Я тебя знаю! Мне твои рассказы не нужны. Положи на стол, что своровал. А нет, - завтра сами отберем.
На следующий день, по распоряжению коменданта, хлеборез задержал пайку бригадира, и она была передана мне. А до этого я посидел без хлеба сутки. Теперь я уж был на особой примете этой банды. При ближайшем посещении бани случилась новая неприятность. Раздевалка бани - место всех краж. В момент, когда из дэзокамеры приносят дымящиеся, горячие и мокрые свертки одежды, начинается свалка и давка. При этой оказии обменивают вещи и воруют все стоящее. Я искал в давке свои вещи, когда на меня налетели и сбили с носа очки. Они мгновенно исчезли. Не подавая вида, как это мне важно, я оделся и ушел в барак.
Я боялся только одного: чтобы они мне по злости не поломали очков. В этом случае я был бы «выведен из строя» на ряд месяцев, т. к. нет речи, чтобы нормальным путем получить в лагере оптические стекла. Спрос в лагере на стекла низких номеров очень велик, и можно взять за них много хлеба. Но мои стекла были по 9 диоптрий! Кому нужны такие стекла? Я был самым близоруким человеком в Котласлаге и рассчитывал, что мне принесут их обратно, как единственному человеку, который в них нуждается. Надо было ждать терпеливо.
В продолжение нескольких дней я вел существование в туманном, неузнаваемом и расплывшемся мире. Меня записали в «отдыхающие», и весь день я лежал на траве, не различая лиц и не интересуясь тем, что происходило от меня дальше, чем за 3 метра. Каждый день доходили до меня вести о моих очках. Как птица, вылетевшая из клетки, они порхали вокруг меня по территории лагеря. Один день их предложили главному повару. На другой день они были за зоной. Их перемеряли десятки людей. Я невозмутимо ждал. Наконец, вечером подошел ко мне парень и сказал, что «выиграл мои очки в карты». Я равнодушно отнесся к этому известию. - «Обратно не хошь очков?» - И начался торг. Парень заломил 3 пайки хлеба и денег 50 рублей. Я предложил ему 200 грамм. Кончилось на пайке хлеба. Таким образом, пришлось мне все же вернуть пайку хлеба, которую Мосеич отвоевал для меня и Бог знает, что бы меня еще ждало, если бы не отправили, на мое счастье, всю компанию, с Петей и Ваней в том числе, на следующий день в этап. С ними ушли и поляки. Я остался один в пер-пункте.
Тогда сделали меня вахтером во внутренней зоне. Вахтерство - подходящее занятие для инвалида. То ставили меня сторожить при калитке БУРа, то при входе в женский барак, чтобы не лазили мужчины зэ-ка. Но главный пункт моего дежурства был в самом центре лагеря, при проходе из госпитальной зоны в общую.
Утром, едва сполоснув лицо из кружки и утеревшись, за неимением полотенца, рукавом, я забирал рюкзак со своими вещами (главная из них была красная подушечка крестьянского полотна) и относил на хранение завхозу 5 корпуса, Ивану Ивановичу. Оставить рюкзак в этапном бараке было невозможно, его бы немедленно украли. Затем я становился на свой вахтерский пост при воротах. Ворота состояли из деревянных рам с проволочной сеткой. Поток людей стремился к кухне: шли этапные бригады, женская, две каторжные из БУРа - каждая в строю под начальством бригадира - и все их надо было пропускать по очереди, чтобы не было излишнего скопления под окнами кухни и хлеборезки. Громада каторжан подходила, напирала грудью на проволочную сетку:
- Открывай!
- Нельзя, не велено!
- Открывай сию минуту! - орали ребята по ту сторону сетки, и начиналась перебранка. Среди спора приходили вольные или санитарки из корпусов с ведрами по воду. То и дело кричал издалека комендант: «Этого пропусти! Того пропусти!» Я приоткрывал дверцу, и в эту минуту за одним человеком прорывалось еще десять. Я был слишком слаб, чтобы сразу задержать прорыв. Уже давно прошла бригада, а в ворота все еще ломились опоздавшие: «Я из 15--ой бригады! Вон, моя бригада уже получает! Пусти, а то по голове огрею!»...
Вдруг, оглянувшись, я видел, что раздача завтрака кончается. Я просто бросал свое место и бежал под окошко. Ворота оставались открытыми. Иногда становился в них шустрый мальчонка, заключенный лет 12-ти, состоявший при конторе. Ему полагалось заменять меня во время завтрака. Он был гораздо лучший вахтер, чем я. Язык у него был острый, как бритва, а это первое дело для вахтера. Я вяло ругался и пропускал из зоны в зону кого надо и не надо. Через полчаса стояния у меня немели ноги, и я садился на землю. Какой же вахтер сидит на земле! Завхоз 5 корпуса Иван Иванович позволил мне взять к воротам табуретку. Я посидел на табуретке часик, и вдруг ее у меня сперли! Махмуд, завхоз 9 корпуса, татарин, прошел мимо, увидел табуретку, сказал: «А табуретка-то наша! Кто позволил взять!» и просто вынул ее из-под меня. Я побежал к Иван Ивановичу: «Махмуд табурет унес!» Иван Иванович ринулся за Махмудом. Два завхоза поссорились, а мне уже больше не давали табуретки.
Я рад был оставить в покое весь мир, - но меня еще не хотели оставить в покое. Вдруг велели мне идти за вахту с бригадой... носить доски. Это была очевидная чепуха. Я пошел - на то и заключенный - снес доски три. Люди кругом меня расползлись, бригадир и стрелок с проклятием собирали их. Заставить их работать по-человечески уже было невозможно, но я не стал и притворяться. Этап и ночевки в клоповнике, на дворе и где попало лишили меня последних сил. Я лег на траву, раскинул руки, глядел в синее небо, слушал, как неровно стучало сердце. Конвоир подошел: - Будешь работать? - Нет, с меня хватит. - Ну так собирайся, в лагерь пойдем. - Меня и троих таких же, как я, свели в Санчасть. Там сидела вольная, начальница Санчасти, женщина, которая имела вид, точно ей очень хотелось бы сбежать из Котласа на край света. Взглянув на меня, она сказала поспешно:
- Отпустите его, кто его погнал на работу? - и, обратившись ко мне: - Успокойтесь, больше на работу не пойдете...
Но на этой стадии я уже не мог остановиться... С каждым днем мое состояние ухудшалось. Я больше не мог оставаться в бараке. Жизнь уходила из меня. Обновилась старая болезнь, о которой я уже забыл на воле. Острые припадки болей терзали меня по ночам. Утром я подымался с тяжелой головной болью и, еле дождавшись 11 часов, шел на прием в Санчасть. - «Положите меня в стационар!» - надоедал я без конца, но это была не Круглица: здесь от меня отмахивались. Мне выписывали лекарство и отправляли обратно в барак. Началась война за право лечь в больницу. Только вмешательство нескольких врачей из разных корпусов привело к тому, что меня направили в бактериологический кабинет за зоной. Анализ желудочного сока показал высокое содержание крови. Меня все-таки не положили. Днем я лихорадил и слонялся по лагерю, а ночью лежал без сна на голых досках без одеяла. Теперь мне уже действительно не оставалось ничего другого, как умереть.
Но до того я сходил еще к начальнице Санчасти и предупредил ее, что несвоевременая госпитализацая карается по закону, и я подам заявление уполномоченному, что меня при наличии внутренних кровотечений оставили лежать в общем бараке. Упоминание об уполномоченном подействовало сразу. Меня немедленно направили в стационар.
Глава 37. Девятый корпус
- Три месяца, - сказал доктор, осмотрев меня со всех сторон. «Три месяца» значило, что жизни во мне остается приблизительно на 90 дней. В том состоянии физического истощения, в каком я находился в момент водворения в 9 корпус, и на питании, которое мне по норме полагалось, я должен был протянуть ноги более или менее в трехмесячный срок.
На оценку доктора можно было положиться. У него был большой опыт, и ошибался он довольно редко. Случалось иногда, что больной не хотел умирать в назначенный срок. Ему было положено умереть, скажем, в феврале, но он упрямился. В феврале ему становилось не хуже, а лучше. Он не знал, что доктор уже 3 месяца назад записал его на тот свет до конца февраля. Мы, окружающие, иногда знали это и смотрели на него с любопытством: вот человек идет против медицины. Доктор ходил вокруг упрямца с озабоченным видом, осматривал его не в очередь, записывал что-то в книжечку. Мы, соседи по корпусу, частью тоже приговоренные, следили, затаив дыхание, за поединком человеческой воли со смертью. Когда мы уже привыкали к мысли, что произошло чудесное исключение (а как мы в это хотели верить!), месяц спустя, в марте или в начале апреля, упрямец все-таки умирал. Вдруг наступало у него резкое ухудшение, и он, без видимого повода - погибал в одни сутки. Как шахматный игрок, который в проигранном положении попробовал неожиданную комбинацию - последний резерв своего искусства - помучил еще некоторое время партнера - и, наконец, решившись - махнул рукой и сдался.
То, что происходило в 9 корпусе, напоминало сеанс одновременной шахматной игры. 120 человек играло партию своей жизни с великим Чемпионом. Смерть ходила по кругу. Смерть, великий мастер, не глядя на лица, делала каждый день свой ход - маленький ход, ведущий к цели. Мы защищались как могли, но больших надежд не имели. Мы были объяты робостью.
Доктор был нашим судьей. Он, как арбитр, следил, чтобы все происходило по правилам. На каждый ход Противника наш контр-ход. Не сдаваться раньше времени. Он делал все, что возможно, чтобы поддержать нас. Только одного он не мог: дать умиравшим от истощения - пищи в достаточном количестве.
- Вот, - сказал доктор, - два одинаковых случая: вы и ваш сосед. Вам обоим осталось жить по 3 месяца. В этом положении, однако, еще возможно спасти вас обоих, если подкормить как следует. Но откуда взять? В нашем больничном хозяйстве можно для одного человека создать особые условия. Можно собирать для него остатки, крошки, случайные излишки. Можно урвать для него из своего собственного пайка, недоесть самому. Как-нибудь на одного наскребем. На двоих нет у меня. Что же делать? Надо выбрать одного из вас. Сосед ваш - парень без роду-племени, никто по нем не заплачет. У вас семья за морем, кто-то ждет вас. Бог знает, кто из вас двоих больше заслуживает остаться при жизни. Я выбираю вас.
И так стало:
Мне - сверх казенного пайка - стали сносить остатки. Доктор отдавал свой обед, лекпом - часть своего хлеба. Решили не отдавать меня смерти. Мне поручали работы, за которые полагалась добавка. Это называлось «поддержать». Сделали все, чтобы я выиграл шахматную партию. Доктор обманул судьбу: подставил лишние фигуры на мою доску. Прошло 3 месяца, и я был жив, а сосед мой умер. Пришли взять его труп, и когда выносили носилки - я знал, что моя жизнь и его смерть - одно.
Девятый корпус на котласском перпункте зимой 44-45 года был простой деревянный барак. Двери в сени были обиты рогожей, все пазы тщательно забиты соломой и войлоком, чтобы не дуло. В сенях суетились санитары, обслуга была частью из самих больных, потому что положенных по штату людей нехватало, чтобы справиться с работой. Больные обслуживали себя сами, или здоровых записывали в больные, чтоб иметь право использовать их как санитаров. Сбоку за перегородкой помещались кладовая и раздаточная, где готовили к выдаче порции для больных.
Пройдя это преддверие, человек входил в катакомбы. Из-за темноты (свет едва пробивался через разбитые и заткнутые чем попало окна), из-за скученности и шума получалось впечатление подземелья или битком набитого улья. Барак выглядел как продолговатая пещера. Неподготовленный человек, войдя в барак, отступил бы в ужасе. Это была больница для зэ-ка, но без кроватей. С двух сторон тянулись двойные дощатые нары в 2 этажа, вагонкой. На каждой наре было место для двоих внизу и двоих вверху. Таких нар было с каждой стороны по семи. На них могло нормально поместиться по 4x7x2 = 56 человек. Кубатура барака была рассчитана на это число. Но в бараке было свыше 120 человек. На каждом месте для одного лежало двое. В проходе между нар, в начале и конце, были сложены из кирпичей две низенькие печурки, с железными трубами. Одна не могла бы нагреть такой большой барак. Между печками стояло еще коек 8, сдвинутых по 2 вместе. Это были простые доски, положенные на козлы. На каждых 2 койках помещалось трое больных. Между койками и нарами оставался узенький проход. Здесь в центре барака был настоящий корабль смерти - здесь помещались особо-тяжелые больные, смертники, которых нельзя было положить с другими, потому что они делали под себя, и другие воспротивились бы такому соседству. За кораблем смерти, в глубине барака, у противоположной стены висел железный умывальник над ведром - один на всех - и была дверь в другие, запертые сени, где помещалась холодная уборная. Для тех же, кто не мог своими силами дойти туда, стояла у двери при умывальнике параша.
С обеих сторон этой палаты при входе были отгорожены две клетки, размером около 2 метров на 3. За перегородкой слева в темной каморке жили лекпом, врач и учетчик. За перегородкой справа находился стол и шкаф с лекарствами. Там была «процедурка», с окном, для осмотра больных. Вообще же все лечение, кормление и вся жизнь больного проходила на нарах.
В 9 корпусе мне дали наилучшее место, первое слева, сразу от дверей в углу. Лежа, мы имели справа от себя деревянную стенку темной клетки, где жил медперсонал. Мы лежали у окна. Это было большое преимущество, потому что мы могли пользоваться дневным светом, но и минус, потому что от окна страшно дуло. На нарах лежали соломеные тюфяки и худые подушечки, набитые соломой. Одеял нехватало. Четверо больных лежало под двумя одеялами. В этих условиях надо было разместить людей так, чтобы они могли ужиться, лежа подвое на узких нарах под одним одеялом.
На первых нарах лежало избранное общество: первым от стенки лежал Нил Васильевич Елецкий, вторым - я, третий был Николай Алексеич Бурак, лесничий из местечка Паричи в Белоруссии. Четвертый у нас менялся, а если можно было, оставляли нас втроем, из уважения к «интеллигенции». Итак, мое место было наилучшее, так как я лежал посреди, и оба соседа грели меня своим телом. Нилу Васильичу было хуже, он лежал при стенке, которая кишела клопами, и выносил ночью их главный натиск. За это мы ему уступили целое одеяло и - пока не было четвертого - лежали с Николаем Алексеичем вдвоем под другим одеялом. Хуже всех было крайнему, так как его ночью неизбежно оттесняли на самый краешек, и он должен был отчаянно цепляться за соседа, чтобы не скатиться на пол.
Спанье вчетвером на узком пространстве, рассчитанном на двоих, требует высокой степени социального чувства, такта и самодисциплины. Оно воспитывает человека и подавляет в нем вредный индивидуализм. До лагеря мысль о том, чтобы лечь в чужую постель или допустить в свою постель чужого человека, привела бы меня в содроганье. В 9 корпусе, однако, мы не были брезгливы - быть может, потому, что нары, где велели нам лечь, не были Нашими, и мы все одинаково были принуждены занимать указанные нам места. Мы «встречались» на Нарах и, естественно, как культурные люди, старались приспособиться друг к другу. Иные нервные люди каждые несколько минут поворачиваются с боку на бок, имеют свои любимые позы. Кто спит свернувшись, кто на спине. Здесь это невозможно. Чтобы поместиться вчетвером, надо каждому лежать боком и вытянув ноги. Если же один из четырех поворачивается на другой бок, то тем самым вся четверка принуждена повернуться на тот же бок. Это ведет к тому, что тело дисциплинируется, автоматически реагирует на движения соседа и в значительной мере успокаивается. Нет сомнения, что коммунизм имеет в совместном принудительном тесном спанье взрослых людей прекрасное воспитательное и «исправительное» средство.
Существует талмудическое изречение, по которому человек познает человека тремя путями: «bekosso-bekisso-bekaaso». Это значит: «по рюмке, по карману и по гневу его». Я не знал в то время этого изречения, но если бы и знал, то не мог бы его применить в лагерных условиях, где люди не пьют и поэтому не выдают себя во хмелю - где нет у них денег и нельзя, поэтому, коснуться их кармана, за неимением такового. Только третий способ остается в лагере. Лежа между Нилом Васильичем и Николаем Алексеичем, я пришел к заключению, что есть 3 возможности познать в лагере, с кем имеешь дело: первая - совместная работа. Пока ты не работал с зэ-ка, ты не знаешь его. Вторая (тут я, не зная того, повторил Талмуд) - это поссориться с ним хорошенько. Пока мы не поссорились с ближним, наша дружба с ним не прошла настоящего испытания. Третье же условие, которому научил меня советский лагерь - это спать с ним вместе. Пока вы не спали с человеком, вы его не знаете. Ибо никогда не выдает себя тело так полно, как во сне, когда плоть касается плоти, когда доходят до нас мельчайшие, укрытые движения, где проявляется бессознательная природа и характер человека.
На основании этого последнего критерия я могу сказать, что Н. А. Бурак, с которым я спал под одним одеялом, был прекрасный человек. Не зная его социальных воззрений и профессиональных способностей, я готов поручиться, что и то и другое было в полном соответствии с его средой и временем. Мы идеально применились друг к другу, наши ноги и руки никогда не перепутывались и не мешали друг другу, и он всегда умел найти такое положение, чтобы мне было хорошо и необидно лежать с ним. А это было не так просто в бараке, где люди кишели друг на друге и ссорились грубо и дико из-за неумения распределить на двоих одно одеяло. - Это был белорусе, человек за 50, из окрестностей Мозыря, человек спокойный, деликатный и кроткий. С таким человеком можно было вместе спать. Он еще не совсем свыкся со своим новым положением каторжанина. Николаю Алексеевичу дали 15 лет каторги за то, что он, как старший лесничий, продолжал заниматься своим делом при немецкой оккупации. У него были 2 дочки, обе комсомолки, маленький домик, достаток, мирная жизнь полуинтеллигентского, полукрестьянского типа. Уже она стала клониться к закату, когда в местечко Паричи пришли немцы. Надо было бросать домик, семью, уходить в лес. Николай Алексеевич остался и попробовал жить, как до сих пор. Немецкая Гестапо арестовала его дочку, но выпустила. Немецкий лесничий при встрече ударил его по щеке, чтобы подчеркнуть расовое отличие... Но по освобождении Паричей пришла настоящая неприятность. Его арестовали, и НКВД возложило на него ответственность за порубки, которые были сделаны на его участке. Старик, еще не доехав до лагеря, свалился с ног по дороге. Он был ошеломлен, не понимал, что такое 15 лет, и думал, что это все страшный сон, от которого он завтра проснется в уютном домике в Паричах. Целые дни он рассказывал мне о жизни глубокой белорусской провинции. Ему в самом деле неплохо жилось до войны.
Не менее грозный преступник лежал справа от Меня. Нил Васильич Елецкий был полковник царской службы, который после гражданской войны эмигрировал в прекрасную Францию. Между 1920 и 1943 гг. он вел существование белого эмигранта, был шофером в Париже и на Ривьере, женился, пережил жену и под конец был шефом кухни в эмигрантском русском ресторане в Ницце или в Каннах. Ему было под 60. Франция стала его второй родиной. Вдруг...
... Спустя 23 года Нила Васильича вдруг потянуло домой. Как умереть, не видев России? Гитлер занял Украину, подошел к Ленинграду. Нил Васильич поехал на Восток, прибыл в Ростов. Немцы откатились обратно, и полковник Елецкий остался.
Он сам явился в советский штаб, представился и предложил свои услуги Красной Армии. У Нила Васильича были свои глубокие соображения, как надо воевать с немцами, и, кроме того, он писал труд. Это был труд о «военной психологии», дело жизни. Выглядел Нил Васильич так: небольшой, но бодрый старикан, со звучным баском, виски серебрились, очень живые черные глаза, и человек компанейский, выпить ли, поговорить, но среди людей. Молодые советские офицеры с любопытством его окружили, заинтересовались, оказали прямо-таки уважение старому воину. Прежде всего положили его в госпиталь. От переживаний, волнений и с долгой дороги от Ниццы до предгорий Кавказа, Нил Васильич несколько ослаб. В госпиталь приходили к нему каждый день, приносили подарки, вино, расспрашивали. Через 10 дней его выписали и посадили в машину. Автомобиль помчался прямо в Москву. Нил Васильич думал, что его везут в главный штаб, к маршалам. По дороге были с ним крайне любезны и полны внимания. В Москве же отправили его - прямо на Лубянку.
- Мы вас не приглашали, - сказали ему. - Возможно, что вы очень симпатичный человек и воодушевлены наилучшими намерениями, а кто вас знает? Может быть, вы немецкий агент? В Ростов-то вы попали через Берлин. Во всяком случае мы вас изолируем. Вот, подпишите этот протокол. - Нил Васильич подписал и получил 10 лет заключения в лагерь. В Котласе пришлось ему провести первый год из десяти. Первый и последний. До второго он уже не дожил.
Нил Васильевич написал заявление в Верховный Совет, что он нуждается в особых условиях, чтобы написать труд о военной психологии, попробовал быть дневальным в КВЧ и лег в 9 корпус. Тут он исхудал до того, что и лицом и телом стал походить на Ганди. Но говорун остался прежний, и в рассказах его оживала солнечная Франция. Он также объяснил мне, как надо готовить каплуна в вине и с трюфелями. Однажды я спросил его (это было вечером; мы уже поели свой ужин из ячменной каши и 100 гр. хлеба и лежали, готовясь ко сну): - Нил Васильич, вы столько видели стран и прекрасных мест, побродили по Европе, двадцать лет жили во Франции. Какое самое красивое место в мире вы видели? Где бы жить хотели?
Нил Васильич зажмурился, подумал немного и дал ответ:
- Самое прекрасное место в мире, это, батенька мой, вне всякого сомнения, город Осташков, над озером Селигер, Новгородской области. Это мои родные места, должны вы знать. Я там родился. Чем больше разного видел, тем больше меня домой тянуло. Нигде как дома...
Старик начал расписывать красоту русских лесов, русских озер, и рек, и рыбной ловли, и я понял, что он никогда не был счастлив в жизни, кроме как в годы осташковского детства. Это был сон его души. Из лагеря он написал в Осташков и - о чудо! - оказалось, что родной единственный брат его жив и находится в том же доме и на той же улице, где жили Елецкие испокон века. Брат ответил ему в скупых, осторожных словах. Нил Васильевич попросил сейчас же посылочку - если можно, курева. На это уже ответа не последовало. Но Нил Васильевич все ждал ответа, и до последнего дня был убежден, что в Осташкове готовят ему посылку большую, где будет все, что надо старому, усталому человеку.
День в корпусе начинался с того, что мне сквозь сон становилось просторно. Значит, сосед уже поднялся на работу. В бараке еще совсем темно. Спящая громада людей неподвижна. Нил Васильич, набросив одеяло на худые плечи, с очками на ученом носу (военный психолог!), надев на ноги шлепанцы, спрятанные с вечера, уже ходит вдоль нар, теребит за ноги, будит и тычет каждому термометр. Измерив, подходит под окошко и наносит t╟ на большую фанерную таблицу. За эту работу полагается ему добавочный суп в обед. Дважды в день измерить t╟ 120-ти больным (второй раз мерят в 5 часов пополудни) - это часа 4 работы. Больные не любят беспокойства, громко ругаются. Нил Васильич человек гневный, и не дает спуску. Термометров на всю палату 2 или 3. В раздражении Нил Васильич трясет термометр слишком сильно и ломает его. За сломанный термометр он отдает полкило своего хлеба, и в результате больше теряет калорий, чем зарабатывает. Когда Нил Васильич кончает обход, уже светло и готовят завтрак. У умывальника толпится 10-20 человек. Полотенец нет. Мало кто и моется. К тяжелым больным подходит санитар с миской. Теперь моя очередь. Уже вышел из-за перегородки лекпом Давид Маркович. Это немолодой уже, с выпуклыми светлыми глазами и светлыми бровями, с припухлостями щек коренастый человек... Давид Маркович - настоящий отец 9 корпуса. Врачи здесь меняются часто, а он - бессменно на месте. Вся энергия, сердце и душа этого человека - в его ежедневной работе. По его знаку я устанавливаю столик, выношу бутыли с лекарствами и рюмочки. Он наливает, мое дело - разносить лекарства. Я хватаю по 2-3 рюмочки и бегу по адресам. Больные в лекарства не верят, и правы. Весь арсенал Давида Марковича - это 5-6 микстур. Этим лечатся всевозможные болезни, но и их часто не бывает. - «Можете лежать, - говорит мне тогда Давид Маркович, - сегодня лекарства не прибыли». У больных все лекарства делятся на горькие и сладкие. Горького никто не хочет, отталкивают руку или, кто посердитей, берут и тут же выплескивают рюмку на пол. На «сладкое» же большой спрос, и кто не получает его, обижается. - «Давид Маркович! - кричат с места, - опять меня обошли!» Получив рюмочки, больные обмениваются, а кто сам не пьет, отдает соседу. Хлопот много. К иному, лежащему в забытьи, подходят 5 раз: поставить термометр, дать лекарство, вынуть термометр, снова дать лекарство, уже другое, и наконец положить на язык пилюльку. Больной не шевелится, не имеет сил подняться и только глухо мычит. Он разевает рот, и я сам вливаю ему содержание рюмки. Одна и та же рюмка идет изо рта в рот по всей палате.
Махмуд с санитаром вносят с улицы ведра с завтраком. Палата настораживается. Кухня выдает на весь корпус. Дело раздатчицы - приготовить порции на 120 человек. Сперва идет хлеб. Двое человек выносят из раздаточной подносы с ломтями хлеба. Большинство получает «пеллагрический» паек, т. е. 400 грамм хлеба, выдаваемых в 3 приема: утром 200, в обед и вечером по 100 грамм. На «общебольничный» паек выдают хлеба побольше - 550 грамм, но зато каши и всего прочего - поменьше. Завтрак для пеллагриков состоит из кусочка соленой рыбы и кусочка жира 10-18 грамм. Кусочек жира бывает больше и меньше, смотря по тому, масло ли это, маргарин или «комбижир». Затем раздают по черпачку «чаю», т.е. горячей воды. Иногда кипяток заварен чем-то темным, происходящим из отбросов фабрик, изготовляющих повидло. Подконец раздатчица вносит глиняную миску гороха. Это - зеленый «конский» горох, сдобренный постным маслом. Те из больных, которые зачислены на «цынготный» паек - человек 15 на корпус - получают по одной столовой ложке гороху. «Цынготный» получают те, кто исполняет в корпусе какую-нибудь функцию. Мы с Нилом Васильевичем оба получаем по ложке гороху.
Во время еды больные садятся по-турецки, но не рядом, а вразбивку, чтобы лучше разместиться на нарах. Я - у самого окна, Нил Васильич в ногах, спиной к стенке, Бурак посреди, а четвертый сидит, свесив ноги в противоположную сторону. Я, как старый зэ-ка, имею кусок фанеры, который кладу себе на колени - это вместо стола. Другие кладут свой хлеб и прочее на подоконник. Тут надо быть осторожным. Со двора подходят люди под окна нашего барака. Окна низенькие, и им видно не только как больные едят, но и что они едят: они видят на окне за стеклом то, чего им, «здоровым», не дают. Вид масла и рыбы притягивает их. Заглядывают в окна, смотрят упорно, жадно, тоскливо. Им с утра ничего не полагается, кроме хлеба и жалкой лагерной «баланды». Толпятся с худыми и дикими лицами, оборванные, с горящими глазами. - Берегись! Вдребезги летит окно. Просунулась рука, схватила с подоконника хлеб, масло и рыбу, - и доходяга бежит, на ходу запихивая в рот. Он не боится ни карцера, ни побоев нашего Махмуда: что он схватил, то пропало. А в корпусе суматоха. Давид Маркович кричит на виноватого: зачем на окно положил? - и виноватый наказан дважды: он не только лишился завтрака, но и будет мерзнут с товарищами по нарам весь день, пока завхоз Махмуд раздобудет где-нибудь кусочек стекла или фанеры, чтобы вставить в разбитое окно.
Весь день не прекращаются в бараке шум, крики и споры. Беспрерывно ворочается масса из 120 человек, скученных на тесном пространстве. Оправляют сенники. Над нами лежат литовцы. Скелетообразный Юнайтис, учитель из Ковно, беспрерывно шевелится и поправляется. Через щели между досок верхних нар летит на нас пыль, грязь, солома из сенника. У соседей крик: один обокрал другого. Еще дальше обыск: зовут Давид Марковича и указывают на больного, который собирает масло. В самом деле, лежат две несъеденные порции. Больной - неисправимый курильщик - отложил масло, чтобы обменять на махорку. Люди, меняющие хлеб и продукты на табак, обречены на смерть. Каждая калория, которой они себя лишают, приближает их конец. Давид Маркович отбирает масло, кричит: «Ты себя убиваешь, мерзавец!» - Неисправимых меняльщиков ведут к столу среди барака и заставляют их съесть свои продукты публично под наблюдением санитара. При каждой раздаче их отсаживают в сторону и смотрят в рот, чтобы они ни крошки не спрятали. Если же уличают больного, что он купил чьи-то чужие продукты, то их забирают, и Давид Маркович по своему выбору отдает их кому-нибудь из особенно слабых.
К нарушителям дисциплины, упорным ворам, хулиганам и драчунам, применяются два наказания. Либо выдают им еду на 2 часа позже других, либо раздевают донага. В последнем случае призывается Махмуд, дикий татарин с сумрачным лицом. Он сдирает кальсоны и рубаху, забирает одеяло, и нарушитель порядка остается лежать голый среди товарищей. Понятно, он не молчит. Дикая ругань, истерический плач, жалкие попытки сопротивления. Даже угроза выписать из барака не останавливает обиженного, который бежит за перегородку к врачу с криком: «Выпиши! Сию минуту выпиши! Не желаю здесь оставаться!» Бывают случаи, что действительно выписывают хулиганов, с которыми невозможно иначе справиться. Это жестокая мера. Через 2-3 дня они снова попадают в больницу, в этот или другой корпус. На этот раз они уже тихи и спокойны: несколько дней в общем бараке среди здоровых сломили их и укротили буйство.
По мере приближения к обеду и ужину растет напряжение. Можно сказать, что больные вообще не выходят из состояния ожидания еды. В этом ожидании проходит вся их жизнь. В обед выдается суп из капусты или брюквы и 250 грамм жидкой кашицы на «общий» паек. Пеллагрикам дают 300 грамм кашицы с каким-нибудь добавлением в виде «подливки» или «тютельки» из крупы или рыбы. Вечером мы получаем немного кашицы и молоко: 200 гр. на «общий», 300 грамм на пеллагрический паек. Молоко заменяется кусочком жира или сыра. Наконец, вечером же выдается 200 гр. «сладкого чаю» (если на пер-пункте есть сахар). Этот «сладкий чай» совсем не сладок и ничего общего с чаем не имеет, но все же отличается от простого кипятка, и больные ждут его с нетерпением.
Когда обед уже роздан, выносят по мисочке супа для «работающих»: получают раздатчик лекарств, измеритель температуры, портной, весь день латающий белье для больных, и др.
Порции до смешного малы. - «Как для котенка!» - говорит больной, принимая кашицу на донышке миски, куда бросили ему крошечную крупяную котлетку или картофельный блин. Полсотни таких пришлись бы ему на один зуб. Поев, люди злы, точно их обманули. Так кормят больных и истощенных. Восстановить силы на этом питании невозможно: оно только задерживает неизбежный процесс алиментарной дистрофии. Где-то заграницей, в сытой Америке, или даже в Европе, которая считает себя «голодной», находятся люди, которые все это объясняют войной. У этих людей отнялся бы язык в 9-ом корпусе. В самом деле, что можно сказать зэ-ка, которые уверены, что на свободе они бы себе нашли, что есть? Государство, которое не в состоянии кормить своих пленников, по крайней мере не должно было бы отрезать их от всякой помощи извне, из-за границы. Для миллионов советских заключенных война не началась в 1941 году и не кончилась в 1945 году. Во внутренних отношениях этого государства война - в соответствии с доктриной ленинизма-сталинизма - не прекращается никогда.
Кроме еды, немного сенсаций в бараке. Раз в неделю происходит «санобработка». После завтрака вносят жестяную ванну, ставят посреди корпуса. Двое санитаров без устали тащат из кипятилки ведра с горячей водой. Двое помощников из больных становятся с мочалкой и тряпкой. Мыла нет. Поперек ванны кладется доска. Больные выстраиваются в очередь. Каждый подходит и садится -- не в ванну, а на доску. В ванне он только держит ноги. Ему подают один-два котелка с водой, он окатывается с головы до ног, трут ему спину - и дело с концом. Некоторых под руки ведут к ванне - это те, которые без посторонней помощи уже не встают с места. Наконец, есть умирающие: «корабль смерти» посреди барака. Этих не беспокоят. Санитар подходит к ним с миской воды и умывает на месте.
После первых 20-30 человек вода в ванне становится желто-серой и вонючей. Больные не без страха опускают в нее ноги и стараются уйти поскорее. Каждого моют 2 минуты, но т.к. больных 120, то операция затягивается на полдня. Ни больных ни персонал не интересует чистота, которая в условиях 9 корпуса технически недостижима. Надо исполнить повинность. Вечером будет отправлен в Санчасть рапорт: «проведена санобработка на 120 человек» - это все, что нужно начальству.
Прежде чем пройти к ванне, больной садится на табурет, где лагерный парикмахер стрижет и бреет. Одному не справиться: ему помогают добровольцы из больных (все за миску супу). Это - тяжелая и неприятная операция. Каждый сам намыливается из общей мыльницы. Из одной мыльницы - лицо, из другой лобок и подмышки.
Выйдя из ванны, спешат к натопленной печке и сушатся, обступив трубу. Тем временем вносят белье, и сестра раздает свежую смену. Это - серое, неотмытое, без пуговиц, заношенное и латаное лагерное белье с клеймом «9 корпус». Со старой пары белья больной спорол пуговицы, которые составляют его собственность, и пришивает их теперь, на неделю, к новой паре. Одновременно с санобработкой сиделки перетряхивают сенники и одеяла, выносят их проветрить на двор. Все они одинаковые, и после проветривания уже нельзя получить своей бывшей постели: все перепутано, кладут обратно, как придется. Вся эта работа производится с помощью больных. Полдня барак являет образ полного разгрома и беспорядка, как палуба корабля во время шторма. К обеду все принимает нормальный вид. Больные лежат в изнеможении, отдыхая, как после тяжелой встряски.
После обеда наступает очередь банок, клистиров и т. п. манипуляций. В особо сложных случаях вызываются в помощь врачи из соседних корпусов. Среди врачей не мало больших специалистов - рижан, литовцев, поляков с европейскими дипломами, привезенных из территорий, занятых Красной Армией, и отбывающих десятилетние сроки. - Бух! сорвался с нар больной в припадке падучей. Таких у нас несколько, и надо за ними следить, чтобы они, падая, не разбили себе головы и не поранили себя. На человека, который бьется в конвульсиях, наваливаются его соседи по нарам, подминают под себя, держат крепко руки и ноги. Через несколько минут все прошло. Больной лежит, вытянувшись как струна, с закрытыми глазами и закушенными губами.
Рано темнеет в бараке, и зажигается тусклая лампочка при входе. Сразу после ужина барак затихает. Всю ночь дежурят сестра и ночной санитар.
Человеческая громада спит. Но сон ее - беспокойный и тревожный, полный шопота, вздохов, гневных окриков. «Сестра! - Дежурный! - Дайте воды!» - Воды так мало, что ее подносят в рюмке самым тяжелым больным. В тесноте не холодно, но клопы заставляют людей срываться с места и не дают заснуть. Давить клопов нельзя, от этого они звереют. То и дело встают, садятся, идут в темный конец барака, к параше. Вокруг сестры всегда двое-трое полуночников, которые маются без сна и не могут дождаться утра. Только появление в дверях стрелка в солдатской шинели и фуражке с пятиконечной звездой заставляет их разойтись по нарам.
Из всех переживаний и сенсаций корпуса основное - это смерть. Люди кругом лежат месяцами. Болезнь их - просто голодное истощение. Поправиться не с чего. Все, что 9 корпус может им дать - это физический отдых, спокойное лежание под присмотром врача. Они и лежат - до смерти. Все в них неверно, обманчиво и хрупко. Юнайтис, беспокойный сосед сверху, не долго нам докучает. Он, еще недавно говорливый и суетливый, охотник поработать, постепенно бросает все работы, становится все смирней и тише и умирает так же незаметно, как гаснет свет сумерек в окошке. От него остается только эта одна строка в книге случайного свидетеля жизни и смерти. От других и того не остается. Всех не вспомнишь.
Одно время лежит с нами четвертым молодой украинский парень лет 22, мордастый, неповоротливый и смирный. Он, повидимому, здоров, и его выписывают на работу. Через несколько дней он возвращается в корпус - уже на другое место. На этот раз он еще смирнее и тише. Раздавая лекарства, я с ним здороваюсь, как со старым соседом:
- Полно дурить, Гаврюшка, вставай, работать надо. - А надо, - говорит Гаврюшка, - таки надо.
На другой день то же: - Как себя чувствуешь, Гаврило? - Да ничего, хорошо. - На третий день он уже ничего не отвечает. Умер ночью, и лежит на спине, третий с краю, очень спокойный, как при жизни, с таким видом, точно ему это не в первый раз. Соседи подвинулись в сторону, но не очень. Уже несут носилки, ставят в проходе.
- Второй на этой неделе, - говорит с огорчением Давид Маркович.
В 9 бараке людям не полагается слишком часто умирать. Это барак для несложных случаев. Когда больному требуется серьезное лечение, его отсюда забирают куда-нибудь в более подходящее место.
Глава 38. Пятый корпус
Через 3 месяца пришло мое время уходить из 9 корпуса. Моя болезнь приняла неприятный оборот. Призванный хирург предложил перевод в 3 корпус - на операцию. Я не согласился. После операции требуется усиленное питание. Этого мне хирург не обещал. Он был готов меня резать, а не кормить. Итак, было принято компромиссное решение: меня перевели в 5-ый корпус.
Только несколько шагов отделяли 5-ый корпус от 9-го - но это были 2 мира. Пятый корпус был в Котласском перпункте оазисом - местом, куда все больные мечтали попасть, но только избранные попадали. Туда посылались больные с осложнениями, больные, нуждавшиеся в великой школе медицинского искусства. Заведывал этим корпусом Доктор: человек Запада, лицом напоминавший старика Анатоля Франса. Под его ведением был небольшой барак человек на 50. Здесь не было нар. Вдоль стен стояли больничные кровати, сияя белизной. Спинки их в ногах больного были завешаны белыми простынями. Корпус выглядел как настоящая больничная палата. Это было - святилище. Медперсонал весь в белом. Больные, подавленные величием и торжественностью обстановки, вели себя приличнее и тише, чем во всех других корпусах. Они тоже, как могли, старались «соответствовать». Даже случаи кражи были редки. Здесь можно было на ночь оставить хлеб в шкафчике между кроватей, не опасаясь ни двуногих, ни четвероногих крыс.
Серебряные седины и осанка доктора производили на больных должное впечатление. Доктор был воплощением Науки и морального авторитета, не только среди больных. В процедурной 5 корпуса раз в неделю происходили собрания врачей со всех корпусов перпункта. Только главврач был вольный (т. е. уже отбывший наказание), а остальные все - со сроками. На собрании этого «медицинского общества» читались рефераты и обсуждались проблемы лагерной медицины. Наш доктор был признанным авторитетом в медицинском мире котласского пер-пункта.
Совещания медперсонала происходили в послеобеденные часы, во время поверки. Дежурный стрелок входил в палату в сопровождении учетчика, который называл ему число больных и персонала. Дежурный проходил по фронту кроватей, тыча пальцем. Просчитав, он деликатно отворял дверь в процедурку, где сидело человек 20 врачей. Не прерывая ученого заседания, он с порога считал людей в белых халатах. Так гармонически сочетались Наука и Госбезопасность.
Все было в 5 корпусе необыкновенно. За раздаточной находились две кельи. Нельзя их иначе назвать. Эти кельи пристроил к бараку на свой счет тот врач, который отбывал наказание в 5 корпусе до нашего доктора. Теперь в первой келье жил лекпом, во второй доктор. В этой второй, как и в каморке Максика, где висели на стене акварели Котро, я испытывал, заглядывая туда, особое чувство: присутствие индивидуальности, т. е. того, что начисто изгнано, уничтожено, умерщвлено в лагере. Здесь жил человек. Над кроватью с совершенно невероятным, неправдоподобным, потусторонним желтым стеганным одеялом висела полочка с книгами. Кроме медицинских книг, здесь была карманная Библия в оригинале и несколько книг математического содержания. В свободное время доктор занимался высшей математикой.
Первое, что со мной сделали в 5 корпусе, было - восстановление инвалидности. Это сделал главный врач, вольный. Он пришел в одно утро в палату, сел за столик посреди, и пред ним продефилировало человек 20. Им всем писали «А-Д» и таинственный значок, как потом оказалось: «инвалид».
Переход в новый корпус, где мне дали отдельную койку, сделал чудо. Я сразу почувствовал себя лучше. Тогда назначили меня ночным санитаром. На этой работе я мог подкормиться. В 9 корпусе я не мог быть ночным санитаром, там было 120 человек. Но в 5-ом было только 40-50 человек. На это меня хватало. Дневным санитаром я также не мог быть: тут надо было работать одетым, выходить на двор, носить воду, дрова и ходить на кухню за едой. Я мог работать только в пределах корпуса: ноги мне служили слабо.
Ночному санитару не полагалось жить в палате. Меня выдворили в сени. Там за загородкой были устроены нары на троих. Со мной помещался завхоз Иван Иванович, маленький строгий старичок, и дневной санитар Коля (инженер по образованию). Работал я от 11 вечера до 8 утра. Днем я спал. Подымался я только к завтраку, обеду и ужину. Меня обильно кормили, как полагается ночному санитару. Наконец я перестал чувствовать звериный голод. Я поедал огромные количества супу и каши, сидя на своих нарах за перегородкой. Ночью дежурная сестра отдавала мне свою часть. Доктор отдавал мне соевую кашу, которую он не переносил. В первый год в лагере я тоже не мог есть соевой каши. Теперь я ел все. Моя прожорливость приводила в изумление раздатчицу Соню.
Раздатчица Соня, от щедрости которой я зависел, была маленькая, черненькая и напоминала еврейку. На самом же деле это была мусульманка, карачаевка. Карачаи - маленький народец на Северном Кавказе. В 1942 году с ними случилось несчастье: они подарили белого коня Гитлеру, когда немецкая армия заняла их район. Когда же вернулась законная власть, карачаев посадили в товарные вагоны и вывезли в наказание все племя в Центральную Азию. А Соню, учительницу народной школы, отправили в лагерь. Когда летом 44 года доставили ее в 5 корпус, это был жалкий заморыш, худой цыпленок при последнем издыхании. Но доктор ее вылечил и сделал раздатчицей. Теперь Соня держала в руках черпак, как скипетр. Она округлилась, ела мало и умеренно, держала себя с достоинством и с безграничным благоговением смотрела на доктора миндалевидными черными глазами.
11 часов вечера. Сиделки, уходя, будят меня. Я запираю за ними наружную дверь. Все спят уже и только дежурная сестра сидит среди палаты за столиком, но скоро и она исчезает в «процедурную». Я один с больными. Начинаю с того, что приношу дров из чулана, всяких палок, досок и поленьев, которые завхоз Иван Иванович сложил под своими нарами. Ставлю на печку бак с водой, а дрова вокруг печки, чтобы высохли. Стругаю ножичком щепки и развожу огонь. Надо топить расчетливо, чтобы хватило скудного запаса до утра.
Из холодной уборной я выношу большое ведро с деревянным сиденьем. У коек тяжело больных я ставлю глиняные миски. Это - такие же миски, как и те, из которых мы едим. Всю ночь я их выливаю в ведро и ставлю обратно, и не допускаю к ним тех, кто в состоянии подойти к ведру. Каждый час или два - параша полна, и я выношу ее в холодную и темную уборную. На гвоздике у входа в уборную висит старый рваный бушлат, шапка и стоят разъехавшиеся туфли. Идя в уборную, надо одеться, как на двор: там мороз, и на полу грязно. По палате же ходят босиком в одном белье.
Человек 50 лежит на койках вдоль стен и посредине. Средина палаты занята койками, где как в 9-ом - лежат втроем на двух сдвинутых койках. Кроме этого, имеются в палате: железная печка и столик с двумя табуретами.
...Тихо в палате... сильная электрическая лампочка горит ярким светом над столиком в центре, но в углах - тень... Под койками начинают метаться крысы... Одна из них вскочила на столик между койками, и я подхожу проверить - не осталось ли там хлеба или полотенца, в которое был завернут хлеб. Уже за полночь. Больной пошевелился и позвал меня. Это украинец, которому уже недолго осталось жить. Я приволакиваю ведро с сиденьем, ставлю в ногах его койки. Больной лежит на спине, отбросил серое солдатское одеяло, согнул костлявые колени. Он беспомощен как ребенок. Все ребра его тела проступили наружу. Я наклоняюсь к нему: «Возьми за шею!», правой обнимаю плечи, левой под колени, и как дитя приподымаю с постели. Я, инвалид, качающийся от слабости - герой в сравнении с ним. Я чувствую в своих руках этот бессильный мешок костей, и мне страшно, чтобы эти кости не переломились в моих руках, чтобы не отпала высохшая голень, чтоб он не умер на этой параше, на которую я его сажаю. Он сидит на ней долго, обвиснув всем телом, пока я не прихожу уложить его и закутать в одеяло. Он что-то брюзжит, тихо ноет про себя... «тяжело, тяжело»... слова бессвязной жалобы и упрека. И прежде чем я успеваю положить его, меня зовет второй такой же, и третий.
У дверей в отхожее лежит умирающий. Его положили на самое плохое место, потому что ему уже все равно. Уже 2 дня все ждут его смерти. Этот уже ничего не говорит и не стонет - он только смотрит пустыми глазами. Дурной запах идет от него. Соседи зовут меня. Я осторожно снимаю с него одеяло и вытаскиваю из под него загаженную простыню. Белья для него больше нет. Я подкладываю под него клеенку, прямо на тюфяк. Он лежит голый. Соседи клянут его вполголоса... «Не виноват я, братцы, - шепчет умирающий, - потерпите маленько»... Под утро начинается у него агония.
В это время тухнет свет, и палата погружается в мрак. Это бывает очень часто, и на этот случай заготовляется с вечера керосиновая лампочка. Сегодня в ней нет керосина. И это бывает. А больные сегодня беспокойны - нужен свет. Я иду в чулан за тонкими смолистыми щепками - толщиной в палец, длиной сентиметров в 70. Это лучина. Та самая, о которой у Пушкина сказано:
В избушке, распевая, дева Прядет - и зимних друг ночей Трещит лучина перед ней...Вот она - лучина, зимних друг ночей - в 5 корпусе Котласского перпункта, в 1945 году. Коммунизм - не только «электрофикация + советы», как сказал Ленин. 28 лет после октябрьской революции это также: лучина + лагерь. Старый друг лучше новых двух. Лучина надежнее электричества и керосина. Восемнадцатилетний Витя зажигает лучину об уголек из печки опытной рукой и затыкает ее наискось на деревянном столбе среди палаты.
Лучина горит желтым дымным светом, ей не дают выгореть до конца и каждые 10 минут заменяют ее свежей, а остаток старой бросают в кадушку с песком на полу. Несколько десятков лучин лежит наготове.
Но через час снова зажигается электричество, и мы возвращаемся из 18-го века в 20-ый.
Энергично стучат в дверь. Это идет ночной обход. Прежде чем открыть, я предупреждаю дежурную сестру, которая прилегла в процедурной. Она поспешно выходит в палату, садится к столу. Охранник ВОХР'а обходит корпус, заглядывает к врачу, проверяет, все ли спят согласно с инструкцией, и что у кого лежит на столике. Потом подходит к термометру среди палаты. Если ниже 16╟ - завхоз отвечает пред начальством, а я - пред завхозом. Я показываю стрелку, что нет больше дров - топить нечем.
Стрелок выходит, и через полчаса стучит в дверь:
- Выходи! За 16-ым бараком лежат две доски. Бери и топи! Легко ему сказать: «выходи». А я уже месяца 4 не выходил из корпуса. Это для меня - большая экспедиция! Я одеваюсь в чужие ватные брюки, чужой бушлат, чужие валенки и выползаю за порог.
Снаружи - глухая зимняя ночь. Бреду в глубоком снегу по колено. Ни души. Только дым валит из труб низеньких госпитальных бараков, и мигает электрическая лампочка на столбе по ту сторону лагерной ограды с колючей проволокой. И далеко-далеко на путях свистят паровозы. Это - станция Котлас, пункт, через который проходят поезда. А мы здесь лежим - сотни, тысячи людей - зачем? Я чувствую себя, как крот, который поднялся из подземной норы. С изумлением гляжу на чужой и странный мир зимней ночи. Звезды горят в высоте. Куда я попал? Скорей взять доски, скорей обратно, в палату, в теплое логово, где у меня есть место и звание ночного санитара. Здесь, на этом суровом морозе, в ночном безмолвии под куполом северного неба, я только привидение, тень - фантом в чужом бушлате.
Вернувшись и оживив огонь в печке, я сажусь у ее железной стенки поговорить с сестрой и Витей... Витя - мальчик с круглой головой, стриженый, очень вежливый и старательный помощник в корпусе. У Вити - трехлетний срок за немалое преступление: он с компанией товарищей украл барана. Барана съели моментально - давно мяса не видели. Грех попутал - и голод не тетка. Он, собственно, только увязался за старшими парнями, и те получили сроки побольше, а ему, Вите, по молодости - только три года.
В два часа ночи стучат снова. На этот раз входят дво--трое с вахты, неся зашитые в полотно ящички: это - посылки. Больным в корпусе передают посылки не днем, а ночью, во избежание лишних глаз. Никто из больных не рассердится, если разбудят его ночью со словами: «принимай посылку». На 50 человек в корпусе есть всего 2-3 получающих. Разбуженные садятся в волнении. Посылка - переворот в их жизни. С завтрашнего дня несколько дней подряд они не будут голодны... Вспарывают полотно, сбивают крышку с ящика и в присутствии адресата вынимают по порядку, что внутри. Одна посылка - обычная колхозная из Центральной России: ржаные сухари, сушеная картошка, лук. Лук мерзлый, но в лагере и он не пропадет. На самом дне - кусочек сала, грамм в 200, завернутый в тряпочку. Если посылка из Средней Азии - в ней мешочек сушеных фруктов (изюм, урюк) и курдюк, т. е. жирный овечий хвост, особенно любимый нацменами. Самую лучшую посылку получает Попов. Ему шлет жена из Сочи, с Кавказской Ривьеры. Там бывает не только масло, мед и сахар, но и то волшебное, от чего глаза Вити загораются восхищением: несколько мандаринок. Мандаринки в лагере! Мандаринки на севере, где люди годами не видят в глаза обыкновенного яблока и доживают до старости, не узнав вкуса груши. Витя получает у Попова кожицу от мандаринок. Эту кожицу он кладет в кипяток и уверяет, что «чай» от этого приобретает особый аромат. Ночная конспирация не помогает Попову. На утро весь корпус будет точно знать, что именно было в посылке. Ближайших соседей придется ему угостить, а всю посылку отдать на хранение в раздаточную, чтобы не вводить в искушение ближних.
В 6 часов бьет за окном гонг. Ночь кончена. Подъем! - Нас, больных, подъем не касается. Я бужу дневного санитара Колю, приношу воды в ведре для умывания. Первые больные начинают шевелиться. Мое дежурство идет к концу. К 7 часам является Соня и обе сиделки. Я ухожу спать - в холодные сени, на «северный полюс». Сплю я одетый и мерзну даже во сне. Как я завидую больным, которые лежат в теплой палате и ни о чем не заботятся! Но нельзя все вместе: и быть сытым и лежать в тепле.
Только один месяц я работал ночным санитаром. За это время я много ел, и мой вес поднялся с 45 кило до 51. Это был мой максимальный вес в лагере. Подконец я не выдержал, и меня перевели в палату к больным. Моим преемником стал Витя...
Шел 45-ый год, и война подходила к концу. Советские войска вошли в Восточную Пруссию, и мы следили с волнением за их наступлением. Каждый номер «Известий» или «Правды», который попадал «на полчаса» в руки медперсонала, жадно прочитывался и обсуждался в тесном кругу... В конце зимы через Котлас прошел первый эшелон - женщин из гражданского населения Восточной Пруссии. Начинался массовый вывоз немцев, по испытанной системе НКВД. В одно утро пропустили через баню котласского перпункта партию немок - в легких платьях и туфлях, не подготовленных к суровой зиме крайнего русского севера. - «Kalt, kalt ist in Russland!» повторяли они и жались друг к другу. Эшелон был в пути 4 суток из Москвы. За это время замерзло и умерло 80 человек из партии. Хоронить их в пути не позволили. В конце состава шел вагон с трупами. - «Половина вымрет в дороге - половина на месте» - оценили котласские люди, которые уже видали виды. Жалеть их было некому. Свои тут же рядом погибали без счета.
Я лежал месяц за месяцем на койке против печки. Еще раз объявили амнистию польским заключенным. Это была амнистия по соглашению с новым польским демократическим правительством. На нашем перпункте было человек 10 поляков. Только один из них был освобожден - остальные остались в заключении. Они протестовали и писали жалобы. На этот раз я не жаловался и не протестовал. Я был убежден в бесцельности и - более того - вредности слишком часто повторяемых протестов. За годы, проведенные в лагере, я несколько раз протестовал резко и горячо против своего задержания, и не было смысла еще раз повторять сказанное. Теперь я не хотел больше обращать на себя внимание. Я чувствовал, что на этот раз - чем меньше будут заниматься мной, чем меньше будут знать и помнить обо мне представители власти - тем лучше.
Месяц за месяцем, лежа на койке, забытый всем миром, даже своими врагами, я наблюдал как умирают люди.
Здесь не было войны, и все же великое побоище окружало меня. Отголоски страшного избиения доходили до меня, как в трюм корабля доносится шум бури. «5-ый корпус», засыпанный снегом, напоминал мне корабль, идущий по морю - неизвестно куда. Волны шумели за бортами корабля, а в трюме ворочалась груда человеческих тел. Приглядываясь к ней, я постигал, какая чудовищная машина убийства приведена в движение на просторах России - машина, перемалывающая человеческий «мусор» и изо дня в день выбрасывающая остатки в котласские госпитальные корпуса.
Рядом со мной умирал Вася. Это был 20-летний мальчик, и срок у него был тоже 20 лет. За какие преступления дали Васе 20 лет каторги? Кого он убил или предал? В углу нашей палаты лежал 72-летний старик-колхозник, зарубивший в пьяном виде свою жену. Ему дали два года, а Васе двадцать за то, что он подметал пол у немцев в полиции. Может быть, это была «государственная мудрость», но я не мог не ненавидеть и презирать государство, которое защищало себя таким образом. Два года или двадцать - оказалось все равно, и оба они, старый и малый, умерли в ту зиму в 5 корпусе. Вася умер от горловой скоротечной чахотки. При этом он до последней минуты не понимал опасности своего положения и даже не знал, чем болен. Доктор велел кормить его из отдельной посуды. Это обидело Васю. - «Вот, - сказал он, - когда хватились: когда я уже выздоравливаю!» И умирая, он все был уверен, что выздоравливает, и не понимал, почему это больные в корпусе от него отворачиваются, не позволяют ему садиться на свои койки и ничего не одалживают из своих вещей. Он думал, что они им брезгают, знать его не хотят. Вася, с горловой чахоткой и 20 годами каторги, был беспомощный и неразвитый, ничего не понимавший в жизни мальчик, попавший с миллионами других под колеса жизни. - «Один человек в корпусе - ты, Марголин!» - сказал он мне жалобно, обиженный всеобщим бойкотом. Я его не бойкотировал. Я не принимал никаких мер предосторожности, пил из его кружки и сидел на его постели. Я не боялся заразы, и смерть не пугала меня. Наоборот. Смерть, на худой конец, была путем избавления от рабства, выходом из тупика, куда зашла моя жизнь.
Недоумение овладело Васей в последние дни, когда наступила катастрофа. - «Плохо!» - сказал он мне, наконец, шопотом, и я увидел в его глазах беспредельное изумление. Когда Вася начал хрипеть и задыхаться, уже было известно в палате, кто ляжет на его койку. Он еще лежал в агонии, а уже начался обычный грабеж умирающего. Растащили, подобрали со столика все его жалкие вещи. Санитар забрал хлеб, нетронутый за 2 последние дня. Ничего не осталось - и когда уже вынесли его - я съел его последнюю, простывшую с вечера кашу на донышке глиняной миски и взял себе щербатую железную кружку, которой мы пользовались вместе.
Алиментарная дистрофия чаще всего приводила к водянке. Сперва чудовищно распухали ноги. Потом живот раздувался, как у беременной женщины. Все тело наливалось водой, заплывали глаза, а когда вода подступала к сердцу, человек умирал. В палате было полдюжины больных, которым периодически выкачивали воду из живота. Больной садился на табурет среди палаты, ему прокалывали живот и вставляли трубку, из которой лилась вода. Она лилась долго в подставленный таз, а потом сестра считала, сколько литров воды вышло. У некоторых выкачивали по 15 литров. После этого наступало облегчение, и больной мог недели две лежать в ожидании следующей операции выкачивания. Смерть в этом состоянии была неизбежна.
Ни одна из смертей не произвела такого впечатления на людей в корпусе, как смерть одного литовца, который месяца четыре пролежал с нами. Литовцев вообще было много на пер-пункте. Тут встретились две волны массового выселения из Литвы: в 1941 году и в 1944-ом - перед войной и после изгнания немцев и повторного захвата страны. Во всех корпусах котласского перпункта умирали литовцы. Этот был - железнодорожник из-под Каунаса, человек средних лет, очень солидный, производивший впечатление мирного обывателя. Он еще был довольно крепок, и во время санобработки вызывался добровольно мыть больных. Он был неразговорчив крайне и держался с флегматическим достоинством человека, знающего себе цену. По ночам иногда он просыпался, садился на койке и смотрел пред собой как каменный по часу, потом сходил к печке закурить (днем курение в корпусе строго преследовалось нашим доктором) и без слова возвращался на место. Смерть этого человека была для нас неожиданностью. Он опух как-то сразу, умер стремительно, в несколько дней. Умирал он мучительно и без всякого достоинства: кричал высоким детским голосом, которого никто от него не ожидал слышать, и наполнил всю палату своей агонией. Другие умолкали пред смертью, у этого произошло обратное: молчал всю зиму, уходил в себя, а в последние часы - поднял шум. Весь день он громко бредил, выкрикивал и пел. Он пел пред смертью, он умирал с песнями. До сих пор звучит в моих ушах этот крик его:
-- Lietuvata mana! Lietuvata mana!
Литовцы в корпусе сказали мне, что это значит: «Литва моя, Литва моя!» На всех нас произвело впечатление, что этот человек так тосковал, умирая, по родной стране - не один из нас вспомнил, что есть и у него родина, которой, может быть, не суждено ему увидеть.
На первой койке при входе в палату - против койки Попова - лежал отец Серафим. Ему было за 70 лет, он выглядел как библейский патриарх, с широкой белой бородой и длинными седыми волосами до плеч, которые с одной стороны были заплетены в косичку, чтоб не мешали. Отец Серафим был архимандрит и настоятель одной из московских церквей. Должны быть люди в Москве, которые знают о нем больше моего. Он, очевидно, не сумел ужиться с властью и был отправлен в лагерь уже при новом курсе на сближение с церковью. На следствии его спросили - почему он молился за царя до революции, а за членов Политбюро не молится? Отец Серафим ответил, что готов молиться за членов Политбюро, когда они будут ходить в церковь.
Дважды в день, утром и вечером подымался архимандрит и молился, отвернувшись к стене, с поясными поклонами, а глядя на него стал молиться и наш дурачок Алеша. Но Алеше скоро надоело молиться. Отец Серафим молился один за всех, а когда пришла Пасха, прислали ему посылку с пасхальным печеньем - сладкой бабкой. Он разделил ее между всеми лежавшими в палате, и каждый получил по крошечному кусочку «свяченого». Больные подходили благодарить, и я тоже поблагодарил отца Серафима. При этой оказии я с ним побеседовал о Святой Земле. Отец Серафим посетил Палестину в 1902 году, а перед тем побывал на Афоне, в Греции. Он помнил эту страну сквозь благочестивый туман - святые места, монастыри, церкви, осликов на горных тропах, рыбу, которой угостили его на берегу Генисаретского озера. Я помнил ее иначе: асфальт и бензин, бетон и темную зелень плантаций, тракторы и электростанции.
Золотой крестик был у отца Серафима. Этот крестик дал ему доктор. А доктору передал его, умирая, один из заключенных. Этот заключенный тоже не принес с собой крестика в лагерь, а снял его с шеи своего умирающего соседа. Таким образом, золотой крестик был собственностью всего корпуса. Носил его наиболее достойный, а хранил его доктор, который сам был евреем и человеком непричастным, но выбран был судьбой, чтобы передавать его из рук в руки. Этот крестик был - золотое звено невидимой цепи. Отец Серафим не был его последним носителем, а получил его на время - на очень короткое время. Не знаю, кто носит его теперь. Архимандрит умер осенью 1945 года.
За зиму умерло в 5 корпусе 15 человек. Это значит, что годовую смертность можно принять для 5 корпуса в 30 человек, а для всего котласского пер-пункта по очень умеренной оценке - в 300 человек. Снизим эту цифру наполовину: 150 челоевк. Примем, что люди умирают в Сов. Союзе только в 5.000 лагерей. Это дает 3/4 миллиона жертв за один год при самой умеренной, самой осторожной и сниженной оценке. Действительная цифра может быть много выше. Дело не в статистике. Цифры эти дают представление о том, что мы имеем в виду, когда называем советские лагеря одной из величайших фабрик смерти в мировой истории. Миллион или два - не в этом дело. Все, кто умер и умирает там по сей день - пленники, невольники и беззащитные жертвы режима, не заслужившие своей участи и в огромном большинстве - не совершившие никакого преступления в европейском смысле этого слова.
Я могу представить себе, что многие читатели этой книги будут стремиться оправдать Советский Союз обстоятельствами военного времени. Много миллионов советских граждан погибли тогда на фронтах и в тылу. Одна лишь блокада Ленинграда стоила миллиона голодных смертей. По окончании войны целые провинции Китая поражены голодом. Это правда. Одного только нельзя понять: как можно приравнять смерть людей во время стихийной катастрофы, как война или неурожай - к смерти лишенных свободы миллионов людей, загнанных в лагеря и осужденных государством сознательно и хладнокровно на вымирание. В лагерях Советского Союза совершается избиение политически нежелательных элементов из года в год, и ему не видно конца. Каждый из тех людей, которые умерли зимой 1944-5 года в 5 корпусе Котласского перпункта, мог бы жить, если бы Советское Государство отняло от него душащую руку, и если бы туда была допущена помощь извне, контроль и помощь международных гуманитарных организаций.
Я также могу себе представить, что в оправдание совершаемого массового убийства сошлются на историческую необходимость: нельзя иначе построить коммунизм в данных условиях. Это - аргумент выродков. Этих людей надо спросить, где граница жертв, которые стоит приносить для этой цели. То, что я видел за 5 лет своего пребывания в советском подземном царстве - был аппарат убийства и угнетения, действующий слепо. Для целей коммунизма наверное не было необходимости в том, что сделали со мной и сотнями тысяч иностранцев. Смею думать, что это было скорее вредно.
По чистой случайности я избегнул смерти зимой 1944 года в советском лагере. Весной 1945 года я был до того ослаблен многомесячным лежанием, что разучился ходить. Чтобы приучить обитателей 5 корпуса пользоваться ногами, ввели для нас обязательную 15-минутную прогулку на свежем воздухе. Еще снег лежал в марте, когда стали показываться процессии выходцев с того света, по 4-5 человек, в сопровождении сестры, между бараками. Добровольно мы не хотели выходить: приходилось нас понукать и силой подымать с коек. Из вещкаптерки приносили нам специальную одежду на выход: она была холодна как лед. Я старался выйти со второй партией: тогда вещи были теплые, одевали их прямо с тела на тело. С непривычки голова кружилась на воздухе и замирали ноги. Пятнадцать минут тянулись нескончаемо, а до их истечения не пускали нас обратно в корпус... Я со страхом думал о том неизбежном дне, когда меня выпишут, и я выйду из дверей 5 корпуса - без права вернуться обратно.
Глава 39. Освобождение
Утром 1 июня 1945 года пришел мальчуган-заключенный из 2-ой части и принес письмо заведующему 5-ым корпусом следующего содержания:
- «Сообщите немедленно о состоянии здоровья заключенного Юлия Марголина».
20 июня приходил к концу 5-летний срок моего заключения. В этот день полагалось мне выйти на свободу. Все кругом не сомневались, что меня задержат в лагере, как и других польских граждан, отбывших срок. Если бы хотели освободить меня - могли это сделать зимой, по амнистии. Вместе со мной в Котласе находилось человек 10 польских граждан уже отсидевших срок и им всем сообщили официально, что они «задержаны до особого распоряжения». Один из них уже третий год ждал этого «особого распоряжения». Какие же были у меня основания пойти на свободу раньше их?
Разница между мною и ими была та, что они кончили свой срок до 9 мая 45 года, прежде чем кончилась война, и установка была в этом случае: задержать до конца войны. А мой срок выпадал на 6 недель после окончания войны.
Мне полагалось волноваться и беспокоиться. Но я был равнодушен. Я жил, как в полусне, насторожившись, но внешне и внутренне совершенно спокойный. Сухие кости и духи мертвых так могли бы ждать трубы Архангела, зовущей к воскресению. Возможно ли чудо? Я не мог себе представить воли, и у меня не было желания играть мыслью о воле после повторных жестоких разочарований последних лет. Запрос 2-ой части я объяснял себе моим непомерно затянувшимся пребыванием в больнице. Человек лежит 10 месяцев, не вставая - надо проверить, в чем дело. Возможно, что они хотели меня выслать на этап. Практиковалось, что не освобождаемых в срок отсылали на другое место. Перед включением в списки этапа они хотели знать, в состоянии ли я выдержать дорогу.
Так я объяснил себе этот вопрос. Завкорпусом ответил правдиво, что я поправляюсь после тяжелой болезни, и мое состояние удовлетворительно. После этого прошло несколько дней в ожидании - не вытребуют ли меня на этап. Когда этого не произошло, то за неделю до 20 июня я был выписан из больницы.
Это было сделано потому, что я уже достаточно оправился, и не было возможности дальше держать меня в корпусе, а также и потому, чтобы в случае освобождения было у меня несколько дней переходных, чтобы не вставать мне на свободу прямо с постели.
Великие события этого лета - штурм Берлина и окончание мировой войны - заслонили лагерные будни. Все были возбуждены в лагере, и многим казалось, что пришло время для какой-то невиданной, массовой амнистии. Эта «настоящая» амнистия должна была удивить мир великодушием Советской власти. Все мы ждали амнистии в день 7 ноября, в годовщину революции. Я не мог себе представить, что меня освободят - завтра. Мне было легче ждать этого - через полгода.
Настал день 20 июня - и никто не пришел звать меня во «вторую часть» на освобождение. До 11 часов я лежал на наре в пыльном и грязном бараке. Наконец, я не выдержал и сам пошел во «Вторую Часть».
Это была крошечная избушка, из двух комнаток.
- Что надо?
- Я пришел узнать, почему не вызывают меня на освобождение.
- Как фамилия?
Писарь заключенный стал искать в бумагах, посмотрел на меня и сказал:
- Завтра придешь.
Я ничего не спрашивал больше и вышел растерянный. Почему завтра? Ведь мой срок сегодня! Почему он не сказал мне: «Сиди, пока позовут!» или, с сухой усмешкой: «Скажут тебе, не бойся, когда надо будет!» Вместо этого он сказал мне: «Завтра». Что это значит?
...Завтра... Завтра...
И вдруг у меня дрогнуло сердце. Надо приготовиться на завтра. На всякий случай.
У меня были две вещи нелагерного образца: кожаные ботинки и тяжелый крестьянский зипун, до колен. Обе эти вещи раздобыли для меня перед выпиской из больницы медики 5 корпуса. После того как они спасли мне жизнь, они считали себя ответственными и за мой гардероб за стенами 5 корпуса. Кроме этого, у меня ничего не было. Казенные рабочие штаны на мне состояли из одних дыр и заплат. В таких штанах нельзя было идти на свободу. В карельских лагерях была инструкция, по которой полагалось выдать освобождаемым одежду не новую, но чистую и приличного вида. Здесь, очевидно, не было такой инструкции. Выручил меня Давид Маркович из 9 корпуса. Он отдал мне свои собственные ватные штаны. Они слегка порыжели, но были целы и вполне годились на дорогу.
В другом месте я получил пару хорошего белья. Все это дали мне условно, с тем, чтобы вернуть, если освобождение не состоится. Наконец, собрали мне 50 рублей на дорогу. Вечером я вытащил свой старый рюкзак, залатал дыры и приделал новые лямки. На этом закончились мои приготовления в дорогу.
Весь день приходили ко мне люди с просьбами записать адрес их родных и близких, в Сов. Союзе и заграницей. Все эти люди были уверены, что я завтра иду на волю. В течение 5 лет я много раз просил других людей о том, о чем просили меня теперь; пришла моя очередь давать другим обещания. Те люди не исполнили своих обещаний. Я спрашивал себя в тот вечер, окажусь ли я лучше, или эта непонятная сила забвения, отчуждения и равнодушия восторжествует и надо мной, как только я выйду из лагеря.
Последний, с кем я попрощался, был Нил Васильевич Елецкий. Он все еще находился в 9 корпусе. Теперь 9 корпус был преобразован в туберкулезный, но это не помешало Нилу Васильевичу остаться в нем: у него уже был туберкулез, приобретенный в 9-ом корпусе. Днем выносили койки на воздух, и больные грелись на солнце. Нил Васильевич, завернувшись в одеяло и похожий на Ганди, тоже вышел на солнышко. Что-то мучило старика, что-то было у него невысказано. Вдруг он обнял меня за шею и зашептал:
- Голубчик, не знаю, увижу ли вас... Одну вещь я вам должен сказать. Есть у меня грех пред вами. Не могу расстаться, не сказавши. Вы помните, когда мы вместе лежали, в начале зимы? Согрешил я тогда пред вами... Ведь я ваш хлеб брал, из-под подушки. Немного брал, по кусочку, по ломтику, но брал. Мучился, но брал. Не мог совладать. Простите, и вот... вот...
Нил Васильевич подал мне в кружке рыбную галушку «тютельку», которую он съэкономил с обеда, чтобы угостить меня на прощанье и этим хотя бы отчасти искупить свой грех... Я был сконфужен, пристыжен и тронут до слез. Что за нелепая сентиментальность, и где?.. Я расцеловался с Нил Васильевичем на прощанье и обещал прислать ему табачку с воли.
Этого обещания я не успел выполнить - Нил Васильевич умер два месяца спустя.
Утром 21 июня я пошел во Вторую Часть. Мне велели ждать начальника. Я все еще не смел верить. Долго ждал, часа два, - выходил на крылечко, садился на ступеньку. Уйти от порога я не мог, точно меня привязали.
Начальник мог просто-напросто дать мне для подписи бумажку: «оставлен до особого распоряжения» и послать обратно в барак. Что тогда?
Конечно, конечно, так и будет. Я вернусь в барак, лягу на свое место. У меня хорошие нары, и сосед смирный. Сосед спросит: «ну, что там было?» - Я скажу: «Оставляют пока», и сделаю вид, что иначе и не ждал. Отвернусь к стене и притворюсь спящим. Сосед зевнет, повздыхает и тоже ляжет. Комендант войдет с криком: «Черти, дьяволы, инвалиды! Подымайся, бери швабры, пол хоть вытрите...»
Начальник прошел во вторую комнату, и я вошел за ним следом.
- Гражданин начальник, мой срок кончился вчера. Он заглянул в бумагу на столе.
- Нет. - Ваш срок не вчера, а сегодня. Куда хотите ехать?
Я молчал. У меня захватило дыхание.
Он поднял на меня глаза, и я сделал равнодушное лицо. Что в этом особенного? Заключенный отсидел срок, и понятно, теперь ничего не остается, как отправить его на волю. Дело простое.
- Я польский гражданин, - сказал я медленно, почти с сожалением. - Куда же мне ехать? - В Польшу. Начальник захохотал.
- В Польшу не пускают. Надо выбирать в Советском Союзе.
- Если нельзя в Польшу, то как можно ближе к польской границе.
Тут он сделал серьезное лицо и объяснил мне, что территории бывшей немецкой оккупации закрыты для меня. На юг тоже нельзя мне ехать, но зато я могу ехать в Азию, например в Казахстан.
В эту минуту встал пред моими глазами белый треугольник письма. Зимой Доктор получил письмо. Откуда пришло это письмо? Ага! Из Алтайского края.
- Можно в Алтайский Край?
- Можно.
Алтайский Край славится в Сов. Союзе. Там сытно, хлеб дешев, много молока и мяса. И там - именно там - есть у Доктора где-то земляк, знакомый!
- Извините, гражданин начальник, мне нужно выйти.
Я вышел, оставив его в изумлении. От Второй Части до Пятого Корпуса было несколько шагов. В открытых дверях палаты я увидел круглую спину и белый халат Доктора. Было 11 часов, время обхода больных. Я бросился опрометью в каморку за раздаточной. - «Скорей, скорей!» -
- Вызовите доктора, - сказал я раздатчице Соне. - Сию минуту.
Доктор бросил прием и поспешил ко мне.
- Что с вами?
- Освобождают! Доктор, кто у вас в Алтайском крае?
Он назвал мне город Славгород, улицу и адрес. Не надо было записывать, адрес сразу запечатлелся в моей памяти. Я попрощался с ним и побежал во Вторую Часть. Прошло не более 3 минут, и начальник не успел переменить позы у стола, где я его оставил.
- Еду с Славгород, Алтайского края, - сказал я твердо.
И немедленно преграда встала между мной и обитателями лагеря. Меня уже не отпустили, и все последовавшее разыгралось в ускоренном темпе. Меня форменно выгнали из лагеря. Не позволили ходить, прощаться, разговаривать. Человек из Второй Части пошел со мной в барак, в его присутствии я взял свой рюкзак. Потом повели меня в продкаптерку. Мне выдали паек на 12 дней дороги в Сибирь, по 400 гр. хлеба и 100 гр. соленой рыбы в день. Каптер бросил мне 2 хлеба и большую рыбу. С этим я должен был доехать на место.
Меня отвели в бухгалтерию, где выписали мне справку об увольнении. Мне выдали денег на билет до Славгорода: 131 рубль. Кроме того, я получил 19 рублей суточных, по рублю в день на 19 суток. За эти деньги я не много мог купить (одно яйцо в Котласе стоило 15 рублей), но если бы дорога задержалась и я бы съел весь свой хлеб, то, начиная с 13-го дня, я бы мог заплатить из этих денег за «рейсовый» хлеб - по государственной цене.
- «Проводи за вахту!» сказал начальник 2 части нарядчику. Это чтобы я не мог зайти по дороге в какой-нибудь барак. Но тут я запротестовал. Хлеб мне дали с завтрашнего дня. А что я буду есть сегодня?
- Правильно! - сказал начальник. - Отведи его на кухню, пусть пообедает вне очереди. И сразу потом - за вахту.
Нарядчик присел рядом, пока я хлебал - в последний раз - лагерную баланду и съел крошечную порцию кашицы. Мы вышли вместе. Я не смотрел ни вправо ни влево. Пред дверью вахты нарядчик круто свернул в сторону, а я толкнул дверь и вошел к дежурному стрелку. Он посмотрел мою справку об увольнении, отметил у себя - и показал на выход.
- Проходи, - сказал он без всякого выражения, очевидно, больше не интересуясь мной.
Я поправил лямку рюкзака, где лежал хлеб на 12 дней, и вышел на дорогу.
Это еще не была воля. Это было -- «с той стороны вахты». За пять лет сколько раз я выходил за вахту, с бригадой или с поручением, и в этом не было ничего необыкновенного. Но теперь - я вышел без всякого дела. Я вышел совсем - это было невероятно... До полотна жел. дороги было несколько десятков метров.
Я шел медленно по шпалам полотна. До города было 5 километров. Со справкой об увольнении мне следовало явиться в милицию и получить пропуск в город Славгород. С пропуском я мог идти на станцию и купить билет до Славгорода. От Котласа до Алтайского Края было 2.700 километров.
Был яркий, солнечный июньский день. Пять лет тому назад в такой точно день закрылись за мной ворота тюрьмы. Теперь я шел седой и разбитый по полотну Котласской жел. дороги. Мешок давил мне на плечи. Я был свободен. Но тяжесть была не только на моей спине. Тяжесть была в моем сердце, и еще далеко мне было до облегчения.
Все было во мне напряжено, угрюмо и сурово. С каждым километром, который я отходил от лагеря, как будто тень его вытягивалась и стелилась за мной по пятам. Вся эта местность - заборы, склады, домишки, поляны с обеих сторон пути - была одна окрестность лагеря. По шпалам шли люди навстречу. Худой рабочий в кепке вел за руку девочку. Какие-то бабы прошли в платках, негромко разговаривая и любопытно оглянулись на меня. Вид мой говорил ясно, из какого места я вышел. Но в их взгляде не было враждебности. Я убедился впоследствии, что русские люди, хотя и не упоминают имени лагеря и никогда не расспрашивают о нем, но относятся к бывшим заключенным с чем-то похожим на сочувствие. Атмосфера очень осторожного и молчаливого сочувствия образуется вокруг человека, пришедшего из лагерей. Это понятно: почти каждый из вольных людей имеет в лагере кого-нибудь из близких и родных.
Много прошло месяцев, пока вернулось ко мне нормальное самоощущение, и я действительно почувствовал себя вне опасности. Трудной, далекой и кружной дорогой я вернулся на родину. В тот летний день в предместьях Котласа она еще была очень далека от меня. В тот день я еще был плотно охвачен кольцом советской дисциплины - и страха.
Я отошел километра на два от перпункта и сел на откосе полотна. Тут произошла маленькая неприятность: у меня отнялась правая нога. Сгоряча я прошел два километра, но все-таки я был всего лишь инвалид, неделю назад выписанный из больницы, после 10-месячного лежания. Что-то произошло с моей ногой. Когда я встал, чтобы продолжать путь, оказалось, что я могу только хромать, волоча одну ногу.
В этот момент я не думал больше ни о свободе, ни о своем прошлом, ни о своем будущем. Я думал только о том, как мне добраться до милиции в Котласе, не опоздавши.
На счастье, подошел тихо и остановился пустой товарный состав. Я подковылял к паровозу и спросил машиниста:
- Товарищ машинист, можно доехать до вокзала? В первый раз за 5 лет я употребил это слово, запрещенное заключенным: «Товарищ». Машинист посмотрел на мою ногу.
- Садись.
Я вскарабкался на тендер и вытер пот со лба. Поезд тронулся.
Глава 40. Заключение
Ежедневно на рассвете - летом в пятом часу утра, а зимой в шесть - гудит сигнал подъема на работу в тысячах советских лагерей, раскиданных на необъятном пространстве от Ледовитого Океана до Китайской границы, от Балтийского Моря до Тихого океана. Дрожь проходит по громаде человеческих тел. В эту минуту просыпаются близкие и дорогие мне люди, которых я, вероятно, никогда уже больше не увижу. Подымаются миллионы людей, оторванных от мира так, как если бы они жили на другой планете.
Меня уже давно нет с ними. Я живу в другом мире, где люди свободны думать, поступать и бороться за лучшее будущее так, как им это диктует их совесть. Их счастье и несчастье отличаются от счастья и несчастья советских зэ-ка, как свет от мрака. Я живу в прекрасном городе на берегу Средиземного моря. Я могу спать поздно, меня не считают утром и вечером, и на столе моем довольно пищи. Но каждое утро в пять часов я открываю глаза и переживаю острое мгновение испуга. Это привычка пяти лагерных лет. Каждое утро звучит в моих ушах сигнал с того света:
- Подъем! -
Читатель, я не знаю, с каким чувством ты закрываешь эту книгу, чего ты в ней искал, и не жалеешь ли о потерянном времени. Книга о лагерях не писалась для твоего развлечения или удовлетворения твоего любопытства. Эта книга - не мемуары. Для этого она слишком целестремительна, и относится не к прошлому, о котором вспоминают на склоне лет умудренные опытом люди, а к настоящему. Эта книга не исполнит своего назначения, если не передаст тебе живого чувства реальности лагерей, которые существуют сегодня так же, как они существовали вчера и пять лет тому назад. Ничего не изменилось. Эти лагеря - основной факт нашей действительности, и нельзя понять эпохи, в которой мы живем, не зная того, как и почему они возникли, растут и ширятся в мире.
Не сделай ошибки, и не путай советских лагерей с гитлеровскими. Не оправдывай советских лагерей тем, что Освенцим, Майданек и Треблинка были много хуже. Помни, что гитлеровских фабрик смерти уже нет, они прошли, как злой сон, и на их местах стоят музеи и памятники над гробами погибших - а «48-ой квадрат», Круглица и Котлас функционируют попрежнему, и люди погибают там сегодня так же, как погибали 5 или 10 лет тому назад. Напряги свой слух, и ты услышишь то, что слышу я каждое утро на рассвете, издалека:
- Подъем!-
Отчет о пятилетнем заключении в советском подземном царстве - это повесть о человеческом горе и о границе человеческого падения.
Есть ад на земле, созданный теми, кто притязает на звание строителей Нового Мира. Но книга эта не писалась для целей полемики или «антисоветской пропаганды». Есть среди нас люди, которые готовы отрицать несомненные факты, если они не укладываются в их представление о Советском Союзе. Для этих людей книга о лагерях есть только «антисоветская пропаганда», и они с негодованием отворачиваются в сторону. «Это не может быть правдой», - говорят они. К сожалению, это правда. Серая повседневность и обыденность лагерей даны в этой книге, без сгущения красок, без нагромождения ужасов и жестокостей.
Эта книга в такой же мере является антисоветской пропагандой, в какой «Хижина Дяди Тома» Бичер-Стоу сто лет тому назад была «пропагандой» против южных рабовладельческих Штатов. Состояние миллионов советских зэ-ка много хуже, а мера их морального угнетения и физической эксплоатации много больше, чем все, что делалось с неграми, и что вызвало такой горячий протест - вплоть до вооруженной интервенции.
Каждый из нас обязан знать правду, а если он политический сторонник или попутчик коммунизма, - то он вдвойне обязан знать, что происходит за кулисами Советского Строя. Если же есть у него малейшее сомнение, то он обязан требовать, чтобы ему дали возможность проверить каждое утверждение о советских лагерях, которое делается в этой и других книгах, написанных выходцами из лагерей. Эта книга не предназначена для тех, что считает «наглостью» каждое выступление против советской системы, кто бы хотел подавить и конфисковать малейший крик боли на устах жертв - но для тех, кто хочет знать, что происходит за дымовой завесой лживой казенной пропаганды, чтобы всеми возможными путями прийти на помощь людям, которые в этой помощи нуждаются.
Можно сказать об этой книге, что она написана против. Против угнетения, против страшного зла, против великой несправедливости. Но это определение недостаточно. Она прежде всего написана в з а щ и т у. В защиту миллионов заживо-похороненных, страдающих и подавленных людей. В защиту тех, кто сегодня еще жив, а завтра уже может быть мертв. В защиту тех, кто сегодня еще свободен, а завтра может разделить участь похороненных заживо.
На основании пятилетнего опыта я утверждаю, что советское правительство, пользуясь специфическими территориальными и политическими условиями, создало в своей стране подземный ад, царство рабов за колючей проволокой, недоступное контролю общественного мнения мира.
Советское правительство использовало свое неограниченное господство над шестой частью мира для того, чтобы воссоздать в новой форме рабовладение - и держать в состоянии рабства миллионы своих подданных и массы иностранцев не за какое-либо их действительное преступление, но в качестве «превентивной меры», по усмотрению и произволу тайной полиции. Это обвинение может показаться невероятным каждому, кто вырос в условиях западной демократии, и лично не видел и не пережил доли раба.
Мне же кажется невероятным другое: что миллионы людей на Западе совмещают демократические убеждения и протест против социальной несправедливости в любой форме - с поддержкой вопиющего и омерзительного безобразия, которого в наши дни не видеть нельзя уже.
Я обращаю внимание людей способных не только видеть, но и предвидеть и мыслить, на тот грозный факт, что рабовладение, несовместимое с сущностью капиталистического строя и нравственным сознанием зрелого человечества - становится технически возможным и экономически осмысленным явлением в рамках тоталитарной идеологии XX века.
Техническая революция привела к тому, что правительства, которые не могли бы удержаться на штыках, могут отлично сидеть на танках и автоматическом вооружении. Рабский труд оплачивает себя снова как политически, так и экономически. Гитлер продемонстрировал один вариант господства, основанного на рабском подавлении «низших рас» и слабых народов: вариант глупый и нерациональный. Кто хочет убедиться, как выглядит советский вариант, не менее циничный, но более умный и совершенный - пусть попробует добиться очной ставки с миллионами советских рабов. Настежь двери лагерей для людей независимой науки и свободной мысли! - Пусть они войдут туда не как пленники под конвоем, со сроками по 10 лет принудительного труда, но как посланники народов, свободные исследователи и наблюдатели - на великое и неподкупное следствие.
Советским правительством созданы условия жизни для 200 миллионов людей, резко противоречащие элементарным потребностям духа и тела 90% населения. Как следствие, существует в советском народе неистребимое и вечно возрождающеся недовольство. Это недовольство имеет в массах форму слепого - даже не протеста! - а всего лишь чувства неудовлетворенности и тяжести, но оно неистребимо, и несмотря на все чистки и превентивное заключение, оно возрождается с той же необходимостью, с какой отрастают у человека ногти и волосы после каждой стрижки. Для людей, проявляющих в какой бы то ни было форме недовольство и критическое отношение, - или даже только подозреваемых в том, что они его когда-либо проявят - создан советской властью небывалый резерват рабства, равного которому не знает мировая история. На основе произвольного выбора местными органами власти и по указанию центральных органов этот резерват пополняется всеми «неудобными» и «лишними» в глазах власти элементами, причем человеческая жизнь расценивается не выше, а практически часто ниже, чем ценность рабочего скота. Таково положение дела в величайшей державе нашего времени. Лагеря с их многомиллионным населением представляют корректив Советского Строя, неуничтожимый в условиях тоталитарного насилия над человеческой природой.
И если в ответ «адвокаты диавола» сошлются на факты расовой и национальной дискриминации за пределами Советского Союза, то на это следует ответить, что эти факты не вытекают из сущности Западной демократии, и их устранение - рано или поздно - будет торжеством активной и борющейся демократии. Тогда как принудительный лагерный труд прямо вытекает из сущности Советского строя, и от него неотделим. Это - две стороны одной медали. Поэтому литература Запада говорит открыто и смело о всех социальных дефектах демократии и вносит свет во все темные уголки, - а подцензурная литература рабовладельческого строя молчит и старается не смотреть туда, где темно. Ей нечем ответить на обвинение, кроме брани и отрицания фактов.
Необходимо протестовать против лагерной системы, как самого чудовищного явления современности, в котором заложены ростки мировой катастрофы. Моральная и политическая катастрофа начинается в тот момент, когда методическое и массовое мучительство, увод людей и убийство, практикуемое под прикрытием марксистской и демократической фразеологии, начинает замалчиваться или оправдываться людьми прогресса, людьми Революции и доброй воли.
Как бы мы ни понимали существо демократии, ясно, что она возможна только в атмосфере абсолютной прозрачности, наглядности и видимости. Мир демократии должен быть обозреваем из конца в конец. Там же, где имеются тайники и запретные зоны, где что-то тщательно скрывается от взгляда за стенами тюрем и лагерными оградами - мы можем быть уверены, что творится злое дело. Лагеря в их настоящей форме могут существовать только ценой строжайшей и герметической изоляции и недоступности для внешнего мира, - подобно тому, как гитлеризм укрывал свои позорные секреты не только пред внешним миром, но и пред массой собственного населения.
То, что произошло с автором настоящей книги между 1939-46 годом, само по себе достаточно жутко. Человек, не совершивший никакого преступления и совершенно посторонний советскому государству, мог быть захвачен на чужой территории и без суда, при соблюдении строжайшей анонимности, на ряд лет вырван из мира. Меня приговорили к рабству, вывезли на край света и подвергали физическим и моральным мучениям в течение ряда лет, когда имелась полная возможность вернуть меня на родину, где мня ждали дом, семья и работа. От смерти спас меня случай. Вреда, который нанесен мне и моей семье, уже ничто не исправит. Но дело не в этом. В том состоянии, в каком я находился, продолжают оставаться миллионы людей. Речь идет о них.
То, что я пережил в Советском Союзе, - это страшный кошмар. Моей обязанностью и моим первым движением, по возвращении в Европу было - дать отчет о пережитом и передать крик о помощи людей, отрезанных от мира. Но только здесь, среди свободных людей Запада, я понял всю глубину несчастья тех, кто остается в заключении. Выйдя за колючую проволоку лагерей, я наткнулся на каменную стену, построенную малодушием и предательством.
Я убедился, что в известных кругах, и именно в тех, чья помощь необходима в первую очередь, - не принято говорить вслух о некоторых явлениях, имеющих место в Советском Союзе. Это шокирует. Более того, это компрометирует. Не раз, а десять раз я услышал, что обвинять Советский Союз могут только враги прогресса и союзники реакции.
Эта книга писалась при молчаливом и явном неодобрении моего окружения, и если бы не личный мой опыт и сила убеждения, которой я обязан пяти лагерным годам - возможно, что я подчинился бы коллективному внушению, как это делают другие участники «заговора молчания».
Отношение к проблеме советских лагерей является для меня ныне пробным камнем в оценке порядочности человека. Не в меньшей мере, чем отношение к антисемитизму.
В самом деле, достаточно упомянуть о жертвах лагерей, чтобы у людей, которые при каждой другой оказии полны медовой доброты и демократической отзывчивости на малейшее несовершенство мира, вдруг выросли волчьи клыки и обнаружилась абсолютная невосприимчивость слуха и ожесточение сердца - как в известном рассказе Стивенсона о м-ре Джекилле и м-ре Гайде.
Каждое происходящее в мире преступление должно быть названо во всеуслышание по имени. Иначе борьба против него невозможна. Ни одно попрание человеческого права не смеет остаться анонимным. Лозунг слабых людей - «не говорите вслух! не называйте по имени!» - есть лозунг бесчестный. В известной мере он делает их сообщниками преступления.
- «Горе слабым!» - этой мудрости научило меня пятилетнее пребывание в советском подземном царстве. Удел слабых - рабство или гибель. Жестокий и страшный смысл этих слов надо понять, не для того, чтобы преклониться перед слепым насилием, которое нам угрожает повсюду. - Горе слабым! Я видел и разделил судьбу слабых в советской стране. За тысячи километров от центров террора, далеко за границей сталинской власти, я еще видел подлый заячий страх слабых. Я научился ненавидеть насилие в его зародыше. Зародыш всякого насилия - в смирении слабых.
Единственный ответ на жестокую правду. Горе слабым! - заключается в том, что Право обязано облечься в силу. Против силы бесправия - сила права. Из сознания права - родится смелость защищать попранное право человека - и нужная сила.
До тех пор, пока сознание демократического мира примиряется с существованием резервата рабства в Советском Союзе, нет надежды на то, что мы предотвратим угрозу рабства в нашей собственной среде.
Тель-Авив, 15.XII.46-25.АХ.47
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ Ю. Б. МАРГОЛИН. СТАТЬИ О СТРАНЕ ЗЭ-КА, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГУ
Статьи о стране зэ-ка, не вошедшие в книгу
Статья 1 Ю. Б. Марголин «Трое»
В январе 1943 года троих людей постигло несчастье в конторе ЦТРМ. Совершенно по разному коснулась их судьба, и я, невольный свидетель человеческого горя, то и дело отвлекался от собственной беды необыкновенным зрелищем того, что творилось кругом. Наше «мертвое царство» было полно необычных «подземных» трагедий, которые не случаются на поверхности земли. Клубок человеческих тел, в котором я завяз, беспрерывно двигался, и я невольно натыкался на чужую беду, как пойманная рыба в сети, которая не может пошевелиться, чтобы не столкнуться с другой такой же рыбой.
В одно январское утpo мы слушали радиопередачу о немецких зверствах. На одном из: хуторов Воронежской области немцы перебили десять детей за то, что один из них стянул папиросу у немецкого лейтенанта. Детей пред смертью истязали, и радио передавало фамилии и имена: Коля Костров, 12 лет, Шура Костров - 10 лет... Кругом щелкали счеты, и люди слушали не очень внимательно. Но вдруг старший бухгалтер поднял голову: - Костров, Воронежской области... А наш Василий Николаевич откуда? -
Завхоз бригады ЦТРМ Василии Николаевич Костров был донской казак, лет за тридцать, маленький, энергичный, живой, и со всеми большой приятель.
- Да нет - сказал другой: Костров ростовчанин. А хутор сходится: хутор Александровский.
Мы стали слушать радиопередачу: засекли до полусмерти, бросили зимой в погреб на сутки, в конце концов застрелили. Зе-ка молчали. Мы жили за забором, а это были счеты людей в открытом поле. Вошел с мороза Костров и стал в yглу отряхать снег с валенок.
- Вася, - спросил бухгалтер Петров, - ваш хутор ведь Александровский?
- Александровский:
- А области какой?
- Области Воронежской - сказал Костров. - Был - Ростовской, а потом стал Воронежской.
- Остались дети?
- Двое - сказал Костров. Мальчики. Им теперь должно быть 11 лет и 10.
В конторе наступило внезапное молчание. Все переглянулись, и кто-то забыл щелкать на счетах.
Костров сидел в лагере уже пять лет, и ему оставалось столько же. В этих условиях отцовская привязанность блекнет, меняет свой характер. Дети - прошлое дело, воспоминание. При встрече Костров не узнал бы своих детей, а они его. Но все-таки - отец! Надо ему сказать, может быть это ошибка...
На лице бухгалтера Петрова задвигались скулы, и мы увидели, что он очень взволнован тем, что может первый объявить ему такую сенсацию. Видеть спокойного, ничего не подозревающего человека и знать, что он в твоей власти, и от одного твоего слова сейчас скорежится, как береста на огне, - это необыкновенное чувство!
Он сказал очень веско и раздельно, глядя во все глаза на маленького Кострова:
- Радио передало сию минуту: на хуторе Александровском, такого-то округа, Воронежской области, убиты немцами дети Костровы, Коля, и Шура...
Koстров побелел как полотно и сел. Наперерыв стали ему пересказывать содержание передачи.
- На сто километров кругом - сказал он - нет в округе других Костровых кроме нас...
Он вопросительно поглядел кругом, точно ждал, что кто-нибудь заспорит с ним. Но никто не спорил, не разубеждал его. Он подождал минуту и вышел во двор. Голос по радио был единственной информацией, которая дошла до него. Все в тот день слушали радио, в надежде, что сообщение повторится.
Действительно, еще несколько человек слышало это сообщение, и каждый передавал по своему: область, возраст детей каждый слышал иначе.
Но Костров больше не сомневался. Через несколько дней раздобыли и газету, со всеми подробностями. ОН ни с кем не говорил на эту тему и на долгое время перестал улыбаться и шутить. Потом подал патриотическое заявление в Верховный Совет СССР: он просил, чтобы его послали на фронт и дали возможность отомстить за смерть своих детей, о которой прочла вся Советская страна.
К этому заявлению Культурно Воспитательная Часть приложила похвальную характеристику его поведения и лагере, но ничего не помогло. Через полтора года Костров все еще сидел в Круглице. Слишком много перебили немцы советских детей, чтобы советское правительство могло позволить себе освободить всех их отцов в лагерях.
Или иначе: слишком много отцов семейств, находится в заключении, чтобы такая, или иная, судьба их детей могла повлиять на их «срок». Случай с детьми Кострова был использован в радио для целей пропаганды: «смерть врагу!». Но только мы, сидевшие в круглицком лагере, могли обозреть этот случай полностью и знали, что погром семьи Костровых начался еще до прихода немцев в их деревню.
Освободили зато Раевского. Это был молоденький инженер, москвич, человек не только образованный и воспитанный, но и вполне владевший собой. Раевский был неразговорчив вежлив невероятно, сдержан прямо-таки до степени английской флегмы, причесывался с пробором, симпатично улыбался, имел несколько французских книжечек, которые охотно одалживал желающим. Я тоже взял у него на прочтение повесть Пьера Доти: «Ramouncho».
Мы вce обрадовались, когда пришло распоряжение освободить Раевского. В декабре 42 года он кончил свой пятилетний срок.
Бог знает, с каким напряжением этот замкнутый и корректный человек ждал этого дня, с каким укрытым волнением считал последние дни в лагере. Он работал в инженерно-конструкторском бюро ЦТРМ. Все техники ремонтных мастерских жили вместе в отдельной «чистой» перегородке общего барака, держались хорошо, выглядели прилично и даже внешне были похожи друг на друга. У одного были французские повести, у другого гитара, у третьего картинки из иллюстрированных журналов были вырезаны и висели над нарой. По освобождении Раевскому не разрешили выехать из района. Oн остался в той же Круглице и получил назначение начальником того же инженерно-инструкторского бюро, где работал будучи заключенным. Это и были та «свобода», которой он ждал пять лет. Теперь уже не водили его под конвоем на работу, но зато жизнь выдвинулa другие проблемы.
Во-первых, он не мог найти себе комнаты в поселке. Негде было жить. Наконец, он нашел комнатку в трех километрах от Круглицы, пустую. Надо было раздобывать кровать, стол. Не только некому было за ним смотреть, стирать, варить, штопать. Хуже: нечем было топить. Уже не было вечером электричества и радио, как в лагерном бараке, и даже казенное одеяло отобрали у него при освобождении. В мирное время он бы написал матери в Москву, оттуда прислали бы одеяло и прочее, но теперь из Москвы посылок не отправлялось. Еще важнее был момент одиночества. Раевский привык за пять лет. не замечая того, быть на людях, в шуме, в общежитии. Для лагерника единственный способ остаться одному, это накрыться с головой одеялом. Для людей деликатных может быть мучительно такое отсутствие одиночества, но для людей несчастных - это большая опора. На миру, как известно, и смерть красна. Надо представить себе состояние, в котором Раевский после дня работы возвращался в свою холодную, пустую и темную нору.
Раевский оказался не в состоянии справиться со своей долгожданной «свободой». Скоро мы заметили в нем большую перемену. Если бы ему позволили, он бы охотно вернулся в лагерный барак, на старое насиженное место. Но он был освобожден. В короткое время Раевский опустился и осунулся, помрачнел, стал неряшлив, перестал бриться и стал под разными предлогами пропускать рабочие дни.
Всем стало очевидно его душевное расстройство. С Раевским явно творилось что-то неладное. Он стал рассеян до того, что, не слышал, что ему говорили, отвечал невпопад, впадал в тяжелую задумчивость и в этом состоянии сидел по полчаса, уставившись на стену в нашей конторе как будто там было написано что-то невидимее для нас.
Самое трудное для него было, конечно, ходить в зимние бураны за три километра домой и из дому. Дороги не было. Ходить надо было по полотну железной дороги. В один из вечеров в январе и случилось несчастье. Паровоз настиг его на повороте, в снежную вьюгу, в непроницаемом белом облаке метели. Раевский опять был рассеян. Он шел опустив голову, закрыв уши крыльями ватной ушанки. Когда навис над ним паровоз, тяжело дыша и светя огнями,- уже было поздно. Он кинулся и сторону, в сугроб, споткнулся на рельсах и остался лежать. Ему отрезало ногу начисто.
Таким образом, он все же вернулся в лагерь, в хирургический стационар. Оттуда он вышел через 4 месяца - без ноги, но и без всякого следа душевной болезни. В лагерном госпитале он, как вольный, конечно, не мог лежать вместе с зэ-ка. Это было бы оскорбительно для его звания вольного, советского гражданина. Поэтому положили его отдельной комнатушке рядом с процедурной, где помешался лекпом Карахан Шалахаев, нацмен, который, правда, тоже был зэ-ка, но, как медик и культурный человек, был очень полезен больному. Из стационара Раевский вышел на костылях, но примиренный с жизнью и по-прежнему вежливый и сдержанный - до степени английской флегмы, с симпатичной улыбкой и тем абсолютным самообладанием, которое так нужно советскому гражданину на всех этапах его жизненного пути.
Самая же скверная история случилась с третьим членом нашей компании. Это был самый симпатичный из всех, живчик, и именно ему я действовал на нервы тем, что слишком часто грелся у печки. Григорий Иванович Новосадов исполнял в конторе ЦТРМ обязанности счетовода, он был уже не молод, виски серебрились, но хохолок на лбу был у него воинственный и задорный, и вся небольшая фигурка, сухонькая в русской рубашке, необыкновенно напористая и боевая. Григорий Иванович имел что-то офицерское в своей манере держаться. А между тем это прирожденный и наследственный бухгалтер, - «булгахтер», как говорили у нас в лагере, - и типичный советский служащий из Владимира на Клязьме. В городе Владимире на окраинной улице был у него деревянный домик, огород и двор с курами, а в сарайчике откармливался боров, которого Григорий Иванович собственноручно колол на Пасху. Все это было давно - десять лет тому назад. Новосадов сидел с начала 33 года. Десять лет просидел он в лагере и не погиб, а только весь пропитался полынной горечью, весь пропах махоркой, весь сжался как колючий ежик - и стал невероятный ругатель. Новосадов ругался лихо, ругался с дикой энергией и вдохновением, каждую фразу уснащал затейливой фиоритурой; которая могла поразить даже виртуозов в этом деле. Новосадов ругался талантливо, в России не уметь изругаться и не пить - есть знак худосочной бездарности. Уже сочность его языка свидетельствовала о том, что он человек душевный.
У Новосадова было одно переживание молодости: первую мировую войну он провел в австрийском плену и чуть было не погиб в лагере для военнопленных. Оттуда спас его немецкий благодетель, инженер, и взял работать на завод в Вене. От пребывания в Вене остались у Григория Ивановича крохи немецкого, и очень хорошие воспоминания, с которыми он не таился. Это его и погубило. Со мной он тоже пробовал говорить по-немецки и вспоминать императорско-королевскую Вену.
Кроме того, он беспощадно шпынял меня, считая человеком пропащим и негодным, и, как сказано, не давал стоять у печки. Однако, когда с утра в конторе не было для меня работы, и старший бухгалтер Петров ледяным взглядом уставлялся на меня как на вещь, подлежащую ликвидации, именно Новосадов изобретал для меня какую-нибудь работишку, подсовывал что-нибудь для переписки...
Двое сыновей Григория Ивановича были на фронте, дослужились там до чинов и медалей, но никто из них не писал отцу в лагерь, и это наполняло Новосадова горечью и возмущением. - «Отца родного забыли!» говорил он. «Что им отец? карьеру делают! Вместо того чтобы требовать от власти, - да, требовать - чтобы вернули отца, кулаком но столу ударить, молчат как ж...! Погоди, вернусь домой, еще встретимся. выскажу я им, что о них думаю...».
Вся контора ЦТРМ и весь барак АТП точно знали день, когда Григорию Ивановичу полагалось выйти на свободу. У него уже был приготовлен в чемоданчике и костюм на волю: суконные брюки, верхняя рубашка, купленная у польского зе-ка, пиджак и шапка, - все новое, праздничное.
«60 дней» говорил он торжественно. Месяц прошел. «Теперь уж только 30 дней! остается». Он считал остающиеся дни, сиял и ликовал, выглядел как жених пред венчанием. - «Наколи хоть дров напоследок!» говорили ему коллеги в конторе, «через месяц забудешь нас». На стене он повесил caмодельный календарик и на нем обвел кружком день - заветный день, когда ворота вахты должны раскрыться перед ним. Даже глаза его посветлели, прояснились - глаза, которые обыкновенно были подернуты пленкой, точно десять бесконечных и беспросветных лагерных лет оставили на них налет.
За неделю до заветного дня Григорий Иванович уже не жил, и работу бросил, или, вернее, уже не в состоянии был ничего делать, ни на чем сосредоточиться.
Вдруг...
Вдруг позвали Григория Ивановича к уполномоченному. После этого разговора он уже не вернулся в контору. Он пришел в барак, лег на свое место и замер. На нем лица не было.Стряслась беда - одна из тех лагерных историй, которые на порядке дня и никого не удивляют.
Сколько лет жил Григорий Иванович и не знал, что кто-то за ним следит, записывает каждое неосторожное слово, и о Вене, где пленным гулял, и о взрослых сыновьях, что не имеют за отца заступиться, и еще, и еще... копился материал донесения поступали годами, одно к одному. Накануне освобождения «третья часть» переслала его «личное дело» прокурору в Ерцево, а тот, не долго думая, поставил резолюцию: «задержать, расследовать». Такая резолюция уже предрешает судьбу заключенного. Прежде всего велели ему оставаться в бараке, не ходить больше в контору. Потом вызвали к уполномоченному старшего бухгалтера Петрова: «Что вы знаете о Новосадове? говорил он о немцах? занимался критикой советской власти?» За ним стали вызывать и других, предупреждая, что если скроют что-нибудь, будут отвечать наравне с ним. Из ничего стало создаваться «дело». Каждый позванный смертельно боялся за себя и старался показать лояльность, чтобы самому не запутаться.
В последний вечер, когда я видел Новосадова, он был похож на мертвеца. Никто с ним не разговаривал и не подходил к месту, где он лежал. Вдруг он тихо позвал меня. Я сел около него на нару, и он зашептал: «на днях, может, и тебя позовут на допрос, будут спрашивать обо мне... так ты смотри, не говори лишнего, не закопай меня!» - «Да нет, Григорий Иванович, что ты? Разве я похож на доносчика? Да мы ни о чем таком и не говорили. Я тебя знаю как хорошего человека. - Скажу правду, что ты немцев ненавидишь и гордишься своими сыновьями-героями.» «На меня Петров донес! Смотри, берегись его».
«Ну чего ты дрожишь, Григорий Иванович ничего не будет, проверят, и всего только. Ведь тебя все тут знают. Быть тебе счетоводом во Владимире до самой смерти». Меня не позвали к уполномоченному. Новосадова на следующий день перевели в карцер, а оттуда отправили в ерцевский центральный изолятор (тюрьму). В Ерцеве дали ему второй срок - еще 10 лет - и услали в другой лагерь. В Круглицу он уже не вернулся.
И единственным напоминанием о нем в конторе ЦТРМ остался маленький самодельный календарик на стене, с датой обведенной кружком: «заветный день».
В январе 43 года судьба Кострова, Раевского и Новосадова занимала мое воображение только потому, что я случайно оказался их соседом в конторе. Если бы я работал в другом месте, жил в другом бараке то и горе пришлось бы мне видеть другое, и было бы его не меньше, а больше. Ведь контора ЦТРМ была еще одним из самых благополучных местечек в лагере, оазисом тишины!
Статья 2 Ю. Б. Марголин «Интеллигенция в лагере»
Тема - «интеллигенция в советском лагере» - представляет собой только частный случай и производное от более широкой темы: «интеллигенция в советском обществе». Лагеря («трудколонии» и как бы они еще иначе ни назывались) с их населением и структурой не противостоят советскому обществу, а существуют внутри него, как законный результат и следствие породившей их системы. Вследствие «сгущенности» или «обнаженности» (можно также сказать «преувеличенности») некоторых свойственных системе черт, лагеря могли бы служить прекрасным полем наблюдения для социолога, психолога и философа... если бы такое наблюдение не исключалось самой природой лагерного режима. Никто до сих пор систематически не исследовал положения интеллигента в советском обществе - и тем менее в советском лагере - несмотря на обилие материала, накопившегося в литературе о лагерях, всегда, впрочем, в большей или меньшей мере обесцененного ограниченностью личного опыта и его эмоциональной насыщенностью, далекой от бесстрастия. У людей, прошедших пять-десять лет лагерного заключения, - свой горький опыт, но далеко не всегда, при наилучшем желании, оказываются они в состоянии обобщить его или придать ему систематическую форму. Даже в книгах-сводках (последняя по времени и богатая содержанием - Paul Barton «L 'Institution eoncentrationnaire en Russie», Paris, Plon, 1959 содержит обзор известного материала за время с 1930 по 1957 год) мы не найдем многого на интересующую нас тему. Нижеследующие замечания не претендуют на большее, чем на своего рода «мотто» к той работе, которая когда-нибудь будет составлена.
Мне известны по собственному опыту восемь советских лагпунктов. Только в трех я находился более продолжительное время: год в одном, около трех лет в другом, около года в третьем. Время 1940-45. Это были годы войны. С тех пор, как мы знаем, многое изменилось в лагерном быту. Уменьшилось число заключенных, улучшились бытовые условия. Эти (и другие.) перемены не коснулись, однако, существа лагерной жизни. Лагеря при Хрущеве, как и в сталинскую эпоху, остаются закрытыми и недоступными для объективного наблюдения, тем более изучения. Лагеря засекречены и представляют собой часть той конспиративной стороны режима, раскрытие которой, хотя бы частичное, признается шпионством.
Для нашей темы важно отметить одну перемену: с начала 50-ых гг проводится отделение политических заключенных от «бытовиков». Это не могло не отразиться на атмосфере и быте лагерей. Понятие политзаключенного не совпадает с понятием интеллигента вообще, а особенно в Сов. Союзе, где прегрешения против установленного порядка продолжают иметь массовый характер, как нигде в странах Запада. Но, очевидно, среди политзаключенных положение интеллигента будет иным, чем среди бытовиков, и, в частности, концентрация политзаключенных, имевшая место после войны, вызвала те симптомы или попытки «политических» проявлений, какие не наблюдались до и во время войны.
Существуют привычные понятия-штампы, которые наполняются для нас живым содержанием только при соприкосновении с действительностью. Один такой штамп - «республика рабочих и крестьян» -«рабоче-крестьянское правительство» известен со времен Ленина. Как третий член, несколько позже пришла «трудовая интеллигенция». Советское общество состоит из рабочих,крестьян-колхозников и «трудовой интеллигенции», но строится оно -партией. Партиец имеет свои особые черты независимые от классового происхождения.В какой мере стиль советской жизни определяется трудовой и, определеннее, партийной интеллигенцией, оставалось неясным западным наблюдателям, пока - невольно - те из них, кто в начале войны попал в распоряжение советской администрации, не столкнулся с социальной «материей» советского общества.
Тогда мы сделали одно поразительное открытие: нигде ни в кабинетах начальников советских учреждений, с которыми приходилось иметь дело, ни в органах политической полиции, арестовывавшей нас, ни во время допросов, производимых прошедшими специальные школы следователями НКВД, ни на ответственных постах руководителей лагерной администрации - мы не встречали «интеллигентных» людей в европейском смысле слова.
Перед нами были люди примитивные, часто безграмотные, люди темные, выученные властью выполнять определенные функции, люди не лишенные природного ума и отлично приспособленные к той советской действительности, о которой мы не имели понятия, - но это не были «интеллигенты». С ними не было у нас общего языка, и мы не могли иметь к ним претензий, когда они просто не понимали что им говорят. В первое время мы полагали, что массовые аресты невинных людей и вывоз их на далекий север в лагеря, предназначенные для преступников, основан на ошибке или недоразумении. По нашему предположению, люди интеллигентные и образованные, управляющие огромной страной, находились где-то выше, в центральных инстанциях. До них трудно добраться, но когда мы установим с ними контакт, всё сразу выяснится и будет улажено. Только постепенно, в течение долгих месяцев, для нас стало ясно, что среда людей управляющих огромным лагерным царством, с его миллионами населения, гомогенна снизу до верху.
Различия в личной одаренности и степени партийной подготовки людей, составляющих аппарат власти в Сов. Союзе, не касаются того главного, чему он обязан своим единством и психологической однородностью. Это главное - результат исторической эволюции диктатуры в Сов. Союзе. «Республика рабочих и крестьян» - отнюдь не фикция и не миф, созданный советскими идеологами. Своим существованием она обязана концепции интеллигентов. Зачатая в уме Ленина и его ближайших сотрудников, она была осуществлена и построена выходцами из рабочей и крестьянской массы. Этой массе, которая интеллигенцией в свое время искренне идеализировалась (в трех разных вариантах: славянофильства, народничества и ленинской веры) пришлось взять на себя функции непосильные и превышавшие ее умственный и моральный уровень. Интеллигенция в старом, классическом стиле 19 столетия была советской революцией отброшена, в силу ее чуждости и непригодности, или же поставлена в служебное положение. Устранением интеллигенции, как влиятельного политического фактора, направляющего и формирующего сознание масс, объясняется не только общая брутальность большевицкой системы, но и пассивность, с какой массы, вовлеченные в превышающий их разумение революционный процесс, следуют партийному руководству.
Очень скоро наметился естественный отбор среди масс, выдвинутых в процессе революции на командные посты. Во времена Сталина перестали говорить о «рабоче-крестьянском правительстве». Возник новый класс властвующих, класс советской бюрократии и технократии, воспитанный не в традициях старой русской либеральной и радикальной, свободолюбивой при всех своих разногласиях интеллигенции, а в чиновничьем послушании, железной дисциплине и той эмфазе исполнительности, для которой параллель в русском прошлом можно найти разве только в явлении московских «служилых людей».
Яркой демонстрацией этого нового класса явился его зрелый продукт и законный возглавитель, Никита Сергеевич Хрущев, во время своих гастрольных поездок «по лицу земли широкой». В этой демонстрации был дан незабываемый урок западному миру. Кто такой Хрущев? Не крестьянин и не рабочий, несмотря на свое происхождение, и меньше всего интеллигент, несмотря на многообразную осведомленность. Он, в кругу своих «служилых людей диктатуры», - наглядное свидетельство метаморфозы правящего слоя в Советской Империи.
Проблема - что сталось с интеллигенцией, понимаемой как авангардная интеллектуальная группа, духовная элита нации, этим не разрешается. Наука, метафизическая мудрость, литература, искусства, техника, - это все существует в Сов. Союзе и повинуется внутренней логике своего развития, частью покровительствуемое властью, частью регламентируемое и преследуемое. Но как бы ни относилась советская власть к отдельным представителям интеллигенции, носителям самозаконного начала, - нет сомнения, что интеллигенция в целом, как социальное явление, типичное для западной культуры (или для всякой культуры, основанной на почитании духовных ценностей), ею осуждена. Там, где задачей является приведение масс к общему духовному знаменателю, там встреча носителей монополизированного «просвещения» и «просвещаемых» масс происходит на полдороге специальной выучки и квалифицированного мастерства. Культурный процесс проходит под знаком дрессировки, методы которой могут отличаться разной степенью брутальности; при этом интеллигенция неизбежно, поскольку она хочет быть независимой от предуказанного властью шаблона, объявляется «буржуазной», «антинародной» и тем самым подлежит усмирению и уничтожению. Не обязательно для этой цели изолировать ее в лагерях (судьба Б. Пастернака). Советская страна полна глухого и затаенного внутреннего сопротивления. Условием существования интеллигенции в Сов. Союзе является, по крайней мере, ее внешняя лояльность и дисциплинированность. Лагеря же представляют особый случай, поскольку в них социальная структура советского общества дана в чистом виде, и все контрасты и особенности советского общества выступают без украшений. Лагеря - модель общества, управляемого голым насилием, где не требуется даже фикции «согласия» управляемых. Тема - «интеллигенция в лагере» - полна глубокого интереса именно в силу парадоксальности и противоестественности этого явления. Акт, в силу которого помещается в лагерь принудительного образа жизни (что гораздо шире чем «принудительный труд») человек не вопреки своей интеллигентской сущности, а именно, за свою принадлежность к этой осужденной социально-духовной категории, есть акт политической перверсии.
Отметим, прежде всего, что процентное отношение интеллигенции в лагерях (или как бы еще иначе не назывались места принудительного «перевоспитания») должно значительно превышать ее относительную численность в советской провинции.
Дореволюционная интеллигенция концентрировалась в университетских городах и только редкими одиночками была вкраплена в деревенскую и провинциальную Россию. Всегда существовала огромная разница между культурным уровнем и интеллектуальным напряжением жизни в большом русском городе и в глухой провинции. Она сохранилась и по сей день. Я провел почти год в маленьком сибирском городке Алтайского края с населением в 20 тыс. (Славгород, 1945-6), работая на заводе и ежедневно встречаясь с людьми самых разнообразных занятий. Если были в этом городе русские интеллигенты (не-русских, ссыльных, было немало), я с ними не встретился. Они были хорошо законспирированы. Суждения моих сослуживцев, их осведомленность в вопросах мировой политики, литературы, искусства находились на детском уровне. Этим я не хочу сказать, что они «ошибались» или «мало знали» о том, что происходит в мире. Более важным было то, что они были целиком определены извне, как дети, беспрекословие принимающие авторитет старших. В лагерях в течение пятилетнего пребывания я имел большую возможность общаться с интеллигентами, чем на воле в советской провинции. Можно, не рискуя впасть в преувеличение, сказать, что после культурных центров и институций ССОР вторым местом, где заметно ощущается присутствие интеллигентских элементов, является замкнутый мир советских лагерей.
Структура лагерного общества, его расчленение по производственному признаку, представляется следующим образом:
Во-первых: основная рабочая серая масса, поделенная на «бригады». Во-вторых: «лагобслуга» не занятая на производстве, - комендатура, бухгалтерия, кухня, санчасть, техническая и культурно-воспитательная часть. В третьих: администрация из заключенных, распоряжающаяся работой и бытовыми условиями лагерной массы. В четвертых: «вольные», т. е. военизированная охрана, политический надзор и верхушка администрации из не-заключенных (часто бывших заключенных). С принадлежностью к одной из этих групп связаны различия в материальном положении и общественная позиция лагерного человека, и поскольку это четвертое деление не произвольно и случайно, а лежит в основании функционирования лагерного общества, можно их называть «классами», своеобразным отражением классового строения всего советского общества.
Интеллигенты, т. е. люди по своему образованию и типу выделяющиеся из общей массы заключенных, концентрируются, главным образом, в бараках АТП (административно-технического персонала), в санчасти, обслуге, но можно их встретить так же на общих работах и среди инвалидов, составлявших, в мое время, непременную принадлежность каждого советского лагеря. По отношению к ним, насколько возможно без ущерба для производства, но часто и в ущерб производству, власть применяет принцип «ротации», т. е. не допускает, чтобы люди слишком долго оставались в той же функции и в том же лагере, чтобы они закрепились и привыкли к своему месту и окружению.
Быть интеллигентом в лагере отнюдь не составляет преимущества и так же мало дает права на то, чтобы быть причисленным к «правящему слою», как и на воле. Интеллигенты не управляют лагерным царством, как они не управляют и советским государством. В лагере существует специфическое недоверие властей к «образованным». - «Сколько языков знаешь?», - спрашивали иностранцев советские заключенные и по дружбе советовали: - «лучше не признавайся, а то за каждый язык лишний год набавят».
Недоверие лагерной власти к интеллигенции заложено глубоко в самой сущности советской системы. Мне вспоминается сцена «чистки» в гор. Екатеринославе (еще до переименования в Днепропетровск), свидетелем которой я был юношей, в 1921 году. Во время публичной проверки членов партии они рассказывали свои биографии и отвечали на вопросы из толпы. Двери были открыты, и каждый с улицы мог войти, слушать и ставить вопросы. Вошел и я. Отчитывался редактор областной газеты, бывший меньшевик, перешедший к большевикам. Это был блестящий оратор, без затруднения и с авторитетом отвечавший на все задаваемые вопросы. Он, казалось, был выше всех сомнений, но когда, наконец, он вышел за двери, председатель трибунала, производившего чистку, партийный функционер, подчеркнуто-пролетарского вида, обратился к аудитории и, покачивая с сомнением головой, сказал: «слишком уж он хорошо говорит!».
Слишком хорошо говорить, как и слишком самостоятельно мыслить, не было достоинством в рабоче-крестьянской среде первых лет революции. Также и в лагерном обществе, основанном на выполнении и перевыполнении «плана», лучше интеллигенту не выделяться и не обращать на себя внимания начальства, которое ценит усердие в работе, «высокие показатели» и коллективные добродетели, но не лишние знания и, в особенности, не критический ум интеллигента.
Лагерная система легко подчиняет себе людей из деревни, и из городских низов, неотразимо, хотя и не сразу, влияет на людей, бессознательно ищущих твердого руководства в жизни, - но интеллигенты в лагере являются наименее податливым материалом. «Культурно-воспитательные» и политические хозяева лагерей относятся к ним с настороженной опаской. Интеллигентам, как правило, не поручалось в мое время функций по культурному обслуживанию, даже такому безобидному, как чтение вслух по баракам газет, выдаваемых культурно-воспитательной частью. Следили за находившимися в их распоряжении книгами, за их разговорами и перепиской. Изолируя за колючей проволокой интеллигенцию, власть рассчитывает не столько на ее «перевоспитание», как на ее обезврежение и уничтожение ее «вредного» влияния на воле.
В окружающей его серой массе заключенных интеллигент может рассчитывать на признание только в том случае, если найдет с ней общий язык, т. е. постарается, прежде всего, быть как все и работать как все, не отставая от окружающих. Они не станут его товарищами; он должен думать о том, чтобы стать их товарищем; тяжесть приспособления падает на него. Горе беспомощным, неумелым, кабинетным людям. В бригадах, которые во время войны составлялись из «западников» (поляков и евреев из оккупированных областей Польши) случалось еще на первых порах, что писатель, педагог с именем или священник брался под особое - покровительство членами бригады: ему оказывали особое внимание, не гнали и не погоняли на работе и в конце дня приписывали ему незаслуженные проценты при рубке леса и других тяжелых работах. Такое отношение в советских бригадах невозможно, ибо там «интеллигенция» не вызывает к себе ни уважения, ни симпатии. Ценится хороший работник, прораб, техник, врач. Ценится всякое умение - но не ценятся и не вызывают уважения образованность, мнения, идеи.
Ошибкой было бы считать, что массовый лагерник, лишенный свободы советской властью, тем самым находится в состоянии конфликта с советским обществом вообще. Всякий идейный нон конформизм в этой среде, исполненной сознания своей массовости и стихийности, вызывает насмешливость и недоверие. Советский человек относится без уважения к идеям и всякого рода индивидуальным «кредо», к вере, неподдержанной государственным авторитетом, но не большим уважением пользуется и официальная доктрина. Причину такого отношения надо видеть, с одной стороны, в очевидном для него бессилии всякой не-советской идеологии повлиять на ход вещей в окружающей его действительности, а с другой - в не менее очевидной «инструментальности» и мнимости также и советской идеологии. Не надо быть интеллигентом, чтобы мыслить согласно указаниям партии. Интеллигент, притязающий на внутреннюю независимость, вызывает иронию и кажется чудаком. Советское общество далеко от либерализма, который в дореволюционной России не успел сложиться в сколько-нибудь значительную общественную силу, а в советских условиях отцвел, не успев расцвести. Любопытство в лагере возбуждает религиозный сектант или верующий, так же как чужак из-за границы, открыто подчеркивающий свою не-советскость; это любопытство, если речь идет о людях с сильной индивидуальностью, может сопровождаться и сочувствием и уважением. Но дистанция сохраняется, и эти люди не могут рассчитывать на то, чтобы создать в лагере свой круг. В лагере, где личный состав беспрерывно течет, любые отношения, основанные на личном общении людей, без труда ликвидируются начальством, рассылающим неудобных ему или беспокойных людей по разным лагпунктам.
Остается еще солидарность интеллигентов между собой, - явление, вытекающее в лагерной жизни из элементарного инстинкта самосохранения и составляющее одну из характернейших особенностей лагерного быта.
Попадая в новую и чуждую ему обстановку, интеллигент не одинок. Он всюду встречает себе подобных и может рассчитывать на их поддержку, - как если бы существовал какой-то «тайный орден» интеллигенции, связанный обетом взаимной помощи.
Много можно спорить о понятии «интеллигенция» - есть ли это «класс» или только прослойка, интеллектуальная категория или культурно-историческая формация... нельзя никому запретить произвольно расширять или суживать это понятие... но практически, в чужом лагерном окружении, интеллигенты образуют одну, сравнительно сплоченную семью. Очень легко завязываются знакомства, связи и дружеские контакты. Достаточно одного внешнего вида, манеры держаться и разговаривать, достаточно иногда одного слова и взгляда, чтобы быть принятым в среду «интеллигенции» данного лагпункта. Как уже было указано, нет такого пункта, где бы не находились люди, связанные общей принадлежностью к «интеллигенции». В общей массе они так же различимы, как люди белой расы среди черных, или, наоборот, черные среди белых. Солидарность реальна и ощутима на каждом шагу; без нее интеллигент не мог бы продержаться в лагере. Она выражается в протекции всякого рода, при назначении на работу, при снабжении питанием и одеждой, в амбулатории, в больнице, и в бесчисленных мелких услугах, оказываемых в течение дня друг другу. Идеологические расхождения, казавшиеся важными на воле, при водворении в советский лагерь теряют свою остроту... Если они и продолжают существовать, то они не подчеркиваются и не мешают взаимному сближению.
Здесь может быть будет уместно дать несколько живых зарисовок «лиц в толпе» - типичных интеллигентов в лагере. Термин «лицо в толпе» («the face in the crowd») особенно применим в данном случае, ибо в безличной массе людей, считаемых по-бригадно и выражающих смысл своего существования в процентах выполнения нормы, интеллигент - именно и есть тот, кто сохраняет или пытается сохранить свое лицо.
СТАРЫЙ БОЛЬШЕВИК
Старый большевик Л. был в течение всей зимы моим соседом в больничной палате Котласского пересыльного пункта. Он был крупного роста и по внешности напоминал Булганина, с острой козлиной бородкой, высоким лбом и умным взглядом живых глаз. Л. был членом партии с 1913 года и занимал крупные, ответственные посты в советской иерархии. В качестве заведующего снабжением горной промышленности СССР он часто ездил заграницу. О своих впечатлениях, в особенности об американских поездках и приключениях, он любил рассказывать в тесном кругу трех-четырех доверенных друзей.
Рассказывал он потешно и с большим юмором. Л. был человеком живого темперамента и неподдельного добродушия, но далеко не был дипломатом и, разъезжая по американской провинции, не раз совершал faux pas, когда случалось ему выпить лишнее и заключить знакомство с бойкой проезжей девицей. Об этих его промахах было известно в Москве, и не сносить бы ему головы, если бы не покровительство Сталина, который ему мирволил и не придавал значения его неполитическим слабостям. Л.описывал кремлевское заседание, где нападали на него Сольц и Розенгольц (позднее ликвидированные Сталиным), и где в последнюю минуту несколько добродушных слов,сказанных «хозяином»,спасли его от расправы.
Погубило его безрассудное желание вмешаться в высшую политику. Во время войны этот искренний и по-своему честный человек пришел к заключению, что «наша идея провалилась» (это было его характерное выражение) и передал партийному руководству меморандум, где изложил свои соображения насчет того, что и как следует изменить в управлении страной. На меморандум раннего ревизиониста хозяин реагировал иначе, чем на неумеренную выпивку и веселые похож дения в американском Мидл-Исте. Л. был арестован и изъят из обращения. Ему дали 10 лет. В Котласе, где он начал отбывать свой срок, уже было ясно, что его песенка спета. Л. был болен редкой болезнью - гемофилией - и несмотря на его внешне-здоровый вид ежедневно подвергался опасности внутреннего кровотечения и смерти. Котласские врачи продержали его полгода в госпитале, но администрацию лагеря невозможно было убедить, что этот внешне-здоровый и крепкий человек готов был как соломинка надломиться при малейшем физическом усилии. Его несколько раз выводили в этап, и несколько раз спасали его доктора, пока в начале 1945 года он не исчез окончательно из Котласа. Трудно предположить, что он выжил в лагере.
В разговорах с Л. я имел возможность заглянуть за кулисы психологии «старого большевика». Л. замыкал шествие - в последнем ряду русской революционной интеллигенции, история которой начинается с Радищева, а кончается расстрелами и чистками 30-ых гг. В Л. была обезоруживающая наивность, и когда он, обращаясь к иностранцу-доктору, заключенному в лагере, говорил ему: «вы, доктор, настоящий большевик!», то этим он хотел сказать, что считает его другом человечества и особенно хорошим человеком. Из его рассказов о жизни на Западе было ясно, насколько Запад, его культура и уровень жизни, импонировали этому человеку, который в царской России стал революционером именно в борьбе за освобождение, за материальный и духовный подъем народа, - и потом по личному опыту имел возможность составить себе представление о сравнительных достоинствах двух систем. «Наша идея провалилась», - это он мог сказать в интимной беседе в лагере, но, очевидно, это убеждение назревало в нем давно и было заключением, к которому пришел этот человек «идеи».
МОЛОДОЙ СОВЕТСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ
А рядом с этим старым и зашедшим в безнадежный тупик «честным большевиком» память рисует мне образ молодого советского интеллигента. Назовем его Игорь.
С ним я встретился и подружился поздней лагерной осенью, когда туманы лежали на скощенных лугах, рабочие бригады после тяжелой ударной работы летних месяцев вяло копошились, отсиживались часами под мелким дождичком вокруг дымивших костров. Вели бесконечные разговоры. Сосед мой оказался неожиданно милым и приятным собеседником. Ему было не больше 25 лет. Овал его девического лица, бархатные ресницы, открытый взгляд, ровный и спокойный голос, вежливость и мягкость обращения, - все отличало его от окружающих. Мы скоро сблизились. Нескончаемой темой наших разговоров при костре в открытом поле под осенним северным небом был - Париж. Оказалось,, что Игорь провел в Париже два года своей жизни, подростком 13-14 лет. Отец его занимал крупный пост в парижском торгпредстве. В кабинете отца висел портрет Ленина с собственноручным посвящением... По возвращении в Советский Союз отец благоразумно посвятил себя академической деятельности и стал профессором права. Игорь был арестован в конце 1938 года в волне репрессий, которыми сопровождались московские процессы.
В чем была его вина? Он не прервал знакомства с сыном расстрелянного наркома. От семьи осужденного все отступились, и тогда Игорь поставил в комсомольской организации, к которой принадлежал, на обсуждение вопрос: правильно ли бойкотировать детей за грехи отцов? - Какой нарком? - Но Игорь не хотел назвать его имени, как если бы имя было убито вместе с его носителем, и назвать его значило оживить призрак осужденный на исчезновение.
Игорь воспитался среди кремлевской аристократии, часто бывал на даче у Сталина и Ворошилова. Естественно, что я задал ему вопрос, который тогда занимал людей на Западе: как объяснить, что заслуженные вожди революции, прославленные деятели, с такой готовностью признавались на суде во всевозможных фантастических преступлениях, которых они наверное не совершали? - Ответ Игоря был прост:
- Видно, вас никогда по настоящему не били... человек избитый до того, что мочится кровью, подпишет и скажет, что угодно.
Человек, который мне это сказал - без горечи и с крайней простотой, как если бы речь шла о каком-то само собой понятном законе, регулирующем человеческие отношения, - был по образованию авиационным инженером-конструктором, а по происхождению потомком революционной российской интеллигенции. Это было последнее слово мудрости, последний вывод, к которому пришло поколение сталинской молодежи.
Я никогда не разговаривал с Игорем на политические темы. Мы, западные люди, никогда не пускались с советскими заключенными в откровенные разговоры, отмалчивались или взвешивали каждое слово. Игорь, со своей стороны, тоже отличался крайней сдержанностью и никогда не терял самообладания. Он был «застегнут на все пуговицы», как говорится.
Только раз, когда беседа неожиданно коснулась антитезы «материализма и идеализма» (на которой, как известно построено преподавание философии в Сов. Союзе), мой собеседник загорелся удивившим меня интересом. Очевидно, того, что я ему сказал, не было в советских учебниках. И я почувствовал, что предо мной ум живой, доступный воздействию и открытый для самостоятельной мысли, - несмотря на годы партийной индоктринации и внедрения «диамата».
Позже, находясь в сибирской ссылке, я списался с Игорем, который к тому времени, отбыв пятилетний срок, лечил на воле нажитый в лагере туберкулез. На этом прервался наш контакт, но образ его остался в моей памяти, как символ и напоминание, что существует в Сов. Союзе молодое поколение интеллигентов, которое не следует смешивать ни с правящей бюрократией, ни с целиком контролируемыми ею послушными исполнителями ее воли.
За вычетом мирового катаклизма, опасность которого, я думаю, неустранима пока не изжита лениносталинская идеология, - единственным выходом из тупика, куда привела человечество утопия коммунизма, является постепенное нарастание в советской стране новой интеллигенции, способной изнутри проникнуть в аппарат власти и изменить политический климат страны. Поколению Игоря теперь за сорок лет. Оно прошло лагеря, войну, а за ним пришла волна повоенной, посталинской интеллигенции, о которой мы ничего не знаем, кроме того, что в ближайшие годы ей предстоит осуществить новый сдвиг в советской иерархии и - возможно - в советской системе.
ДВА СИОНИСТА
В марте 1945 года трое заключенных уединились в тесной каморке за «раздаточной» больничного барака в Котласе.
Один из них был высокий сутулый старик с седой бородой, с деликатным и характерным «профессорским» лицом. Это был д-р Вениамин Бергер, заведующий бараком, а в прошлом многолетний председатель Сионистской Организации Литвы. Второй был приземистый, широкоплечий и круглолицый с белесыми бровями человек, исполнявший обязанности «лекпома» в соседнем больничном бараке. Третий - автор настоящего очерка - был закутан в простыню, из-под которой торчали худые ноги в больничном белье...
Лагерь Котлас был полон евреев... и на эту беседу охотно пришло бы человек 20... но это было бы связано с опасностью для них и для нас. Трое участников были русскими сионистами, но при всей силе отрицания советской идеологии и режима, при всей их верности общему идеалу, они представляли три разных направления в сионизме и не во всем сходились между собой.
Доктор В. Бергер кончил киевский университет до первой мировой войны, хорошо знал Европу, был известным врачом и общественным деятелем, пользовался всеобщим уважением. Это был человек прямой и на допросе в НКВД, который его арестовал после аннексии Литовской республики, сказал, что единственное, о чем он жалеет, это что его деятельность не увенчалась большим успехом и ему не удалось своевременно вывезти из Литвы в Страну Израиля больше евреев. Он был приговорен к десяти годам заключения и после семи лет пребывания в лагере скончался в Котласе весной 1948 года.
Второй участник беседы был человеком другого типа. В противоположность консервативному в своих воззрениях д-ру Бергеру это был убежденный социалист, представитель левого крыла в сионизме, и во время погромов на Украине 1918-20 гг. сыграл роль организатора еврейской самообороны. После победы большевиков этот человек провел всю свою жизнь в тюрьмах и лагерях, откуда его освобождали ненадолго, чтобы снова через короткое время посадить. То, что он был сионист с социалистическими убеждениями, только усугубляло его вину в глазах его преследователей.
Я не называю его имени здесь, несмотря на то, что его больше нет в живых. Он сам выбрал анонимность. В тот вечер я спросил моих двух собеседников: «могу ли я, если посчастливится вернуться в свободный мир, предать гласности их имена, добиваться, чтобы были предприняты шаги для их освобождения?» - Доктор Бергер не сказал мне ни «да» ни «нет». Он предоставил мне решать: «поступайте, как найдете нужным». Это дало мне право позже писать о нем и сделать трагически-неудачную попытку возбудить на Западе интерес к его судьбе. Но тот - второй - не хотел борьбы. Я видел перед собой человека сломленного, разбитого и потерявшего веру в спасение. Он, в молодости организовавший самооборону против погромщиков, капитулировал на склоне лет пред силой, которая отняла у него не только годы жизни, но и веру в целесообразность сопротивления.
- «Моя жизнь кончена» сказал он мне: - «но у меня остаются дети, они живут в Советском Союзе, и я не хочу, чтобы им повредила гласность, которая может создаться вокруг моего имени. Я прошу вас забыть обо мне, - как весь свет забыл обо мне уже давно».
Я не забыл о нем, но мне кажется, что сопоставление реакций этих двух заключенных интеллигентов поучительно. Оно показывает, как на самых крепких людей влияет длительная изоляция и чувство оторванности, потеря контакта с внешним, свободным миром (которая у русского сиониста была больше, чем у д-ра Бергера, сравнительно недавно вывезенного из Литвы).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эти четыре примера - четыре фигуры: советского интеллигента старого закала, молодого советского интеллигента, западного общественного деятеля и русского сиониста-Социалиста - достаточны, чтобы пояснить некоторые простые положения об «интеллигенции в лагере».
Не случайно, что активная, беспокойная и слишком «самостоятельно мыслящая» часть населения в Сов. Союзе попадает в лагеря и остается там столько времени, сколько нужно, чтобы внушить власти убеждение в ее безвредности для режима. Для того и существуют лагеря («трудовые колонии» и как бы они еще не назывались). Удивляться надо легковерности людей, предполагающих, что когда бы то ни было режим диктатуры, представляемый ныне Никитой Хрущевым, обойдется без этого фундаментального в советских условиях института.
Совершенно несостоятельна и для каждого знакомого с аппаратом лагерного надзора фантастична мысль, что лагеря могут быть очагом организованного идейного сопротивления или подготовки кадров для идейного движения на воле, т. е. в «незаключенном» советском обществе. В лагерях случаются беспорядки, акты протеста, вспышки отчаяния, вызванные произволом местной администрации, но они лишь подтверждают сказанное выше.
Материал, имеющийся в нашем распоряжении, о забастовках и восстаниях на Воркуте, в Печорлаге - показывает еще раз, как безнадежно лагерное сопротивление.
В лагерях, как в большом, но мутном зеркале, можно наблюдать отражение того, что делается на воле. Однако, пребывание в лагерях не воспитывает к борьбе - оно ломает характер и воспитывает резиньяцию. В результате метаморфозы, претерпеваемой в лагерном заключении интеллигенцией сех видов, у одних умирает круг привычных идей и заменяется всеобщим скептицизмом, у других наступает самоуглубление и «переоценка ценностей».
Достоевскому в свое время на царской каторге было достаточно четырех лет заключения, чтобы пройти через обе эти стадии: отказа от идей, которыми он жил раньше, и новой перспективы жизни. Долговременное заключение имеет целью не переубедить строптивого интеллигента, а научить его сосуществовать с властью: оно - школа конформизма. Достоевский вышел из каторги углубленным мыслителем, но для заточившей его власти было существенно не это, а то, что он отныне стал лояльным и послушным ее подданным. Разница между Достоевским и клиентами новых советских лагерей та, что, выйдя на волю, они не напишут «Записок из Мертвого Дома» и никаких новых путей- советскому обществу не укажут. Во всех приведенных мною случаях было .нечто общее: внутренняя сила сопротивления режиму или мера независимости от него была связана со знанием Запада. Старый большевик и молодой Игорь знали жизнь на Западе. Д-р Бергер был европейцем. Русский сионист в силу своего образования и убеждений был связан внутренне с несоветской страной Израиля. Всюду действовал импульс полученный извне, как в буквальном географическом, так и в культурном, духовном смысле. Обобщив, можно сказать, что не только самое слово «интеллигенция» иностранного происхождения на русском языке, но и связанное с ним понятие - в основе своей является продуктом западной цивилизации, как бы своеобразно оно не преломилось в русской жизни.
В переломное и переходное время, переживаемое человечеством как на Западе, так и на советском Востоке, единственным связующим звеном между разобщенными его частями является неистребимая солидарность людей свободного интеллекта. На вопрос: как может интеллигенция в Сов. Союзе выполнить свою миссию - служить общечеловеческой и национальной культуре, поддерживать идейное брожение в массах, пока не придет срок освобождения, единственным ответом кажется: - это возможно только в тесном контакте и общении со свободной интеллигенцией за пределами Советского Союза. Будущее - как советской интеллигенции, так и всего советского общества, - а в конце концов и наше собственное будущее - зависит от меры, в какой удастся это общение наладить, поддержать и расширить.
Статья 3 Ю. Б. Марголин «Чудо в Славгороде»
С именем покойного Леонтия Альбертовича Соловейчика, недавно скончавшегося в Париже, связана история, которая звучит как сказка. Но это быль, - и притом из тех былей, которые стоит запомнить каждому в наше трудное время.
Между 1941 и 48 годом Леонтий Альбертович прожил семь лет в сибирской ссылке, в Славгороде Алтайском. Он был не один. Летом 1941 вода из Литвы были вывезены десятки тысяч неугодных советской власти людей. В Славгороде собралась большая колония литовских ссыльных. Вместе с ссыльными из Польши они составили семью в несколько сот человек - остров среди советского населения, в свою очередь далеко не однородного.
Славгород был переполнен эвакуированными во время войны ленинградцами... В районе жили казахи и выселенные приволжские немцы. . .Но на колхозном базаре в центре города, где кишела разношерстная толпа, легко можно было различить «западников»: они выделялись не только лицами, но и вещами, которые продавали, - вещами из посылок, непрерывным потоком поступавших для них из Нью-Йорка и Тель-Авива. Я прибыл в Славгород 1 июля 1945 года: памятная дата. За мной было пять лет концлагеря и десять суток пути с дальнего севера.За пазухой - увольнительное свидетельство Каргопольлага. Я был голоден, оборван и дик видом. Денег не было. Последний кусок хлеба я съел на станции ранним утром. В Славгороде был у меня единственный адрес: на улице Луначарского 52 жил некий Соловейчик. Этот неизвестный мне Соловейчик и составлял мой опорный пункт и якорь спасения в новом и чужом месте.
Медленно я плелся по улицам, поглядывая по сторонам.Я был разочарован. Славгород, по ассоциации с Миргородом, где поссорились когда-то Иван Иванович с Иваном Никифоровичем,я воображал себе, как украинское местечко, в тенистых садах и зелени... Но это была Средняя Азия: зной, пустыня, раскаленный удушливый ветер, мазанки из глины с плоскими крышами...
На улице Луначарского 52 находился убогий деревянный домишко, - лачуга на отлёте, с дверью на одной петле... У меня сжалось сердце :кто уж мог жить в такой норе? Сейчас, вероятно, откроет мне дверь чужой, неприветливый человек и, недослушав, захлопнет ее пред самым носом... Тогда начнется для меня советская «воля», которая иной раз хуже лагеря... Но делать нечего. Я набрался духу, толкнул дверь и вошел в сени.
Хозяйка показала мне на кухоньку, загроможденную посудой,ведрами,хламом. 3а кухней жили Соловейчики в единственной комнатушке.Я постучал. Донесся мягкий стариковский голос: - Кто там?
- Я прямо из лагеря! И имею привет к вам от доктора Вениамина Бергера.
Я назвал магическое имя. И сразу всполошились, поднялись из постелей Леонтий Альбертович и Лина Григорьевна. Еще не веря своей удаче, я снял тяжелый рюкзак с плеч.Меня пригласили к столу. Под окошком между кроватями был столик, заваленный книгами.
- Вы не завтракали? Что вам приготовить?
И уже Лина Григорьевна хлопочет у стола,и я глазам не верю: для KOГО? для меня, лагерника, накрывают стол белой скатертью,ставят настоящие чашки, тарелки, масло, яичницу, чай и сахар? - Я был потрясен: ведь это возвращение к родным! Я здесь как дома! Леонтий Альбертович первым делом дал мне денег и проводил на телеграф. Я выслал телеграмму жене в Тель-Авив.ЭТО был первый привет от пропавшего без вести,после долгих лет молчания.
- И телеграмма дойдет?
- Дойдет! ~ сказал Леонтий Альбертович, - а теперь подумаем как вас устроить на ночлег. Мы вышли на улицу, уселись на табуретах под единственным деревом,и Леонтий Альбертович открыл прием.
Я мог убедиться,что человек, к которому привела меня судьба,был значительным лицом в славгородской ссыльной колонии.Все проходившие мимо кланялись ему и подходили обменяться несколькими словами.На пятом году ссылки он знал всех, и все знали его. Подошла худенькая черноглазая девушка:
- Это Клара, плановик завода, куда вы завтра пойдете наниматься на службу. Подошел плотный, круглолицый человек:
- Познакомьтесь, это Киршенберг, известный варшавский адвокат. Он с женой отсидел три года за отказ принять советский паспорт...У них вы будете спать сегодня.
Двух часов не прошло, - и я имел большой круг знакомых в Славгороде.
Так началась моя дружба с четой Соловейчиков. Оба были высококультурные люди, хорошо знавшие Европу. И Европа знала их. В «Автобиографии» Стифен Спендера, знаменитого английского поэта, вышедшей в 1950 году, есть страницы, посвященные берлинскому дому Соловейчиков в конце 20-ых годов. Их славгородский дом, однако, резко отличался от берлинского: нора, которую годами приводили в человеческий вид. При мне - приладили деревянные щиты-ставни к окнам.Соорудили подобие настольной лампы. Леонтий Альбертович,будучи ссыльнопоселенцем не имел нормального советского паспорта и обязан был каждые две недели являться в милицию. Выезд из города был ему запрещен. Ему уже было за 70 лет, он не работал и жил за счет посылок, регулярно получавшихся из-за границы... Но не об этом я хочу рассказать. Эпопея ссыльного житья-бытья изгнанников в алтайской глуши еще ждет своего бытописателя.Я хочу рассказать о чуде в Славгороде: о том,как удалось вытащить чету Соловейчиков из Сибири и перевести их в Париж.
Осенью 1946 года я был во Франции. Я привез в Париж собственноручное письмо Лины Григорьевны, написанное по-французски ее дочери. К этому письму я прибавил свои пояснения . Дочь Соловейчиков была замужем за французом; в семье мужа был знаменитый родственник: писатель Андрэ Жид.
Письмо открыло глаза. Впервые было в нем сказано все, чего не было в мирных и благополучных подцензурных посланиях из Славгорода в Париж: крик о помощи, SOS на высшей ноте.
Таких писем не пишут в официальные учреждения, их можно адресовать только родным...И родные не всегда находят силу и решимость действовать.Но в данном случае произошло чудо.
С помощью родни мужа дочь добилась аудиенции у самого Вячеслава Михайловича Молотова. Он как раз в это время находился на сессии Объединенных Наций в Париже.
Молотов спросил:
- Ваш отец не в лагере? - и узнав,что «только на поселении», обещал помочь.
«Помощь» Молотова, как и следовало ожидать, заглохла. Но вмешалось французское правительство. Французским послом в Москве был тогда генерал Катру: не дипломат, а солдат, прямой и честный человек. Для него освобождение родителей французской гражданки Гизы Друэн превратилось в дело чести.
Полтора года продолжалась борьба за освобождение Леонтия Альбертовича и его супруги. За это время Катру шесть раз обращался с нотами по их поводу к советским властям, запрашивая, напоминая, ходатайствуя, настаивая, протестуя,надоедая и не отставая. НЕ каждый дипломат проявил бы такую настойчивость И для кого? Соловейчики даже не были французскими гражданами.
Долго было бы рассказывать все этапы и перипетии в той войны за Соловей-чиков. Одно время они уже впали в полное отчаяние. Но в конце-концов - осенью 1948 года - прибыл в районную милицию города Славгорода на имя четы Соловейчиков фантастический и невиданный документ: заграничный паспорт с визой во Францию.
Документ невиданный в буквальном смысле слова: с начала октябрьской peволюции никто в Славгороде не получал и в глаза не видел заграничного паспорта . Для местных жителей Барнаул был столицей, а Свердловск - фатой-морганой на краю горизонта. В Москву ездили только редкие олимпийцы по делам службы.
СОЛОВЕЙЧИКОВ ОТПУСКАЮТ В ПАРИЖ!
Грянула неслыханная весть. И волосы стали дыбом на голове начальника районного НКВД. - «Что это значит?» - Соловейчиков он знал издавна, и особенно ими не интересовался и вдруг оказывается, что Леонтий Альбертович человек не простой, за ним таинственные силы, мировые державы!
Нормально не разрешается ссыльному самовольно отлучиться в соседний колхоз, а тут - паспорт в Париж!... Начальник НКВД облился холодным потом. Он был ошеломлен.Что за человек такой - Леонтий Альбертович Соловейчик?... Ситуация почти как в гоголевском «Ревизоре»: шесть недель сидит инкогнито некто и наблюдает. «За эти шесть недель была высечена унтер-офицерская вдова!» - «Семь лет!» - За эти семь лет чего только не происходило в районном городе Славгороде! Что скажет и расскажет Соловейчик? -
Город был взбудоражен.
Двумя годами раньше отпустили из Славгорода группу польских граждан. Провожая их, местные коммунисты усмехались. - «Мы идем за вами следом, не беспокойтесь..» А здесь было доказательство, что при доброй воле и настойчивости можно пробить стену, проложить дорогу из сибирских сугробов прямо в Париж - в вольный мир.
К Леонтию Альбертовичу потянулось паломничество. - «Не забывайте о нас, помните о нас!» Ведь он был только одним из многих, и почему чудо, которое случилось с ним, не могло повториться с ссыльными из Литвы, из Прибалтики, кто знает - из Центральной России? -
Всколыхнулись надежды, ожили похороненные мечтания .В день отъезда Леонтия Альбертовича густая толпа стояла на станции. Билеты приготовили ему и Лине Григорьевне не на обыкновенный поезд, а на транссибирский экспресс, без пересадок в Москву. Для этого понадобилось особое содействие власти. Началъник НКВД прислал автомобиль отвезти их на станцию. Он лично явился провожать их на вокзал, стоял на вытяжку, а увидев, что отсутствует среди провожающих начальник городской милиции, рассвирепел.
- Послать за ним немедленно! Леонтием Альбертовичем интересуется наше центральное правительство,сам товарищ Молотов, а для него он недостаточно важная персона?
Еще два года прошло, и я навестил Леонтия Альбертовича в Париже, на улице Леконт де Лилль. Это тихая улочка в 16 аррондисмане,в Пасси, и оба старика занимали скромную комнатку на верхнем этаже виллы, которую когда-то - в счастливые времена - подарили в приданое своей дочери.
Что же дала ему прекрасная Франция - свобода - окружение любимых внуков?
Был ли он счастлив? - Он постарел за годы, которые я его не видел, и на лице его было выражение глубокой, сосредоточенной печали. Он не мог примириться с гибелью сына в гитлеровском лагере, - с крушением мира, с которым была связана вся его жизнь. Переменив улицу Луначарского на улицу Леконт де-Лилля он, в сущности, только переменил одну чужбину на другую, - одно изгнание на другое. Произошло чудо в Славгороде, - но другое, решающее чудо в Париже не наступило, - то чудо, которого он так пламенно ждал. Все мы верим в чудеса, - хотим ли в том признаться, или нет, - верим в чудесное обновление жизни, в нечаянную радость, которая должна все осиять все искупить. Леонтий Альбертович и в Париже сохранил верность Славгороду, - и по-прежнему оставался там старшиной славгородских изгнанников. Нити, соединявшие его с товарищами лет изгнания в далекой Сибири не прервались. Тысячи писем и сотни посылок отправил этот человек в Алтайский край. В известном смысле он так и не выехал из Сибири. - Как и все мы, его друзья по советскому плену, - часть своего сердца оставившие в лагерях и местах ссылки, - навеки одержимые призраком прошлого, которое продолжается в настоящем.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ Ю. Б. МАРГОЛИН «ДОРОГА НА ЗАПАД»
Ю. Б. Марголин
«Дорога на Запад»
Глава 1. Поезд свободы
Моя дорога на Запад началась в то морозное утро, в конце марта 1946 года,когда со станции Славгород Алтайский, из глубины советской Сибири, тронулся переполненный поезд польских «репатриантов». Теплушки были битком набиты взволнованными людьми, на нарах в два яруса плотно лежала человеческая масса среди мешков, узлов и деревянных сундучков. И посреди каждого вагона, как железное на четырех лапах чудище, стояла, жаром пыша, приземистая печка. На мне тяжелый , сермяжный крестьянский зипун до колен и ватные стёганные брюки - память о концентрационном лагере. Женщины, молодежь, дети, - всё было сбито вместе в кучу, а стариков среди нас было немного, - стариков приняла суровая сибирская земля за годы ссылок и бедствий. Двадцать пять дней и ночей шел на Запад наш эшелон через бесконечную русскую равнину. По дороге воровали на станциях доски и бревна на топливо в печку, а еду выносили нам к вагону на остановках бабы-торговки, - яйца, молоко, блины-пироги, даже жареное мясо кусками: неистребимая, недодавленная, внеучётная «частная инициатива».
Поезд шел через города - Омск, Челябинск, Куйбышев. Поезд переходил реки: сперва Иртыш, потом по сызранскому мосту медленно-торжественно пересекли Волгу. Она в начале апреля ещё лежала в снегу и льде, и только в самой середине лед потемнел, а справа тянулся по реке длинный обоз саней. В Куйбышеве я впервые за долгие годы увидел вокзал по европейски: вечер, огни, в теплом коридоре парикмахерская с зеркалами и запахом одеколона, буфет первого класса с пальмами и музыкой /туда нас не пустили, и только запомнились мне люди в лохмотьях, которые толпились у входа и заглядывали за спину швейцара в зал - и второго класса буфет, для которого мы были достаточно прилично одеты, и там уселись пить «московскую» с комендантом эшелона. Поезд шел через города: Харьков и Конотоп, Гомель и Барановичи. На узловых станциях оставались подолгу, посылали Делегации к начальнику движения, и там на боковых путях, ныряя под вагонами, среди необозримых стад сгрудившихся составов натыкались на другие, такие же как, наш, эшелоны: со всех сторон, с Урала, из Ташкента, Красноярска, тянулись на польскую границу «западники», а среди них как последняя пена сбежавшей волны - евреи. Это была «репатриация» - по договору 1945 года. В те месяцы 350000 поляков вернулось из России, а из них почти половина были евреи. Наши вагоны были разукрашены еловыми ветвями и надписями о дружбе народов, но через неделю пути мы растеряли надписи, транспаранты и зеленые украшения. Нас, евреев, не обманывало слово «домой». Мы знали, что ничего не найдем в Польше, кроме могил и развалин, - и прежде, чем доехали, уже были сердцем далеко - за семью морями, где всё другое - и люди, и небо и память.
Поезд шел через реки. Минули Дон и Днепр, проходили дни, и повеяло ранней весной. Часами, вырвавшись из душного, скученного вагона, я простаивал на узкой открытой площадке, жадно вдыхая острый воздух, глядя, как мимо плыли луга, где прокатилась лавина немецкого нашествия... Стали встречать немецких пленных... Они работали вдоль путей на станциях и подходили просить хлеба. Женщина из нашего вагона осыпала их проклятиями. - «Мы не виноваты...» - И помня, что в массовой могиле под Пинском лежала моя замученная мать, - я дал им хлеба, с чувством какого-то брезгливого ужаса... Я научился в России брать лагерный хлеб из рук тюремщиков и передавать его дальше с мыслью о несчастной человеческой мрази, которая вся в крови и беде, между своей и чужой смертью. И не больше я думал о вине и воздаянии в те недели, когда громыхали колеса на Запад, чем думает пьющий, запрокинув голову и заливаясь водой из жбана...
В те черные годы, на самом дне советской ямы, я не раз пробовал представить себе «поезд свободы», Который когда-нибудь перевезет меня через границу страшной страны... Тогда мне представлялось, что в минуты, когда мимо окна в коридоре проплывут последние километры перед границей/я представлял себе пульман.. полупустой.. как до войны/, лицо у меня окаменеет, и горло сожмется, и в самой глубине глаз, накипит, не скатываясь, слеза, теперь, стоя в зипуне на площадке товарного вагона, я ровно ни о чем не думал и ни о чем не вспоминал... как перед экзаменом, когда наука вся уже кончена и ничего не остаётся, как быть собой, какой ты есть. Нечего прибавить и нечего убавить... Я нёсся мерно и плавно, в такт громыхающих колес, навстречу будущему, как льется река навстречу морю - без волнения и зыби.
В Гомеле - одном из бывших еврейских центров Белоруссии - я пошёл в город. В черной апрельской грязи топтались прохожие, серое небо висело над унылыми развалинами, и наконец, я нашел, что искал. В боковой улочке я увидел лачугу, точно с полотна Шагала: крыша покосилась, кривые окошки, дверь на одной петле и перед ней старая еврейка в платке и мужских сапогах. Из какого Туркестана вернулась она на старое пепелище? Я подошел к ней, сказал, что «еду в Палестину». Она встрепенулась.
- Да, я знаю... У меня в Тель-Авиве сестра есть...
- Хочешь, чтоб я передал ей привет? -
Она посмотрела на меня помутневшим и внезапно насторожившимся взглядом. Помолчала и сказала безразлично:
- Нет, не стоит. Мы советские. Я даже адреса её не знаю.
Я понял, что она мне не доверяет и пожалел, что сказал ей о Палестине. Попрощался и пошел дальше. Я искал почту. Из каждого города, где стояли, я писал или телеграфировал о том, что еду. На углу обернулся: старуха застыла, как я её оставил, и пристально смотрела мне вслед. Я помахал ей рукой. Она не ответила, не шевельнулась. Так мы стояли, издали глядя в упор один на другого - и молчали.
Так и осталась в моей памяти эта фигура на фоне развалин и серого неба - как жена Лота, обращенная в столб, как вопросительный знак, как символ всех, кто молчит и ждет за советским рубежом. Молчит и ждет - по сей день.
И еще одно воспоминание - о последних часах перед отправкой эшелона из Славгорода. Уже начало смеркаться, все устали в ожидании сигнала тронуться.
В нашем вагоне тяжелая дверь была полуотсунута... На наших глазах творилось что-то неладное. В углу вагона расположилась семья из трех женщин с двумя детьми. Посреди - молоденькая с грудным младенцем, и при ней, с темным и суровым лицом, бабушка. С другой стороны - молодая женщина, лет 26, с шестилетней девочкой. Их так вывезли пять лет тому назад - старуху с дочерью и невесткой Владей - женой сына. И понятно, за 5 лет обе нашли себе дружков - младшая по закону, по записи в «3агсе», а замужняя Владя - под недобрым оком свекрови, и без всякой записи. А девочка выросла, упрямая и дикая, и в шесть лет научила бабушка, что отец - не этот, отец, другой. Когда пришло время возвращаться на родину, Тани муж, белобрысый лейтенант, не задержал, сразу дал развод, - вольную дорогу из сибирских сугробов в широкий свет. И Владя со своим попрощалась... Как будто всё между ними было улажено - и вот теперь, в последние часы перед отъездом, уже после посадки в вагон, - сорвалось всё.
Сам не свой, исступленный, с дикими невидящими глазами, пришел Владин Николай, поднялся в вагон и улегся на месте Влади.
-Уйди, уйди! -
Она заломила руки, вскочила, вышла на мороз, вернулась, заметалась... Но он не уходил, и в вагоне начало нарастать напряжение, как будто бомбу, готовую ежесекундно взорваться, положили на нару.
- Не бойся, не останусь я...
И мы уже знали наверно, что он Влади не отпустит. В эти последние часы, когда уже и говорить было не о чем, он без слов, одним своим присутствием, с каждым часом ломал сопротивление женщины, как ломают тонкое деревцо, нагибая, пока не хрястнет у самого корня...
Пришел польский комендант эшелона, опасливо, осторожно:
- Честью прошу, товарищ лейтенант, не имеете права здесь находиться.
Появились под дверью верные друзья, военная молодежь, отвели коменданта в сторону:
- Ты, милок, не волнуйся... без тебя уладим.
Николай поднялся, кивнул Владе, она вышла за ним... Мы видели на ее лице страх и потерянность. Она боялась мужа в Далекой Польше. Поезд не тронулся, а свекровь уже угрожала ей, шипела:
- Подожди, подожди, муж обо всем узнает...
Страшно было остаться - одной из всех! - это было изменой большей, чем измена нужу, - было гибелью души навек. Но я следил не за ней, не за Николаем, не за свекровью, которая, отвернувшись, казалось, вся была занята возней с младенцем - для меня главным персонажем этой драмы была маленькая худенькая шестилетняя девочка.
Она всё время сидела в капоре, тепло-укутанная, на узле... с крошечным, напряженным, всепонимающим личиком. Для нее, выросшей в Сибири, не знавшей ни другого языка, ни другой жизни, как эта славгородская, - комнатка с кухней и сенцами, где жили ссыльные польки, и собирались вечерами пить водку, расстегнув мундиры, молодые курсанты, - для, нее какая уж беда была бы оставаться? ... и однако я не помню, чтобы когда-нибудь я видел на детском лице такое выражение: ужаса и исступленного горя,.. она вся тряслась от отчаяния и ненависти... И когда мать подходила к ней поправить пальтецо, отбивалась и кричала не ей, а нам, окружающим:
- Она заберет меня, она заберет меня! -
Николай не обращал на нее никакого внимания. Девочка вдруг накинулась на него:
- Уходи отсюда! Уходи! Я не хочу тебя, не хочу, не хочу!
Тогда Владя схватила ее на руки, целуя и плача, и обе залились слезами. Это маленькое существо уже знало, что сопротивление бесполезно. Вся ее жизнь решалась в эту минуту... Мать забирала ее с собой, как свою собственность, и никогда она не увидит отца... Она исчезла из вагона, дала вывести себя послушно, как будто страшный сон оцепенил ее. Потом начали выносить из вагона вещи Влади. Николай и его друзья приготовили сани. И свекровь начала кричать и звать на помощь коменданта: в узлах Влади были общие вещи. В последнюю минуту прибежала Владя попрощаться и успокоить свекровь: на ней лица не было. Весь вагон отвернулся от нее, как от прокаженной... Я в эту минуту думал не о ней, не о страстях, которые отнимают у человека воля и разум, а потом, как выгоревший костер, оставляют одну кучу пепла. Я думал об этой маленькой девочке, которой распорядились, которая так и не дотянулась до отца и канула в славгородской угрюмой и нечеловеческой ночи, как камень, без следа и надежды, без возможности кому-нибудь вмешаться...
Могла уехать отсюда, из этого дна беспросветной нужды и дикости, - и осталась! И кто посмел ее вывести из вагона - родная мать! У меня было впечатление, точно эта несчастная кинулась в омут головой вниз - и не одна, а с ребенком, который чувствовал, что с ним делают что-то непоправимое... И я не мог опомниться, как будто на моих глазах совершили убийство... Да это и было убийство - так вырвать с корнем и порешить чужую судьбу, навеки осудить молодую жизнь на пребывание в гнусной атмосфере сталинского сибирского захолустья, в неправде, в отчуждении от мира свободы, в прогорклом холодном чаду, которым пропитаны все поры в быту этих людей, от детства до смерти... И всё во мне сжалось от негодования и жалости...
В течение семи долгих лет я жил в советском плену одной мыслью об освобождении, о возвращении в тот далекий мир, где люди не боятся друг друга,смело говорят вслух, что думают, сами выбирают себе свою дорогу, где жить и как жить, едят ненормированный хлеб... Надо коснуться смерти, чтобы знать, что такое жизнь, надо выпасть из Запада, чтобы знать, что такое Запад. В это самбе время многие добровольно возвращались в Россию или мечтали о том, чтобы их допустили быть гражданами этой страны. Судьба, незнание, личный расчет - не всё ли равно? Поезд шел на Запад, и неотступно стояла за моими плечами память о безвинно-погибших, втоптанных в землю, опозоренных, сосланных и просто обманутых, как дети, выведенных насильно за руку, укрытых от человеческого глаза и совета, барахтающихся, проданных и заживо похороненых людей.
Глава 2. NON OMNIS MORIAR
Лежа в 1945 году на койке лагерного госпиталя в состоянии близком к помешательству, я мучительно собирал мысли. Алиментарная дистрофия выражается, между прочим, и в ослаблении памяти. Я чувствовал, что погружаюсь в забытье наяву, и прошлое кусками отпадает от меня. В том состоянии изнеможения, в котором я находился, я с каждым днем недосчитывался какого-нибудь воспоминания, знания, имени... Как зовут детей моей сестры?... Как назывался автор «Города Солнца»?... Я растерял свое духовное имущество, и с каждым днем обнаруживал: не хватает того, пропало другое... Тогда я начал повторять себе мысленно свою жизнь - по годам и месяцам, в хронологическом порядке и в разбивку, - я заучивал ее наизусть, чтобы не забыть. Но всё-таки оказывались дыры...
И повторяя строки, которые на воле всегда отчетливо помнил, - Exegi monument aere perennius... - я начал с упорством и напряжением добывать из памяти слово, за словом, стих за стихом. Без конца я повторял, лежа навзничь, с закрытыми глазами, первые шесть стихов. Но на седьмом наступил провал: Non omnis moriar. Multaque pars mei... Vitabit... Libitin...
Здесь обрывалась нить, и я больше не помнил. Тогда, с ожесточением и яростью тонущего человека, которого сносит течением, я дал себе слово, я поклялся, что не умру - nоn moriar! - пока не открою Горация и не свяжу порванную нить. Это был мой обет. Два года позже, уже в Тель-Авиве, я разыскал экземпляр «Од», и руки у меня дрожали, когда я прочел: ...usque ego postero Crescam laude recens...
Что такое счастье?
Летом 43 года, когда мы работали в поле, в штрафном лагере Осиновка первая, подошел ко мне во время перерыва высокий сумрачный финн. Это был необыкновенно серьезный и молчаливый человек. Он ни с кем не сближался, и я ничего не знал о нем. Вдруг он сам ко мне обратился - в первый и последний раз - и оказалось, что это сектант и мистик.
- Я читаю Библию не так, как все! - сказал он мне. - Я умею вычитать из Библии судьбу каждого человека. И я знаю твою судьбу: ты будешь счастлив. И помни: твое счастье в далекой стране, где твой дом. Когда придет время - прямо иди туда, не оглядывайся, не задерживайся нигде. Ничем не соблазняйся, не отклоняйся, спеши домой, там будешь счастлив.
Что значит «счастлив» было в эту минуту совершенно понятно нам обоим: это было состояние обратное тому, в котором мы находились. Так страшно было то, что с нами сделали, что возвращение к нормальным условиям существования: свой дом и семья, отсутствие животного страха, сытость, и работа не по принуждению, а по собственному выбору и склонности - означало для нас несомненное счастье.
За долгие годы советской неволи я забыл вкус яблока. Яблок не было не только на севере России, но и в Алтайском Крае, куда меня сослали по освобождении из лагеря. Случайные проезжие из Алма-Аты, за тысячи километров, привозили по несколько яблок и продавали их, поштучно на базаре. Находились любители, которые покупали их, чтобы узнать - «что такое яблоко». Меня не привлекало такое воровское украденное от судьбы яблоко. Но постепенно яблоко - красное наливное или пахучий нежно зеленый ранет довоенных лет - превратилось для меня в символ свободы. Свободная страна - это именно и есть такая, где яблоки продаются на улицах, сколько хочешь.
Едва пришел поезд на станцию Брест, на польской границе, я немедленно направился на базар - за яблоками. Город Брест, с которым у меня связаны разнообразные воспоминания, лежал в развалинах. В его монументальной уцелевшей синагоге помещалось советское кино... Но я не искал в нем прошлого, я искал яблок... Это был знак, что приближаемся к свободе.
И, наконец, поздней ночью, мы, несколько пассажиров, которые никак не могли спать, открыли тяжелый засов товарного вагона. Поезд стоял в глубоком молчании ночи на мосту через Вислу, и справа мы не видели, а угадывали стены спящей Варшавы. Река струилась в лунном свете и холоде - еще один рубеж свободы - и вокруг заснувшего поезда не было ни души. Он замер на своей одинокой высоте, над пустынным и мрачным «дилювиальным» провалом... Ночной холод заставил нас закрыть дверь. Всю ночь кружил поезд, обходя город, и утром мы увидели, что Варшава - позади; поля и рощи лежали в блеске апрельского солнца. Занавес ночи поднялся над польской весной, и навстречу нам бежали маленькие станции с .полузабытыми веселыми названиями, как музыка... Куда нас везли? Я решил при первой оказии оставить поезд. В полдень мы прибыли на станцию Скерневице, которую до войны проезжал я десятки раз. Против нашего сибирского эшелона стоял мирный, спокойный, чистенький пассажирский поезд «Скерневице - Лодзь». Он выглядел неправдоподобно, как будто не было войны, немецкого нашествия и советской каторги. «Десять минут остановки»... Я, не долго думая, схватил свой деревянный чемоданчик и пересел на площадку вагона третьего класса.
Вагон был переполнен, и люди обступили меня... «Репатриант из Сибири»... Советизация Польши еще только начиналась весной 1946 года. Люди, которые забросали меня вопросами, не выглядели по-советски, иначе говорили, иначе были одеты, улыбались, двигались... Как просыпаясь после долгого-долгого сна, я испытывал глубокое возбуждение, которое ни в чем не выражалось, но вдруг я переставал слышать, что мне говорили. Рогов - Колюшки - Анджеюв - два часа поезд приближался к городу, где прошли 10 лет моей жизни, и откуда я бежал в 1939 году. Круг замыкался, прошлое возвращалось ко мне... И вот показались знакомые пригороды Лодзи, Видзев, Парк 3-го мая, и белое здание вокзала.
И, как будто не случилось ничего, и не было семи лет изгнания, - я сдал на хранение свой багаж и вышел, не торопясь, на площадь. Первое мое впечатление: ничего не изменилось. В Лодзи почти не было разрушений... Здесь, на улице Brzezna 6, я оставил в сентябре 39 года квартиру, библиотеку, рукописи, картины на стенах... Автоматически я повернул с вокзала привычной дорогой - «домой». Постепенно охватило меня чувство удивительной легкости, беспечности... Я не шел, а летел. Выходя на главную улицу, я раскрыл широко руки, как будто я хотел обнять дома, прохожих, солнце на мостовой...
- Эй! -
Я обернулся и увидел, как продавец газет, потешаясь надо мной, раскинул руки и передразнивал мой жест. - Рехнулся? - Я кивнул ему головой. Во всем моем теле разливалась весна и радость. - «Non omnis moriar, - multaque pars mei - vitabit Libitinam». Во-первых, не задерживаться (памятуя о финне), а во-вторых, найти продолжение, что там после «ли-битины»... Я шел по Петроковской, еще не зная, где буду ночевать, и как проведу свой .первый «европейский» день.
Вдруг что-то толкнуло меня. На месте готической синагоги в центре города, - одного из самых монументальных зданий Лодзи - не было ничего. Это было так фантастично, что я попятился. Зеленая трава росла на пустыре, и. две извозчичьи пролетки мирно дремали под апрельским солнцем. Синагога исчезла.
Я не то что удивился, я ждал этого, но пережил нечто подобное тому, что испытал бы парижанин, не найдя Notre Dame на своем месте...
Не было даже развалин. Не осталось ни малейшего следа. Теперь я шел дальше - с тревожным сознанием, что я двигаюсь в полупризрачном мире: для меня синагога стояла на пустом месте попрежнему... Я не мог перестать ее видеть.
Люди умирают. Это понятно. На их место приходят другие. Петроковская кишела народом, как до войны. Но когда внезапно исчезают здания, рассчитанные на века, оставляя гладкое ровное место, храмы, в тени которых должны были расти и сменяться поколения, то это противоестественно и жутко, как гоголевское лицо, с которого исчез нос.
Вечером того же дня я нашел себе место на улице Св. Якуба, на четвертом этаже дома для репатриантов. Тысячная толпа расположилась по всем этажам и залам бывшей фабрики. Это были евреи: не «репатрианты», а просто беглецы из сталинской России, люди на привале. На деревянных скамьях за некрашеными столами в большом помещении столовой до полуночи толпились люди - пестрота, сумятица, гомон, ноев ковчег после потопа... Я искал знакомые лица... Мне показалось - я вздрогнул - я заметил в толпе старого приятеля-друга из Лодзи. Я увидел его красное лицо, мясистые губы и характерный лоб. Я узнал его жесты, походку... и бросился за ним.
И однако, я очень хорошо знал, что этот человек был убит четыре года тому назад. Немцы убили его. Но в эту минуту я перестал этому верить. Я часто путаю черты лица людей, которых давно не видел. Люблинера я не видел 6 лет. Я применил свою обычную в этих случаях уловку: зашел вперед, чтобы попасться ему на глаза. Пусть признает меня первый.
Но он, как на зло, не смотрел на меня.
Тогда я решился и закричал с другого конца стола так, что все оглянулись:
- Люблинер! -
Со страстной мыслью, как молитва: пустъ будет чудо!
Я ждал, что он подымет голову... удивленно всмотрится - и вдруг, в одну секунду, глаза его вспыхнут, расширятся, лицо озарится восторгом встречи, и он бросится ко мне.
Но чуда не произошло. Двойник Люблинера рассеянно скользнул по мне равнодушным взглядом и вернулся к своему разговору с соседом. И мой друг, который совсем уж было ожил, снова ушел в небытие, на этот раз уже окончательно и навеки.
Два дня спустя я водворился в прекрасной комнате отеля «Савой», в центре города, с горячей водой и лифтом, ковром в коридоре, рестораном на первом этаже и нарядным холлом. Сионистская организация, к которой я обратился (теперь от нее давно не осталось и следа) снабдила меня деньгами, направила к портному, который одел меня с ног до головы, - и в ожидании первой возможности продолжать путь (я помнил предупреждение финна) я жил как выздоравливающий от тяжелой болезни в санатории.
Мешок со ржаными сухарями и рваные брюки лагерника еще лежали в моем деревянном чемоданчике. Но день мой уже принадлежал мне, и с каждым днем возвращались ко мне привычки и потребности нормального человека. Через месяц я получил визу в Палестину. Еще через три месяца - заграничный паспорт. В течение этих четырех месяцев моего пребывания в Лодзи - обыкновенное течение часов, процесс жизни и хроника повседневных событий были полны для меня такого напряжения и интереса, как будто я во второй раз начинал свою жизнь.
Но не так просто было это второе начало. Жизнь - не патефон, где можно поставить вторично ту же пластинку. То, что происходило со мной, не было ни повторением, ни продолжением. Есть закон, по которому мы постепенно с годами изменяем наши отношения к людям и вещам. Мы плывем со временем и изменяемся вместе с ним. Но в моем времени открылась черная пропасть, через которую я не мог перешагнуть. Ни тогда, в первые дни возвращения из подземного царства, ни теперь, когда пишутся эти строки...
Двести пятьдесят тысяч евреев бесследно исчезли из Лодзи, но для меня они продолжали населять город. Улицы и дома были полны вчерашней теплоты; в каждом дворе были у меня друзья; на песочных площадках в парках играли знакомые дети; на каждом перекрестке - воспоминания и напоминания. Меня окружало недожитое, неизжитое, ощущаемое до яркой наглядности деловое кипение жизни, прервавшейся семь лет тому назад. После загробного сна семи лет я вернулся к исходному пункту, - и два времени, два мира скрестились во мне.
Среди бела дня и в ярком блеске солнца, я, как лунатик, двигался среди теней.
Было непостижимо, что в этом городе, где я знал сотни людей и не мог пройти ста метров не вызвав взглядом, жестом или словом встречный взгляд, жест и слово, теперь никто не узнавал меня. Недожитая жизнь лодзян кричала во мне. Я обошел много домов, подымался по лестницам, заходил во дворы. Дома стояли, никого не было дома. Те, кого не было, были реальнее для меня случайных прохожих. Я знал, что произошло с еврейским народом в этом городе и во всей стране. Но знание не помогало. Если бы усыпили меня на сто лет и потом разбудили, - я бы точно так же чувствовал себя в новом мире.
Я не вернулся на кладбище и не чувствовал себя как на кладбище. Туда приходят люди, чтобы вспомнить путь всякой плоти, дошедшей до своего естественного предела. А мой народ не умер - он исчез среди бела дня, как я сам исчез из жизни, в одну минуту, когда бросили меня в подвал для советских обреченных.
Я шел по тротуарам Лодзи, и царство теней колыхалось вокруг меня. Больше близких и дорогих было у меня в этом царстве, чем среди живых. И я понял, что до конца моих дней не выйду из круга теней, сохраню им верность, больше буду с ними, чем с новыми друзьями. Так много было погибших, что я не мог охватить их всех памятью. Кто вспомнит убитых детей в одном этом городе Лодзи? Я не мог их помнить и не мог забыть, - я только чувствовал, что они окружают меня во сне и на яву, в глубокой тени сознания.
В те первые дни я без конца и цели бродил по улицам Лодзи с одной надеждой - кого-нибудь встретить. Если не здесь, то где же? И если я вернулся, почему другим не вернуться? Я зорко глядел по сторонам и всё ждал, что меня окликнут... И едва подымался в свою прекрасную комнату в отеле «Савой», как меня начинало тянуть неудержимо на улицу. Пока я был на улице, я еще мог кого-нибудь встретить, и каждая встреча была спасением и победой над смертью, - но запираясь у себя в комнате, я их всех предавал безвозвратно и безнадежно... Мог ли я? Я знал, что день моего отъезда будет днем великой разлуки, - и тогда я останусь один в исполинском царстве теней, как водолаз, которого опустили на дно и забыли поднять.
Неделя прошла, пока я решился сходить на свою квартиру. Подымаясь на высокий партер, я был под впечатлением блеска парадной лестницы и ступени казались мне круче, чем я запомнил их с лета 1939 года. Ничего не ждал я найти за дверью: мне передали, что немцы вывезли всё, оставив голые стены. Но войти я должен был: так требовал закон возвращения. Я должен был войти, чтобы замкнуть круг, чтобы погасить или выровнять в памяти образ бегства, когда я, не оглядываясь, бросил свое гнездо. Что-то от меня осталось за этими дверьми. Ему я обязан был последним визитом.
На двери «Биласевич, служащий Магистрата». На звонок открыла чужая женщина. И никаких перемен в прихожей: та же мебель, только поблекла за семь лет. Я поразился... что, если и дальше всё по-прежнему, и неправда о «голых стенах», сию минуту войду в кабинет, увижу книги, «Ундервуд» в уголке и над диваном женский портрет, в серебристо-зеленых тонах, тот, что был мне дороже «Джиоконды» Леонардо? - Я поспешил успокоить хозяина: не имею претензий на квартиру, хочу только «бросить взгляд», уезжая навсегда заграницу... С опаской и оглядкой ввели меня в комнаты, и хозяин объяснил: тут жили немцы, он поселился недавно и мебель принял по списку от управления брошенным гитлеровским имуществом...
И правда, всё было чужое. Немцы оставили свои книги... и вдруг, между фельетонами Геббельса и «Judenpest» Германна Эсера, я заметил знакомые корешки.
- Видите, - сказал я хозяину, - немцы оставили себе несколько моих книг: я по корешкам узнаю. Вот эта... и эта... и эта....
Что оставили себе наци из моих книг?
Иллюстрированный гид по Палестине, собрание анекдотов Ольшвангера «Der Ostjudische Humor», два тома Зомбарта «Der Proletarisсhe Sozialismus» и толстый том в вишневом переплете «Wahrheit und Wirklichkeit» Heinrich Meier'а, моего университетского учителя, весь исчерканный студенческими пометками. Я их показал хозяину в доказательство, что я действительно жил на этой квартире. А в столовой осталась висеть тяжелая металлическая лампа, и в спальне, где в последнее лето жила мать моей жены, еще стоял ее шкаф и старомодное громоздкое ложе желтого дерева с золочеными гирляндами.
- Если хотите забрать свои вещи, - сказал любезный хозяин - то на это есть процедура: надо заявить в окружной суд, он выдаст разрешение, а иначе я ведь отвечаю за вещи... по списку...
Я не имел понятия, что мне делать с этой рухлядью, но, следуя совету любезного г. Биласевича, подал заявление в суд. Я думал, это простая формальность. Велико было мое удивление, когда явившись по вызову в назначенный день, я нашел вместо любезного г. Биласевича двух адвокатов, которые в качестве «противной стороны» просили об отсрочке до следующего заседания. К этому времени они доставят счета фирм, где г. Биласевич купил поименованные мной вещи, а также доказательство, что я никогда не жил на этой квартире и потому не мог иметь в ней никаких своих вещей.
Отсрочка была предоставлена... но на второе заседание я не явился. Выяснив, что за кровать, лампу, шкаф и прочее надо вести бой, я малодушно махнул рукой. Расчет любезного г. Биласевича был правилен: через несколько недель я выехал из Лодзи, выехал навсегда, оставив ему кровать моей тещи с золочеными гирляндами.
Мне это было нетрудно. Другим тяжелее было оставлять в хищных руках тех, кто становился их наследником при жизни, свое достояние, добытое трудом поколений. И не один из сибирских евреев-репатриантов, явившись неожиданно на порог дома или деревенской усадьбы, где уже забыли о его существовании, вызывал крик возмущения и искреннее проклятие: «всех ликвидировали, а этот остался... чтоб ты пропал, проклятый недорезок...».
Прежде чем мне уехать, я провел много часов у большого окна кафе в центре города, за мраморным столиком, - там я писал свои письма и смотрел на улицу. Я сходил в городскую библиотеку и спросил комплект газеты за первое полугодие 1939 года - последнее полугодие перед гибелью моей Атлантиды. Пробовали вы когда-нибудь читать старые газеты, с кричащими заголовками и нелепой суетой людей, не знающих, что ждет их завтра? Газеты которые в перспективе немногих лет выглядят как кривые зеркала сборища трагического абсурда, возбуждающие оторопь... Это был мой мир? - И глядя в большие стекла кафе, я видел улицу 1939 года так ясно, что ничего не оставалось как взять перо.
На перекрестке Пиотрковской и Цегельняной, облепленном продавцами баранок, где крики «Хайнт! Момент! Фрише байгл!», грохот колес и трамваев не утихают ни на секунду, в полдень было как на сковороде с кипящим маслом.
Клубились потоки прохожих, тротуары не могли вместить их, люди оступались на мостовую. Под мордами лошадей и между автомашинами шли старые евреи в лохмотьях, таща на спинах связки мануфактуры, неправдоподобные горы картонных коробок с галантереей. Шли, сгибаясь под прямым углом, задыхаясь, шатаясь, бороденками вперед, с выпученными глазами и разинутым ртом. В подворотнях домов, промозглых и сырых даже в этот ясный майский день, с дворами похожими на людные базары, стояли носильщики, в ожидании грошового курса, - всклокоченные евреи с Балут и Старувки, с веревочной упряжью на плечах, в опорках и «капотах», прикрепленные как галерники к месту - у входов бесчисленных лавок с пряжей, с печатным и белым товаром, у складов, контор и окон, заваленных трикотажем или джутом. Голодная толпа кишела у кошерных витрин Дишкина и Диаманта, - и равнодушно отворачивался от нее рыцарский Костюшко на высоком цоколе на площади Вольность.
Весь первый километр вплоть до угла Пшеязда и Анджея был сплошной еврейской биржей. Еврейские коллектуры и банки чередовались с кафе, пристанищем коммивояжеров и агентов, где обделывались делишки под вывеской «Идеал», «Астория» и «Италия». Меняльные конторы чередовались с редакциями газет на трех лодзинских языках, в узкие дворы сворачивали с грохотом исполинские ролльваги, груженые кипами товара в цветных с этикеткой обертках: «Адрия» Штайнерта, «Сотка» Видевской - «500 штук принимай!» - И тут же вертелись уличные фотографы, галантно нацеливаясь на щеголеватых прохожих, а за углом, в переулке где движенье мелело, заливались бродячие музыканты: «Моя Наташа», «I jeszcze cos... О jeszcze cos!»...
В центре Пиотрковской, среди еврейских шелков и ателье мод - одна против другой помещались редакции погромной польской газеты «Орендовник» и «Фрайе Прессе» - гитлеровского немецкого листка, с прилепленным сбоку прямо на тротуаре киоском, где испитой парень с бандитской рожей вывесил штрайхеровский «Sturmer» с кричащим заголовком «Jude verrecke» и отвратительной карикатурой. Тут же рядом на втором этаже помещался КИЖ: «клуб еврейской интеллигенции». Еврейские интеллигенты и неинтеллигенты дефилировали мимо «Штюрмера» и «Дер Шварце Корпс» с действительным или деланным равнодушием, - и только по временам какой-нибудь безработный меламед в истрепанном пиджаке без галстука, с наивным и близоруким взглядом, останавливался как вкопанный перед антисемитским шаржем, и, кажется, готов был спросить иронического и холодного продавца: «Как тебе не стыдно? Как это возможно?» - Но слишком много было кругом витрин с хрусталем, шоколадом Фрамболи, розами Ван-де-Вега, икрой и винами, кинорекламой «Риальто» - запах пирожных и черного кофе вытеснял видение крови, - и ничего не оставалось в сердце, кроме легкой тени тревоги: всего вдоволь, и всё к услугам человека с бумажником. Только уметь заработать... На Пиотрковской, и особенно в полдень, когда движение достигает предела, трудно еврею думать о чем-нибудь кроме того, что диктует ближайший день и час.
Заработать! - Как-нибудь обойдется. Бог не выдаст. З1/2 миллиона польских евреев, это кое-что значит! - Заработать! - За нами Демократия, Культура, Европа и Америка, рабочий класс, и еще что?
Заработать!
На углу Пиотрковской и Цегельняной я сидел за большим стеклом кафе и за плечами прохожих видел тех, обреченных.
Посмотрим. Чужими глазами. Как мужик из деревни или английский турист. Птичьи груди, тощие, безмускулъные, деформированные тела, круглые спины, немощные и смятые, несвежие, сморщенные лица, месиво из отстающих ушей, свороченных носов, вывороченных губ, нескладных, неловких или слишком суетливых и беспокойных движений. Кривые плечи, каждый косит, озирается или бежит, не глядя, вперед, - и у каждого какое-нибудь колесико не в порядке. Хромые, подскакивающие фигуры, поломанные, поношенные, вихляющиеся, до рождения усталые люди, болезненные и трагические глаза, черные кафтаны - мундир безделья, плоские черные картузы - вывеска гетто, женщины без прелести, мужчины без гордости и спокойной силы. Людской поток мечется и жестикулирует, слишком громко хохочет, слишком резко реагирует, и всегда в чем-нибудь дефективно, невыдержанно, неуравновешенно, за пределами гармонии и полноты жизни: несчастный тройной продукт большого города, еврейской нищеты и славянско-немецкого перекрестка, где все влияния перерождаются в отклонения, в неустойчивость и развинченность духа, в вечную оглядку, в подражательность или дикое сектантство...
Довольно! Я бросил перо. Эти люди умерли - имел ли я право судить их? Можно ли судить умирание? - Но умирать они начали еще прежде, чем пришел Гитлер. Они были готовы под нож и под газ, и всё, что мы могли сделать, - мы, которые ненавидели это несчастье и пробовали что-то кричать в их глухие уши, - было бежать отсюда - бежать даже без уверенности, что на новом месте не повторится тот же лодзинский шок. Обреченные! Еще не родился тот, кто бы мог рассказать правду об их конце, швырнуть их потомкам и братьям повесть гнева, - и не задохнуться на полуслове, не закрыть глаза рукой - и не отвернуться.
Человек, который осмелится, - который будет иметь довольно силы духа, чтобы как Данте сойти под землю и рассказать, как происходило умирание его народа, потеря воли к жизни и страсти к свободе, - пусть возьмет эпиграфом старый стих Лукреция, классический образ «facies hippocratica», лица умирающего:
с наступлением последнего часа ноздри сжимались, и нос, заостряясь в конце, становился тонким; впадали глаза и виски; холодея, твердели губы; разинут был рот; и натянута лобная кожа.
Летом 1946 года, в ожидании отъезда из Лодзи, я начал повесть о том, что происходило в этом городе в последние месяцы перед катастрофой. Но уже первые страницы вывели меня из душевного равновесия, - и я почувствовал, что для этой правды время еще не пришло.
Глава 3. Галя
Если бы не война, разве я бы вышла замуж в Столине? Есть такое местечко на Горыни-реке, среди лесов, далеко от железной дороги. Я туда попала случайно. Мне предложили работу в Леспромхозе города Столина. Время военное, 40-й год. Я беженка, деваться некуда. Столин, так Столин. Местечко битком набито. Беженцев видимо-невидимо, всё евреи. Живем как во сне. В Варшаве немцы, а здесь советская власть. Чем это всё кончится, неизвестно, а пока я вышла замуж.
Муж у меня был сильный, большой. Хороший парень. Называл он меня «поросёночек», а почему, догадайтесь сами. Начал он ко мне приставать: венчаться под балдахином, по закону, а то матери стыдно. Святой город Столин! Но я заупрямилась: ни за что не пойду под балдахин. Я не религиозная. Хватит гражданского брака. И тут они меня взяли хитростью. «Идем к маме на чай», - говорит мой Беня. Я прихожу, а там всё готово: раввин в широкой шляпе, все родственники, дети с цветами. - «Дурочка, не стесняйся! Это ж всего одна минута»! - И двери заперли. Под балдахином я разревелась от злости, а кругом все смеются. Я мужу сквозь слезы: «Никогда, никогда тебе этого не прощу!».
После этого отправилась я покупать себе туалет. Не в магазин, конечно. Какие магазины в советском Столине! А к бывшей помещице Олехновской. Была такая старуха, ее мужа и сыновей большевики забрали, и она перебралась жить в Столин на окраину. Домик ее в поле выходил. Она продавала вещи, тем и жила.
Звоню, прислуга открывает. Здоровенная баба, гренадер. - Вам чего?
И я, самым-самым сладким голосочком:
- Мне пани Олехновскую... по делу...
Выходит Олехновская: женщина седая, гордой осанки, в трауре. Для поляков тогда было трудное время, а эта еще и аристократка, шляхтянка. Пани.
- Я беженка из Варшавы, все вещи растеряла, одеться не во что... Не продадите ли чего из вещей?
Из кухни является прислуга, вытирает руки, садится к столу, и я вижу, что ошиблась: нет, это, видно, не простая баба, это родственница из этой же семьи. Начинается разговор, и всё мне в этом доме нравится: комнаты чистенькие, уютные, об Олехновской я много хорошего слышала, и как бывает: десяти минут не проговорили, и подружились. Верчусь, примеряю, смеюсь. Чай с вареньем подали.
- Как у вас хорошо, - говорю, - как всё мило... уходить не хочется!
- А ты и не уходи, - говорит Олехновская. - Мака, заверни ей эти два платья. Бери, не бойся. В цене сойдемся. Человек важен, не деньги. Так и завязалась между нами дружба. Пошла я платья покупать, а купила себе - жизнь. Через два месяца пришли ночью за старой Олехновской. Известное дело - помещица. Был у меня знакомый энкаведист, человек тихий, вежливый, - я сейчас к нему:
- За что ее взяли, это верно ошибка! Он мне отвечает:
- Я вам удивляюсь, товарищ Галя: это ж классовый враг, а если симпатичная и добрая, то это лишь тем хуже. Советская власть симпатичных помещиков особенно не любит.. отступитесь от нее, ее дело пропащее.
- Похоже как у наци, - говорю, - там тоже евреи должны быть черные с кривыми носами, а если кто блондин с голубыми глазами, тем хуже, такого в первую очередь ликвидируют. Он на меня глаза как вытаращит:
- Товарищ Галя, таких сравнений не делайте никогда... для вашего добра... а уж эта ваша Олехновская, чорт с ней, я ей устрою передачу... И так начали мы с Макой пересылать в тюрьму еду и веши, а от нее получали грязное белье - в стирку.
В один вечер разбирали мы такой узелок из тюрьмы, и вдруг замечаю: торчит тесемка из белья. Я выдернула тесемку, а на ней надпись карандашом вдоль: «Ратуйте меня». Как это спасать? От чего спасать? Что они с ней делают? Ничего мы не знаем, не понимаем, а на утро с узелком белья на смену пошли к воротам тюрьмы.
А под воротами толпа:
- Ведут!
И растворили ворота, вывели человек двести: пешком, по пяти в ряд, с мешками на спинах, старых, молодых, всяких. И Олехновская шла с краю, щеки ввалились, платок на бровях, лицо безумное. И я через конвойных, через штыки:
- Белье, белье!
Конвоир поднял приклад:
- Смотри, а то вместе пойдешь!
И бледный страх напал на нас с Макой, остались мы обе в стороне: «конец Олехновской»! Слезы сами собой льются, вернулись мы в пустой дом на краю поля. Прошло две недели, и я начала уговаривать Маку.
- Нельзя тебе дома сидеть без работы. Зачем внимание на себя обращать? Иди на работу, иди в Леспромхоз.
- Да я не умею ничего.
- Вот велика важность. Мы все сначала не умели. Я тебе покажу, будешь счета писать... ты ж грамотная.
И начала Мака работать в Леспромхозе. Голова у ней хорошая, деловая. Не прошло и месяца, стала моя Мака расти: она счетовод, она же и экономист, она и хозяйка - без нее в Леспромхозе и стула не переставят.
Только наладили мирную жизнь, как Гитлер дал о себе знать.
Война! Грянула весть: немцы идут!
Конец нюня был жаркий, Горынь обмелела, зарницы полыхали, и с каждой ночью, с каждым днем нарастала тревога: немцы в Бресте! Немцы в Кобрине! Советские люди молчали первые дни, и мы, глядя на них, молчали. Переполох начался в тот день, когда мы увидели грузовики под Горкомом. Уходят! А с нами что будет?
Советской власти было не до нас. Эвакуировали из Столина всего на всего четырех евреев из числа главарей местных. Бросились тогда многие за лошадьми, за телегами. Еще через день тронулся из Столина длинный обоз: возов сто поехало на советскую границу. Поехала вся молодежь, все, кто не хотел попасть немцам в руки. Поехал и муж мой, Беня. Пред отъездом я дала ему слово заботиться об его матери, и попрощались, кто знает как надолго.
Но они недалеко уехали. На советской границе их не пропустили. «Вы кто такие»? В военное время по советским дорогам самотека не допускается. «Поворачивай оглобли»! И никакие объяснения не помогли. Полдня простояв на границе, тронулся обоз столинских евреев обратно - навстречу немецкой армии. Медленно тянулись возы через глухие белорусские деревни, и мужики смотрели с удивлением на это шествие. На рассвете вернулись в Столин, а там от большевиков и следа не осталось. Евреи притаились. Грабежи по домам. Ждут немцев каждый час.
Ворота во двор тюрьмы НКВД были открыты, под забором лежало двадцать трупов. Уходя, расстреляли арестованных. Мы с Макой прокрались во двор. Мы искали Ирену. Весь Столин знал Ирену. Девушка 18 лет, красавица писаная, патриотка польская и смелая как в романах Сенкевича. Семью Ирены вывезли давно, а ее задержали. Она же сама и была виновата. С кем задираться вздумала! Она, сидя в камере, во весь голос пела «Еще Польска не сгинэла». И когда мы услышали, что Ирена лежит во дворе, среди расстрелянных - первое слово Маки было: «пойдем, похороним ее».
Мы нашли в ряду тело Ирены, положили на носилки и вынесли за ворота. Мы торопились. Я особенно боялась. Этого еще не хватало, наткнуться по дороге на немцев. Мне, еврейке!.. Мы вышли за город, на опушку леса. Взяли по лопате,выкопали яму под деревом. Я не смела смотреть... У нее была вся черная грудь. Что с ней делали перед смертью? Мака перекрестилась, и мы поскорей ушли.
Через три дня немцы пришли в Столин. Немного их было: всего четыре немца на автомашине. И этого было достаточно. Четыре немца на восемь тысяч столинских евреев.
В летнее утро собрали евреев на базарную площадь, и немецкий комиссар держал им речь с крыльца советского Горкома:
- Вы такие и сякие. Вы вредный народ, испорченный, никуда негодный народ. Работать вы не хотите, и не нужны вы никому. Вы - известные поджигатели войны. Вы во всем виноваты. Но мы вас заставим работать и слушаться. И чтоб с завтра все одели желтую звезду.
Мертвое молчание на площади. Стояли стар и млад, понурив головы.
- Сдавайте шубы и ценные вещи. Сдавайте золото и деньги. И запрещается вам ходить по тротуарам. Ходите среди улицы, иль совсем не показывайтесь.
В мертвом молчании, потупив глаза, стояла толпа.
На другой день назначили нам Юденрат и «еврейскую полицию», чтоб исполнять немецкие приказы. И началось. Как в дурном сне.
Еще через несколько дней нахлынула в Столин тысячная толпа еврейских женщин и детей. Они прибежали за 30 километров из Давидгородка.
Под Давидгородком появились партизаны. Может быть и были среди них отдельные евреи. Кто стрелял, неизвестно. Короткая расправа: собрали всё мужское еврейское население Давидгородка, от 12 лет, две или три тысячи вывели за город и всех до одного расстреляли. А женщинам приказ: уходить из местечка. Вон, всё равно куда. Сию минуту. «Кого через час найдем в домах, убьем».
Это надо было видеть, когда вырвалась из местечка обезумевшая толпа старух, свежих вдов с младенцами на руках, девчонок, которые за руку тащили малых ребят, тысячи фурий с растерзанными волосами, в столбняке страха, который отнял у них голос и слезы. Немцы не дали времени плакать. Всю ночь они шли по открытой дороге из Давидгородка в Столин, как процессия привидений. Встречные мужики крестились в испуге и уступали дорогу. Бабы выносили им воду и хлеб. А другие травили их собаками и осыпали бранью.
В Столине приняли их с плачем, но для всех нашлось место. Голод и холод заставили нас сгрудиться как стадо овец. Евреи грели друг друга собственным телом. Не стало разницы, образованные, необразованные. Люди с дипломами женились на простых торговках. Каждая местная девка, которая припрятала пуд пшена и куль картошки, выбирала себе в мужья кого хотела. За пшено и теплый угол покупали их, аристократов, голодных беженцев из Варшавы, белоручек, неженок с желтой звездой.
Пришлось мне идти в прислуги. Мака меня взяла за прислугу. Уже тогда нельзя было евреям и арийцам жить вместе, но Мака получила разрешение выбрать себе еврейку в прислуги. Я осталась при ней. А когда заперли евреев в гетто, она мне достала пропуск. Днем я работала у нее, а вечером возвращалась в гетто. Тогда начали евреи выменивать всё, что имели на еду. Через меня шла торговля. Я приносила Маке вещи, она их выменивала у соседей. Я боялась сама в гетто носить припасы. Мака провожала меня по другой стороне улицы, доходили до забора гетто, и там, улучив минуту, она перебрасывала через забор кульки с мукой и крупой... Так мы в гетто кормились.
Кто-то немцам донес, что Мака со мной дружит. Один из них и пришел проверить, что за прислуга у Маки. Я стояла у печи и варила обед, когда постучали, и вошел высокий, худой немец с впалыми щеками. Я боялась посмотреть ему в лицо.
- Что ты здесь делаешь?
- Варю обед.
Немец подошел к печи, снял крышку с горшка и заглянул. Понюхал. Запах ему понравился. Он что-то хотел сказать. Я подумала, он велит подать ложку. Но немец перемог себя. Еще раз понюхал, махнул рукой и ушел.
В день переселения в гетто тысячи евреев бросили свои дома, мебель, погреба с запасами и перебрались на бедную окраину местечка, где до того жила подгородная беднота. Столин, стародавнее еврейское местечко, в полдня стал арийским. Но в гетто вокруг лачуг и убогих хат евреи нашли нежданное богатство: огороды. Бывшие владельцы оставили им грядки с картошкой, луком, огурцами. Во дворе осталась даже арийская птица! Еврейские хозяйки в первые дни звали кур: «цып-цып-цып...», но куры, представьте, не отзывались: куры не понимали по-еврейски. Пока не начали манить их по-мужицки: «угу, угу, угу».
Восемь тысяч евреев сидело за колючей проволокой. И постепенно стали доходить до нас вести, которым никто не хотел, не смел верить. О том, что произошло в Сарнах. О том, что сделали в Высоцке... Нашлась среди нас молодежь, которая хотела собрать оружие, бежать в лес, организовать сопротивление. Но было поздно. Хотели, и не умели, не знали, не решались. Некому было позвать их «угу»! Столинский ребе решил иначе. Сказал столинский ребе, столп Израиля: «Не сметь! Как жили, так и умирать будем. Всё по воле Божией. Разве место еврею в лесу? Волки мы, что ли? Место наше было и останется в доме молитвы».
А пропуск у меня был только до шести часов вечера. Мака никак не хотела меня отпустить. В тот вечер пришла в Столин рота СС. Гетто оцепили. Я осталась на арийской стороне. Мака меня обманула: сказала, что ей позволили оставить меня на ночь. Она ушла из дому и заперла меня на ключ. Я лежала в темноте и всю ночь слушала: ветер рвал ставни, и мне казалось, что я слышу далекую стрельбу. Мака не возвращалась. Может быть партизаны ворвались в город? Или пьяные немцы открыли стрельбу по гетто? Почему не возвращается Мака? На рассвете наступила необыкновенная тишина. Как будто вымерло местечко. Я ломала руки. Ни звука за окном, улица пуста. Мака вернулась только в девять часов утра. Я испугалась, глядя на нее. Лицо у нее побелело как мел. И синие губы.
- Мака, я хочу домой, в гетто.
- Нет больше гетто, Галя. Нет никого в живых.
Я окаменела. И Мака смотрела на меня так странно, как будто мы обе спали, и это всё нам снилось. Я сказала во сне, беззвучно:
- Что ты говоришь?
Я не слышала ее ответа. Но я уже знала, что все умерли, и сейчас будет моя очередь. Я хотела проснуться и не могла. Первой проснулась Мака. Я увидела, как дрогнули ее зрачки, глаза стали осмысленными, и в них появилось человеческое выражение. Она тронула меня за руку.
- Что делать, Мака?
- Ничего не делать. Переждать.
Это было самым простым в нашем положении: отложить. Но Мака сказала «переждать», как будто не понимая, что она говорит: переждать войну, пережить Гитлера, пережить зло, которое залило пол-мира. Она за руку вывела меня в другую комнату. Было их две всего, - и в первой комнатке стояла корзина. Плетеная корзина для белья, с крышкой, которая неплотно прилегала. Метр в длину и 60 сантиметров в ширину. Не было другого места спрятать меня. Не было времени искать другое место. Если бы немцы нашли меня в квартире Маки, они убили бы нас обеих. Я легла в корзину. Мака бросила мне яблоко. Крышка закрылась. Мака покрыла корзину длинным вышитым крестьянским полотенцем. Под ним я лежала и ждала, чтобы немцы ушли из Столина.
Я ждала полтора года.
Не удивляйтесь. Можно жить в корзине для белья, если на выбор только немецкий застенок. Я меньше боялась смерти, чем попасть в немецкие руки.
В корзине я лежала на спине, согнув колени и упершись ногами в стенку. Я могла шевелиться, чуть-чуть поворачиваться и, таким образом, могла выдержать часа три. Корзина стояла в углу, так что из окна ее не было видно. Это было важно, потому что прохожие и особенно знакомые часто заглядывали через окно внутрь комнаты. Закрыть окно ставнями мы не решались: это бы обратило внимание. Только вечером я выходила из корзины, когда темнело. Днем я лежала в корзине, в пустой квартире, и ждала, чтобы Мака вернулась со службы. Когда становилось невмоготу, я приоткрывала корзину и садилась. Первые два дня я ничего не ела. Я не могла собрать мыслей. На третий день я съела яблоко.
В этот день собрались к Маке соседки и начали вспоминать меня.
- И Галя тоже погибла! Жалко Галю! А Мака в ответ:
- Нашли кого жалеть! Пустая девчонка, коза, нестоящий человек!
И так они вспоминали меня и говорили о столинских евреях:
- Евреи все были коммунисты. Без них нам лучше будет. А Мака отвечала: «Еще посмотрим, лучше ли немцы евреев».
И все хором: «Ох, какой страшный народ! Такого варварства свет не видел. Кто еще знает, что с нами будет, если немцы войну выиграют»!
А я лежала в другой темной комнате в корзине и слушала.
Через несколько дней нашелся кто-то, кто видел, как вели меня убивать: жандармы в толстых шинелях вели Галю босую, раздетую, с лицом в крови и слезах.
- Жалко Галю! И мне было жалко ту, другую Галю, мою сестру, такую же как и я. Не всё ли равно, как ее звали? Но я хотела жить! Как я хотела жить! Одна из всех. Одна против всех. Против Гитлера, против властей и законов. Уж одно, что я дышала - было победой. И Мака была со мной.
После ликвидации гетто немцы собрали все вещи, которые остались после убитых и разделили на две части. Лучшие вещи вывезли в Германию, а что похуже, роздали местному населению. Я начала уговаривать Маку: «Пойди возьми тоже что-нибудь! Может, попадется что-нибудь подходящее, а то у нас ни белья, ни тряпки половой в доме нет». Мака сходила и принесла домой свёрток. Мы его открыли вечером.
Сперва мы вытащили жилетку. Старую поношенную жилетку с пятнами, и пуговицы не хватало... из кармана торчал замусоленный карандашик. А потом что-то скомканное. Развернули - это детские рубашечки. Одна, вторая, третья...
Вот тогда меня и прорвало. До того я слезинки не проронила. Сердце во мне оборвалось. Залилась я неистовым плачем. Душу всю у меня вывернуло. Мака, здоровая баба, не из пугливых, - затряслась вся, переменилась в лице. Схватила она весь этот свёрток - и в огонь.
- Будь проклят, кто до этих вещей дотронется!
С первого дня было решено между нами, что я уйду в лес, к партизанам. Недели проходили в ожидании. Надо было связь найти, потихоньку выбраться из местечка. Я всё Маке не давала покою: когда же - когда в лес? Здесь каждый день мы обе рисковали жизнью. Я хотела освободить Маку от этого напряжения, и корзина мне надоела: что за жизнь в корзине? Будь что будет - мое место с партизанами, на зимних стоянках в лесной глуши - на вольной воле.
Мака осторожно разузнавала. И наконец, пришел срок. В одну зимнюю ночь выкрались мы из местечка в поле, оврагом выкрались в лес. Мака шла впереди, а я сзади метлу несла, метлой следы заметала по снегу. Зашли глубоко в чащу, ветер затих. Тишина. Пришли на полянку, Мака посадила меня в кустах.
- Сиди, придут за тобой.
Ушла Мака, и я осталась одна. Сижу в сугробе и жду. В валенках и трех платках. А надо мною беззвездное небо, ни звука, ни луча. День прошел, и сутки, и вторые сутки. Никто не пришел. И я начала застывать. Днем дятел долбил в чаще, а ночью кричал филин. И у меня не было сил подняться. Я всё больше спала. Проснусь и думаю: «Мака меня бросила. Здесь я и кончусь. Вот засну и не проснусь больше».
Вечером на третий день слышу: кто-то идет. Темно, не вижу. И голос Маки:
- Эй ты, не замерзла еще? Давай, давай живее! Подала она мне бутылку горячего молока, подняла на ноги, а я шатаюсь, еле ноги переставляю. А дорога немалая. Идем, спотыкаемся, садимся, опять идем. Так часа два. Пришли на поляну, а там шалаш. Лошадь привязана. И мужик в тулупе и башлыке. С автоматом. Партизан.
- Стой! Кто такие?
- Женщины, товарищ, - говорит Мака, - свои. Мужик ближе подошел. Лицо совсем молодое, брови в белом инее.
- Проводи ее в штаб, товарищ. Это еврейка, одна из всего гетто спаслась. Мужик посмотрел на меня сбоку... и не отозвался. Он молчал, и я почувствовала в этом молчании досаду, раздражение, враждебность. Я начала срывающимся голосом объяснять ему:
- Возьмите меня... я вам пригожусь... А он, со злобой:
- Да что у нас, лазарет? На что ты нам пригодишься?
И к Маке:
- Забирай ее обратно, откуда привела! И живо, чтоб духу вашего не было, вашу мать... два раза не буду повторять...
И поднял автомат. Я хотела лечь в снег. Пусть стреляет. На что мне жить и других мучить? Мака ему ни слова не сказала. Только посмотрела ему в лицо. Взглянула на меня.
- Идем домой, Галя. Светало, когда мы проскользнули под забором на двор и вошли в теплую кухню. Смешно вспомнить. Съела я кусок сала с краюхой хлеба и легла в свою корзину, сытая, довольная. Да это был дом: моя корзина, моя подруга Мака. После трех ночей в лесу я была счастлива, что снова лежу в корзине. Мягкая подстилка. Ничего больше не надо было: только спать, спать... Когда вечером Мака вернулась с работы, я совсем пришла в себя. Мака с толстым задом, четырехугольная как комод, а я при ней как кошка.
- Тебя, Галя, с крыши бросить, всё равно, на лапы станешь.
Местечко обезлюдело. Тишина на пустых улицах, полиции было мало, и гестапо не показывалось. Это не Варшава, где охотились за людьми, там каждому в лицо смотрели, за каждой квартирой следили добровольные сыщики. А тут и народу меньше, и люди проще. Весь 43-й год я лежала схоронившись от света, за запертой дверью, в большой бельевой корзине, и никто не знал, что Мака кого-то прячет.
А Мака еще и дружбу завела с немцем. Был один такой солидный и спокойный немец, «цивильбеамте» в местечке. Дело женское. Мака не монашка. Перед его приходом мы выносили корзину в чулан, что при сенях. Чулан был холодный. Мака накрывала меня шубой, я запиралась на ключ и пережидала немца. Он уходил до рассвета. Я слышала, как он снимал засов на двери в сенях, и я же за ним закладывала этот засов. Потом я - бежала к Маке в теплую настоящую постель. Я обнимала ее и душила, как любовник... Но она даже глаз со сна не открывала. Она продолжала спать спокойным, крепким и здоровым, настоящим арийским сном.
Испугались мы только один раз, когда пришла в Столин из деревни старая крестьянка Даша, которую мы обе хорошо знали. Даша принесла на продажу яиц и масла. Я лежала в корзине и слушала, как она разговаривает с Макой. Потом Мака вышла, а она осталась. Даша была преданный, свой человек, которому можно было вполне доверять. Но кто знает, как ведут себя честные и порядочные люди, когда их оставляют одних в пустой квартире?
Старая крестьянка посидела, повздыхала. Потом подошла к зеркалу и долго стояла перед ним; открыла флакон одеколона, понюхала; потом я услышала, как она выдвигает ящики комода, открывает шкаф... Потом она вошла в кухню и посмотрела, что в горшках... Оттуда она перешла в маленькую комнатку, первую от сеней, где я лежала и подошла к корзине... Я замерла. Старуха долго стояла над корзиной, как будто заснула над ней. Мне уже начало казаться, что ее нет в комнате, как вдруг она очень медленно и осторожно подняла крышку и заглянула.
Я лежала, подняв колени, на спине, и не мигая прямо смотрела в наклонившееся морщинистое лицо. Мы не виделись года полтора. Лицо у меня было зеленое, глаза широко раскрыты, как у вурдалака. Даша постояла секунду, ничего не сказала и мягко осела на пол. Обморок. Я вылезла из корзины, перешагнула через нее и побежала в сени запереть наружную дверь.
Через четверть часа, когда вернулась Мака, мы заставили Дашу поклясться над образом, что она будет молчать, как могила. Теперь в ее руках были наши две жизни. Мы ее настращали как могли. Даша была свой человек. Даша верила в Бога. Даша знала, что немцы войну проиграли. К этому времени их уже оттеснили за Днепр. И всё-таки мы не могли преодолеть беспокойства от мысли, что кто-то третий знал нашу тайну.
Под конец я так привыкла к своему заключению в корзине, что завела себе собачку. Чтобы не скучать целыми днями в одиночестве в запертой квартире. В это время русские были, километрах в ста от Столина. Маленький, белый, ласковый щенок бегал по квартире. Мака называла его «Малый», а я «Тютик». Он очень ко мне привязался, привык к тому, что мое место в корзине, но не понимал, что это секрет для чужих. Днем он прыгал вокруг корзины, визжал и вилял хвостом. С Тютиком было мне приятно, но опасно. Если бы война затянулась, пришлось бы его из квартиры удалить. Но уже приближался 1944-й год.
В начале этого года кончилась немецкая власть в Столине. Немцы отползали медленно, как зверь с переломанным хребтом, и задолго до своего ухода они притихли, присмирели и перестали внушать страх. Разъехались главные хозяева. Исчезла немецкая жандармерия. Начали подготовлять население местечка к эвакуации. Тогда и Мака стала готовиться в дорогу: ей, польке, незачем было оставаться с большевиками. Ее дорога была в Польшу, на запад.
И вот опять пришла роковая ночь, со стрельбой пулеметов, с артиллерийской канонадой, с движением обозов и необычным шумом во всегда тихом местечке. Мы с Макой были уверены, что в город вошли партизаны или части Красной Армии. Рано утром Мака вышла разведать, что случилось за ночь. И вдруг я услышала русскую речь под окном. Меня обожгло: нет сомнения, Столин занят советскими войсками. Я осторожно выглянула в окно: солдаты стояли под дверью. Начали ломиться, стучать прикладами в дверь:
- Отворяй!
Я не думала ни одного мгновения, сняла засов и впустила солдат:
- Входите, товарищи! Серые шинели, папахи, русские лица. Как я давно не видела людей!
- Ты чего заперлась?
- Я боялась. Я одна в квартире!
- От немцев, небось, не запиралась?
- Да что вы, товарищи! Мы вас три года ждали! Вы наши освободители! Один из них, чернобородый, высокий, подошел ко мне вплотную:
- Да ты за кого нас принимаешь? Я молчу.
- Кто мы такие, отвечай!
- Известно кто: вы русские... русские солдаты.
И я оробела вся. Ноги трясутся. Ничего не понимаю. Холод прошел по сердцу.
- Мы не те, кого ты ждешь. Мы антисоветские.
- А я и не знаю, что это за антисоветские. Первый раз слышу. Объясните, пожалуйста, я не слыхала про таких... - и я вся дрожу.
- Мы за Россию. Мы против колхозов и жидов. Потемнело в глазах. Ничего не понимаю. Подходят другие: «Чего она плетет»?
Но тот чернобородый - их командир - плечом отстранил меня:
- Завралась бабенка со страху. Иди-иди, собери нам поесть.
Я вышла на кухню, и Тютик за мной. Стою над горшками, и слезы сами льются.
Страшный мир! Он не знает пощады. Вот и русские пришли, и они тоже «против жидов и колхозов». Некуда деваться.
Командир вошел за мной.
- Чего ревешь, дура? Если бы ты одна здесь красных ждала, мы бы тебя прикончили. Да вот беда: здесь в каждом доме одно и то же слышишь. Всех не перестреляешь.
И тут понесло меня как с горы.
- Убейте меня! Я жить не хочу! Я вам всего о себе не сказала!
- А, вот ты какая! А ну-ка, выкладывай, всё как есть! И я как рванусь:
- Я - еврейка!
Он зажал мне рот рукой:
- Не кричи! - и оглянулся.
Прикрыл дверь из кухни, вернулся ко мне, подвинул табурет:
- Не волнуйся, садись, рассказывай, как уцелела. И не бойся меня.
И принялась я ему рассказывать всю историю, с самого начала: как Мака меня спасла и как я в корзине полтора года прячусь.
Рассказываю и реву. Платка не было. Лежала стирка на столе. Я одним концом утираю слезы, а он другим.
Плачет командир, как малое дитя.
- Если она тебя спасла, значит ты этого стоишь. Если до сих пор не погибла, значит тебе судьба жить. И мы тебя не тронем. Снял он с шеи крест и протянул мне.
- Я простой человек, верь, я тоже хочу жить, хочу вернуться к жене и детям. Ты думаешь, весело нам с немцами против своих идти? Судьба нами играет, а всё, чего мы хотим, это мира, - мира для всех, на своей земле, без насильников. Возьми этот крест, мне его жена дала, он меня уберег и тебя убережет от гибели. А мне дай что хочешь, - на память.
И нечего было дать ему. Я взяла колечко Маки, - простое колечко с голубым камнем, - и отдала ему. Оно ему и на мизинец не годилось.
Тут Мака ворвалась на кухню с великим криком:
- Кто позволил? Кто вам позволил сюда вломиться, хозяйничать?
Увидела меня с командиром и обомлела: язык у ней отнялся.
А он подошел к Маке, обнял за плечи:
- Я всё знаю, ты (богатырь-баба! Таких мало на свете. А только смотри, пусть Галя вперед язык на привязи держит: чуть-чуть беда не случилась. А ждать вам недолго: советские войска под Высоцком.
Несколько дней позже Мака уехала из Столина. Местечко опустело. Одни дряхлые старухи остались. Кто не хотел эвакуироваться - попрятался. Ходили по домам проверять, кто остался. Запираться нельзя было, дверь нашего дома стояла настежь. Всё что можно было Мака вывезла, а мне оставила запас еды, и место прятаться устроили в дымоходе. Положили кладку между кирпичей в трубе, и я залезала в печку, подтягивалась и сидела в трубе, как курица на нашесте. Сидела я так всю неделю... Кругом было пусто и жутко, - ни души, как в ничьей зоне между двух армий, где только мародеры и патрули бродят. Тютик вихрем носился по опустелому двору, не понимая, куда пропали все люди.
На развалинах трех царств, над гробами, над улицами, где валялась домашняя рухлядь, над брошенными домами, над хаосом разорения, над одичалой страной, - и она как пес бездомный ждала нового хозяина, готовая на пинок и на ласку, - я сидела высоко, угнездившись в трубе, и если б кто-нибудь подсмотрел меня, - он мог бы принять меня за ведьму, готовую взмыть на помеле в ночное небо.
Но я была всего только Галя, - маленькая и худенькая девушка легче перышка, которая отлично помещалась в корзине размером в один метр на шестьдесят. На седьмой день я услышала лай Тютика, и кто-то звал его: «Малый, Малый»! Так звала его только Мака. И действительно, она стояла на кухне у печи и кричала в дымоход:
- Не подохла еще? Спускайся скорее!
И я вылезла, черная как трубочист, с копной дыбом стоящих волос, и с носом в саже. Я вылезла не сразу. Сперва свесились мои ноги и болтались в воздухе, ища опоры, пока Мака не схватила их и не потянула вниз. Тогда я обрушилась в облаке копоти и гари, в клубах черной сажи и едкой угольной пыли, как настоящая ведьма, и уселась на печке, чихая и глядя на Маку: она хохотала.
Боже, как она хохотала! Она держалась за бока, вся красная, и слезы текли у нее по щекам. Она расставила толстые ноги, открыла рот и скорчилась в припадке неудержимого, сумасшедшего смеха. Всю утробу у нее вывернуло, щелочки глаз пропали, и она гоготала так, как будто ничего в мире не случилось, и мы снова были маленькими детьми, как в те годы, когда чтобы прыснуть со смеху, довольно было посмотреть друг другу в глаза.
Тогда, глядя на нее, я тоже начала смеяться.
Глава 4. Конец Марии
В это лето открылась предо мною Европа, как райский сад женщин. Далека от меня мысль уравнивать Варшаву и Лодзь летом 1946 года с магометанским раем, населенным гуриями. Магометанский рай, обитель чистого созерцания, сохраняется в трезвой Европе разве только еще в парижских театриках Ha Grand Boulevards. Варшава представляла хаос развалин, а Лодзь находилась на пороге сталинского перевоспитания. И все-таки это был очень резкий и внезапный для меня контраст с Советской Россией.
В течение семилетней ссылки я привык к виду женщин без прелести и тени кокетства, в сапогах и мужских бушлатах, зимой в платках и ушанках, к обществу работниц или заключенных с угрюмыми и серыми лицами, с остриженными волосами, к среде бесполых и рано увядших советских служащих. Но с улиц Лодзи летом 1946 года не сходило воскресенье. Танцевали во всех кафе, и уже одна походка девушек в ясный день на переполненных тротуарах казалась мне танцем,чудом эластичности и гибкости. Все они казались мне ослепительными красавицами, одна лучше другой. Я был ошеломлен тем, как они были одеты и как двигались, как звучали их голоса. Я был поражен зрелищем открывшейся мне солнечной, яркой полноты жизни. Я был увлечен карнавальным, триумфальным летом 1946 года.
Иногда шли мне навстречу женщины с мощными бедрами и высокой грудью, гордо закинув голову. Как ожившие статуи они двигались в мраморной красоте, и мне казалось, что это родильные машины, живые автоматы, - опусти монетку в прорез и ровно через девять месяцев аппарат выдаст ребенка с точностью механизма, помноженной на животворную силу природы. Но когда они улыбались мне навстречу, я поворачивал голову, чтобы увидеть кому за моей спиной предназначалась эта улыбка, - я не принимал ее на свой счет.
У паперти костела я наблюдал сквер, на который вступали женщины с пустыми возками и сиянием на лице. Дети,размахивая ручонками, как плавниками ми гребли воздух. Молодые матери, близ которых умирает вожделение, наклонялись над своими детьми. Женщина проходит, плавно неся свое крупное тело, блестя глазами, поводя плечами, и цветистый шелк платья играет красным и голубым, обнимая тело, - до крепких золотистых икр... И вот девушка в красном свитере, как птица перелетела площадь, легко касаясь земли стройными ногами, точно несла ее невидимая сила. Сила молодости. Я был влюблен в нее без желаний и ревности. И вот девушка в красных туфлях пробует носком невидимую волну, подступающую к ногам. Волна отступает и приливает, и естественная грация прибоя, продолжаясь в ее движениях, повторяется дважды .Волны моря обтекают лодзинский сквер, и он превращается в остров, населенный призраками... Я кусал губы и закрывал глаза, чтобы опомниться.
Мне надо было освободиться от одного воспоминания, которое как пятно прилипло и не сходило с души. Это было лагерное воспоминание, с того времени, когда я скатился на самое дно физического упадка. В лагере не было зеркала, я не знал, как я выгляжу и это мне было все равно.Я видел себя в отражении моих соседей, жалких и уродливых «доходяг». Я не брился по неделям, спал одетый и был омерзительно грязен, как все, или еще грязнее. По какому-то делу мне случилось зайти в контору, в кабинет начальницы, женщины «вольной», педантически-опрятной и аккуратной. Она сидела за столом, и я, забывшись, подошел к столу вплотную. Она с нескрываемым ужасом взглянула на меня и стремительно-быстро предупредила среди разговора: - Не подходите близко! -
Такая паническая брезгливость изобразилась на ее лице, что я оторопел.Я вдруг осознал всю неслыханную грязь своего годами немытого бушлата, запах лохмотьев прилепившихся к телу, весь свое невозможный,внушающий отвращение вид. Меня кольнуло в сердце. Это не был окрик начальника: нет, это была непроизвольная реакция женщины на то, что я на два шага ближе подошел к ее столу чем она могла вынести.Вернувшись в барак, я чувствовал себя как прокаженный, как Иов со скребком на смердящей куче навоза.Я смотрел на свои руки, как на чужие. Возможно ли, что эти самые руки когда-то касались других... их не отталкивали...напротив...
С остановившимися глазами я впал в сон наяву. Я вспомнил эпизод из времен, когда никто не говорил мне «не подходите».
Отель Савой. Тот самый отель, недалеко от сквера. Тогда он назывался иначе, но это было то же здание: шестиэтажный дом в боковой уличке, уединенно стоящий, с кондитерской на углу и цветочницей у подъезда.
Я жил тогда довольно далеко на окраине города, в большой неуютной квартире, принадлежавшей когда-то фабриканту колбас Карпузе. Колбасник разорился в умер, а его вдова сдавала комнаты в наем. Квартира была набита жильцами. Моя студенческая комнатенка была меньше всех и выходила прямо в обширный устланный ковром вестибюль с зеркалами и панелями красного дерева.
Долговязая и тощая хозяйка, с унылым лицом и глубоким как из бочки голосом, просила меня денег прислуге отдельно не давать и все, что полагалось за уборку комнаты, сдавать ей прямо в руки. В доме убирает ее племянница, за которую она отвечает и не может допустить, чтобы она имела особые источники дохода: это подорвало бы ее авторитет хозяйки и тетки. Вдова Карпузе, говоря о племяннице, имела особенно постный и кислый вид.
Мария была бедной дальней родственницей в доме, принятой прямо из деревни Мне было 19 лет, ей - 17. Мой опыт с женщинами был обратно-пропорционален моему знанию Канта (с которым я не расставался) «Теория феноменальности пространства и времени» рано потрясла мое воображение, так что более эмпирические и практические знания пришли в сравнительный упадок. Это был мой первый год вне родительского дома. Мария имела свежее, круглое личико,открытое и очень приветливое. Лицо это располагало к доверию. На нем была написана невинность и готовность слушаться старших. Тетка слишком строго с ней обращалась. Несмотря на то, что госпожа Карпузе, поджав губы, сказала мне о ней, что это девчонка бедовая и даже рафинированная, я все-таки предпочитал разговаривать с Марией, чем с ее теткой.
Мы быстро подружились.
В разговорах с Марией я ограничивался короткими репликами и замечаниями, предоставляя ей высказаться.Она мне жаловалась на тетку, которая ее загоняла работой. Рассказывала очень трогательно о жизни в деревне,о матери, об отце - школьном учителе, у которого она была по счету шестая, но не последняя. В этих разговорах закрепилась наша дружба - двух молодых естественных союзников среди бурчливых и хмурых людей, населявших квартиру.Было совершенно понятно, что она не только подавала мне утром завтрак, но и пришивала недостающие пуговицы. 0на была привлекательна и весела, всегда опрятна и хорошо воспитана и не возбуждала во мне никаких бурных чувств. Я дразнил ее Золушкой. Принц в золотой карете должен был заехать за ней и спасти от тетки Карпузе. Все было в порядке, пока она пришивала пуговицы на рубашках из стирки, но однажды, когда понадобилось пришить мне пуговицу прямо под шею, и она уселась при мне вплотную, так что круглая розовая щека, вздернутый нос и пепельные локоны почти касались моего лица, и я почувствовал ее свежее легкое дыхание на своей щеке, - мне ничего другого не осталось, как осторожно обнять ее и поцеловать.
Мы сидели на диванчике в моей комнате. За дверью слышался глубокий бас хозяйки. Не выпуская из руки иголки с ниткой, Мария сказала мне шопотом, очень серьезно:
- Нельзя! - и продолжала шить,но глаза ее смеялись. Я рассмеялся тоже и крепко расцеловал ее в румяные щеки. Ее губы скользнули вдоль моих, она быстро докончила дошивать, оборвала нитку и убежала. Я был очень доволен собой. Я встал с дивана, улыбаясь. На сегодня с меня было довольно.
Но в эту минуту открылась дверь, и Мария снова появилась на пороге. Это было неожиданно для меня, но еще более неожиданным было выражение ее лица, сияющее ликующее, полное внутренним смехом, которого она не могла удержать. Во всю свою жизнь я не видел такого выражения ожидания и радостного изумления на лице. Она ступила мне шаг навстречу, открыла в волнении рот и запнулась. Она не приготовила, что сказать.
- Я... хотела спросить...
Я молчал и ждал. Она сказала, глядя на меня во все глаза:
- Вам не надо еще что-нибудь пришить? - Тогда я взял ее в объятия со всей силой своей Философской молодости, завязшей в трансцендентальной аналитике и антиномиях чистого разума. Я забыл про хозяйку и двери, в которые каждую минуту мог кто-нибудь войти. Чрез минуту я услышал ее взволнованный шопот по-польски:
- Wara od moich nog! - и старуха Карпузе, как будто она видела сквозь стены, начала звать из столовой: «Мария!» Она не то вырывалась от меня, прижимаясь, не то прижималась, вырываясь, но я знал несомненно, что все что я делал, было ей так же нужно и весело, как и мне. В пять минут мы перестали лицемерить и бояться друг друга, и я в первый раз сказал ей «ты».
Но я все-же не был уверен, как мне следует вести себя с ней. Я чувствовал себя на много старше и ответственнее за свои поступки.
Несколько дней спустя я возвращался домой из собрания, где разговоры затянулись до трех часов ночи. По дороге промочил меня дождик, на который я не обратил внимания. Я шел по мокрому асфальту, поставив воротник летнего пальто, думая о чем угодно, кроме Марии. Я совершенно забыл о ней.
Поднявшись на третий этаж, я отворил дверь ключом, но оказалось, что она заложена изнутри на цепочку. Какая досада! Обыкновенно последний, кто возвращался вечером, закладывал дверь на цепочку, но до сих пор я еще никогда не был последним. Тому ,кто вернулся в эту ночь предо мною, не пришло в голову проверить, дома ли Я. Надо звонить! Мне было неловко подымать ночью людей, но делать нечего. Я принялся звонить. Я звонил долго, но никто не отзывался. Дом, полный людей, спал .Я начал стучать, разносить дверь. Ответа не было. Четверть часа спустя я еще стоял на площадке и уже начал отчаиваться. Экий здоровый сон был у этих людей! Несмотря на адский шум, который я поднял, мои соседи по прихожей спали как зарезанные. Спала старуха Карпузе в комнате с открытыми дверями, выходившей в столовую. И речи не было добиться до Марии: она спала в противоположном отдаленном конце квартиры. Ее комнатка находилась при самой кухне, в конце длинного коридора за столовой.
Убедившись, что мне не откроют, я спустился во двор и поднялся по черной лестнице. Я шел в темноте и считал этажи. На третьем этаже я постучал в дверь кухни. В ту же минуту послышался за дверью испуганный голос девушки: «Кто это?»
- Открой скорее! сказал я нетерпеливо.
- Но я не одета... вышептал голос за дверью. Это было уж просто нелепое замечание.
- Открой же, наконец, дверь!
Вступив на кухню, я увидел в темноте ее тонкую и стройную фигуру в накинутом шлафроке. Она ждала меня. И снова я обнял ее, но мне мешало пальто. Пальто на мне пропиталось городской пылью и пахло дождем. Мне было неловко и странно в пальто обнимать девушку, которая вся еще дышала теплом постели. Я почувствовал сквозь пальто ее твердые груди... и сделал открытие, которое меня смутило.
Я вырос в городе,и единственная рубашка,которую я считал естественной для женщины, была нарядная к легкая шелковая рубашка. Других я не видал и не знал. На киноэкранах, в витринах магазинов и в обиходе того круга, к которому я принадлежал, никогда не было других. Пижамы вошли в употребление несколько лет позже. Обняв Марию, я почувствовал, что она носит на себе шершавую и грубую ткань, домотканный лен из родительского дома в польской деревне. Я смутился. Я слышал как билось ее сердце сквозь суровую ткань, и она стояла без движения... Но вдруг я почувствовал, что ни за что на свете не буду в состоянии коснуться этой целомудренной и несообразно длинной одежды подростка. Я оставил ее и через коридор и темную столовую, мимо открытых дверей спальни тетки Карпузе, вернулся к себе в комнату. Но заноза уже вошла в меня. Я не имел больше покоя, не спал всю ночь и был взбудоражен. На другой день я твердо решил выбросить из головы эту ночную встречу. Это мне удалось в первую половину дня, когда я не был дома, - но (я обедал у хозяйки) ноги сами принесли в магазин на главной улице, и я купил шелковую рубашку.
Не очень дорогую и не самую дешевую, бледно-розовую, очень приличного вида, такую, какой, я знал, не было у Марии. На мой скромный студенческий бюджет это был значительный расход. Продавщица одобрила мой выбор и вкус.
Придя домой,я бросил сверток на стол и позвал Марию: «Это для тебя». Но она не притронулась к свертку. Увидев,что она конфузится и не решается взять подарок, я взял сверток, занес в ее комнату в конце коридора и бросил на постель.
Я представлял себе выражение ее лица в момент,когда любопытство заставит ее, в конце-концов, открыть пакетик. Вернет она мне подарок? или примерит? -
Вечером в столовой у моей хозяйки собрались гости. Играли в карты. Я рано лег в постель и читал, ожидая, чтобы гости разошлись и чтобы я мог пройти через столовую в ванную комнату. Я имел привычку купаться по вечерам. Утром в ванной была слишком большая очередь.
Гости редко бывали в этом доме. И как раз сегодня происходил большой прием - с тортами, цветами и шумом: именины хозяйки. Я ждал терпеливо. После полуночи начались прощания, проводы в передней, потом шум сдвигаемых стульев и убираемой посуды. Когда все стихло, я вылез из постели и пошел посмотреть не остыла ли вода.
Но ванна была прекрасная. Я сел в воду, и первые минуты еще слышал шаги в коридоре, голоса хозяина и Марии. Потом все звуки затихли. Наступило безмолвие.
Я засыпал лежа в горячей воде. Тысячи мыслей проходили в моем сознании. Я потерял представление о времени. Безмолвие нарастало вокруг меня. Я единственный еще не спал вo всей квартире. Яркий электрический свет горел над моей головой в двойной стеклянной оболочке. Вдруг я очнулся к открыл глаза: дремота подобралась ко мне так незаметно, что в первую секунду я не мог понять, где нахожусь. Зеркало запотело, но я никого не искал в нем. Набросив на необсохшие плачи халат, я осторожно, стараясь не шуметь, вышел в темный коридор.
Не успел я притворить за собой двери ванной, как сразу одним резким движением, распахнулась дверь из освещенной комнаты Марии. Она стояла на пороге в полосе света, улыбаясь и не произнося ни слова. Неподвижная, как манекен в витрине, она демонстрировала свою новую, первую в жизни, настоящую шелковую рубашку. На лице девушки сияло восхищение, и она смотрела на меня как в зеркало, округлив голые руки.
Мгновенно и сразу я потерял голову. Только что мокрый из ванны, я сразу высох. Между мною и нею ничего не было, кроме тонкого гладкого шелка, полного матовых отливов и нежных теней, - но этот шелк был я сам,она
Я подошел и коснулся ее. Я выключил свет за ее плечами и закрыл дверь ее маленькой комнаты. Мы легли рядом на ее узкой и жесткой постели, и тогда я почувствовал, что она отяжелела от страха.
Она стала говорить мне странные слова сдавленным голосом, как будто что-то перехватило ей горло. Я боялся быть первым в жизни Марии. Я начал успокаивать ее осторожно, как ребенка, которому подносят новую еду: «Увидишь, как это хорошо... попробуй только, потом сама будешь просить...»
- «Мария, неужели ты никогда еще не спала с мужчиной?» -
Тем же сдавленным от волнения шопотом она рассказала мне, что с ней случилось в деревне, когда ей было 16 лет... как это было ужасно... она хотела потом убить этого человека... хотела камнем разбить ему окно... и с тех пор никогда, никогда... Я сразу перестал ее слушать.
Мне было все равно. Даже если она солгала, мне было все равно. Можно лгать в любви словами, мыслями, чувствами - но тело не лжет никогда. По крайней мере, я так думал.
Но если тело не лжет, то это не значит, что его правда всегда и во всей полноте открыта нам. Иногда оно как глубокая вода, в которую пловец бросается в жаркий день, и выйдя на берег чувствует себя так, точно он и не входил в воду. Я был стеснен и связан близким присутствием вдовы Карпузе. На следующее утро после этой случайной и торопливой встречи я чувствовал себя глубоко неудовлетворенным. Что могло быть унизительнее необходимости оглядываться на каждую дверь в квартире полной чужих людей? Или смешнее ночного путешествия через столовую мимо открытой двери мадам?
Утром, как всегда, Мария постучалась и внесла в комнату поднос с завтраком. Ничего не было на ее лице, кроме невозмутимой, херувимской ясности. Может, быть, мне приснилось вчерашнее? - Я посмотрел на нее вопросительно. «Как ты себя чувствуешь, Мария?» Она подняла на меня доверчивые, простодушные глаза и сказала:
- Хорошо... вот только чуть-чуть ломит здесь. И положила ладонь на бедро неожиданным движением, полным спокойной интимностью.
В ближайшее воскресенье - это был выходной день племянницы госпожи Карпузе, когда ей разрешалось отсутствовать из дому после обеда - я вышел рано утром из дому и снял себе комнату в отеле. Я выбрал отель в центре города, большой и полный народу, где никто не обращал внимания на входящих и выходящих. Я выбрал «Савой», тот самый отель, где 25 лет спустя я наново открывал Европу. До полудня я оставался в моем номере и занимался хозяйством: приготовил фрукты, пирожные, даже вино. Потом я вернулся домой и объявил Марии, что после обеда жду ее к себе в гости в гостиницу «Савой», комната № 413. Но эффект получился неожиданный: Мария испугалась. Она никогда не подымалась лифтом, не бывала в отеле, и мои объяснения еще больше испугали ее. Она отказалась. Мы почти поссорились. Я отвернулся мрачнее тучи. При виде моего жестокого разочарования (у меня выступили слезы на глазах) Мария смягчилась.Мы решили, что я буду ждать ее у входа в отель и сам приведу ее в комнату №413.
Пять минут после трех Мария показалась из-за угла. Она шла медленно и не решительно, еле передвигая ноги, и всматривалась издалека. Вид у нее был торжественный шляпка, вуалька, и на руках длинные по локоть белые перчатки. Перчатки, очевидно, были из шкафа мадам Карпузе. В руке она держала сумочку и скромный сверток, в котором я угадал бледно-розовую шелковую рубашку. Все вместе было очень трогательно, но перчатки я просил снять, чтобы не обращать на себя внимания.
Мы вошли в холл и поднялись в лифте, делая вид, что не знаем друг друга. Темный и пустой коридор был устлан ковровой дорожкой. Я чувствовал себя так, как будто это было не только в первый раз в моей жизни, но и вообще в первый раз в истории отеля «Саввой», в истории человечества, в истории мира.
Я до сих пор не знаю, была ли Мария испорченной хитрой девчонкой, и это было не более важно, чем мутный осадок на дне стакана чистой воды: я выпил воду и не коснулся осадка. Она была ошеломлена и увлечена, как и я, и даже больше, потому что за шесть часов, которые мы провели вместе в большой никелированной кровати, как в лодке, которую буря сорвала с причала и унесла в открытое море, она не притронулась к еде, ничего не пила и почти ничего не говорила. Я помню удивительно круглые движения, которыми она подавала мне свои застежки и лямки, - и короткие паузы сна, в течение которых ее тело на краю постели дышало жарким, животным и таким необычным для меня не моим теплом. Она, казалось, спала... но стоило мне вытянуть руку и легко коснуться ее плеча, как в ту же секунду вся она поворачивалась ко мне так послушно и точно, как если бы мы были одним идеальным механизмом, все части которого пригнал одна к другой великий мастер.
Пришли сумерки, настал вечер, и бледный электрический свет зажегся под потолком. Мы сделали открытие: четверть десятого. Надо было возвращаться. Постель выглядела страшно. Подушки и простыни склубились, как будто их сжевал, проглотил и выплюнул какой-то доисторический динтозавр. Мария долго и тщательно одевалась пред зеркалом, причесывалась. Потом, готовая выйти, она подошла ко мне, наклонилась к постели, где я покоился, как Бог после шести дней творения.
Она поцеловала меня и сказала очень просто:
- «Спасибо».
Я не отозвался... но когда, через минуту, это слово дошло до моего сознания, я пережил нечто вроде электрического сотрясения.
До того я только теоретически знал, что в любви и через любовь открывают какое-то продолжение своей жизни в другую жизнь. Это слово «спасибо» наполнило меня непомерной гордостью, как будто я сдал первый настоящий экзамен своей жизни.
Когда в лагере, много лет спустя, другая женщина сказала мне «не подходите» - так же инстинктивно и непосредственно, как Мария свое «спасибо», это был знак, что я снова выпал из круга нормальных людей. Это «не подходите» стерло «спасибо» Марии и сделало меня отверженным. Все годы в России я носил его в себе, как клеймо - пока летом 46 года судьба не привела меня в тот самый отель «Саввой», и я в этом увидел этап моего возвращения на Запад, - на свободу, как Маяковский, я ждал в то лето возвращения Марии. Все этажи и коридоры этого здания были исхожены ее ногами. Я ждал ее нетерпеливо, как много лет тому назад, вопреки очевидности, вопреки мертвой нагрузке лет и невозможности повторить что бы то ни было из прошлого...
Окна в сад были открыты. Легкий шум вращения вентилятора возник в ушах. Ни низком помосте стоял скрипач во фраке. Белый горе его рубашки сливался с силуэтом янтарно-золотой скрипки. Точнее, это был цвет крепкого чаю. При первом кристально-чистом звуке я положил руку на руку моей спутницы и передал ей маленький ключик.
Скрипач играл сонату Генделя. Аккомпанемент следовал сбоку тенью, но скоро обозначился диалог скрипача с инструментом. Он был как всадник, припавший к шее коня. И - о диво! - диалог превратился в трио, когда мелодия раздвоилась и душа скрипки унеслась над страстным монологом сонаты.
Поворачиваясь под углом, скрипка стала расти и шириться... ее бухты и заливы, расширяясь, казалось, выполнили весь зал, и смычок выплыл в открытое море, как парус, отливая на солнце блестящим кантом.
В антракте моя соседка встала и вышла неслышно. Я остался один, опустив голову. В десять часов я поднялся в залу ресторана отеля, на первом этаже. Мы ужинали вместе, в последний раз, за круглым столом в нише, пред отъездом.
Мальвина, сестра моего друга, большая блондинка с сонным и спокойным лицом, спаслась именно благодаря этому спокойному и невозмутимому выражению своего лица. Ей не надо было притворяться: она такой была от рождения. В польской семье, где она прожила все время немецкой оккупации горничной, и где бы не задумались передать ее полиции, если бы узнали ее тайну, говорили: «Вот уж нашу Зосю никто за еврейку не примет! Еврейки все такие нервные и беспокойные, а наша Зося, хоть с лица и похожа, но как себя держит!»
Ее подруге, Кристине, было 18 лет. Она была прелестна, фарфоровой нежной красотой, с огромными сияющими глазами. Блеск этих глаз спас Кристине жизнь, когда немецкий жандарм остановил ее на улице в Варшаве вопросом: «Что вы несете в сумке?» - В сумке были нелегальные прокламации патриотического союза. Кристина подняла на него глаза с самой кокетливой улыбкой и протянула ему сумку с прокламациями на дне. Жандарм галантно пропустил ее без проверки.
Но все же у Кристины была своя трагедия, и не одна, а целых три: в прошлом несчастная любовь в 16 лет к старшему господину, который не брал ее всерьез; и страшный, мучительно-скрываемый факт, что ее мать была «фолькс-дейтше» и после войны бежала в Германию; и то, что отец ее, в конце концов, сошелся с другой женщиной. Кристина оставила дом отца и даже пробовала отравиться. Она приняла большую, но недостаточную дозу веронала... и осталась в живых. Только сердце у ней очень ослабело, и мы все очень жалели Кристину и восхищались ее ангельской красотой, особенно восхищался молодой студент Яцек, который все хотел ее познакомить со своей матерью, от чего Кристина уклонялась. Яцек имел приятный голос и выступал в лодзинском радио. Когда он пел, Кристина садилась возле радиоаппарата и слушала с набожным выражением лица. Но это не помешало ей разбить сердце верного Яцека, и даже рассказать со смехом Мальвине, как Яцек кричал, хватая себя за голову и вращая глазами: «Ты бесчеловечна! Это евреи, с которыми ты водишься, сделали тебя такой жестокой!»
В этот прощальный вечер мы выпили больше обыкновенного. Мне было грустно, что я никогда больше не вернусь в эту страну, но еще грустнее было бы, если бы я должен был в ней остаться.
«Каждый из нас должен сам выбрать свое счастье и несчастье, свое добро и зло. не дайте себе ничего навязать, боритесь. Кристина верит в Бога. Мало верить, надо любить. Но я не могу любить того, что выше нашего добра и зла, нашего понимания и тревог. Кристину я люблю за то, что у нее лицо ангела и тело танцовщицы. Каждое твое движение - танец, но ты не знаешь об этом. Если бы ты овладела движениями своего тела, ты стала бы знаменитой. Я могу прочесть каждое движение сердца на твоем лице. Если бы ты овладела движениями своего лица, какой чудесной артисткой ты могла бы быть! Как это страшно, что мы не имеем власти над своим телом!»
Кристина сдержанно улыбалась и сидела неподвижно, как человек впервые одевший коньки на льду и знающий, что ему не миновать упасть.
«Когда я уеду отсюда, я напишу драму жизни человека, который хотел быть вождем. Когда это не удалось ему, он стал учителем. Когда ученики отвернулись от него, он хотел уже быть только товарищем, хорошим другом. И наконец он остался один».
«Как печально! и что с ним стало?»
«Он защищался как мог. Его отношение к жизни было - защита. Он был как пловец в бескрайнем море. Судьба его - утонуть во враждебной стихии. Пока не иссякли силы, он качается на волне, повернувшись на спину и глядя в небо. Над ним солнце, под ним холодная пучина. Но на одно короткое мгновение, закрыв глаза, он чувствует себя так хорошо и покойно под солнцем».
«А я, - сказала Мальвина, - на твоем месте написала бы вещь, которая никого не касается, и только для себя одной, для себя - другой... Мне раз приснилось, что я лежу на дне глубокого потока, на дне реки, отделанном плотной стеной воды от мира и людей. Мертвая тяжесть пласта воды прижала меня к песчаному дну. Я видела игру теней света вокруг меня и во мне, в последний раз, прежде чем потухнуть навеки. Я знала, что умру вместе со всем, что во мне, вокруг и надо мною. И все это было не нужно, - но это было! было! было! как в навязчивом сне, который так похож на действительность, что не замечаешь, как просыпаешься...»
На прощанье я осторожно коснулся поцелуем розовой гладкой щеки Кристины. Она посмотрела на меня с упреком, и мы все рассмеялись. В том издательстве, где Кристина служила машинисткой, молодые авторы, восходящие звезды польской литературы, называли ее своей маскоткой и целовали на счастье, входя в бюро. Кристина негодовала, но ее протесты не помогали. А в данном случае я не был даже польским автором и не имел никаких шансов напечататься в ее издательстве.
С подносом, на котором стоял ночной стакан чаю, я поднялся на третий этаж. Было 11 часов вечера. У двери моего номера я оглянулся. Некому было открыть мне дверь. Я поставил поднос на пол и осторожно нажал ручку незапертой двери.
Свет горел у изголовья постели. Моя спутница спала, высоко положив на подушку голову в золотистых локонах и завитках. Узкие бледные губы светились кораллом. Лицо куклы. Ее руки лежали на одеяле.
Она спала крепко. Здесь, в этой комнате, она чувствовала себя «лучше чем дома». Так она сказала мне, когда я привел ее в первый раз, после случайного знакомства в кино. Тогда она вошла в номер с церемонной вежливостью, спокойно, неторопливо огляделась, сказала:
«Здесь вы живете? очень хорошая комната, лучше моей» и села в кресло под окном.
Я позвонил и попросил принести чаю. Потом я спросил ее, как долго она может остаться.
«В шесть часов утра я должна уйти»... и помолчав: «У вас не будет неприятностей из-за меня?»
«Я живу здесь долго. Никаких неприятностей. У меня особые права».
«И вы часто приглашаете женщин так поздно?»
«Нет, моя милая. Вы - первая».
«За все лето - первая?»
«О нет - за семь лет». Она засмеялась.
«Что же с вами было за семь лет?»
Мы продолжали разговор в постели, постепенно привыкая друг к другу. Постепенно проходила ее неуверенность. Узнав, что я иностранец, она заметила:
«Я тоже один раз была заграницей: у родных в Дрездене».
«Вот как? Значит, вы немка?»
Она испугалась. «Что ж из того? Я совсем не скрываю, что я немка».
«Значит можно с вами разговаривать по-немецки. Я очень давно уже не говорил по-немецки».
В то первое, послевоенное, лето нехорошо было быть немцем в Лодзи. Она рассказала мне свою историю. Она родилась и прожила всю жизнь в Лодзи. Ее покойный муж был поляк, механик. Ее ребенок умер год тому назад. Ее звали Мария. Теперь она работала в магазине продавщицей. Другие продавщицы не должны были знать, что она немка. Хозяин знал. Хозяин, конечно, должен был знать.
«Я семь лет не касался женщины. Боюсь, что вышел из практики...» - пошутил я.
Она сказала очень серьезно:
«Нет, ты не вышел».
Поздно ночью я зажег свет и взял книгу с ночного столика. Я читал целый час, чувствуя ровное и теплое дыхание за собой. Иногда я протягивал руку и касался ее. Мир, безмолвие, покой. Потом я заснул, крепко обняв ее. Правая грудь ее была в моей левой ладони.
В шесть часов утра она поднялась. Мы условились встретиться завтра.
Во вторую ночь она неожиданно расплакалась. Нет более страшного города, чем Лодзь. Во все мире нет более страшного города. Если б я мог забрать ее с собой заграницу. Все равно куда. Она хорошая хозяйка. Она будет верна мне. Она будет работать.
Я едва успокоил ее. «Ты ничего не знаешь обо мне. Ты молода еще, все устроится».
Она, действительно, ничего не могла знать обо мне. Не знала и того, что эта наша третья встреча будет последней. Утром я уезжал далеко, на Запад, и еще дальше. Все было готово, запакованы чемоданы, кончены прощания. В последние часы она одна осталась со мною.
Ее тело во сне было каменным и твердым, как у статуи. Медленно она просыпалась, оживала, теплела. Искра пробежала по ее телу. Дрогнули колени и плечи. Гибкость, упругость возвращались к членам. В темноте она открыла глаза и вздохнула.
Наутро, когда она уходила, я задержал ее.
«Тебе не нужно денег?»
«Деньги всегда нужны. Но я предпочитаю, чтобы ты купил мне что-нибудь. .. потом... когда захочешь».
«Купи себе сама. Открой ящик стола. Деньги сверху».
«Сколько?» - спросила она, найдя кипу ассигнаций.
Лежа в постели, я смотрел на нее в последний раз.
«Возьми половину».
«Но это слишком много».
«Пусть лежат у тебя. А то, пожалуй, в карты проиграю».
«Нет-нет! - сказала она, - я тогда лучше возьму к себе».
И уходя, обернулась:
«Ты мне позвонишь сегодня?»
«Не сегодня и не завтра» - сказал я засыпая. «Я уезжаю... в Варшаву». «Надолго?»
Но я уже спал. Дверь закрылась за Марией. Во сне я видел, как она сходит достойным и медленным шагом, высоко неся голову, по ступеням широкой лестницы, по ковру вестибюля, мимо заспанного швейцара. На пустой улице встречает ее серый рассвет, с которым так не вяжется ее вечерний вид и наряд.
Конец Марии. Finis Poloniae. Конец старым обидам и счетам, старым страстям и волнениям. Начало новых дорог и волнений, новых радостей и разочарований.
Глава 5. Сентябрь 1946
Ранним утром 29 августа 1946 года друзья проводили меня на аэродром в Варшаве.
Я принадлежал к той беженской группе, которой Польша предоставила временную привилегию эмиграции. Многие в те дни мне завидовали, зная, что я еду на Запад; еду за черту, отделявшую два мира. В последние дни, когда стало известно в отеле, где я прожил все лето, о моем отъезде заграницу, нумерные, швейцар и портье наперерыв вздыхали о моем счастьи... можно было подумать, что они чужестранцы в собственной стране, силой прикованные к месту.
Я вспомнил проводы на славгородском заводе в далекой Сибири, пять месяцев раньше. Тогда такое же было участие в такие же прощальные взгляды и вздохи: «поляки-то уезжают». - А когда мы, счастливцы с польскими документами на руках, лицемерно сожалели, что не придется нам больше греться на великом солнце сталинской свободы, рабочие только улыбались с видом, который без слов говорил, что они нас понимают, и уверены, что мы их понимаем не хуже.
Один только партиец, причастный тайнам, утешил нас тогда: «не беспокойтесь! мы за вами идем по пятам, мы еще встретимся...»
Все провожавшие меня готовились сами вскоре покинуть Польшу и в то утро репетировали предстоящий им отъезд. Они остались в толпе за барьером, и я чувствовал на спине их глаза, когда маленькая кучка пассажиров вышла в поле и направилась к самолету.
Нам показывали дорогу. Нас ждали. Нас приглашали: «сюда пожалуйста». Самолет покоился, весь в лучах и в розовом блеске, но это был мнимый покой, за минуту до старта, и ровный шум моторов, усиливаясь, заставлял биться сердца и потуплять глаза, чтобы не выдать внутренней тревоги.
Самолет оказался американской транспортной машиной, наспех приспособленной для сообщения с Парижем. Под круглыми окошечками тянулись с двух сторон скамьи, в середине громоздилась груда багажа. Дама рядом со мной летела к мужу в Боливию, слышалась английская и французская речь. Едва поднялся самолет, краснолицый добродушный американец вытащил коробку с соленым миндалем и оделил соседей. Я сидел неудобно, боком, и не отрываясь глядел в окошко.
Под ярким солнцем блистали асфальтовые линии путей.
Земля была расчерчена цветными квадратами. В воздушном провале возник игрушечный поезд, он полз как маленький червячок, и я сразу видел станцию из которой он вышел и ту,куда он направлялся.
Прошел час... и от края до крае горизонта протянулась, сверкая, узкая лента реки с песчаными отмелями: Одер. Граница. Польши. Только теперь я был действительно свободен. Мы пролетели Франкфурт-ам-Одер, и я вспомнил, когда в последний раз проезжал этот город: 18 лет назад.
«Советское приключение» было кончено,
- «Левой ногой перекрещусь, лишь бы живым выпустили» - сказал прораб Зелемоткин, брюхатый любитель блинов в снежном лагере.
- «Прощай, Зелемоткин!»
ххх
Полагалось лететь без остановок до самого Парижа. Но через два часа полета мы снизились в аэродроме Ландсберг, километров 25 за Берлином. Массивные корпуса строенного во времена Гитлера аэродрома сохранились в целости. Я все еще находился в зоне русской оккупации. Советские мундиры окружили нас. Пока самолет набирал горючее (на эту операцию ушло часа два) мы пошли через широкое поле в ресторан. Остановились возле часового: монгольское скуластое лицо.
«Откуда ты?»
«Из-под Казани».
Кто-то подмигнул ему на уборщицу-немку, которая мимо нас тащила с озабоченным лицом метлу и ведра: «Немки здесь хороши?»
Татарин сплюнул: «да ну их! все как одна заражены».
«И эта тоже?»
Он чуть покосился и ухмыльнулся: «Нет, эта ничего... эта чистая...»
Довоевалась Германия.
Мы вошли в помещение ресторана, где немецкий персонал суетился вокруг молодых советских лейтенантов. Лейтенанты вели себя с неслыханным достоинством, «держали фасон», - и я на них смотрел с сочувствием человека, который оценивал не только их внешнюю выправку победителей, но и понимал то, о чем никакие иностранцы не догадывались: всю затаенность и настороженность детей советской Чухломы и моего бывшего Славгорода (в Голодной степи) в чужом и трудном для них окружении.
Мои спутники были крайне возмущены: ресторан аэропорта Ландсберг не принимал никакой валюты, кроме немецких марок и советских рублей. Их доллары и фунты были здесь бесполезны. Я не успел проголодаться, не имел с собой никаких денег. Но вдруг я нащупал в кармане то, чего никто не имел и иметь не мог из европейских пассажиров самолета; рубли, семь советских рублей. Они случайно завалялись у меня еще с апреля, с сибирского эшелона.
Эти смятые бумажки в России не имели никакого значения. На славгородском базаре за семь рублей едва можно было купить маленькую булочку. Но здесь советский рубль был в цене! Рубль-завоеватель! Я заказал себе завтрак, яичницу, кофе, масло... и к удивлению официантов гордо расплатился семью советскими рублями. Но на пиво уже не хватало... Я попросил молоденькую немку из буфета принести мне воды. Один стакан принесли сразу две девушки, чистенькие, аккуратные, приветливые. Я смотрел на их румяные лица, с отвычки с трудом выговаривая немецкие слова, и не мог опомниться:
- Я в Германии! - Вот передо мной погитлеровская Германия, как земля после потопа, полная развалин, жутких призраков и ростков новой жизни. Эти девушки вчера были в «Гитлер-югенд», какая же новая «югенд» ждет их завтра?
Самолет оторвался от земли.
Сеанс продолжался, и волшебный экран не мог вместить воздушных пространств. Пред моими глазами географический атлас превращался в цветущий мир, в котором я был зрителем, участником, современником,
Мы летели над Германией, минуя большие города, и нигде не было видно следов войны. Какое богатство, густота населения, разнообразие ландшафта! Зеленые холмы и леса сменялись живописными городками и селениями. Башни церквей, черепичные крыши домов, сады и поля переплетались с дорогами и реками. Озера лежали как зеркала в драгоценных рамах. Все казалось полно нерушимого мира, покоя, довольства. Эта страна была так очевидно благоустроеннее Польши, так несравнима с пустынной и однообразной равниной России,- и отсюда, именно, отсюда, из этой благословенной полноты и силы, разлилось по миру несчастье.
Я вспомнил моих бывших немецких друзей, которые предали меня, - которые голосовали за Гитлера, которым при встрече я не мог бы подать руки... что с ними? Где теперь было их место в Германии, над которой летел мой самолет? Где ты, добрая тетя Гедеке, которая не брала денег у своих бедняков - еврейских квартирантов, а потом... Где симпатичная фройлен Pop, из Дрездена, учительница ритмики, которая годы прожила с нами в Польше, а потом... и смешанные семьи давних приятелей, с детьми, которые теперь должны были быть взрослыми юношами и девушками, если остались в живых... и от них мысль перешла к тем беспомощным и кротким людям, которых наверно вывезли на смерть, закружилась на месте, замерла, оцепенела, расплылась, погасла... И вдруг я увидел Рейн, и, далеко в стороне, стрелки Кельнского собора. Уже? Так, скоро!
На Запад, на Запад!
ххх
Из глубины падения, из царства мертвой ночи, мимо теней прошлого - в прекрасную светлую Францию, в страну, которая сама страдала, но не была повинна ни в тусклой злобе, ни в мрачном изуверстве, как ее соседи. Как долго я ждал этой границы, как будто в самом деле есть в мире граница между царством Добра и Зла. Сколько бы я ни говорил себе, что нет такой границы на карте, что она проходит, едва различимая, в сердце человека, а не на земле,- здесь было для меня преддверие свободы.- Теперь мы летели над белыми домиками французских городов, и солнце клонилось к закату, когда мы стали опадать над Парижем, над городом, о котором мы столько говорили с Олегом, моим лагерным другом.
Олег был сыном бывшего полпреда на Рю де Гренелль, потом профессора в Ташкенте. Школьником он прожил два года в Париже и любил этот город. Это, он, при костре в открытом поле под осенним северным небом рассказал мне, как отец взял его с собой на обед со знаменитым профессором Ланжевеном. Профессор вызвался посвятить их в таинства французской кухни, он ввел их в святилище гурманов. Там на глазах посетителей готовились яства и подавались на десятках тарелочек. Полпред похваливал. А когда остался один с Олегом, спросил: «ну, как тебе понравилось?» И Олег решительно ответил: «да за один горшок с гречневой кашей отдам все сорок блюд!» - И отец рассмеялся: «ты прав, Олег».
- «Прощай Олег, прощай, гречневая каша!»
Париж раскинулся в неописанной красе,- город-гигант пошел развертываться по холмам, и аэропорт Ле-Бурже обозначился с десятками самолетов на площадках, с муравьиной сутолокой машин и людей вокруг них. Мы сели плавно, покатились, закругляя поворот, - потом побежал навстречу сигналист с флажком, показывая, где нам стать.
Все! - Приехали. Я вылез и с боливийской дамой пошел через поле к вокзалу,- и вдруг сбоку за барьером кто-то метнулся, замахал шляпой, закричал...
Через полчаса Александр привез меня на Фобур Пуассоньер, и Нина обняла меня. Я не находил слов. В тот вечер я не вышел из дому. После восьми лет это были первые родные, с которыми я встретился. Каждый из нас мог рассказать больше, чем позволяет нормальная способность выражения. Я был оглушен, ошеломлен, находился в том состоянии, когда волнение не дает договорить до конца начатой фразы. Я ничего не знал о моих родных за все эти годы, они ничего не знали обо мне.
Постепенно я приходил в себя. Я всматривался в них из очень большой дали. Вот, наконец, первые люди, которые любят меня - как странно! Невероятно! Я смотрел на них из перспективы Алтая, улыбался беззубым лагерным ртом. На моей руке не было обручального кольца. И однако, мы были - те же. Те же, что восемь лет тому назад. Сколько любви и тепла не было в моей жизни за все годы неволи, как в тот один вечер. А ведь это еще был только пролог - только задаток на то, что ждало впереди - ведь я еще не был дома.
Квартира Александра и Нины была полна довоенного уюта, солидного комфорта, покоя прошлых поколений. Скульптура Родэна стояла на камине. Прекрасные картины висели в салоне, где мне постелили на широком диване. Коридор был длинный и темный, половицы старого паркета трещали под ногой, и по дороге в кухни было несколько боковых дверей. Окна были завешены плотными занавесями. Александр сел за пианино и сыграл композицию собственного сочинения, а потом, для сравнения, Баха, - точно, как восемь лет тому назад. Потом мне показали как тушить большую люстру и оставили меня одного.
На ночном столике лежало письмо для меня из Тель-Авива.
ххх
На следующее утро Александр отправился покупать для меня билет на пароход в Палестину. Он вернулся с вытянутым лицом: мест на пароходах не было до октября, ноября... Это был 1946 год! Морской транспорт еще не функционировал нормально.
- Пустяки! Я полечу!
Самолеты в Лидду летели через Каир. Я поехал в Египетское Королевское Консульство. Меня приняли любезно, но когда выяснилось, что я еврей... в визе было отказано.
Египетское правительство не соглашалось пропустить меня через свои территорию. Я был чужой в арабской Палестине. Здесь впервые дошло до меня эхо той ненависти, от которой я бежал из Сибири, из Польши. Они не были коммунистами, напротив. Они не были гитлеровцами. Они только предпочитали, чтобы я оставался там, откуда прибыл.
Мой отъезд неожиданно превратился в проблему. Как отсюда уехать? Париж был слишком велик для меня,слишком прекрасен, слишком вечен. Я шел по бульварам, вышел на площадь Конкорд. Это не был мой первый приезд в столицу Франции. Я прожил когда-то месяц в тихом предместье Кламар; тогда я добросовестно выполнил всю программу, какая полагается беззаботному туристу-иностранцу. Многое с тех пор изменилось, но для меня этот город по-прежнему оставался спящей твердыней тысячелетий, - в противоположность всем Утопиям - земным и конкретным достижением человеческого гения. Я не верил ни в какое «падение Парижа», - ни в какое «сожжение Парижа». Только теперь я не был в состоянии фланировать по Елисейским Полям.
Я хотел продолжать свой путь. Я хотел вернуться в этот город не из Сибири, а из Тель-Авива. Я видел его улицы глазами, ослепшими от волнения, от любви ко всему,что этот город для меня значил. Но медлить мне нельзя было. В моем представлении завтрашний день вытеснял сегодняшний. Салон Александра с картинами Кислинга и Мане Каца весь был затоплен разливом лазури и блеска Средиземного моря.
Ехать! Ехать! Ехать! Плыть, лететь, мчаться, все вперед и вперед, освобождаясь от мертвого груза, прочь из круга ненависти, туда, на родину, где ты, наконец, обретешь дар слова, где вспомнишь все забытые слова...
На третий день - это было воскресенье - внезапно выяснилось, что на пароходе, отходящем на следующий день, в понедельник днем, из Марсели в Хайфу, имеется свободное место. По телефону закрепили за мной это место, и в тот же вечер я уехал в Марсель.
Перрон Лионского вокзала проплыл мимо окна, с вечерней сутолокой огней и провожающих, и я остался один, со знакомым детским чувством: снова один, потерянный в ночи, в огромном мире, как пловец упавший за борт парохода в океан. Но океан был на этот раз не бурный, ледовитый и враждебный, а теплый, без волн и спокойный... и пароход, светя огнями, не уходил отдаляясь, а стоял и ждал... ждал в марсельском порту.
Я долго стоял в пустом коридоре у окна, вглядываясь в темноту ночи. Поезд мчался с грохотом, замедляя и ускорял движение, семафоры указывали ему путь, диспетчеры сигнализировали его проход, на станциях он вздрагивал, меняя колею, и я слышал обрывки разговоров, которыми обменивались ночные пассажиры, сонные слова, язык Франции. Я был на Западе, и лучшее доказательство - что я мог стоять здесь у окна, не боясь, так беспечно и спокойно! А завтра в это время я буду спать в жаркой кабине, под шум мотора, где-нибудь у берегов Италии...
Молодой человек остановился около меня и любопытно оглядел. Он выглядел как студент. Что во мне было интересного? Я был немолод, устал и упорно молчал, глядя в ночь. Он заговорил со мной первый.
- «Так далеко, из Сибири!» - сказал он, узнав, откуда я еду. - «и в Палестину! Вы видели много стран. И что же? Были где-нибудь люди довольны, счастливы? Скоро и я уеду отсюда далеко - за море, в Индо-Китай!»
- Зачем? Неужели воевать?
- Нет, мы уж довольно воевали. Мы ищем мира. Может быть найдется за морем страна, где можно все начать сначала. Мир вокруг нас обваливается. Франция нищенствует. Франция в трауре. Откуда придет свет? С Востока? С Запада?
- Пустяки,- сказал я. Вы молоды. У вас прекрасная, богатая страна. Работайте и не доверяйте чужим. Не ищите у них света. В Сибири какой же свет? Там холод, нужда,- и они были бы рады иметь ваши заботы.
Молодой человек продолжал домогаться у меня подробностей о Сибири. Палестина интересовала его меньше. Во Франции он, видимо, уже совсем разочаровался. Я пожелал ему спокойной ночи и ушел спать в купе.
ххх
В десять утра, в проливной дождь, мы прибыли в Марсель. Я поспешил на рю де Републик в бюро пароходного общества. Место на пароходе было еще свободно. Я вытащил свой варшавский паспорт и кипу французских ассигнаций: уплатить за билет. Но при виде моего паспорта лицо служащего омрачилось.
- Вы иностранец? В таком случае вы обязаны по закону платить за билет заграничной валютой. Есть у вас доллары, фунты?
- Нет, но если нужны доллары, пожалуйста, я сейчас выйду разменяю деньги.
- Невозможно,- сказал служащий.- Вы можете платить только той валютой, которую ввезли во Францию и при въезде задекларировали на границе. Сколько вы ввезли? -
- Я ничего не ввез, сударь. Но у меня родные в Париже, они снабдили меня деньгами.
- В таком случае мы не можем продать вам билета.
- Я забеспокоился.
- Послушайте, Так получается, что я вообще и никогда не смогу уехать из Франции. Посудите сами: я иностранец, которому продают билеты за валюту отмеченную в паспорте, а если ничего отмечено, то что же мне делать?
Служащий высказал мысль, что лучше всего было бы вернуться в Париж и похлопотать в министерстве.
- Но тем временем истечет моя транзитная виза! вот штемпель «без права продления».
- Ах! - сказал служащий - какая жалость. Неужели вам придется вернуться в Польшу?
Я мягко заметил: но ведь у меня паспорт эмигранта. Без права возвращения. Если в вернусь, Польша меня не примет.
- Ну, значит, оставайтесь,- позволил служащий.- Есть у вас кто-нибудь в Америке,кого бы вы могли просить купить вам билет? Вот выход: Америка.
Я снял себе номер в отеле на рю Кольбер, недалеко от Канебьер и поехал после обеда в бюро Сионистской организации. Там мне объяснили, что выехать из Франции я могу лишь с ближайшим транспортом беженцев, которые по соглашению с французским правительством периодически переправляются сионистской организацией из Марсели в Палестину. Меня обещали включить в следующий транспорт, но не могли точно указать, когда он пойдет. Может быть на этой неделе, а может быть на будущей.
Я остался ждать парохода и ждал его три недели.
Префектура продлила мне визу, несмотря на штемпель «без права продления». Такая вещь в Советском Союзе не прошла бы гладко. Там штемпель есть штемпель. За невыезд во время, т. е. «за нарушение паспортного режима» полагается несколько лет принудительного труда в исправительном лагере, как я выяснил в свое время. Но французы народ беспечный.
ххх
Итак, я застрял в Марселе, но не жалел об этом. Приятно находиться «в состоянии отъезда» на юге Франции, в большом портовой городе, который видишь в первый раз в сентябре, когда небо синее и улицы залиты солнцем. Чувство бездумной легкости, сказочной невесомости, овладело мною. Я знал - это не надолго. Но это было исполнение давнишней мечты. В 1943 году, в советском лагере, я написал, обещал себе, закрепил:
Не надо мне цехинов и дукатов, Фамильного не надо серебра. От общества банкиров и магнатов Не жду себе ни пользы ни добра. Но если я приду к себе домой Мне будет тесно в городской квартире - Насиженный и теплый угол мой Мне через день покажется тюрьмой И я уйду - бродить свободно в мире. Ни дел вчерашних, ни вчерашней дружбы! Ни серой паутины сонных дней - Я не приму Обязанностей службы И ритуала связанного с ней - «Часов приема», службы у дверей. Не для того я жил в неволе годы. Где каждый шаг мне недруг диктовал, Чтоб не желать неистовой свободе, Как в первый день творенья Бог желал. Чудесных книг, нечитанных доселе, Волшебных стран невиданных еще, Весенних гроз и синевы в апреле Меня влекут соблазны горячо. Мой поезд утром подходил к Парижу, И Сакре-Кэр сияла в высоте, Но этот город я еще увижу, Прекраснее и ярче, чем в мечте. Прекраснее, и ярче, и желанней Ко мне вернется молодость моя, Как ласточка, в воздушном океане Летящая в далекие края...Вот с этими стихами, живыми в подсознании, я проводил свои дни на улицах и бульварах, в кафе, где сервировали кофе без сахара, и каждый день обедал в другом ресторане. Я научился есть «буйябез» и пить вино стаканом. Я пил виноградный сок у киосков, которые назывались «стасион юваль». Я ходил в синема на Марлену Дитрих и Фернанделя.
Осенью 1946 года Франция переживала голодное время, но я не замечал этого: с меня было более чем достаточно. В полночь я ел сэндвичи на улице и стоял в очереди: за жареными каштанами. Я съездил на остров Иф на внешнем рейде, со знаменитой крепостью, в казематах которой содержался Мирабо, и, помнится, умер Портос, перебив сто шесть человек перед геройской кончиной. Я поднялся лифтом на высоту Нотр-Дам де Гард и созерцал миллионный город в потоках южного солнца и платиновый блеск моря. Я ездил на Корниш и купался в море. Я получал и писал письма. Я был полон терпения. Я был доволен жизнью. Все происходившее со мной казалось мне божьим чудом. Денег у меня было ровно столько, чтобы дожидаться парохода, скромно живя и никуда не отлучаясь из Марселя, где каждый день мог быть дан сигнал на посадку.
Разумеется, я использовал три недели сидения в Марсели для французского чтения. Семь полных лет я был оторван от западной культуры, от текущей литературы, семь лет я питался тем, что мог найти в советском лагере и в глухой провинции. Теперь впервые я мог припасть к источнику, и моя жажда была неописуема. «Чудесных книг нечитанных доселе...» Что случилось за годы моего отсутствия в литературе, философии? Со смирением я подымал глаза к престолу мудрых и робко протягивал руку. В Париже я попросил Александра дать мне что-нибудь из новинок, из последних произведений французской мысли.
- «Экзистенционализм!» сказал Александр. Я не знал, что это такое.
Александр принес на дорогу две книги неизвестного автора. «Повесть» и толстый том «феноменологической онтологии»: «Бытие и Ничто». Имя автора Жан-Поль Сартр. Я читал эти обе книги в Марсели.
Я начал читать поспешно, перебрасывая страницы повести, в ожидании что она сама задержит и прикует мое внимание. И, действительно, мой интерес скоро проснулся.
ххх
Бывают книги, покоряющие читателя и привлекающие его, и другие,которые дразнят и стимулируют отталкивая. «La nausee» оказалась философским романом второго рода. Герой повести Сартра, человек уже немолодой и ученый, проживая во французской провинции и занимаясь писанием исторического труда, сделал открытие - или, можно сказать, заболел невиданной болезнью: он открыл свое собственное существование.
Как Пармениду, который две с половиной тысячи лет тому назад открыл «бытие», - открылась ему нагая правда его присутствия в мире. Но существование господина Рокантена, как и существование всего его окружения,впервые отслоненное ему во всей неизбежной действительности, было полной противоположностью парменидовского «бытия»: оно наполнило его ужасом и отвращением, как голова Медузы, жертвой которой становились все, кто смел взглянуть на нее. Герой повести бросает начатый труд, разочаровывается в гуманизме отцов, теряет способность любить и ненавидеть, короче - обращается в живой труп.
Все это было бы удивительно даже, если бы Сартр изобразил приключения своего героя только как его личные и никого не обязывающие переживания. Однако, не просто роман с психологическими приключениями. Это своего рода введение в философию экзистенционализма. Существование вообще есть то, что вызывает отвращение и страх. Люди не пережившие этих состояний просто не существуют надлежащим образок. Они обманывают самих себя.
Трудно представить себе книгу,которая менее подходила бы к моему душевному состоянию в Марсели. Я был лагерник, вырвавшийся из заключения - на свободу. Мне нужен был хлеб свободы, а здесь было блюдо французской кухни, рокфор. Первая книга, которую я взял в руки после возвращения на Запад, в одном отношении не обманула меня: ничего подобного, конечно, не могло быть ни написано, ни обнародовано в тех местах, откуда я прибыл.
Вся эта книга была - свобода, поиск. Но свобода Сартра напоминала смерть (он сам это констатирует при случае), а поиск... Я попробовал представить себе, чем была жизнь господина Рокантэн прежде чем он открыл «существование» во всей его тошнотворности. За философскими борениями героя Сартра я следил не без сочувственного любопытства. «La nausee» представлялась мне смешным переживанием старого холостяка, который неожиданно для себя осмыслил,что это такой - присутствовать в мире. А до того? Какой «сон души», какие разрисованные декорации мешали ему приобрести этот основной опыт, с которого начинается действительная серьезность жизни?
ххх
В молодости я был полон удивления, надежды, ожидания и энтузиазма. Мой страх пред жизнью был счастливым страхом неопытного любовника. Тошноту жизни я ощутил впервые, когда мне было пять лет, - при виде голых огромных ступней первого трупа, который я увидел.Тогда я испытал пламенное желание отделаться от собственных ступней и впервые ощутил,что это невозможно. Я рос из этих ступней, и я сам был эти ступни. Я был «пойман» в жизнь.
Но никогда отвращение и страх не могли возобладать над детской душой.
При чтении книги Сартра я испытал не инфантильное отвращение, а негодование. В какое время писалась эта книга? - До мировой войны, когда Гитлер готовил завоевание Европы и истребление миллионов людей в лагерях смерти. В эти годы обуял многих инфантильный страх пред жизнью. В некоторой мере эта книга была ответственна за смерть моей матери в гетто Была подземная связь между умонастроением и «климатом» этой книги и будущими успехами гитлеризма... или сталинизма. Там не читали Сартра и не занимались его проблематикой. Поражение Франции было предопределено в этой книге... и более того. Философия, исходным пунктом которой была «La nausee», физическое отвращение пред жизнью, логическим своим результатом непременно должна была иметь моральное и политическое безразличие, а политическим - капитуляцию перед своей противоположностью, т. е. пред брутальными, но полными примитивной энергии, заряженными мужской силой массовыми движениями. Человек сделавший «открытие» Сартра, очевидно, мог продолжать «существовать» лишь опираясь на что-то вне себя, на что-то мощное и победительное ... к чему стоит примкнуть: как ребенок, который боится перейти пропасть по кладке и хватает за руку каждого, кто идет по той же кладке без головокружения: «возьми меня».
Я мог себе представить это «возьми меня», но трудно было представить такое движение, такую революцию или такую реакцию, которой мог бы понадобиться Сартр.
Я открыл «Бытие и Ничто». К чтению этой трудной и запутанной книги я был подготовлен моим знакомством с философией Гуссерля и Гейдеггера. «Введение» сразу вернуло меня в атмосферу гейдеггеровского «Sein und Zeit». Даже в стиле было подобие.
Гейдеггер: «Und well die Wesensbestimmung des Selenden nicht durch Angabe eines sachhaltigen Was vollzogen werden kann, und sein Wessen darin liegt? Dass es je sein Sein seiniges zu sein hat, in der Titel Dasein ais reiner Seinsausdruk zur reichungen dideses Seienden gewacht».
Не правда ли, как это просто и элегантно выражено? Но Сартр не оставался позади: «L'ettre par qui le Neant arrive dans Monde est un etre, en qui dans etre (donc etre d'etre) il question du Neant de son Etre: etre,par qui le Neant vient Monde doit etre┘ son proper Neant».
Превосходно. Son prope Neant!; Я чувствовал, что нахожусь, наконец, на Западе, где даже для Небытия находятся собственники.
«Бытие и Ничто» было философским продолжением повести «Тошнота». Там философская беллетристика; здесь беллетристическая философия. Продираться сквозь анализу Сартра было нелегко; в конце концов каждый анализ превращался в тончайшую и вполне произвольную паутину, завешенную на границе опыта, где мрак становится непроницаемым и перестают различаться фантазия и данное. Анализ Сартра был выражением свободы, как ее определил автор: «La possibilite pour la realite humaine de secreter Neant, qui s'isole». Я начал рассматривать анализ Сартра как увлекательную игру понятий, эксцентрический танец на канате и чистое искусство. Я отказался от надежды согласить мир Сартра с тем, в котором я жил, и только после этого чтение книги превратилось для меня в беспримесное наслаждение, полное незаинтересованного любопытства. Я перестал искать в ней объективную правду и нашел в вей точный автопортрет моего современника, сына нашей жестокой эпохи.
Так, точно так, а не иначе, должна была реагировать отчаявшаяся западная мысль на лабиринт действительности, где она заблудилась безнадежно и осталась одна во мраке - сама с собой.
Интеллектуальный эксперимент Сартра начинался с разделения между «en soi» и «pour soi». Уже этот исходный дуализм был неприемлем для меня, знавшего, что для того, чтобы нечто могло существовать «для себя», оно должно тем самым быть, а не только мыслиться, «в себе». Все, что существует - существует «в себе». «В себе» существует также и «La realite humaine» - человеческая реальность. Страшная растерянность эпохи говорила со страниц, где в противоположность Бергсону утверждался самоубийственный «lan vers ne pas etre» и где «le temps se revela comme chatoiement de Neant a la sueface d'un etre rigoureusment a - temporal», где связность времени признавалась чистым призраком, где одним духом утверждалось, что la connaissance ne cree rien и в то же время, что abstraction est necessaire pour qu'll y ait de choses et un monde.
Этот «monde» просто-напросто не был тем, в котором я жил, и я решительно отказывался поддаться «небытию» Сартра.
В глазах Сартра небытие - первичное и невыводимое - было пред-условием каждой разности и различия (differentium et distinction). Для меня «иначесть» была позитивным признаком бытия, на который опирается и к которому сводится любое человеческое отрицание. Бытие, преходя, исчезая, не превращается в ничто (процесс, для которого Гейдеггер и Сартр придумали слова «nichten, nean iser» - oно лишь отступает в прошлое время, в потенциальное состояние. А потенциальное - не есть, как Сартр думает, то, чего нам не хватает, а то, что бесконечно превышает силу нашего воспоминания и не умещается в нашем настоящем и будущем. «Не „дефицит“ и не „недочет“ составляют основное определение человеческого существования (которое таким образом - априори окалечено в представлении Сартра), а способность участвовать, хотя бы несовершенным образом, в том, что далеко выходит за пределы каждой отдельной личной жизни.
Антитезу „Бытие и Бог“, которой питались тысячелетия человеческой мысли, Сартр попытался заменить антитезой „Бытие и Ничто“, - и, как следствие, не только распалась в его воображении целость мира, но и целость нашей душевной жизни превратилась в фантом. Отрицание приняло форму evasion, утечки, и образ „потока сознания“, которым оперировали два поколения психологов, заменился образом fuite, бегства, падения, неудержимого провала в Ничто. Лицом к лицу с загадкой мира Сартр с его le Neant insurmountable, непреодолимым Ничто, по своему выразил бессилие и страх, озлобленное отчаяние обманутого сына века.
Не знаю, как повлияла бы на меня эта философия в иных обстоятельствах... но годы советского лагеря и опыт душевного сопротивления тому искривлению „человеческой реальности“, которое там практиковалось, сделали меня иммунным против такого философствования.
Своеобразие этого экзистенциализма заключалось в озорной и забубённой позе, которая из области бытовой и политической распространилась, наконец, и в область духа. Человеческая трагедия была подана как пикантный и легкомысленный скетч.
Хорошо Когда брошенный эшафоту в зубы Крикнуть „Пейте какао Ван-Гуттена!“С этой ментальностью политический экзистенционалист Маяковский пришел к коммунизму и „нигде кроме - как в Моссельспроме“, а философский экзистенционалист Сартр - к понятию „Ничто“. И однако, выговорить слово „ничто“, значит уже придать ему положительный онтологический смысл. Нет „пустых“ интенций, как нет интенциональности вне бытия. Я живо чувствовал огромную витальность и бодрость книги Сартра, насыщенной энергией мысли. Отвага,с какой философ утилизировал „Небытие“, чтобы построить на нем сложный небоскреб свой мысли, находилась в полном противоречии с тезой отчаяния и с концепцией „свободы“, понятой в конце концов как „cette terrible necessiate de vivre, qui est mon lot“.
Но я не видел никакой „необходимости“, ни в жизни автора, которая могла прерваться каждую минуту по его свободному решению, ни в его мысля, которой так легко можно было бы придать другой оборот.
С момента, когда я начал просматривать страницы, посвященные конкретной структуре человеческого сознания, автопортрет Сартра перестал интересовать меня. Ни моя любовь, ни моя страсть, ни мои пороки не умещались в этот анализ.Толкование чужого сознания как угрозы, как чего-то, что взрывает целость моего восприятия мира, было мне чуждо - несмотря на годы преследований и мучений в чужой стране. Я оставил чтение в половине. Не потому, чтобы очевидная субъективность псевдоанализов мне под конец надоела, - а потому,что с субъективностью этого рода мне совершенно нечего было делать.
Я хотел жить! Я только что вырвался из пропасти и искал союзников, друзей, соратников в борьбе с реальным злом, Но прежде всего я был переполнен ощущением жизни во мне и вокруг меня.
Сознание человека, когда оно не искажено гримасой болезни или порока, полно вещей и событий, лиц и чужих жизней, оно входит в другое сознание, а не только стоят на его пороге - „все во мне, и я во всем“ - и на пересечении сознаний открывается мир. Философия, которая не умеет показать, как перекрещиваются сознания - хотя бы на примере взгляда, которым обмениваются двое влюбленных, сплетенных рука об руку на бульваре многолюдного города, - немного стоит. Чему мог меня научить этот первый „привет с Запада“? И чем он мог мне помочь? Чем он мог помочь моим друзьям» которых я оставил в России, в лагерном аду и которых мне так легко было бы «neantiser» по рецепту Сартра?
Припев Марсельезы звучал в моих ушах: «К оружию, граждане!»
Но люди, сложившие и певшие Марсельезу, верили в реальность мира, добра, зла и свободы не по Сартру. Я чувствовал в подпочве этой философии укрытие враждебные силы, тайную измену, попытку уклониться от того, что преследовало меня не как «фантом прошлого», а как абсолютная теза: сейчас и здесь, во мне и при мне, со мной и против меня. То что крепко спаивало меня с миром, был несомненный долг и гибкая свобода,которую я и думать не мог исчерпать в границах моих маленьких сил.
Но ощущение силы и будущих возможностей жило во мне и было радостью. К оружию, граждане! На борьбу с несомненным и реальным злом, без страха веред тенью ночи! - Мне было весело жить в Марселе, и я жил в нем три недели как сын богов и гость перелетный, всему чужой и близкий, пришелец и свой в антракте между двух сцен мировой драмы, в паузе между одним и другим взмахом смычка на концерте, - пловец на гребне огромной волны, которая вынесла меня из пучины гибели навстречу людям, солнцу, небу, счастью и новому опыту нового, еще непережитого, страдания.
Глава 6. Париж
Довоевалась Германия.
Париж раскинулся в неописуемой красе - город-гигант - нескончаемый, пошел развертываться по холмам - и если б вы видели вокзал Буртэ! - Огромные корпуса, многоэтажные здания, на площадках самолеты всех стран Европы. Мы сели плавно, покатились, - километра полтора. Потом побежал навстречу сигналист с флажком, показывая, где нам стать. Все! Приехали. Я вылез, с боливийской дамой, пошли через все поле на вокзал - и вдруг сбоку, из-за перил - кто-то метнулся, замахал шляпой, закричал...
Это был Саня, мой Александр, брат Вуси, которого я не видел ровно 8 лет (с 38 года!). - И вот наступил конец моего цыганского положения!! - первое соприкосновение с семьей. - Саня, если это возможно, помолодел за эти 8 лет!
Покончив формальности, мы сели в машину - прекрасной марки! - «Моя машина» скромно заметил Санечка - и через 20 минут мы были в городе, который так относится к Лодзи, как Лодзь к Славгороду...
В этот вечер я так и не вышел на улицу. У Сани оказалась квартира в 7 комнат, три на бюро, четыре для себя (на 2 человек!) - с роялем в салоне. И пианино в кабинете, с прекрасными картинами, со скульптурой Родэна на камине!
Нина, жена Сани, хоть и поседела почти как я, но была та же, что 7 лет тому назад (в мае 39 г я с ней попрощался в Тель-Авиве), и беседа затянулась до поздней ночи. Мне дали два письма Вуси для меня, написанные еще в июле.
О нашем Саничке всего не расскажешь, хоть год пиши. Довольно сказать, что за время немецкой оккупации он НЕ зарегистрировался как еврей, что спасло ему жизнь, принял участие в движении сопротивления, показал чудеса, снабжал информацией Лондон, по его указанием бомбардировались немецкие аэродромы, и один склад бензина был им подожжен лично. - Вуаля! Играл со смертью, был арестован, но от передачи всех его геройских похождений я отказываюсь.
На следующий день я проснулся рано, в салоне. Снился мне барак №9. Проснувшись, я долго созерцал люстру, плафон, спущенные жалюзи, ковер на весь пол, кресла, обитые материей в цветах, рояль и огромный портрет Александра в серебряной раме. Счастье m-lle Выробневой, что ее здесь нет! Саня красив как Michai Slarski, богат и знатен, он бы разбил ее сердце.
Вечером 3-го дня я улетел в Marseille. Париж в этот раз я, в сущности, не видел: пробежался по бульварам, посмотрел на Place de la Concorde, и все.
Глава 7. Не волноваться (письмо с дороги)
В начале сентября я получил телеграмму из Парижа, где меня просили «не волноваться». Я находился тогда в Марселе, в ожидании отправки домой. Тяжелые годы скитаний и разлуки были за мной. 7 лет я не был дома. В Тель-Авиве ждали меня родные и близкие, товарищи и друзья. Я был счастлив так, как может быть счастлив человек в моем положении. Может быть, еще немножко больше.
Но по прибытии в Марсель, оказалось, что ехать нельзя. Мне объяснили, что я, как иностранец, должен заплатить за билет не франками, а иностранной валютой, которую я привез с собой и при въезде во Францию задекларировал на границе. А так как я приехал из Польши, откуда не разрешается вывозить более 1000 франков - и только эта ничтожная сумма значилась в моем паспорте - то пароходная компания не была в праве продать мне билет.
Паспорт и виза, деньги в кармане, место на пароходе - все было. Пребывание мое во Франции никому не было нужно, и даже незаконно, так как срок действия транзитной визы уже кончился. И все-таки я не мог уехать туда, где ждали меня семья и родина.
Пример того, как люди в самом ясном положении ухитряются запутать себя и других, создавая тупик там, где все просто и ясно. Мои друзья просили меня не волноваться. Все устроится, выход найдется. Но я и не волновался. Жизнь научила меня относиться к превратностям судьбы с философским спокойствием. За мной были годы войны, ссылки, Сибири, годы заключения в советских тюрьмах и лагерях. Те, которые волновались, оставили в них свою жизнь. Нервные и неуживчивые люди вымерли, а мы, выжившие, научились принимать бессмысленную жестокость и тупое зверство как самое обыкновенное и естественное явление - как норму мира сего.
Удивиться и искренне волноваться заставляет меня нечто другое: каждый акт доброты, каждое внимание к человеку, каждое проявление разума и человечности в социальных отношениях. Я волновался как ребенок, когда убедился, что есть еще люди, которые меня помнят. Я был потрясен, когда оказалось, что в Польше покупают железнодорожный билет и едут куда хотят, без разрешения власти. Я был смущен, когда увидел, что за советской границей можно купить на улице почти все, что нужно человеку. Это необыкновенно. - Я удивлялся не тому, что польское правительство не выпускает поляков заграницу. Это понятно. Наоборот, я был взволнован, когда разрешили эмигрировать в страну, где мой народ пытается жить свободно, и где живут моя жена и сын. Это непонятно, это слишком просто, по-человечески. Советский Союз не разрешил бы этого. Там таких евреев, которые мечтают о Палестине, сажают по статье 58 на 10 лет. И это понятно, потому что так требует советский гуманизм.
Вот уже 7 лет я привык, что надо голодать и ходить в лохмотьях, когда есть легкая возможность быть сытым и одетым, надо пилить дрова, когда имеешь университетский диплом, надо лгать, потому что правда убивает, и жить среди тех, кто тебя ненавидит, а не с теми, кто любит и хочет тебя. Я также научился, что не надо быть виноватым, чтобы понести наказание, не надо быть большим философом, чтобы заставить людей поверить в любой абсурд, и нет ничего легче, как гнать на убой миллионы, с их согласия или, во всяком случае, без их сопротивления. Научившись всему этому, я уже не удивился, когда в Париже оказалось, что нельзя кратчайшей дорогой ехать в Палестину, потому что кто-то не дает транзитных виз, а в Марселе нет возможности за французские франки купить билет на французский пароход. Это сущая безделица, и я бы удивился, если бы это было иначе. Когда-то понадобилось 10 казней, чтобы заставить фараона выдать визу нашим предкам. Но современные фараоны чудес не боятся, и в приемной египетского консульства в Париже я почувствовал, что даже интервенция Моисея не была бы достаточна, чтобы устроить мне билет.
Мои дорожные приключения - только частный случай. В дороге весь еврейский народ. С ним та же история. Есть у него родина и место на земном шаре. Есть материальная и техническая возможность жить по-человечески, никому не мешая. Есть паспорт, выставленный 3000 лет тому назад в очень высоком месте, на нем виза г. Бальфура. Документы, деньги, транспорт, и наконец (хоть и немного поздно) добрая воля самих гг. пассажиров: - все имеется. Но ехать нельзя и жить по-человечески нельзя, потому что это было бы слишком просто. Почти также просто, как в свое время отворить ворота Освенцима и Треблинки и оставить при жизни миллионы еврейских детей, мужчин и женщин. Всегда что-нибудь мешает: тогда идеология Гитлера, теперь вето добряка Бевина. Когда тогда 100 миллионов немцев, так теперь 50 миллионов арабов и редакция американского журнала абсолютно не могут согласиться, чтобы мы тоже существовали на свете. - «Не волноваться, все устроится!»
Мы знаем, что не все устраивается, как бы хотелось. Это случайность, что я еду домой. Мысль о моих друзьях, которые были менее счастливы, которые погибают или уже погибли в проклятых советских застенках, значительно снижает во мне исторический оптимизм и веру в торжество Разума. Но - волноваться не стоит. Это не значит, конечно, что надо отказаться от борьбы за честь и свободу. Как раз наоборот. Но чтобы бороться, надо иметь крепкие нервы и раз навсегда перестать удивляться. Это значит, что нам, чью волю не сломили немецкие и московские людоеды, Бевины и собственные путаники, требуется нечто другое: нам нужна холодная ярость, - такой концентрат презрения и ненависти, при котором уже не остается места для нервных реакций и душевной растерянности.
Когда я был молод, я очень волновался при самых разнообразных оказиях. Я не знал ни своей силы, ни свойств внешнего мира, и мне еще предстояло на опыте убедиться, что огонь жжет, а вода не держит. В особенности я опасался всяких «крайностей», как человек, который, путешествуя в незнакомой местности, боится проехать свою станцию или слишком рано высадиться.
Теперь я знаю, что «экстремизм» есть Закон нашей ненормальной еврейской жизни. Все в ней неумеренно: неумеренны страдания и вызванные ими реакции, неумеренны чаяния, неумеренны порывы и гордость. Силой вещей в еврейской действительности навязывается политический радикализм. Сионизм времен Герцля был в глазах рассудительных людей «экстремизмом», но впоследствии маленькие люди, которые пришли ему на смену, оказались - против своей воли - ничуть не меньшими экстремистами. Кто же был большим упрямцем и экстремистом: тот, кто в 1938 г. в Варшаве рекомендовал польским евреям массовый исход как единственную разумную цель их усилий, - или тот, кто от имени официального сионизма ответил ему в газете: «3 миллиона евреев жили, живут и будут жить в Польше»?
Причина этого фатального экстремизма - простая. Дело не в каких-то свойствах еврейской психики, а в той радикальной и непримиримой, сверхэкстремистской позиции, которую неизменно занимает по отношению к нам нееврейский мир. Кто не хочет себя обманывать, тот становится в еврейских условиях экстремистом.
Экстремизм, который я имею честь представлять, не заключается в требовании Еврейского Государства по обе стороны Иордана. Это требование само по себе надо расценивать как очень скромное и серенькое по сравнению с такими идеалами, как Мировая Революция, Еврейская Социалистическая Республика и пришествие Мессии. Не могу также сказать, чтобы каждое еврейское государство мне подходило. Если это будет государство того типа, который я видел и изучил в Советском Союзе, - пусть лучше не родится никогда. Теперь, когда лозунг Еврейского Государства перестал пугать и превратился в ходячую монету, особенно ясно, что дело не в слове, а в том, кто за ним стоит. Ценность каждой школы сионизма заключается не в прекрасных словах, не в теоретических глубинах и умелой хозяйственности, а в человеке, в новом типе человека, в том особенном типе еврея, который ею воспитывается. Во времена кишиневских погромов были у нас одни идеалы и понятие еврейской свободы, теперь, во времена Треблинки и Майданека, Эритреи и Кипра - другие. Из еврейской действительности вытекает экстремизм, как из природы болезни - нож хирурга.
Не экстремизма надо бояться, а того, что произошло в Кельцах, где летом 46 года 40 евреев было заколочено насмерть палками и камнями, после того, как они добровольно выдали имевшееся у них оружие в количестве нескольких десятков револьверов и гранат. Эти люди не были трусами, как же назвать их поступок?.. Сионизм не в том, чтобы пахать землю. Не в том, даже, чтобы идти в Негев. Не в том, чтобы испытывать те или иные высокие чувства. Как ни важно это все - надо сказать, что это все или подобное уже было в еврейской истории, а чего не было - от незапамятных времен - это чтобы люди умели защищать свою жизнь и - более того, свое несомненное право - с оружием в руках, и чтоб как плевелы были выкорчеваны из их сознания пустые слова и нереальные иллюзии. На баррикадах варшавского гетто погибали наши герои в безнадежной борьбе, хотя так легко им было уйти на арийскую сторону, и хотя не мало было среди них коммунистов и бундистов, но ведь ясно, что не надо было исповедовать Маркса и Каутского, чтобы так поступить. Достаточно было быть сыном своего народа. Экстремизм, который дает мне силу жить, заключается в том, чтобы людей этого типа было у нас как можно больше, - и чтобы они нашли правильное применение своим силам, не на развалинах гетто, а в нужном месте, в нужный срок.
То, что происходит в моей стране, и что не вчера началось, напоминает мне одну сценку, разыгравшуюся в советском лагере во время раздачи хлеба. Мы, арестанты, стояли в очередь за пайкой хлеба под окошечком хлеборезки, и каждый брал положенный ему кусочек хлеба, как святыню. Вдруг кто-то выхватил мою пайку из рук - здоровый мужик, который больше моего получал хлеба, когда у польских евреев, у «западников» забирали пайки из одного озорного любопытства: «что такой сделает?» «Западники» бежали жаловаться начальству, им отвечали: «дураки, ваш хлеб уже давно съеден, и поделом - держите крепче свою пайку». И я поступил единственным способом, который мог мне в тот день обеспечить хлеб: бросился на вора и вырвал у него свою пайку. И до сих пор стоит у меня перед глазами этот несчастный кусок хлеба, в который вцепилось двое людей, - грязный, раздавленный, раскрошенный, измазанный немытыми руками. Я съел его, потому что был голоден. В нормальных условиях я бы отвернулся от него с отвращением.
Мы, евреи, могли бы получить свою пайку, как все люди, спокойно и тихо, без скандала, хотя и позже других встали в очередь. Нашу пайку схватили чужие руки. На наших глазах этот законный кусок хлеба становится предметом отвратительной свалки, и мы рвем его из бандитских рук. Моя родина, омытая слезами и любовью поколений, - выглядит как раскрошенная, растоптанная, загаженная в драке лагерная пайка. Сколько подлой злобы кругом, сколько злодейства и циничного надругательства! Делается все, чтобы этот чистый хлеб стал для нас неприемлем, чтобы евреи всего мира отвернулись от него с отвращением.
Мирный возврат еврейского народа после стольких страданий и океана пролитой крови в свою отчизну мог бы стать одним из самых прекрасных зрелищ истории - праздником всего Человечества. Но это слишком просто и поэтому несбыточно.
Первое, что мне бросилось в глаза по приезде в Париж, была большая статья А. Кестлера о Палестине. - После 7 лет оторванности от европейской прессы это было первое, что я взял в руку. Цитирую из этой статьи слова Камель-Эффенди, араба, которого какой-то американский журналист имел наивность интервьюировать на тему еврейских благодеяний арабскому населению в Эрец:
- Большая важность, что вы платите - да наплевать на ваши госпиталя и школы! Страна эта наша. Понятно? И не надо нам заграничных благотворителей. Не надо ни их меда, ни их жала - Скажите им это, в их Америке. Если их выбрасывают за дверь страны - тем хуже, я очень жалею. Мне, право, жаль, но это не наше дело. Если они хотят сюда приехать - немножко, одна-две тысячи - что делать? Но уж тогда извольте помнить, что вас впустили в чужой дом и ведите себя как следует. Иначе - идите к черту! В море - и дело с концом!
Очень понятно, что говорил Камель-Эффенди. «Какое нам дело, что вы гибнете! Идите к черту, в море». Этого араба называет автор статьи, еврейский журналист «образованным и умеренным». Г. Кестлер, которого редакция журнала, вероятно, не без оснований называет «знаменитым автором» и которого она выбрала, чтобы он объяснил французам положение в Палестине - этот «судия праведный» не находит, что ответить хулигану. Статья его начинается с утверждения, что «судья, который бы захотел быть одинаково справедливым и объективным по отношению к арабам и евреям, должен был бы покончить самоубийством», а кончается добрым пожеланием евреям во всем мире поскорее ассимилироваться, а в Палестине, где это невозможно, разделиться с арабами так, чтобы можно было еще принять немножко евреев. Немножко. Много евреев и так в страну не поедет.
Так выглядят наши «образованные и умеренные». Понятно, что в стране за пайку хлеба они участвовать не будут. Положение в Палестине так просто, что даже ребенок может в нем разобраться. Налицо попытка закрыть погибающему народу единственный выход к жизни. То, что такая попытка предпринимается, не может вызвать в нас ни удивления, ни волнения. Это совершенно закономерно. По отношению к нам, евреям, всегда имелось два рода политиков. Одни говорили открыто: «идите к черту», как образованный и умеренный Камель-Эффенди. Другие, хоть и не говорили, но, по-существу, были бы очень довольны, если бы мы перестали путаться под ногами, т.е. проще говоря - пошли к черту. Третьей политики в еврейском вопросе не было, - до тех пор, пока мы сами не взялись за ум, согласно пословице: «Лучше поздно, чем никогда».
Глава 8. Гелиополис
В половине сентября 1946 года маленький греческий пароход «Гелиополис» покинул марсельский порт. Пароход, водоизмещением около двух тысяч тонн, направлялся в Хайфу и вез около 300 пассажиров. Были среди них палестинские граждане, возвращавшиеся домой после отпуска или служебной командировки, но большинство составляли иммигранты, беженцы, выкорчеванные недавней бурей в Европе. Для них этот рейс был величайшим переломным событием жизни, концом скитаний и вознесением на Родину. В мистерии еврейского национализма, в крайнем выражении достигающей почти религиозного напряжения, переселение в землю отцов носит имя «алия». Алия значит Вознесение. «Гелиополис», потерянный в лазури Средиземного моря, в ярком солнечном блеске, был одним из кораблей ангельского флота Вознесения.
Проезд на нем ничего не стоил. Еврейские организации оплачивали дорогу иммигрантов и расходы сионистских делегатов в Европе. Я был единственным платным пассажиром на этом пароходе, не принадлежа ни к одной из двух категорий: ни делегат, ни новый иммигрант. Я возвращался домой после семилетнего отсутствия, не зная как выглядит мой дом, в каком состоянии я найду моих близких. Я был счастлив, но старался совладать со своим волнением. Я был внешне спокоен как все, - несмотря на то, что мое существо было полно внутреннего трепета и затаенного веселья. Предыдущие семь лет| сжали меня как пружину, - и теперь я почти ощущал в крови звон металлической, гибкой спирали, подобный вибрирующей дрожи заведенного мотора.
Пароходик был переполнен. На ночь люди располагались в столовой и баре; день проводили на палубе. Мне было предоставлено отличное место: кабинка радиотелеграфа на верхней палубе, вблизи капитанского мостика. Она состояла из двух крошечных помещений: в первом находился радиоаппарат, во втором - койка радиотелеграфиста. Два раза в день садился к аппарату лысый немолодой грек, стучал, манипулировал, принимал и отсылал радиограммы. Лежа на койке, я видел в иллюминаторе отрезок моря и неба. Линия горизонта подымалась и опадала неторопливо, за полуоткрытой дверью виден был релинг, шезлонги и свежевымытые доски палубы. Лежа, я слышал плеск волн, смех и разговоры, мерное биение пароходной машины, в такт биению собственного сердца.
Один среди сотен пассажиров, я терялся в воспоминаниях. Я возвращался к блаженным дням, когда дорога в Палестину начиналась для меня ранним утром в прокопченной, задымленной Лодзи. Моторный вагончик - «ракета» - в полтора часа доставлял путешественника в столицу, где спешно улаживались последние формальности отъезда. Чувство дивной легкости, слад кое, волшебное очарование отрыва, отлета, перехода в иной мир, с иными измерениями. Прощальное утро в Варшаве, уже нездешней для меня с ее парками, красными трамваями на Маршалковской и деловой суетой. Экспресс уходит в 4 пополудни, и жизнь превращается в цветной фильм, несется в ускоренном стремительном темпе. Перед чудодейственной силой синей книжечки со многими печатями расступаются стены, отворяются границы, и сама полиция вежливо сторонится, козыряя. В полночь мы прибываем во Львов и переходим в тишину спального вагона, где в течение ночи, полной нашептывании и колыбельного гула, совершается первое дорожное чудо. Утром мимо окон бегут зеленые равнины, холмы и белые станционные домики Молдавии.
Отныне все возможно. Пока в Бухаресте перецепляют наш вагон к вечернему поезду «Регеле Кароль», отходящему вечером в Констанцу, мы имеем время осмотреть румынскую столицу. Обедаем на Калиа Викториа, пишем первые открытки с дороги. В сумерках поезд уносит нас к Черному морю, мы пересекаем Дунай, и звездная ночь дышит нам в лицо ветром с близкого моря. В 11 часов вечера мы в Констанце. Маленький паровозик, медленно нащупывая колесами рельсы, отводит наш вагон в порт, громыхая на стрелках, пока не вырастет В чернильной мгле иллюминованный корпус морского чудища, «Полонии» или «Трансильвании». Пароход кажется ночью огромным, море - действительно черным. Проходит час, пока пассажиры размещаются , и|многие, возбужденные встречей с новой стихией, не ложатся спать до самого выхода в открытое море, в ночную крупную зыбь.
Нa следующее утро мечети Стамбула вырастают в жемчужной дымке. После долгого дня в Константинополе, с обязательным посещением Айя-Софии, Меджидие, Ахмедие и Сераля с видом на Золотой Рог, выпив кофе у Такатлиана и осмотрев памятник Республики, мы проходим Босфор, над панорамой которого величаво восходит полумесяц, и вечерняя звезда Леванта сверкает в оранжевом закатном небе. Сердца наши смягчены и взволнованы ожиданием будущих чудес.
Через Мраморное море и Дарданеллы, мимо рыжих островов Архипелага мы приближаемся под вечер второго дня к Греции. На площади Омония в Афинах мы видим первые пальмы и совершаем традиционное паломничество. «Чтоб мусор мраморный толочь, влезаем белкой на Акрополь». Там, в мраморном муcope, находится и для нас камешек. По мере продвижения на юг настроение подымается, нарастает веселье, и молодежь с закатом солнца, взявшись за руки, пляшет «гору» под звуки палестинских песен. Все дальше и дальше на юг, навстречу солнцу, новой жизни идет пароход, - пока, наконец на шестой день с утра встает на горизонте, как легкое облачко, Кармель - гора пророка Ильи. Вглядываясь в очертания суши, мы знаем, что так точно, и не иначе, выглядел силуэт Кармеля две тысячи лет тому назад, когда предки наши покидали эти берега, уходя в изгнание, и глаза их в последний раз ловили очертания побережья.
Переход морем из старого мира в новую Родину похож на выздоровление от болезни. Так надо, так полагается, чтобы между старым растленным миром горя и невзгод, ненгависти и несправедливости, и новым началом на земле, которая как невеста ждала нас - пролегла череда неземных дней морской лазури и солнца, одиночества между высоким небом и пустынным морем, - время каждому стряхнуть с себя пыль вчерашнего, очиститься и приготовиться к будущему. Это не простая смена места, передвижение в пространстве и времени! Мы отрывались от одного континента и вступали в другой, отделенный четырьмя морями, как в сказке. Пароход, потерянный в водных разливах и столбах света, шел и шел, дельфины плясали вокруг него, и за кормой стелился широкий след, пенная дорога до края горизонта, вся в алмазных брызгах, точно борозду проводил пахарь чудотворный для нового сева, и она, как морщина, тревожила морскую вечную гладь на минуту, чтобы сгинуть, и с ней вместе наши заботы о прошлом и память пережитых несчастий и зла.
Иначе, совсем иначе выглядел мой рейс в сентябре 46 года. Снова была морская купель, но на этот раз не пылью был я покрыт, а кровью, - с ног до головы. Как отмывается кровь? - Я где-то читал, как закалялась сталь, но как отмывается кровь?.. И пассажиры кругом меня ничем не походили на тех, молодых, беспечных, веселых, переполненных радостью жизни. Это не были халуцы. Это был арьергард, остатки . разгромленной армии, последние брызги и пена сбежавшей волны, Они возвращались издалека, с пожарищ войны и мест изгнания, многие носили клейма гитлеровских лагерей. На .их фоне палестинцы выглядели доловитыми, благополучными чиновниками колониального края. В их жестах, интонациях была ироническая самоуверенность. Их вид, казалось, говорил: «Положитесь на нас, не беспокойтесь! Уж мы знаем как вами распорядиться!».
«Гелиополис» держал курс на Восток... но для меня это все еще было направление на Запад. Теперь только начинался для меня по настоящему Запад. Я считал его не от Парижа и Марселя. Запад я считал от Сибири, от Омеги, от пятиконечной звезды над лагерным царством. Оттуда, из тундры и тайги, из прославленных лесов и барачных корпусов, из университетских аудиторий и военных городков ложилась тень на весь мир, и оттуда, ломаясь на карте, вела прямая линия - на Запад, на Свободу, на Родину. Мой запад, был там, где я мог, наконец, распрямиться во весь рост, где никто больше не принуждал меня лгать. Европа, как суша, с которой только что схлынули волны потопа, лежала в грязи и развалинах, полная чудовищных остатков и воспоминаний. «Гелиополис» оставил Европу, и море вокруг него было пустынно и чисто, нетронуто человеческой подлостью. Хорошо было окунуться в его безбрежные просторы. Хорошо было выйти на время из оглушающего, тысячеголосого шума и слушать только свой внутренний голос. Но море не было концом пути - море было только этапом дороги на Запад.
В один из вечеров мы миновали Стромболи. Густая мгла висела над морем, и далеко в облаках полыхал отблеск подземного пламени в недрах вулканического жерла, которое мы угадывали, вглядываясь в темную ночь. Сердце сжалось у меня, я вспомнил тусклую зарю севера в решетчатом окошке тюремного вагона, день за днем, ночь за ночью уходившего на восток, в под земное лагерное царство. Ослепшие глаза боялись света, глухо забитый вагон с человеческим грузом подобный гробу, опускался в пропасть без исхода и имени. Теперь несла нас по волнам пловучая колыбель, как новорожденных, теплом и светом дышало море, и постепенно уступал из сердца ледяной холод, и прояснялась мысль.
Как отмывается кровь? - Недобрый ночной силуэт вулкана остался за нами, потонул во мраке ночи, и в блеске дня открылся пред нами пролив между Мессиной и Реджио. Мы шли между Сицилией и Калабрией, среди многолюдных городов, лежавших среди зеленых гор, в лесах и рощах, спускавшихся к самому морю.
В то утро, когда я сел к столу в маленьком баре «Ге|лиополиса», чтобы написать мою первую статью после семи лет молчания, меня охватило странное, непривычное чувство.
Я боялся моего пера, которое, наконец, было свободно. Семь долгих лет мои мысли были вне закона, caмoe молчание мое было нелегально. Теперь я держал в руках перо, как древко знамени. Каждое слово мое должно было, как знамя - трепетать на ветру.| Я хотел вернуться на Родину co знаменем... но в это утро я чувствовал слабость в пальцах, страх пред первым действием свободного человека. Если бы я мог отложить это писание... Но я не мог ждать больше. Я оглядывался на моих спутников. «Гелиополис» гудел как улей дремотным полуденным шумом, дети бегали по палубе, взрослые переговаривались спокойными голосами. Ничтоне нарушало их покоя. И этот покой начал передаваться мне: я почувствовал гордость, благодарность судьбе, которая вложила перо в мои руки. Я начал писать - не задумываясь ни на мгновение, для кого я пишу. Я писал через головы мирных пассажиров в баре и на палубе. Как радист, посылающий сигнал на короткой волне для всех, кто услышит. На Запад шел «Гелиополис», на Запад сердца, на Запад мысли. На тот же Запад текли мои слова. Это не была жалоба или протест, это была - Декларация. Декларация Независимости, моя личная Деларация Прав Человека и Гражданина.
Я писал:
- Между осенью 1939 и летом 1946 года я прожил в Советском Союзе без малого семь лет.
- Из них - первый год на территории оккупированной Польши. Там я был свидетелем процесса советизации завоеванной страны...
- Следующие пять лет я провел на советской каторге, в так называемых «исправительно-трудовых лагерях». Там я понял секрет устойчивости и силы советского строя..
- Последний год - в маленьком городке Алтайского Края, принимая участие в серой трудовой жизни советских людей.
- Думаю, что я имею право говорить и судить об этой стране. «Никто не знает, что, такое государство, кто не сидел в тюрьме» - слова Толстого. Думаю, что никто не знает, что такое Советский Союз, кто не сидел в советской тюрьме.
Я думал:
- Каждое твое слово должно быть проверено и взвешено. Правда ли, что секрет устойчивости и силы советского строя -- в концлагерях? - Ведь такая фраза бьет хлыстом по лицу. Не тех, что создали лагеря. Этих слова не проймут. Но сколько хороших людей отпрянет, сколько их обидится! Что это значит: секрет устойчивости и силы советского строя в лагерях? Ведь миллионы людей служат там не за страх, а за совесть. Почему же не в их энтузиазме и преданности, не в добровольной дисциплине масс ты ищешь секрета устойчивости и силы советского строя? Он выдержал немецкую лавину. Чем ты помог русскому народу и всем народам мира, включая твой собственный, повалить зверя?
Ничем. Заключение миллионов честных и боеспособных людей в советских лагерях ослабило фронт борьбы против Гитлера. Но одновременно оно помогло советскому строю удержаться в критический момент. Если бы мы все влились в общий фронт борьбы, мы повалили бы обоих, - и Сталина, и Гитлера. Потому нас и держали в заключении. И нет большей демонстрации силы и звериной жестокости, как сама эта способность удерживать в заключении и мукам предавать миллионы людей в самый момент исторического урагана. Существование лагерей было и остается доказательством советской силы. И только лагеря придают устойчивость этому строю, как глубокий трюм - корпусу корабля.
Гости из другого мира, журналисты, нейтральные наблюдители, туристы на месяц ездят по стране, изучают ее прозу и поэзию, хвалят одно, порицают другое. Никто не может видеть всего и не притязает на это... Но знают ли они, что в жизни этой страны есть секрет? И что секрет этот, оберегаемый от врагов, и друзей, лежит в основе устойчивости и силы, в основе достижений и славы, в основе будней и праздников, в смехе и шутках прохожих, в парадах и демонстрациях, в симфонической музыке, в последнем романе Леонова или Эренбурга, в играх детей на площадках в парках Культуры и Отдыха?
И прав ли был Толстой, говоря, что тот не знает государства, кто в тюрьме не сидел? Много ли мог знать о государстве граф Лев Николаевич, сидя в ясно-полянском укромьи, под сенью огромной славы своей и всенародной любви? Таким как он и государства не нужно, и тюрьма не страшна. Тот не умеет ценить государства, кто на чужбине не бывал, как тот не ценит здоровья, кто болен не бывал. Только в советском плену, на беспросветной чужбине, и можно понять, что такое «свое государство». Каждое «свое», где нет пятипалой руки на горле, нет лагерного ада, нет принуждения лгать. Мы свой дом построим трудом, и если надо - кровью, но рабства не будет в нем! лжи не будет! - «секретов» не будет!
Я писал:
Семь минувших лет сделали из меня убежденного и страстного врага советского строя. Я ненавижу его всеми силами своего сердца и всей энергией своей мысли. Все, что я видел там, наполнило меня ужасом и отвращением на всю жизнь. Я счастлив, что нахожусь в условиях, когда смогу без страха и открыто сказать все, что знаю и думаю об этом режиме.
Я пишу эти строки на палубе корабля, который несёт меня к берегам отчизны. Мое возвращение к жизни - чудо, настоящее воскресение из мертвых. О чем может думать человек, вышедший из гроба, из преисподней?.. Время не ждет. Есть вещи, которые должны быть сказаны немедленно, не откладывая ни на минуту... Я пишу с чувством человека, которому остался только один день жизни - и в этот день ему надо успеть сказать самое неотложное, самое важное! - и как можно скорее, потому что завтра может быть поздно!
Я думал:
Как много есть людей, которые изверились в слове, ибо конец вещей - немота, и они хранят молчание в последний день их жизни. Что важнее всего? - Для меня это просто: пробить стену молчания, за которой мучаются люди. Нарушить тишину, вылить все, что накипело в сердце. И мудрость не нужна, если ею, как паутиной, покрывают углы нежилого дома. И счастье не нужно, если цена счастья - забвение.
Сколько людей от меня отшатнется! - Но в эту минуту мне все равно. Мое дело - сказать. И я знаю, что будет эхо. Это дело чести для меня - добиться отзыва, и я знаю, что среди свободных людей найдутся у меня друзья, и товарищи придут мне в помощь. Там, в стране, которую я покинул, люди опускали глаза и смотрели в сторону. Там вместе с ними я опускал глаза и смотрел в сторону.
Я писал:
- «В лагерях Советского Союза погибают миллионы людей.»
- «Все то вы пишете и пишете»... сказал мне улыбаясь сосед. Это был немолодой плотный, с бронзовым от загара лицом человек. Он назвал себя: доктор Фальк, из Тель-Авива, администратор одной из крупных тель-авивских газет. Исходили от него флюиды благожелательности, спокойствия и хорошего настроения. Я рассказал ему, что возвращаюсь из Сибири. Это его заинтересовало. Он стал расспрашивать меня, улыбаясь каждому моему слову.
«Послушайте», сказал я ему, «я нахожусь в ненормальном состоянии. Вы слышали о такой вещи: „моральный аффект?“.»
«Что это такое?» спросил д-р Фальк.
«А вот: вы встречаете нищего на улице. Он ни в какой мере вас не беспокоит. Вы можете положить грош в его протянутую руку или пройти мимо. В обоих случаях вы за него не отвечаете. Вам нет до него дела. Он вам ни сват, ни брат. Не вы создали этот мир и порядок, при котором непременно кто-то осужден барахтаться на самом дне человеческой свалки.
Но если только вчера вы сами протягивали руку? и на краю тротуара встречаете свое собственное подобие?».
Доктор Фальк улыбался. «Что вы хотите сказать?»
«Год тому назад я проезжал Свердловск, бывший Екатеринбург на Урале. Знаете, тот город, где убили царскую семью в 1918 году. Я только что был освобожден из лагеря в Котласе и направлялся в алтайский город Славгород. Трасса: 2748 километров, с пересадкой в Свердловске. Дело было летом, в июне, Денег у меня не было, соленую рыбу, выданную на дорогу лагерными властями, я съел, оставался только пайковый хлеб из расчета 400 граммов в сутки. В Свердловске я провел двое суток, ночуя на вокзале под окошечком кассы. Это был мой первый „вольный“ город после 5 лагерных лет. Свердловск поразил меня контрастом между огромными казарменными зданиями новой советской стройки и старыми деревянными домишками дореволюционной провинции. Эта архитектурная какофония чем-то соответствовала моему душевному состоянию.. Весь город состоял из разорванных, несшитых в целое лоскутов. На главной улице был ресторан, с пальмами в окнах, но войти туда не было денег┘ там нужны были сотни.. На толкучке паренек в толпе предлагал финики - по 6 рублей штука. Финики на Урале, неизвестно откуда. Я сам себя чувствовал таким про езжающим фиником. Вдруг я увидел на сквере, детей, школьников, они ели мороженное в бумажных конвертиках... Это мороженное добило меня. Я подобрал брошенную детьми бумагу. По инерции, после лагеря, я не выносил вида недоеденных остатков, огрызков, кусочков... Вокзал был забит толпами проезжающих в ожидании компостировки. Лежали вповалку на узлах, ночью во время уборки подымали всех и выгоняли на площадь. На вторые сутки у меня уже было несколько знакомых. И тут я начал просить денег.
Зачем я это сделал? Не из голода, - у меня еще оставался запас хлеба в сумке, - а из какого-то душевного раздражения, от того, что у всех были деньги, а у меня не было. Из страха, что до самого Алтая больше не будет такой оказии. И ещё - что-то вроде любопытства или надежды на чудо, что заставляет людей заглядывать в чужие глаза и ждать отклика. Одни это делают нагло, точно это им полагается, другие - робко. Реакция лагерника, который, попав среди „вольных“, спешит использовать ситуацию. Из русских заключенных многие на первом же вокзале по дороге домой из лагеря, не выдержав искушения, напивались за все годы, - и учиняли дебош, после чего их, проверив документы, возвращали в лагерь обратно. Я не напился, но на всякий случай решил на свердловском вокзале подсобрать немного денег. И опять же, - очень меня интересовало, как будут разные люди реагировать на мою просьбу. Кто знает, случится ли в жизни когда-нибудь еще руку протягивать. Как вы думаете, если бы попросить взаймы вон у того, черного, с крупным носом, который в углу сидит с компанией, он даст?».
Фальк посмотрел по указанному направлению и улыбнулся.
«А знаете вы, кто это? - Один из самых известных деятелей наших, рабочий лидер, марксист-ленинист, по фамилии Меир Яари».
Имя Яари ничего мне не сказало.- «Ну, значит, не даст».
На свердловском вокзале также мало давали, Я подходил с разбором, не ко всякому. Выбирал я преимущественно евреев пoпроще, постарше, без марксизма-ленинизма, с обыкновенными мещанскими лицами - «свои люди». Завязывал разговор и сообщал, что я до войны проживал в Палестине. У некоторых моих собеседников это вызывало удивление, расспросы, а через полчасика, когда удавалось мне их заинтересовать, и теплоту, и сердечность. Когда-то побирались по мужицкой России христовым именем, а у меня по другому, но похоже... волшебным именем, укрытым в сердцах... Поговорив сколько надо, я брал быка за рога и напрямик сообщал, что остался в дороге без денег... «нельзя ли одолжить у вас сколько-нибудь? Верну по почте, как только доеду на место...». И тут выходило наружу, как глубоко было впечатление от предыдущей беседы: выражение лиц мгновенно менялось, и как раз самые милые и добродушные собеседники, с брюшком и сытой физиономией, не давали ничего, но впрочем готовы были продолжать приятный разговор, а другие со смущением и сожалением протягивали мне пять рублей, - мелочь, как профессиональному нищему. Я их принимал...и обоим сторонам было совестно. Больше не о чем было разговаривать, я отходил в сторону.
И вдруг мне посчастливилось. Я разговорился с молодой женщиной, с серьезным, умным лицом и живыми глазами. Я сразу заинтересовал ее моим знанием «заграницы» и западной литературы. Мы беседовали о французских писателях, о «Братьях Тибо» и фильмах Ренэ Клера. Под конец мне просто жаль было портить ей впечатление от встречи. Но все-таки я ей сказал то же, что и другим: «нельзя-ли одолжить у вас несколько рублей.- Она на секунду смутиласъ, вынула, кошелек и предложила мне - сто рублей. У меня дух занялся. Гигантская сумма! И значит, поверила мне, поверила, что я не „стрелок“, а человек, с которым случилась неприятность в дороге. Как я был ей благодарен! И адрес ее записал, с тем чтобы немедленнно вернуть из первых денег по приезде на место. Она далеко ехала - куда-то в Уссурийский край, в Приамурье, в страшную глушь, к мужу. И так разошлись наши пути, но я был счастлив непомерно, и долго вспоминал ее. По сей день помню. А только адрес я потерял, и денег ей так и не вернул. Пропала бумажка с адресом. Что поделаешь? Она, верно, забыла об этих деньгах, а я вот не забыл. До сих пор возвращаю эти сто рублей. Всякий раз, как случается мне подать „бывшему человеку“ немножко больше, чем он ожидал, - я возвращаю тот свердловский долг. Как думаете, расплачусь я когда-нибудь?
Вернемся теперь к тому, что я называю „моральным аффектом“. Это такое ненормальное состояние, когда вы чувствуете, что обязаны, кому-то, обязаны что-то сделать, хоть и неприятное, чтоб не быть мерзавцем в собственных глазах. Вот вы, например: обязаны вы подавать милостыню? обязаны вы писать о том, что делается в другой стране под северным полюсом, о чем никто не пишет?»
Фальк вежливо улыбался «И отвечать не надо. Вы, господин Фальк, в полном порядке со своей совестью. Вы никого не ограбили, не обидели, не обокрали и не совершили наказуемых по закону деяний. Этого совершенно достаточно. Вон тот наш сосед, что занимается политикой и общественными делами, конечно, очень уважаемый человек. Никакими моральными аффектами он не страдает и поэтому ничем не обязан. Хотел бы я быть на его месте. К сожалению, создалось у меня положение, когда я обязан помочь одному человеку; который остался в лагере. Этот человек рассчитывает на мою помощь, не без оснований, так как он мне спас жизнь, в очень даже драматических обстоятельствах. Теперь моя очередь спасти жизнь ему. Он заключенный сионист, он умирает в советском лагере принудительного труда».
Доктор Фальк вежливо улыбался. «Вы сможете послать, ему посылку в лагерь. Если не ошибаюсь, существует в Тель-Авиве общество, которое занимается отправкой посылок сионистам в Советском Союзе».
«Очень мило. Нам посылают посылки из Америки, а мы - тем, что победнее нас. Но я хочу вернуть свободу тому человеку. Он сегодня находится в том положении, в каком я находился вчера. Я знаю, он не посылок ждет от меня с жиром и сахаром, а решительного выступления, борьбы за его свободу и жизнь. Если вы увидите, что человек упал за борт парохода, что вы сделаете? - подымете тревогу, ударите в колокол, остановите пароход, бросите ему спасательный круг, спустите в море шлюпку».
«Это сравнение не годится», сказал доктор Фальк. «Наши корабли не плавают по морю советской юстиции, а ваш приятель не жертва, а преступник: он - советский заключенный».
«Все сионисты - преступники против советского порядка, и все - потенциальные жертвы советской власти».
Штиль и зной окружали «Глиополис», потерянный в водной пустыне, в расплавленном солнечном блеске. В бесконечности морской стихии наше суденышко несло в себе груз человеческих страстей, волнений, противоречий - пo неизвестному предназначению. Доктор Фальк был первым человеком из Израиля, с который свела меня судьба. Он был первым, с кем я мог говорить о моральной ситуации человека Запада, вышедшего живым из Лагерного Царства. В тот же вечер я прочел ему мою первую статью, написанную на пароходе: мне не терпелось проверить ее действие на первом израильском жителе, которого я встретил. Когда я кончил, доктор Фальк все еще вежливо улыбался, но теперь я чувствовал некоторое изумление в его улыбке.
«Я должен предупредить вас», сказал он после короткого молчания, «что никто в нашей стране не готов к восприятию подобных вещей. Вам будет очень трудно заставить себя слушать...».
«А вы сами верите мне?».
«Это не важно. Я верю, что все возможно в нашем мире. Но оттого, что я верю, ничего не изменится».
Доктор Фальк показал мне . группу пассажиров, занимавших стол в углу бара. Они играли в карты, громко смеялиcь, шутили.
«Эти люди,.как и вы, многое пережили в Сибири в годы войны. Некоторые из них носят выжженное клеймо гитлеровских лагерей на руке. Но эти люди провели черту под прошлым. Так здоровее для них. Я думаю, и вы кончите тем же».
«Да эта моя статья и есть черта под прошлым I Я провожу ее резко, провожу ее грубо - чернилами, как подобает человеку пера. Таким образом, провожу границу в моей жизни между тем, что было - и тем, что будет».
«Вы не умеете забывать, не умеете примиряться. И я предвижу, что вам долго, очень долго придется отбиваться от призраков прошлого. Они тянутся за вами, они вместе с вами на „Гелиополисе“ едут на Запад. Оглянитесь: за вами, в другом углу, сидит группа уважаемых общественных деятелей, и это, кстати, друзья тех, кто с вами сидел в советском заключении. Думаете ли вы, что кто-нибудь из них станет с вами разговаривать? Вы замахнулись на коммунизм, и потому ваша правда для них без значения. Этой одной своей статьей вы провели резкую черту между собой и ними».
«Как странно! я вижу среди них человека, который вместе со мною, в одно время, был арестован летом 40 года и предан суду за сионистскую деятельность. На суде он произнес горячую речь в защиту своих идей. Он доказывал, что его партия служит делу прогресса и социализма в Палестине. Его не прервали. Ему дали говорить три часа, он сказал все, что мог. Потом вынесли ему приговор: десять лет заключения в лагере. Свободу вернуло ему заступничество польского правительства и амнистия. Что же он делает теперь среди защитников лагерной системы?».
«То же, что он делал на советском суде», - сказал доктор Фальк: «продолжает свое служение „социальной революции“. Он и подобные ему выражают слепое и жалкое, беспомощное и трогательное стремление нашего народа к человечности и добру на земле. И однако, именно эти люди вас задушат своей инертной массой. Не думайте, что только они одни преградят вам дорогу».
«Я знаю», - ответил я, - «против меня будет заячий страх маленького человека, стадный страх, коллективная трусость, прикрывающаяся фразами об „ответветственности“, смирение осужденных вечно идти в чужом поводу, ужас перед тем, что еще может случиться, и что, если случиться, то именно по причине этого их страха. - И мещанское самодовольство, фальшивая идиллия других, при жизни воздвигающих себе памятники, постаменты с золотыми надписями, занятых только своим партийным хозяйством»...
«И чтоб не сводить всего к чужой слабости», - сказал доктор Фальк, - «прибавьте: напор жизни, которая идет своим путем, глухая к чужому горю. Не легко перекричать уличный шум. Для этого, в наш машинный век, недостаточно человеческого голоса. Возможно, что через несколько лет то, что вам теперь представляется важным, потеряет для вас самих значение, и вы откажетесь от попыток перекричать жизнь. Возможно, что вы забудете о сегодняшнем дне также, - о долгом сентябрьском дне, который вы провели на море, в пути, в дороге из одного средиземного порта в другой... Ваши воспоминания поблекнут, ваши мысли изменятся. Вы убедитесь, что есть зло в том, что вам кажется добром, и немалая мера добра в том, что вы ненавидите сегодня...».
Но я уже не слушал его. Темное предчувствие беды овладело мною. «Мой товарищ умрет в неволе», подумал я: «он слишком далек от них». Мигая, сверкая, ровно шумя, лежали кругом морские пространства, переливались, струились, журчали, платиновый блеск переходил в матовое серебро, серебро уступало темной лазури, лазурь переходила в празелень, празелень в сталь, и глазам не на чем было задержаться, глазам было скользко в потопе света без твердых очертаний м малейшей тени в безоблачном небе.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ Ю. Б. МАРГОЛИН. НА ЗАПАДЕ
Ю. Б. Марголин на Западе
Статьи и обращения 1946-1954
1946-1. Ю. Б. Марголин «Дело Бергера» (Открытое письмо)
Между осенью 1939 и летом 1946 года, без малого 7 лет, прожил я Советском Союзе.
Из них - первый год - на территории оккупированной Польши. Там я был свидетелем процесса советизации завоеванной страны. Я видел, как делается «плебисцит», как население приводится в состояние «энтузиазма» и «советского патриотизма».
Следующие пять лет я провел на советской каторге, в т. н. «исправительно-трудовых лагерях». Там я понял секрет устойчивости и силы советского строя.
Последний год, как уже вольный и легализованный советский гражданин, я провел в маленьком городке Алтайского края, принимая участие в серой, повседневной трудовой жизни советских людей.
Думаю, что я имею право говорить и судить об этой стране. Толстой сказал, что «никто не знает, что такое государство, кто не сидел в тюрьме». Этот анархистский афоризм, во всяком случае, справедлив по отношению к Советскому Союзу.
До осени 1939 года я занимал по отношению к СССР позицию «благожелательного нейтралитета». Это характерная позиция прогрессивной и радикальной европейской интеллигенции.
«Конечно, говоришь себе, для нас в Европе это не годится. Но все же это строй, который, по-видимому соответствует желаниям русского народа, Их дело, их добрая воля. Для нас, европейцев, он имеет цену великого социального эксперимента, и мы все можем научиться в Советском Союзе многим важным и нужным для нас вещам. Например, решение национального вопроса. Например, планирование хозяйства, Например, новое лицо женщины. Пусть их живут, пусть работают на здоровье. Пожелаем им успеха».
Это была моя позиция до 1939 года. Читая предвоенную эмигрантскую русскую прессу, я не мог отделаться от неприятного чувства и благословлял судьбу, что я свободен от узости и мелочных придирок - и могу относиться к советской действительности с должным объективизмом. Резкие антисоветские выступления, как «реакционные», вызывали во мне брезгливость. В моей книге «Идея Сионизма», вышедшей перед войной, нет и следа враждебности к Советскому Союзу.
Прожитые тяжелые годы не отразились на объективизме моей мысли. Я перестал бы быть самим собой, если бы потерял способность спокойно и всесторонне анализировать факты, учитывая все «про» и «контра». Бесполезно говорить мне о достижениях и заслугах Советского Союза. Я знаю все, что может быть сказано в его пользу.
Семь минувших лет сделали из меня убежденного и страстного врага советского строя. Я ненавижу этот строй всеми силами своего сердца и всей энергией своей мысли. Все, что я видел там, наполнило меня ужасом и отвращением на всю жизнь. Каждый, кто был там и видел то, что я видел, поймет меня. Я считаю, что борьба с рабовладельческим, террористическим и бесчеловечным режимом, который там существует, составляет первую обязанность каждого честного человека во всем мире. Терпимость или поддержка этого мирового позора людьми, которые сами находятся по другую сторону советской границы, в нормальных европейских условиях - недопустима, И я счастлив, что нахожусь в условиях, когда смогу без страха и открыто сказать все, что я знаю и думаю об этом режиме.
Я пишу эти строки на палубе корабля, который несет меня к берегам отчизны. Мое возвращение к жизни - чудо, настоящее воскресение из мертвых. О чем может думать человек, вышедший из гроба, из преисподней? Синева Средиземного моря, яркий блеск солнца опьяняют меня, наполняют невыразимым счастьем. Следовало бы сосредоточиться, вернуться мыслью в прошлое и попытаться начать серьезный и систематический рассказ о прошлом. Но эта задача требует слишком много времени. Для того, чтобы собрать в одно целое, оформитъ опыт и материал этих лет, нужны долгие годы. А время не ждет. Есть вещи, которые должны быть сказаны немедленно, не откладывая ни на минуту. Я не могу позволить ceбе отложить их - не смею: это было бы преступлением по отношению к те, кто кричит через меня смертным криком отчаяния.
Я знаю, мои силы слишком слабы для этой задачи. Чтобы писать про советский ад, нужна сила Данте и Достоевского в соединении с полнотой диккенсовского реализма. Но судьба вложила в мои руки перо, и я до тех пор не положу его, пока не исчерпаю всего, что имею сказать. Литературных амбиций у меня нет. Мое дело - сказать правду, которую столько людей не смеют, не хотят, не умеют или просто боятся сказать. И я пишу с чувством человека, которому остался только о д и н д е н ь жизни - и в этот день ему надо успеть сказать самое неотложное, самое важное! - и как можно скорее, потому что завтра уже может быть поздно.
В лагерях Советского Союза погибают миллионы людей.
Россия разделена на две части:
Oдна - «нa воле» - доступная лицезрению иностранцев, поскольку их вообще допускают ездить по стране, с показными секторами, с московским метро, с блестящими фасадами и грязными дворами, которые все же в принципе доступны для случайных посетителей.
Другая Россия - «Россия ╧ 2», за колючей проволокой - это тысячи, бесконечные тысячи лагерей, мест принудительного труда, где живут миллионы заключенных.
Лишенные гражданства, эти люди исключены из советского общества и являются в точном смысле этого слова государственными рабами. По отбытии срока до 10 лет (за последнее время введена категория «каторжан» со сроками в 15 и 20 лет), людей сплошь и рядом переводят в положение ссыльно-поселенцев, не позволяя вернуться домой и часто оставляя на том же месте, где они отбывали наказание. Миллионами рабов колонизируются далекие окраины сов. севера. Но вообще нет в огромной стране такого угла, где бы среди городов и селений нормального типа не находились огражденные высоким частоколом лагеря с их характерными вышками по 4 углам - для часовых.
Это Россия ╧ 2 - огромная помойная яма, гигантская свалка, куда выбрасываются, в случае надобности, целые группы и слои населения. Эта «невидимая» Россия - настоящая преисподняя, выдумка дьявола, организованная по последнему слову полицейской техники. Трудно сказать, сколько людей находится там. Самые фантастические цифры назывались мне заключенными. Думаю, что в определенные годы там бывало 10-15 миллионов. За годы войны вымерла значительная часть. Теперь туда направляются новые полчища. Писать о них или громко говорить - нельзя. Советская литература стыдливо молчит о них. Иностранные журналисты в свое время находили доступ даже в гитлеровские «кацемы», но в советские не был допущен никогда никто - и журналисты, свои или чужие, никогда не бывали в них иначе, как на положении заключенных. И этим объясняется, что вплоть до войны общественное, мнение мира ничего, ровным счетом ничего определенного не знало о них. Ужас и тайна, которыми окружены лагеря в самом Советском Союзе - неописуемы. Как в сказке о Бабе-Яге - люди, с которыми вы сегодня разговариваете, завтра исчезают. Баба Яга их съела. Больше не следует ими интересоваться. Если они вам напишут, не ищите в их письме ничего, что бы вам дало представление об их жизни. Там будет просьба о посылке и уверение, что здоровы. Эти люди вычеркнуты из книги жизни, жены их возьмут развод, а дети - если комсомольцы - не напишут ни слова.
Советская страна - единственная в мире, где люди живут под вечной угрозой, как под дулом наведенного револьвера. В одних только лагерях ББК (Балтийско-Беломорского канала), где я провел свой первый каторжный год, было около 500,000 человек, - и 50,000 поляков, которые были туда присланы, без труда растворились в общей массе. Вся Россия, как чудовищной сыпью, покрыта лагерями, - и безмерный цинизм власти, прекрасно отдающей себе отчет в том, что она творит, выражается в том, что эти лагеря герметически и наглухо закрыты для посетителей из Европы.
И это давало возможность продажным мерзавцам из советской культурной элиты до войны отрицать само существование этой невероятной, не имеющей прецедента в мировой истории, системы. Я. прошедший сквозь строй советских лагерей по своем освобождении держал в руках офиициальный курс «Политической экономии» - коллективный трудуд, изданный в Москве под редакцией профессора Кофмана, еще один из мерзавцев с профессорским званием называл утверждение о наличии рабского труда в СССР - «буржуазной клеветой».
Сказать, что все эти миллионы заключенных провинились перед советской властью, было бы дикостью. Какими преступниками были те полмиллиона поляков (в большинстве пльских евреев), которых послали в лагеря летом 1940 года? Режим, который для своего укрепления и спокойствия не задумывается в качестве постоянной меры держать в состоянии рабства миллионы своих граждан, который беспрерывно вырезывает куски мяса из живого организма несчастнейшегo в мире народа, который беспрерывно просеивает население через дырявое сито НКВД, без суда и без толку, без жалости, со всем бездушным изуверством темных и пуганных людей (потому что аппарат НКВД на местах в свою очередь действует под террором и страхом) - такой режим является самым чудовищным явлением, какое только знает наша современность.
Этим господам везет, потому что в данный момент внимание всего мира отвлечено раскрывшейся картиной гитлеровских зверств По сравнению с фабриками смерти в Освенциме и Майданеке, понятно, советские лагеря могут сойти высшее проявление гуманности. Людей посылали туда не на смерть, а на работы, и если они умирали массово, то это тогда признавалось нежелательной утечкой рабочей силы. Евреи, которые прошли ужасы польского гетто, справедливо считают нас, советских заключенных, за счастливчиков. Но что cказать о людях которые хотели бы видеть оправание советской системы в том, что у Гитлера было еще же? Этим людям надо сказать, что гитлеризм уничтожен, а советские лагеря продолжают существовать. Нет больше гетто и крематориев, а те лагеря, где я оставил лучшие годы своей жизни, по-прежнему забиты народом, и на той самой наре, где я лежал, остался лежать мой товарищ. За время своего существования советские лагеря поглотили больше жертв, чем все гитлеровские и не-гитлеровские лагеря, взятые вместе - и эта машина смерти продолжает работать полным ходом.
Людей, которые в ответ на это пожимают плечами и отговриваются нечего не значащими словами, я считаю моральными соучастниками преступления и пособниками бандитов.
Эти несколько слов о «России ╧ 2», - о «России за колючей проволокой» - только вступление. О лагерях надо писать отдельно. Здесь я хочу сказать о том, что мне представляется в данный момент самым важным и неотложным. Это то, что я называю - «Делом Бергера». Еврейский народ - еврейское национальное движение не может вести борьбу с режимом советского террора. Не в нашей власти разрушить тысячи мрачных гнезд, рассадников гнета и разврата. Это может сделать только сам русский народ, в будущее которого я верю. Но есть одно, что касается нас непосредственно, есть нечто, что лежит на нашей ответственности и на нашей совести как камень: это вопрос о наших братьях, которые попали в эту волчью яму и не могут выбраться оттуда. Никто им не поможет, кроме нас. А им мы обязаны помочь.
В советских лагерях, тюрьмах и ссылках вымерло целое поколение сионистов. Мы никогда не умели придти им на помощь, и не только потому, что это было трудно, а прежде всего потому, что мы потеряли с ними всякий душевный и сердечный контакт. Мы ими не интересовались. Я не помню за годы перед войной ни статей на эту тему, ни малейшей попытки мобилизовать общественное мнение и добиться облегчения их участи. Здесь была показана тa преступная пассивность и оцепенение, которые потом так страшно выявились, когда задымили печи Освиецима, и польское еврейство пошло на смерть, а мировые центры еврейских организаций «не знали», «не верили», и потому не сделали даже того, что можно было сделать. Одним из моих потрясающих переживаний в советском «подземном царстве» была встреча с людьми, которых похоронили заживо не за что иное, как за сионизм их молодости. Теперь передо мной стояли старые, сломленные люди, без надежды и веры. Они просили меня передать поклон родному народу и родной стране, как святым призракам, которые уже никогда не станут для них действительностью. И еще они просили меня, они - люди с большими заслугами, люди, которых должны еще помнить их товарищи по стране, - просили о том, чтобы я не называл в печати их имен, потому что это может иметь роковые последствия для них и их детей - для их семей, живущих на воле - на советской «воле». Я молчу. Но есть имена, которые я назову без колебаний, потому что они являются общим достоянием, и не мне, а другим давно уже следовало поставить о них вопрос.
В Советской России внезапно «исчез» М. Кульбак, еврейский поэт блестящего таланта, украшение нашей литературы. Кульбак не был сионистом. Он был другом Советского Союза и поехал туда, чтобы жить и работать на «родине всех трудящихся». Там он написал две значительные вещи: повесть: «Мессия бен Эфраим» и роман «Зелменианер». Кульбак имел о коммунизме то представление, что и другие наши наивные дурачки, живущие в мире восторженной фантазии. Но он имел неосторожность поселиться не в Париже, а в Москве. Теперь его имя находится на индексе, его произведения изъяты, а он сам «погиб без вести», т. е. в одном из лагерей ведет существование рабочей скотины. Я думаю, что самое тяжелое и страшное в этом - это абсолютное равнодушие еврейского народа, для которого жил и писал этот человек. Кто интересуется его судьбой? Понимает ли еврейская общественность, еврейская литературная среда свой долг по отношению к этому человеку? - Представим себе, что таким образом ликвидировали бы в Советском Союзе какого-нибудь видного французского поэта. Какую бурю это вызвало бы во Франции, во всем мире. Но мы молчим, тогда как трагедия Кульбака, у которого вырвали перо из рук в расцвете его творческих сил, - это не только позор человечества, это наша трагедия, в первую очередь.
Каждый литовский еврей и каждый сионист знает имя доктора Веньямина Бергера, до войны председателя сионистской организации в Литве.
Я склоняю свою голову перед этим человеком, который спас мне жизнь, вырвал из когтей самой подлой и унизительной смерти - от голодного истощения. В котласском лагере, где мы встретились, он медленно и терпеливо поставил меня на ноги - в буквальном смысле этого слова. Я не знаю людей прекраснее, благороднее и чище этого человека. На его серебряных сединах, в утомленных умных глазах этого много видевшего человека - почиет «Шехина» Божия, печать высокой человечности. Вся жизнь д-ра Бергера - а ему сейчас 66 лет - полна чистого служения людям, науке, своему народу. Нет в мире никого, кому бы д-р Бергер причинил зло. Зато много людей обязаны ему жизнью, как я. Д-р Бергер не пропустил ни одной возможности помочь страдающему, и на каторге, куда забросила его судьба, он остается живым центром тепла и ласки, внимания, моральной поддержки и отцовской заботы для всех несчастных, униженных и раздавленных людей, которые вот уже 6 лет составляют его единственное окружение.
Есть что-то дикое и противоестественное в том, что люди, подобные д-ру Бергеру, т. е. очевидные праведники и герои активного человеколюбия квалифицируются в советской стране как «анти-социальный элемент», как преступники.
Д-р Бергер был по занятии Литвы в 1941 году арестован и вывезен. За принадлежность к такой грозной контрреволюционной организации, как сионисты, группа «В» он получил 10 лет. Для человека с его здоровьем (тяжелая сердечная болезнь) 10 лет равняются приговору к смерти.
Перед кем провинился д-р Бергер? Перед русским народом? Перед литовским рабочим классом?
То, что происходит с д-ром Бергером, это, прежде вceгo, бессмыслица. Этот человек гибнет ни за что.
А надо ли объяснять, что он не один, и не в нем одном дело? Мои друзья, сионисты, люди, чистые, как кристал, крепкие, как сталь - во цвете лет и сил - вырваны из жизни, как цветы из земли. Их молодые годы пожирает злой рок - жизнь их уходит безвозвратно. Где-то плачут по ним матери, жены, дети. Так плакали и по мне мои близкие, не зная, где я, не имея сил помочь мне. «Дело Бергера» - это дело всех наших людей, евреев, которые отдали свою жизнь сионизму и, живя в Польше, Литце, Прибалтике, до войны ничего общего не имели с Советским Союзом. Теперь они рассматриваются как «советские граждане» - и советская страна не находит для них другого применения, как обращение в рабство.
Дело не в Бергере и его товарищах. Подумаем: дело в нас самих.
Горе такому обществу, которое теряет способность живо и сильно реагировать на вопиющую несправедливость и бороться со злом. Такое общество - моральный труп, а где показываются первые признаки морального разложения, там и политический упадок не заставит себя долго ждать.
«Помочь Бергеру» значит «помочь самим себе»
Чего вы, сионисты, боитесь? - Или вы думаете, что у вас есть более важные дела, чем судьба ваших товарищей и достоинство вашего сионизма?
Открытым и смелым выступлением вы не повредите своим товарищам, напротив. Ухудшить их положения уже ничем нельзя. Но если советская власть будет знать, что на судьбу этих людей обращено внимание всего мира - она примет меры, хотя бы к тому, чтобы они содержались в более приличных условиях.
Тем, что вы отвернетесь от них, вы как бы скажете их тюремщикам: «можете с ними делать, что хотите. С нашей стороны вам беспокойства не будет».|
Ведь речь идет о мировом скандале и это надо сказать во всеуслышание. Здесь не может быть места для неясностей и полутеней. Перемена к лучшему никогда не наступит, как награда за наше «примерное поведение» Эти люди убивают наших братьев. А мы молчим.
Допустим, что во время общей борьбы с Гитлером было невозможно возбуждать этот вопрос. Но теперь война кончена Больше откладывать нельзя!
1946-2. Ю.Б. Марголин. «Обращение к руководителям еврейской общественности» 20 ноября 1946 года:
«М. Г.
Вернувшись из Советской России, где я провел в т.н. „исправительно-трудовых“ лагерях 5 лет (1940-45), считаю своим долгом обратиться к Вам от имени людей, доведенных до отчаяния и ожидающих немедленной помощи от Сионистского Движения. Этим письмом я исполняю обещание, данное заключенным - рассказать о них руководителям еврейской общественности.
В лагерях до сих пор находится ряд русских сионистов старшего поколения. Кроме того, в связи с войной в 1940-41г. были произведены аресты сионистов на занятых территориях Западной Белоруссии, Украины, Литвы, Прибалтики и среди польских беженцев. Люди эти до сих пор остаются в советских лагерях. Их обвинение в контр-революции (оно не имело другого основания, кроме их принадлежности к сионистскому движению указанных стран).
В качестве примера приведу судьбу председателя Сионистской Организации Литвы, известного сионистского деятеля д-ра Беньямина Бергера, который в ? году был арестован, вывезен и водворен в концентрационный лагерь сроком на 10 лет. Он находится сейчас в Архангельской области, в лагере около Котласа.
Следует также указать на судьбу известного еврейского поэта М. Кульбака, не-сиониста, который переехал в Россию еще до войны. Неизвестно, что произошло с ним, но произведения его находятся „на индексе“, т.е., запрещены в Советском Союзе, а сам он пропал без вести, что означает заключение в лагерь.
Я передаю Вам крик о помощи людей, ожидающих, что органы, представляющие еврейский народ, придут им в помощь, ходатайствуя перед Советским Правительством об их освобождении и разрешении выезда заграницу. „Сохнут“ в первую очередь, как репрезентация Еврейского Народа, не может уклониться от предпринятия шагов в защиту евреев - как тех, которые до войны 1939 года не были советскими гражданами, как и тех, которые пострадали за свою сионистскую деятельность, и тех, которые до сих пор сохранили чувство связи с Еврейской Палестиной и хотели бы туда переехать.
Для находящихся в лагерях это вопрос жизни или смерти, т.к. никакая другая сила не может прийти им на помощь.
Единственно целесообразной формой является обращение - совершенно официальное, гласное и поддержанное мировой еврейской прессой - „Сохнут“ к Советскому правительству с предложением рассмотреть вопрос об этих евреях.
Я прошу через Ваше посредство Центральные Органы сионистской общественности взять это дело в свои руки и подчеркиваю, что желательна дружеская и приязненная интервенция со стороны „Сохнут“ пред Советским правительством. Такая интервенция устранила бы одновременно сомнения и в еврейском общественном мнении, что Сионистская Организация не действует в этом вопросе с надлежащей энергией.
Нельзя терять времени, т.к. силы людей, находящихся в заключении долгие годы, приходят к концу.
С полным уважением»
В верхней части перепечатанного на машинке черновика этого обращения рукой Марголина написаны имена адресатов: Гринбергу, Чертоку-Шарету, Натьяну?, Ремезу, Бен Цви, Грабовский А, Аронович Арон, Шпринцак
В конце машинописного текста также имеется приписка от руки: На это письмо никто из адресатов не счел нужным ответить.
1948-1. «Личная декларация» Ю. Б. Марголина по поводу расстрела «Альталены» Газета «Машкиф» (на иврите), 1948, 23 июня
Кровь, пролитая в Нетании, стала непроходимой границей между нами и теми, кто несет ответственность за это преступление - они называют себя временным правительством.
Я не выбирал это правительство, никто не выбирал его. И если оно временное, то время его миновало.
Я не уполномочен говорить от имени других и высказываюсь от своего имени.
Суть дела известна каждому члену ишува. Я не выясняю и не дискутирую в марте 1948 в моей статье, которая напечатана в «ХаМашкиф» #2750. Я писал:
«В течение всего времени наши руководители не давали нам надежды. Если руководитель - Бен-Гурион, нет надежды. Для ишува, чей моральный дух в руках сектантских раскольников, нет будущего и нет настоящего».
Сегодня, более, чем в любое другое время, мне ясно, что стоящие у власти, ведут нас к гибели. Бесполезно требовать их отставки: они не сделают это по собственному желанию. Перед проведением выборов произойдет катастрофа.
С ними все решено - так ясно сказано в заявлении канцелярии по информации правительства Израиля - ДЕРЖАТЬ, СДЕРЖИВАТЬ все, что не соответствует их духу.
ДЕРЖАТЬ - вот их лозунг. В создавшемся положении я прихожу к единственному логическому выводу. После того, как я прочел заявление канцелярии по информации временного правительства Израиля, я установил, что существует подозрение в предательстве и лжи со стороны членов временного правительства.
Пока не отпадет это подозрение, я отказываюсь считать это правительство своим. Никто не может заставить меня повиноваться людям, чьи руки обагрены братской кровью, и в отношении которых существует обоснованное сомнение в том, что они приносят пользу еврейскому народу.
Отдавая себе в этом отчет, они сознательно вводят в заблуждение общественное мнение в нашей стране и во всем мире.
Приказы, законы и сообщения этого правительства для меня уже не обязательны. То, что они сделали в Натании, это даже не «нож в спину» нашим сыновьям, это пули в их сердца.
В моих глазах эти люди не могут быть представителями народа
1948-2. Ю. Б. Марголин Личное письмо по поводу расстрела «Альталены» Газета «Машкиф» (на иврите), 23 июня 1948 г
«Морально мы проиграли еврейское государство»
Дорогой Яша,
После напряжения последних дней можно, кажется, перевести дух. У нас творятся дикие вещи. Убито 27 евреев. Ставский, с которым я виделся летом 1946 года в В-Се - истек кровью без врачебной помощи на горящем корабле в нескольких метрах от берега. Люди Пальмаха бросили гранату в окно «Mezudat Zeev» и убили человека. По улицам вели евреев с поднятыми руками, как в гитлеровской Польше. Мы ждем Варфоломеевской ночи, и я еще не уверен, что тут будет.
Не ново, что пишут у вас газеты, но могу сказать одно: Бегин прав и чист, его спровоцировали нагло по соображениям внутренней политики. Отсюда видно, что у власти стоит у нас банда. [Написано сбоку]
Ну их к чортовой матери! Одна из самых потрясающих минут моей жизни была, когда я стоял на берегу в 50 метрах от корабля - Rhov Frishmann - и видел, как снаряд за снарядом бил в борт! Как корабль загорелся: на нем были сотни людей, женщины, Бегин со своим штабом, моряки. На нем был груз «T.N.T» - динамита - достаточно, чтобы взорвать все побережье, если бы попал снаряд. Они стреляли в склад динамита!! На этом корабле находился мой сын, но в ту минуту я не знал этого. Иначе я бы, пожалуй, сделал что-нибудь безумное.
Они стреляли из пушки по моему сыну - который в течение первого месяца войны на фронте дважды был лицом к смерти - за них, за их нечистую власть.
На следующий день я опубликовал в «Машкифе» не статью, а личную декларацию, которая была напечатана на первом месте. Этих статей я не могу тебе послать, это слишком длинно. В общем, я их покрыл неистовым матом, как никто другой. Слава Богу, право голоса у меня не отнять, и голос у меня есть. Одна статья называлась «Operacion „Ахе“». Вторая «В городе резни», по Бялику. Что же касается «Операции», то она короткая, и я тебе ее перепишу.
Милый Яша,
у меня пламенное желание, как только кончится война - уехать отсюда. Я думаю, что не уживусь с этими людьми, и здорово мне будет пожить некоторое время издали. Я также уберу отсюда Эфраима, если будем живы. Ему предлагают ехать в Китай, учителем в Мукден и организатором на месте, и он уже дал свое принципиальное согласие. Немножко он молод для этого, но я уверен, что здесь его сгноят и сживут со света.
Таков климат нашей Палестины. Морально мы проиграли евр. Г-во. Впечатление объективно наблюдается одно: отвращение.
Я получил твою телеграмму насчет 250 долларов, но не понял, что значит «Balance Srut». Деньги эти в данный момент очень нужны. Напечатание отрывка в «Look» м.б., облегчит получение визы впоследствии?
Если бы я имел какую-нибудь мизерную зацепку в N.Y. - я бы хоть на время для пробы перетянул туда Вусю. Мы здесь все живем в слишком грубой атмосфере, Вусе надо хоть на несколько месяцев успокоиться и подышать другим воздухом, без преследований, арестов, злобы, лжи и кровопролития
1951-1. Ю. Б. Марголин «Парижский отчет»
Я был вызван как свидетель на процесс Давида Руссэ против коммунистического журнала «Леттр Франсез», который происходил в Париже между 25 ноября 1950 и 6 января 1951 года.
Прежде всего - кто такой Давид Руссэ?
Давиду Руссэ было в 1950 году 38 лет. Этот покусившийся на Голиафа Давид - не еврей, в 1939 году это был молодой человек, активный антифашист. Во время оккупации Франции он участвовал в подпольном движении и помог организовать в Бресте две группы немецких солдат ан-тинаци. Гестапо напало на след этой организация, в результате чего было расстреляно 30 немецких солдат, а Руссэ был арестован и вместе с другими французами выслан в концлагерь в Германии.
Он был арестован 16 октября 1943 года и вернулся в Париж, тяжело больной, в мае 1945 года. Около года он работал в соляных рудниках у немцев, был в Бухенвальде. В 1946 году вышла его книга «L'Univers Concentrationaire»/«концентрационный Универсум»), за которую он получил премию Ренодо. В 1947 году вышел его роман «Les jours de noble mort» («Дни нашей смерти»). Обе эти книги знамениты во Франции и дают классическое изображение лагерной системы. В 1948 году вышла книжка «Lе Pitre ne rit pas» («Клоун не смеется») - это выбор официальных нацистских текстов. В 1949 году Руссэ вместе с Жан-Поль Сартром и Жераром Розенталь издал «Разговоры о политике», из которых вытекает, что он стоит на позиция между коммунизмом и социализмом леон-блюмовского толка. Это не человек партийный, но левой ориентации, для которого даже Леон Блюм был слишком умеренным политиком. Нет никаких оснований называть его троцкистом.
Давид Руссэ посвятил себя борьбе с системой концлагерей. По его словам, таи, где существуют лагеря, каковы бы ни были экономические и политические усдовия в данной стране - нет будущего для человека. Летом 1949 года английское правительство опубликовало советский Кодекс Исправительного труда. Эта публикация и ряд книг, которые появились о советских лагерях в последнее время, убедили Руссэ в том, что «концентрационный мир», уничтоженный в Германии, продолжает существовать в СССР. В ноябре 1949 года Руссэ опубликовал в «Фигаро Литтэрер» свое воззвание к организациям участников подпольной борьбы с немцами, депортированных в нацистские лагеря, т.е. к своим товарищам. Месяц раньше тот же «Фигаро» напечатал серию выдержек из моей книги о лагерях «La Condition Inhumaine», которая кончалась призывом к мировому общественному мнению реагировать на то, что происходит в советских лагерях. (Таким образом была связь между моим аппелем и выступлением Руссэ). Однако Руссэ выступил с совершенно конкретным предложением.
Идея Руссэ заключалась в том, что люди, которые пережили гитлеровские лагеря, не могут примириться с тем, чтобы нечто похожее продолжало существовать в мире. Никто не может обвинить активных антифашистов в том, что они реакционеры, а с другой стороны, те, кто был в ненецких лагерях, являются специалистами и экспертами, которые имеют единственную в мире квалификацию, чтобы произвести расследование и установить правду о советских лагерях, Пусть организации бывш. депортированных выберут комиссию, обратятся к советскому правительству и, с его согласия, обследуют лагеря в России.
Какой отклик имело выступление Руссэ?
На первую пресс-конференцию, которую Руссэ созвал в Париже, явилось полтораста журналистов. Руссэ - блестящий оратор, прекрасный журналист и показал себя также незаурядным пропагандистом. В течение полугода не менее 2000 статей о предложении Руссэ появилось во французской прессе Франции, Бельгии и Швейцарии. Руссэ удалось привлечь на свою сторону или по крайней мере смутить, разбудить совесть ряда просоветских деятелей. Ему сделали упрек: почему он говорит только о Сов. Союзе? А у Франко, или Тито, или в Греции разве все в порядке? Руссэ отпарировал этот упрек, распространив деятельность своей Комиссии на все страны, по отношению к которым имеются жалобы или подозрения в наличии там лагерей.
Предложение Pуccэ привело к расколу во французских и немецких организациях депортированных анти-наци. Коммунисты, очевидно, резко воспротивились проекту международной Комиссии Обследования лагерей. Коммунистическая теза заключается в том, что можно и следует добиваться права контроля того, что происходит в не-советских странах, но по отношению к Сов.Союзу сама идея контроля или проверки является оскорблением величества; тут надо полагаться целиком на официальные объяснения сов. правительства. Люди, которые провели годы в советском заключении и рассказывают ужасы - враги советского правительства и как таковые не заслуживают доверия.
В Бельгии коммунисты не вышли из организации бывш. политических заключенных,но остались в меньшинстве и потеряли командные посты.
В июле 1950 года, кроме Франции, пять стран ответили на призыв Д. Руссэ: Германия, Бельгия, Республ. Испания, Голландия и Норвегия. В каждой из этих стран решающее большинство бывш. политических заключенных в нацистских лагерях поддержало Руссэ. Их организации выбрали национальные комиссии, куда вошли представители всех партий и течений, кроме коммунистов, которым было предложено участвовать, но которые отказались. Во французскую Комиссию входят люди, начиная от Мартен-Шоффье известного писателя Резистанс и сторонника Тито, и кончая Мишле, бывш. министром и голлистом. Между этими двумя крайностями представлены все оттенки французской политической мысли. В Бельгии входят в комиссию представители католиков и социалистов. Все участники имеют опыт заключения в лагерях наци и могут считаться экспертами.
В июле 1950 года состоялась в Гааге первая интернациональная конференция комиссий из шести стран, где было решено выбрать интернациональную комиссии борьбы с концлагерями. Среди приветствий, которые были получены в Гааге, находилось, как единственный отклик из Израиля, приветствие от редакции журнала «ХаМаарав» («Запад»), посланное по моей инициативе. К сожалению, я никого больше не мог заинтересовать в Израиле попыткой Руссэ. В 1950 году там было больше открытых защитников советских лагерей, чем людей, имевших смелость открыто выступить против них.
В октябре 1950 года новая конференция в Брюсселе выработала текст Манифеста Интернациональной Комиссии и ее статут.
В ноябре Интернациональная Комиссия для борьбы с концлагерями обратилась к ОН с двойной просьбой; поставить вопрос о принудительном труде в лагерях на ближайшей сессии Об. Наций - и признать Интернациональную Комиссию, как одну из неправительственных организаций, допущенных к выступлениям в Экономическом и Социальном Совете при ООН. Одновременно было решено обратиться к правительствам испанскому, греческому, советскому и югославянскому с письмом, текст которого еще не может быть оглашен по соображениям вежливости. Мне, однако, известно, что два правительства уже ответили на это письмо положительно.
В ноябре было принято решение, что если советское правительство ответит отказом или не ответит вообще на просьбу интернациональной Комиссии Расследования, последняя соберется в Брюсселе в начале 1951 года и произведет расследование советских лагерей на основании всего материала, которым она будет располагать до того времени. очевидно есть полная возможность произвести такое расследование и дать объективную оценку лагерем на основании документов и показаний бывш. заключенных. В одном Израиле число людей прошедших через советские лагеря измеряется сотнями, а во всем мире - десятками тысяч.
Интернациональная Комиссия, созданная Руссэ представляет собой юридическую инновацию. Если удастся добиться ее аккредитации при ООН, будет создано учреждение особого типа, демократически выбранное и обладающее моральным авторитетом, для контроля преступлений против человечества Нет сомнения, что такая институция необходима в наши времена. Есть много уважаемых и заслуженных пред человечеством лиц, которые, казалось бы, призваны в первую очередь протестовать против кошмарных преступлений, где бы они не происходили. Но почему-то они не проявляют интереса и инициативы, когда речь идет о концентрационных лагерях. В Израиле, по крайней мере, мне такие люди неизвестны. Давид Руссэ выполнил заповедь: «В месте, где нет человека - будь ты человеком».
Но в наше время опасно быть человеком. Руссэ затронул Советский Союз. Он подвергся жестокой aтаке. Во что бы то ни стало необходимо было разрушить его моральный авторитет. Кто смеет требовать международного контроля советских секретов? Несколько дней после появления в «Фигаро» воззвания Руссэ коммунистический журнал «Леттр Франсээ» выступил с громовой атакой против Руссэ. Это тот самый журнал, который был уже раз приговорен за диффамацию в знаменитом процессе Кравченко. Пьер Дэкс, шеф-редактор журнала, сам бывший заключенный в Маутхаузене, обвинил Руссэ в том, что он подделал тексты советского права и в том, что он воспользовался фальшивками каких-то «неизвестных лиц», которые просто выдумали или переписали из книг о гитлеровскнх лагерях клевету на Сов. Союз. Он не только назвал Руссэ «бесчестным лжецом», но и выступил с горячей защитой советских лагерей, куда, якобы, никого без суда не сажают, где людей перевоспитывают и учат быть свободными. Дэкс написал буквально: «Я благодарен Сов.Союзу за это великолепное предприятие... в советских лагерях перевоспитания достигнута полная ликвидация эксплоатации человека человеком», получилось, в общем, что гнилой Запад должен завидовать советскому народу, который заменил тюрьмы такими идеальными местами, и только была непонятна и умилительна скромность советской власти, которая вместо того, чтобы гордиться таким достижением и показывать его всем, спрятала его, как государственный секрет.
Но Пьер Дэкс не удовлетворился этим. Он пошел дальше и в последних строках своей статьи (которая, кстати, в Тель-Авиве продавалась в форме отдельного оттиска под названием «Почему Давид Руссэ выдумал концлагеря в СССР?») - привел как доказательство своей правоты то, что Руссэ, этот бесчестный лжец, не отвечает на обвинения! Дэкс просто пригласил Руссэ подать на него в суд... и Руссэ это сделал. В январе 1950 года он обвинил его в диффамации и дело было назначено к слушанию в ноябре того же года. Я получил приглашение выступить на суде свидетелем и ответил согласием. Я, проведший годы в советских лагерях, должен был свидетельствовать, что Руссэ не выдумал их, что он не солгал, утверждая, что туда посылают людей без вины и без суда, и что я не переписал свою книгу из литературы в нацистских лагерях.
Руссэ и его адвокаты имели 11 месяцев, чтобы подготовить процесс... Явившись в Париж 23 ноября, я думая, что найду там нечто вроде генерального штаба перед сражением: людей, которые введут меня во все подробности, поинтересуются тем, что я хочу сказать... Ничего подобного! Не знаю, все ли большие политические процессы так импровизируются, как этот, но в данном случае было поразительное отсутствие организации, настоящая французская беспечность, по крайней мере по отношению к свидетелям. Как свидетель, я не имел права видеться с адвокатами Руссэ. Жерара Розенталя а увидел в первый раз в зале суда, а с Тео Бернаром так и не познакомился. Никакого «делового» контакта не было у меня ни с ними, ни с самим Руссэ. Через два дня по приезде я пообедал с Руссэ в ресторане, познакомился, и мы говорили о самых разных вещах, но остается фактом, что когда я, спустя десять дней, выступил в суде, Руссэ и его адвокаты не имели понятия, о чем и как я буду говорить.
Другой пример: о том, что в руках одного из свидетелей Руссэ, Александра Вайсберга, физика и ученого, находится сенсационный документ, а именно, письмо к Сталину, подписанное знаменитым коммунистическим ученым Жолио-Кюри, где он ручался, что арестованный в России Вайсберг - преданный и верный коммунист, и его арест, наверное, недоразумение - о том, что Вайсберг имеет такое письмо, адвокаты Руссэ узнали за два часа перед его выступлением.
Руссэ оказался жовиальным и сангвиническим толстячком с необыкновенно выразительным лицом, звучным баском. Человек этот был полон энергии, как аккумулятор. Пребывание в немецких лагерях оказалось для него центральным переживанием жизни и борьба, которую он начал, не только соответствовала его темпераменту, но и удовлетворяла его потребности в интернациональной борьбе за право к справедливость. Руссэ хотел избежать подозрения, что он, как Кравченко, опирается на показания «реакционеров». Поэтому он очень заботливо выбрал своих свидетелей. Не только оба его адвоката были евреи, но и многие свидетели, так как евреев трудно обвинять в фашизме. Экипа свидетелей Руссэ состояла почти вся из активных социалистов или бывш. коммунистов. Кравченко на свой процесс не пустил монархистов. Руссэ пошел еще дальше. Коммунистам фактически нечего было сказать плохого о его свидетелях. Я, по-видимому, был самым «правым» на этом процессе. При встрече я спросил его, знает ли он, что я - не социалист. Руссэ ответил, что он это знает, но что я представляю собой «особый случай». При этой оказии отмечу, что парижская пресса, которая никак не могла понять, что я - «исключение», упорно называла меня «социалистом», и даже «польским социалистом». Мое опровержение не помогло. Я написал в статье для «Фигаро», что я не польский социалист, а сионист и либерал. Но редакция «Фигаро» зачеркнула последние два слова. Мой сионизм и либерализм ее не интересовал. Она напечатала только, что я не польский социалист. Результат был тот, что меня начали называть израильским социалистом.
Верно то, что я очень хорошо чувствовал себя в среде свидетелей Руссэ и со многими из них подружился. Это были люди, близкие мне по общечеловеческой установке. Правильно то, что в наше время демократический социализм, выдвигающий на первое место идеал свободы, и либерализм нового типа (который не надо смешивать с либерализмом 19 столетия) все более конвергируют и сближаются. - Я принял участие в процессе против лагерного бесчеловечия, потому что в моих глазах это был процесс боевого либерализма в борьбе против сталинского режима. Другие же боролись против того, что они считают искажением социализма.
Среди свидетелей Руссэ были:
КАМПЕСИНО - знаменитый испанский храбрец и герой войны с Франко, легендарный вождь республиканских «динамитерос», испанский «Чапаев». Когда этот человек прибыл в Россию после поражения республиканцев, там продавали спички с его портретом. Этот испанский мужик, человек без образования, но с фанатической верой в революцию, пережил в Сов. Союзе великое разочарование. В конце концов он потребовал, чтобы его выпустили в Европу. Вместо этого его отправили в тюрьму, в лагеря. Кампесино дважды бежал из СССР. Один раз ему удалось бежать из Баку в Тегеран, но НКВД привезло его оттуда обратно. Во второй раз он спасся от Сталина с невероятными приключениями. Кампесино был самой большой сенсацией процесса. Социалистический «Попюлер» печатал серию его статей о Сов.Союзе, которая подняла тираж газеты, но адрес его был скрыт от прессы, и он появился публично только на процессе.
ЕЖИ ГЛИКСМАН - брат Виктора Алтера, лидера «Бунда», расстрелянного большевиками вместе с Эрлихом в 1941 году, приехал из Чикаго. Гликсман - социалист и автор первой книги о сов. лагерях, которая появилась после войны в Америке: «Tell the West» («Расскажи Западу»). Он - адвокат по образованию, учился в Сорбонне и хорошо говорит по-французски.
Из Лондона приехал ВАЙСБЕРГ, бывш. коммунист, австрийский еврей по происхождению, профессор харьковского университета, ученый, которого НКВД обвинило в фантастических преступлениях.
Из Германии прибыли Маргарете БУБЕР-НЕЙМАН, автор книги «В плену у Гитлера и у Сталина» и г-жа ЛЕОНАРД, старая спартаковка, женщина, которая 12 лет провела в советских лагерях и тюрьмах. Несмотря на это, г-жа Леонард не потеряла веры в интернациональную революцию и социализм. По ее мнению Сталин изменил коммунизму, но она осталась ему верна. Я не спорил с этой женщиной, здоровье которой разрушила советская каторга, не коснувшись ее убеждении. Она согласилась участвовать в процессе Руссэ после того, как Руссэ обещал ей, что материал, который она даст, не пойдет на пользу «американскому империализму».
Двое поляков выступило на процессе: проф. ЗАМОРСКИЙ, автор книги «Советская юстиция» и художник ЧАДСКИЙ, социалист и автор воспоминаний «На нечеловеческой Земле». Книга эта большой силы переведена на французский язык. Проф. Заморский собрал 20000 анкет поляков из армии Андерса, которые прошли через советские концлагеря и на основании их показаний составил карту расположения лагерей в СССР. Эта карта была опубликована в 1945 году в Риме, после его занятия союзниками. Через американскую прессу эта карта дошла до Руссэ. Показание Заморского было важно, потому что коммунисты обвинили Руссэ в том, что его карта была составлена в Риме в 1941 году - при фашистах. Чтобы показать от кого подучил Заморский свои анкеты, был приглашен один из 20000: старый д-р БАНДРОВСКИЙ, 65 лет, проживающий теперь в Корнуэльсе. Седой и достойный доктор Бандровский произвел очень хорошее впечатление на суде. Оказалось, что я несколько месяцев находился с Банковским в одном лагере. Когда он подошел ко мне в кулуарах суда, я не сразу узнал его: тогда Бандровский показал мне рисунок, сделанный в лагере 10 лет тому назад, где он был нарисован с широкой седой бородой - и по этой бороде я узнал его сразу. Мы обнялись и расцеловались. Фотографы поспешили увековечить эту сцену встречи двух лагерников. Таким образом, Руссэ мог сослаться на Заморского, Заморский - на Бандровского, факт, что Бандровский сидел в лагере был подтвержден мной, - но кто мог французам поручиться за мой авторитет? - Моя книга, впечатление от которой во Франции было достаточно сильно; моим главным союзником и поручителем было мое перо.
При этой оказии я хочу сказать несколько слов о моем участии в процессе. Кроме моего выступления в качестве свидетеля, я за 7 недель пребывания в Париже говорил перед радио, напечатал 4 статьи в парижских газетах, в том числе «Открытое письмо Пьеру Дэксу», прочел реферат в Союзе Русских Евреев и встретился с группой французских писателей и журналистов, которым помог рассеять сомнения насчет существования концентрационного мира в СССР. Процесс Руссэ происходил не только перед судьями в «Пале де Жюстис», старинном дворце на острове в центре Парижа, но и перед судом общественного мнения во всем мире. Процесс в Палэ де Жюстис кончен. Но перед судом Истории он только начинается и не будет кончен, пока лагеря в той или иной форме существуют в мире.
Еще несколько свидетелей говорили на суде, и среди них простой русский колхозник по имени ШАРИКОВ. Адвокаты защиты задали ему два вопроса, на которые он ответил с большим юмором. Его спросили: «Почему он не возвращается после войны домой, в Сов. Союз?» Он ответил: «Видели ли вы когда-нибудъ корову, чтоб она добровольно шла на бойню?» - «А на чей счет ты приехал сюда на суд?» Он ответил: «Думаю, что на счет коммунистов: они покроют все судебные издержки!» Этот ответ вызвал взрыв смеха в зале. Шариков был прав: все свидетели приехали на счет коммунистов. Но в ожидании, когда они покроют судебные издержки, процесс со стороны Руссэ финансировала «La Force Ouvriere», т.е. социалистические профессиональные союзы Франции.
Самое сильное впечатление произвела на меня из свидетелей Руссэ маленъкая Эллинор ЛИППЕР - швейцарская еврейка, книга которой «11 лет на советской каторге» появилась по-немецки и французски. История Эллинор такова: ей было 27 лет, когда она поехала в Россию, как восторженная коммунистка, на родину всех трудящихся. Это было в 1937 году. Через 2 месяца ее арестовали в Москве, и только в 1948 году Эллинор вернулась в Швейцарию. 11 дет она провела в лагерях, по сравнению с которыми те, где я был, можно считать «санаторием»: в Колыме на берегах Охотского моря. То, что вынесла эта деликатная и хрупкая женщина, не подается описанию. Глаза ее видели ад на земле, многие не могли понять как она уцелела и спаслась. Но правда та, что бесчисленные девушки, как она, погибли в Колыме. Из ее партии в 600 человек выжило только 60.
Мы сидели за одним столом среди друзей в Париже. Глядя на Эллинор, которая в 38 лет выглядит, как тоненькая девочка, я сказал: «Не верьте, что она слабенькая - в этой девушке есть сильная пружинка!» Эллинор подошла ко мне и прежде, чем я успел опомниться, наклонилась, одной рукой взяла меня под колени, подняла на воздух мои 75 кило веса, как свечу, и так прошлась по комнате... Это был ответ на вопрос, почему она уцелела. В этой женщине поразило меня соединение девической прелести и внутренней крепости, сухости, закаленности, она была похожа на деревцо осенью, с которого облетели листья, но которое сохранило гибкость ветвей и упрямую силу жизни. В тот вечер Эллинор рассказала нам, как она рожала в лагере... Она не только сама вернулась в Европу, но и привезла с собой годовалую девочку, которая никогда в жизни не увидит своего отца, заключенного врача, с 13-летним сроком в Колыме. Она рассказала нам, как ее в последнем месяце беременности вместе с товаркой заперли в трюм арестантской баржи, где перевозили сотни одичалых лагерников, годами не видевших женщин... Ее спасла ее беременность, а судьбу ее товарки можно себе представить...
Такие люди собрались на процессе Давида Руссэ. Я назвал тех, которые выступили, но было много свидетелей, которые приехали в Париж и не появились на суде... Для них уже не хватило времени, и адвокаты Руссэ не использовали их. Назову из них только двух: ДАВИДА ДАЛЛИНА, известного социалиста, историка Советской России, и ГЕРМИНИЮ НАГЛЕР, польскую писательницу с большим именем. В общем, свидетели Руссэ были группой интеллектуалистов и авторов, из книг которых можно было бы составить целую библиотеку; людей с общественным стажем из разных стран, профессиональных революционеров и антифашистов. На суде раздавалась испанская, немецкая, польская, русская речь рядом с французской. Около ста журналистов представляли мировую прессу. Это был интернациональный процесс в полном смысле слова.
С другой стороны находились на скамье подсудимых два редактора «Леттр Франсез» под защитой двух знаменитых адвокатов-коммунистов, Въеннэ и Нордмана (последний - еврей). Однако не так просто было посадить на скамью подсудимых гг. Дэкса и Моргана. На первое заседание они не пришли. Тактика коммунистов заключалась в том, чтобы сорвать процесс, помешать его нормальному ходу, не допустить свидетелей Руссэ до голоса. Обвиняемые начали с того, что заявили отвод трибунала. За 10 минут до начала заседания Дэкс и Морган выразили в письменной форме недоверие судьям и потребовали их замены. Для суда это было неожиданностью. Началась полемика между юристами. Первое заседание было сорвано. Всего было в распоряжении суда 10 заседаний, по 2 в неделе. В течение первых четырех заседании зал суда был похож на сумасшедший дом. За каждым формальным предложением коммунистов, которое суд отбрасывая, они ставили новое, и в зале суда создалась какая то ненормальная, цирковая атмосфера. За выражением недоверия трибуналу в целом последовало выражение недоверия его председателю, г-ну Коломье. Затем - предложение о переносе дела в другую инстанцию. Затем предложение об отсрочке. Затем предложение о недопущении свидетелей. Затем предложение о запрещении свидетелям говорить о.... концлагерях в Сов. Союзе. Каждый раз начиналась нескончаемая полемика между адвокатами. В течение двух недель суд не мог приступить к слушанию дела. В конце концов, коммунисты достигли того, что парижская публика начала интересоваться: «что это за свидетели, которых так боятся коммунисты, так не хотят допустить до голоса?» Интерес к процессу вырос в публике, но зато коммунисты добились двух вещей: во-первых, четыре заседания из десяти были потеряны; во-вторых, они добились ограничения свободы слова для свидетелей.
Для этого они отказались не только от приглашения собственных свидетелей, но и от доказательства своей правоты. Французский закон требует, что человек, который назвал другого лжецом или подделывателем, должен на суде обосновать свое обвинение. Диффаматоры Руссэ просто отказались от la preure de la verite. Этим они уже проиграли свой процесс. Но зачем они так поступили? Потому что если одна сторона не приводит доказательств, что она права, то другая не имеет права приводить контрдоказательств. Отпадает полемика Коммунисты готовы были проиграть процесс, лишь бы не дать свидетелям Руссэ говорить о том, что делается в Сов.Союзе. - «французский трибунал не имеет праве судить Советский СОЮЗ» - это была их точка зрения: «Пусть свидетели Руссэ говорят о Руссэ, о Дэксе... но не о лагерях. Мы не будем говорить о лагерях, - и им тоже нельзя говорить».
Эта точка зрения была абсурдна, так как в этом деле нельзя было говорить о Руссэ иди Дэксе, не касаясь темы о лагерях. На суде сами коммунисты говорили о лагерях, и даже отказ от свидетелей с их стороны оказался хитростью, ибо через несколько заседаний они объявили, что свидетели с их стороны все-таки будут. Но суд принял точку зрения, что лагеря сами по себе не интересуют французский трибунал и не могут служить темой свидетельских показаний. Десятки свидетелей, которые в кулуарах суда ждали вызова, были озадачены. Им объявили, что они должны говорить о Руссэ, О «моральной стороне процесса», но не о лагерях. Свидетели не понимали, что это значит. Все они хорошо знали лагерную действительность, но с Руссэ многие из них познакомились впервые в Париже. Не знали его биографии и не читали его книг.
В этих условиях вышел к барьеру первый свидетель Руссэ - РЕМИ РУР, редактор газеты «Ле Монд», уважаемый член Резистанс. Pеми Рур не был в России, и его задачей было воздать хвалу Руссэ, как борцу за свободу. Он говорил очень умеренно и сказал также несколько комплиментов обвиняемому, Пьеру Дэксу. После его речи, которая продолжалась четверть часа, вызвали ЭЛЛИНОР ЛИППЕР. При ее появлении, в черном платье, с бледным и решительным лицом, трепет прошел по залу. Он был переполнен журналистами, фотографами прессы, адвокатами, которые из любопытства пришли в зал из других этажей. За барьером для публики стояла густая толпа. В эту минуту фактически начинался процесс. Но он начался неудачно.
Эллинор была страшно перепугана, у нее было то, что называется Rampenfieber. Против нее стояли два матерых волка, адвокаты Вьеннэ и Нордман, известный своей брутальностью и грубостью по отношению к свидетелям. Маленькая Эллинор выглядела, как гимназистка на экзамене. На беду она выучила свое показание о лагерях наизусть. Но ей не дали сказать его. Не успела она сказать первые слова, как ее прервали. Вьеннэ и Нордман начали бурно протестовать и просто заглушили ее. «Нельзя говорить о лагерях». Эллинор потерялась. Президент Коломье, связанный процедурой, подтвердил ей, что здесь разбирают дело Руссэ против Дэкса, а не дело о советских лагерях. Нордманн торжествовал победу. - «Мадам, - сказал он с сардонической улыбкой - у вас были неприятные переживания, я очень сочувствую, но это ваше приватное дело, которое не касается трибунала...» И президент Коломье, чтобы помочь Эллинор, «подсказал» ей; - «Расскажите, что вы знаете о моральной стороне процесса». Через несколько минут Эллинор пришла в себя и начала энергично отвечать противникам, но уже было поздно. Ее отпустили через 10 минут, и она вышла из зала совершенно убитая, не успев ничего сказать. В кулуарах окружили ее толпой и начали утешать, но у нее слезы стояли на глазах. Она была жестоко разочарована. В эту минуту вызвали меня, и я вошел в зал, не имея понятия, о чем буду говорить. Было поздно, люстры зажглись в зале, и на мое счастье Вьеннэ встал, чтобы произнести еще одну речь формального характера. Мне велели выйти, и через полчаса, когда кончил Вьеннэ, заседание было закрыто.
Таким образом, я имея время через ночь приготовиться к своему выступлению. на следующее утро «Фигаро» писало, что адвокаты защиты могли терроризировать слабую женщину, «une Femme Intimidee» , но с Марголиным они так легко не справятся. Моя задача заключалась в том, чтобы прорваться через обструкцию противников, заставить трибунал себя слушать и показать остальным свидетелям, что можно, считаясь с требованиями суда, все-таки сказать, что нужно. Прежде всего я выбросил вон свое «показание», которое я привез из Тель-Авива. Это была заботливо подготовленная, сжатая характеристика лагерей. Я понял, что если буду ее держаться, то пропаду, трибунал не даст мне говорить. Надо было немедленно перестроиться. Вместо реферата о лагерях - декларация общего характера. Атаковать в упор, но не то, что было за тысячи километров, а противников в зале. Говорить о лагерях, связывая каждую фразу с диффамацией Дэкса так, чтобы эта связь была ясна каждому, и президент суда не имел повода остановить меня из-за того, что я говорю «не на тему»,
В час дня 5-ое заседание суда (9.12.50) началось сильной речью Руссэ, который требовал, чтобы дали говорить его свидетелям. После него была моя очередь. Справа от меня сидели Руссэ и его адвокаты. Слева, почти рядом, - Дэкс, Вьеннэ и Нордман. Декс, небольшого роста, с прической ежиком, выглядел, как молодой студентик, но его адвокаты в черных тогах и белых жабо имели вид весьма торжественный. Я, несмотря на мои пять лет каторги, был первый раз в жизни на суде. В эту минуту я чувствовал себя не свидетелем, а обвинителем. Я говорил по-русски, с переводчиком, и это давало мне одно преимущество: противники не могли прервать меня в середине фразы, они должны были ждать перевода. Я зато понимал их сразу и мог немедленно реагировать.
Розенталь коротко представляет меня СУДУ и кладет на стол трибунала экземпляр моей книги «La Condition Inhumaine» . Другой экземпляр он любезно передает коммунистам, И потому, как Нордман открывает его, я вижу, что они моей книги не читали, не имеют понятия о том, что является их обязанностью знать, когда идет спор о том, что такое лагеря.
Президент Коломье предлагает мне самому рассказать о себе суду. Но у меня было слишком мало времени для этого.
- Господин Президент! Я хочу говорить о себе как можно меньше. Ни то, что я писал на разные темы, ни мои личные переживания не могут интересовать трибунал. Пять лет, которые я провел в советских лагерях, дают мне возможность рассказать о них суду. В какой мере вы используете эту возможность - зависит от вас. Я стою перед лицом французского правосудия, готовый исполнить свой долг.
Я исполняю свой долг перед миллионами советских заключенных, которые лишены права голоса и не могут сами свидетельствовать о себе, которые даже не подозревают о героической попытке Руссэ прийти им в помощь.
В эту минуту адвокаты Дэкса прервали мена. Но президент, который накануне не дал говорить Липпер, на этот раз повел себя иначе. Он очень энергично взял меня под свою защиту: «То, что свидетель говорит, относится к существу дела и важно с психологической точки зрения, он будет продолжать. Не мешайте суду своими прерываниями. Ваша позиция двулична. Вы позволяете себе то, в чем вы отказываете противной стороне!»
После чего я продолжал:
- Я исполняю свой долг по отношению к своему конфреру и товарищу Давиду Руссэ, который первый имел мужество поднять свой голос в защиту миллионов несчастных и за это подвергся незаслуженным нападениям и оскорблениям.
Г-н Руссэ был обвинен в том, что он сфальшивил две вещи: параграфы советского права и факты лагерной действительности. Что касается первого обвинения, то это дело юристов. Я не буду вмешиваться в спор юристов.
Годы, проведенные в Сов. Союзе, научили меня, что тексты советских законов не имеют ничего общего с советской действительностью. Или, точнее: советское право относится к действительности, как белая перчатка палача к его окровавленной руке. Советское право - ширма для преступлений. Мы, заключенные в лагерях, не интересовались тем, какую перчатку носит рука, которая нас душила. Но руку на горле, руку палача, мы чувствовали хорошо.
Не прошло и трех минут, как я почувствовал себя прочно в седле. Я чувствовал не только интерес трибунала, но и симпатию зала. Аудитория была на моей стороне. Я говорил с абсолютной уверенностью, не обращая вникания на попытка коммунистов прервать меня.
Г-н Руссэ был обвинен в том, что он построил свой аппель 12 ноября 1949 года на выдумках лиц, не заслуживающих доверия, на «вульгарных транспозициях» из литературы о гитлеровских лагерях. Это обвинение касается лично меня. Оно касается меня в первую очередь. В числе документов, на которые опирался Руссэ, когда писал свой аппель, была и моя книга.
Если то, что я писал в ней - неправда, то я виноват в том, что ввел Руссэ в заблуждение. Но если то, что я писал, является правдой, то у вас нет другого выбора, как признать этого человека (и тут я показал на Пьера Дэкса) - диффаматором и клеветником.
Я - еврей. На улицах Тель-Авива статья г. Дэкса против Руссэ продавалась в виде отдельной брошюры под названием «Почему Д. Руссэ выдумал концлагеря в СССР». Это - чудовищно! Ни г-н Руссэ, ни я не выдумали лагерей. Мои волосы поседели в лагерях. Может ли кто-нибудь утверждать, что г-н Руссэ выдумал также и мои седые волосы?
Я могу повторить о себе слова великого польского поэта: «Мое имя - Миллион», я разделил судьбу и страдания миллионов. Для десятков тысяч, которые спаслись из лагерей Сталина и находятся в Европе, нет вопроса о честности и правдивости Руссэ. Вопрос только в том, чем объясняется диффамация г. Дэкса: есть ли это злая воля или безграничное легкомыслие и невежество молодого человека. Я сказал эти слова, глядя в упор на Дэкса. Зал охнул, а Дэкс разинул рот и издал странный звук, похожий на звук барабана, по которому треснули палкой. Этот звук показал мне, что он не совсем бесчувствен.
После пяти лет я имею право на полчаса времени, чтобы рассказать трибуналу о том, что имеет прямое отношение к данному процессу. В этом процессе личное и общее неразделимы. Рассказывая о себе, мы рассказываем о лагерях, мы демаскируем диффамацию г. Дэкса. Я не знаю, как это можно сделать иначе.
В зале было полное молчание, никто не прервал меня. Дорога была предо мной открыта, и я мог говорить о чем угодно. Я выбрал две темы - о бессудности, т.е. о том, что в лагеря отправляют людей без судебного приговора, и о «воспитании» в лагерях. Я говорил 3/4 часа, но я не хотел рисковать утомить трибунал. Лучше было кончить, пока я был на вершине успеха.
Начался перекрестный допрос, но гг. Нордман и Вьеннэ не имели охоты ставить мне вопросы. - «Известно ли свидетелю, - начал Нордман с иронической миной, - что на свете происходила война... большая война... с Гитлером?...
Я прервал его: „Этот тон иронии совершенно неуместен!“ Президент сделал ему замечание: „Не ставьте подобных вопросов!“ - Нордманн: „Гитлер убил 6 миллионов евреев, и я считаю неуместным, чтобы еврей выступал против государства, которое спасло евреев“. На это я ответил: „Цифра еврейских потерь в войне, согласно таблице известного еврейского статистика Я. Децинского, составляет 6 093 000 человек, но будет ошибкой считать, что евреи погибали только на стороне Гитлера. Около полумиллиона евреев погибло в советских лагерях и местах ссылки. Гитлер пролил довольно еврейской крови, и нет надобности подбрасывать ему жертвы Сталина.“ Раздались разные возгласы, и я прибавил; „В лагерях находятся сотни моих друзей, и я не только имею право, но и обязан протестовать против того, что с ними делают. Советские заключенные имеют право жаловаться в Москву, а г. Нордман хочет отнять право протеста у жертв НКВД? - Вы, г. Нордман, более сталинист, чем сам Сталин!“ - Дэкс задал мне вопрос, хочу ли я новой мировой войны? - Я ответил: „Я надеюсь, что никто из нас не хочет войны. За себя я уверен, но в вас, г. Дэкс, не совсем уверен. Мы хотим не войны, а мобилизации мирового общественного мнения против ужаса лагерей в России“. Розенталь, адвокат Руссэ, поднялся и спросил меня, известно ли мне, что в феврале прошлого года, когда в Лейк-Саксес на заседании Экономического Совета ООН было оглашено мое показание о лагерях, польский делегат КАЦ-СУХИ ответил, что на свидетельство уголовного преступника, осужденного в Сов. Союзе, нельзя обращать внимание. Я ответил с чистой совестью, что слышу об этом в первый раз, и что КАЦ-СУХИ сказал неправду. Я не был осужен по суду, никто не обвинял меня в совершении какого бы то ни было преступления, и в лагерь я попал как „Социально-опасный элемент“ со всеми другими польскими беженцами, не хотевшими добровольно принять советское гражданство. - „У советских властей было 5 лет, чтобы предъявить мне обвинение, и если они это не сделали, то, мне кажется, что теперь уже несколько поздно!“ Зал рассмеялся, и на этом кончилось мое показание.
Вечером того же дня радио в Париже передало содержание моей речи. Она имела большой отклик в прессе. Коммунистическая газета писала, что я говорил „для журналистов“ - но факт, что ни тогда, ни позже, стоя лицом к лицу со мной, они ничего не могли мне возразить по существу.
Тем временем процесс продолжался. Правда ли, что советский Кодекс разрешает заключать людей в лагерь без суда, по распоряжению административных органов? Это смешной вопрос для каждого, кто знает советскую действительность. Но Пьер Дэкс назвал Руссэ лжецом и обвинил его в том, что он подделал текст советского закона. И действительно оказалось, что в фотокопии Руссэ пропущены некоторые места, которые не относятся к делу. Адвокаты Руссэ принесли в суд оригинальные тексты советских законов с переводом на французский язык, где не один, а несколько раз подтверждается общеизвестный факт, что в лагеря можно посылать без суда. Они принесли также ученые труды французских юристов, где говорится о том же. Пьер Дэкс ответил, что когда он писал свою статью против Руссэ, он не знал об этом. Руссэ спросил его: „Теперь, когда вы уже знаете эти тексты, согласны ли вы признать свою ошибку?“' Наступило молчание, и переполненный зал ждал что ответит коммунистический журналист, припертый к стене. Дэкс ответил: „Теперь меньше, чем когда бы то ни было!“ Он вынул из кармана текст сталинской конституции 1936 года и прочел вслух тот параграф, который гарантирует советскому гражданину неприкосновенность личности. Этот параграф имел в глазах Дэкса больше силы, чем факты и даже чем советские тексты, которые ему показали.
Ответ Дэкса показал, что между защитниками концлагерей и нами нет общего языка, как если бы они были существами какой то другой природы, а не людьми как мы. К барьеру вышел АЛЕКСАНДР ВАЙСБЕРГ, ученый и бывший коммунист, который тоже верил в слова конституции, пока не познакомился с застенками НКВД. „Как смеет бош говорить по немецки в Париже!“ кричит коммунист Морган. Вайсберг - еврей, жену и детей которого убили немцы, он сам участвовал в Варшавском восстании. „Ренегат!“ - кричит Морган. Его выгоняют из зала за неприличное поведение в суде. Вайсберг показывает письмо, где Жолио-Кюри и Пэррэн, величайшие физики мира, просили его освобождения и ручались за него. На следующий день член компартии Жолио-Кюри помещает письмо в „Юманите“, где он просит не придавать значение его рекомендации Вайсберга.
Вообще, письма играют роль в этом процессе. Полковник Манес, председатель коммунистической федерации депортированных, присылает письмо в суд, где он обливает помоями Руссэ и его книгу о немецких лагерях. Руссэ требует, чтобы Манес явился в суд и лично повторил свои слова. Когда Манес отказывается от явки, Руссэ показывает письмо к нему от того же Манеса, посланное до того, как он выступил со своим аппелем, где Манес рассыпается в комплиментах ему и его книге.
Сильное впечатление произвело выступление ГЛИКСМАНА, брата Виктора Алтера. Этот вождь Бунда и один из выдающихся деятелей Второго Интернационала был без суда расстрелян в Сов.Союзе вместе с Эрлихом, социалистом и зятем Дубнова. Гитлеровцы в Риге убили Дубнова, но не опозорили его памяти. Большевики в течение года не сообщали о казни Виктора Алтера и Эрлиха, а потом обвинили их в работе для Гитлера. Нордман не больше знал о Викторе Алтере, чем о советских лагерях. Это имя было для него чуждо. Но кто-то из еврейских коммунистов, которые были в зале, подсказал ему, что Виктор Алтер был „шпион и изменник“. И Нордман спросил брата Алтера: „Неужели ему неизвестно, как поступают во время война со шпионом?“ - Гликсман потерял самообладание и начал кричать: „Я запрещаю вам оскорблять память моего брата!“ -
Драматические сцены повторились во время показания ЧАПСКОГО. Этот пепеэсовец, писатель и художник, известный в Париже, находился во время войны в Сов. Союзе и вел переговоры с властями о выдаче поляков, заключенных в лагерях. Начальник главного управления лагерей показывал ему на карте места, где заключены поляки, никто не отрицал существования лагерей и не пробовал их представить как „воспитательные учреждения“, Чапский рассказал суду о Катыне, о месте, где было перебито 15 000 военнопленных польских офицеров. Наци, заняв Катынь, откопали их трупы и показали их журналистам из нейтральных стран. Большевики, вернувшись в Катынь два года спустя, послали туда комиссию, которая объявила, что немцы сами убили поляков, однако, они отказались допустить в комиссию иностранцев и в особенности представителей поляков. Кто убил в Катыне? Чапский сказал, что поляки в Россия знали о резне произведенном НКВД, еще до того, как немцы откопали трупы. Чапский говорил по-французски с огромной силой, со страстью и гневом, Его речь произвела большое впечатление на публику. Нордман спросил его: „Ненавидит ли он Сов. Союз?“ - и Чапский вспыхнул как спичка: - „Да, я ненавижу Сталина, ненавижу режим, существующий в России, ненавижу всех, кто его поддерживает!“ - Нордман улыбнулся и сделал знак рукой, как 6ы говоря - „Что можно ждать от такого человека?“
Я не могу останавливаться на всех показаниях этого замечательного процесса, который постепенно превратился в демонстрацию возмущения и протеста против сталинизма. Пресса и публика ждали с нетерпением появления КАМПЕСИНО, легендарного испанского героя. Мадридское радио Франко обещало ему прощение, если он вернется на родину. Но Кампесино не обратил внимания на предложение Франко. Группа испанцев в Москве прислала письмо в трибунал, где она называла Кампесино сумасшедшим. Но Кампесино ответил в парижской прессе на это письмо так, что было ясно, что он с ума не сошел. Однако адвокаты Руссэ немножко боялись его выступления. Кампесино, дикий и неистовый человек, испанский „мужик“, мог потерять меру и ляпнуть на суде что-нибудь чудовищное или несообразное. Было предложение вообще отказаться от его выступления. Однако, Кампесино был самой большой сенсацией процесса. Как отказаться от него? - но Розенталь, представляя его суду, на всякий случай предупредил, что перед ними будет говорить не интеллигент типа Марголина, не аналитик или ученый, а человек из народа - солдат.
Коренастый, небольшой, со смуглым лицом и горячими глазами, Кампесино как буря обрушился на трибунал. Это был бык и тореадор в одной особе. Воплощение бешенства. Уже первые его слова произвели впечатление: „Меня называли самым фанатическим генералом в испанской войне. Я не жалею крови, которую я пролил в борьбе с фашизмом. Но я жалею глубоко и раскаиваюсь, что я хотел навязать испанскому народу режим, похожий на тот, который существует в России. В Сов. Союзе я пережил самую большую катастрофу моей жизни“. Кампесино не говорил, он рычал как тигр, с таким голосом и темпераментом он мог увлечь солдат своей бригады куда угодно. Но в зале сидели юристы, журналисты, цивилизованные парижане. Президент Коломъе поморщился и сказал переводчику „Скажите свидетелю, чтобы он говорил тише“. Кампесино, услышав, что ему предлагают говорить тише, отскочил от барьера с изумленнем, ударил себя в грудь и заревел еще громче: „Я - испанец! Испанцы не могут говорить тихо!“ Зал грохнул смехом. Но не прошло и пяти минут как это огненное красноречие начало заражать слушателей. Хриплый голос Кампесино заполнил весь зал. Это был рассказ о трагедии испанских республиканцев в России. Из 6 000 антифашистов, которые бежали к Сталину, осталось в живых 1200. Остальные погибли в лагерях и тюрьмах.
По окончании заседания стража должна была вмешаться, чтобы помешать Кампесино броситься на Моргана. Кампесино подошел ко мне и начал говорить на смеси испанского с русским: „Ты был поздно в России! -сказал он мне, - я могу тебе рассказать, что они делали с „худиос“ в Одессе и Крыму в 38 году!“. Я просил его написать, что он знает о преследованиях „худиос“ - для еврейской печати в Израиле... но кто-то помешал нашей беседе.
На следующем заседании выступили свидетели со стороны „Леттр Франсэз“. Коммунисты изменили свою тактику, они сперва отказались от вызова свидетелей, но потом решили, что нельзя оставлять все поле сражения за свидетелями Руссэ. Время процесса было ограничено 10 заседаниями, и потому важно было хотя бы одно заседание вырвать у людей, которые пришли из лагерей.
Свидетели со стороны коммунистов не пришли из лагерей. Это были французы, члены коммунистической партии. Лидер французской компартии Фернан Гренье. Лаффит, член редакции „Юманите“. Вдова известного коммуниста Вайан-Кутюрье. Популярный в Париже рисовальщик Жан Эйфель. Адвокат мэтр Брандон... О чем говорили 12 свидетелей против Руссэ? Одни из них произносили политические речи: Американцы готовят войну, Руссэ им помогает создать настроение против Сов.Союза. Другие рассказывали, какой прекрасный человек Пьер Дэкс. Третьи о6ъясняли: нельзя портить отношения с Сов. Союзом, лагеря нас не касаются, нельзя вмешиваться в дела суверенного государства. Четвертые рассказывали о преследованиях негров илн туземцев на Мадагаскаре. Жан Эйфель, симпатичный парень, рассказал, что он был в Москве и видел там довольные лица, веселых танцующих лидей, трудно поверить, чтобы в этой стране были такие страшные лагеря. Жан Лафитт, редактор „Юманите“ сказал, что он не верит свидетелям Руссэ. Его спросили: „Но если бы это было правдой, если бы в самом деле существовали концлагеря в России, какое было бы ваше отношение к ним и к режиму лагерей?“ - Он ответил: Мать остается матерью, даже если ее обвиняют в убийстве. В общем все „аргументы“ этих людей можно было бы повторить также и по отношению к Треблинке Гитлера с равным правом, довольно было 2-3 вопросов Розенталя или Руссэ, чтобы эти люди, которые говорили с пафосом и имели такой достойный вид, начинали путаться и возбуждали смех в зале. Им задавали один и тот же вопрос: правильно ли это, что никому не показывают лагерей и тюрем в Россия? Если ты был в Россия и не видел лагерей, что ты делаешь на этом процессе? Какое право ты имеешь выступать на нем? Для того ли умирали люди в Сталинграде и во всем мире, чтобы лагеря продолжали существовать? Если нам нельзя вмешиваться в то, что происходит заграницей, значит ли это, что мы не должны протестовать против лагерей Франко или в Греции? - Конечно нет, воскликнул коммунист, - это наше святое право бороться против них. - Зал начал смеяться. Каждого из коммунистических свидетелей спрашивали, почему он не хочет участвовать в интернациональной Комиссии Руссэ, почему он не хочет посмотреть своими глазами, что делается в лагерях НКВД? На этот вопрос нечего было ответить.
В последней речи Руссэ было одно сильное место: „Меня спрашивают, почему я занимаюсь концентрационными лагерями и оставляю без внимания разные несправедливости в других странах Запада? - У меня есть друг Ричард Уайт, знаменитый американский писатель, если бы его спросили: почему ты пишешь только о неграх в Америке, а не пишешь о нужде среди белых или других явлениях, он бы ответил: Потому, что я сам - негр и пишу о том, что мне близко и о том, что я знаю“ Каждый из нас говорит о том, что он пережил. Я пережил судьбу раба в концлагерях и я могу писать и могу бороться только против того, что я знаю из живого опыта.
На этом закончился процесс. Речи адвокатов с обеих сторон не принесли ничего нового. В последний день Вьеннэ и Нордман говорили то же, что и в первый - механически повторяя, что Руссэ сфальшивил тексте и что в Советском Союзе нет тюрем, а вместо них созданы какие то идеальные воспитательные учреждения. И однако на столе трибунала лежали оригинальные тексты советского права, и в зале сидели люди, которые поседели в лагерях и оставили свое здоровье в советских тюрьмах. Я ждал, что скажет Нордман о свидетелях, как он будет реагировать на мое показание. Но все, что Нордман сказал обо мне, было: „Этот Марголин, который смеет утверждать, что в Советском Союзе погибли сотни тысяч евреев“. Большего цинизма не могли 6ы показать и гитлеровцы, чем показали эти защитники Воркуты и Колымы. Когда встал для последнего снова обвиняемый Морган, директор „Леттр Франсэз“, он вернулся к тому, с чего коммунисты начали: „Ваше полное отсутствие беспристрастия, г-н президент“..» сказал он. И президент Коломье, который весь процесс старался держать равновесие между двумя сторонами и быть «нейтральным», вспылил, лишил его слова, и закрыл заседание.
12 января 1951 года был о6ъявлен приговор, но обвиняемые даже не явились выслушать его. Это был очень мягкий приговор, потому что, как с неподражаемой наивностью выразился президент Коломье в мотивах решения суда, «Не надо излишней строгостью углублять пропасть, которая и так образовалась между двумя идеологическими „обозами“». «Чтобы не углублять пропасть», суд приговорил Моргана и Дэкса к символическим штрафам, к уплате 100 000 фр. в пользу Руссэ, к заплате судебных издержек (около 4 000 000 фр.) и к опубликованию приговора в их жypнале, так же как и в десяти других изданиях по выбору Руссэ.
В заключение я хочу остановиться на политическом и моральном значении процесса Давида Руссэ. Можно рассматривать этот процесс с разных сторон, и хотя силой вещей мы вынуждены по очереди и отдельно говорить о каждой из них, надо помнить, что все они неразделимы и сводятся к одному и тому же: к защите человека, к борьбе за его право и свободу.
С политической точки зрения процесс Руссэ был информационным процессом первого ранга. Это было восстание против принципа «Железного Занавеса» и протест против замалчивания одного из самых страшных преступлений нашего времени. Коммунисты пробовали представлять этот процесс, как «антисоветскую пропаганду». Это в корне неверно. Пропагандировать можно мнения и учения, идеи, программы и идеалы. Факты не пропагандируют - их доводят до сведения. Знание не пропагандируют - его распространяют. Процесс Давиде Руссэ вырвал сотни тысяч людей из состояния наивного неведения к констатировал факт, что советский строй есть лагерный строй. Можно знать это и всe-таки остаться сталинистом, как в свое время можно было знать про Дахау и нюрнбергские законы и все-таки оставаться нацистом. Нo нельзя терпеть положение, когда массы и целые политические партии на Западе строят свою политическую ориентацию на самообмане, на недоразумении, на незнании основных фактов современности.
Процесс Давида Руссэ был первой удачной попыткой разбудить совесть и расширить политический горизонт масс. Для сотен тысяч людей он был сенсацией. Это еще немного. Но надо помнить, что борьба против концлагерей только еще начинается. Мы доведем знание о том, что делается в Сов. Союзе, до миллионов и добьемся, что оно станет достоянием всего человечества. Пока эта колода в виде 10 000 концентрационных лагерей не будет убрана с дороги, никакой действительный прогресс в мире не будет возможен. И пока существует в мире рабовладение под маской красивых слов, борьба против него не прекратится.
Процесс Руссэ - один из эпизодов идейного наступления Западной Деократии на тотальную ложь. Если бы мы думали, что через три месяца начнется война, если бы мы ждали близкой войны, то выступление Руссэ и план интернациональной Комиссии просто не имели бы никакого смысла. Предложение Руссэ открыть лагеря для контроля опирается на веру в возможность мира. Если под давлением мирового общественного мнения советское правительство решится показать свои лагеря и откажется от их герметической изоляции, если оно смягчит их зверский режим, то это безусловно в какой-то мepe разрядит напряжение и подымет шансы мира. Кто борется против концлагерей средствами Руссэ, т.е. путем апелляции к людям доброй воли, через демократические организации и на открытом суде, тот защищает мир. Мир не достигается замалчиванием зла. Руссэ сказал, что страна, где существуют лагеря, не имеет будущего. Надо прибавить: страна, где существуют лагеря, не только не имеет будущего, но и представляет угрозу для всего света, она несет в себе зерно всесветной катастрофы.
С чисто гуманитарной точки зрения кампания Руссэ остается единственной попыткой помочь миллионам несчастных, для которых создан ад на Земле, и вся вина которых состоит в том, что они не соответствуют стандартам коммунистической мысли и поведения. Как это легко сказать: «все равно им помочь нельзя - не стоит и стараться!». За этим дешевым скептицизмом скрывается равнодушие. И это не случайно, что равнодушны именно те, кто не был в советских лагерях, а протестуют и верят в необходимость и в силу протеста те, кто были в лагерях и не могут забыть их. Если бы заключенные в советском подземном царстве знали, что кто-то спорит к заступается за них. Но есть другие, которые поддерживают их тюремщиков и стараются заглушить голос протеста, то они бы их прокляли, как союзников преступления. Наш протест ведет к тому, что Политбюро в Москве принуждается обратить внимание на многие безобразия в лагерях, за которые ответственна местная администрация. Это уже выигрыш для заключенных. А что касается системы лагерей в целом, то ее, конечно, нельзя уничтожить протестами, пока существует диктатура, но можно добиться изменения к лучшему. Например: можно и следует бороться за освобождение из лагерей и отпуск заграницу целых категорий политических заключенных, и за допущение интернационального контроля. Если Сов. Союз хочет мира с Демократией Запада, он рано или поздно должен будет договориться об условиях мира, и нашей задачей является включить проблему лагерей в число пунктов, подлежащих дискуссии. Мы не дадим забыть о трагедии миллионов з/к. И потому так страшно вредна и преступна деятельность разных Дэксов, Морганов и людей пятой колонны, которые имеются во всех странах Запада, и которые хотят снять этот вопрос с очереди. Они хотят создать впечатление, что лагерная трагедия никого в мире не интересует, и что это только «трюк антисоветской пропаганды». Процесс Давида Руссэ был очной ставкой этих бандитов пера, стоящих на cтpaжe лагерей с теми, кого они называют «агентами империализма». Суд заклеймил диффамацию и провел границу между агентами тюремщиков и агентами заключенных. Наши противники защищали НКВД, а мы защищали своих товарищей, погибавших в лагерях без суда и вины
И здесь перейдем к еврейскому аспекту процесса Давида Руссэ.
Чем объясняется, что столько еврейских свидетелей и экспертов участвовало в этом процессе? Был ли это случай? - Нет. Было ли это обдуманное намерение организаторов процесса? - Такое объяснение слишком недостаточно. Руссэ с легкостью нашел многочисленных свидетелей-евреев, потому что евреи занимает одно из первых мест среди жертв лагерей, потому что нельзя говорить о советском терроре вообще, и о лагерях в частности, не касаясь кровавых страданий, которые они причинили еврейскому народу.
В свое время трагедия Центральной Европы заслонила то, что происходило на Востоке. Мы, евреи, были не в состоянии охватить размеры нашего несчастья, и мы реагировали на то, что стояло на первом плане: на угрозу гитлеризма. А потом на британскую политику в Палестине. Ни политически, ни морально у нас не было сил интересоваться тем, что происходило в царстве Сталина. Теперь, когда гитлеризм, как политический фактор, разбит и возникла Мединат Исраэль, чудовище, которое притаилось в глубине нашей исторической сцены, выходит на первый план.
Можно считать, что в данный момент находится в лагерях Сов. Союзе более 200 000 евреев. Мы исходим из цифры в 10 миллионов заключенных и сосланных в районы Сибири, где условия жизни близки к лагерным. Возможно, что эта цифра в действительности гораздо выше. Евреи в Сов.Союзе составляют не более 1% населения, но в лагерях этот процент повышается по понятным основаниям: евреи, как элемент городской, общественно-активный и индивидуалистический, дают больше оснований для преследований. В последнее время симпатии к еврейскому Государству и подъем национального самосознания после победы сионизма в Палестине делает их подозрительными в массе. По личному опыту я знаю, что в лагере с населением около 1000 з/к бывает 20-30 евреев. Отсюда цифра в 200 000 - 250 000 еврейских жертв лагерей. Естественно, что судьба этих евреев касается нас не меньше, чем судьба евреев в Ираке или Северной Африке. Мы, евреи Израиля и демократических стран, заинтересованы самым непосредственным образом в каждой попытке выяснить положение советских з/к. Можно представить себе, что творилось бы во Франции, если бы четверть миллиона французов пропали без вести в советских лагерях. В наших глазах каждый еврей в Советском Союзе имеет право оптировать гражданство Израиля, но в первую очередь это право имеют заключенные люди, находящиеся на краю гибели. Поэтому долг евреев и в особенности евреев-сионистов - поддержать кампанию Рycсэ, который делает для нас то, что мы сами давно должны были бы сделать. Вопрос не в том, почему столько евреев участвовало в процессе Руссэ, а в том, - почему еврейская общественность так мало поддерживает его?
Вместо ответа на этот вопрос я расскажу, как я пробовал мобилизовать в помощъ Руссэ несколько моих товарищей, которые живут в Тель-Авиве, которые были со мной в лагере и знают советскую действительность так же, как и я.
Один из них - член «Хашомер Хацаир»а: «Все, что ты написал в своей книге - правда, - сказал он, - и я сам поехал бы охотно с тобой на процесс Руссэ. Но как я могу это сделать? Я - кандидат на заграничную командировку. Моя партия исключит меня, и я не смогу показаться ни в Польше, ни в Чехословакии с общественной миссией, если я выступлю против Сов. Союза - я поссорюсь со своими товарищами».
Я пошел ко второму, который недавно приехал в страну и не принадлежит ни к какой партии: «У меня брат в Сов. Союзе, - сказал он, - и я не имею права подвергать его опасности».
Я пошел к третьему, который независим, не имеет родственников в Советском Союзе и не занимается политикой; «Я уезжаю в Австралию, - сказал он. - и хочу забыть о Советской России, и пусть Советская Россия забудет обо мне. Что это мне даст, если я выступлю на суде? И вообще кто знает, что еще может случиться? Зачем обращать на себя внимание коммунистов?»
Приватные лица в Израиле рассчитывают на инициативу правительства, а официальные круги не считают возможным открытое выступление в Москве или Лейк-Саксес. В результате никто не делает ничего, и каждый день гибнут люди в советском плену.
Равнодушие, страх и сознание своей беспомощности - вот наш враг. Система террора, центр которой находится в Москве, действует за тысячи миль от советской зоны. В этих условиях еврейские свидетели на процессе Руссэ выполнили двойную миссию: они не только исполнили долг общечеловеческой солидарности вместе с другими демократами Запада в борьбе за Мир, Право и Свободу - они также выступили против атмосферы страха, трусости и безответственности в еврейских кругах Запада.
1951-2. Ю. Б. Марголин Предисловие к «Парижскому отчету»
От автора - 20 лет спустя
Ровно 20 лет тому назад происходил в Париже процесс, отчет о котором читатели найдут ниже.
На этом процессе я был одним из главных свидетелей.
Процесс был, в общем, игнорирован израильской прессой, несмотра на то, что израильский журналист и русский еврей, житель Тель-Авива, автор известной книги о советских лагерях, принял в нем столь заметное участие. Может быть, не «несмотря на», а именно - поэтому. - Неприятно, чтобы еврей, я к тому же израильский гражданин, выступал на процессе, раздражающем советское правительство, и к тому же, совместно с не-евреями...
По возвращении из Парижа, я написал этот «Отчет» для доклада на собрании общества «МАГЕН», куда меня пригласили рассказать об этом процессе. Я был немало удивлен, когда, явившись на доклад, нашел маленькую комнату, где сидела группа членов правления об-ва «маген», человек 10-15. Я рассчитывал на аудиторию побольше, но ее не нашлось для меня в Израиле.
Впоследствии рукопись «Парижского отчета» была предана забвению. Но недавно, перебирая старые бумаги, я нашел ее и перечел.
Многое изменилось за 20 лет. Кому еще интересна летопись старых боёв? Какое значение имеет этот отчет сегодня? Не без колебания я предоставил этот текст человеку, который решил опубликовать его, как он был написан весной 1951 года, по-русски - для молодежи, прибывающей из сов. России.
Эта молодежь иногда чувствует, что борьба русского еврейства не находит должного отклика в Израиле. Мы, старые, это знаем уже более 20 лет, я знаем, какой теперь достигнут колоссальный, хотя и недостаточный, прогресс по сравнению с тем, что было.
Тема о лагерях и о евреях в лагерях была и раньше «табу» много лет. Факт, что «Парижский отчет» не мог быть напечатан в Израиле, как и многие другие моя статья, как я моя книга о советских лагерях принудительного труда...
Мотивы, которые в свое время действовали против темы о советских местах заключения (и целом поколении еврейских активистов, сионистов и несионистов, погибшем я погибающем по сей день) - эти мотива действуют и сейчас, когда речь идет об общем положения советского еврейства в наше время.
В основе - это крайняя осторожность (чтоб не сказать больше) в отношении советского Правительства и советской идеологии - как у тех, кто понимает, что преследование еврейской культуры и национального движения неотделимо от всей целости советского строя, так и у тех, кто, не понимая, это чувствует, и потому избегает открытого сопротивлении коммунизму, как таковому.
Люди эти и круги неизбежно приходят к затушевыванию отрицательных явлений, вытекающих из его сущности, а преследование евреев в Сов.Союзе стараются истолковать как «недоразумение» или нарушение советской законности.
«Парижский отчет» - страница из хроники борьбы за честность и ясное мышление в этом вопросе. Евреи Норман и Морган были моими противниками на этом процессе. Всегда находятся евреи, задерживающие или смягчающие протест против коммунизма - даже когда речь идет о центральной проблеме еврейского существования.
Ю.Б.Марголин, 1970
1954-1. Ю. Б. Марголин «Судьба одной прокламации»
На прошлой неделе, в четверг, появилось на улицах Тель Авива небольшое количество прокламаций Израильского Объединения бывших узников советских концлагерей. Содержание прокламаций не было «анти-коммунистично». Это было напоминание о судьбе русского еврейства вообще и о судьбе десятков тысяч сионистов, находящихся в лагерях и ссылке, в частности. Это факт, что в Сов. Союзе существуют лагеря и многие евреи и сионисты заключены в них по политическим обвинениям. Ясно, что их друзья, члены их семей, находящиеся в Мединат Исраэль, кровно заинтересованы в возникновении организации зашиты их интересов. Короче, прокламация, о которой идет речь, не была «против», по крайней мере по форме и содержанию: она была «ЗА»: за сионизм, за русское еврейство.
Но случай хотел, чтобы в конце прошлой недели было назначено какое-то собрание «дружбы с Сов. Союзом». По всему городу были расклеены цветные плакаты, призывающие массы в Израиле протестовать против израильского правительства, не дающего виз советской делегации на коммунистический конгресс в Тель-Авиве.
Коммунистические плакаты в центре Тель-Авива не протестовали против отказа их «боссов» дать визы русским евреям, желающим репатриироваться в Израиль. Такие евреи, во множестве находятся в лагерях принудительного труда Советского Союза, или их язык прилип к гортани из страха смерти или репрессий перед лагерями. Плакаты друзей советской диктатуры протестовали против чего-то другого: против того, что русским коммунистам не разрешают приезжать сюда для участия в политических демонстрациях их приятелей, врагов Сиона.
У русских евреев нет права приезжать сюда, это право есть у тех, кто их держит за горло. Так хочет «Маки».
Маленький белый листок Израильского объединения бывших узников советских концлагерей был подписан пятью людьми: из них двое писателей, трое адвокатов. Вместе они представляют около 25 лет каторги и мучений. Эти люди знают, о чем говорят, и они свободны поднять голос в условиях демократического режима.
И вот случилась вещь, которую легко можно было предвидеть, хотя есть еще между нами люди наивные, которые с трудом учат факты. С быстротой молнии - в течение нескольких часов - почти все прокламации были сняты со стен Тель-Авива. Назовем тех, кто это сделал, именем «шайка» или просто последователями МВД, но надо признаться, что они знают дело. Прокламации, которые осмелились напомнить гражданам Мединат Исраэль о судьбе русского еврейства, были содраны, разорваны, растерзаны, уничтожены систематически и основательно (не знаю, осталось ли одно воззвание из 20) теми, кто в нашем городе представляет сторону создателей концлагерей в Воркуте и Колыме.
В Советском Союзе они уничтожили тела, погубили десятки и сотни тысяч жизней, разгромили сионистское движение. Но этого мало: они вторглись в Мединат Исраэль, и здесь, в нашем национиональном доме они пробуют закрыть рот свидетелям их преступлений.
Нечего жалеть о нескольких сотнях воззваний, которые были сорваны со стен Тьель-Авива. Мы найдем дорогу сказать во всеуслышание все то, то что мы имеем сказать. Я надеюсь, что этот пример откроет глаза многим, которые до сих пор были равнодушны. Воззвание Союза бывших советских лагерников, как видно, коснулись невралгического пункта наших коммунистов. Как видно, есть что-то в этих воззваниях, чего не может вынести эта «честная молодежь», защищающая каждую подлость, каждое преступление и насилие, если они происходят по ту сторону Жел. Занавеса.
1954-2. Ю. Б. Марголин Прокламация бывших узников советских концлагерей
БЫВШИМ УЗНИКАМ СОВЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ,
ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
Союз выходцев из советских исправительно-трудовых лагерей, включающий в себя граждан Израиля без различия партий, политических и социальных взглядов - ставит перед собой следующие цели:
Не дать забыть о миллионах заключенных в советских лагерях, среди которых сотни тысяч евреев и десятки тысяч сионистов.
Требовать помощи общества в моральной и материальной поддержке евреям, находящимся в советском аду.
Требовать общественной помощи тем, кто сумел вырваться из советских лагерей, тем, кто нуждается в физической, моральной и материальной помощи.
Но прежде всего, Союз обращается к тем, кто прошел путь страданий и мучений, путь пыток, к тем, кто на своей шкуре испытал удары советского кнута:
на угольных шахтах Караганды и Воркуты,
на Архангельских и Карело-Финских лесоповалах,
на золотых приисках Колымы
и в других лагерях рабского труда, в которых содержались и содержатся евреи;
из-за их отказа принять советское гражданство;
из-за того, что они сионисты и евреи;
из-за того, что это люди со своим собственным мнением,
непорабощенным тоталитарной инквизицией.
Мы не забыли и никогда не сможем забыть ад, из которого спаслись! Не дадим забыть других, наших братьев по страданию. На нас лежит святая обязанность выполнить обещание, которое давал каждый из нас, покидая лагерь, тем, кто оставался там. И мы обещали, все мы клятвенно обещали сделать это для миллионов рабов - привлечь весь свободный мир к делу их спасения.
Братья по страданию, будем искать пути спасения евреев, находящихся в лагерях; объединимся, чтобы помочь тем, кто вернулся и возвращается с кладбищ, где они были похоронены заживо, из советских закрытых лагерей - лагерей духовного, телесного и физического расчеловечения.
Братья по страданию, потребуем публично, чтобы режим, ответственный за удержание рабов, выплатил компенсации за годы рабства тем, которые в течение долгого времени подвергались там духовному унижению.
Брат по страданию и мучениям, выполни свой долг и присоединись к нашему Союзу.
Прием членов и запись каждое воскресение и четверг, с 9 до 6 часов вечера в секретариате Общества: ул. Шенкин,16, Тель-Авив
Члены временной комиссии:
доктор Ю.Марголин
адвокат И. Шехтер
адвокат И. Минц
адвокат Ш. Киршенберг
Моше Гроссман, писатель
Оригинал Прокламации на иврите
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ КОММЕНТАРИИ К РАЗДЕЛАМ 1-4
Комментарии к настоящей публикации
01. Для вступления История публикации «Путешествия»
«Путешествие в страну зэ-ка» Ю.Б. Марголин пишет с 15 декабря 1946 по 25 октября 1947.
Последняя страница рукописи Ю.Б. Марголина «Путешествие в страну зэ-ка»
Отдельные главы из этой книги публикуются в Париже и Нью-Йорке по-русски, по-французски и по-английски в 1948-1949
В ноябре 1949 книга опубликована по-французски (отсутствует одна глава). Книге предшествовали статьи во французской газете Ле Фигаро «Пять лет в советских концентрационных лагерях» -- 10 дней, десять выпусков по французски, октябрь 1949.
Русское издание встретило непреодолимые трудности. 18 января 1949 г Артур Кестлер пишет Марголину:
«Дорогой д-р Марголин, Я очень разочарован, но не обескуражен реакцией Макмиллана. Я уверен, что рано или поздно книга будет напечатана и будет иметь заслуженный успех. Я хочу попробовать с другими издателями, как в США, так и Англии, как только Ваши американские друзья пришлют мне несколько глав. Те две, которые я читал, хорошо бы тоже, но чем больше, тем лучше. Gollancz, например, недавно очень интересовался этой темой, а некоторое время назад мне удалось уговорить его напечатать книгу совершенно неизвестного человека.
Я свяжусь с Вашим парижским другом как только закончу книгу, примерно в течение месяца. Пока что я живу без контактов; и я чувствую, что Англия и Америка со всех точек зрения более важны для опубликования Вашей книги, чем Франция. Если будет англо-саксонский успех, Франция последует автоматически.
Пожалуйста, не будьте обескураженным и пришлите мне главы как можно скорее.
С уважением, искренне Ваш
Артур Кестлер»
В газете «Народная правда» (1949, февраль, стр. 22-27, Париж) по-русски были опубликованы 4 главы из книги Путешествие в страну зэ-ка (Бе-Бе-Ка, Лагерный Невроз, Пятый Корпус, Заключение) со следующим введением от редакции:
«В 1946 году, в „Соц. Вестн.“ (# 12, дек.), было помещено открытое письмо доктора Ю. Б. Марголина, только что вырвавшегося тогда из советских концлагерей. Это письмо произвело на всех читателей потрясающее впечатление своим глубоким гуманным чувством, мужеством и ненавистью к советской тирании. Сейчас, передо мной рукопись книги „Путешествие в страну зэ-ка“, присланная нам Ю. Б. Марголиным. Эта рукопись заключает в себе больше 600 стр., но начав ее читать, от нее нельзя оторваться. Это рассказ талантливого писателя и глубоко образованного человека, русского -по основной культуре, и иностранца в отношении СССР (Ю. Б. - Марголин гражданин Государства Израиль), попавшего в Польше во время войны к Советам и проведшего там больше пяти лет... в советских концлагерях. Я не знаю ни одной книги о концлагерях, равной но силе этой рукописи. Мы печатаем заесь три отрывка из трех глав книги и последнюю главу, являющуюся ее заключением. Я убежден, что эта книга будет издана на всех иностранных языках и будет иметь не меньший успех, чем книга В. А. Кравченко, ибо такой книги о советском рабстве еще не было.
Роман Гуль»
Русское издание появилось только в 1952 году в Нью-Йорке, сокращенное по воле редакции на ОДНУ ТРЕТЬ. (отсутствует вся первая часть и пять глав из других частей). Русские издания Путешествия 1976 и 1997 в Израиле - это повторения издания 1952 г.
Свободный Запад не хотел слышать о сталинских лагерях.
1956 - книга опубликована по-немецки в Мюнхене по инициативе Веры Пирожковой (отсутствует 6 глав)
В ЦСА есть перевод на иврит первой половины «Путешествия», сделанный Шломо Эвен-Шушан в 1978 г, а также перевод на английский: «Russian Adventure. Report on my life in Soviet concentration camps». Jan 5, 1948. Ttranslated by Mirra Ginsburg.
В 1953 г в США Марголин предлагал проект сценария под названием «Journey to Prizonia (Five years in Soviet Concentration Camps)» или «Journey into the Land of Prizoners».
Ни английского издания, ни издания на иврите до сих пор нет.
До сих пор нет ни одного полного издания этой книги.
Ниже приводятся точные названия и точные ссылки на все существующие издания марголинского «Путешествия»:
1949 - Margoline Jules. «La condition inhumaine. Cinq ans dans les camps de concentration Sovietiques» Traduit par N. Berberova & Mina Journot. Novembre 1949. Calmann-Levi, Editeurs, Paris.
1952 - Марголин Ю. Б. «Путешествие в страну зэ-ка», 414 стр. - Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк.
1965 - Julius Margolin «Uberleben ist alles. Aufzeichnungen aus sowietischen Lagern», Munchen, перевод В. Пирожковой.
1976 - Марголин Ю. Б. «Путешествие в страну зэ-ка». Издано обществом по увековечению памяти памяти д-ра Ю. Б. Марголина, напечатно в Израиле. Калька с издания 1952 года.
1997 - Марголин Ю. Б. «Путешествие в страну зэ-ка». Выпущено МАОЗом. Калька с издания 1952 года.
02. Для вступления Выброшенные главы
Даны ссылки на публикации отдельных глав в разных газетах и журналах.
Жирным отмечены главы, не вошедшие в русское издание.
Оглавление «Путешествия в страну зэ-ка» по рукописи Ю. Б. Марголина.
Часть 1
Вместо предисловия
В русском издании напечатано под названием «От автора»
1. Сентябрь 1939
Время и мы, 1977, #13:193-207 (под названием «Начало»)
2. В кольце
Время и мы, 1977, #13: 207-221 и #14: 151-154
3. История одного разочарования
Новый журнал, 1948, #18: 253-265
Время и мы, 1977, #14: 154-167
4. Пинское интермеццо
Новое Русское Слово, 1961, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ноября
Время и мы, 1977, #14: 167-194
5. Илья-пророк
Время и мы, 1977, #14: 195-199
6. Пинская тюрьма
Время и мы, 1977, #15: 155-176
7. Кочующий гроб
Время и мы, 1977, #15: 176-185 (нет посл. стр)
Часть II
8. «БЕБЕКА»
Народная правда, 1949
9. «Сорок восьмой квадрат»
10. Рагбужсила
Новое Русское Слово, 1971, 22 января
11. Разговоры
12. Бригада Карелина
13. Расчеловечение
Новое Русское Слово, 1971, 27 и 30 января
14. Лесоповал
15. Санчасть
Новое Русское Слово, 1955, 3 апреля
16. Враг мой Лабанов
17. Бригада Гарденберга
18. Вечер в бараке
19. Люди на 48-ом
20. Весна 1941 года
Часть III
21. Этап
22. Амнистия
23. «Работать надо»
24. Иван Александрович Кузнецов
Лит. совр. , 1954
Время и мы, 1976, #8: 99-114
25. Письмо к Эренбургу
26. «КАВЕЧЕ»
27. Исаак пятый
28. Лагерный невроз
Народная правда, 1949
29. В бане
Новое Русское Слово, 1955
Время и мы, 1976, #8: 85-99
30. В конторе
Часть IV
31. Максик
Новое Русское Слово, 1955, 23 октября
32. Учение о ненависти
Новое Русское Слово, 1963, 3, 5 и 6 августа
33. Инвалидская доля
34. Бригадир хроников
35. Путь на север
36. Котлас
37. Девятый корпус
38. Пятый корпус
Народная правда, 1949
39. Освобождение
40. Заключение
Народная правда, 1949, февраль
Бюллетень игуд йоцей Син, 1965
Новое Русское Слово, 1971, 22 февраля
Журнал «Ами», 1971, #2, май
На последней странице рукописи стоит дата: 15.XII.46 - 25.X.47
03. Для раздела 2 Статьи о стране зэ-ка, не вошедшие в книгу
К статье 1, раздел 2 «Трое»
К статье 2, раздел 2 «Интеллигенция в лагере»
К статье 3, раздел 2 «Чудо в Славгороде»
Статья «Трое» была опубликована в газете «Новое Русское Слово», 1954, 5 декабря
Статья «Интеллигенция в лагере» была опубликована в журнале «Новый Журнал», 1960, кн. 62: 246-261
Статья «Чудо в Славгороде» была опубликована в газете «Новое Русское Слово», 1953, 5 июля и в сборнике «Несобранное», 1975: 205-210
04. Для раздела 3. Дорога на Запад
К главе 1, раздел 3 Поезд свободы
К главе 2, раздел 3 NON OMNIS MORIAR
К главе 3, раздел 3 Галя
К главе 4, раздел 3 Конец Марии
К главе 5, раздел 3 Сентябрь 1946
К главе 6, раздел 3 Париж
К главе 7, раздел 3 Не волноваться
К главе 8, раздел 3 Гелиополис
К главе «Картинки-загадки», раздел 6
Письмо Сараны
В архиве Ю. Б. Марголина в ЦСА имеется письмо (А536/53), которое начинается следующим сообщением:
«Париж 30/XI 54
Дорогие мои Ю. Б. и Е. Е. Рада сообщить вам, что ''Дорога на Запад'' - наконец вышла. (Посылаю вам 2 номера). Не жалею что так долго продолжалось ожидание так как номер сплош исключительный. Как видите, дорогой Юлий, вы пишите в ревю в которой пол-дюжины бывших и будущих Председателей Совета Министров и наилучшие французские писатели; номер совсем исключительный, и я очень горжусь ''вашими'' коллегами по печати! Не знаю еще сколько денег ''нам'' дадут за ету статью...»
Это письмо Юлию Борисовичу и Еве Ефимовне Марголиным от их парижской приятельницы и помощницы Сараны Гурион (орфография сохранена).
В письме нет точной библиографической ссылки, но мне казалось, что указание на французский журнал, вышедший в Париже в 1954 г., позволит найти эту публикацию. Я писала в разные библиотеки, в первую очередь, в Тургеневскую библиотеку в Париже, спрашивала многих людей. В библиотеках Израиля ее нет. Ни проф. М. Занд, ни В. Гершович, никто другой не видели эту публикацию и ничего о ней не знают. Я не могла спросить только сына Ю. Б. - Эфраима Марголина, адвоката из Сан Франциско, который после публикации письма его отца об «Альталене», перестал мне отвечать. (Однако, никаких юридических претензий по поводу этой публикации он не высказал)
Одновременно со мной по моей просьбе библиографическими разысканиями занимались журналист Андрей Кривов (Париж), журналист Борис Черный (Франция, Mathieu), библиограф Надежда Васильевна Рыжак (Москва, Российская Государственная Библиотека), библиограф Молли Моллой (США, Библиотека Стэнфорда). Большое спасибо всем.
Но это «ревю» мы так и не нашли.
В «Новом Журнале» были опубликованы две статьи Марголина, в подстрочных примечаниях к которым упоминается будущая книга Марголина «Дорога на Запад».
1. Non Omnis Moriar: «Новый Журнал»: 1953, кн.35: 59-71. Сноска: глава из готовящейся новой книги Ю. Марголина «Дорога на Запад». Ред.
2. Галя: «Новый журнал», 1953, кн. 33: 105-123. Сноска: Рассказ «Галя» - из готовящейся новой книги Ю. Марголина «Дорога на Запад». Ред.
В ЦСА есть рукописи, перепечатанные на машинке, относящиеся к марголинскому пути на Запад.
--Глава 1. Поезд свободы, конец марта 1946
--Глава 2. Non Omnis Moriar (Лодзь, лето 1946)
--Глава 3. Галя (рассказ о немецкой оккупации Столина вблизи Пинска)
--Конец Марии (лето 1946 в Лодзи, воспоминания)
--Сентябрь 1946 (Самолет Варшава-Париж) Два варианта перепечатки по неск экз. Третий вариант (первый?) имеет другое название: «В путь»
Опубликовано: Русская мысль, 1969 - 27 ноября, 4 и 11 декабря (170)
--Первое соприкосновение с семьей. Париж, 1946, рукопись от руки 1 стр.
--«Не волноваться». Письмо с дороги. (Марсель. 1946 сентябрь) Рукопись на машинке 6 стр
--«Гелиополис» (теплоход из Марселя в Хайфу, сентябрь 1946)
Опубликовано: Новое Русское Слово, 1956, 12 и 13 июля и Чижик, 2002: 41-55
По этим материалам мной составлен Раздел 3: «Дорога на Запад»
05. Для раздела 3 На Западе
Статья «Дело Бергера» публикуется здесь по текcту «Социалистического Вестника»,1946, #12 (592), 27 декабря: 275-278, где ей было предпослано
следующее заявление редакции журнала:
«Открытое письмо» д-ра Юлия Марголина, переданное в русском оригинале, общим знакомым, было на еврейском языке напечатано полностью в нью-йоркском «Форвертсе». Мы помещаем этот глубоко волнующий человеческий документ, принадлежащий перу безукоризненного и прогрессивного общественного деятеля, известного широким кругам польского еврейства довоенной эпохи, не только в виду информации, которую Марголин дает и которая, исходя из совершенно независимого от нас источника, полностью подтверждает нашу собственную информацию, но и в ввиду политического значения этого смелого обращения к совести. Редакция.
Статья была опубликована в сборнике «Несобранное», 1975:183-192 и в книге С. Н. Чижик «Судьба одной прокламации», 2002: 33-41
05a. Для раздела 3 На Западе
«Обращение к руководителям еврейской общественнсти» было опубликовано в книге С. Н. Чижик «Судьба одной прокламации», 2002: 33-41
06. Для раздела 3 На Западе
К статье 1948-1, раздел 4
К статье 1948-2, раздел 4
1948-1. Личная декларация Марголина опубликована в газете «Машкиф» 23 июня 1948 г (на иврите)
1948-2. Личное письмо Ю. Б. Марголина по поводу расстрела «Альталены»
написанно через несколько дней после этого события.
Письмо хранится в Центральном Сионистском Архиве в Иерусалиме: CZA, A536/50.
Опубликовано в газете «Еврейский Израиль», #20, август 2001, стр. 15
07. Для раздела 3 На Западе
К статье 1951-1, раздел 4
К статье 1951-2, раздел 4
1951-1. Марголин «Парижский отчет»
1951-2. Марголин. Предисловие к публикации «Парижского отчета» в 1970 году:
«От автора. Двадцать лет спустя»
В 1950 г Ю. Б. Марголин выступает одним из главных свидетелей на Парижском процессе Давида Руссэ против коммунистического журнала «Леттр Франсез», рассказывая о советских концентрационных лагерях. «Парижский отчет», написанный в 1951 г. сразу после Парижского процесса Руссэ для доклада на собрании израильского общества «МАГЕН» (по-русски) впервые был опубликован в Израиле только через двадцать лет, в 1970 г. в самиздате Голды Елин (см.Чижик, 2001). Он повторен в «Несобранном», 1975: 275-302, с небольшими купюрами и без предисловия автора, написанного в сентябре 1970: «От автора - 20 лет спустя». Свидетельства Ю. Б. Марголина на суде были сразу опубликованы по-французски в Париже: La bataille de David Rousset, T. Bernard - G. Rosenthal. Pour la verite sur les camps concentrationnales. Paris, Le Pavois, 1951: 108-119. Французские коммунисты объявили описания сталинских лагерей ложью, клеветой на СССР и выдумкой антисоветчиков. Главный редактор коммунистического журнала «Леттр франсез» Пьер Дэкс уверял на Парижском процессе 1950-51 гг, что места заключения в Сов. Союзе так пркрасны и образцовы, что он, француз, мог только завидовать народу, у которого такое блестящее достижение культуры - и желать Франции таких же прекрасных мест «перевоспитания». Он заявлял, что описание ужасов советских концлагерей является фальшифкой, сфабрикованной врагами человечества. В 1973 году, через 23 года, тот же Пьер Дэкс признался: «... я отказывался верить в существование концентрационных лагерей в Советском Союзе. Если бы это было так, то моя депортация в Маутхаузен, смерть стольких моих товарищей в бою потеряли бы смысл. Я, несомненно, решил добровольно оставаться слепым, боясь, что не смогу дальше жить, осознав, что коммунизм дожил до этого срама». Интересно, что почти в тех же выражениях объяснял свои ангажированные выступления поэт Борис Пастернак: «Мне хотелось втереть очки самому себе».
08. Для раздела 3 На Западе
К статье 1954-1, раздел 4
К статье 1954-2, раздел 4
1954-1. Статья «Судьба одной прокламации»
1954-2. Прокламация бывших узников советских концлагерей
Статья опубликована в 2002 г. (Чижик, 2002). Хранится в ЦСА, А536/34. Судя по материалам архива, ее предполагалось включить а «Несобранное», но не случилось. Весь 1954 г. Марголин занимался созданием Союза выходцев из советских концлагерей в Израиле. Летом 1954 г. временная комиссия Союза бывших лагерников расклеила в Т-А свою прокламацию, призывающую к созданию Союза выходцев из советских лагерей. О том, как этот плакат был в тот же день сорван со стен Т-А в связи с ожиданием советской делегации, Марголин рассказывает в статье «Судьба одной прокламации». Собрание марголинского общества лагерников все же состоялось в сентябре 1954 г в Т-А. Речь Марголина на этом собрании была опубликована в Нью-Йорке в «Новом Русском Слове» через месяц, а в Израиле - через 21 год. Никаких материалов о деятельности этого Союза в архиве не имеется. В конце рукописи выступления Марголина на собрании Союза от руки написано «Если этот Комитет будет называться МАОЗ или иначе, скажу - лучше поздно, чем никогда». Тут же от руки добавлено: «Приписка 1969 г.»
Прокламация, судьба которой описана Марголиным, представляет собой напечатанный в типографии небольшой плакат (27х21 см) с текстом на иврите. Хранится в ЦСА, А536/31 (Чижик, 2002). В настоящей публикации дан перевод с иврита текста прокламации и сканированный оригинал самой прокламации.
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ ПРИЛОЖЕНИЕ.
Краткая биография Ю. Б. Марголина
Юлий Борисович Марголин родился 14 октября 1900 г. в Пинске, который принадлежал тогда России вместе со всем Королевством Польским. В семье говорили по-русски. «Польский, литовский и еврейский обтекали мои уши, не проникая внутрь: я говорил, читал и писал исключительно по-русски, как учили меня родители»
За первые десять лет жизни Ю. Б. Марголина семья кроме Пинска жила в Столине, Варклянах, Костополе, Костюковичах, Литовской Меречи, в Соколах. Обычным было путешествие по железной дороге, особенно от станции Ланы до Клинцов и от Вильны до Гомеля. В 1910 г. он поступил в приготовительный класс Пинского реального училища, где учился до оккупации Пинска немцами в 1915. Во время войны продолжал учебу в Екатеринославе: 1915-1919 - в реальном училище, 1920-1922 - в Екатеринославском Высшем Институте Народного Образования (ВИНО). Одновременно работал обследователем от американской организации помощи бедным АРА. Вернулся в Пинск в конце 1922 г.
Карта мест детства Ю.Б. Марголина
В 1923 г. Ю. Б. Марголин поступил на философский факультете Берлинского университета, который закончил в 1929 г. с диплом д-ра философии, написав по-немецки диссертацию Grunphaenomene des intentionalen Bewusstsein. Участвовал в семинаре Ю. Айхенвальда по русской литературе и поэзии, сотрудничал в сменовеховской газете «Накауне».
4 января 1926 г. обвенчался с Евой Ефимовной Спектор (в Лодзи), в октябре 1926 г. у них родился сын.
В 1929 г. после последнего экзамена в университете поселился с женой и сыном в Лодзи, где познакомился с Жаботинским и вступил в Бейтар
В 1936 г - первая поездка в Палестину, в результате которой жена и сын остались там насовсем. Марголин был вынужден вернуться в Польшу, чтобы продолжать работу в Лодзи. В 1937 г он получает сертификат постоянного жителя Палестины, но сохраняет польское гражданство.
Сентябрь 1939 г. застает его в Лодзи. После неудачной попытки вырваться в Палестину оказывается в оккупированном советскими войсками Пинске, где 19 июня 1940 г. его арестовывают и без суда отправляют на пять лет в Гулаг (1940-1945).
В начале марта 1946 г. (после года «вольной» жизни в Алтайском Крае) он покидает эту страну в поезде Славгород - Варшава, который осуществлял репатриацию польских граждан по договору 1945 г.
В середине сентября 1946 г. на теплоходе «Гелиополис» отбывает из Марселя в Хайфу. Ю. Б. Марголин прибывает в Палестину в конце сентября или начале октября 1946 г.
20 ноября 1946 он пишет обращение к руководителям еврейской общественности о судьбе сионистов в советских лагерях, ожидающих немедленной помощи от Сионистского Движения, иначе они там погибнут.
В декабре 1946 он публикует открытое письмо «Дело Бергера» с глубоким анализом советской лагерной системы. Он описывает судьбу сионистов, похороненных в советских лагерях на примере прекрасного человека доктора Беньямина Бергера, сиониста из Риги. Статья опубликована на иврите (журнал «ХаХевра», Израиль), на идише («Форвертс», Нью-Йорк) и по-русски («Социалистический Вестник», #12).
C 15 декабря 1946 по 25 октября 1947 Ю. Б. Марголин пишет «Путешествие в страну зе-ка»
1948 - Марголин публикует личную декларацию об Альталене
1950 - Марголин выступает в ООН о советских лагерях
1950-1951 - Марголин выступает свидетелем свидетель на Парижском процессе Руссэ
1951 - Марголин участвует в конгресс деятелей культуры против лагерей в Бомбее
1954 - Марголин пытается создать в Израиле об-во бывших лагерников
1958 - Общество помощи еврейству СССР (МАОЗ) было создано Шабтаем Бейт-Цви в 1958 г. Марголин не вошел в МАОЗ. В интервью 1998 Голда Елин так ответила на мой вопрос: «Нет, формально он не был членом МАОЗа. Все дела секретариата, членство, финансы, всю переписку - идеологическую и техническую - вел Шабтай Бейт-Цви. Я не понимала, почему он не приглашает Марголина принять участие в нашей деятельности, но я не позволяла себе спросить» (см. Чижик, 2002)
В 1968 Голда Елин, получив согласие Ю. Б. Марголина, начала печатать в Самиздате его статьи. В отчете МАОЗа за 1969 г. среди учебных мероприятий этого общества упоминаются лекции Ю. Б. Марголина по истории Израиля.
С 1953 по 1969 Ю. Б. Марголин читает лекции в Нью-Йорке, Париже, Франкфурте, рассказывая о жизни советских евреев и призывая к борьбе за их освобождение.
Ю. Б. Марголин публикует множество статей в израильских, американских и французских газетах: литературные статьи и рецензии, философские и политические статьи, статьи об Израиле. В составленном мною списке статей Ю. Б. Марголина присутствует 969 названий. И он далеко не полон.
В настоящей публикации совсем не затронута поэзия Ю. Б. Марголина - его стихи, написанные в студенческие годы и в лагере, частично опубликованные. Это отдельная тема.
Ю. Б. Марголин скончался 21 января 1971 г. в Тель-Авиве
Проф. И. А. Добрускина
КАРТИНКИ-ЗАГАДКИ.
Это фотографии из архива Ю. Б. Марголина. Я не знаю, кто изображен на этих фотографиях. Никто из опрошенных мною людей также не смог ответить на этот вопрос. Я очень рассчитываю на то, что кто-нибудь из читатаелей знает ответ и сообщит его нам. Пожалуйста!
Адрес автора сайта: innadob@bezeqint.net
Пишите. Жду.
Если кто-нибудь знает что-нибудь о публикации Ю. Б. Марголина
«Дорога на Запад» 1954 (см. Письмо Сараны),
пожалуйста, сообщите нам.
Справка об авторе настоящего сайта
Очерк «О жизни Ю. Б. Марголина» составлен автором настоящей публикации проф. И. А. Добрускиной на основании материалов Центрального Сионистского Архива в Иерусалиме (ЦСА, А536). Вдова Ю. Б. Марголина передала архив мужа Голде Елин незадолго до своей смерти в 1977 г. Голда Елин продолжала публикацию статей и книг Марголина, начатую ею с его согласия в 1968 г. Она работала с его рукописями, готовила их к печати, переводила на иврит, использовала для семинаров и вечеров памяти Марголина. Архив Марголина стал неотъемлемой частью архива Голды Елин, архива МАОЗа. После смерти Голды Елин эти материалы приняты на хранение Центральным Сионистским Архивом в Иерусалиме (А536).
С декабря 2000 по май 2001 И. А. Добрускина разбирала архив Голды Елин в Петах Тикве и в Т-А (ул. Мельчет,4). 22 мая 2001 большая часть архива перевезена в Центральный Сионистский Архив (ЦСА) в Иерусалиме. И. А. Добрускина работала в ЦСА с мая 2001 по октябрь 2003. Результатом этой работы явился составленный ею каталог: List of files of the papers of Golda Elin. A536. The Central Zionist Archives. Jerusalem, April 2004.
На основании изучения архивных материалов И. А. Добрускиной опубликованы две брошюры и статья (под псевдонимом С. Н. Чижик), а также составлена брошюра, посвященная сорокалетию МАОЗа:
Чижик С. Н. 2001. «МАОЗ - общество помощи еврейству СССР» 80 стр. Иерусалим.
Чижик C. Н. 2002. «Судьба одной прокламации: Израильский коммунизм против Юлия Марголина», 88 стр. Иерусалим.
Чижик С. Н. 2005. «Ю. Б. Марголин в Берлине: 1923-1929». Еврейский Книгоноша, #7: 55-63. Мосты культуры - Гешарим, Москва-Иерусалим.
Чижик С. Н.(составитель) 1998 «МАОЗ: общество помощи еврейству в СССР (движение национального сионизма). К сорокалетию образования общества МАОЗ», 38 стр. Издание амуты «Мишмерет Шалом», Иерусалим.
Работая над архивом Ю. Б. Марголина, она надеялась опубликовать о нем книгу. Но не сумела найти для этого денег. Тогда возникла идея составить сайт для интернета, что и было ею сделано без какой-либо помощи со стороны. В настоящий сайт кроме полного «Путешествия в страну зе-ка» включены не вошедшие в книгу публикации и архивные материалы на ту же тему и материалы о жизни Ю. Б. Марголина.
И. А. Добрускина закончила Геологический факультет Московского Университета. Работала на Кавказе, Приамурье, Сибири, Средней Азии. Кандидатскую диссертацию (PhD) защитила в 1964 г, докторскую (DSci) в 1977 в Москве. Ею опубликованы 4 книги и более ста статей по геологии. Докторская диссертация издана по-английски в трудах Австрийской АН.
В Израиль приехала 25 июня 1989 с двумя детьми. Работала с перерывами в Институте Наук о Земле Иерусалимского Университета с 15 января 1990 по 31 мая 2000 г
Комментарии
1
На сегодня - 2016г. - положение изменилось.
1.
«Путешествие в страну Зе-Ка» на иврите
Презентация книги Юлия Марголина «Путешествие в страну Зе-Ка» на иврите, Мецудат Зеэв, Тель Авив, 13 февраля 2014
Больше подробностей по ссылке -
2.
«Путешествие в Страну Зе-Ка» Юлия Марголина — народное издание
Впервые на русском языке будет напечатан полный текст двух книг Юлия Марголина: «Путешествие в Страну Зэ-Ка» и «Дорога на Запад». Эфраим Марголин, единственный сын Юлия и владелец авторских прав, позволил опубликовать в Израиле книги отца под эгидой Института Жаботинского.
Подготовка к печати (составление, корректура, карты и т.п.) производится безвозмездно. Двухтомник будет продаваться не дороже 69 шекелей. Продажа вне Израиля запрещена, но те, кто купит в Израиле, смогут послать книгу за границу.
Сейчас заканчивается подготовка к печати. Важно знать заранее заказываемый тираж, чтобы определить стоимость типографской работы. После заказа подписчики заплатят Институту Жаботинского и получат книги либо по почте за дополнительную плату, либо у доверенных лиц в разных районах Израиля.
Присылайте заказы координаторам, указывая имя, число книг, электронную почту, телефон, город:
Миша Шаули, mishauli@012.net.il, 052-5649955. Миша Шаули — полковник в отставке полиции Израиля. Издательский опыт приобрёл, редактируя книгу Марголина на иврите, переводя, редактируя и издавая на иврите «Ледокол» Виктора Суворова и редактируя его книгу «The Chief Culprit», вышедшую в США.
Иван Нави, ivansvet@gmail.com, 053-4305133,
Давид Рабкин, david@rabkin.co.il, 054-5950695,
Список подписчиков можно посмотреть по ссылке:
-book
Больше подробностей по ссылке -
3.
Полное «Путешествие в Страну Зе-Ка» готова к изданию.
Уважаемые почитатели Юлия Марголина,
1. В приглашении подписаться было обещано: «двухтомник будет продаваться не дороже 69 шекелей» при минимальном заказе ста двухтомников.
Заказаны 138 экземпляров, и посему каждый двухтомник стОит 54 шекеля.
2. Я проверил распечатки обоих томов иерусалимской типографией סטודיו קליק, и всё в порядке.
3. Я договорился с Сашей Каплуновским, владельцем типографии (на приложенном фото - без очков), что начнёт завтра печатать текст, не дожидаясь всего платежа. Обложки напечатает в конце и приклеит.
4. Теперь дело чести - заплатить пораньше, желательно в течение недели. Институт Жаботинского и типография выяснили, что удобнее и дешевле, если деньги заплатим непосредственно типографии:
Банковские реквизиты....................
Почтовый адрес для посылки чеков: ................
5. Учитывая скорость и надёжность израильской почты, рекомендую переправлять деньги компьютером, а не чеками. Обращаюсь к кфар-савцам и другим приятелям:могу заплатить за вас, трепетно надеясь, что вернёте при получении заказа. Привезу из иерусалимской типографии для передачи лично в районе Кфар Сава.
6. Иначе вам придётся и доплатить за доставку, и тащиться на почту. Могу привезти в Кфар Сава и для передачи в районы Севера и Юга, если найдутся добровольцы забрать у меня и передать подписчикам там.
7. Если предпочитаете получить по почте (тариф прилагается), то знайте, что вес двухтомника будет 750-800 г.. Имеет смысл вкладывать 2 двухтомника в наименьшую посылку до 2 кг. До 5 кг. - 6 двухтомников, до 10 кг.- 12 (но тяжело таскать). Если несколько человек захотят послать вскладчину – и печатнику проще послать, и читателям дешевле.
8. Посылаю всем ВСС, т.к. не уполномочен раскрывать ваши адреса эл. почты.
Ваш,
Миша Шаули, 052-5649955
Больше подробностей по ссылке - http://i-navi.livejournal.com/610796.html
(обратно)2
-ze-ka.tripod.com/
Профессор Инна Добрускина сообщает о том, что поместила в Интернет для свободного чтения собранный и систематизированный ею материал из архива Д-ра Юлия Борисовича Марголина. Как многие знают, Инна Добрускина посвятила несколько последних лет разбору и систематизации архива Голды Елин, бессменного – на протяжении 40 лет! - руководителя сионистской организации МАОЗ.
В архиве Голды Елин был обнаружен и архив д-ра Марголина, переданный его вдовой Голде Елин после его смерти. На основании работы над архивом Марголина проф. Добрускина подготовила и издала – на собственные средства – две бесценные брошюры, которые помогают понять, почему произведения д-ра Марголина, одного из крупнейших еврейских философов современности, идеолога сионизма и антикоммунизма, по сей день остаются в Израиле «самиздатской» литературой. К сожалению, на продолжение публикаций марголинского архива у проф. Добрускиной средств нет. Поэтому она решила предоставить возможность для знакомства, хотя бы частичного, с его творчеством читателям Интернета.
«Я приглашаю Вас в Интернет для чтения произведений Марголина,
связанных с его „путешествием в страну зэ-ка“», пишет она в сопроводительном письме. «Вы найдете на сайте:
1. Полный текст книги „Путешествие в страну зэ-ка“, выверенный по рукописи автора - без купюр, сделанных издательством им. Чехова в 1952 г.
2. Три статьи, не вошедшие в книгу.
3. Статьи, описывающие путь Марголина из ссылки через Польшу и Францию в Палестину в 1946 г.
4. Статьи и призывы к свободному миру спасти погибающих в Гулаге сионистов, а также статьи и выступления, разоблачающие систему советских концлагерей.
Когда я собирала этот материал, я надеялась напечатать книгу. Но не сумела найти для этого денег. Поэтому я поместила его в Интернете на сайте по адресу: -ze-ka.tripod.com
Читайте».
Все, что известно читателям из произведений Марголина, стало известно лишь благодаря подвижничеству Голды Елин, которая разбирала, систематизировала и публиковала его книги, эссе, статьи. Теперь это подвижничество продолжает Инна Добрускина. Низкий ей поклон и глубочайшая благодарность.
(обратно)Примечания
1
Для евреев хлеба нет - евреи виновники войны. (нем.) - Примечание Марголина
(обратно)2
Для евреев музыка кончилась (нем.) - Примечание Марголина
(обратно)3
Ицик Мангер, еврейский лирический поэт 30 - 40-х годов - Примечание Марголина
(обратно)4
«3авл Ример» Менделя Борейши - стихотворная хроника о гонениях на евреев в России после Первой мировой войны
(обратно)5
Моше-Лейб Гальперин - поэт и прозаик, писавший на идиш в 20 - 30е годы
(обратно)6
Моше Кульбак - еврейский поэт из Германии, бежавший от нацистов в СССР и погибший перед войной в сталинских лагерях - Примечания Марголина
(обратно)7
Innerlichkeit - проникновенность (нем.) - Примечание Марголина
(обратно)


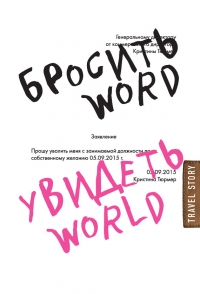
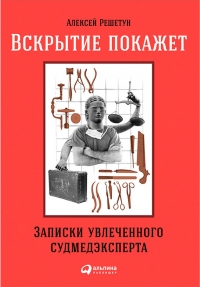




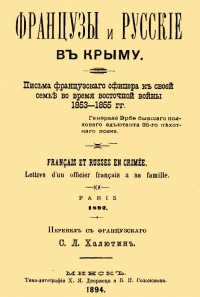
Комментарии к книге «Путешествие в страну Зе-Ка», Юлий Борисович Марголин
Всего 0 комментариев