Женевьева Табуи Двадцать лет дипломатической борьбы
G. Tabouis
VINGT ANS DE “SUSPENSE” DIPLOMATIQUE
© Грифон М, 2005
© Игорь Борисович Северцев, оформление, 2005
* * *
Воспоминания французской журналистки из дипломатической среды Женевьевы Табуи (1892–1985) представляют огромный интерес для любого читателя, интересующегося историей XX века, века несбывшихся надежд и страшных потрясений. Эти мемуары словно пустотные следы древнего трилобита в толще окаменевшего известняка, следы живого, хотя уже давно не существующего…
Книга завораживает, не только из-за плотной информативности, но и за счет беллетризованного, легкого, остросюжетного изложения многих реалий тех лет, которое переплавляет оловянный язык исторических документов и алхимическим образом делает из них настоящее «золотое криминальное чтиво»…
Предисловие современного издателя
Воспоминания французской журналистки Женевьевы Табуи, родившейся в начале ХХ века и ставшей свидетелем неимоверных страданий, которые принес этот век, представляются глубоким и отчетливым отпечатком времени, которое оказалось критическим для европейской цивилизации – периода созревания и развязывания Второй мировой войны. Это словно пустотные следы древнего трилобита в толще окаменевшего известняка – следы живого, хотя уже давно не существующего… Воспоминания Табуи крайне интересные, даже завораживающие, не только из-за плотной информативности, но и за счет беллетризованного, легкого, остросюжетного изложения многих реалий тех лет, которое переплавляет оловянный язык исторических документов и делает из них настоящее «золотое криминальное чтиво»… Здесь все кипит, здесь жизнь во всех ее, увы, не вполне благопристойных проявлениях, тут бьет могучая струя истории, и, конечно, читатель многое сможет понять в национальном характере французов и их историческом взгляде на взаимоотношения Франции, Германии, Англии, Соединенных Штатов и России (тогда СССР). Наверно, есть глубокий смысл в сентенции, что правду следует узнать только тогда, когда она уже осталась в далеком прошлом.
Дипломатический корреспондент ряда влиятельных французских и швейцарских газет, часто обсуждавшая с Марселем Розенбергом (представителем СССР при Лиге Наций) и хорошо понимавшая внутренние правила работы этой многоукладной организации, Женевьева Табуи многое знала и о многом догадывалась. Лига Наций была своего рода «первой неудачной заготовкой» для ООН, которая в наше время и на наших глазах тоже лишается содержательного смысла, как семьдесят лет назад это случилось с Лигой Наций. Женевьеве Табуи стали известны тайные пружины и рычаги противоборства мировых держав при первых попытках достигнуть согласия. Она сумела написать своего рода историю Мировой войны (а именно так некоторые историки сейчас называют весь период европейской истории ХХ века), подчеркивала важность союза Франции и России, разоблачала планы Германии начать – прикрываясь необходимостью борьбы с советской угрозой – войну за передел мира. В разгар боев за Мадрид во время гражданской войны в Испании Табуи опубликовала секретную переписку французских дипломатов, из которой вытекали доказательства итало-германского вмешательства в Испании.
Сегодня мы не только из книги Ж. Табуи, но и из художественных произведений М. Кундеры или мемуаров советского контрразведчика П. Судоплатова можем узнать о подоплеке глобальных переделов Европы, да и всего мира, которые происходили в ХХ веке. Но книга Табуи захватывает не только своей достоверностью, она в полном смысле слова есть такое отражение эпохи, где на отпечаток словно наложен слой особого фиксирующего лака – литературного мастерства, – с целью накрепко запечатлеть его… И воспринимая этот опыт, следует понимать, что тоталитаризм, который в течение почти всего ХХ века был основой российского общества, больше не способен выполнять организующую функцию. Милан Кундера в своем недавно вышедшем романе «Неведение» отмечает такой взгляд европейца середины ХХ века на происходящие события: «Какой бы чудовищной ни была фашистская диктатура, она исчезнет вместе со своим диктатором… Напротив, коммунизм… остается туннелем, из которого нет выхода. Диктаторы смертны, Россия вечна». Можно прокомментировать, что Россия уже не такова, какой она была в середине ХХ века. И Табуи была права, когда во время коротких визитов в Россию смогла увидеть и описать этот потенциал грядущего освобождения в российском народе.
Немало можно сказать и о даре предвидения Женевьевы Табуи. Будучи, по сути дела, разведчицей «под крышей» французской прессы, она способна была распознать через так называемых посредников малейшие изменения в настроениях Гитлера или Муссолини, Чемберлена или Рузвельта. После аншлюса Австрии сбылись ее предсказания, что следующей жертвой Гитлера станет Чехословакия.
Накануне капитуляции Франции в середине июня 1940 г. Табуи из Бордо добирается до Лондона, а вскоре переезжает в Америку. В 1942 г. в США она издает свою книгу «Они называли ее Кассандрой». После войны Женевьева Табуи вернулась в Париж, в 1948 г. ее наградили орденом Почетного Легиона.
Заслуги Табуи действительно бесспорны в деле расследования войн – их зарождения и развязывания. К примеру, как Германии удалось навязать миру Вторую мировую войну? Война и мир – в изложении Женевьевы Табуи этот вопрос не менее прост, чем в романе Льва Толстого.
В Лиге Наций еще в 1930-е годы целое «созвездие» миротворцев трудилось над разработкой принципов, гарантий коллективной безопасности. Неоднозначные, а порой и однозначно плачевные результаты этой деятельности мы видим воочию. Это все подробно и с горьким сарказмом изложено в книге. Женевьева Табуи действительно оказалась Кассандрой в том смысле, что предсказала не просто передел Европы, а ее перерождение и постепенный переход в новое качество. О верности этих прогнозов сегодня, через много лет после ее смерти, свидетельствуют современные события на всем огромном пространстве Евразии, где Россия пока не определилась со своей миссией.
Р. ОгинскийГлава 1. Версальский договор
Свободное место. – Спутник победителей. – Бернард Шоу и договор. – Озаряющий свет человеческого разума. – В буфете театрального фойе. – Четверо грустных полномочных представителей. – Клемансо против Фоша. – Злословие элегантного «всего Парижа». – Приветствия Падеревского. – Клемансо, дамы и Средневековье. – Профессор Госсэ, морфий и сироп оршада. – Что же начинается? – Мейнар Кейнс и Ллойд Джордж, «скорее подписание, чем урегулирование». – Злопамятность Клемансо.
Версаль… 28 июня 1919 года… три часа пополудни.
В Зеркальном зале главы государств, президенты, главы правительств, послы, министры и маршалы двадцати шести стран занимают места на тесно сдвинутых в ряд золоченых стульях.
После четырех лет борьбы Первая мировая война окончена, Германия, наконец побежденная, собирается подписать мирный договор.
* * *
Внизу мраморной лестницы Андре Тардье и Клемантель встречают Клемансо, который в своем черном сюртуке и серых перчатках вызывает бурную овацию.
Свойственным ему резким голосом он замечает: «Вообще-то, следовало бы постелить ковры на мраморной лестнице».
Он поднимается по ней, шагая через несколько ступеней. На площадке он пожимает руки солдатам – инвалидам войны, для которых он позаботился отвести место у окна, позади стола для подписания договора. «Вы страдали, – говорит он им, – вот ваша награда!»
* * *
В центре Зеркального зала сооружено небольшое возвышение. Великие мира сего и двадцать пять привилегированных дам смогут таким образом увидеть, как полномочные представители и делегаты поставят свои подписи под Версальским договором…
Клемансо садится в центре длинного стола, лицом к окнам. Справа от него – президент Соединенных Штатов Вильсон, слева – Ллойд Джордж. Место маршала Фоша остается свободным; он не одобряет договора, считая, что «последний не обеспечивает безопасности Франции».
Бьет три часа.
В зал входит очень бледный, в старом черном сюртуке, новый германский министр иностранных дел Герман Мюллер.
Вдруг появляется солнце. Оно освещает террасы и листву парка, оно отражается в зеркалах и всех ослепляет.
Вполголоса Клемансо говорит: «О солнце, спутник победителей! Солнце Аустерлица… Солнце Марны, останься нам верным! Согревай всегда наши сердца и древнюю землю Франции!»
Заведующий протокольным отделом приступает к поименному вызову немецких делегатов, а затем, в порядке очередности, всех делегаций, министры которых будут подписывать договор.
В три часа пятьдесят минут подписание договора полномочными представителями заканчивается. Раздается гром орудийных салютов в честь победы, и его раскаты усиливают слова Клемансо: «Господа, все подписи поставлены. Подписание условий мира между союзными и присоединившимися державами и Германской республикой свершилось. Карта освобожденного мира окончательно установлена. Заседание закрывается!»
* * *
После этого главы государств, министры, генералы, дипломаты направляются в парк.
Клемансо отделяется от общего шествия, так как он желает пройтись вместе с Вильсоном и Ллойд Джорджем.
Охваченная энтузиазмом толпа приветствует трио. Союз этих трех людей представляется ей надежным залогом мирного и цветущего будущего.
И тем не менее!
18 января 1919 года президент Французской республики Пуанкаре, торжественно открывая в отеле «Крийон» работу Мирной конференции, сказал: «Господа, ровно сорок восемь лет назад в Зеркальном зале Версальского дворца была провозглашена Германская империя. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы разрушить и заменить то, что было создано в тот день».
Глядя на проходящее мимо трио, Бернард Шоу, всегда полный сарказма, произносит: «Пять месяцев переговоров слишком похожи на историю о “десяти маленьких туземцах”, которые в результате различных приключений исчезают один за другим, пока наконец десятый не остается один! Разве мы не видели, как сначала заседал Совет десяти, затем Верховный Совет пяти, затем Совет четырех и наконец Совет трех, тех самых, кому толпа сейчас аплодирует. Они и есть строители новой Европы».
Весь Париж знает, что именно президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон постоянно брал верх над Клемансо и Ллойд Джорджем! Всем известно, что Вильсон не очень хорошо знает Европу, но что он считает себя посланником Бога, которому предназначено принести человечеству новый порядок; всем известно, что Вильсон прежде всего потребовал создания Лиги Наций, повторяя при этом:
«Лига Наций должна действовать как организованная моральная сила людей всего мира, чтобы озаряющий свет человеческого разума, сконцентрировавшись, выступил против всякого несправедливого акта или любой преднамеренной агрессии и чтобы великий голос человечества строго спросил: “Какие намерения питаете вы в вашем сердце против мира и спокойствия народов?”»
Благодаря энергичному вмешательству муниципальных гвардейцев удается отделить «трио» от участников конференции и гостей, которые медленно направляются в фойе театра.
Престарелый председатель сената Леон Буржуа, один из участников подготовки договора, в который раз рассказывает элегантному председателю палаты депутатов Полю Дешанелю о знаменитом заседании конференции 8 марта:
«Президент Вильсон, положив руку на Библию, прочитал нам Устав Лиги Наций под аплодисменты, довольно сдержанные, одного Клемансо. Но сенат в Вашингтоне не хочет быть втянутым в войну. Вот почему Вильсон опустил в тексте договора все, что могло бы повлечь за собой автоматическую военную помощь государству, подвергшемуся несправедливому нападению. Бельгия и Франция получат достаточно времени для того, чтобы подвергнуться удушению, прежде чем будет принято только лишь решение о вступлении в действие Лиги Наций».
И в заключение мрачно настроенный Леон Буржуа добавляет: «Подумать только, что за три дня до этого я сам предложил снабдить Лигу Наций средствами, способными заставить уважать ее решения… армией. Но президент Вильсон настоял на отклонении моего предложения».
* * *
Все толпятся в буфете театрального фойе. Отовсюду слышны лишь критические замечания.
Четырех из пяти французских полномочных представителей по заключению мирного договора (министра иностранных дел Пишона, министра финансов Клотца, бывшего французского посла в Берлине Жюля Камбона и Андре Тардье) безжалостно засыпают градом вопросов.
Только одни из четырех, Андре Тардье, жестикулируя мундштуком, сияет от удовольствия. Он расхваливает договор: «Мы перекроили Европу согласно концепциям права и справедливости, – говорит он. – Мы создали новые страны. Польша и Чехословакия вновь обрели свою независимость. Можно, конечно, критиковать Версальский договор, но кто смог бы сделать лучше?»
С грустным видом посол Жюль Камбон отвечает: «Да, но не забывайте, что третьего марта в Вашингтоне сенатор Лодж увлек за собой тридцать восемь из шестидесяти своих коллег, которые вместе с ним проголосовали против какого бы то ни было участия Америки в организации мира и Лиге Наций, и что десятого июля этого года американский сенат, не заботясь об обязательствах, принятых сегодня, проголосует за возвращение Америки к политике изоляционизма».
Министр иностранных дел Стефан Пишон, которому непрерывно задают вопросы, признается: «К пятнадцатому марта Вильсону и Ллойд Джорджу удалось убедить Клемансо отказаться от требования французов обосноваться на Рейне. С тех пор маршал Фош все время выступает против договора. “Если нам не будет предоставлена эта военная граница, – неоднократно повторял он, – то Франция и Бельгия останутся открытыми для вторжения и нас снова ожидает разгром…”»
Самые ответственные чиновники различных министерств все еще потрясены следующим фактом.
Отказ от постоянной оккупации французами Рейна показался президенту республики Пуанкаре настолько серьезной ошибкой, что он решил подать в отставку. 28 апреля он направил Клемансо пространное письмо, дабы предупредить его, что, согласно полученной им информации, «Англия и Америка практически никогда не окажут Франции поддержки в применении договора».
Окруженный толпой со всех сторон, генерал Вейган, страстно и ясно излагающий свои мысли, отвечает каждому и рассказывает, что на заседании Совета министров, предшествовавшем пленарному заседанию конференции 6 мая (на котором делегатам двадцати шести стран был роздан текст договора), маршал Фош потребовал, чтобы в последний раз были изложены причины, в силу которых договор не может считаться обеспечивающим Франции необходимых гарантий ее безопасности. Маршал настаивал на том, чтобы Верховный совет пересмотрел свои решения.
Клемансо был взбешен. Он ответил Фошу:
«Поскольку маршал не входит в состав Совета министров, ему остается только удалиться. Министры обсудят этот вопрос между собой».
После этого наступило время вечернего чаепития. Атмосфера была удручающая. Затем четверо встречаются вновь. И после окончания заседания Клемансо ограничивается тем, что говорит Фошу: «Ответа не будет. Членам Верховного совета надлежит “рассматривать”, а не “доказывать”».
* * *
К счастью, пересуды элегантного «всего Парижа» меняют атмосферу. Принцесса Фосиньи-Люсэнж, маркиза д’Орнано, графиня д’Оссонвиль почти сожалеют о подписании договора! Конец головокружительному ритму приемов!
Конец обедам у лорда Бальфура, куда привозили Сару Бернар, лишившуюся недавно ноги после ампутации… Конец вечерним представлениям в опере, где президент Польской республики Падеревский вызывал сенсацию, появляясь в президентской ложе и приветствуя широким театральным жестом зрителей, которые вставали и от восторга топали ногами, в то время как присутствовавшие в зале англичане ворчали: «О чем думают эти поляки, прислав пианиста в качестве полномочного представителя!»
Цвет мужской части «всего Парижа» – герцог де Монморанси, барон Гурго и герцог де Шуазель – подтрунивают над неудачами старой мадам де Витт-Шлюмбергер в ее крестовом походе за право голоса для женщин. «Президент Вильсон нередко любезно разговаривал с ней, – иронизируют они, – но Клемансо всегда плохо принимал ее. Как только дверь закрывалась за ней, “Тигр” рычал: “Если бы мы были в протестантской стране, я дал бы им их право голоса, но в стране католической я этого не сделаю… я не хочу возвращаться к средневековью”».
У Бриана феминистки будут иметь не больший успех! «Если бы я предоставил им право голоса, – ворчал Аристид (Бриан П. – Примеч. ред.), – то мне все-таки пришлось бы поцеловать некоторых из них… а они всегда так уродливы!»
* * *
Некоторые вспоминают критические замечания по адресу договора, на которые не скупились парламентарии.
«Проблема европейского равновесия и в самом деле, кажется, ускользнула от участников переговоров», – говорил Шарль Бенуа в кулуарах Бурбонского дворца Морису Барресу, который, в свою очередь, заметил: «Подумайте, что если когда-нибудь Австрия присоединится к Веймарской республике, то тем самым с избытком будут компенсированы для Германии территориальные потери, понесенные ею: Эльзас-Лотарингия и польские земли!»
А академик-историк Жорж Гуано в заключение говорил: «Следовало бы послушать Жюля Камбона и обязать входящие в состав имперской Германии государства, каждое в отдельности, подписать мирный договор. Подписание мира одной только Веймарской республикой не возлагает ответственности на все государства».
Воцаряется молчание, ибо каждый вспоминает, что Клемансо ответил Жюлю Камбону: «Никогда в жизни, никогда нам не оплатят наших потерь. А вы, вы – упорный сторонник старых предрассудков, вы хороши лишь для дипломатии времен Реставрации или даже Людовика XIV».
«Но в сущности, – добавляет Гуайо, – расчленить надо было именно Германию, а не Австрию!»
* * *
Некоторые, относящиеся к договору более терпимо, вспоминают о покушении на Клемансо 19 февраля 1919 года, вследствие чего поневоле серьезно замедлилась работа конференции. Жорж Мандель рассказывает: «Хирургам, лечившим премьер-министра Клемансо, не всегда приходилось сладко».
– Итак, дорогой премьер-министр, что же произошло? – сказал, входя, хирург Госсэ.
– Произошло то, что у меня в спине пуля и ее надо оттуда извлечь!
– Одну минуту, сначала я должен вас выслушать!
Клемансо с нетерпением ожидает конца осмотра.
– А теперь поторопитесь извлечь ее!
– Ни за что на свете, – говорит Госсэ.
– Вы не хотите ее извлечь?
– Нет.
– Я вам приказываю извлечь эту пулю!
– Я ее не извлеку.
– Госсэ, вы каналья!..
– Очень может быть, что я и каналья… но я ее не извлеку! И кроме того, сохранив в себе эту пулю, вы увеличите вашу популярность!
Клемансо смотрит на него, пожимает плечами и восклицает:
– Уф… уф… Что такое популярность? Эго всего лишь сироп оршада!
– Господин премьер-министр, вам нужно принять морфий.
– Морфий? Морфий? – кричит Клемансо. – Вы хотите, чтобы я немедленно околел? Уж не подкуплены ли вы большевиками?
* * *
На залитый огнями Париж опускается вечер 28 июня 1919 года.
Среди огромного количества народа, среди шума и взрывов осветительных ракет идут одно за другим факельные шествия к площади Согласия, по бульварам и к статуе Бельфорского льва. Ярко освещенные памятники отражаются в Сене.
Незнакомые люди обращаются друг к другу!
С балкона театра Оперы мадемуазель Демужо поет «Марсельезу». С Эйфелевой башни летят в небо и на Париж огромные вращающиеся снопы лучей трех национальных цветов.
Повсюду песни, танцы, шествия, балы!!!
Выходя поздно вечером из министерства иностранных дел, несколько дипломатов во фраках и цилиндрах медленно спускаются по широкой лестнице.
Прощаясь, они приходят к общему выводу: «Германия сумеет использовать франко-английские разногласия, которые отчетливо проявляются во всех статьях договора. В особенности она постарается использовать противоречия между Версальским договором и Уставом Лиги Наций. Действительно, добавляет Морис Палеолог (тот стремительный посол, о котором Клемансо еще накануне говорил: «Это какое-то животное. Когда я его слушаю, я всегда бываю оглушен, но никогда ничего не понимаю!»), Устав предусматривает пересмотр договора. Версальский договор не допускает никакого пересмотра. Устав Лиги Наций отвергает систему союзов и навязывает систему «коллективных пактов»; Версальский договор укрепляет военные союзы и исключает из коллективных пактов бывшие вражеские державы. Эти прискорбные противоречия могут привести нас, как с той, так и с другой стороны, лишь к самым страшным безумиям!»
У решетки здания на Кэ д’Орсэ швейцар спрашивает: «Итак, господин посол, все-таки это победа?» – «Да, – отвечает Жюль Камбон, – это победа! Весь мир считает, что все кончилось… но я – я задаю себе вопрос: что же начинается?»
* * *
Уходя из посольства Англии на улице Фобур Сент-Онорэ, английский экономист Мейнар Кейнс, прощаясь с Ллойд Джорджем, говорит ему: «Если я правильно понимаю, создатели мирного договора добились скорее подписания, чем урегулирования».
На улице Сен-Доминик, в полумраке своего кабинета, Клемансо (вернувшись с вокзала Сен-Лазар, где он провожал президента Вильсона) принимает поздравления своих ближайших сотрудников.
«То, что я сделал для мира, это пустяки, – говорит он Тардье. – То, что я еще сделаю, прежде чем умру, также будет незначительно. Все предстоит сделать моим преемникам, так как этот договор является непрерывным становлением, если только он не будет полным провалом!»
Перед Жоржем Манделем он даст волю своей злобе на Ллойд Джорджа: «Я не прощу ему, что второго июня он еще угрожал мне снять свою подпись под условиями мира, если я не буду в значительно большей мере принимать во внимание немецкие контрпредложения!»
После наступившего молчания Жорж Мандель напоминает ему: «Господин премьер-министр, а ваша завтрашняя речь в парламенте о договоре… Когда вы будете готовить ее? Страна ждет ее!»
Отпустив всех, «Тигр» садится за свой письменный стол. Он пишет: «Господа, отныне Франция и ее союзники выполнили миссию спасения человечества. Настал день, когда сила и право, до сих пор опасным образом разъединенные, должны объединиться, дабы обеспечить мир для народов, занятых своим трудом. Пусть человечество воспрянет, чтобы жить полной жизнью!»
Глава 2. В Лиге Наций
Прекрасная эпоха Протокола. – «Создание мира требует больше мужества, чем война». – Женевский кавардак. – Вечера в «Отель де Берг». – Фермеры Бриан и Лушер. – Лебеди с острова Жан-Жака Руссо. – Суждение Политиса.
А время идет…
17 июня 1924 года в палате депутатов председатель Совета министров Эдуард Эррио, победивший на выборах 11 мая, выступает с министерской декларацией.
Эдуард Эррио обещает отказаться от политики силы и проводить политику сотрудничества с Германией на базе соглашения с Англией.
В Лондоне лейбористы только что пришли к власти.
В Берлине – заседание рейхстага. Канцлер Густав Штреземан заявляет: «Германия должна играть картой примирения с Францией…»
Лондон, 16 августа. Эррио, Болдуин и Макдональд обсуждают «план Дауэса», который должен урегулировать вопрос об уплате репараций. Все трое согласны с основными идеями нового плана всеобщей безопасности.
Приверженцы старой дипломатии, как всегда желчные, заявляют: «Повсюду наша страна безуспешно пытается обеспечить свою безопасность путем заключения специального соглашения с Англией, но политика Пуанкаре подвергла Антанту слишком тяжелому испытанию».
Они добавляют: «Что касается Лиги Наций, то она предлагает как для Англии, так и для Франции некую систему всемирного правительства. Но, кроме этого, нужно еще, чтобы Париж и Лондон имели намерение использовать эту организацию в одинаковых целях. Но вспомните, – заключают они, – что для Пуанкаре Лига Наций – это орган, который должен следить за выполнением договоров, это инструмент французской безопасности, тогда как для Макдональда Лига Наций – это организация примирения и инструмент для мирного пересмотра договоров».
Тем не менее Эдуард Эррио, на основании идей, с которыми согласились Болдуин и Макдональд, выработал «протокол о мирном урегулировании международных конфликтов».
На этих днях он предложит его Ассамблее Лиги Наций. Он полагает, что «это будет историческим событием, которое изменит к лучшему международное положение и обеспечит наконец безопасность Франции».
И в печати, перечисляя вкратце неудачи Франции, следовавшие одна за другой в течение пяти лет на различных конференциях в Вашингтоне, Генуе, Спа, Булони и Каннах, пишут: «Вот наконец первый счастливый поворот в международной политике с момента подписания Версальского договора».
* * *
Первое сентября 1924 года. На Женевском вокзале дипломаты и делегаты сорока восьми стран с боем берут автобусы гостиниц и такси.
«Это как в Довиле[1] в разгар сезона», – говорит Ага Хан. «Нет, Ваше высочество, это Женева, ставшая столицей вселенной», – отвечает президент Гельветической[2] республики, пришедший встречать высокопоставленных делегатов.
Владельцы женевских гостиниц становятся господами положения. «Министры, и те вынуждены довольствоваться комнатами для курьеров», – отвечают они даже самым ответственным членам французской делегации.
Испокон веков французская делегация избирала своим местопребыванием гостиницу «Отель де Берг» на набережной Роны.
В холле этой гостиницы сегодня утром столько же высокопоставленных лиц, как и на Венском конгрессе! Приветственные возгласы: «Да здравствует Эррио!» И тотчас же молодой председатель Совета министров Франции, в черном сюртуке, со шляпой в руке, улыбаясь, заявляет первому делегату Бельгии барону Тенису, на котором серый жилет и лакированные ботинки:
«Учитывая провал пактов ограниченной безопасности, я ставлю своей целью создание пакта всеобщей безопасности. Протокол дает возможность даже какому-либо одному государству, подвергшемуся несправедливому нападению, рассчитывать на мобилизацию сил всех других государств, входящих в Лигу Наций».
Внешняя политика нового председателя Совета министров отличается большим великодушием.
«Оставить Россию вне концерта европейских держав – это значит все больше толкать ее на союз с Германий, – говорит мне Эррио. – 28 октября я подпишу соглашение о восстановлении отношений между Парижем и Москвой. Это будет конец политики “колючей проволоки”».
* * *
Ассамблея Лиги Наций заседает в одном из религиозных концертных залов – в зале Реформации гостиницы «Виктория».
В его до смешного малых служебных помещениях теснятся все выдающиеся деятели сорока восьми государств.
Какой-то динамический энтузиазм исходит в этот день от собрания представителей всего мира!
И в самом деле, существует общая вера в создание международной системы, которая обеспечит поддержание мира по крайней мере на долгие годы.
Какая пестрая толпа! Направо индийский магараджа с воинственно торчащими усами расхаживает в голубом тюрбане с султаном и в черном сюртуке. Налево – персидский князь, у которого косящий глаз и опущенные книзу усы. Его как бы подталкивает целый клан чернокожих людей в широких накидках. Это абиссинские феодалы, которые следуют за своим повелителем Албаволо.
Очаровательная женщина в зеленом платье, Руфь Морган, председатель Союза американских избирательниц, говорит: «Это в моем доме было написано письмо, которое подписали полтора миллиона человек и в котором выражено наше желание добиться разоружения». Она добавляет: «Совместно с Институтом Карнеги я провожу изыскания с целью установления принципов совершенной системы международного воспитания детей, и я требую, чтобы начали со всеобщего обмена куклами!»
Преподаватель американского университета Шотуэлл высказывается за то, чтобы объявить войну вне закона.
Поверенный в делах Китая Тан Цзе-фу говорит своим мягким голосом: «Китай уже три тысячи лет требует арбитража. В настоящее время мы испытываем доверие к Лиге Наций».
Сюда, конечно, понаехали из всех стран люди, одержимые какими-нибудь навязчивыми идеями, имеющие свой любимый «конек».
Эмиль Дюфрэ, преподаватель французского языка в Сен-Годенсе, который уже два десятка лет мечтает о создании «международного общества по охране соловьев», также находится здесь. А по обе стороны от него – два вождя племени сиу[3] в парадной форме, рассчитывающие, что Лига Наций возвратит им Америку!
Бывшие побежденные образуют группу в одном из углов зала. Среди них выделяется затянутый в сюртук в стиле Франца-Иосифа первый делегат Венгрии – восьмидесятилетний граф Аппоньи с белой бородой и ушами фавна. Он слышит, как кто-то говорит о «незыблемости договоров», и, возмутившись, заявляет: «Нет ничего незыблемого! Я видел рождение французской империи, германской империи и австрийской, и я видел, как они исчезали. Как же после этого не относиться скептически к продолжительности государственных институтов, созданных людьми?»
Тишина! Английская делегация проходит через зал. Во главе ее Макдональд с его роскошной седой шевелюрой, за ним следует совсем маленький лорд Пармур, большой специалист по вопросам морали.
Теперь появляется краснолицый маленький Кинонес де Леон, личный друг Альфонса XIII и глава испанской делегации.
Затем входит красивый мужчина высокого роста, с благородной гордой осанкой, с пресыщенным и презрительным видом – министр иностранных дел Польши Александр Скржинский. «Польша, господа министры, Польша!» – повторяет он.
Вот гордые, как Артабан,[4] великие победители последней войны – маленький чех Эдуард Бенеш, высокий румын Титулеску, югослав Маринкович, за которыми следуют делегаты Южной Америки – красивый бразилец Фернандес и представители всех латиноамериканских республик.
Общее движение любопытства. Входит французская делегация. Во главе ее Эдуард Эррио, в черном сюртуке, взволнованный и счастливый. За ним Аристид Бриан, которого в Женеве еще никто не знает, экономист Лушер, Анри де Жувенель, Леон Буржуа, Жорж Боннэ.
Еще одна делегация – делегация империи восходящего солнца! Виконт Исии, сопровождаемый своим министром иностранных дел Адати, очень спешит и с трудом протискивается в зал, где, начиная с партера и до галерки, так же как и на балконе для прессы, сплошная давка.
Подлинный энтузиазм!
Да здравствует Эррио!.. Да здравствует Макдональд!..
Делегат Греции юрист Николай Политис ликует:
– Вот наконец требуемая Вильсоном открытая дипломатия! – восклицает он. – Главы двух великих европейских держав прибыли для открытого урегулирования международных вопросов!
* * *
Не обращая внимания на пюпитр и микрофоны, Эррио, не имея в руках никаких записей, выходит на край эстрады.
– Создание мира, – восклицает он, – требует больше мужества, чем война. Франция предлагает вам для общего дела все, что она имеет разумного, сердечного, страстного, светлого и весь свой опыт, оплаченный ею веками испытаний; она знает, что значит иметь непрочные границы. Ни в чем не повинная вчера – да, не повинная, я клянусь в этом, – с еще не зажившими ранами сегодня, Франция протягивает всем вашим странам свою братскую руку. Несмотря на свои страдания, она хотела бы знать о несчастьях всех народов мира, чтобы помочь облегчить их. Полная печали перед своими собственными руинами, она была бы рада, если бы увидела, как на огромных развалинах войны благодаря нашим совместным усилиям вырастает этот божественный цветок – мир!
И его Протокол о мирном урегулировании международных конфликтов, в основе которого лежат три принципа – арбитраж, безопасность и разоружение, – одобряется бурными аплодисментами.
* * *
Макдональд сменяет Эррио на трибуне. Он пользуется и пюпитром, и микрофоном. Глядя на аудиторию поверх своих очков, он наставительно проповедует.
Но в этом порыве библейского великодушия он поясняет: «Что же касается Англии, то она полагает, что взаимная помощь могла бы быть с выгодой заменена разоружением. Разоружение с неизбежностью вызвало бы к жизни безопасность, а отсюда само собой вытекала бы необходимость арбитража».
Тем не менее 2 октября 1924 года сорок восемь делегатов единодушно проголосовали за принятие французского Протокола, согласно которому арбитраж между народами логически должен был порождать безопасность, что, в свою очередь, создавало бы возможность для разоружения.
Подлинный поток энтузиазма, казалось, увлек сорок восемь руководителей государств на тропу мира!
* * *
Каждый вечер около десяти часов в зеленом салоне «Отель де Берг» начиналось то, что вскоре весь мир стал называть «женевскими вечерами».
Один за другим здесь появлялись Эррио, Анна де Ноайль, румынская делегатка Елена Вакареску, Политис, Поль Валери, историк Ферреро, Титулеску, Бенеш и другие.
Эррио рассказывает о своей жизни в Латинском квартале, когда он одолжил пять франков Верлену на его сентиментальные приключения; потом говорит о Наполеоне, которым он восторгается: «У меня есть наброски театральной пьесы в стиле Бернарда Шоу… Наполеон бежит с острова Святой Елены и поселяется в Америке!!!»
Анна де Ноайль, которая всегда говорит о любви, задает вопрос: «Какое из любовных писем, по вашему мнению, является самым прекрасным?»
Поль Валери считает таковым письмо португальской монахини. Эррио отдает предпочтение письму мадемуазель де Лепинас. Ученый Политис напоминает об Аспазии. Елена Вакареску, поэтесса и румынская делегатка, безутешная невеста короля Румынии, со своим неподражаемым акцентом восклицает: «Для меня существует одно-единственное настоящее любовное письмо, самое короткое, состоящее из одного слова: “Приди!”»
К двум часам ночи бармен «Отель де Берг» итальянец Карло Бельтрамо, который слушает Эррио с разинутым ртом, предлагает свои последние изобретения: коктейль «Лига Наций», напиток «Протокол» и оранжад «Арбитраж».
С гордостью он передает Эррио маленькую, только что им написанную брошюру, которой он явно весьма доволен: «Эликсир богов, Женева – столица наций».
В ней написано: «Знайте, о делегаты, что сама жизнь представляет собой коктейль, рецепт которого нам суждено менять до бесконечности: пять десятых любви, три десятых иллюзий, две десятых наплевательского отношения. Достаточно хорошее определение. С возрастом надо сильно увеличить дозу наплевательского отношения за счет иллюзий и любви. Следует обратить внимание на то, что самое горькое не кажется неприятным в хорошо приготовленной смеси. Все в мире оплачивается, и нельзя быть уверенным, что сам Бог, властитель времени, не будет вынужден регулировать распределение столетий!»
И делегаты спешат приобрести эту маленькую брошюрку, чтобы сохранить ее на память.
Долго еще не смолкает смех.
Звонит телефон. Эррио берет трубку, затем сообщает: «В Париже левое большинство с воодушевлением встретило мою речь и Протокол. Но Пуанкаре и правые не одобряют их!»
На следующий день Эррио покидает Женеву.
* * *
Несколько раз в неделю под сводами беседки маленького ресторанчика «Шалэ дю лак» Бриан завтракает с Лушером. «Пара неразлучных», – так говорят о них жители Женевы.
Сгорбленный, с взлохмаченными волосами, Бриан грустно усмехается. Его черный, плохо скроенный пиджак слишком мал для него и подтверждает слова Анны де Ноайль, которая, видя Бриана в кулуарах «Отель де Берг», всегда говорит: «Если бы это не был министр, я бы сказала, что это налетчик!»
У Луи Лушера большая круглая лысая голова и живые глаза. Он уже пятнадцать раз был министром, и именно он подписывал первый франко-германский торговый договор.
Сейчас, в начале сентября 1924 года, Лушер хочет получить от Бриана обещание дать ему портфель министра финансов в своем будущем кабинете.
Насмешник Бриан, который знает страсть Лушера к старинным книгам, отвечает ему в том же духе:
– Хорошо, я согласен, но при условии, что вы мне найдете какое-нибудь любовное письмо Кальвина.
Чувствуя, что его друг начинает соглашаться, Лушер, смеясь, опрашивает:
– Должно ли это письмо носить ярко выраженный любовный характер?
И снисходительно великодушный Бриан успокаивает Лушера:
– Нет, достаточно того, чтобы оно имело лишь любовный оттенок!
(Через несколько месяцев, став председателем Совета министров, Бриан сдержит свое слово.)
Будучи оба крупными земельными собственниками, они уделяют много внимания своим фермам. Оба любят поспорить о своих телятах и об увеличении поголовья своих коров!
– За сколько вы продали последний раз своих коров? – наступая, спрашивает Бриан.
Лушер вынужден констатировать, что он продал своих коров дешевле, чем Бриан. Но зато он расхваливает только что примененный им способ увеличения яйценоскости своих кур вдвое!
– В своем курятнике в Марли я велел устроить искусственное освещение. Таким образом, мои петухи и куры встречают восход солнца в любое время дня. И результат: куры несут яиц в два, часто в три и даже в четыре раза больше!.. Ну что вы об этом скажете, Бриан? Конечно, на ваших нормандских фермах в Кошреле нет ничего подобного!
Бриан отвечает:
– Да, да… но подумали ли вы о том, что, выполняя в три или четыре раза больше работы, ваши петухи и куры подохнут в три или четыре раза быстрее? А если учесть стоимость петухов и кур, то скорее выгадываю я, давая им возможность спать в Кошреле.
Лушер с самым серьезным видом помечает в своей записной книжке: «Изучить вопрос о себестоимости петухов и кур».
Каждый вечер Бриан и Лушер вместе прогуливаются по набережной Роны перед гостиницей «Отель де Берг». Бриан облокачивается на парапет напротив острова Жан-Жака Руссо. Для лебедей и уток, обитателей озера, построены на острове маленькие домики.
Драки, которые всегда начинает большой лебедь, отнимающий у маленьких уток кусочек хлеба, брошенный им Брианом, приводят последнего в восхищение.
– У людей и у животных, – восклицает он, – одни и те же нравы! Всегда все гонятся за куском хлеба! Но посмотрите на этих маленьких уток, которые все объединились против большого лебедя и в конце концов одолели его! Это утешительно для будущего малых стран в Лиге Наций!
Лушер пристально смотрит на бегущие воды Роны. Он объясняет Бриану, какую движущую силу для промышленности можно было бы извлечь из этой реки. Бриан, предавшись мечтам, бормочет: «Ах, старая Рона, ты видишь, они, конечно, кончат тем, что и тебя заставят работать! Но я – я сильнее тебя, и никакая сила в мире никогда не сможет победить мою божественную лень или направить в определенное русло течение моей судьбы!»
* * *
К концу сессии Ассамблеи Бриан покорен Женевой и Лигой Наций.
– В конце концов, – говорит он, – эта Лига Наций является живой и пластичной материей, над которой можно работать. Это решающий поворотный пункт: синтез всего мира постоянно у вас перед глазами!
И сессия заканчивает свою работу на том, что юрист Политис высказывает следующее суждение:
– Если бы Протокол премьер-министра Эррио не привел к подлинному франко-английскому согласию, то Лига Наций не выполнила бы свою задачу!
Глава 3. Локарно… Локарно… Все прекрасно…
Победители и побежденные взаимно гарантируют друг другу безопасность. – Анна де Ноайль, Пифагор и Поль Пенлеве. – Виконт Исии и харакири. – Вандервельде, Муссолини и пресса. – «Ура! Мир обеспечен!» – Дневник лорда д’Абернона. – На пароходе «Регина Мадре». – Пуанкаре не нравится Локарно. – Локарно на Монмартре.
Время идет.
Второе марта 1925 года. Созывается расширенное заседание английского кабинета для обсуждения Протокола Эррио. Болдуин не принимает участия в голосовании, так как его мать больна и он сидит у ее изголовья. И английское правительство большинством в один голос отказывается подписать Протокол…
Правительство Эррио свергнуто, на смену ему пришло правительство Пуанкаре – Бриана… Франко-германское сближение по-прежнему не двигается с мертвой точки, так же как и проблема безопасности. Репарационный вопрос все больше разъединяет союзников. Франция все время добивается создания более определенной системы безопасности, чем та, которая вытекает из Устава Лиги Наций…
Двадцать пятое апреля. Триумфальное избрание фельдмаршала Гинденбурга президентом Веймарской республики…
Союзники считают, что в Германии пробуждается национализм и милитаризм…
Первое июля. Приступили к эвакуации Рура, начиная с кёльнской зоны. Газеты объявляют о прекращении межсоюзнического военного контроля с 1 января 1926 года…
На международном горизонте появилась новая надежда. Министр иностранных дел Бриан заканчивает дипломатические переговоры о новом, расширенном Рейнском пакте – договоре еще неизвестного до сих пор типа, в котором впервые победители и побежденные гарантируют друг другу безопасность.
Крупные международные юристы ликуют. Они излагают основные положения этого нового соглашения:
«Франция и Бельгия, с одной стороны, и Германия – с другой обещают друг другу не начинать военных действий, за исключением случаев законной обороны или нарушения статей Версальского договора о демилитаризации Рейнской зоны.
Англия и Италия своими вооруженными силами гарантируют взаимные обязательства.
Объединенные вооруженные силы Чехословакии, Польши, Румынии и Югославии (приблизительно около шестидесяти дивизий), уже связанных с Францией военными договорами, окажут значительную поддержку в случае нового франко-германского конфликта».
Наконец, юристы подчеркивают, что этот новый договор навязывает Германии войну на два фронта: «Если на западе Германия захочет когда-нибудь напасть на Францию, – говорят они, – то на востоке Германия должна будет столкнуться с поляками и чехами, поддерживаемыми румынами и югославами».
Уже 15 августа газеты сообщают, что новый договор будет подписан в Локарно сразу же после окончания 6-й сессии Ассамблеи Лиги Наций, которая открывается в Женеве 1 сентября.
В связи с этим международная пресса извещает, что Бенито Муссолини, находящийся у власти уже три года, но до сих пор еще не пользующийся популярностью, направится в Локарно. Итальянские газеты «Имперо» и «Ресто дель Карлино» выражают намерение дуче добиться для Италии политических и экономических возможностей для восстановления Римской империи. Но никто не обращает внимания на эти высказывания…
* * *
Женева, 1 сентября 1925 года. Новый председатель Совета министров Поль Пенлеве прибывает вместе с французскими делегатами и министром иностранных дел Аристидом Брианом. Он заявляет:
«Периоды энтузиазма сменяются иногда периодами менее блистательными, но полезными, то есть периодами приспособления и урегулирования действительности».
* * *
Между тем Женева как никогда привлекает избранных всего мира. Известная поэтесса Анна де Ноайль прибыла вместе с Пенлеве. «Он единственный, кто заставил меня полюбить Пифагора», – говорит она.
Вечером Пенлеве, как всегда в своем сером сюртуке, благодаря которому он получил прозвище «маленький капрал мира», работает в своей комнате в «Отель де Берг». Бриан, Лушер и сенатор Памс мирно беседуют в знаменитом зеленом салоне.
Анна де Ноайль обращается к ним:
– И вам не стыдно так сидеть, развалясь в креслах, в то время как премьер-министр работает? Или это и есть то, что у французских министров называется управлять страной?
Бриан насмешливо отвечает:
– Анна, вы к нам несправедливы. Согласитесь, что в то время, как премьер-министр работает, мы могли бы пойти спать, вместо того чтобы ожидать здесь результатов его бодрствования. Возможно, что мы не работаем, но мы и не спим. Именно на этом и основывается министерская солидарность!
Несколько дней спустя Бриан завтракает в гостинице «Бо-Риваж» с Остином Чемберленом. Последний говорит ему:
– Совершенно очевидно, что ваша сила была бы непреодолима, если бы мы задумывались о средствах нашей политики столь же усердно, сколько мы думаем о ее целях. Но это означает, что мы, англичане, должны были бы уже сто или пятьдесят лет тому назад вменить себе в обязанность наряду с развитием имперского флота установить всеобщую воинскую повинность для создания сухопутной армии. Мы народ практичный, который стремится вести свою политику столь же благоразумно, как и свои торговые дела.
Но Бриан прерывает его речь с целью напомнить, что война 1914 года стоила Англии огромных затрат, которых, вероятно, можно было бы избежать, если бы Англия производила именно те расходы, от каковых она, по мнению Чемберлена, избавилась. Чемберлен отвечает ему: «Пусть так, но всеобщая воинская повинность и вооружение в мирное время стоили бы нам каждые десять лет в десять и двадцать раз дороже и, сверх того, повели бы к потере нами привилегированного положения по сравнению с конкурирующими державами. Вы полагаете, что, смело идя на большой риск, мы в конечном счете не совершили выгодной операции? Не думаете ли вы, что наше экономическое и дипломатическое положение было бы лучше, если бы мы менее рассчитывали на наши национальные силы и заплатили бы, трусливо заботясь о безопасности, такую страховую премию, которая бы нас разорила?»
Но Бриан улыбается – это его не убеждает!
* * *
И тем не менее в этот вечер Бриан задумчив.
На него произвела тяжелое впечатление впервые появившаяся оппозиция Уставу Лиги Наций, которую он заметил у одного из членов Лиги Наций, и он рассказывает:
«Во время обсуждения сегодня утром статьи, устанавливающей условия, при которых могут быть применены санкции к государству, нарушившему созданную мирными договорами систему отношений, первый делегат Японии виконт Исии предложил поправку. Эта поправка лишала Лигу Наций малейшей возможности потребовать применения каких-либо санкций против какого-либо государства, если хотя бы один член Совета мог бы заявить, что “государство-агрессор действовало по причинам, определяющимся внутренней политикой”. Это весьма красноречиво свидетельствует об экспансионистских целях Японии в Китае!»
Повернувшись тогда к виконту Исии, я говорю ему:
– Поясните вашу точку зрения!
Своим обычным тихим, спокойным и приятным голосом он отвечает мне:
– Когда вы заболеваете, что вы делаете?
– Посылаю за доктором, – говорю я ему.
– Совершенно верно, – замечает Исии. – А если врач говорит, что ничего не может сделать?
– Тогда, – отвечаю я, – я пошлю за хирургом!
– Правильно, – продолжает Исии, – а если хирург скажет, что не может оперировать вас? Что вы будете делать?
И, поскольку я не отвечаю, Исии говорит спокойно:
– Тогда вы сделаете себе харакири!
«Это предвещает нам очень трудные дни в Лиге Наций, – говорит в заключение Бриан, – так как, чтобы обеспечить свою экспансию, Япония не поколеблется подорвать эту организацию».
* * *
Четвертого октября вся французская делегация в полном составе направляется на поезде в Локарно – место, выбранное для подписания нового договора.
Теплое осеннее солнце. Очаровательная страна, мирная атмосфера!
Мягкий осенний климат побережья Большого озера лучше всего будет способствовать последним переговорам.
* * *
Жители Локарно собрались перед гостиницей, чтобы увидеть прибытие нашей делегации.
Немецкие журналисты, которых почти не было видно со времени подписания Версальского договора, уже давно здесь.
Они тотчас вступают в разговор с французами: «Для нас слово “безопасность” имеет совсем другой смысл, чем для всех вас в Лиге Наций! Для вас “безопасность” означает бездеятельность Германии в ее теперешних границах! А для нас, немцев, “безопасность” означает свободу действий!»
В Локарно уже прибыл министр иностранных дел Германии Густав Штреземан. Этому толстому человеку с квадратной головой и лицом, как у мертвеца, с огромными тусклыми глазами и каким-то металлическим голосом присуща своего рода дипломатическая гениальность. Он умеет лукавить со своими собеседниками.
Из своего вандейского уединения Клемансо предупреждает Бриана: «Будьте внимательны, опасайтесь Штреземана!»
Седьмого октября прибывает сияющий чешский министр Эдуард Бенеш.
На следующий день приезжает его неистовый польский коллега – граф Скржинский. «Как будут выполняться союзнические обязательства Франции в случае нападения Германии на Польшу или Чехословакию? Если Франция после этого выступит против Германии, то Англия и Италия могут парализовать действия Франции. А в том случае, если на Польшу нападут русские, будет еще хуже! – восклицает граф Скржинский. – Франция сможет тогда помочь своему союзнику Польше, лишь проведя свои войска через территорию Германии. Но Германия уже сейчас дает понять, что она откажет в этом. И следовательно… А Польша, господа, Польша?»
* * *
Одиннадцатого октября прибывает еще мало кому известный, бесцветный и брюзгливый Муссолини. Он возражает против пакта, но согласится его подписать.
Его приезд в Локарно наделал много шума.
– Я не хочу иметь никакого личного контакта с руководителем фашистского правительства, – заявляет председателю конференции Остину Чемберлену бельгийский социалист Эмиль Вандервельде, личный друг итальянского депутата Маттеоти, убитого по приказу Муссолини.
Чемберлен отвечает:
– Все будет устроено так, чтобы избежать всякой встречи, и вы увидите друг друга лишь в день подписания… и то издали!
Итальянская делегация немедленно объявила представителям печати, что диктатор примет их завтра утром, в 11 часов, в «Гранд Отеле». Среди журналистов бурные споры. Происходят многочисленные частные совещания, на которых обсуждается, должна ли пресса путем неявки на пресс-конференцию протестовать против репрессивных мер, примененных фашистским правительством по отношению к некоторым итальянским газетам. Поскольку мнения разделились, каждый будет действовать согласно своей совести. Я остаюсь в холле гостиницы, в то время как часть журналистов направляется на пресс-конференцию. После окончания пресс-конференции Муссолини проходит через холл. Разговоры сразу же прекращаются. Он останавливается перед английским журналистом-социалистом, которому громовым голосом задает вопрос:
– Ну, как идут дела коммунизма?
– Я не знаю, сэр.
– Почему?
– Потому что я не коммунист, сэр.
– В таком случае я ошибся.
– С вами это часто случается, – язвительно отвечает журналист.
– Может быть, – замечает Муссолини, смерив своего собеседника взглядом с головы до ног, и медленно, не оборачиваясь, направляется к двери.
* * *
Наконец, вечером 16 октября, полторы тысячи жителей Локарно толпятся перед окнами Дворца правосудия, чтобы посмотреть на министров союзных стран и Германии, собравшихся для заслушивания текста нового Локарнского пакта и его подписания.
Первым подписывается канцлер рейха Лютер. Штреземан охрипшим голосом делает на немецком языке путаное заявление.
Бриан превосходно импровизирует речь… Чемберлен, с дрожащими от волнения руками, произносит несколько слов, которых никто не слышит, и со слезами на глазах садится на свое место, уронив на колени монокль.
Сидящий слева от председательствующего бледный, с осунувшимся лицом и отсутствующим взглядом Муссолини, на которого никто не обращает внимания, не говорит ничего. Затем Бриан увлекает за собой на балкон Лютера. Им долго аплодируют.
Несколько часов спустя в Берлине посол Англии лорд д’Абернон отмечает в своем знаменитом «дневнике»: «День 16 октября знаменует собой поворот в истории послевоенной Европы. Это – уничтожение демаркационной линии между победителями и побежденными. Для Англии это означает восстановление политики равновесия».
* * *
В этот вечер в Локарно царит всеобщий энтузиазм! Он охватил даже наиболее скептически настроенных и всем пресыщенных дипломатов. Разве Германия, вчерашний враг, не поставила только что свою подпись под восемью мирными протоколами?
Начальник кабинета[5] Бриана Алексис Леже объясняет всем и каждому:
– Господа, Франция добилась наконец обеспечения своей безопасности на Рейне! Теперь, если немцы когда-нибудь нарушат свое слово, английские и итальянские вооруженные силы автоматически придут на помощь Франции; отныне можно более не опасаться за будущее. Войны больше не будет. Германия вступает в Лигу Наций, несмотря на то, что оккупация нами Рейнской области продолжается!
Некоторые охвачены таким энтузиазмом, что бегут на почту отправить телеграммы своим родственникам и друзьям. «Ура! Мир обеспечен!»
* * *
В 10 часов вечера Аристид Бриан, выпив стакан молока, уже спит спокойным сном.
Пара маленьких черных, немного поношенных ботинок на пуговицах, стоящих у дверей его комнаты, свидетельствует о том, что их владелец пренебрегает всеми стихийно возникающими празднествами.
Горы иллюминованы, по улицам движутся факельные шествия. Во всех гостиницах ужинают, поют и танцуют.
* * *
На следующий день выдалась прекрасная погода.
Бриан приглашает сэра Остина Чемберлена, а также около ста журналистов, дипломатов, экспертов, локарнскую знать и некоторых дам совершить «плавание мира» на борту «Регины Мадре» – самого роскошного парохода судоходной компании озера Лаго-Маджоре.
На палубе среди зеленых растений и цветов тихо играет маленький оркестр. Бриан, одетый в свой обычный тесный черный пиджак, в старой мягкой шляпе, улыбаясь, переходит от одной группы к другой и все время курит.
Чемберлен, знаменитое изречение которого «Я люблю Францию, как любят женщину» давно уже покорило сердце Бриана, стоит, прислонившись к перилам. Он рассказывает кембриджские истории и в то же время беспрерывно курит, зажигая сигареты одну от другой.
– Вы курите так же много, как и я, – говорит Бриан.
– Я стараюсь следовать примеру своего отца, – отвечает Чемберлен. – Есть люди, которые едят для того, чтобы жить, другие живут для того, чтобы есть, а мой отец говорил, что он ест и пьет для того, чтобы курить!
Спустя некоторое время Бриан останавливается перед самым свирепым из немецких журналистов – Фейерманом из «Дойче тагесцайтунг».
– Мы с вами, – говорит ему Бриан, – принадлежим к разным лагерям, но сегодня, поскольку мы находимся на одном корабле, это несомненно означает, что вы согласны с Локарно?
Немецкий журналист, злобно взглянув на Бриана, отвечает угрюмо и серьезно:
– Я согласен.
– Вот и прекрасно, – заключает, улыбаясь, Бриан. – Вы видите, что мы с вами принадлежим к одной партии – локарнской!
Прогулка длится три часа при самой великолепной погоде, какая только может быть. Никогда еще заход солнца не казался всем столь прекрасным!
В этот вечер, 16 октября 1925 года, в Локарно делегаты по-настоящему верят в будущее!
* * *
А в Париже усиливаются критические настроения.
Пуанкаре замечает: «Разве приведение в действие всех гарантий, только что полученных Францией, не зависит от голосования Совета Лиги Наций? Следовательно, эти гарантии сохраняют свое значение лишь до тех пор, пока Франция и Англия будут полностью согласны в своей политике по отношению к Германии и Европе. Ну, а затем?»
Клемансо высказывается резко: «Нет совершенно никакой ясности в вопросе о том, что Англия должна помочь Франции в случае, когда наша страна вынуждена будет выступить против немцев, если они в один прекрасный день нападут на Чехословакию или Польшу».
Что касается дипломатических экспертов, то им не по себе. Они начинают задавать себе вопрос, будет ли Германия «отходить» от этого пакта к принятию нового европейского режима или ей удастся толкнуть союзников к отказу от прав и гарантий, предоставляемых им Локарнским пактом.
* * *
Но простые люди и общественное мнение продолжают ликовать, подобно Бриану и всем участникам переговоров!
Все убеждены, что Локарнский пакт окончательно установил мир!
Так, на Монмартре освистали куплетиста, который попытался прибавить к своей песне «Локарно» последний куплет:
«Локарно… Локарно… Все напрасно!»
Гнилые яблоки, свист и подражания крикам животных тотчас же заставляют певца повторить слова припева предыдущего куплета, которые хором подхватывают все присутствующие:
«Локарно… Локарно… Все прекрасно!»
* * *
Локарно и Лига Наций чрезвычайно популярны в двух политических салонах Парижа, которые оспаривают друг у друга «знаменитостей послевоенного времени».
Это салон старой мадам Менар-Дориан, через который в течение двадцати пяти лет прошло все то, что Франция и Европа считали разумом и идеалом демократии, и салон основательницы и руководительницы журнала «Эроп нувелль» Луизы Вейс.
Мадам Менар-Дориан, одетая в черные кружева, с лицом, обрамленным седыми волосами, в длинных шведских перчатках, всегда и во всем остается светской дамой, начиная от черепахового гребня, увенчивающего ее прическу, до изящных туфель на низком каблуке. Столь же восторженная в девяносто лет, как и в двадцать, она постоянно отыскивает среди молодежи людей с душой апостолов и вождей. Некогда у нее бывали Виктор Гюго, Гамбетта, Каррьер и все крупные музыканты и артисты прошлого века. У нее, радикал-социалистки крайне левого направления, можно увидеть историка французской революции Олара, Жозефа Кайо, известного бельгийского социалиста Вандервельде, соратника Жореса и директора Международного бюро труда Альбера Тома и даже коммунистического лидера Марселя Кашена. Политические деятели новых демократических государств Центральной Европы: Эдуард Бенеш, Масарик и ряд других обязаны ей многим.
Мало-помалу завсегдатаи салона Менар-Дориан узнают дорогу на улицу де Винь. Там, между городской прачечной и гаражом, молодая Луиза Вейс устраивает приемы в своем ателье. Там без всякого приглашения и подготовки собирается новый цвет общества. В ателье нет прихожей. Пришедшие бросают свои пальто, плащи и шинели на перила лестницы. Обычно, придя туда, встречаешь послов, председателей совета министров и генералов, которые с веселым видом вешают свои пальто на вешалку, тянущуюся с восьмого этажа до низа лестничной клетки.
Сюда приходят молодой профессор университета радикал-социалист Даладье, Анатоль де Монзи, который говорит о своем намерении составить энциклопедию, немецкий посол фон Хеш, мадам де Ноайль и ее друг литературный критик Анри Ган, лидер социалистов Марсель Самба и его жена, знаменитая художница. Марсель Самба был здесь со своей женой за несколько дней до отъезда в клинику в Шамониксе, где ему суждено было умереть. Через час после смерти Самба его жена выстрелит из револьвера себе в сердце, оставив на столе в номере гостиницы коротенькую записку: «Дорогой Марсель, извини, что я запаздываю на свидание с тобой на один час».
Поздно вечером приезжает граф Бонн де Кастеллан со своим черным пуделем, которого он держит под мышкой. Он рассказывает о своих последних победах. Он никогда не улыбается, потому что сделал вливание парафина под кожу лица, чтобы казаться моложе. Приходит Альбер Тома. Он говорит озабоченно: «Главное – не проговоритесь мадам Менар-Дориан, что я был здесь».
Все проходят к столу…
Во время последнего завтрака происходит забавная сцена: возвращается из своего лекционного турне в Америку Луиза Вейс.
Актриса Руфь Дрейпер прислала с ней письмо актеру Люнье-По. В час дня приходит Люнье-По, похожий на бродягу, с длинным носом, пронзительными глазами, в перчатках цвета сливочного масла. Письмо Руфь Дрейпер заинтересовало его, он в восторге!
– Вы должны встретить Бернара Циммера, этого молодого писателя, тяжело раненного на войне, который… который… – говорит Луиза Вейс.
Люнье-По взволнован, его воодушевление проходит, оживление исчезает. Он торжественно поднимается, берет свою немыслимую шляпу и заявляет:
– Вчера утром я дрался на дуэли с г-ном Циммером, но кровь не стерла оскорбления, нанесенного им мне. Если я его встречу, я ему дам пощечину и снова вызову на дуэль.
У него угрожающий вид, который действует на приглашенных как холодный душ, ему поспешно подают пальто и смотрят, как он, перепрыгивая через несколько ступенек, бежит вниз с восьмого этажа. Все с радостью видят, что, увлеченный чтением письма мисс Дрейпер, Люнье-По не заметил внизу лестницы только что вошедшего Циммера.
Глава 4. Веймарская республика вступает в Лигу Наций
Штреземан и письмо Аристида Бриана. – Пивная «Бавария» и пивная «Гамбринус». – Фон Шуберт и истина. – Долой пушки, ружья и пулеметы! – Корсет графа Бернсторфа. – Обморок Штреземана в Туари. – «Пуанкаре все знает, но ничего не понимает».
Время идет…
Спустя несколько недель после Локарно Штреземан говорит своим сотрудникам: «Бриан стал для французского обывателя “отцом мира”, поэтому он готов на все, лишь бы удалась локарнская политика».
Воспользовавшись тем, что националистски настроенное германское общественное мнение плохо встретило Локарнский договор, Штреземан сумел добиться от французов и англичан новых выгодных уступок и, в частности, письма Аристида Бриана, подписанного также Чемберленом, Вандервельде и Шалойя. Это письмо позволяет Германии истолковывать основные статьи пакта только ad usum Germania.[6] «Германия будет обязана оказать сопротивление какому-либо агрессивному действию лишь в той мере, в какой это совместимо с ее военным и географическим положением, и ни в коем случае французские войска не будут иметь возможность проходить через германскую территорию».
Старый дипломат Жюль Камбон возмущается:
«Бриану так не терпится ввести Германию в Лигу Наций, что он соглашается нарушить даже систему коллективной безопасности, которая служит предметом постоянных забот его дипломатии». И старый посол говорит в заключение: «Кажется, Штреземан уже предусматривает возможность войны России против Польши и Румынии, и, следовательно, в этом случае германская территория осталась бы закрытой для французских войск, а это означало бы, что вся великолепная система коллективной безопасности господина Бриана оказалась бы ликвидированной».
* * *
Речь идет теперь о том, чтобы подготовить вступление в Лигу Наций Германии, признанной по Локарнскому договору от 16 октября равноправной с державами-победительницами.
В связи с этим возникает целый ряд проблем.
Тем временем Штреземан, как всегда, торопится добиться успеха по этапам, имея в виду приближение 10 марта – даты созыва чрезвычайной сессии Ассамблеи Лиги Наций, на которой должны быть решены проблемы, связанные с вступлением в нее Германии, что предусмотрено сделать во время очередной, 7-й сессии Ассамблеи в сентябре. Штреземан успевает еще добиться от Бриана и Чемберлена согласия… на изменение режима оккупированных территорий и… на эвакуацию Кёльнской зоны.
* * *
Женева, 6 марта. В Италии в связи со все усиливающейся антифранцузской политикой происходят инциденты в Милане, Венеции, Триесте и Триполи. Муссолини вновь заявляет о своем желании установить господство Италии на Средиземном море и намеревается поставить вопрос об итальянском Тунисе.
Густав Штреземан в сопровождении статс-секретаря по иностранным делам фон Шуберта, рейнского прелата Кааса, юриста Гауса и всей многочисленной германской делегации… прибывает на Женевский вокзал под приветственные возгласы массы встречающих. И тотчас же в Женеве повеяло немецким духом!
Дороги запружены черными и желтыми автомашинами марки «Мерседес», а на тротуарах здоровенные светловолосые продавцы газет в небесно-голубых костюмах с серебряными пуговицами выкрикивают:
– «Берлинер тагеблатт»… «Фёлькише цайтунг»… «Теглихе рундшау»!..
Германский флаг развевается над отелем «Метрополь», шестьдесят две комнаты которого ожидают немецких делегатов!
И тут же на каждом этаже воцаряется странная атмосфера: вереницы пивных кружек и резкий неприятный запах потухших сигар, от которого дерет в горле.
Вечером германская делегация собирается в пивной «Бавария», «единственной в городе, куда каждое утро доставляются сосиски, привезенные на самолете из Франкфурта». К полуночи здесь, где все обволакивается клубами сизого дыма, – словно собирается вся Германия. Штреземан, громко смеясь, повторяет: «Да, да, я и есть Бисмарк поражения!»
А Жорж Бернхарт, директор «Газетте де Фосс», бросает реплику так, чтобы ее слышали за всеми столиками: «Теперь нет больше победителей и побежденных! Мы хотим вести переговоры так, как нам это удобно!»
Приходит барон фон Рейнбабен, высокий рыжий человек со шрамом на лице, как всегда в смокинге, – живое воплощение аристократии времен Германской империи (германские аристократы гордились шрамами на лице, нанесенными дуэльными шпагами. – Примеч. ред.).
На вопрос, с которым к нему обычно обращаются: «Барон, хотят ли ваши друзья, чтобы кайзер вернулся?» – он неизменно отвечает:
– Конечно, они оплакивают его в своих сердцах, но их кошельки и желудки требуют, чтобы кайзер по-прежнему оставался в своем уединении в Дорне. И он останется там, можете быть в этом уверены!
Затем появляется весьма элегантно одетый в стиле времен Германской империи, совершенно лысый, с лицом кирпичного цвета статс-секретарь фон Шуберт.
Сегодня вечером он бросает на меня убийственный взгляд. В интервью, которое он мне дал накануне, я умышленно привела сказанную им и часто повторяемую фразу: «Германия, как только она сможет, намерена отвоевать Эльзас и Лотарингию и подготовить реванш!»
В Лиге Наций всеобщее возмущение!
Аристид Бриан, которому германская делегация заявляет решительный протест в связи с этим, строго отчитывает меня: «Ужасная Табуи! Ну разве вы не происходите из семьи дипломатов? И разве вы не знаете, что в политике никогда не говорят правду! Не забывайте этого в будущем!»
* * *
Спустя несколько месяцев, 10 сентября 1926 года, в зале Реформации окруженный полчищем фотографов председатель 7-й сессии Ассамблеи серб Нинчич заявляет: «Поскольку Германия приняла все требования Устава Лиги Наций, она может принять участие в заседании».
Протискиваясь через плотную массу людей, столпившихся у левого входа, Штреземан, фон Шуберт и Гаус входят в зал заседаний и занимают места, отведенные им согласно алфавитному порядку, установленному Протоколом Лиги Наций…
Бриан, облаченный в узкий черный пиджак и брюки, напоминающие по форме печные трубы, медленно поднимается на трибуну. Встреченный бурей аплодисментов, он заявляет:
– Отныне Франция и Германия сотрудничают для дела мира!
Затем, вдохновляемый окружающей обстановкой, он становится все более красноречивым:
– Долой пушки, ружья и пулеметы!.. Долой траурные вуали!.. Дорогу арбитражу, безопасности и миру!
Эмоции достигают предела, его речь великолепна! У делегатов навертываются на глаза слезы, и Бриан покидает трибуну среди неописуемого энтузиазма!
Но Штреземан аплодирует лишь кончиками пальцев, он даже не пожал руку Бриану!
В кулуарах фон Шуберт говорит: «Как изумительно красноречив ваш Бриан! Но мы бы предпочли этому сокращение на десять тысяч численности оккупационной армии в Руре».
А заведующий отделом печати Штернрубарт добавляет: «Когда мы увидим, что Пуанкаре начнет говорить то же самое, что и Бриан, вот тогда речь последнего покажется нам еще более красноречивой!»
Что же касается графа Бернсторфа, остающегося верным моде времен Германии Вильгельма I, то он, в своих лакированных ботинках, темно-сером рединготе, тонкой, затянутой в корсет талией и подкрашенными волосами, с презрительным видом отвечает тем, кто спрашивает его мнение о вступлении Германии в Лигу Наций: «Именно Германии надлежит обеспечить торжество подлинной идеи президента Вильсона. Версальский договор является лишь вынужденной мерой временного характера, суррогатом действительного мира!»
Наконец на трибуну неловко поднимается Штреземан. Со свойственным ему металлическим голосом и с неподвижно лежащими поверх досье большими руками он скорее бормочет, чем произносит свою речь, полную софизмов.
«Рейх согласился вступить в Лигу Наций лишь в надежде, что ее руководители установят на земле задуманный Богом новый порядок, при котором все нации имели бы право на равенство и т. д.»
Тень неудовольствия пробежала по лицам присутствующих, которые ожидали услышать совершенно другую по содержанию речь.
Однако Штреземан заранее предупреждал Бриана:
«Я вынужден был составлять и переделывать свою речь пять раз! Президент Гинденбург всякий раз находил, что она недостаточно воинственна! Таким образом, я могу удовлетворить присутствующих в Женеве лишь на 25 процентов, ибо я должен оставить 75 процентов своим берлинским националистам!»
* * *
Но час спустя на большом банкете, устроенном представителями прессы, он находит «нужный жест». В конце обеда, напоминающего изобильные пиршества Пантагрюэля, он поднимается с места и, подходя к Бриану, звонко чокается с ним. Атмосфера становится более спокойной. Все довольны!
Но ненадолго.
* * *
В 9 часов вечера Штреземан собирает немецкую колонию в пивной «Гамбринус». Пивные кружки, толстые сигары и большая речь о внутренней политике, сопровождающаяся ударами кулака по столу.
«Реабилитация Германии перед всем миром является свершившимся фактом… Доказано, что именно союзники несут ответственность за войну… Германия снова требует возвращения ей колоний… И поскольку в статье 8 Устава Лиги Наций предусматривается разоружение великих держав-победительниц, в то время как побежденные уже разоружены, Германия вновь вооружится, если великие державы-победительницы не разоружатся!»
Речь должна остаться секретной.
Но лютый враг Штреземана и его политики Шейерман из «Дойче тагесцайтунг» поспешил передать ее текст швейцарскому телеграфному агентству.
Сенсация! Катастрофа! Этот простой факт подрывает позиции Штреземана, парализует деятельность Германии в Лиге Наций и главное – представляет Бриана каким-то иллюзионистом, если не сказать простофилей, перед общественным мнением правых кругов во Франции, которое все больше ставит под сомнение правильность идеи сотрудничества своей страны с Германией.
* * *
Однако во время официальных встреч Штреземан высказывает по отношению к Бриану самые дружеские чувства. Он даже приобрел вкус ко всем этим международным конференциям, на которых споры между кредиторами его страны и их взаимные пререкания всегда вызывают у него громкий смех.
– Признайтесь, что не всегда приятно быть должником, – говорил тогда Бриан.
И Штреземан весело отвечал:
– Если вы хотите, я могу вам уступить свое место!
* * *
И через несколько дней Бриан таинственно повторяет своим интимным друзьям: «Ожидаются новости… Ожидаются новости!»
И вот 17 сентября Бриана и Штреземана не могут найти в Женеве.
Один в автомобиле, другой на моторной лодке, они выехали из города и направились в Туари – местечко, находящееся на французской территории, в нескольких километрах от франко-швейцарской границы, – к владельцу гостиницы и прославленному повару Леже. Сопровождаемые лишь своими переводчиками, Штреземан и Бриан прежде всего отдают должное прекрасной кухне. Затем завязывается разговор.
В мелодраматических выражениях Штреземан обращается к Бриану:
– Чтобы убедить Гинденбурга и канцлера Лютера подписать Локарнский договор, я должен был гарантировать им, что этот жест доброй воли со стороны Германии повлечет за собой прекращение выплаты репараций, прекращение оккупации Рейнской области, а также разоружение всех стран, подписавших Версальский договор, либо же автоматическое предоставление Веймарской республике права довести свои вооруженные силы до уровня вооруженных сил союзников. Если сейчас французское правительство не предложит Берлину план, включающий досрочную эвакуацию Рейнской области, а также торговые и финансовые соглашения, я, Штреземан, буду не в состоянии проводить ту единственную политику, которая дает Германии некоторые шансы вступить на путь искреннего сотрудничества с великими державами-победительницами!
Немного ошарашенный этой речью, Аристид Бриан говорит:
– Что сказали бы вы о финансовой помощи Германии в целях стабилизации французского франка? В обмен за нее могло бы быть достигнуто соглашение по многим другим вопросам!
Штреземан отвечает:
– Стабилизируя франк, мне не хотелось бы, однако, стабилизировать Пуанкаре!
Бриан его успокаивает.
Но речь идет о том, чтобы найти миллиард марок!
* * *
Вечером, после этой исторической встречи, со Штреземаном, который съел лишнее, случился тяжелый обморок.
На следующее же утро начинаются нападки германской прессы, недовольной тем, что, хотя прошло уже 48 часов с момента вступления Германии в Лигу Наций, Штреземан еще ничего не добился.
В Париже председатель Совета министров Раймон Пуанкаре проявляет нетерпение. Он вызывает Бриана к телефону по несколько раз в день.
Бриан разочарован! «В основе франко-германского сближения, – сознается он, – очень мало реального».
Тем не менее он собирает журналистов в своем маленьком салоне в «Отель де Берг» и заявляет:
– Если правительство Французской республики не проявит стремления пойти на некоторые уступки, за которые ему будет уплачено лишь много времени спустя, франко-германская война возобновится.
В этот момент вновь раздается телефонный звонок. Из Парижа звонит Пуанкаре: «Завтрак в Туари произвел плохое впечатление в правительственных и парламентских кругах Франции. Больше всего опасаются, чтобы вы не пошли на новые уступки Германии».
Более мрачный, чем обычно, Бриан вешает трубку и заключает, совершенно обескураженный:
«Пуанкаре – человек, который никогда не жил среди себе подобных; он провел свою жизнь сперва среди досье Дворца правосудия, а затем за политическим бумагомараньем, ему незнакомы истинные чувства французского народа!»
* * *
В правительственных кругах, так же как и в Женеве, крупные политические авгуры обсуждают события:
«Совершенно справедливо сказано, – заключают они, – что Пуанкаре всё знает, но ничего не понимает… а Бриан ничего не знает, но всё понимает!»[7]
И сессия заканчивается с первыми осенними туманами.
* * *
Двадцать девятого и 30 ноября Бриан будет защищать в Совете министров и в палате депутатов политику Туари. Он потерпит поражение.
Тем не менее он согласится снова взять себе портфель министра иностранных дел в следующем кабинете министров.
«Если я покину этот пост, – говорит он Лушеру, – правые партии во Франции получат министра по своему выбору, который вернется к политике силы по отношению к Германии».
А Пуанкаре Бриан заявляет: «Осторожно! Подобная политика только ускорит успехи германских националистов. Она сделает несостоятельными некоторые гарантии безопасности, которые согласились нам дать Англия и Италия в рамках Лиги Наций со времени Локарно! Верьте мне, сегодня нужна осторожность! Терпение!»
Глава 5. Примо де Ривера принимает Лигу Наций в Мадриде
Франко-германский медовый месяц. – В королевском дворце, последний вечер Альфонса XIII. – Бриан и его слуга Эмиль на бое быков. – У герцога Альбы. – Святой дух и Бенуа XV. – Повариха Штреземана. – Гостиница на улице Вано.
А время идет…
Берлин, 3 июля 1928 года.
Министерская декларация нового канцлера Мюллера.
Немцы и англичане считают, что «после вступления Германии в Лигу Наций и специальных гарантий, которые она дала в Локарно, продолжение оккупации Рейнской области является “ненормальным”».
Статья 431 Версальского договора, которая устанавливает, что оккупационные войска должны быть выведены до истечения предусмотренных сроков, как только Германия выполнит все возложенные на нее обязательства, дает германскому рейху юридическое оружие, с помощью которого он может поддерживать свои требования.
В Париже Пуанкаре сопротивляется: «Оккупация является гарантией получения репараций, и вопрос о ней может быть урегулирован только одновременно с вопросом о репарациях и долгах».
Женева, 10 сентября 1928 года…
Бриан на трибуне в зале заседаний Лиги Наций. Канцлер Мюллер только что публично поставил вопрос об эвакуации.
Бриан начинает свою речь хорошо знакомым ему ораторским приемом: мягким голосом, почти тихо, он подтверждает свою преданность Лиге Наций и мирным переговорам. Затем внезапно его голос становится твердым. Он обращается к Мюллеру и разоблачает действия, которые предпринимает вермахт для своего тайного перевооружения.
Тяжкое обвинение.
Мюллер озадачен. Присутствующие рукоплещут Бриану.
– Я вижу, что франко-германский медовый месяц подходит к концу, – многозначительно говорит Политис.
На подготовительной комиссии по разоружению, работа которой, имеющая целью созыв всеобщей конференции, идет ускоренным темпом уже в течение восемнадцати месяцев, германская делегация с каждым днем все больший упор делает на статью 8 Устава Лиги Наций, предусматривающую разоружение победителей сразу же после разоружения побежденных.
В Риме Муссолини выражает явное удовлетворение договором о дружбе, который его министр иностранных дел, глава итальянской делегации в Лиге Наций Шалойя, только что подписал в Женеве вместе со Штреземаном; это договор о дружбе двух недовольных наций Европы, твердо решивших потребовать, чтобы учитывались их интересы.
Муссолини говорит о завоеваниях. В одной из своих претенциозных речей он даже предсказывает возникновение мирового конфликта в 1935 году.
«В этом году, – вопит он, – итальянская армия будет насчитывать четыре миллиона человек. Она будет располагать такой мощной авиацией, что гул ее моторов заглушит всякий ропот на полуострове, а крылья ее самолетов закроют небо Италии».
А в ожидании этого Муссолини демонстрирует свое активное сочувствие всем возникающим в Европе движениям, направленным против великих миролюбивых, демократических стран.
Он заигрывает с венгерским ревизионизмом. С каждым днем он все больше поддерживает движение молодого Адольфа Гитлера, находившегося в то время в заключении в австрийских тюрьмах.
Дело доходит до того, что в Австрии только что были задержаны вагоны с итальянским оружием, предназначенным для Баварии.
В противовес этому укрепляется франко-английская «антанта». Даже подписывают компромиссное морское соглашение. Франция будет поддерживать в вопросах разоружения морские позиции Англии в обмен на поддержку с ее стороны нашей точки зрения и наших интересов в области разоружения.
Но вот 4, 5 и 6 июня 1929 года на Мадридский вокзал один за другим прибывают поезда. Из Женевы приезжает вся Лига Наций со своими архивами, делегатами, стенографистками, переводчиками и секретарями.
Испания, которая вышла из Лиги Наций 10 марта 1926 года, вновь вошла в нее, после того как Германия вступила в эту организацию.
И чтобы отпраздновать возвращение блудного дитяти, Совет Лиги Наций решает провести свою 55-ю очередную сессию в Мадриде, у диктатора Примо де Ривера.
* * *
Мадрид, 7 июня 1929 года. В глубине беломраморного зала дворца сената, неподалеку от огромной золотой короны, возвышающейся над двойным позолоченным троном, стоит стол Совета Лиги Наций, привезенный вместе с голубой скатертью сегодня утром из Женевы. Все готово для заседаний.
Вследствие серьезного заболевания Штреземан задержался в Сан-Себастьяне. Вместо него немецкую делегацию возглавляет статс-секретарь фон Шуберт.
* * *
Председательствует на сессии генерал Примо де Ривера, глава испанского правительства с 13 сентября 1923 года, когда король Альфонс XIII назначил его на этот пост.
У Примо де Ривера длинный нос, красное худощавое лицо и пронзительные голубые глаза. Он принимает делегатов в мундире цвета хаки, увешанном нашивками, орденами и знаками отличия. Он смеется, ворчит, хохочет, улыбается, говорит и опять повторяет все сначала. Он никогда не слушает своего собеседника. Выглядит он смешно и в то же время производит впечатление очень хитрого, но доброго малого. Каждому встречному он объясняет: «А вы знаете, я буквально изменил облик Испании. Мой министр общественных работ занимается оборудованием барселонского порта, он осуществляет ирригацию по всей Испании и трудится над сооружением туннеля под Средиземным морем, который свяжет Европу и Африку. А благодаря туннелю под Ла-Маншем вы увидите скоро, как откроется международная линия: Лондон – Париж – Мадрид – Танжер – Марракеш – Алжир – Каир!»
Вечером после открытия сессии Совета Лиги Наций король Альфонс XIII и королева устраивают пышный прием в парадных залах королевского дворца. Это тоскливое зрелище.
Вечер начинается шествием королевского кортежа. Вслед за длинной вереницей разряженных в пестрые одежды камергеров, отличительным знаком которых является маленький позолоченный ключ, искусно прикрепленный на правом бедре, появляются их величества. Одетая в платье из вышитой золотом ткани, королева все еще очень красива. У короля, который выглядит постаревшим и изношенным, явно скучающий взгляд.
Принцессы в своих тюлевых платьях свежи и красивы. У инфантов болезненный вид. Один из них, проходя мимо меня, говорит своему брату: «Сегодня вечером нас показывают, как слонов!»
Проходят придворные дамы королевы, все старые и некрасивые, но сверкающие драгоценными каменьями. Накануне марокканский принц, приезжавший с визитом в Мадрид, сказал о них: «В Испании все прекрасно, за исключением королевского гарема, который оставляет желать много лучшего!»
Двое сыновей диктатора замыкают кортеж. Они великолепны в своих мундирах ордена Сант-Яго, в белых доломанах с красной отделкой и головных уборах, украшенных белыми петушиными перьями.
Вся эта церемония производит на делегатов Лиги Наций удручающее впечатление. «Это агония монархии!» – говорит Лушер.
Затем все проходят в буфетный зал. Продолжительная беседа Альфонса XIII с мадам Штреземан, молодой брюнеткой, красивой и кокетливой, становится событием этого вечера. Что касается принцессы Изабеллы, тетки короля, то она появляется повсюду и старается занять любезным разговором иностранных корреспондентов. Немедленно зовут переводчика: «Ее высочество говорит вам, что на сегодняшнем вечере много народу». – «Г-н Веер, корреспондент кёльнской газеты, отвечает вашему высочеству, что действительно сегодня много народу и что королевский дворец в самом деле очень красив…» И принцесса Изабелла продолжает в том же духе устанавливать контакты с представителями крупнейших демократических газет мира!!!
* * *
На другой день в Мадриде бой быков. Французским делегатам не нравится это зрелище. Они с удовольствием не пошли бы, но не осмеливаются отказаться от столь почетного приглашения. Поэтому, сопровождаемый своим верным слугой Эмилем, который имеет «очень представительный вид», когда на нем надет сюртук, Бриан приезжает на это зрелище и тотчас же проходит в свою ложу, расположенную между ложами короля и диктатора.
Примо де Ривера еще более экспансивен, чем обычно. Смотря на арену, где пикадоры отражают своими длинными пиками нападения быка, он восклицает, то и дело вскакивая со своего места: «Это я заставил пикадоров привязывать маленький матрасик, который вы видите у их лошадей на том боку, которым они обращены к разъяренному животному. У меня разрывалось сердце, когда я видел, как быки распарывали животы бедным лошадям. Но какое сопротивление я должен был преодолеть, ибо публика не желала этого маленького матрасика!»
(Что касается нас, то нам кажется, что ныне этот маленький матрасик является тем единственным творением Примо, которое пережило его самого. – Примеч. авт.)
Из своей ложи Альфонс XIII обращается к Бриану: «Каково ваше впечатление, господин Бриан?» Бриана отнюдь не вдохновляет это зрелище, которое он видит в первый раз, и он говорит: «Ваше величество, уберите ваших матадоров, пикадоров и тореадоров, позвольте мне выйти на арену с маленькой охапкой сена, и я думаю, что сумею отлично поладить с быком!» Несколько разочарованный, Альфонс XIII сухо отвечает: «Не обольщайте себя такой надеждой, господин Бриан!»
Один из адъютантов его величества, приняв верного Эмиля за одного из французских делегатов, церемонно спрашивает его мнение о бое быков. Эмиль со своим неисправимым акцентом бретонского крестьянина говорит в ответ: «Тут уж ничего не скажешь, эти парни расторопны и выпутываются ловко!»
Весьма удивленный этим ответом, адъютант его величества слегка покашливает и не возражает.
Начинается пятая схватка. Примо говорит без умолку: «Да, я только что расторг свой брак с синьоритой Кастельянос, из-за того что она спекулировала на бирже… И знаете ли вы, почему я остался у власти, вместо того чтобы уйти в отставку этим летом, как я это обещал королю и парламенту? Потому что моя отставка снова привела бы Испанию к унижению и упадку, как это было до моего прихода к власти… И таким образом, полный веры и энтузиазма, я приношу моей родине эту новую жертву. Я сохраняю власть в своих руках».
Однако внешне веселый и добродушный Примо де Ривера вызывает настоящую ненависть короля и всех классов общества.
Вечером один банкир доверительно говорит Лушеру: «Почти везде в Мадриде и в стране уже думают о восстании, которое избавило бы нас от диктатора. Об этом думают даже в королевском дворце!»
* * *
А заседания Совета Лиги Наций продолжаются. Фон Шуберт требует расширения прав национальных меньшинств. Но преимущества в этой игре на стороне Бриана. Фон Шуберту не везет в Мадриде. Он является козлом отпущения для карикатуристов, которые рисуют его в виде старого быка, тогда как Бриана они изображают тореадором, пытающимся раздразнить его красным шарфом, под которым скрывается гротескная шпага.
На следующий день во дворце Годой, в своем кабинете, украшенном огромными портретами короля и королевы, Примо излагает пришедшим к нему с визитом делегатам свою «большую политику»: «Образование латино-испанской империи – федерации говорящих на испанском языке восьмидесяти миллионов граждан, – которая должна существовать на базе итало-испанской антанты».
Вечером большой обед у герцога Альбы. Трагикомедия. Штреземан, здоровье которого все ухудшается, привез с собой свою повариху, поскольку ему разрешается употреблять лишь кушанья, приготовленные согласно предписаниям его врачей. Предупрежденный об этом, герцог Альба иронически замечает: «Мой повар. – самый галантный из всех шеф-поваров Испании, он уступит место на своей кухне поварихе Густава Штреземана!» Но так как повар оказался не столь галантным, как утверждал герцог Альба, Штреземан остался без обеда. На протяжении всего приема, недовольно брюзжа, он вынужден был питаться одними фруктами, довольствуясь в качестве приправы бесконечными извинениями герцога Альбы.
Затем в этом старинном здании XVIII века состоялся вечер в стиле празднеств прошлого столетия. Роскошные сады, мягкое журчанье воды в фонтанах, невидимые оркестры, играющие менуэты и паваны.[8]
На этом вечере Бриан и Лушер узнают, что полтора года назад был наконец подписан секретный итало-испанский договор о дружбе, переговоры о котором велись еще с 1923 года, то есть с того времени, когда Альфонс XIII представил Примо де Ривера Виктору-Эммануилу, говоря: «Рекомендую тебе своего Муссолини». Согласно этому договору в случае войны Италия имеет право установить военную базу на Балеарских островах, а Испания может отказать в «праве прохода» французским войскам.
Они узнают также, что Примо де Ривера, желая получить поддержку папы Бенуа XV, побывал в Риме, чтобы вежливо напомнить его святейшеству, что «наличие восьмидесяти миллионов испанцев, проживающих во всех частях земного шара, должно было бы побудить папство назначить большее число испанских кардиналов». – «Мой дражайший сын, – ответил ему Бенуа XV, – когда папа назначает кардиналов, его вдохновляет святой дух. Надейтесь же, что святой дух вдохновит меня на исполнение вашей просьбы». Однако спустя некоторое время святой дух вдохновил Бенуа XV лишь на назначение целого ряда итальянских кардиналов.
* * *
Дипломатический корпус в большинстве своем полагает, что Бриан неправ, считая диктатора Примо де Ривера только гулякой и добрым малым!
Полтора года спустя изгнанный республиканской партией, влияние которой все увеличивалось, Примо де Ривера прибыл в Париж. Он поселился в маленьком скромном отеле на улице Вано.
Я приглашаю его к себе на обед. Наступает назначенный день.[9] Мои гости собираются. 8 часов… 9 часов… 9 часов 30 минут! Примо де Ривера все нет. В конце концов я звоню в отель на улице Вано. «Господин Примо де Ривера умер!» – лаконично отвечает мне консьержка.
Действительно, стремясь забыть прошлое, бывший диктатор обращался к самым различным источникам утешения, какие только можно найти в Париже. И его силы не выдержали…
Тотчас же «Канар аншэнэ»[10] и куплетисты со всеми подробностями оповестили о подлинных причинах его смерти! И особенно много говорили о белом монашеском одеянии – форме испанского ордена, к которому принадлежал Примо. Его друзья из числа испанской аристократии добились, несмотря на всяческие препятствия, чтобы он был похоронен в этом одеянии согласно привилегиям, какими он пользовался в период существования угасающей испанской монархии.
Глава 6. Соединенные Штаты Европы
Красный цвет на карте Европы Штреземана. – Вагон-салон поезда Гаага – Женева. – Пюпитр евангелического стиля заменяет письменный стол Верженна. – Да здравствует Бриан! Долой Соединенные Штаты Европы! – «Штреземан умер, это значит, все кончено».
Пятого августа 1929 года, Гаага.
Аристид Бриан, ставший председателем Совета министров 26 июля, когда Пуанкаре подал в отставку, открывает Гаагскую конференцию, на которой все союзники – кредиторы Германии собираются попытаться разрешить запутанный вопрос о межсоюзнических долгах и заставить Германию принять основные положения плана Юнга.
Шестое августа. Штреземан излагает свои взгляды на будущее:
«Я полагаю, что будет проведена рационализация мировой экономики, которая заменит ныне существующую систему, систему мелочной лавки! Мы с улыбкой вспоминаем сегодня прежнюю Германию, раздробленную на мелкие государства, каждое из которых имело свои собственные таможенные границы и свою денежную систему. Я думаю, что также с улыбкой будут вспоминать позднее о раздробленности современной Европы».
Все взволнованы. Бриан поднимается с места и с воодушевлением протягивает обе руки Штреземану.
В полдень картина меняется. Министр финансов Сноуден утверждает, что решения экспертов ни к чему не обязывают правительства; что распределение ежегодных немецких поступлений между кредиторами не удовлетворяет Великобританию и что поставки натурой, предусмотренные планом Юнга, наносят ущерб английским экономическим интересам. Это скандал. Сноуден пожимает плечами и сквозь зубы произносит несколько нелестных выражений по адресу французских делегатов, которых это возмущает…
Несмотря на то что в Гааге он один защищает свою точку зрения, он одерживает верх.
Штреземан, всецело занятый лишь вопросом об эвакуации Рейнской области, убеждается во время закулисных переговоров, что английское правительство выведет свои войска, что бы ни сделали французы.
19 августа Бриан получает от него письмо:
«Мы соглашаемся на выплату таких сумм, каких никогда не платила ни одна нация в результате проигранной войны. Возмещением этих жертв является наша политика, имеющая целью освобождение рейнских территорий.
Я чувствую, что не могу лично продолжать эту политику, когда вижу, что мои усилия, направленные, как и ваши, на то, чтобы покончить с оккупацией немецкой территории, обречены на столь очевидный провал…»
И после двадцати семи дней конференции Бриан совместно с союзниками принял решение относительно эвакуации Рейнской области. Он вручает Штреземану письмо, в котором указывается, что «эвакуация Рейнской области начнется в сентябре и будет закончена в восьмимесячный срок, не позднее конца июня 1930 года». Штреземан получает наконец в свои руки письменное обещание, которого он страстно желал. Его чрезмерная бледность поражает присутствующих. Тем, кто его окружает и поздравляет, он отвечает со слабой улыбкой: «Еще целый год! Я уже не увижу немецкой земли, освобожденной от оккупации иностранными войсками».
И вот 31 августа – церемония подписания.
Однако в Париже, в парламентских комиссиях национальной обороны, военный министр Поль Пэнлеве пытается доказать устами генерала Буржуа в палате депутатов и полковника Фабри в сенате, что «в настоящее время ни наша армия, ни оборонительные сооружения на наших границах не представляют собой серьезной гарантии».
В Женеве 4 марта под давлением Штреземана принимается резолюция, которая закладывает основы политики германской экспансии в Европе, разрешая национальным меньшинствам устанавливать культурные и другие связи с родственным им отечеством. И с этого момента Штреземан распространяет среди деятелей Лиги Наций карту Европы, на которой обозначенная красным цветом немецкая нация выходит за существующие границы рейха и распространяется на территориях Франции – в районе Эльзас-Лотарингии, Италии – в области Южного Тироля, Бельгии – в Эйпене и Мальмеди и Чехословакии – в Судетской области, населенной немецким меньшинством.
* * *
Поэтому первого сентября 1929 года, окруженный своими сотрудниками, Лушером и Жувенелем, в салон-вагоне, в котором французская делегация направляется из Гааги в Женеву на 10-ю сессию Ассамблеи Лиги Наций, Аристид Бриан проявляет озабоченность.
Констатируя, что почти все порожденные войной проблемы были мало-помалу разрешены, Бриан заявляет: «Теперь можно выдвинуть новые проблемы, путь свободен! В демократической стране всегда необходимо давать пищу мистицизму людей. Необходимо подкармливать их воображение. В этом отношении объявление войны вне закона пактом Бриана – Келлога от 27 августа прошлого года не дало тех психологических результатов, каких мы от него ожидали».
И тогда присутствующие, улыбаясь, вспоминают забавную церемонию подписания этого пакта.
…Правительство, дипломатический корпус – все собрались в тот день на Кэ д’Орсэ в салоне Больших часов. Распорядок церемонии был необычным. Перед знаменитыми часами вместо письменного стола Верженна, на котором в течение более чем двух веков подписывались все договоры, был поставлен маленький пюпитр евангелического стиля из светло-желтого дерева, и на нем лежал большой лист девственно чистого пергамента! Раздался троекратный стук, и вошел Бриан, предшествуемый двумя служителями с алебардами, как во время свадебной церемонии. За ним следовал внушительный кортеж из полномочных представителей, одетых в черные сюртуки.
Вместо новобрачной – этот девственно чистый лист пергамента, лежащий на таком смешном маленьком пюпитре! Молча делегаты подходили и ставили на нем свои подписи.
Бриан сидел под символическими часами. Справа от него находился известный американский юрист Келлог, а слева – Штреземан, жизнь которого явно угасала. <…>
И вечерние газеты вышли с заголовками: «Празднование духовной свадьбы Бриана и мира!»
* * *
И тем не менее сейчас, 1 сентября 1929 года, Бриан развивает свою мысль.
«Да, во Франции слишком много картезианцев.[11] Большая ошибка думать, что в области международных отношений может быть подобное же положение! Ныне наступил черед развивать воображение для Лиги Наций, которая более не прогрессирует. Что же касается нас, то нам следует воспользоваться моментом, когда Франция ослабляет свои военные позиции, чтобы укрепить свои позиции моральные! Несмотря ни на что, я собираюсь выдвинуть идею Соединенных Штатов Европы!»
Начальник кабинета Бриана, Алексис Леже, возражает: «Однако этот французский проект произвел неблестящее впечатление в правительственных кабинетах!»
Рене Массильи, начальник французской канцелярии при Лиге Наций, комментирует историю создания Соединенных Штатов Америки и показывает, что в отличие от европейских государств английские колонии в Америке никогда не вели борьбу друг с другом. «Напротив, на протяжении полувека они боролись сообща. У них общая религия, общая идеология и один и тот же язык».
Бриан ворчливо замечает: «Все это вполне возможно! Но если я не предложу сейчас создать Соединенные Штаты Европы, существующее положение вещей будет укрепляться. И разве вас не поражает тот факт, что в каждой стране постепенно все более определенно выделяются две политические линии, две политические группы. С одной стороны, это те, кого посылают в Женеву и кто подписывает договоры, чтобы по возвращении подвергнуться грубой брани и дезавуированию. С другой стороны, это те, кто остается в своих столицах и осуществляет националистскую политику. Теперь или никогда следует дать этой идее новый импульс, вызвать всеобщий энтузиазм, в противном случае – все пропало!!!»
И Бриан, раздраженный и злой, поудобнее усаживается в своем кресле и раскрывает детективный роман, а его сотрудники отправляются спать!
* * *
На следующее утро перед вокзалом Корнавэн[12] собралось более пятисот человек, чтобы увидеть прибытие французской делегации. Со всех сторон раздаются возгласы: «Да здравствует Бриан!» Говорят, что отец мира привез с собой новую идею, которая приведет в восторг всю вселенную!
Но в Лиге Наций переговоры совсем не продвигаются. Алексис Леже не жалеет сил, беспрестанно повторяя в Генеральном секретариате: «Полноте, мы ведь спасаем Лигу Наций. Только этот проект позволит проводить в Европе политику сотрудничества».
Против проекта выступает прежде всего Британская империя.
Эмери, министр по делам колоний и доминионов, говорит: «Франция не может участвовать одновременно в двух Лигах Наций».
Делегаты Перу, Чили и Эквадора добавляют: «А как же мы? Вы преуменьшаете нашу роль. Вы пытаетесь подорвать международный характер Лиги Наций».
Что касается малых европейских стран, то они опасаются, что этот проект лишь укрепит всемогущество великих наций.
Фактически один только Бриан защищает свой проект!
* * *
И тем не менее 5 сентября, когда Бриан неторопливо подымается на трибуну Ассамблеи, его встречают продолжительной овацией.
Бриан говорит очень тихо и очень медленно. Он взвешивает каждое слово. Аудитория чрезвычайно взволнована.
Впервые рассматривая эту проблему со всех сторон, Бриан восклицает: «Только взглянув на эти вопросы под углом зрения политики, правительства смогут разрешить проблемы экономического сотрудничества. Между народами, являющимися в силу географического расположения соседями, каковыми являются народы Европы, должны существовать федеральные связи!»
Значительная часть присутствующих подымается и стоя долго аплодирует Бриану. Любопытное исключение среди глав делегаций представляют Макдональд, который, насупившись, остается на своем месте, и страшно исхудавший Штреземан, сидящий неподвижно, опустив голову.
Присутствующий на заседании французский социалист Ренодель плачет от радости! Слышно, как он пытается перекричать приветственный шум толпы: «Вы видите… вы же видите, что народам больше всего не хватает именно идей! Посмотрите, какой энтузиазм охватил их при провозглашении Соединенных Штатов Европы!»
* * *
При выходе из зала заседаний буря энтузиазма разражается у отеля «Виктория», откуда громкоговорители разнесли на всю Женеву весть о новой французской инициативе. Впервые раздаются крики: «Да здравствует Франция!»
Бриан, которого полиция с трудом защищает от народного энтузиазма, прежде чем сесть в свой автомобиль, задерживается на несколько минут на пороге отеля. Он тихонько шепчет: «Да… да… но успех ли это?»
* * *
Спустя час в зеленом салоне «Отель де Берг» устроен завтрак для журналистов. Во время десерта Бриан произносит примерно такую же речь, как на заседании Лиги Наций. На этот раз решается судьба лозунга «Соединенные Штаты Европы». Бриан ищет хоть какого-нибудь признака одобрения на лицах присутствующих. Но все упорно смотрят в свои кофейные чашки.
Бриан продолжает упорствовать.
Девятого сентября он приглашает на завтрак глав государств и министров иностранных дел двадцати семи европейских государств. Но все происходит так же, как на завтраке для журналистов.
В конце приема министры необыкновенно сдержанны. Штреземан, лицо которого мертвенно-бледно, а склоненная набок голова делает еще более заметным его огромный зоб, хранит молчание. Германский делегат, граф Бернсторф, в вежливых выражениях заявляет: «Во всяком случае, этот проект может быть осуществлен лишь после того, как Германия…» и т. д.
Граф Бонин Лонгаре, член итальянской делегации, подшучивает над инициативой Бриана, осыпая его в то же время похвалами. Эмери, английский министр по делам колоний и доминионов, почти оскорбительно холоден.
Уходя, Эдуард Бенеш отвечает на заданный ему вопрос: «Это похороны по первому разряду! Все эти министры обязуются информировать свои правительства и изучить этот вопрос. Будет создан комитет, а Бриан подготовит к будущему году меморандум». Меланхолично настроенный юрист Политис добавляет: «Эта попытка создания европейской федерации сделана слишком поздно или слишком рано! Слишком поздно, поскольку приближается конец благополучного положения Европы! Если бы это предложение было сделано тотчас же после Локарно и до провала первой экономической конференции, то мы могли бы прийти к соглашению и можно было бы заложить основы этого экономического, политического и юридического европейского союза. Слишком рано, ибо Европа еще не осознала тех ужасных последствий, какие повлечет за собой мировой экономический кризис. Сегодня нет больше веры в то, что народы и отдельные люди могут стать выше своих собственных интересов!»
Все безнадежно мрачно!
* * *
Спустя несколько дней происходит закладка первого камня Дворца наций на холме около Женевского озера. Эта церемония похожа на гигантский garden-party. (Приём гостей в саду. – Примеч. ред.)
В официальных речах председателя Ассамблеи и президента Швейцарской конфедерации не содержится ничего особенного.
Но пейзаж очарователен и полон романтики. Озеро нежно-голубого цвета, и все философствуют относительно того, что ожидает этот дворец в будущем.
Церемония закладки заключается в том, чтобы положить под первый камень текст Устава Лиги Наций, переведенный на тридцать два языка и написанный на веленевой бумаге.
«Итак, – говорит Форуги Хан, делегат Ирана и председатель Совета Лиги Наций, – когда наша цивилизация, в свою очередь, отойдет в область истории, археологи будут, таким образом, располагать тридцатью двумя ключами, которые откроют им двери мечты нашего времени, уставшего от войны и страстно желающего вечного мира!»
В целом взгляды на будущее довольно пессимистичны.
Предполагают даже, что будущий дворец переоборудуют в госпиталь во время предстоящей войны.
* * *
В конце недели я направляюсь в Витцнау, маленький швейцарский городок, где всегда лечится Густав Штреземан, теперь окончательно измученный.
Я хочу взять у него интервью. Мне передают его ответ: «Скажите мадам Табуи, чтобы она лучше ехала в Нюрнберг и увиделась с Адольфом Гитлером».
Пятого октября в полдень радио сообщает о смерти Густава Штреземана. Это вызывает волнение среди крупных французских политических деятелей. Жюль Камбон, бывший председатель конференции послов, заявляет:
«Я думаю, что это событие при нынешних обстоятельствах является наиболее серьезным, какое только можно себе представить!»
Лушер, Тардье и Эррио говорят:
«Густав Штреземан умер, а это значит, что отныне франко-германское сотрудничество становится невозможным. Германия возвратится к политике авантюр. Бесполезно обманывать себя, – это конец мира в Европе, но об этом не следует говорить!»
Что касается Бриана, то по возвращении в Париж он находится в угнетенном состоянии. Его сотрудники слышат, как он бормочет:
«Все кончено!»
Глава 7. Заседание Лиги Наций в королевском дворце в Гааге и Вестминстере. Конференция по репарациям и Морская конференция
Гаагская конференция. – Великолепный Тардье. – Адольф Шерон и ее величество королева Вильгельмина. – Принц-консорт и нескромные фотографы. – Туман и первое заседание Морской конференции. – Верный Эмиль запирает на ключ Аристида Бриана. – Харакири адмирала Такарабе. – Ура адмиралу Бриану!
Проходят месяцы…
Штреземана заменил Курциус.
Седьмого ноября 1929 года, после семнадцатидневного министерского кризиса, Андре Тардье, получив большинство над левыми партиями в семьдесят один голос, становится председателем Совета министров…
Отныне в Германии организуется финансовое сопротивление плану Юнга; речь идет о том, чтобы приспособить немецкие законы к режиму этого плана; комитет Гугенберга требует проведения плебисцита, направленного против плана…
Седьмого декабря германский министр финансов Ялмар Шахт опубликовывает меморандум: «Для нас, немецких граждан, бремя, налагаемое планом Юнга, слишком тяжело».
Проведенный 22 декабря плебисцит показывает, что массы с ненавистью относятся к плану Юнга и восторженно приветствуют организацию «Стальной шлем» и особенно Адольфа Гитлера, молодого агитатора, называющего себя национал-социалистом…
Что же касается немецкого правительства, то оно лишь весьма мягко пытается сдерживать манифестации, которые свидетельствуют о влиянии этого молодого честолюбца.
С другой стороны, нет ни малейшей точки соприкосновения между Аристидом Брианом и преемником Штреземана Курциусом, заурядным адвокатом, человеком небольшого роста, корректным и педантичным, ни глупым, ни умным, назначенным 15 октября на пост министра иностранных дел и рассматриваемого делегациями в качестве выразителя последней воли его предшественника.
Не позволяя себе отвлекаться от цели, Муссолини акцентирует политику будущих колониальных захватов и публикует в «Имперо» изложение своей программы:
«Что касается Африки, нам необходимо было бы сделать скачок вправо и влево. Используя в качестве центра наших владений Триполи, нам следует, с одной стороны, протянуть руку до Туниса, а с другой – приобрести небольшую часть Марокко, не забывая в то же время о Египте и о Ливии, с тем чтобы соединиться через Нил с нашими владениями на Красном море! Наконец, в отношении Азии, мы могли бы, между прочим, утверждать, что нас интересует вся зона, расположенная в районе Додеканезских островов и Кипра, а также – Смирны и Антиохии и даже далее!»
* * *
Когда 2 января 1930 года экспресс «Золотая стрела» останавливается на вокзале в Гааге, четыре игрока продолжают еще с азартом играть в домино.
«Домино! – восклицает один из четверых, самый возбужденный из них, с очень длинным мундштуком во рту. Восхищенный, он продолжает: – Франция так красиво играла и выиграла партию! Честное слово, разве это не хорошее предзнаменование?» И Андре Тардье – ибо это был он – стал рассыпаться в приветствиях перед голландскими властями, прибывшими на перрон приветствовать нового председателя Совета министров Франции, в то время как Аристид Бриан, Луи Лушер и министр финансов Адольф Шерон медленно выходили из вагона.
В первый раз становится заметно, что здоровье Бриана ухудшилось. Вечером, когда он принимает представителей печати, он охотно позволяет теперь говорить Тардье и смотрит на него одновременно с грустью и как бы забавляясь: «Другое поколение – другие методы», – бормочет он, в то время как Тардье, жестикулируя мундштуком, с вызывающим видом пытается толковать самые сложные проблемы, как ему кажется, оригинально и по-новому.
Бриан молчаливо не одобряет этого, но чувствуется, что он слишком устал, чтобы восстанавливать истину. Часто это бывает очень тяжело.
Сотрудник Клемансо, Андре Тардье, в своих неизменных лакированных ботинках и в цилиндре, одетый по последнему крику моды в нечто среднее между пиджаком и сюртуком, со своим мундштуком, более длинным, чем у Рузвельта, со свойственным ему вызывающим и насмешливым видом, представляет собой законченный тип французского буржуа, сына крупного буржуа.
Несмотря на недостаток политического чутья и почти полное отсутствие интуиции, он одарен высокими качествами человека действия. Его мозг представляет собой великолепную рабочую машину. «Это паровоз, всегда мчащийся с предельной скоростью, – говорят о нем чиновники и добавляют: – Но при нем никогда не может быть компромиссов. В политике он ломает все!»
Он несколько склонен к тому, чтобы «бить на эффект», и нет уверенности в том, что в его руках политика Франции в Лиге Наций, политика тонкая, разнообразная и сложная, будет иметь определенный успех.
Его отношение к Бриану определяется репликой, брошенной им в палате депутатов: «Ваша политика, господин Бриан, – это политика дохлой собаки, которую несет по течению!»
В Гааге через несколько дней после начала конференции королева Вильгельмина устраивает большое празднество в королевском дворце.
В небольшом салоне собрались за карточной игрой в тридцать одно увешанные орденами и с орденскими лентами через плечо послы, посланники, делегаты и избранные журналисты. В течение сорока пяти минут они ожидают торжественного знака, чтобы вместе со своими делегациями пройти перед их величествами – королевой Голландии Вильгелъминой, принцем-консортом и маленькой принцессой.
Председатель Совета министров Андре Тардье «более великолепен, чем когда-либо». Бриан (сопровождаемый на этот раз генеральным секретарем Кэ д’Орсэ Филиппом Бертело), Лушер и тучный министр финансов, сенатор от департамента Орн знаменитый Адольф Шерон, которого его диспут с новым английским министром финансов Сноуденом уже со времени первой Гаагской конференции сделал известным на международной арене, сопровождают председателя Тардье.
Хитрый, изворотливый Адольф Шерон, с маленькой бородкой, на коротеньких ножках и с огромным животом, все время мелочно спорит по вопросам права и юриспруденции. Это настоящий нормандский крестьянин: «Соотечественник палачей Жанны д’Арк» – как его всегда называет Бриан. Ест он феноменально. Еда – это важнейшая забота в его жизни.
«Я слежу за тем, чтобы Адольф всегда имел за обедом целого цыпленка, так как это как раз то, что ему нужно», – часто повторяет его жена Мари, дочь богатых буржуа из Кана. Но мы все знаем, что это только часть его обеда. Впрочем, спустя десять лет он и скончается от несварения желудка.
Коллеги Шерона по министерству всегда подтрунивают над ним по этому поводу.
В этот вечер в Гааге Шерон бросает на Тардье мрачные взгляды и ворчит про себя. Одному из делегатов, который спрашивает, что случилось, Адольф Шерон отвечает: «Я подозреваю, что наш председатель Совета министров Андре Тардье замешан в историю, которая произошла со мной и которая сильно меня огорчает».
У Шерона в округе Лизье, где он был избран сенатором, имелся свой старый портной, у которого он перестал заказывать одежду с тех пор, как пришел к власти. Тардье подделал почерк портного и направил Шерону письмо следующего содержания:
«Господин министр, я не могу пережить бесчестия, которое вы мне нанесли, не заказав мне вашего первого костюма министра финансов. Я кончаю с собой!» И в то же утро при выходе делегации с совещания потрясенный Адольф Шерон немедленно прочел это письмо своим коллегам, прося у них совета…
* * *
Но вот уже служители и камергеры приглашают французскую делегацию продефилировать перед их величествами. Адольф Шерон торжественно становится четвертым – после Тардье, Бриана и Лушера.
В глубине зала причудливой архитектуры на возвышении стоит одетая во все белое королева Вильгельмина между королевой-матерью Эммой и своей дочерью, юной принцессой Юлианой. Позади них полный господин – принц-консорт. Королева держит в руках, старательно затянутых в белые лайковые перчатки, небольшой список вопросов, которые она должна задать каждому делегату. Но государыня, по-видимому, перепутала вопросы и спрашивает у старого холостяка Бриана, у которого никогда не было семьи, то, что должна была спросить у Лушера, имевшего несколько дочерей.
Королева интересуется, хорошо ли прошло путешествие г-жи Бриан и успешно ли его дочери сдали экзамены, тогда как Лушеру она задает вопросы относительно дел на Кэ д’Орсэ.
К ее величеству подходит Шерон. Королева говорит ему:
– Господин министр, что вас больше всего поражает в нашей прекрасной Гааге?
Застигнутого врасплох Шерона на мгновение охватывает панический ужас! Короткая пауза, во время которой все французские делегаты с тревогой ждут, что же он ответит.
В конце концов, запинаясь, но громовым голосом он отвечает:
– Ваше величество… меня поражает множество велосипедов, которых в двадцать раз больше, чем в Париже!
Андре Тардье, Лушер и Бриан прыскают со смеху. Бертело снисходительно качает головой и весьма непочтительно говорит им:
– О, если бы вам приходилось так же часто, как мне, слышать разговоры между собой великих мира сего, то это напомнило бы вам беседу детей в возрасте от шести до восьми лет!
Стоящий в глубине помоста принц-консорт с симпатией смотрит на делегатов, проходящих перед ее величеством, ожидая с заметным нетерпением конца этой церемонии, чтобы побеседовать с ними.
Генрих Мекленбург-Шверинский – очень приятный человек, необычайно полный и с красным лицом. Он страдает плоскостопием и может ходить, только переваливаясь с ноги на ногу, подобно игрушечному человечку, сделанному из свинца.
Истории, в которые попадал этот бравый толстяк, муж уважаемой королевы Вильгельмины, были предметом «сплетен» всего дипломатического корпуса. Королева запретила ему говорить о политике и появляться в ее присутствии в том случае, если предварительно она не удостаивала его своей беседой. Принц-консорт философски относился к своему положению, и его главной заботой стало увеличение содержания, которое ему выделяла его царственная супруга.
Королева систематически подыскивала ему всякого рода дела, чтобы занять его чем-нибудь, но он везде терпел провал, даже в Красном Кресте! В конце концов он остался всего лишь почетным председателем бойскаутов.
Он любил жизнь, довольно много пил, и его слабости, столь человеческие, почти у всех вызывали симпатию. Его полные жизнерадостности и мягкости шутки о своем трудном положении снискали ему всеобщее сочувствие. «Ах, господа, как вам везет, – говорил он участникам Олимпийских игр 1928 года в Амстердаме. – Вы, по крайней мере, возвращаетесь каждый в свою страну и снова обретаете свободу, а я – я возвращаюсь, чтобы вновь попасть под ярмо голландского двора».
Он приезжал в Париж так часто, как только мог, и там развлекался. Но в один прекрасный день некий хитроумный фотограф заработал целое состояние, продав гаагскому двору, известному своими строгими нравами, несколько фотографий с изображением изысканных увеселений принца-консорта в Париже. Этим был положен конец его похождениям, ибо с этого момента выдаваемые ему денежные средства были сильно урезаны.
В этот вечер во дворце принц-консорт искуснейшим образом оказывал честь самому необычному из столов, которые я когда-либо видела. На подковообразном столе – нагромождение яств, наиболее легкими из которых были начиненные всякой всячиной поросята и фаршированные яйца. Огромные блюда с морем зеленого желе, на волнах которого плавали омары и лангусты; на месте глаз у них зажигались и гасли белые и красные электрические лампочки.
А в центре этого огромного стола возвышался гигантский макет королевского дворца из нуги. Над дворцом было водружено белое марципановое знамя, на складках которого алела надпись из красного сахара: Si vis pacem, para pacem.[13]
Внутренняя часть этого шедевра кулинарного искусства была ярко освещена электричеством, и там находились маленькие фигурки из нуги, изображающие их величества и их высочества.
Вот тогда я и заметила, каким гурманом был принц-консорт. Впрочем, его непомерный аппетит оказался впоследствии причиной его смерти! В самом деле, наступил день, когда он не мог уже больше откладывать курс лечения от ожирения. Он отправился лечиться в Бад-Хаштейн, где самые тучные в несколько дней превращались в сильфов. Так было и с ним, но спустя некоторое время после этого, осенью 1933 года, он все-таки умер. Когда зачитывалось его завещание, гаагский двор был весьма удивлен его последней волей: «Я ненавижу черное, – указывалось в документе, – поэтому я хочу, чтобы и двор и страна носили по мне траур белого цвета».
В конце работы Гаагской конференции ее председатель, которым является глава Совета министров Бельгии Жаспар, и его жена дают бал от имени всех делегаций в «Отель дез Энд», чтобы отблагодарить их величества и голландское правительство за все устроенные ими приемы и различные празднества. Согласно дипломатическому протоколу приглашать коронованных особ не разрешается. Но зато можно пригласить принца-консорта.
Именно он и открывает бал уланской кадрилью на мотивы из оперы «Кармен». После кадрили я была удостоена чести танцевать с принцем-консортом, который был особенно любезен и непрестанно смеялся в течение всего вальса. Не обладая свойственной ему способностью сохранять равновесие, я прилагала все усилия, чтобы не упасть, когда он во время танца вертел меня, как волчок.
К концу вечера дамам были вручены шелковые платочки, отделанные брюссельскими кружевами. И я как сейчас вижу Андре Тардье, который с высоты лестницы «Отель дез Энд» смотрит на все это празднество одновременно и величественно, и по-мальчишески! Заметив, что я, хотя и крайне неохотно, собираюсь последовать примеру почтенных вдовушек, которые, отходя от принца-консорта, склонялись в церемонном реверансе, Тардье восклицает достаточно громко, чтобы я могла его слышать и что еще больше смущает меня: «Здесь не так, как во Франции, здесь смешное не смертельно!»
* * *
Через несколько дней конференция заканчивает свою работу. Чувствуется, что у немцев укрепилось намерение использовать свои финансовые затруднения для проведения «политики протеста». Что касается способов применения плана Юнга, относительно которых в конце концов пришли к согласию, они представляют собой весьма посредственный результат. «Все, чего мы достигли, – саркастически заявляет Тардье журналистам, когда экспресс «Северная звезда» останавливается на Парижском вокзале, – это согласия о разногласиях».
* * *
Но этот месяц – январь 1930 года – очень богат событиями в международной дипломатической жизни. Сорок восемь часов спустя после окончания Гаагской конференции в Лондоне 21 января, в самый туманный день этого века, открывается Морская конференция, созванная по требованию Англии, Америки и Японии. Все три державы желают установить границы своего морского строительства.
Лондон, Вашингтон и Токио хотели бы, чтобы Франция согласилась с итальянским требованием установления «паритета» на Средиземном море. Итак, для нас прежде всего речь идет о конференции по «защите» нашего флота, ибо для Франции всегда встает одна и та же проблема: «не имея гарантий безопасности, Франция сохраняет свои вооруженные силы».
* * *
В день открытия конференции стоит такой густой туман, что даже в большой галерее палаты лордов Андре Тардье с трудом может рассмотреть перед собой огромную картину, изображающую Нельсона во время Трафальгарской битвы. Французские делегаты видят, также как бы «в тумане», четырех других глав делегаций: Рамзея Макдональда, Стимсона – от Америки, Вакацуки – от Японии и Дино Гранди – от Италии. Каждый по очереди излагает точку зрения своего правительства.
* * *
В анналах дипломатической истории эта конференция, длившаяся восемьдесят семь с половиной дней, отмечена как самая скучная из всех конференций ХХ века.
Никаких публичных заседаний. Все переговоры происходят только между пятью главами делегаций. Некоторые сведения о ходе переговоров становятся известны лишь вечером, когда Бриан, Тардье или адмирал Дарлан принимают представителей печати.
Очень обеспокоенные в начале конференции французские адмиралы приобретают все более довольный вид по мере ее дальнейшего развития.
Вечером 20 марта некий американский журналист, который полагает, что на конференции слишком редки сенсации, спрашивает у адмирала Дарлана: «Admiral, look here,[14] когда же наконец эта конференция сдвинется с места?»
Дарлан отвечает в том же духе:
«Она двигается великолепно. Как же вы надеетесь на изменение в дальнейшем характера этой конференции, если учесть, что работа ее в известной мере направляется моряками? Мы совсем не склонны к самоубийству. Поверьте мне, молодой человек, когда какое-либо правительство захочет ликвидировать часть флота, то будет предпочтительнее поручить эту операцию политическим деятелям. Так будет надежнее!»
* * *
Бриан, который болен, совсем не выходит из своей комнаты, куда по вечерам его верный слуга. Эмиль приносит ему на обед только стакан молока и свежее яблоко. Облачившись в мягкий бумазейный халат табачного цвета в розовую полоску, Бриан преисполнен грусти. Что касается Эмиля, то он очень скучает в Лондоне. Поэтому он как можно раньше укладывает своего патрона в постель. Затем, чтобы быть уверенным, что Аристид Бриан не подвергнется никакой опасности, он запирает на два оборота ключа двери номера в отеле «Карлтон» и с ключом в кармане направляется в кино. Однажды вечером Андре Тардье и адмирал Дарлан, когда их спор с Макдональдом относительно содержания коммюнике достиг наивысшего напряжения, пожелали, чтобы Бриан в качестве арбитра решил исход этого франко-английского сражения. Но войти к Бриану оказалось невозможно. С целью как можно лучше обеспечить безопасность министра иностранных дел Франции администрация отеля приказала поставить в его номере дополнительно специальный замок. Пришлось спешно послать французских и английских полицейских во все близлежащие кинотеатры, чтобы найти Эмиля. Но как раз именно в этот вечер Эмиль не был в кино, так как он нашел себе хорошую компанию и отправился гулять по набережной Темзы. В конце концов, чтобы дать возможность Макдональду и Андре Тардье решить их спор, слесарь отеля «Карлтон» вынужден был взломать замок.
* * *
А конференция все затягивается.
Наконец 21 апреля 1930 года – заключительное заседание.
По правую руку Макдональда разместились те, у кого радостные лица: Бриан со своими делегатами и восемь американских делегатов. За эти восемьдесят семь дней переговоров они не потеряли ничего.
Налево – другая картина. Прежде всего английское морское министерство, которое не может особенно гордиться тем, что ему придется подписать черным по белому отречение Англии от мирового морского первенства, принадлежавшего ей со времен Трафальгара.
Рядом с ними – нервозно настроенные итальянцы. Они не достигли успеха…
И наконец обращает на себя внимание важный японец с выпученными глазами, который так внимательно вслушивается в слова председателя Макдональда, что буквально ложится животом на стол. Это адмирал Такарабе. Его мучают угрызения совести. Он тяжко вздыхает: «Мои предки делали себе харакири за меньшее! Они карали себя даже за одно потерянное судно! А я, моя подпись, поставленная во вторник, равноценна потоплению многих японских кораблей общим водоизмещением в сотни тысяч тонн. Что же будет?»
Друзья успокаивают его, убеждая, что он тоже превосходно служит своему правительству.
Наконец наступает день отъезда.
В поезде Лондон – Дувр Бриан приглашает к себе в салон-вагон на tea-party.[15] Все французские морские офицеры в сборе. Адмиралы ликуют: «Ах, – говорит адмирал Виолет, – это все равно, как после шторма, – необходимо восстанавливать порядок, констатировать потери и смело смотреть в глаза будущему. Но сегодня нет никаких потерь! Французский флот вышел невредимым из крупнейшего в современной истории морского сражения. Ура адмиралу Бриану!»
Глава 8. Закат карьеры Бриана
Лорд Ротермир. – Австрийский канцлер Шобер ведет переговоры с Курциусом о таможенном союзе-аншлюсе. – Хитроумный Бриан отделывается от аншлюса. – Сенсационное сообщение прессы. – Почему Бриан выставляет свою кандидатуру на пост президента республики. – Рене Бриан, торговец гробами на улице де ля Паруасс в Версале. – Я останусь министром иностранных дел.
Проходит несколько дней…
Май 1930 года на берегах Рейна.
Ранним теплым майским утром 1930 года командир 3-го стрелкового батальона, которого предупредили, что ввиду военной реформы его батальон будет расформирован, ведет своих людей на прогулку по направлению к маленькому городку Бахараху, и там, на берегу Рейна, когда его солдаты выстраиваются по команде смирно, он приказывает окунуть в воду военные флажки. Он чувствует всю важность акта, который будет совершен.
А во Франции прощание с Рейном проходит незаметно!
И тем не менее… 31 мая в Бреслау происходит провокационная манифестация «Стального шлема» (элитарная организация германских аристократов. – Примеч. ред.). Сто пятьдесят тысяч человек, прибывшие сюда более чем в восьмидесяти специальных поездах изо всех уголков Германии, сконцентрировались в 50 километрах от польской границы. Фельдмаршал Макензен, генерал фон Сект, бывший король Саксонии и кронпринц возглавляют эту манифестацию.
Несмотря ни на что, ровно через месяц, 30 июня 1930 года, перед дворцом великого герцога в Майнце генерал Гийома и Тирар выводят на парад единственный французский батальон, оставшийся в городе. Французские войска быстро проходят через мост и с барабанным боем приближаются к вокзалу. Войска идут по пустынным улицам, и кажется, что город необитаем.
Но к полудню облик Майнца совершенно преображается. На улицу высыпают толпы людей. Тот же самый мост, пустынный в полдень, к 5 часам вечера заполнен радостно настроенными мужчинами, женщинами и детьми. Это была шумная, восторженная масса людей, через которую с трудом могла пробить себе дорогу первая рота немецких полицейских, прибывшая из неоккупированной части Германии.
Оккупация окончилась.
Германия вновь обрела свою свободу.
Однако германские политические руководители недовольны. «Если страдания, вызывавшиеся оккупацией, окончились, то страдания, связанные с выплатой репараций, вступают в новую острую стадию», – заявляет его преосвященство католический прелат Каас.
Националистская печать подчеркивает те вопросы, которые остаются нерешенными в отношениях между Францией и Германией. «Нельзя говорить об освобождении до тех пор, пока нам не будет возвращена территория Саара», – пишет газета «Тагес цайтунг».
Утром 1 июля Мольтке пишет в «Локаль анцейгер»: «Погасли огни праздника освобождения. Вчерашний успех – это только отправная точка для новых усилий. В течение многих лет мы обращали свои взоры к Западу. В продолжение этого времени немецкие меньшинства должны были вести жестокую борьбу за сохранение своего германского духа. Для Германии теперь настало время поддержать их всеми своими силами».
И сразу был сделан упор на демилитаризацию Рейнской области.
Французский посол в Берлине де Маржери телеграфирует на Кэ д’Орсэ о новых основных направлениях германской политики:
«Теперь, когда достигнут первый этап политики Штреземана, Германия обратится к Западу».
* * *
Утром 10 сентября в Женеве во время заседания Ассамблеи Лиги Наций становятся известны результаты выборов в Германии: партия Адольфа Гитлера, за которую в 1928 году голосовало всего 800 тысяч избирателей, получила теперь более 6 миллионов голосов. В обстановке неописуемого восторга 107 гитлеровских депутатов вступают в рейхстаг.
Видя, что все начинают пересматривать свои позиции, Лушер восклицает:
«Это почти так же, как на Венском конгрессе, когда распространилась новость о том, что Наполеон бежал с острова Эльбы».
Всеобщее изумление! Англия рукоплещет!
Лорд Ротермир, владелец «Дейли мейл», пишет:
«Переход политического влияния в Германии к национал-социалистам выгоден и для всей остальной Европы, ибо таким образом воздвигается еще один оплот против большевизма». На следующий день, касаясь вопроса о пересмотре договоров, Ротермир утверждает: «В тот день, когда национал-социалистское правительство придет к власти, Германия осуществит нечто более значительное, чем союз с Австрией; она вовлечет в свою орбиту не только 3 миллиона немцев, проживающих в Чехословакии, 3 миллиона венгров, чехословаков и румын, но еще и саму венгерскую нацию». Ротермир предсказывает образование «компактной массы более чем в 100 миллионов человек в центре Европы» и заканчивает словами: «Таким образом, из-за слепоты союзных держав несчастья, вызванные войной, дадут Германии основу для такой мощной политической комбинации, какую она не могла бы надеяться осуществить, если бы она вышла из войны победительницей».
* * *
Однако Бриан и Тардье успокаивают французское общественное мнение, которое весьма болезненно реагирует на происшедшие события. В правых кругах говорят: «Ведь мы же это предвидели! Все уступки, сделанные Германии, были напрасны». В кругах левых партий переживают все чувства, свойственные раздосадованному влюбленному. А Эдуард Эррио на съезде радикалов в Гренобле мрачно пророчествует: «Попробуйте приоткрыть дверь к пересмотру договора, и поток воздуха тотчас распахнет ее настежь».
* * *
В Бурбонском дворце усиливаются нападки на политику Бриана. Бриан еще выходит победителем из парламентских боев, но он уже слабеет. И вот последний удар, каким добивают, чтобы прекратить страдания! Его наносит Бриану австрийский канцлер.
Уже в течение многих месяцев канцлер Шобер совместно с германским канцлером Брюнингом ведут в чрезвычайно секретной обстановке переговоры о таинственном экономическом соглашении.
Брюнинг решил нанести поражение Бриану с помощью его же собственной идеи европейского союза, путем «установления экономической связи между нациями», которую сам Бриан так рекомендовал! Германский министр иностранных дел Курциус прибывает в Вену, чтобы завершить выработку проекта создания австро-германского таможенного союза, то есть проекта аншлюса.
Вот оно, великое пробуждение пангерманизма, против которого, по крайней мере внешне, выступал Штреземан.
Это катастрофа для Бриана. «Первый результат вашей блестящей политики – создание великой Германии, осуществление аншлюса!» – неистово кричат его враги.
Курциус желает, кроме того, дополнить свой проект унификацией юридических систем между обеими германскими странами, а затем осуществить культурный союз: «Таким образом, аншлюс будет осуществлен без какой-либо возможности вмешательства со стороны Европы, и мы будем иметь два места в Женеве», – говорит он, прекрасно зная при этом, что общественное мнение рейха, так же как и Австрии, резко разделилось. «Фабриканты кожи для ботинок – “за”, а фабриканты кожи для подметок “против”», – сообщает германский посол в Вене.
Со времени осенней сессии австрийский канцлер Шобер совершил все же не менее тринадцати поездок в Берлин, чтобы завершить выработку проекта австро-германского таможенного союза, который Бриан полон решимости отвергнуть, несмотря на то, что, отклоняя его как юридически несовместимый с Сен-Жерменским договором, он тем самым наносит удар по своему европейскому союзу. Не сам ли он рекомендовал начать его осуществление путем создания «экономических связей между нациями»?
Англичане предлагают, чтобы этим делом занялась Лига Наций. Для выяснения вопроса, совместим ли таможенный союз с мирными договорами, австро-германский проект передается на рассмотрение Международного суда в Гааге. Проще всего было бы заставить австрийского канцлера взять свой проект обратно, и Бриан предложил бы тогда принять более широкий французский проект, осуждающий австро-германский союз, но рекомендующий обширный совместный план для всей европейской экономической организации.
Но само собой это дело не двигается к разрешению. Приходится прибегнуть к особым средствам…
«Если вы хотите получить заем, – говорят по поручению Бриана австрийской делегации, – возьмите назад свой пресловутый проект!»
Делегаты Лиги Наций несколько скандализованы. «Однако вы же не можете применять новые международные законы только тогда, когда это вам выгодно!» – заявляют они Бриану.
Французской делегации дано указание дискредитировать Шобера, но не затрагивать Курциуса. Начальник службы печати французской делегации Андре Франсуа-Понсэ твердит повсюду: «Шобер – самый большой лжец в Европе».
А Шобер – это маленький старичок с белой остроконечной бородкой и воинственными усами, с небольшим золотым пенсне на носу, всегда одетый в слишком узкий для него сюртук моды 1900 года; каждый раз, когда он произносит очередную остроту, его круглый животик под серым жилетом трясется от смеха; он очень веселый человек и немного плутоватый, как все хорошие префекты полиции, – в течение многих лет он занимал этот пост в Вене. Вакареску говорила о нем: «Этот человек более всех осведомлен о любовных тайнах всей Европы. Никто не может сравниться с ним в искусстве незаметно овладевать этими тайнами».
Шобер взбешен направленными против него яростными нападками со стороны Франсуа-Понсэ, который создает ему скверную репутацию в международной печати.
Когда Бриан пытается оказать на него давление, чтобы побудить его взять назад свой проект, Шобер выдвигает свои условия:
«Ну, хорошо, пусть будет так, я забираю свой проект, но я хочу, чтобы во французской печати появилась очень хорошая статья обо мне!» Руководитель австрийской печати Мартин Фукс отправляется отыскивать Жюля Зауэрвейна, журналиста из газеты «Матэн», которая больше всех нападала на Шобера, и говорит ему:
«Услуга за услугу. У меня есть для вас великолепная scoop,[16] но я вам сообщу ее только при условии, если вы согласитесь сопроводить ее комментариями, которые я вам продиктую». И вот таким образом на следующий день газета «Матэн» публикует ошеломляющую новость: австрийский канцлер берет назад свой проект таможенного союза. И в статье добавляется по этому поводу: «Это доказывает, что господин Шобер – человек редкого ума, ибо именно тут он продемонстрировал свое высокое политическое чутье» и т. д.
Таким образом оказалось возможным избежать аншлюса до 1938 года…
* * *
Но по возвращении Бриана в Париж против него организуются интриги с целью добиться его отставки. Парламентариям до последней степени надоело то, что они называют «зловредными тучами Женевы».
* * *
Несколько месяцев спустя, в феврале 1931 года, Пьер Лаваль становится председателем Совета министров.
Приближаются выборы президента республики.
Среди близких Бриану лиц возникают тогда великие замыслы… продвинуть его в Елисейский дворец!
Многие из его окружения заявляют:
«Его триумфальные выборы водрузили бы на французском древке флаг мира. Будучи президентом республики, Бриан получил бы право устранить от власти как неблагоразумных, так и экзальтированных, которые могут нарушить франко-германскую гармонию».
Восхваляя Бриана, все левые круги высказывают мнение, что «став президентом республики, Бриан в случае чрезвычайных обстоятельств мог бы даже составлять послания, которые имели бы широчайший отклик во всем мире».
Что касается правых партий, тут полная неожиданность. Они открыто побуждают Бриана выставить свою кандидатуру на выборах 13 мая. Но потихоньку каждый уже говорит о том, что это только ловушка, с помощью которой они надеются отделаться от него.
На самом же деле только прогрессированием болезни объясняется неожиданное решение выставить свою кандидатуру на пост президента республики, принятое в конце первой недели мая 1931 года Брианом, который всегда приходил в ужас от условий жизни, выпадающих во Франции на долю главы государства.
«Стать президентом республики! Для меня это неприемлемо с точки зрения гуманизма, и, кроме того, я хочу продолжать свою линию внешней политики», – всегда повторял он.
Действительно, Бриан желает сохранить все свои силы для достижения успеха в создании европейской федерации, во франко-германском сближении и в Лиге Наций.
* * *
Итак, до последней минуты Бриан был полон решимости не выдвигать своей кандидатуры. Но все его окружение, за исключением Алексиса Леже, все больше и больше склоняет его к этому.
Накануне выборов я была в квартире Аристида Бриана, которую он занимал теперь на третьем этаже на Кэ д’Орсэ, когда к нему пришел сенатор Поль Думер.
«Если вы не выступите в качестве кандидата, то я выставлю свою кандидатуру!»
Бриан уверяет, что он не будет баллотироваться на выборах. Но внизу, в салонах, собралась делегация из восьмидесяти сенаторов и депутатов от левых партий во главе со старым политическим деятелем, пользующимся большим влиянием в партии радикалов, – Гастоном Томпсоном, в сопровождении председателя Пэнлеве, многочисленных депутатов-радикалов и даже представителей правых кругов. Все желают видеть Бриана.
Старый Гастон Томпсон взволнованно говорит ему, взывая к «его гражданскому долгу перед республикой». Бриан, который очень плохо чувствовал себя в тот день, упорно, но не категорически отказывается. И мало-помалу, в обстановке всеобщей путаницы эта делегация политических деятелей добивается от Бриана решения выставить свою кандидатуру.
* * *
На следующий день, 13 мая 1931 года, в день выборов, Бриан печален. Он чувствует, что скоро свершится непоправимое. Он чувствует, что попал в капкан. В последнюю минуту Пьер Лаваль, бывший тогда премьер-министром, приглашает его на завтрак.
«Я хочу сопровождать вас в Версаль», – говорит он.
На этот завтрак, устроенный в маленьком особняке Пьера Лаваля на вилле Сайд в Париже, не был приглашен Леже, который почти не покидал Бриана с того времени, как его здоровье сильно ухудшилось. На завтраке присутствовали только Тардье и Мажино.
Весьма любопытно то, что строгий режим, который все сотрудники Бриана старались заставить его соблюдать, в этот день был нарушен. И еще более странное обстоятельство заключается в том, что Бриана заставляют чрезмерно много есть и пить, в результате чего он прибывает в Версальский дворец, чувствуя себя очень плохо физически. Как всегда, дорогу из Парижа в Версаль охраняют полицейские кордоны.
Когда транспорт двигается по городу, полицейские время от времени останавливают машины, чтобы дать пройти пешеходам. Машину с близкими сотрудниками Бриана останавливают перед выкрашенным в черный цвет магазином Рене Бриана, крупного торговца гробами в Версале. «Зловещее предзнаменование», – возникает у них мысль. Пейселон говорит: «Нам следует ожидать измены в последнюю минуту! Восемь дней назад Тардье обещал Бриану в палате депутатов шестьдесят голосов, позавчера он гарантировал ему не более сорока. А вчера вечером он позволил ему надеяться только на десять».
И тем не менее в «Отель де резервуар», как и в «Трианон паласе», где в этот день был дан роскошный завтрак, все верили в успех Бриана.
В два часа дня ложи для публики в зале заседаний были переполнены, так как все хотели видеть, как по очереди поднимаются на трибуну шестьсот депутатов и четыреста сенаторов и, скромно опустив в урну бюллетень, спокойно возвращаются на свои места.
Все это время Бриан, ожидающий в кулуарах, окружен плотным кольцом людей.
Серьезное физическое недомогание Бриана уступает место страшному негодованию, когда после подсчета голосов ему сообщают, что в первом туре голосования Думер получил на 40 голосов больше.
Во втором туре его близкие друзья говорят ему: «Фланден, Мажино и Тардье затеяли против вас закулисную игру, хотя именно они главным образом и толкали нас на то, чтобы мы предложили вам выставить свою кандидатуру. Действуя таким образом против вас, они осуществляют двойной маневр: побудив вас выдвинуть свою кандидатуру, они надеются тем самым полностью развенчать вас в глазах общественного мнения и в особенности дискредитировать вас как министра иностранных дел».
Бриан снимает свою кандидатуру. Очень бледный, он, шатаясь, направляется тогда к маленькой комнатке, где, согласно традиции, вновь избранный должен принять поздравления своего несчастного конкурента, прежде чем предстать перед лицом Национального собрания, которое встретит его бурными аплодисментами.
Немного спустя Бриан, болезненное состояние которого еще больше ухудшилось, поддерживаемый Леже, медленно садится в машину, чтобы возвратиться в министерство иностранных дел.
Однако Бриан спокойно и с достоинством переносит свое унижение, единственной причиной которого является резко выразившийся уже в то время упадок его физических сил.
* * *
И тем не менее на следующее утро Бриан отправляется в Женеву председательствовать в комиссии Европейского союза.
В поезде он проводит часть ночи за беседой со своими сотрудниками: «Я спрашиваю вас, своевременно ли сейчас мне выйти из кабинета этого Пьера Лаваля, который меня предал и будет действовать в том же духе?»
На следующий день его застают еще в том же кресле пульмановского вагона машинально перелистывающим детективный роман.
А по прибытии на вокзал Корнавэн он заявляет при всеобщем молчании своих сотрудников:
«Я чувствую, что моя политика находится под угрозой… под большой угрозой. Ее хотят изменить! Когда речь идет о мире во всем мире и в твоей стране, никто не имеет права уклоняться от обязанностей, если только его к этому не принуждают! С тем же твердым желанием продолжать свои усилия я останусь министром иностранных дел».
По возвращении Бриана во Францию его поклонники, не имевшие возможности продемонстрировать ему свою преданность на следующий день после его поражения на президентских выборах, ожидают женевский поезд, в котором прибывает Бриан, чтобы устроить ему триумфальную встречу.
И когда машины Бриана и его окружения двигались от Лионского вокзала до Кэ д’Орсэ, они были встречены с таким энтузиазмом, что потребовалось вмешательство полиции.
Поднимаясь по ступеням парадной лестницы Кэ д’Орсэ, очень взволнованный, Бриан произносит несколько слов. Он не сказал ничего особенного, если не считать последней фразы: «Несмотря ни на что, я не отчаиваюсь!»
Глава 9. Официальная поездка в Берлин
Халат из розовой бумазеи в коричневую полоску. – Северный вокзал, 18 июля 1931 года. – Самое трудное в путешествии – это возвращение. – Лаваль и лондонский Тауэр. – Всякое случается. – Брюнинг предпочитает автобус. – Институт любви. – Кто одержит верх: немецкие националисты или Адольф Гитлер?
Время идет…
Шестнадцатого июля 1931 года, Париж, Кэ д’Орсэ. Пятый этаж, небольшая комната Аристида Бриана.
В халате из розовой бумазеи в коричневую полоску, Бриан, усталый и сгорбленный, сидит в кресле. Перед ним стакан молока.
Рядом с ним два неразлучных друга – массивный, нарочито небрежно одетый Пейселон, директор «Журналь офисьель», и Алексис Леже в безукоризненном черном пиджаке и полосатых брюках.
Бриан еще не хочет признать себя побежденным. Разве международная обстановка, доминирующим фактором которой является экономический кризис и банкротства в Германии, не дает ему возможности снова проявить инициативу?
Алексис Леже встает. Он бегло излагает своему шефу последние события, начиная с того момента, когда в конце января Пьер Лаваль стал председателем Совета министров.
«14 апреля в Мадриде республика пришла на смену королевству. Для Алкала Самора, Асанья, Леру, Гарсия, Прието, которые в течение многих лет подготавливали это событие, пробил час победы. Король отрекся от престола.
Он покинул Испанию на борту крейсера, а королева уехала на поезде «Южный экспресс». Алкала Самора стал президентом республики».
В Берлине – инфляция, паника, возмущение, в то время как председатель Рейхсбанка и канцлер совершают турне по столицам в поисках средств для преодоления финансового кризиса…
Впрочем, как раз послезавтра канцлер Брюнинг и его министр иностранных дел Курциус прибывают на Северный вокзал…
«И наконец, – говорит в заключение Леже, – не следует забывать, что с 20 июня объявлен мораторий Гувера. Предлагая отсрочить на один год все платежи по международным государственным долгам, репарациям и займам, заключенным в порядке оказания помощи, президент Гувер поставил перед нами, французами, трудный вопрос: можем ли мы отныне платить наши долги Америке только в той мере, в какой Германия будет выплачивать нам свои долги?»
Леже еще не кончил. Держа в руках номер лондонской газеты «Таймс», он читает:
«Последние события показали, что невозможно оказать эффективную финансовую помощь Германии без сотрудничества с Францией. Таким образом, можно сказать, что в настоящее время будущее Германии находится в руках Франции».
После небольшой паузы Леже говорит: «Может быть, это и явится благоприятной почвой?»
Молчание. Затем нескончаемые дискуссии… Проходят часы. В два часа ночи Бриан восклицает: «Да, я представляю себе… Я могу возродить франко-германское сближение, поставив финансовую помощь Германии со стороны великих держав в зависимость от некоторых политических гарантий».
* * *
Суббота, 18 июля 1931 года, Северный вокзал. Прибывают канцлер Брюнинг и его министр иностранных дел Курциус. Через несколько часов прибывают министр иностранных дел Великобритании и государственный секретарь США, а затем – итальянец Гранди и бельгиец Гиманс.
Собирается густая и пестрая толпа народа.
В последнем ряду гражданин в сюртуке с академическими пальмами в петлице,[17] сгорая от нетерпения, привстает на цыпочки, стараясь что-нибудь разглядеть. Проезжает официальный кортеж. Толкотня… Приветственные крики.
Человек с академическими пальмами в петлице, который ничего не видит, доверчиво кричит: «Да здравствует Лаваль!» К нему приближается стоявший рядом со мной какой-то фанатик, вероятно, глуховатый, которому почудилось, по близкому созвучию слов, что гражданин вместо «Лаваль» крикнул «Германия»:[18] «Как вам не стыдно кричать “Да здравствует Германия?”» И подкрепляя свой упрек мощным ударом кулака по голове человека, которому он задал вопрос, фанатик надвинул ему котелок на самые уши. Возникает сумятица и драка. <…>
Отныне в Париже имеются два направления в политике франко-германского сближения: направление Бриана, который считает, что сближение – это всего лишь «звено» во всеобщем согласии, где Франция сохраняет все свои союзы, и направление Пьера Лаваля, который полагает, что Франция должна подчинить все свои союзы и всю международную политику союзу с Германией. По мнению последнего, организация Европы должна осуществляться под руководством этого союза и должна быть решительно направлена против Британской империи. Правые партии Франции положительно относятся к концепции Лаваля. Левые партии одобряют концепцию Бриана.
В воскресенье вечером, 19 июля, закончились переговоры между канцлером Брюнингом, Курциусом, Лавалем и Брианом. Делегации направляются в Лондон, где предложение, сделанное Францией Германии, должно быть принято другими странами.
Теперь Пьер Лаваль присваивает себе главную роль. Бриан молча сидит в своем кресле, в то время как Лаваль излагает представителям печати «французский проект, предоставляющий Германии большие финансовые выгоды» при предварительном условии принятия гарантий и в особенности политических обязательств.
* * *
Поездка в Лондон обещает быть трудной, так как другие страны, принимающие участие в конференции, в основном придерживаются того мнения, что Франция должна пойти на всевозможные односторонние уступки Германии.
* * *
На следующее утро на пути в Лондон Бриан сидит на палубе парохода в глубоко надвинутой на глаза шляпе, закутанный в крылатку, которая делает его спину округлой.
Морской воздух его немного оживляет.
– Эмиль, вы приготовите мне чистый воротничок к прибытию на вокзал Виктория?
– Мягкий, господин министр?
– Нет, полужесткий, как сама обстановка!
В самом деле, переговоры Лаваль – Брюнинг – Макдональд представляются ему поистине трудными. И он печален.
Чтобы ободрить его, Бертело, который всегда говорит смешные вещи с самым серьезным видом, обращается к нему:
– Один философ говорил мне, что самое трудное в путешествии – это отправиться в путь.
Бриан с горечью откликается:
– Ну а мне один философ говорил, что самое трудное в путешествии – это благополучное прибытие. <…>
На пароходе Лаваль, который едет в Англию первый раз в своей жизни, не отходит от канцлера Брюнинга. В тот же вечер Лаваль приглашает журналистов в отель «Карлтон». Он говорит только о канцлере и о «точках соприкосновения» между Францией и Германией. «Я почувствовал сегодня, насколько Франция и Германия дополняют друг друга», – заявляет он с пафосом. И ни слова об Англии.
Англичане не заблуждаются относительно глубоких и совершенно новых тенденций, которых придерживается глава французского правительства. Лондонская печать изображает его в неприглядном виде: «Это человек, не умеющий следить за собой, не обладающий хорошими манерами и крайне невежественный». Накануне Лаваль, принимая журналистов, спросил внезапно: «У меня два часа свободного времени, я никогда не был в Лондоне, что я могу сделать за это время?» – «Пойдите посмотрите Тауэр», – ответил один из них. И Пьер Лаваль задал вопрос: «Какую башню?».[19]
* * *
В течение двух летних месяцев продолжает усиливаться финансовая катастрофа в Германии, чему тайно способствуют правящие круги. Фраза «Я выиграю битву за отмену репараций» стала лозунгом канцлера Брюнинга. Вот почему в Лиге Наций царит уныние, когда в сентябре 1931 года, в последний раз в своей жизни, там появляется Бриан.
Теперь только благодаря сверхчеловеческим усилиям всегда озабоченный развитием европейской федерации Бриан, почти не покидающий свою маленькую комнатку в «Отель де Берг», дает консультации и советы главам делегаций.
Однако кажется, что Лига Наций живет только потому, что он ее вдохновляет.
Один американский наблюдатель замечает:
– Когда Бриан закрывает глаза, Лига Наций спит. Когда он их вновь открывает, она живет. Но увы, он их закрывает все чаще и чаще. У нас больше нет доверия к вашему континенту.
* * *
Дело в том, что в Женеве провалилось все – и европейский союз, и экономическая конференция, и финансовые конференции, и коллективная безопасность. Тем не менее на горизонте появилась еще одна надежда: канцлер Брюнинг только что пригласил Лаваля и Бриана приехать в Берлин в конце сентября. Не появится ли тогда возможность возродить франко-германское сближение?
Двадцать пятого сентября в «Северном экспрессе» Лаваль, Лушер и Бриан отправляются в Берлин. На протяжении всего пути по французской территории Бриана приветствуют железнодорожники. Он стоит у окна вагона, и на каждой станции дети преподносят ему цветы.
Первая остановка на германской территории – в Ахене. Через каждые два метра расставлены солдаты. Наступает ночь, когда поезд медленно трогается; Бриан откидывается на спинку дивана своего купе и постукивает сигаретой по тыльной стороне ладони. Погрузившись в свои мысли, он издает глубокий вздох, в котором как бы сливаются его опыт, усталость и, быть может, еще тень надежды. «Всякое случается», – шепчет он.
На следующее утро, когда поезд приближается к предместьям Берлина, солнце заливает своими лучами вагон, а Бриан продолжает сидеть все на том же месте. Он отказался лечь спать и всю ночь размышлял, не смыкая глаз.
Его старый слуга Эмиль говорит ему: «Вы неразумны, это говорю вам я, ваш Эмиль! И я говорю вам также, что надо потребовать у папаши Курциуса, чтобы соблюдался ваш режим сегодня утром, а у папаши Брюнинга – сегодня вечером. Ведь немецкая пища не может принести пользы никому из Кошреля».
В общем, еще вчера немецкая печать была настроена крайне враждебно. Часть немецких газет советовала французам сидеть у себя дома. Другая часть обещала их освистать и ошикать. Некоторые, кроме того, утверждали, что именно Франция является главным виновником несчастий Германии.
Потсдамский вокзал. Прибытие а-ля Потемкин! Программа тщательно разработана заранее. Кордоны полицейских сдерживают и без того послушную толпу, из которой раздаются негромкие выкрики: «Да здравствует Бриан!.. Да здравствует Лаваль!.. Да здравствует мир во всем мире!.. Да здравствует франко-германское сближение!»
Лаваль и Бриан – первые французские официальные лица, приехавшие с визитом в Берлин после 1878 года.
Приветственные возгласы возобновляются, когда Бриан появляется на балконе отеля «Адлон» вместе с Франсуа-Понсэ, недавно назначенным послом в Берлин.
«Франсуа-Понсэ – один из самых красивых мужчин Франции», – с восхищением пишет о нем немецкая пресса.
Перед посольством – многолюдная толпа. Два человека достают из большой картонной коробки искусственные анютины глазки и прикрепляют их маленькими кнопками к открыткам с изображением Аристида Бриана. Они с воодушевлением объясняют толпе, что во Франции анютины глазки считаются цветами мира. И они быстро распродают весь свой товар! Я подхожу к ним и объясняю на немецком языке, что во Франции анютины глазки никогда не считались цветами мира. К великому моему удивлению, это французы из предместья Пуассоньер. «Что делать, мадам, эти цветы уже имелись у нас. Теперь нужно, чтобы они принесли сближение». Через несколько часов в имперской канцелярии состоялся большой вечер. Принимает глава рейхсвера генерал Шлейхер. На его чрезвычайно бледном лице выделяются огромные глаза, и он совершенно лыс.
В течение четырех лет, занимая самые различные посты, он является вдохновителем всей политики ремилитаризации Германии. Именно он является отцом пресловутого тезиса о «равноправии».
Несколько недель назад делегат подготовительной комиссии по разоружению граф Бернсторф произнес по этому поводу речь, облетевшую весь мир:
«К нам относятся несправедливо. Мы требуем равноправия. Франция сохранила весь свой военный потенциал, Великобритания – весь свой морской потенциал, в таких условиях для нас бесполезно продолжать дальше разговоры об этом. Да, господа, Германия назначает вам, следовательно, свидание в «Филипповой долине»[20] то есть на поле боя!»
Высокий, худощавый и изящный канцлер Брюнинг привлекает внимание всех гостей. Говорит он сдержанно и мягким голосом. Он похож на умудренного опытом служителя культа. Впрочем, он принадлежит к третьему сословию и ведет очень скромный образ жизни.
«Каждый месяц я возвращаю германскому государству, – говорит он, – часть своего жалованья, так как я его полностью не расходую. Я никогда не пользуюсь автомашинами и езжу на автобусе».
Брюнинг желает сближения с Францией и Англией, но не за счет какого бы то ни было рода серьезных уступок со стороны Германии.
На следующий день перед французским посольством на Паризер-плац в течение всего вечера стояла большая толпа и, требуя выхода Бриана и Лаваля на балкон, скандировала: «Никогда не бывать войне!»
Бриан несколько озадачен. «По-видимому, эти люди поняли меня», – говорит он своим сотрудникам.
Но то, чего добиваются наши министры, не отвечает чаяниям масс, и политическая обстановка меняется.
* * *
Немецкие правящие круги непримиримы. Они требуют займа, который вернул бы в кассы рейхсбанка миллиард марок, потерянный за несколько месяцев. (Инициатор аншлюса доктор Риттер предлагает заключить франко-германский таможенный союз.) Но берлинские руководители не желают идти на взаимные политические уступки. Сильно обескураженный, Бриан замечает: «Не приходится больше даже сетовать на канцлера Брюнинга за то, что не удалось добиться уступок от его сотрудников. Всех сейчас действительно захлестнула эта финансово-экономическая катастрофа, которую прежде они лишь разыгрывали перед нами».
Параллельно с этим в Германии происходит падение нравов.
В Тиргартене, позади Паризер-плац, находится роскошный отель с перистилем из беломраморных дорических колонн, над которыми красуется надпись огромными золотыми буквами: Amori et Dolori sacrum.[21]
Это Институт любви.
Здесь ежедневно читает лекции профессор Магнус Гиршфельд, маленький человечек в белой блузе. С наисерьезнейшим видом он утверждает, что если мировая политика не была совершенно прямолинейной со времен Адама и Евы, то это объясняется только сексуальными аномалиями. И он заявляет: «Если бы каждое существо абсолютно и полностью принадлежало только к своему собственному полу, Германия не была бы разбита и развращенность человечества не достигла бы такой степени развития, какой она характеризуется в настоящее время» и т. д. А материалы и документы, распространяемые среди многочисленных слушателей института, носят весьма своеобразный характер!
Ночные кабачки ломятся от посетителей.
В разных частях города в темных улочках национал-социалисты открывают свои «дежурные пункты», чистенькие, хорошо освещенные, украшенные красными флагами со свастикой и портретами Гитлера. Вот входит туда некий молодой человек, который весь день провел в бесплодных поисках работы. Его приглашают за большой стол поужинать. Ему дают коричневую рубашку. Молодые люди вокруг него, кажется, полны надежд.
Почти на всех улицах Берлина слышатся стрельба и крики, свидетельствующие о том, что между коммунистами и сторонниками Адольфа Гитлера, число которых все возрастает, происходят вооруженные столкновения.
* * *
Результаты поездки французских руководителей в Берлин крайне незначительны!
Была лишь создана комиссия для изучения форм сотрудничества между обеими странами. И это все! (Впрочем, и эта комиссия собиралась всего только один раз.) На следующий год, 23 июля, на заседании в Лондоне американцы, итальянцы, англичане, бельгийцы и японцы, которые далеко не всегда были согласны с политикой давления на Берлин, отклонят французский проект…
На обратном пути, в поезде, Лушер говорит:
– Режим Веймарской республики не сможет удержаться, но какая из двух партий возьмет верх? Немецкие националисты или Адольф Гитлер?
Что касается Бриана, то он стал скептически относиться к возможности сотрудничества с Германией. Он заключает меланхолически:
– Да, я думаю, что любезность, проявленная по отношению ко мне, была только показной!
Глава 10. Смерть Аристида Бриана и конец разоружения
История одного колебания. – Полковник де ля Рок штурмует трибуну в вале Трокадеро. – Старый кожаный портфель Бриана. – Юмор Литвинова. – Андре Тардье и международная армия. – Последний визит в Кошрель. – Дом № 52 на авеню Клебер. – Андре Тардье и «Панч»[22]. – «Германию не соблазняют, ей навязывают свою волю».
Четырнадцатое октября 1931 года. Кэ д’Орсэ. Салон мира.
Стол Совета Лиги Наций, покрытый, как всегда, голубой скатертью, поставлен в Салоне мира. Подача электричества прекращена. Приходится довольствоваться подручными средствами освещения – мерцающие свечи и коптящие лампы мрачным светом озаряют лица министров.
Ослабевший, страдающий одышкой, Бриан настроен патетически.
Японские армии после нападения 8 сентября 1931 года подразделений лейтенанта Кавамото на мукденские казармы двинулись на завоевание Маньчжурии, которое подготавливалось в течение длительного времени. Снова разгорается война.
Впервые Лига Наций поставлена перед лицом возложенной на нее ответственности.
В первый раз крупное государство – член Лиги Наций в нарушение подписанного им самим международного закона совершает открытое нападение на другое, также являющееся членом Лиги Наций крупное государство, которое требует от нее всей поддержки, предусмотренной ее Уставом.
Что делать? Генеральный секретарь Лиги Наций сэр Эрик Драммонд и весь его аппарат обеспокоены, но они ограничиваются тем, что отвечают: «Нам необходимо прибегнуть к правилам процедуры. Мы можем лишь принять решение о посылке на место комиссии Лиги Наций, с тем чтобы выяснить, происходит ли там что-либо иное, кроме «обычного бандитизма», передача этого дела в Лигу Наций, по-видимому, не является правильным шагом со стороны китайцев».
Скучное заседание.
Общественное мнение остается полностью безучастным.
– При каких условиях Макдональд пойдет на снижение курса фунта стерлингов? – шушукаются в зале. – Какие это вызовет международные последствия?!
Что касается французов, то их интересуют только выборы:
– Действительно ли в случае, когда кандидат-радикал не будет уверен в своем переизбрании, будет дана инструкция, согласно которой он должен будет всеми средствами обеспечить победу республике, социальному прогрессу и миру и т. д.
Географическая отдаленность дальневосточного конфликта мешает французам представить себе его подлинное, реальное значение.
Форин Офис не решается открыто занять антияпонскую позицию.
В Вашингтоне лучше понимают грозящую опасность, но этим и ограничиваются.
А жизнь идет своим чередом…
В Берлине второму кабинету Брюнинга с 8 октября угрожает серьезная опасность в рейхстаге.
Престарелый президент Гинденбург, который надеялся передать власть германским националистам, обеспокоен.
Против 107 депутатов-нацистов после выборов 1930 года немецкие националисты имеют в рейхстаге всего лишь 41 депутата.
Партия национал-социалистов развивает по всей стране чрезвычайно активную деятельность. В демонстрациях и парадах принимают теперь участие более чем по 70–80 тысяч человек, а большие красные стяги со свастикой почти повсюду реют в небе Германии.
* * *
На Кэ д’Орсэ Бриан больше не хозяин.
Власть Пьера Лаваля простирается там на все отделы.
Лаваль считает, что настал момент поднять материальные силы Франции. Но так как он не намерен забывать и о моральных силах, он оставляет Бриана на его посту.
Однако он не желает, чтобы сохранение моральных сил происходило хоть в какой-то степени за счет материальных сил.
Бриан, снискав глубокое уважение пацифистов всех стран, постепенно превращается в апостола и «поборника мира». Он мечтает отправиться на конференцию по разоружению с серьезными предложениями.
Это намерение приводит его к конфликту с военным министром Мажино.
И ежедневно Бриан и Мажино, представляющие две противоположные тенденции, нападают друг на друга в газетах, которые, соответственно, следуют указаниям Кэ д’Орсэ или улицы Сен-Доминик.[23]
– Прекрасная женевская эпоха со всеми ее принципами ушла в далекое прошлое, – цинично говорит Андре Тардье и добавляет: – Мирное урегулирование разногласий, неделимость мира, международная солидарность! Ах, ах! Все эти слова, которым вы некогда придавали такое мистическое значение, в течение всего нескольких месяцев оказались лишенными всякого содержания!
И действительно, никто еще не верит в возможность войны, за исключением небольшого числа представителей интеллигенции, среди которых – Уэллс и Барбюс. Но большинство не верит уже и в мир, созданный в таинственном горниле Женевы.
Военный министр Мажино констатирует: «Все институты, созданные в 1919 и 1920 годах, неспособны привести к чему-либо. И министры или главы государств, которым больше не удается заставить признать свои национальные или социальные права, начинают слушать тех, кто говорит им о непосредственных действиях. Наконец, французскую Академию буквально захватило следующее суждение Жюля Камбона:
“История Франции после мировой войны 1914–1918 годов – это история колебаний. Следовало ли нам вести себя по отношению к Германии таким образом, чтобы заставить ее забыть позор поражения? Или же, наоборот, мы должны были использовать все возможности, чтобы помешать ей вновь собраться с силами? Политические писатели покажут на примере нашей страны, насколько губительны последствия нерешительности”».
Одним словом, в последние дни 1931 года одни были полны решимости возвратиться к политике силы, другие продолжали возлагать надежды на Лигу Наций, но понимали, что надо поспешить придать ей некоторую эффективность.
В обстановке такого брожения умов в Париже под покровительством Школы мира, руководимой директрисой журнала «Эроп нувелль» Луизой Вейс, был созван Международный конгресс по разоружению.
Но националистические круги, тайно поддерживаемые Пьером Лавалем, сразу же принимают решение сорвать торжественное заключительное заседание конгресса с помощью грубой провокации.
* * *
Вечером в пятницу, 27 ноября, большой зал Трокадеро.
Эдуард Эррио, окруженный послами и министрами иностранных дел более чем сорока государств, председательствует на торжественном заключительном заседании этого конгресса.
Но едва он начал свою речь, как в задних рядах партера поднимается оглушительный шум, который никак не прекращается. Председатель, конец речи которого теряется в этом шуме, предоставляет слово германскому католику доктору Йосу. Тогда начинается беспорядочная какофония свиста, топота и подражания крикам животных. Вся аудитория начинает протестовать.
Эррио вновь берет слово:
– Разум должен господствовать над чувствами, а не подчиняться им…
Но продолжение его речи тонет в страшном шуме. Среди присутствующих начинается резкая перебранка, а затем и драки. Вскоре обстановка превращается в кромешный ад. Послы Соединенных Штатов, Англии и Германии наблюдают за происходящим с некоторой опаской, поскольку неожиданно «Боевые кресты» приступают к штурму сцены, и в конце концов в этой невообразимой суматохе видно, как председательское место Эррио занимает предводитель «Боевых крестов» полковник де ля Рок, который зачитывает доклад на тему «По каким причинам нам не надо разоружаться».
На следующий день националистские газеты уделяют большое внимание «победе в Трокадеро». А в палате одна за другой вносятся интерпелляции с требованием попытаться найти подлинных организаторов саботажа конгресса по разоружению.
Эррио в яростном гневе. Он обрушивается на Тардье, который объясняет поведение националистов их любовью к родине. «Любить Францию, – громко восклицает Эррио, – это не значит устраивать провокации и наносить оскорбления в присутствии иностранцев!»
Эффект, произведенный за границей, намного превосходит тот, какого ожидали организаторы скандала, начиная с Пьера Лаваля.
«Франция, – говорят там, – не заботится более о судьбах мира, она стала нетерпимой ко всякой другой точке зрения, кроме ее собственной».
Что касается дипломатического корпуса, то он полагает, что этот инцидент произошел своевременно, ознаменовав собой конец эпохи.
* * *
У Бриана больше нет сил бороться, болезнь угнетает его. Совершенно обескураженный, он отменяет заседание Европейской комиссии, намеченное на конец месяца. А туманным утром 9 января он пожимает руки своим сотрудникам, собравшимся на Кэ д’Орсэ в одном из салонов нижнего этажа, и затем уезжает на свою ферму в Кошрель. Его скромный багаж был отправлен накануне. Он берет с собой только старый кожаный портфель, на котором видна уже несколько потертая надпись: «Министр иностранных дел».
В то же утро Пьер Лаваль располагается на Кэ д’Орсэ.
По ту сторону Рейна – сенсация! Берлинская биржевая газета «Бёрзенкурир» пишет: «Пан-Европа Бриана была только “Пан-Версалем”, а сам Бриан был лишь улыбающейся маской французского эгоизма».
Немецкий писатель Зибург, очень модный тогда в Париже, который носится со своей особой «немца, любящего больше всего Францию», пишет:
«Все же Бриан был дверью Франции, открытой в мир. Сегодня Франция захлопывает эту дверь!»
Очень грустный Поль-Бонкур отвечает:
– Вы увидите, как в несколько месяцев Европа полностью изменит свой облик, так же как меняет его провинциальный город, когда опустеет место народного гулянья, закроются ставни и погаснет свет. В 1930 году была великая Лига Наций, но вы увидите, что к 1933 году останутся лишь разъединенные страны.
* * *
Второго февраля 1932 года в большом застекленном зале Секретариата Лиги Наций собралось совсем мало народу. А ведь это был день торжественного открытия той самой Международной конференции по разоружению, которой более десяти лет ждал весь мир.
Ее открытие задержалось еще на один час. Заседает Совет Лиги Наций, ибо японо-китайская война бушует и со всех сторон раздаются протесты против преднамеренного бездействия великих держав. В Лиге Наций царит возмущение:
– Если бы только Франция, Англия и Америка приняли решение применить по отношению к Японии экономические санкции, то конфликт был бы ликвидирован!
В застекленном холле, разбившись на группы, беседуют «поборники разоружения». Так французский военный министр Андре Мажино называет делегатов, которые вот уже в течение шести лет ведут дискуссии в Лиге Наций.
Поскольку перспектива всеобщего разоружения пробудила в народах большие надежды, ни одно из правительств не хочет быть «тем правительством», которое положит конец этим комиссиям и комитетам, хотя бесплодность их всем ясна. Теперь каждый только и норовит взвалить на других ответственность за провал.
– Ваша подготовительная комиссия, – говорит в заключение Мажино, – перестала быть местом, где ведется конструктивная созидательная работа в области международных отношений, и превратилась, мягко выражаясь, в поле деятельности для дипломатических махинаций!
Однако Мажино дает согласие на новый французский план разоружения, только что представленный Тардье.
Председатель Поль-Бонкур, первый постоянный делегат Франции в Лиге Наций, с его романтично подстриженной красивой седой шевелюрой, в костюме синего цвета, ставший уже заслуженным ветераном трудных сражений, которые он давал начиная с 1926 года, во всех последовательно сменявших одна другую подготовительных комиссиях по разоружению, сегодня в центре внимания. Лейтмотив его политической линии не меняется в течение шести лет: «Пока не обеспечена ее безопасность, Франция должна сохранить свои силы».
* * *
Наконец заседание Совета Лиги Наций заканчивается!
Первым через большую стеклянную дверь входит итальянский министр иностранных дел Гранди.
– Да, господа, заседание закончилось, – говорит он. – Бесполезно было его продолжать! Разве можно определить, кто является ответственным за войну, пока не известно, кто ее проиграет?
Смех и шушуканье, ибо все знают, что не далее как сегодня утром женевские газеты, подводя итог недавним поездкам в Вашингтон некоторых ответственных политических деятелей, занимающихся проблемами разоружения, сравнивали их щедрость в отношении раздачи чаевых. Гранди побил рекорд, дав 50 долларов и превзойдя короля Сиама с его 30 долларами, Пьера Лаваля – с 18 и, наконец, стоящего на последнем месте Макдональда, который дал всего 50 центов.
Раздается гул голосов… Вот входит немецкая делегация: во главе ее генерал Бломберг, которого сопровождают около двадцати военных экспертов.
И вновь усиливается шум голосов при появлении русской делегации, принимавшей участие в заседаниях с 1927 года. Делегацию возглавляет министр иностранных дел Максим Литвинов, пухленький, на коротеньких ножках, с маленькими живыми и хитрыми глазками, с розовой, как у новорожденного, кожей. Говоря поочередно языком то социалиста, то дипломата, то парламентария, то коммуниста и зачастую даже языком доброго буржуа, он представляет Россию в Женеве и делает вид, что поддерживает германскую политику, хотя в глубине души она его сильно беспокоит.
Он говорит с Бломбергом свысока, и поэтому русские делегаты, спешащие чопорно приветствовать немецких делегатов, встречают тот же прием.
«Рапалльский договор будет далеко не вечным. Можно будет в тот или иной момент очень легко оторвать русских от немцев», – всегда говорит Бонкур, который не может простить Литвинову его знаменитой речи 30 ноября 1927 года, когда русский делегат с улыбкой и невероятной дерзостью заявил: «Делегация СССР уполномочена своим правительством предложить полное упразднение всех сухопутных, морских и воздушных сил. Она предлагает, следовательно, – и Литвинов насмешливо протянул руку в сторону Поль-Бонкура, – прекратить призыв граждан для прохождения военной службы. – А затем, посмотрев на английского делегата, он продолжал: – И полной ликвидации всех военно-морских судов». Всеобщий смех!
* * *
Сегодня зал заседаний был заполнен до отказа, когда председатель конференции по разоружению англичанин Гендерсон детским голоском читал свою нескончаемую речь.
За Поль-Бонкуром следуют французские делегаты: Андре Тардье, сенатор-банкир Дюмон, Поль Рейно, адмирал Дюмениль, генерал Рокэн. Последний тихо говорит:
– Вы увидите, что женевские туманы не прячут ничего хорошего. Через полмесяца канцлер Брюнинг, только что прибывший сюда, зачитает документ, несомненно уже давно составленный на Вильгельмштрассе, в котором заявляется, что «если только Германии не будет предоставлено равенство в правах, то рейх снова сочтет себя свободным либо перевооружаться, либо выйти из Лиги Наций». А Франции предстоит сделать выбор!
* * *
Несколько минут спустя молния, ударившая в здание Секретариата Лиги Наций, не произвела бы большего впечатления, чем новый французский план разоружения, зачитанный громким голосом Андре Тардье, более великолепным, чем когда-либо. Это был революционный план: «Международная армия, международная авиация, ограничение численности войск и всеобщее сокращение вооружений. Материальная часть не уничтожается – предусматривается ее передача в распоряжение Лиги Наций…»
Совершенно очевидно, что сам размах «конструктивного плана» делает его осуществление невозможным. Ясно, что он главным образом предназначен для того, чтобы помешать работе конференции.
Делегаты других стран не скупятся на всякие шуточки в отношении своих французских коллег.
– Мистер Тардье… – наступает глава Форин Офис Д. Саймон, – вспоминаете ли вы прискорбные попытки создания международной армии в 1921 году, когда литовцы потребовали отправки полуторатысячной международной армии под командованием ваших генералов Фоша и Вейгана? Французские, английские, скандинавские и португальские солдаты были хорошо вооружены, но президент швейцарского Федерального совета господин Мота заявил: «Совершенно невозможно при швейцарском нейтралитете допустить проход по нашей территории какой-либо армии, даже международной». Чичерин грозно протестовал из Петрограда… и международная армия должна была быть разоружена, так и не вступив в действие.
– Мистер Тардье, – свирепо говорит посол Гибсон, – я поверю в ваш план, когда наш непримиримый изоляционист сенатор Бора согласится командовать вашей международной армией!
* * *
Чтобы изменить обстановку, трибуну на целых три часа предоставили в распоряжение представителей женщин, которые привезли с собой в шести вагонах, прибывших в Женеву в то же утро, 8 миллионов петиций.
В кулуарах немецкая делегация излагает Андре Тардье свои замечания. Генерал Тренер, ни на шаг не отходящий от канцлера Брюнинга, говорит Тардье:
– Во всяком случае, ваше превосходительство, немецкий народ требует, чтобы после этой конференции все то, что запрещено для нас, было бы запрещено и для вас. Мы имеем право на применение договора, то есть на абсолютное равенство в правах со всеми вами.
На следующий день канцлер Брюнинг со сдержанным достоинством вновь возвращается к этой теме:
– Да, господин председатель Совета министров Франции, мы не намерены допустить, чтобы нас поставили в невыгодное положение в этом отношении.
Андре Тардье, с насмешливым видом, жестикулируя мундштуком, бодро переносит всякого рода критику. Он ждал ее. Свойственный ему веселый нрав и некоторый цинизм завоевали ему кое-каких друзей в Лиге Наций.
– Успех в политике, – заявлял он всегда, – прежде всего принадлежит оптимистам и людям с хорошим желудком, а у меня он хороший, уверяю вас!
И действительно, если в девять часов вечера по коридорам «Отель де Берг» катили для Андре Тардье небольшой столик, на котором стоял отшельнический ужин – овощной бульон, апельсины и бокал минеральной воды, – то немного позднее, несмотря на его режим, на том же самом столике ему подавались бутылки шампанского с соответствующими закусками.
* * *
Утром 26 февраля, в день отъезда делегаций, Николай Политис говорит Тардье:
– Франция должна серьезно отнестись к вопросу о равенстве в правах, которого требует Германия. Отрицательное отношение Франции вызывает беспокойство. Американцы находят просьбу Германии естественной, англичане ее понимают, фашистская Италия ее поддерживает, остальная Европа, по-видимому, считает, что вето исходит только от Франции, в связи с чем – я считаю своим долгом сказать вам об этом – на этой конференции обнаружилось почти чувство ненависти по отношению к Франции.
Тардье едва слушает его, пожимает плечами и, куря сигарету, заявляет:
– Равенство в правах? Но это же настоящая комедия!
* * *
В конце февраля я отправляюсь в Кошрель повидать Бриана. Он живет на одной из своих ферм «Лез Юлотт» в низеньком двухкомнатном домике.
Я вхожу в маленькую столовую и вижу Бриана, совсем ослабевшего, сидящего перед большим камином из красного кирпича. Он похож на умирающего. Однако его взгляд из-под полуопущенных век еще полон иронии, и в уголках губ мелькает слабая улыбка. Но его великолепный глубокий голос пропал. Он задыхается, когда говорит.
Бриан не задает мне ни одного вопроса относительно конференции по разоружению, которая происходит в Женеве, откуда я только что приехала. Он говорит мне печально:
– Я сделал ошибку в жизни, мне надо было стать рыбаком или земледельцем, тогда, по крайней мере, я был бы свободен. Но, как видите, несмотря ни на что, я не боюсь за свою европейскую политику. То, что происходит в данный момент, напоминает приливы и отливы моря. Они неизбежны. Однако я боюсь, как бы мы не выпустили из рук политическую инициативу и как бы в один прекрасный день Европейский союз не был создан германской армией!
* * *
Утром 7 марта послы, министры и парламентарии всех стран собрались в доме № 52 на авеню Клебер, где только что скончался Бриан, возвратившийся уже умирающим в прошлое воскресенье из Кошреля.
Я вхожу в его небольшую комнатку, более скромную, чем комната мелкого служащего. Его тело неловко лежит на простой кровати из красного дерева, на нем надет его черный сюртук, а его голова, утопая в фиалках, покоится на белой подушечке.
Смерть согнала с его лица печаль, но не согнала горечи. Правая рука его лежит свободно, а указательный палец левой руки сжимает большой палец. Все его близкие друзья здесь. Художник Шарми пишет его последний портрет. И проходит бесконечная вереница людей.
Никогда смерть государственного деятеля не вызывала столько искренних сожалений. Остин Чемберлен, Бенеш, Кинонес де Леон и многие другие плачут горькими слезами. 11 и 12 марта гроб с телом Бриана стоит на Кэ д’Орсэ в салоне Больших часов. День и ночь сюда идут жители Парижа – мужчины, женщины и дети. У всех на глазах слезы, и почти каждый кладет у гроба маленький букетик цветов.
В Женеве известие о смерти Аристида Бриана вызывает огромное волнение, и в первый момент все приходят в оцепенение. Никогда еще собрание из представителей пятидесяти стран так единодушно не выражало своего сожаления. Обычно такой спокойный и мягкий, голос председателя Гиманса срывается, и многие делегаты прячут глаза, полные слез.
В зале, где темные резиновые дорожки заглушают шаги, делегаты и журналисты, как во время похорон, выражают свое соболезнование французам.
Политис восклицает:
– В Женеве Бриан являл собою Францию!
На следующее утро в большом застекленном зале здания Секретариата Лиги Наций, где все еще продолжаются заседания Генеральной комиссии конференции по разоружению, со своего места поднимается Поль-Бонкур, чрезвычайно бледный в свете, проникающем сквозь оконные стекла и идущего от покрытых облаками гор в зимний день.
– Наша печаль, – говорит он глухо, – вышла, если можно так сказать, даже за пределы вселенной.
И заседание было закрыто.
* * *
Двенадцатого марта в 2 часа без десяти минут парижский архиепископ кардинал Вердье входит в салон Больших часов, где двенадцать лет назад собрался первый Совет Лиги Наций. За кардиналом идут Тардье, Поль-Бонкур и Гиманс, бывший в то время председателем Совета Лиги Наций. После совершения положенных религиозных обрядов все проходят на дипломатическую трибуну, воздвигнутую перед зданием министерства иностранных дел на Кэ д’Орсэ. Здесь собрались председатели Советов министров и министры иностранных дел пятидесяти стран.
Ни в одной из трех речей, произнесенных Тардье, Блюмом и Поль-Бонкуром у гроба, стоящего на возвышении перед зданием министерства иностранных дел, не говорилось ни о великом деле, которое предпринял Бриан, ни о нем самом как о человеке.
В момент, когда процессия должна была тронуться за катафалком, запряженным шестеркой вороных коней, покрытых черно-серебряными попонами, стоявший на трибуне недалеко от меня Эррио сказал с еще мокрыми от слез глазами:
– Когда я умру, мне не надо ни речей, ни священника. Но если нужно будет сделать выбор между речами и священниками, я предпочту последних!
За гробом Бриана идут Бенеш, Остин Чемберлен и около двадцати министров других стран. Процессия медленно проходит через мост Согласия, затем через площадь Согласия среди целого моря людей, из глубины которого на каждом шагу вырывается один и тот же скорбный крик, словно хор в античной трагедии: «Мир, мир!» Как будто бы все те, кто смотрел вслед похоронной процессии, видели также и мир, навеки уходивший вместе с Брианом!
* * *
Смерть Бриана вызвала некоторое замешательство среди союзников Франции в Центральной Европе и на Балканах, тем более что им все сильнее угрожал экономический кризис, который ставил под угрозу также экономику всей Европы.
Вот почему после переговоров в Женеве относительно соглашения между союзниками Андре Тардье, Пьер-Этьен Фланден и многочисленные эксперты прибывают 3 апреля в Лондон.
Речь идет о том, чтобы выработать совместно с Макдональдсом, Джоном Саймоном, Чемберленом и главным экономическим советником английского правительства Лейт-Россом проект финансового спасения дунайских стран. Крайне тяжелое экономическое положение этих стран резко снижает их покупательную способность в западных государствах.
Тардье оказывают сердечный прием. «Таймс» пишет: «Шансы Европы заключаются в том, чтобы господин Тардье оставался у власти». Некоторые министры английского кабинета приглашают его даже на ловлю лососей и на охоту на тетеревов.
В конечном счете Тардье удается провести во время переговоров свои идеи, осуществление которых будет зависеть от того, к какому решению придут союзники по вопросу об урегулировании своих долгов Америке.
В день отъезда «Панч» помещает очень язвительную статью:
«Нам рассказывают, что французскому посольству стоило большого труда собрать однажды вечером на интимном обеде у французского премьера восемь наиболее видных деятелей нашего правительства… Но французский премьер весь вечер говорил только сам, не обращая внимания на наших министров.
На следующий день мы встретили советника французского посольства, который был весьма мрачно настроен и сказал нам:
– Мы потратили столько труда, чтобы состоялась эта встреча, но, если бы мы пригласили на этот обед только нашего повара, наших трех шоферов и нашего лифтера, результат был бы тот же самый, так как Тардье не задал ни одного вопроса английским министрам и один рассказывал различные истории, не давая им возможности открыть рта».
Куда же делась французская интуиция?
* * *
Через некоторое время возобновляет свою работу конференция по разоружению. Каждый придерживается позиций, которые он занимает с 1926 года. Французы полны решимости не приносить в жертву ни одного человека, ни одного корабля, если только не получат новых гарантий безопасности. Итальянцы твердо решили требовать равенства своего флота с французским. Англичане решили не сокращать своего флота, но настаивать на сокращении вооруженных сил других стран. Немцы на этот раз поставили своей целью во что бы то ни стало добиться равенства прав с союзниками.
Американский посол Гибсон говорит Поль-Бонкуру:
– Завтра я от имени президента выдвину новый план разоружения, «план Гувера». Он идет очень далеко. Ознакомьтесь пока что с ним.
Поль-Бонкур вытаращил глаза, когда увидел, что этот план предусматривает ликвидацию всей тяжелой артиллерии, всех танков, всех бронемашин, признавая за Францией только право иметь армию в шестьдесят тысяч человек на сорок миллионов жителей. Однако, следуя «дипломатической тактике», все державы принимают этот план, твердо рассчитывая на то, что Франция его отклонит! Таким образом, французскому правительству не остается ничего иного, как предложить другой план, чтобы выйти из неловкого положения.
Но на этот раз близится развязка. Германия тоже имеет свой план!
* * *
В этот день в Женеве Жюль Камбон имел беседу с Поль-Бонкуром. Он удручен.
– Как видно, – говорит Жюль Камбон, – время райских объятий уже прошло. Сколько растерянности и разочарований!
– Бедняга Бриан, быть может, хорошо сделал, что ушел от нас. Он мечтал… но он не знал Германии, и я боюсь, что он думал ее соблазнить. Но Германию не соблазняют, ей навязывают свою волю!
Глава 11. Левый блок и Лозаннская конференция
Претенденты в министры, ванная комната и зубной врач. – Красивый барон фон Папен и новые господа. – Полицейский роман фон Нейрата. – «Конгресс веселится». – Котелок Жермена Мартэна и пируэты канцлера. – Эррио и гасильник. – Фейерверк 8 июля. – Палуба «Минотавра» и новый демарш Шлейхера и фон Папена. – Германия вновь обретает свою свободу.
Париж, пятница 6 мая 1932 года. Елисейский дворец. Национальный траур.
В комнате на первом этаже на скромном ложе покоится президент республики Поль Думер; на его левой щеке красное пятно, отмечающее одну из полученных им ран. В ногах лежат цветы. На лице печать спокойствия. Сумасшедший по фамилии Горгулов[24] выстрелил в него на книжном базаре во время распродажи произведений писателей – ветеранов войны. Г-жа Думер, горестно склонившись у смертного одра, держит в своих руках руку президента.
Париж, утро 8 мая. Эдуард Эррио и левый блок выходят победителями на выборах, нанося таким образом прямой удар политике правых. Андре Тардье, главный противник, побежденный на выборах, восклицает саркастически и в то же время равнодушно:
– Ну что ж, это спорт! В жизни мне случалось проиграть не одну партию в крокет. И в конце концов небольшой «курс лечения» для оппозиции не ведет к смертельному исходу!
Эдуард Эррио с большими неудобствами устроился в двух совсем маленьких комнатках «Отель де Пари», но он сияет:
– Чудесный народ во Франции. Ему всегда можно доверять. У него бывают приступы гнева, но он благороден. Чем больше я живу на свете, тем больше люблю его, – говорит он, принимая некоторых из многочисленных «претендентов в министры», которые заполонили холл отеля, лифты, коридоры, небольшие салоны, телефонные будки и т. д.
Некоторые из них даже стоят на страже у дверей комнаты Эррио. Чтобы избежать встречи с ними, он вынужден через балкон проходить в другие комнаты отеля и оттуда на грузовом лифте спускаться до подвального помещения. Затем он выходит на улицу через потайную дверь.
Конкуренты на министерские должности смотрят друг на друга с забавной подозрительностью. Жермен Мартэн, депутат от центра, известный профессор политической экономии с твердо установившимися консервативными взглядами, выходит из лифта и встречает Пернэ, депутата-радикала от Парижа, с большой бородой, вечного кандидата в министры.
Последний окидывает Жермена Мартэна подозрительным взглядом.
– Скажите, там, наверху, должно быть, много народу?
– О-ля-ля! Чудовищно много. Во всех уголках, даже в ванной комнате.
– Вы преувеличиваете! Что касается меня, то мое посещение естественно, – продолжает Пернэ, – так как вот уже три недели, как я не видел председателя, тогда как вы, как я полагаю, навещаете его очень часто.
И Жермен Мартэн, уже уверенный в том, что получит портфель министра финансов, подтрунивая, отвечает, насмешливо глядя на собеседника своими маленькими, колючими и хитрыми глазками:
– О, у меня все идет хорошо. Единственное, что меня беспокоит, – это то, что мне предстоит проводить мучительные минуты на приемах у зубного врача.
И Пернэ метнул грозный взгляд на своего счастливого соперника. Он понял!
Седьмого июня 1932 года в Бурбонском дворце происходит торжественное заседание. Лидер партии радикалов и радикал-социалистов Эдуард Эррио представляет палате депутатов свое правительство. Он берет на себя обязанности министра иностранных дел, в то время как Поль-Бонкур, Поль Пенлеве и Жорж Лейг становятся министрами национальной обороны,[25] а Жермен Мартэн министром финансов. За доверие правительству было подано триста восемьдесят четыре голоса.
Доминирующим фактором во всем мире является всеобщий упадок экономики. Уже насчитывается более двадцати пяти миллионов безработных (в странах Европы. – Примеч. ред.). Англии угрожает кризис. В Париже Французский банк и казначейство сообщают новому председателю Совета министров тревожные сведения.
В Берлине канцлер Брюнинг требует в рейхстаге восстановления «равноправия», отмены долгов и выступает против идеи, что даже и после моратория Германия смогла бы снова платить репарации.
Эдуард Эррио приступает к рассмотрению международных проблем именно под углом финансовых вопросов.
– Я согласен с французским общественным мнением, – говорит он, – которое полагает, что было бы несправедливо платить военные долги Соединенным Штатам теперь, когда мораторий Гувера отменил репарации и когда Франция не получает больше ни одного су от Германии. Необходимо в срочном порядке окончательно выработать совместно со всеми союзниками соответствующий план.
Именно на конференции в Лозанне новое французское правительство будет прилагать все усилия, чтобы убедить всех принять эту точку зрения.
* * *
Пятнадцатого июня в Лозанне великолепнейшая погода. Вслед за французской делегацией, сопровождаемой экспертами по финансовым вопросам и представителями крупных промышленных компаний и банков, прибывают в «Отель Палас» председатель Совета министров Франции Эррио, Жермен Мартэн, Поль-Бонкур и Жорж Боннэ.
Цветет катальпа, сверкает голубизной озеро, повсюду слышится игра небольших швейцарских оркестров. Но Эррио, который прибыл сюда из Женевы, где он провел двое суток на конференции по разоружению, настроен мрачно.
– Я был поражен переменой, которая произошла в Лиге Наций с 1924 года, – говорит он и затем добавляет: – Позиции великих держав на Лозаннской конференции резко расходятся. Что касается нас, то мы знаем, что Французский банк только в той мере признает долги Америке, в какой Германия будет платить Франции. Я потребую от Берлина выплаты крупной суммы долга. По всей вероятности, нам придется вести жестокую борьбу на конференции.
* * *
Международная обстановка крайне накалена.
В Монтечиторио итальянский министр иностранных дел Гранди заявляет:
– Италия требует права на экспансию и на отмену ныне существующего в Европе порядка, при котором сорок миллионов итальянцев являются пленниками в закрытом море.
Председатель конференции Макдональд ворчливо замечает:
– Это совещание, которое должно было состояться в январе, проходит сегодня под знаком самого пагубного экономического кризиса, какой когда-либо испытывало человечество в мирное время.
Что же касается нового канцлера Германии фон Папена, то, выступая со своей министерской декларацией, он восклицает: «Прежде всего мы хотим уничтожить парламентский режим в Германии, а в международной политике добиться свободы экспансии и перевооружения».
В Лозанне вечером в день открытия конференции, когда фон Папен потребовал аннулирования долгов, Эррио говорит своим сотрудникам:
– Сегодня у меня нет больше иллюзий в отношении Германии. За семь лет многое изменилось! Германия будет требовать от нас уступку за уступкой до самой катастрофы.
* * *
На конференции всеобщее внимание привлекает новый канцлер фон Папен, человек, к которому никто никогда не относился серьезно. Однако всем делегатам известна его достойная сожаления прошлая деятельность, когда он был военным атташе в Вашингтоне, и его активность в Южной Америке, где во время войны он помогал германскому адмиралтейству организовывать потопление морских конвоев союзников.
Молодой, стройный, с волосами, подстриженными бобриком, со светло-голубыми глазами, выступающими вперед зубами и искусственной улыбкой на устах, фон Папен представляет собой человека хитрого и весьма склонного к интригам. Будучи председателем могущественного политического клуба в Берлине – «Клуба господ», он делает сегодня свои первые шаги на международной арене, возглавляя тех, кого называют в Лозанне «кабинетом баронов».
Первый из «этих новых господ» – это министр иностранных дел барон Константин фон Нейрат, толстый вюртембергский юнкер в перламутрово-сером жилете, с соответствующего цвета галстуком и в лакированных ботинках. Неповоротливый, он кажется всегда сонным, но на самом деле очень хитер. Он приехал из Рима, где был послом, и не имеет ничего против того, чтобы в Лозанне рассказывали о его последнем приключении в Риме с секретной итальянской полицией.
…Муссолини знал, что в сейфе германского посольства в Риме хранится большая кожаная папка, где собраны документы, свидетельствующие о связях, которые германское посольство тайно поддерживало с крупными итальянскими деятелями.
В свою очередь, фон Нейрат был информирован, что с помощью заранее подделанных ключей агенты Муссолини должны были проникнуть ночью в посольство, пробраться в архив, открыть знаменитый сейф и завладеть драгоценной папкой.
Поэтому фон Нейрат вынул из этой папки все документы и вместо них положил чистую бумагу. Затем в назначенное время он сам лично подстерегал приход взломщиков.
В 2 часа ночи дверь открывается и в помещение проникают два таинственных субъекта. Они открыли сейф и взяли кожаную папку. И тотчас же были схвачены, связаны и обезоружены. Обыскав их, установили, что это были не кто иные, как два итальянских правительственных чиновника: лейтенант и комиссар полиции!
* * *
Рядом с бароном Нейратом сидит министр финансов граф Шверин фон Крозиг, который на самом деле и не граф и не Шверин, а всего-навсего очень богатый человек по фамилии Крозиг, усыновленный очень бедным графом Шверином.
Заседания проходят и накаленной атмосфере. Макдональд, который в очень плохом настроении, все время заявляет, что «следует аннулировать все долги»! Он обвиняет прессу. Впервые журналистам запрещено присутствовать на заседаниях международной конференции.
Макдональд упрекает также и малые страны (доминионы, Чехословакию, Польшу, Португалию, Югославию), которые жалуются, что они всегда узнают о решениях великих держав только через печать. И на пышном завтраке, устроенном лозаннским муниципалитетом, он торжественно, с высочайшим презрением заявляет:
– Подданные стран с населением менее десяти миллионов человек не стоят того, чтобы к ним были внимательны, они всего лишь туземцы!
* * *
Таким образом, обстановка оставляет желать лучшего.
И делегаты тщетно пытаются отдохнуть от напряжения, отправляясь на просмотр фильма «Конгресс веселится».
– Им здорово везло во времена Меттерниха! Не то что нам, – недовольно замечает толстый португальский министр де Мата.
Однако каждый день около полудня, несмотря на зной, господа делегаты направляются к озеру купаться на Лозанн-пляже, где в прекрасном цветущем саду, недалеко от вышек для прыжков в воду, расположен прекрасный спортивный городок.
Жермен Мартэн с большим зонтом в руках, в черном сюртуке, в котелке и белом жилете каждое утро является сюда, чтобы совершить прогулку. Заметив красивого атлета в маленьких светло-голубых плавках – единственной дани, отдаваемой законам стыдливости, – который, прыгая с вышки, мастерски исполнил в воздухе тройной пируэт, а затем, выйдя из воды, стал упражняться на гимнастических кольцах, Жермен Мартэн, узнавший в этом человеке фон Папена, прямо остолбенел! Он бормочет:
– Меня порядком беспокоит этот молодой немецкий канцлер… Какие пируэты он умеет делать! Боже мой, какие пируэты!
По вечерам «великий французский финансист», окруженный своей когортой экспертов, всегда направляется на берег озера и заглядывает в маленькие ресторанчики, полные мошкары. В этот вечер Эррио сидит в «Кафе дю лак». Он только что получил письмо от посла Клоделя, который неизвестно почему нацарапал ему неопубликованные стихи «Эпитафия пострадавшему в пути». Эррио читает их:
Славный пешеход Годфруа, Увы, спит под мрамором холодным. Говорят, что он был прав. Но если бы он даже был неправ, Он все равно мертв.– Вы говорите о репарациях? – спрашивает вошедший в этот момент Жермен Мартэн, не зная, о чем идет речь.
* * *
В середине работы конференции фон Папен приглашает однажды вечером на чашку чая в отель «Карлтон» двух французских экспертов и двух журналистов.
Любящий поговорить канцлер весьма любезен и сам разливает чай своим гостям. Он объясняет на превосходном французском языке:
– В настоящее время в Берлине генерал фон Сект, наиболее влиятельные круги рейхсвера, реакционные круги – все выступают за союз с Советами. Но я и вместе со мной члены «Клуба господ» и промышленные объединения – мы предпочитаем союз с Францией. – И фон Папен продолжает в льстивом тоне: – Разве не настал час, когда моя и ваша страны должны похоронить тысячелетний спор о Рейне? Поверьте мне, обе наши страны обладают гением, взаимно дополняющим друг друга.
Провожая нас до лифта, фон Папен уточняет:
– Эта идея не нова. Людендорф и генерал-майор Макс Гофман уже пытались предложить вашему маршалу Фошу создание общего франко-германского генерального штаба… Франко-германский союз продолжает оставаться ключом к разрешению всех европейских проблем.
Лифт подошел, но фон Папен еще не исчерпал доказательств правильности своей идеи. Вместе с нами он входит в лифт и продолжает:
– По моему мнению, в настоящее время существует только две возможности: либо Франция будет преобладать над Германией, либо между этими странами будет царить полное и тотальное взаимопонимание, с тем, чтобы в будущем никогда не мог встать между нами вопрос о войне.
Об этих любопытных доверительных заявлениях канцлера немедленно сообщают Эррио, который приходит в негодование:
– Друзья мои, но это гасильник для свечей… Ни слова больше! 16 июня Папен пришел ко мне и говорил о «прямом соглашении» между Францией и Германией, о контактах генеральных штабов и т. д. 24 июня он еще раз повторил мне эти же самые предложения. Поверьте мне, канцлер ищет только предлога, чтобы втянуть нас в переговоры, которые изолировали бы нас от наших союзников. Мы не должны этими предложениями вводить в заблуждение французский народ! Это гасильник… гасильник!
* * *
Конференция продолжает свою работу.
Наконец 8 июля на полном драматизма ночном заседании Макдональд и Невиль Чемберлен окончательно присоединяются к французской точке зрения. Они соглашаются: что Германия обязана выплатить сумму в три миллиарда золотых марок поставками натурой; что Франция и Англия обязуются консультироваться между собой в случае, если мир во всем мире окажется под угрозой; что принятие немецких поставок натурой будет зависеть от того соглашения относительно долгов, которое должно быть заключено впоследствии с Соединенными Штатами.
– Мы спасли свою честь, но мы теряем репарации, – ворчит Жермен Мартэн.
В этот вечер на озере устраивается замечательный фейерверк. Вместе с Невилем Чемберленом, крупным английским финансистом и своим опасным противником, Жермен Мартэн меланхолически наблюдает, как светящийся дождь огней фейерверка падает в озеро. Он вздыхает:
– Столько золота и серебра бросают в воду! Неужели вы в самом деле можете выносить это зрелище, господин министр финансов?
– Увы! Это вошло у нас в привычку! – отвечает ему Невиль Чемберлен.
* * *
Двадцать девятого августа в Берлине барон Нейрат и генерал Шлейхер вручают французскому послу Франсуа-Понсэ проект соглашения о разоружении, основывающийся на базе франко-германского военного союза, который должен быть ратифицирован всеми другими странами.
Тридцатое августа. Ла-Манш. Палуба «Минотавра». Эррио, примостившись на связке канатов, курит трубку. Он возвращается с группой журналистов из поездки на Нормандские острова.
– Господа… страсти Виктора Гюго… и т. д.
Внезапно к «Минотавру» с предельной скоростью приближается моторная лодка. На ее борту кто-то размахивает пакетом. Лодка быстро пристает к кораблю, и вот уже начальник кабинета председателя Совета министров выходит на палубу.
– Что вы привезли нам, Альфан? Новости из Германии? – спрашивает Эррио.
– Да, господин председатель, очень важное сообщение из Берлина!
Эти две реплики авансом разбивают искусный маневр, который вчера был предпринят в имперской канцелярии генералом Шлейхером и фон Нейратом в их беседе с Франсуа-Понсэ.
– Прежде всего, я желаю, чтобы мой демарш оставался секретным, – сказал генерал. – Германия хочет двухсторонних переговоров с Францией, хочет искать вместе с ней основу для соглашения. Франция, крупная военная держава, которой свойственно чувство чести, должна понять, что рейх не сможет бесконечно пребывать в таком унизительном положении, когда ему разрешают иметь смехотворную армию, недостойную великого народа. Желания Германии скромны: пусть только согласятся признать принцип ее равенства в правах, и я могу вас заверить, что она будет применять его лишь в ограниченной степени.
Германская нота, которую в Париже спокойно и обстоятельно изучили, вызывает серьезные возражения.
– Если мы публично возражали против того, что принцип равенства в правах может вытекать из статей Версальского договора, то мы это делали не для того, чтобы согласиться с этим принципом во время сепаратных переговоров. Намерения Германии не могут не вызывать подозрений, – заявляет Эррио, направляя 11 сентября в Берлин вежливый отказ.
Таким образом, большие замыслы рейхсвера потерпели провал, и это поражение отнюдь не осталось в секрете, а было демонстративно выставлено напоказ. Шлейхер и Нейрат задыхались от гнева.
В тот же день в Женеве фон Нейрат посетил Поль-Бонкура в «Отель де Берг».
– Мне поручено передать вашему превосходительству ноту о том, что отныне Германия не будет больше присутствовать на заседаниях конференции по разоружению. Она вновь обретает свою свободу… Мы объявляем о начале строительства крейсера водоизмещением в десять тысяч тонн, которое до сего времени канцлер Брюнинг откладывал по вашей просьбе!
Сенсация!
– Это политика свершившихся фактов, провозглашенная еще два года назад Бернсторфом! – восклицают союзники.
В Лиге Наций ходят упорные разговоры:
– Германия от нас ускользает, и ответственность за это несет Франция! Это Франция противится предоставлению Германии равноправия. И именно Франция будет отвечать за перевооружение Германии.
* * *
В это время фон Папен спешит, чтобы попытаться еще преградить Гитлеру путь к власти.
Но Гитлер побеждает по всем спискам, Гинденбург почти уже на его стороне, а Герман Геринг стал председателем рейхстага.
Глава 12. Эррио и уважение подписи Франции
Число 13 и символический оркестр. – Испанская республика устраивает прием. – Беззаботный Асанья. – Тот, кто сажает оливковые деревья, не собирает с них урожая. – Большой прием во французском посольстве. – Равенство в правах и новый план Эррио – Бонкура. – Капля синильной кислоты. – Падение Эррио и уважение американского народа.
– Число тринадцать всегда приносит несчастье, – заявляет министр иностранных дел Чехословакии Бенеш, прибыв 6 сентября 1932 года на 13 сессию Ассамблеи Лиги Наций и найдя зал заседаний почти пустым.
Ораторы отказываются выступать.
Председатель Ассамблеи этого года Политис, открыв общую дискуссию, был вынужден отложить ее на несколько дней.
От прежних делегаций осталась лишь одна тень, ибо их состав уменьшен, по крайней мере, на три четверти. Делегации внимательно наблюдают друг за другом.
Трибуны для публики почти пусты.
Макдональд отсутствует, а фон Нейрат отказывается брать слово.
Но только что открылся новый ресторан. Он расположен напротив кладбища Сен-Жорж и называется «Кладбищенский ресторан».
– Все это весьма символично, – вздыхая, говорят делегаты, поедая камбалу-меньер и цыплят в сметане.
Суеверные люди вспоминают, что в прошлом году по случаю открытия 12 сессии Ассамблеи Секретариат Лиги Наций устроил концерт по радио, исполнители которого находились в разных городах Европы: «Оркестр, который вы сейчас услышите, – объявил по радио женский голос, – выступает в следующем составе: фортепьяно – в Париже, первая скрипка – в Вене, гобой – в Лондоне, кларнет – в Риме, корнет-а-пистон и контрабас – в Цюрихе. Дирижер находится в Берлине».
– Ну, уж если это символ, то я с большим удовольствием предпочел бы ему какой-либо другой, – говорит Бенеш, садясь на свое место.
– Несомненно то, – замечает в заключение Политис, – что Германия, уйдя теперь с конференции по разоружению, будет спокойно продолжать перевооружение рейха!
* * *
Французская делегация не присутствовала до конца сессии Ассамблеи. Глава правительства Эдуард Эррио был первым официальным лицом, приглашенным молодой Испанской республикой, созданной в результате выборов 12 апреля 1931 года.
Двадцать первого октября, находясь на Кэ д’Орсэ, Эррио углубляется в чтение длинной статьи-меморандума Адольфа Гитлера, опубликованной в «Фёлькишер беобахтер» и перепечатанной прессой всего мира.
Гитлер требует всеобщего возрождения немецкого народа силами новой национал-социалистской партии, выступающей против существующей политики унижения. «Я не верю в эффективность конференций, – пишет Гитлер, – потому что силы, преобразующие жизнь, не находятся за зеленой скатертью столов. Нет никакого сомнения в том, что Германия имеет абсолютное право на равенство в вооружениях. Но поскольку здесь речь идет об изменении соотношения сил в жизни народов, то это право не получит международного признания, если только оно не станет уже “свершившимся фактом”».
Затем Эррио подчеркивает красным карандашом следующую фразу:
«Мощь держав определяется не бюллетенями, которые они могут опускать в урну во время международных конференций, а силой, которую они могут бросить на чашу весов истории».
– Разошлите документ по всем отделам, – говорит Эррио вошедшему на звонок служителю.
* * *
Мадридский вокзал, 30 октября. Правительство в полном составе уже здесь. Для встречи председателя Эррио готово все, за исключением национального гимна. Постоянный представитель Испании в Лиге Наций Сальвадор де Мадарьага говорит Эррио:
– У нас еще нет своего Руже де Лиля, который сочинил бы «Марсельезу» для Испании. За неимением лучшего, мое правительство вызвало духовые оркестры Кастилии и Арагона и выбрало в качестве приветственного гимна для вашей встречи «Пассодобль», который в торжественные дни служит нам национальным гимном.
Но, проезжая с вокзала во французское посольство, Эррио, которого сопровождало около дюжины членов парламента, был сильно удивлен, заметив то там, то здесь полицейских, сдерживающих крикунов, неустанно скандирующих: «Не бывать военному пакту, никакого права на проход французских войск… Долой Эррио!»
Очень смущенный, министр внутренних дел объясняет:
– Это один из результатов интриг посла Германии графа Вельчека, большого друга фон Папена, который мстит, как может, за конференцию в Лозанне.
Действительно, Вельчек особенно опасается союза между Французской и Испанской республиками.
* * *
Вечером в сенатском дворце президент республики Алкала Самора, на груди которого красуется лента ордена Почетного легиона, устраивает большой прием.
На вопросы Эррио относительно первых результатов установления демократического режима в Испании председатель Совета министров Асанья, человек высокой культуры, отвечает:
– Наша республика делает все очень серьезно и вдохновенно. Идеи истинной демократии воодушевляют всю нашу политику!
Министр внутренних дел Маура с улыбкой добавляет:
– Вот почему наши почтальоны получили приказ не доставлять писем, на конвертах которых будет указан дворянский титул. Что же касается друзей испанских грандов, то если они хотят, чтобы их корреспонденция попадала по назначению, они не должны больше писать: “Его светлости герцогу Вальядолид”, а просто: “Господину Вальядолид”».
В свою очередь, министр иностранных дел господин Сулуэта, говоря об одном из направлений антиклерикальной политики правительства по отношению к представляющему большую опасность духовенству, являющемуся до сего времени полновластным хозяином внешней политики Испании, рассказывает:
– Однажды в Севилье два священника возвращались с похорон. Мэр города позвал их и сказал: «Я не хочу больше слышать, как вы читаете нараспев по-латыни, потому что с этим вашим жаргоном не знаешь, читаете ли вы молитвы или говорите что-нибудь другое… Хватит латыни… довольно!» – «Мы сожалеем, – сказал один из священников, – но в этом вопросе мы не можем признавать никакой другой власти, кроме власти святого отца». Тогда мэр ответил: «Кто осмеливается утверждать, что папа имеет здесь больше власти, чем я? Я сейчас вам докажу обратное». И он позвал двух полицейских, которые повели обоих священников в участок.
После обеда, на котором были произнесены многочисленные тосты во славу Французской и Испанской республик, Эррио задает Асанье вопрос относительно двух мятежей монархистов, уже подавленных им.
Асанья с беззаботным видом оптимистически отвечает:
– О, десятого августа, в день мятежа монархистов, я не дал даже разгореться бунту. На подавление мятежа ушло ровно столько же времени, сколько требуется, чтобы в чудесную летнюю ночь выкурить папиросу на балконе министерства. Впрочем, новых волнений подобного рода больше не будет.
Зная, что монархисты продолжают свою тайную деятельность, Эррио был огорчен счастливой беззаботностью этого человека, впрочем чрезвычайно умного. Асанья рассказывает также о том, как в 1930 году, сразу же после своего назначения военным министром, он собрал офицеров монархистской армии и сообщил им, что будет продолжать платить им жалованье пожизненно и уважать их привилегии при условии, что они добровольно оставят занимаемые ими посты и удалятся в частную жизнь.
– А не опасаетесь ли вы, – с недоверием спрашивает Эррио, – что эти офицеры употребят все свое время на то, чтобы вести заговорщическую деятельность против Испанской республики, используя денежные средства, которые вы так щедро предоставили в их распоряжение пожизненно?
– Я этого не думаю! – отвечает Асанья. – Да и к тому же не более трети офицеров в армии согласились воспользоваться этой новой рентой, все остальные служат мне лояльно! Да, да!!
Накануне отъезда состоялся большой прием в посольстве Франции. Традиционная скупость посла, хорошо известная всему дипломатическому корпусу, превзошла себя. Шампанское подается в строго ограниченном количестве лишь на стоящий отдельно небольшой столик председателя Совета министров. А подача кушаний на другие столики идет по нисходящей линии, пропорционально их отдаленности от официального стола. Таким образом гости, сидящие за наиболее отдаленными столами, вынуждены довольствоваться большими невкусными пирожными, эклерами или бриошами, похожими на бутафорские, ярко раскрашенные и сделанные из ваты, которые продают шутки ради.
Здесь собрались все знаменитости Испанской республики. Среди них – лидер правых радикалов Лерус, писатель Аракистайн, романист Перес де Айяла, журналист Дель Вайо, известный профессор Мадридского университета доктор Мараньон.
На вопрос Эррио о его прогнозах на будущее Мараньон отвечает меланхолически:
– Вспомните нашу испанскую пословицу: тот, кто сажает оливковые деревья, не собирает с них урожая!!! Очевидно, мы не увидим результатов того, что мы делаем сегодня, но наши дети будут пользоваться плодами нашего труда.
Вечером в день отъезда главы французского правительства можно было видеть, как к мадридскому вокзалу стекались многочисленные вереницы людей с флагами, знаменами и с музыкантами впереди колонн.
Это были организации республиканцев. Полные энтузиазма, они даже забирались в вагоны, а когда под мощные раскаты «Марсельезы», от которых дрожат оконные стекла вокзала, поезд трогается, то все скамейки в вагонах оказываются заваленными самыми различными подарками: мандолинами, сигарами, вышитыми шалями, клетками с птицами, шапочками тореадоров.
Однако в Женеве дело совсем не двигается! Возобновляется игра в «не нести ответственности». С 11 июля Германия ушла с конференции по разоружению под предлогом, что Франция отказала ей в равноправии.
Зная, что Франция не может принять план Гувера (согласно которому за Францией с ее 40-миллионным населением признавалось право иметь армию всего лишь в 62 тысячи человек, причем это число должно было быть сокращено еще на одну треть), все страны принимают американский план. Таким образом, Франция будет нести ответственность за его отклонение.
С другой стороны, Поль-Бонкур и Эррио имеют основания беспокоиться по поводу антифранцузских настроений, господствующих в Лиге Наций! Неприятно поражает то, что по-прежнему с успехом продается во всех помещениях Лиги Наций номер французского еженедельника «Кандид» от 2 ноября – Дня памяти погибших, несмотря на то, что на его первой странице изображена убитая горем Марианна, возлагающая огромный венок на могильную плиту, на которой большими черными буквами написано «Победа».
* * *
Одиннадцатое ноября, 15 часов, гостиница «Бо Риваж». В маленьком салоне Макдональда, где потолки работы 1880 года испещрены изображениями птиц, голубого неба и цветов, Поль-Бонкур, фон Нейрат, Макдональд, Гранди и американский делегат Норман Дэвис с мучительным трудом в течение многих часов вырабатывают формулировку, признающую за Германией право на равенство в вооружениях в рамках подлежащей международному контролю системы безопасности, равной для всех стран!.. То есть новый план Эррио – Бонкура.
Поль-Бонкур взволнован. Он находит эту формулировку слишком краткой, а потому и слишком опасной. Она его пугает!
Сразу же следуют телефонные звонки из маленького салона гостиницы «Бо Риваж» в салон Бовэ на Кэ д’Орсэ, где Эррио собрал правительство, чтобы проголосовать за декларацию.
– Это вы, Бонкур?.. Мне стоит большого труда убедить моих министров, – сообщает по телефону Эррио, – и тем не менее я им все время повторяю, что, отказывая Германии в праве на равенство в вооружениях, они льют воду на ее мельницу! Но все против меня: сенат, банки, националисты, – все, вплоть до моего большинства!
– Да, – стонет Бонкур. – Но могу я или нет подписывать эту формулировку?
К вечеру Эррио убедил своих министров. Он звонит по телефону:
– Бонкур? Подписывайте декларацию в том виде, как она есть.
Поль-Бонкура, возвратившегося в «Отель де Берг», по-прежнему не покидает чувство растерянности: формулировка признания равенства в правах кажется ему слишком краткой. Он говорит своим сотрудникам:
– Когда я подписывал декларацию, я вспоминал слова Поля-Луи Курье: «Капля синильной кислоты в бочке не чувствуется… в чашке она вызывает рвоту, а в ложке – убивает!»
Месяц спустя, 12 декабря, перед Бурбонским дворцом в Париже собирается толпа.
Вечерние газеты пестрят крупными заголовками: «Кабинет Эррио не переживет предстоящего заседания!» Наблюдая за толпой, полицейские говорят: «Народ всегда приходит смотреть, как падают министерства! Это все равно что смотреть на то, как звери пожирают укротителей!»
Американское правительство требует возмещения долгов, установив 15 декабря в качестве последнего срока уплаты очередного взноса в сумме четырехсот восьмидесяти миллионов франков!
«Ни одного су Америке!» – таков лейтмотив общественных собраний. Поскольку Германия не выплачивает больше репараций союзникам, то действительно справедливо, что французы отказываются платить Америке причитающиеся ей долги.
Однако неофициально лидеры всех группировок согласны между собой в том, что платить надо.
Один из них говорит:
– Но я – я же принадлежу к оппозиции, и я должен, следовательно, извлекать выгоду из создавшегося положения.
Другой говорит:
– Эррио тысячу раз прав, но он не имеет поддержки даже в своей собственной партии! Так что же вы хотите!!!
Что касается самых старых политических друзей Эррио, они заявляют:
– Мы не будем голосовать за долги, потому что это означает самоубийство для партии на выборах.
* * *
В полночь Эррио поднимается на трибуну. Со свойственным ему красноречием он восклицает:
– Нам только что говорили, как во имя принципов морали можно оправдать отказ от уплаты долгов Америке! Но ничто, по моему мнению, не должно брать верх над некоторыми простыми истинами, которые мы усвоили в семье и на школьной скамье. Нас там учили неукоснительно, строго, даже если это порой очень тяжело, уважать свою подпись… Господа, в настоящее время, когда почти повсюду распространяется режим диктатуры, неужели вы из-за четырехсот восьмидесяти миллионов пойдете на разрушение союза свободных стран, противостоящих диктаторским режимам?
* * *
4 часа утра. Из открытого окна своей комнаты на пятом этаже министерства иностранных дел Эррио молчаливо смотрит, как занимается день. Пенлеве подходит к нему. Он благодарит Эррио за то, что тот предпочел получить вотум недоверия, нежели отказаться требовать от парламента уважения подписи Франции.
– Я испытываю лишь удовлетворение, оттого что исполнил свой долг, – отвечает Эррио. – Но насколько это голосование в парламенте ухудшит положение нашей страны на международной арене!
* * *
И в самом деле, уже на следующий день маршал Пилсудский созывает в Варшаве совет министров и высший командный состав армии. Поставлен один вопрос:
– Можно ли действительно рассчитывать на союз с Францией? И в какой мере?
И в результате обсуждения был сделан следующий вывод: «Нет, необходимо постараться как можно скорее изменить нашу политику в сторону сближения с Германией!»
* * *
Несколько месяцев спустя, в апреле 1933 года, новые вершители судеб Франции сочтут Эррио наиболее подходящей кандидатурой для того, чтобы поехать в США и попытаться «подштопать» франко-американскую дружбу, основательно подорванную после истории с долгами.
Однажды вечером, на концерте в Белом доме, в перерыве между номерами, Франклин Рузвельт наклонится к Эррио и скажет ему на ухо:
– Отказавшись заплатить Америке четыреста миллионов франков, Франция потеряла в нашей стране то, чего здесь нельзя купить и за миллиарды долларов, – уважение американского народа.
Глава 13. Час Гитлера
Шлейхер, которого предают по семьдесят раз в течение семидесяти дней. – Полковник Бек и превентивная война. – Фальшивые документы. – Отель «Адлон» в часы послеобеденного чая. – Социализм и Кельнский собор. – Во французском парламенте Гитлера предпочитают Шлейхеру. – Беспокойный обед в посольстве Франции. – Gott sei dank![26] – Крузе и подземный коридор. – Геринг и Нерон.
Спустя сорок восемь часов Поль-Бонкуру поручено сформировать правительство. В новом правительстве он берет на себя также обязанности министра иностранных дел.
В Германии назревают события.
Кёльн, 4 января 1933 года. В доме банкира Курта фон Шредера. Встреча Папена с Гитлером. Последний предлагает тесный двойственный союз Гитлер – Папен, устраняющий генерала Шлейхера, который уже кричит об измене: «Я нахожусь у власти всего лишь семьдесят дней, и в каждый из этих дней меня предавали семьдесят раз». Папен принимает предложение Гитлера. С этой целью он предпринимает соответствующий демарш перед Гинденбургом, который через некоторое время решается призвать Гитлера к власти. Дни правительства Шлейхера – Папена сочтены. Усиливается борьба между коммунистами и гитлеровцами. Гитлер прибывает в Берлин, в отель «Кайзерхоф». Там он ждет своего часа, который не замедлит пробить.
На Кэ д’Орсэ новый председатель Совета министров Поль-Бонкур обеспокоен. Приход Гитлера к власти неминуем… Что касается собственных министров Поль-Бонкура, то они еще более обеспокоены тем, что глава правительства начинает проводить политику сокращения расходов и увеличения налогов. Падение правительства Поль-Бонкура уже неизбежно.
* * *
Восемнадцатого января 1933 года Поль-Бонкур срочно созывает нескольких журналистов на Кэ д’Орсэ.
У главного подъезда министерства они сталкиваются со специальным представителем маршала Пилсудского. Одетый в туго стянутое на талии пальто, в цилиндре, новый министр иностранных дел Польши полковник Бек ждет свою машину… Он только что вручил Поль-Бонкуру личное письмо маршала с настойчивой просьбой сообщить мнение Франции относительно своевременности превентивной войны против Германии. Пилсудский пишет о пяти польских армейских корпусах, которые в случае необходимости могли бы вступить в Восточную Пруссию и остановиться на Одере, в то время как Франция должна была бы оккупировать часть Рура, а Англия – лишь ожидать второго этапа операции.
Ничего нового для посвященных! Они знают, что письмо составлено весьма провокационно, с целью вызвать отказ. Этот отказ должен послужить Пилсудскому и особенно министру иностранных дел полковнику Беку предлогом, для того чтобы срочно приступить к политике тесного сближения Варшавы с Берлином.
Полковник, машина которого еще не появилась, бросает на журналистов мрачные взгляды.
В то самое утро в связи с первой официальной поездкой полковника Бека в Париж французская пресса в крайне недружелюбном тоне сообщила разоблачающие данные относительно его истинного лица. Все эти сведения относились к 1921–1923 годам, когда Бек, еще совсем молодой человек, был военным атташе в Париже. Президент Масарик уведомил тогда французское правительство, что оно должно остерегаться этого молодого атташе.
Французское правительство тотчас же решило устроить ловушку. Оно направило к Беку агента, якобы работающего на Италию, который спросил его, не мог ли бы он продать для Италии документы, касающиеся обороны Франции.
Французское Второе бюро постаралось затем устроить так, чтобы фальшивые документы, которые, однако, внешне казались чрезвычайно важными, попались на глаза полковнику Беку.
Спустя некоторое время полковник Бек уступил их за солидное вознаграждение мнимому итальянскому агенту.
Французское правительство было поставлено в известность об этом. Оно ограничилось лишь тем, что попросило председателя Совета министров Польши – в то время им был генерал Сикорский – отозвать своего военного атташе, но не сообщило о действительной причине отзыва, давая таким образом повод предполагать, что речь идет об увлечениях женщинами, азартными играми и спиртными напитками, ибо полковник Бек отдавал дань своей природе.
Короче говоря, в то утро появление машины вывело из затруднительного положения полковника Бека, пришедшего в бешенство при виде насмешливо рассматривавших его журналистов.
Журналистам, которых тотчас же провели в кабинет Поль-Бонкура, явно раздраженный премьер-министр сказал:
– В Бурбонском дворце поистине слишком мало озабочены происходящей в Германия революцией. Депутатов занимает лишь неминуемое падение моего правительства! Поезжайте-ка в Берлин и напишите оттуда несколько хороших статей, чтобы общественное мнение представило себе подлинное положение вещей.
Берлин, 20 января.
На каждом шагу, на вокзале и на улицах, здоровенные парни с наглым видом протягивают большие, как котелки, копилки. Они собирают милостыню для самих себя, ибо партия Адольфа задолжала десять миллионов марок и ее члены находятся в отчаянном положении.
В дипломатических кругах считается хорошим тоном подшучивать над Гитлером, которого, как говорят, генерал фон Шлейхер сумел приручить.
– Гитлер, – говорят во французском посольстве, – напоминает одного из тех старых господ из психиатрической больницы, которые с важным видом поверяют вам, что они являются папами, императорами или даже Иисусом Христом.
В английском посольстве больше не верят в возможность прихода Гитлера к власти.
* * *
Отель «Адлон». В часы послеобеденного чая, когда оркестр переходит от исполнения «Веселой вдовы» к музыке из «Сумерек богов», журналисты и иностранцы обмениваются новостями.
Царит таинственная, заговорщическая атмосфера. «Осторожно, он нацист!» – шепчут вам, указывая на кого-нибудь.
Во всех уголках полицейские. Уверяют, что в комнатах установлены микрофоны. Телефонные разговоры записываются на пластинки. А на большом камине в холле гостиницы еще стоит бюст Вильгельма II, над которым возвышается императорский орел, вечно простирающий свои крылья над миром!
* * *
Бывший министр Вильгельма II фон Кюльман – тот самый, который сказал императору 2 августа 1914 года: «Ваше величество, первый пушечный выстрел произведен, и вы уже побеждены», – снова пророчествует, возглавляя вечером в своем роскошном особняке в Тиргартене старомодную трапезу.
– Всюду вам будут говорить, что фон Шлейхер – это именно тот человек, который нужен в настоящее время. Не верьте этому! История моей страны вырисовывается. В Германии сила находится в руках тех, кто владеет государственным аппаратом.
В тот же самый вечер фон Шлейхер удерживает в своих руках то, что Кюльман называет «государственным аппаратом», всего лишь в течение нескольких часов. В Кёльне фон Папен только что заключил союз между крупными банками, юнкерами, крупными промышленниками и Гитлером.
* * *
Тревога все же внезапно охватывает иностранные посольства. Андре Франсуа-Понсэ обеспокоен.
– Основа демократических режимов – это средний класс, – заявляет он. – А здесь его больше нет. Совсем нет. Положение во многом сходно с положением в России в момент революции!
На Вильгельмштрассе генерал фон Шлейхер, сидя за своим огромным канцлерским столом, силится установить равновесие между интересами и страстями, вступившими в конфликт.
– Я более всего доволен тем, – говорит он, – что Грегор Штрассер только что порвал с Гитлером из-за разногласий по религиозному вопросу. «Мой социализм – это Кёльнский собор», – заявил он Гитлеру, указывая тем самым, что он является убежденным противником всякого антисемитизма. Это событие решающего значения, которое дает мне право еще надеяться на будущее.
* * *
Обедая с Отто Штрассером, братом Грегора Штрассера, в ресторане «Унтер ден Линден», я говорю ему: «Шлейхер даже дал мне понять, что он держит Гитлера в своих руках!»
Заказав обед без масла и мяса – так как существовали определенные ограничения, – Штрассер отвечает:
– Ну что ж, если Гитлер действительно у него в руках, то он хорошо бы сделал, покрепче сжав руки, пока еще не слишком поздно!
Но было слишком поздно! Фон Шлейхер дал мне тогда свое последнее интервью! Между Гитлером и националистами в этот самый момент происходили неслыханно резкие столкновения.
И в вихре событий 27 января нацисты и националисты пришли к соглашению. 28 января Шлейхер подает в отставку; 30 января Гитлер представляет Гинденбургу декрет, возлагающий на него, Гитлера, «во имя защиты народа и государства» обязанности канцлера Германии. Гинденбург подписывает декрет.
А вся германская пресса пишет: «Гитлер спас Германию от большевизма!»
В посольстве на Паризерплац, когда я прощаюсь с Франсуа-Понсэ, он заявляет мне:
– Передайте от меня Бонкуру, что отныне вся наступательная сила национализма, являющегося орудием правительства, будет направлена против внешнего врага, главным образом против Франции.
* * *
На следующий день вечером я прибываю в Париж.
Газеты пестрят заголовками: «Кабинет Бонкура пал».
– Знаете ли вы, что Гитлер пришел к власти? – спрашиваю я у шофера такси.
Не оборачиваясь, он спокойно отвечает:
– Да, да, из газеты!
Впрочем, любопытно, что газета «Тан» пишет: «Весьма возможно, что Гитлер очень быстро потерпит крах и потеряет свою репутацию волшебника».
В палате депутатов никто не интересуется разговорами о Берлине.
– Тьфу, у власти Гитлер или нет – какая разница? – говорят мне некоторые радикал-социалисты.
Подходит Андре Тардье. Он разражается сардоническим смехом:
– Черт возьми, а я сомневался, что Гитлер придет к власти! Блюм ведь постоянно ошибается, и как раз на днях он возвестил, что Гитлеру капут!
Что касается правых депутатов, то они скорее даже удовлетворены. Некий председатель партии «Демократический альянс» говорит:
– Не вижу причины для слез! В случае неприятностей Англия придет к нам на помощь, да и Гитлер не враг Франции!
Другой рассуждает еще более удивительным образом:
– Гитлер уже дважды сослужил нам службу: он сделал Германию непопулярной в Англии и Америке, и он показал Англии истинное лицо Германии! Да, я решительно предпочитаю Гитлера Шлейхеру!
Но на Кэ д’Орсэ Эррио, беседуя с Поль-Бонкуром, говорят об отсутствии единства и понимания в парламенте в момент, когда события, происходящие в Германии, являются по меньшей мере тревожными. Бонкур отвечает:
– Хорошенько запомните следующее: правые партии, «саботировавшие» сближение с демократической Германией, которого мы желали добиться в течение восьми лет, станут теперь благоприятствовать сближению с немецким диктатором! И, конечно, все это будет делаться под предлогом, что Гитлер борется с коммунизмом! Вскоре вы увидите все, о чем я вам говорю!
* * *
Берлин, понедельник 27 февраля. Большой обед и вечер в посольстве Франции. Андре Франсуа-Понсэ принимает министра финансов Шверина фон Крозиг.
Во время обеда, около 9 часов, привратник посольства передает послу записочку: «Горит рейхстаг». Посол тотчас же встает из-за стола. Он подходит к окну и видит, что стеклянный купол рейхстага сделался совершенно красным. Посол возвращается в столовую и сообщает новость своим гостям. На их лицах изумление, но Крозиг с непередаваемым оттенком радости восклицает: «Gott sei dank!».
На следующий день, в 8 часов вечера, когда газеты опубликовали новость о пожаре, не указывая причины бедствия, Андре Франсуа-Понсэ расспрашивает фон Нейрата в имперской канцелярии.
– Ваше превосходительство, – отвечает тот, – это преступление коммунистов. Впрочем, виновный во всем признался. Это преступление не человека, а партии.
Возвратившись в посольство, Франсуа-Понсэ принял русского посла.
– Мне стало известно от одного члена рейхсвера, – говорит русский посол, – что рейхстаг соединен подземным коридором с особняком его председателя Геринга. Следовательно, поджигатели должны были пройти этим путем.
Тайна поджога рейхстага не будет раскрыта еще в течение нескольких лет.[27] И лишь тогда, когда английская осведомительная служба обнаружит письмо адъютанта Рема, некоего Крузе, адресованное фельдмаршалу Гинденбургу, станет известно, что преступный поджог рейхстага был совершен двадцатью тремя подчиненными Рема с одобрения Геринга и Геббельса. Крузе был единственным оставшимся в живых из группы поджигателей, которая вся была истреблена во время бойни 30 июня 1934 года.
А спустя несколько месяцев, как сообщает Понсэ в одной из телеграмм: «Геринг очень часто говорит о поджоге рейхстага. Я часто слышал, как он в связи с этим сравнивал себя с Нероном, говоря, что христиане подожгли Рим, чтобы иметь возможность обвинить в этом Нерона, и что, подобно им, коммунисты подожгли рейхстаг, чтобы иметь возможность обвинить в этом его, Геринга!!!»
Телеграмма Понсэ заканчивается рассказом о том, что по случаю конных состязаний в Берлине Геринг дал обед.
Напрасно его гости, собравшиеся в салоне, ждут хозяина.
Он прибывает очень поздно, с озабоченным видом.
Его спрашивают о причинах беспокойства. Он отвечает, понижая голос:
– Прусский ландтаг горит.
После того как навели справки, оказалось, что огонь, который увидел Геринг, был не чем иным, как отблеском пламени двух канделябров, стоявших у дверей его собственного дворца! «Видения преследуют его, как Макбета!» – пришли к заключению высокопоставленные гости, шепотом обменивавшиеся мнениями.
Глава 14. Пакт четырех
«Помогай себе, и Балканы помогут тебе». – Макдональд и приступы гнева Поль-Бонкура. – «Клочок бумаги, как и многие другие договоры». – Титулеску – удивительный человек. – Чай в германском посольстве и политические убийства. – Георг V в Геологическом музее. – «Даже самый прекрасный человек не может жить мирно, если зловредные соседи не дают ему покоя».
Берлин, 5 марта 1933 года. После нескольких недель церемониальных маршей под звуки фанфар, парадов, факельных шествий, шумных показных публичных собраний, арестов пяти тысяч коммунистов и противников гитлеризма в Пруссии и двух тысяч в Рейнской области – Германия голосует в невообразимой обстановке чрезвычайного возбуждения.
Поджог рейхстага коммунистами является предметом самых патетических речей во время избирательной кампании. Пропасть между Германией и внешним миром углубляется.
Отряды СА размещаются во всех пунктах голосования, проходящего под руководством нацистов. Подсчет голосов… Национал-социалисты получают в рейхстаге двести восемьдесят восемь мест вместо ста девяноста пяти, которые они имели прежде.
Красный флаг партии с изображением свастики возводится в ранг национальной эмблемы. Республиканское знамя выброшено на помойку.
С 6 марта террор усиливается. Происходят конфискация имущества, аресты, высылки. Выступая с разъяснениями по радио, Геринг говорит: «Лес рубят – щепки летят. Это неизбежно!»
В конце января 1933 года во Франции Эдуард Даладье становится председателем Совета министров. Поль-Бонкур остается министром иностранных дел. Он постоянно наведывается в Женеву, где возобновила свою работу конференция по разоружению. С тех пор как Германии было даровано равенство в правах, она снова присутствует на конференции. Но во дворце Лиги Наций царит необычайное возбуждение.
Макдональд на этот раз серьезно предлагает пакт четырех.
– Макдональд в конце концов договорился с Муссолини о том, чтобы предложить нам через три-четыре дня пакт четырех: Германии, Италии, Франции, Англии. Наша страна окажется тогда в чрезвычайно трудном положении, – говорит Конкур в поезде, вновь отправляясь 14 марта 1933 года в Женеву.
Он обеспокоен.
* * *
Однако в Лиге Наций царит хорошее, радостное настроение. Шестнадцатого февраля министры иностранных дел Чехословакии, Румынии, Югославии, чувствуя приближение гитлеровской угрозы, образовали Малую Антанту – пакт, который объединил их всех в одно дипломатическое целое.
Это большое новшество в современной международной политике, и оно явилось предметом многочисленных разговоров в Женеве.
– Ах, если бы можно было балканизировать Европу! Как это было бы хорошо, – говорят в кулуарах Лиги Наций. И тотчас же выбрасывается новый лозунг: «Помогай себе, и Балканы помогут тебе!»
В час дня в столовом зале «Отель де Берг» Поль-Бонкур в уединении сидит за своим скромным завтраком, состоящим из рисовой каши на воде и яблочного мармелада.
– Макдональд хочет, чтобы Англия оставалась арбитром Европы и никогда не была бы ее действующим лицом, – объясняет Поль-Бонкур. – Ясно, что его идея заключается в том, чтобы добиться объединения внутри Лиги Наций нескольких крупных держав, предоставляя Лондону роль арбитра.
На следующий день Макдональд как бы случайно получает официальное приглашение приехать в Рим, куда он отправляется в тот же вечер, захватив свой напечатанный на сорока страницах план пакта четырех, состоящий из пятнадцати глав.
* * *
Утром 19 марта получено коммюнике из Рима. Бонкура охватывает такой приступ гнева, какого он никогда еще не испытывал в своей жизни. Заложив руки за спину, он неистово шагает на небольшом пространстве своего салона в «Отель де Берг».
– Теоретически, – поясняет он, – четыре державы делят между собой первенство в Европе. Однако в ходе переговоров именно Англия будет играть роль арбитра, и не между тремя равными державами – знаю я их! – а между изолированной державой – Францией и двумя объединенными державами – Италией и Германией, которым Англия обещает колонии! Этот пакт четырех есть не что иное, как пакт трех против одного!
И Бонкур вновь начинает метаться, подобно дикому зверю в клетке. Немного успокоившись, он затем опять выходит из себя. Но Даладье обрывает его:
– Я могу возложить на Францию ответственность за определенный категорический отказ лишь тогда, когда у меня будет другой план, который можно было бы предложить взамен! Есть у вас что-нибудь подобное на Кэ д’Орсэ?.. Нет? Тогда что же вы хотите?
* * *
И обсуждение возобновляется.
В конце концов генеральный секретарь министерства иностранных дел Франции Алексис Леже находит решение.
– Единственная дипломатическая тактика, которой следует придерживаться, состоит в том, чтобы неустанно вести переговоры об этом пакте четырех. Мы будем требовать всех необходимых изменений, чтобы в конце концов поставить этот пакт в зависимость от Лиги Наций. И пакт станет клочком бумаги, как многие другие договоры! Не более!
– Но такую позицию очень трудно объяснить прессе, – возражает Бонкур. – Общественное мнение будет повергнуто в смятение, если Франция сразу же и в резкой форме не откажется от пакта. А какая роль отводится в этом проекте Соединенным Штатам и России? В общем, Англия предлагает своя добрые услуги для посредничества между всеми недовольными, с одной стороны и Францией – с другой!
* * *
Бомба, упавшая на Дворец Наций, произвела бы в Женеве не больший эффект, чем предложение пакта четырех, которое официально делает Макдональд по возвращении вместе со своим министром иностранных дел Джоном Саймоном из Рима.
Тотчас же все малые европейские государства, Россия и южноамериканские республики приходят в страшное негодование. Все обращают свои взоры к Франции, надеясь услышать от нее категорическое «нет».
* * *
Даладье мигом примчался из Парижа в сопровождении всего штаба с Кэ д’Орсэ. Начинаются бесконечные переговоры Даладье с Бонкуром.
«Да… но… ничего лучшего сделать нельзя!» – решает Даладье.
А в это время посмеивающийся исподтишка фон Нейрат и Гранди, которого Муссолини постоянно вызывает по телефону, устраивают тет-а-тет изысканные завтраки и обеды.
Начинает сказываться вред, причиненный Франции пактом четырех.
Среди всех союзников Франции в Центральной Европе и на Балканском полуострове разражается буря возмущения.
– Уж не для того ли Франция стремится участвовать в пакте четырех, чтобы, покидая нас, дать тем самым ответ на нашу Малую Антанту? – холодно спрашивает президент Бенеш у Бонкура.
В Женеве находят благоразумный выход из положения. Конференция по разоружению откладывается.
* * *
Утром 6 мая в Париж срочно прибывает Титулеску с явным намерением устроить одну из тех грозных сцен, специалистом которых он является, о чем хорошо известно всему миру! Поль-Бонкур нисколько не обманулся в своих ожиданиях!
Беспорядочный в своих манерах, но с холодным разумом, сбивчивый в словах, но методичный в действии, с суждениями, зачастую парадоксальными, но всегда основанными на знании документов и на всестороннем знакомстве с международным правом, Титулеску всегда сбивал своего собеседника с его позиций! «Этот министр маленькой страны делает большую политику», – постоянно говорит Эррио, добавляя: – Какой удивительный человек! В области внешней политики он пустился в путь в утлом челне, который, он, однако, ведет, как линкор, что же касается внутренней политики, то он сидит верхом на прогнившей доске, которой он в конце концов придаст твердость скалы. Какой удивительный человек!»
В полдень на всех этажах Кэ д’Орсэ слышится оглушительный голос Титулеску:
– Если Франция отказывается от своей священной миссии защитницы малых держав, мы обойдемся без нее! Боги еще не настолько забыли нас, чтобы мы не смогли найти более лояльных и более смелых друзей! И даже если бы мы остались одни, – все более горячится румынский министр, – мы не склонились бы перед решением вашего Клуба мира! Что же касается меня, то моей миссией является откровенно предупредить вас, что пересмотр договоров будет означать войну, за которой последует большевизация Европы!
Леже и Бонкур, когда им удается вставить слово, пытаются объяснить Титулеску французскую тактику.
Но ничто не убеждает проницательного румына, который наносит визиты всем французским политическим деятелям, чтобы выразить им свой гневный протест:
– Диктаторские режимы начинают производить сильное впечатление на парламентские круги Бурбонского дворца! Кое-кто подвержен соблазну ждать от Гитлера и Муссолини больших благ.
И если Эррио негодует, повторяя с утра до вечера между двумя затяжками из своей трубки: «Пакт четырех, поверьте мне, бесполезный и опасный пакт!» – то можно заметить, что у обоих диктаторов положительно уже имеются многочисленные друзья!
Действительно, почти повсюду – в палате депутатов, в сенате, в банковских кругах – весьма отчетливо обрисовывается определенное течение в пользу политики соглашения с двумя диктаторами любой ценой, лишь бы избежать войны! А малые страны… тем хуже для них, даже если они и являются нашими союзниками!
* * *
Я никогда не забуду визита, который спустя некоторое время я нанесла в Париже германскому послу Роланду Кёстеру, двухметрового роста детине, напоминающему по виду голландца и искренне ненавидящему нацизм. Часто он бывает так прямолинейно откровенен, что парижане считают его циником. Он сообщает мне, что сегодня утром на одном из пригородных вокзалов Бухареста был убит двумя выстрелами из револьвера румынский министр внутренних дел Дука, главный вдохновитель всей франкофильской политики на Балканах.
Видя мое негодование и грусть, Кёстер говорит мне:
– А знаете ли вы, что в Берлине некоторые нацисты утверждают, что с помощью пяти или шести подобного рода политических убийств Германия могла бы обойтись без расходов на войну и добиться в Европе всего, чего только пожелала бы!
Когда я заметила, что метод политических убийств и в самом деле уже широко применяется по ту сторону Рейна, посол сказал:
– Да, но тех результатов, о которых я вам говорю, они ожидают от политических убийств в иностранных государствах.
– Итак, – продолжает посол, – прежде всего речь идет о Дольфусе! По мнению Берлина, он единственный австриец, который по-настоящему противится аншлюсу. Но полагают, что он будет убит своими соотечественниками, так как в Австрии число сторонников аншлюса растет с каждым днем! Вторым убийством, которое необходимо для того, о чем они говорят, должно быть убийство югославского короля Александра. Они утверждают, что его исчезновение положит конец единству Югославии и всей политике союзнических отношений между Францией и Балканами. Затем они хотели бы покончить с Титулеску – верным союзником Парижа и Лондона. Может быть, они сочли, что и убийство Дуки является необходимым, но я ничего не знаю об этом! Во всяком случае, они утверждают, что в тот день, когда не станет Бенеша, немецкие меньшинства в Чехословакии во всю прыть вернутся в Веймарскую республику!
– Но вы рассказали только о четверых, господин посол.
– Да, но нацисты, кажется, считают, что до тех пор, пока жив король Альберт, Бельгия никогда не войдет в германскую систему.
Кёстер долго молчит. Затем возобновляет разговор:
– Признаться, я думаю, что они были бы весьма рады, если бы и во Франции исчез тот или иной из ваших министров или председателей совета министров.
Я сократила время моего визита.
Мне суждено было с ужасом вспоминать этот визит, когда приходили известия о трагической кончине короля Альберта и об убийстве Дольфуса, югославского короля Александра и Барту.
* * *
Лондон, 17 июня, 2 часа дня. Луч солнца пробивается наконец через отвратительное серое небо. Целая армия полицейских сдерживает толпу, собравшуюся вокруг Геологического музея, куда должен прибыть король Георг V, чтобы открыть Международную экономическую конференцию.
В час сорок пять минут сто шестьдесят восемь делегатов в цилиндрах, во фраках с белыми цветками в петлице и серых брюках, восемьсот весьма элегантно одетых журналистов и многочисленная публика столпились в огромном зале заседаний, окрашенном в зеленый цвет. «Господа, король идет!» Можно было услышать, как пролетит муха. Дверь открывается. Все встают.
Его величество Георг V во фраке с большим белым цветком в петлице, стоя между Макдональдом и Авенолем, начинает читать свою речь перед сорока микрофонами:
– Господа делегаты, впервые в истории монарх председательствует на конференции, на которой присутствуют делегаты всех стран мира! – и т. д. – Я приветствую вас, господа делегаты, и я на вас надеюсь!
И сразу газеты всех стран мира запестрели заголовками:
«Долларово-стерлинговый блок и блок стран с золотой валютой столкнулись в Лондоне».
«Формула валютного перемирия, выработанная англо-франко-американскими экспертами, будет в конечном счете зависеть от согласия Белого дома…»
«Франция, Италия, Голландия, Швейцария и Бельгия соглашаются защищать золотой стандарт» и т. д. и т. д.
* * *
В конце концов 11 июля министр финансов просит делегатов подписать проект резолюции, предложенный Жоржем Боннэ, о роспуске конференции на каникулы.
Все довольны!
– Не будем себя обманывать, – говорит Даладье, – всеобщее удовлетворение сегодня вечером проистекает оттого, что каждый из нас испытывает радость в связи с тем, что его стране удалось уйти с этой конференции, не допустив ни малейшей уступки своим соседям! Это большая неудача. А что же тогда думать о большой политике международного согласия!
Подлинного успеха на конференции добился один лишь австрийский канцлер Дольфус!
Возмущенные гитлеровскими провокациями против Австрии, делегаты устраивают внушительную манифестацию, когда маленький канцлер, произнося свою речь, смело обращаясь к толстому великану фон Нейрату, громко восклицает:
– И в области экономических взаимоотношений, господа, также справедливо высказывание великого поэта Шиллера: «Даже самый прекрасный человек не может жить мирно, если зловредные соседи не дают ему покоя».
Король Георг V, которому сообщают об этом инциденте, говорит: «After all».[28] Эти слова действительно лучше всего характеризуют обстановку.
Глава 15. Рейх выходит из Лиги Наций, или долгожданный предлог
Гитлер и Эльзас-Лотарингия. – Замена одного мира другим… в течение одного мгновения. – Геббельс в Женеве. – Телеграмма Нейрата. – Столовый зал в «Отель де пэ». – В международных отношениях снова устанавливается примат силы. – Дипломатия – это вопрос географии. – Эррио в Москве. – Тухачевский и военный пакт. – Пьер Кот в Москве.
Берлин, 15 сентября 1933 года. Имперская канцелярия, кабинет Гитлера, находящегося у власти уже более полугода.
Андре Франсуа-Понсэ заявляет решительный протест:
– Господин канцлер, по окончании съезда в Нюрнберге, во время которого вы вручали знамена отрядам ополчения, штурмовики города Келя возвратились к себе, неся впереди отряда штандарт, на котором было написано «Страсбург». Мое правительство не может этого допустить.
– Я выражаю сожаление, – весьма вежливо отвечает Адольф Гитлер, – спорная надпись действительно ускользнула от моего внимания, иначе я бы этого не потерпел. Я никоим образом не помышляю о том, чтобы требовать возвращения Эльзаса и Лотарингии! Я по собственному опыту знаю всех этих эльзасцев! Я знаю, что, будучи присоединены к Германии или к Франции, они никогда не будут довольны своей судьбой. Бесполезно драться из-за них. Если я и стремлюсь к чему-либо, господин посол, так лишь к тому, чтобы в один прекрасный день мне можно было бы воздвигнуть памятник, как человеку, который примирил Францию и Германию! Нас разделяет лишь проблема Саара, но, должно быть, не так уж трудно ее урегулировать, не ожидая плебисцита!
На следующий день Андре Франсуа-Понсэ входит в кабинет Даладье, на которого, как, впрочем, и на всех в Париже, сильное впечатление произвела та быстрота, с какой гитлеровский режим установился в Германии.
Усаживаясь, Андре Франсуа-Понсэ рассказывает:
– Тот факт, что Гитлер перешел таким образом от теории к практическим действиям, таит в себе нечто поразительное. Наблюдая за ним, я испытываю такое чувство, словно присутствую при смене декораций на сцене, над которой не опустили занавес и когда… бригады грубых рабочих сцены ходят взад и вперед; одни бесцеремонно срывают старые декорации, другие устанавливают стойки для новых, третьи появляются из-за кулис, неся на плечах необходимую меблировку; перемена декораций не обходится без криков и шума; слышатся свистки, удары молотка, ругательства, приглушенные стоны, отрывистые слова приказаний. И зритель задает себе вопрос, не отлетит ли рикошетом в зал и не заденет ли его кусок дерева или железа, брошенный слишком грубой рукой. Но в конечном счете, господин председатель совета министров, замена одного мира другим длилась ровно одно мгновение. И отныне перед нами новые декорации и соответствующее им новое освещение.
Даладье становится задумчивым. Бьет 7 часов, наступает время пресс-конференции. Франсуа-Понсэ встает и говорит в заключение:
– Во всяком случае, если фюрер стремится рассеять наши опасения и привлечь нас к идее переговоров с глазу на глаз, то это значит, что он уже имеет в виду разрыв с женевской организацией! Это одно из положений его доктрины. Он слишком много настаивал в своей пропаганде на необходимости освободиться от «невыносимой тирании Женевы», чтобы он мог в течение долгого времени мириться с ней. Поверьте мне, господин председатель совета министров, единственный вопрос, который стоит перед ним, – это выбор удобного случая.
Приземлившись в воскресенье 24 сентября на женевском аэродроме Куэнтрэн, делегаты 14-й сессии Ассамблеи Лиги Наций были немало удивлены при виде множества людей и огромного количества полицейских. Это пришли на аэродром, вырядившись в свои самые лучшие одежды, женевские немцы. Задрав головы кверху, они ожидают самолет, который должен доставить Геббельса. Журналисты прилагают все возможные усилия, чтобы убедить полицию оказать им честь присутствовать при прибытии министра пропаганды нового канцлера Гитлера.
* * *
На какое-то мгновенье можно подумать, что находишься в Берлине… Немцы приветствуют друг друга по-гитлеровски.
Из маленького кафе, расположенного на открытом воздухе, только и слышатся возгласы «хайль Гитлер!». Там собрались женщины и дети, и в руках у каждого из них был небольшой гитлеровский флажок. Маленькая девочка держит букет георгинов.
Наконец сообщают о прибытии самолета. Консул направляет всех членов немецкой колонии на взлетно-посадочную площадку. Он выстраивает их в ряд. В голубом небе появляется самолет. Консул дает сигнал своим соотечественникам, которые должны трижды прокричать «хайль», когда приземлится немецкий «фоккер».
И в то время, когда из самолета выходит нескладный маленький человек со смуглым лицом, раздается троекратное «хайль».
Одетый в потертый дождевой плащ цвета беж, Геббельс автоматически обменивается ста пятьюдесятью рукопожатиями, целует маленькую девочку, принимая георгины, и, сопровождаемый десятком телохранителей, садится в автомобиль, который со скоростью восемьдесят километров в час направляется к отелю «Карлтон», резиденции германской делегации.
* * *
В Женеве, куда главы крупнейших государств прибывают и откуда они уезжают, как самые обыкновенные граждане, этот маленький спектакль столь неуместен, что собравшиеся наблюдают за ним с некоторой иронией.
Во время пребывания на Ассамблее Геббельс появляется – даже если он идет всего лишь из одного конца зала в другой – только окруженный спереди, сзади и по бокам семью или восемью здоровенными молодчиками, так называемыми «экспертами по пропаганде», под пиджаками которых, однако, можно угадать коричневые рубашки.
Тем не менее Геббельс возбуждает большое любопытство, и его свирепое измученное лицо аскета привлекает к себе взоры. Выражение величайшего презрения, с каким он слушает делегатов малых стран, ссылающихся в своих речах на «свободу» и «право жить как равные в международном сообществе», сменяется выражением бешеной ярости, когда он слышит аплодисменты, которыми каждый раз встречают маленького Дольфуса именно потому, что последний оказывает Гитлеру сопротивление. И наоборот, насмешки и глухой ропот всегда сопровождают его, Геббельса, появление.
Все это порождает атмосферу постоянной тревоги, которая все более усиливается в связи с тем, что в конце лета Поль-Бонкур, американский делегат Норман Дэвис и Макдональд, охваченные беспокойством, добавили к плану разоружения Макдональда. уже почти принятому фон Нейратом в качестве основы для переговоров, «дополнительную статью».
Новая статья запрещает рейху перевооружаться в течение периода от четырех до восьми лет и устанавливает весьма строгий контроль.
Вот наконец долгожданный предлог для Гитлера.
* * *
Спустя несколько дней Геббельс принимает представителей печати в отеле «Карлтон». Он заставляет очень долго ждать себя, затем появляется, сопровождаемый, как обычно, своими телохранителями. Часто прибегая к театральной мимике, он зачитывает длинную речь, в которой изображает Германию как свободолюбивую, мирную и демократическую державу. Но в то же время он нападает на евреев.
Это вызывает волнение среди журналистов, большинство которых – евреи.
А Геббельс невозмутимо продолжает: «Господа, я могу вас заверить, что в Германии нет концентрационных лагерей! Существуют лишь лагеря, где из чувства гуманности предоставляют работу тем, кто ее не имеет!»
* * *
Геббельс положительно не имеет успеха в Женеве. Поэтому, отправив барона Константина фон Нейрата в Берлин, он через несколько дней уезжает и сам, оставив некоторых из своих телохранителей для ведения нацистской пропаганды в кулуарах Ассамблеи.
На аэродроме граф Гевези безапелляционно заявляет венгерскому делегату:
– Давно пора, чтобы все эти женевские комедии уступили место реальной действительности… Впрочем, через несколько дней вы увидите здесь, в Женеве, что о нацистской Германии заговорят больше, чем когда бы то ни было!
Проходит неделя.
Двенадцатого октября 1933 года председатель конференции по разоружению Артур Гендерсон получает длинную телеграмму, подписанную фон Нейратом.
В телеграмме утверждается: «Окончательно выяснилось, что конференция по разоружению не выполнит своей единственной задачи, состоящей в осуществлении всеобщего разоружения. В силу этого условия, которое предопределило участие германского правительства в конференции, более не существует. И, следовательно, германское правительство оказывается вынужденным покинуть конференцию по разоружению и организацию Лиги Наций».
* * *
Это трагедия!
Джон Саймон спешит в отель «Карлтон». Он требует свидания с главой германской делегации, которым является новый дипломат – Надольный. Весь красный от гнева, Джон Саймон называет Германию «взбесившейся собакой». Надольный, сохраняя полное спокойствие, коротко отвечает: «Я еду в Берлин».
На 14 октября созывается заседание бюро конференции. Речь идет о том, что союзники должны обсудить, какой ответ дать Германии. Впрочем, в это же время фюрер оповещает по радио немецкий народ о своих решениях. Немецкий народ узнаёт таким образом, что Гитлер порвал с Лигой Наций, что он распустил рейхстаг и обращается к народу, призывая его высказать свое мнение на плебисците 12 ноября.
* * *
Четырнадцатого октября в 3 часа дня представители всех европейских держав символически собираются в столовом зале «Отель де пэ»[29] в Женеве, и начинается совещание, длящееся несколько часов… Это переломный момент!
– Я обращаю внимание министра иностранных дел Великобритании сэра Джона Саймона, – заявляет вице-председатель конференции по разоружению Политис, – на оскорбительный характер ответа фон Нейрата.
– Никто, кажется, не отдает себе отчета, насколько серьезной является телеграмма фон Нейрата, которая представляет собой оскорбление для французского и английского правительств, – добавляет докладчик комиссии по разоружению Бенеш.
– Действительно, – заявляет, в свою очередь, очень бледный Джон Саймон, – таким образом, ставится вопрос о нашем достоинстве, и следует дать твердый ответ.
Что касается итальянского делегата, барона Алоизи, то он миролюбиво и мягко внушает:
– Подождите, ведь нужно все же быть реалистами и принимать вещи такими, как они есть.
– Главное – не следует обострять положения, – высказывает свое мнение делегат Соединенных Штатов Норман Дэвис. – Рано или поздно Германия признает свои заблуждения и возвратится на конференцию и в Женеву… Немного терпения, господа!
Затем сэр Джон Саймон вместе с Поль-Бонкуром и Норманом Дэвисом созывает заседание редакционного комитета.
Текст, который он предлагает на утверждение комитету, выдержан в твердом тоне. Однако все члены комитета предлагают более мягкие и осторожные формулировки.
– В международных отношениях снова устанавливается примат силы! – сокрушенно заявляет глубоко огорченный Поль-Бонкур.
– Берегитесь! – замечает Бенеш. – Ибо начиная с того момента, когда Франция и Англия окажутся не готовыми противопоставить немецким требованиям единый фронт, разве не явится наиболее мудрой, напрашивающейся сама собой политикой для малых стран политика сближения с Берлином и попустительства требованиям рейха, что стало бы гарантией их безопасности!
Наконец около 10 часов вечера дверь зала заседаний открывается и на пороге появляются бледные, утомленные Поль-Бонкур и Политис.
– Мы спасали свое лицо, вместо того чтобы предпринять контрнаступление, и мы проиграли игру! – едва слышно говорят они.
Еще в течение двух суток Америка, Франция и малые страны пытаются побудить все государства, входящие в Лигу Наций, заключить конвенцию о разоружении без Германии, что в политическом плане явилось бы ответом Адольфу Гитлеру.
Но в конце концов председатель конференции по разоружению Гендерсон без обиняков заявляет:
– Макдональд не желает работать на какой-либо конференции по разоружению без участия Германии.
* * *
Со времени окончания войны это первая крупная дипломатическая победа Германии.
Гитлер не только одержал верх, но и сделал своей союзницей Италию. Рим, раскрыв свою игру, приветствует эту дипломатическую акцию Германии, которую агентство Стефани называет «акцией силы».
На следующий день все делегаты выезжают поездом в Париж. Они молчаливы и грустны.
* * *
Будущее Франции в области внешней политики представляется несколько скомпрометированным.
Что касается Америки, то на американскую карту в данный момент не приходится рассчитывать. Итальянская карта играет против Франции. Английская карта всегда служит прежде всего Англии.
Польская карта с такими игроками, как маршал Пилсудский и полковник Бек, ненадежна, а пакт четырех только что сильно подорвал позиции Франции в Центральной Европе и на Балканах. Итак, что же делать?
Существует еще русская карта, защитниками которой сделались генералы Вейган и Делаттр де Тассиньи, но одно упоминание о ней вызывает бурный протест правых партий.
– Чтобы противостоять Германии, Франция нуждается в России, в противном случае она не устоит, – повторяет тем не менее старый посол Камбон Эдуарду Эррио и Пьеру Коту, которые собираются по поручению правительства Даладье предпринять поездку в Москву.
«Дипломатия – это прежде всего вопрос географии, здесь действуют извечные законы. Если Франция хочет бороться с сильной Германией, то союз с Востоком необходим!»
* * *
Пятнадцатое октября 1933 года. Москва печальна. Нет ни такси, ни большого уличного движения. В массе своей плохо одетые люди стоят в длинных очередях, чтобы получить керосин или хлеб. На площадях и некоторых перекрестках города огромные громкоговорители передают нескончаемые выступления или новости дня.
На улицах не видно ни супружеских пар, ни влюбленных. Здесь только работают. Парикмахерские, однако, осаждаются посетителями. В одной из них молодая девушка, которая делает мне прическу, увидев, что я читаю свою корреспонденцию, спрашивает меня на ломаном немецком языке:
– Это любовное письмо?
– Нет, – отвечаю я. – Но вы-то, наверно, их получаете? Ведь вы так красивы!
– Нет, – отвечает она с сожалением, – у нас нет времени, чтобы писать их. Мы работаем. А когда наступает вечер, мы и юноши, с которыми мы дружим, чувствуем себя слишком усталыми, чтобы писать!
К тому же в великой республике, как кажется, царят добродетельные нравы!
В то же самое утро у Кремля, тогда ревниво закрытого от публики, мне говорят: «Сейчас должен выехать Сталин».
Вооружившись терпением, я жду в окружении нескольких служащих перед небольшим белым дворцом президента Союза Советских Социалистических Республик (в то время Сталин не только не был президентом, но даже и не возглавлял формально правительство СССР, он являлся Первым секретарем ЦК ВКП(б). – Примеч. ред.). Через несколько минут из ворот Кремля с головокружительной быстротой выезжают пять совершенно одинаковых серых автомобилей. «Сталин только что проехал, – говорит мне один из тех, кто еще аплодирует, – он в одной из пяти машин. Но машина, в которой он находится, ничем не отличается от других. Так лучше для его безопасности».
На следующий день Московский совет устраивает большой завтрак.
Когда мэр (первый секретарь горкома. – Примеч. ред.) Москвы провозглашает тост, все офицеры Красной армии, расположившиеся за маленькими столиками, поднимаются как один. По восточному обычаю, они бросают украшающие их столы большие красные розы на почетный стол, где сидит Эррио.
– Да здравствует Франция, да здравствует французская армия! – трижды кричат они.
– Мы не мыслим нового сближения с вами, – говорит Литвинов, – без нового политического или военного пакта.
Действительно, маршал Тухачевский предлагает военный пакт, имеющий более серьезный характер, чем договор о военном союзе, который Франция некогда имела с царской Россией!
После отъезда Эррио в СССР прибывает Пьер Кот с официальным поручением обсудить возможность заключения соглашения о воздушном сообщении.
* * *
Тем временем Гитлер достигает своих целей. Плебисцит 12 ноября дал ему сорок миллионов пятьсот тысяч голосов.
Луч надежды меркнет в Женеве!
Секретариат Лиги Наций не может более обеспечить поступление членских взносов. Режим экономии обрушивается на организацию.
В одну из этих ночей упала и разбилась стоявшая в передней большого застекленного зала аллегорическая гипсовая группа, изображающая Мир, в церемонии открытия которой на 3-й сессии Ассамблеи принимал горячее участие Бриан, окруженный восторженными делегатами всех стран. Гипсовые обломки были выметены и выброшены на помойку.
Глава 16. Луи Барту на Кэ д’Орсэ
«Депутатов – в Сену и гвардейцев вместе с ними». – Маленький салон императрицы Евгении. – Авеню Марсо, дом 34, и операция «мыльная пена». – Как пишется история. – «Самая трагическая страница в моей жизни». – Восточное Локарно.
Шестое февраля 1934 года, В 3 часа дня в ложе президента республики в палате депутатов.
Заседание обещает быть ужасным. Здесь же находится мобильная гвардия, чтобы защитить парламент от фашистских организаций, принявших решение проникнуть в здание с помощью массового натиска, а затем подвергнуть жестоким репрессиям депутатов, избранных всеобщим голосованием, которые, по их мнению, ведут Францию к войне и разорению. Речь идет о том, чтобы, воспользовавшись делом Стависского,[30] финансовыми скандалами, непрерывно следующими друг за другом, и правительственными кризисами, заставить уйти в отставку правительство и покончить с республиканским режимом.
* * *
6 часов вечера. Заседание продолжается.
Коммунисты, часть социалистов и правых освистывают Даладье. Они беспрерывно требуют прервать заседание.
Через ограду, окружающую здание палаты депутатов, видно, как колонны демонстрантов с пением «Марсельезы» идут от площади Согласия, в то время как в глубине площади, перед зданием министерства морского флота, происходит настоящее сражение. В наступившей темноте пылает подожженный автобус. Отчетливо слышны крики: «Долой Даладье!», «Да здравствует Кьяпп!».[31]
Депутаты с некоторым беспокойством смотрят на охрану из полицейских и мобильных гвардейцев, выставленную у Бурбонского дворца. Она настолько немногочисленна, что толпа время от времени прорывает ее ряды.
Послы иностранных держав, покинув дипломатическую ложу, укрылись в зале Четырех колонн. Посланник Чехословакии Стефан Осуский и посланник Канады Рой обмениваются невеселыми мыслями относительно последствий выхода Германии из Лиги Наций. Первое последствие – подписание в Берлине 20 января сего года германо-польского соглашения.
– Это подобно грозовому разряду в дипломатической игре, – говорит чех.
Хотя посол Польши в Берлине Липский и министр иностранных дел фюрера барон фон Нейрат заявили, что речь идет лишь о «консультативном пакте о ненападении, заключенном сроком на десять лет», но в действительности этим соглашением обе страны открывают новую фазу в своих взаимоотношениях. Они обязуются консультироваться друг с другом непосредственно по всем вопросам, касающимся их взаимоотношений, и никогда не прибегать к силе для урегулирования этих вопросов.
– А франко-польское соглашение? Что станет с ним? – спрашивает канадец.
– Трудно сказать, – отвечает Осуский, – поскольку за германо-польским соглашением уже последовала целая серия дополнительных соглашений, встреч, обменов дружескими посланиями, взаимных визитов… Так, у Геринга вошло в привычку охотиться на рысей и зубров в польских лесах, а у полковника Бека – останавливаться в Берлине каждый раз, когда в своих заграничных поездках ему приходится проезжать через столицу рейха, а также всякий раз, как ему представляется случай показать свое неприязненное или враждебное отношение к Франции.
И оба посланника приходят к выводу: Андре Франсуа-Понсэ, вероятно, прав, когда говорит, что «этот пакт является для фюрера лишь средством нейтрализовать Францию, посеять смятение в лагере союзников и облегчить себе насильственные действия против Австрии и Чехословакии в ожидании, пока он сможет ринуться на Францию!»
* * *
Мятеж продолжается. Каждую минуту на набережные Сены прибывают все новые колонны восставших. Здесь сейчас находятся члены организаций «Бывших фронтовиков», «Патриотической молодежи» и «Боевых крестов». Слышны выкрики: «В палату… В палату… Депутатов – в Сену и гвардейцев вместе с ними!»
В здании министерства морского флота возникает большой пожар. Внезапно в шумном гуле голосов, который исходит от всей этой манифестации, ясно слышатся слова: «Убийцы… убийцы». Несколько мобильных гвардейцев только что стреляли из револьверов.
В это время на заседании палаты депутатов Сканини, слепой депутат от Парижа, протягивая руку в сторону правительства, драматически восклицает:
– Господин председатель совета министров, в толпу стреляют, это вы дали такой приказ?
– Долой фашистов! – кричат депутаты левых партий.
– Господин председатель совета министров, – вторично задает вопрос Сканини, – это вы дали приказ стрелять?
Поднимается невероятный шум…
Время идет. 9 часов вечера. Мятеж продолжается, и заседание палаты депутатов также не прекращается. Правительство все же получает вотум доверия: 350 голосов – за, 220 – против.[32]
Теперь нужно сделать так, чтобы у мятежников создалось впечатление, будто в Бурбонском дворце больше никого нет и что поэтому, следовательно, какая бы то ни было манифестация является бесцельной.
Во дворце повсюду гасят свет, и в ночной темноте министры и послы на ощупь пробираются к выходу на Университетскую улицу.
* * *
Прошло шесть дней. Отель «Континенталь» в утренние часы.
В сад Тюильри выходят окна миниатюрного салона, в котором императрица Евгения останавливалась, когда, уже в весьма преклонном возрасте, она еще приезжала в Париж незадолго до войны 1914 года.
Жизнерадостный, тщательно выбритый, в черном пиджаке и полосатых брюках, Гастон Думерг, сенатор, бывший президент республики, а ныне председатель правительства национального единства, сформированного им 8 февраля с участием в качестве государственных министров Эдуарда Эррио и Андре Тардье, говорит мне:
– Если мне не удастся добиться подлинного объединения французов, я снова уйду в отставку, но по крайней мере я выполню свой долг. Во всяком случае, я хочу проводить твердую политику в отношении Германии, и я ни в чем ей не уступлю! – И Гастон Думерг продолжает: – У меня много проектов, но мне не следует забывать, что я очень стар.
Дверь приоткрывается… Появляется еще один пожилой господин. Это новый министр иностранных дел Луи Барту, адвокат, академик, историк, депутат, сенатор, уже более пятнадцати раз занимавший министерские посты.
Двенадцатое апреля 1934 года. 7 часов 45 минут утра. Авеню Марсо, дом 34.
Генеральный секретарь министерства иностранных дел Франции Алексис Леже, которого я сопровождаю, нажимает кнопку звонка на втором этаже этого роскошного дома.
Старый слуга с бакенбардами, в жилете в черную и желтую полоску церемонно вводит нас в большую библиотеку. В глубине ее, перед окном, против света сидит пожилой господин с седой бородкой, которую старательный парикмахер тщательно подстригает клинышком, по моде эпохи Наполеона III.
Не оборачиваясь, тот, о ком все парламентарии и будущие председатели совета министров говорят: «Иметь его в составе своего кабинета министров опасно, но не иметь – трагично!» – Барту, ибо это именно он, встречает нас коротким приветствием.
* * *
Когда полтора месяца назад Луи Барту, которого сорок пять лет общественной деятельности сделали весьма проницательным, водворился в кабинете Верженна, он был очень плохо встречен в министерстве иностранных дел.
Его находили слишком старым…
– По правде говоря, здесь слишком много глупцов, которые не могут не опасаться одного умного человека! – заметил по этому поводу Барту, который и в самом деле всегда обладал острейшим умом. <…>
Вот подобным образом Барту нажил себе многочисленных врагов.
* * *
Однако его ближайший сотрудник Алексис Леже безгранично восхищался им.
– Из всех, кого я знал когда-либо в своей жизни, – говорил он, – Барту единственный человек, который умеет слушать; он с необыкновенным напряжением следит за развиваемой вами мыслью, закрывает при этом глаза и заслоняет лицо обеими руками, время от времени прерывая вашу речь, чтобы уточнить высказанную вами мысль. Затем он формулирует суть того, что вы ему сказали, и получается краткое, но замечательно точное обобщение вашей мысли. Это удивительный человек!
Уже в течение нескольких месяцев Луи Барту постоянно везде заявляет:
– Я француз иной эпохи, эпохи здравого смысла! Ах, эти женевские миражи! Как быстро я рассеял бы их, если бы был у дел! Необходимы прочные союзы! Я бы прежде всего совершил поездку в столицы различных стран, чтобы посмотреть, что стало с союзами, заключенными Францией, и я бы начистоту поговорил с Англией.
Все эти мысли настолько поглощают Барту, что он неустанно повторяет их – даже во время званых обедов, в перерыве между разговорами о фугах Баха или последних переводах из Эсхила и доверительным признанием, которое он неизменно делает хозяйке дома, полагая, что говорит тихим голосом:
– Я уверен, мой дорогой друг, что уже ранее имел удовольствие познакомиться со всеми этими красивыми дамами, которые сидят сегодня вечером вокруг вашего стола. Однако ту, которая сидит в конце стола между толстым господином и пожилой дамой, я что-то не могу припомнить!..
Появившись на Кэ д’Орсэ, Барту сказал Леже:
– Я встаю в пять часов утра, принимаю холодную ванну, делаю гимнастику и в шесть часов тридцать минут сажусь за рабочий стол. Мой первый завтрак – в семь часов тридцать минут, а в восемь часов является парикмахер. Именно в этот час вам лучше всего приходить, чтобы проконсультироваться с министром иностранных дел.
В то самое утро, 12 апреля 1934 года, Барту, все еще не оборачиваясь и не дожидаясь, пока его «фигаро» закончит операцию «мыльная пена», с явной тревогой в голосе задает вопрос:
– Скажите-ка мне, Леже, что сделал бы Бриан, если бы он был на моем месте?
Сегодня Барту, занимающий в течение шести недель пост министра иностранных дел, должен принять самое серьезное решение, подобного которому никогда ни одному из его предшественников еще не доводилось принимать.
Он должен дать ответ английскому правительству, которое рекомендовало Франции принять предложение германского правительства. Последнее – впрочем, в весьма туманных выражениях и лишь после шести месяцев ежедневных переговоров в Берлине между Андре Франсуа-Понсэ и фон Нейратом – предлагает Франции и Англии свое возвращение в Лигу Наций с целью принять участие в организации мира в Европе, но только в том случае, если Париж и Лондон согласятся признать, в довольно эластичном соглашении, за Германией право увеличить свою армию со 100 тысяч до 300 тысяч человек!
Конечно, это «великий поворот» в политике.
Мнения французов разделились:
– Ради чего делать уступки! Немцы всегда ненасытны. Если вы им даете яйцо, они требуют быка, – говорит Эррио.
Другие высказываются в пользу примирительного ответа, наподобие того, какой готовятся дать Болдуин и Макдональд, желающие прежде всего оставаться арбитрами во франко-германском конфликте, всегда существующем в скрытом состоянии.
Во французском правительстве происходит серьезный раскол.
– Я назначил небольшой комитет, в который входят маршал Петэн, Эррио и Тардье, с целью обсудить ответную ноту, которую Барту должен составить в ближайшие четыре дня, – разъясняет Думерг обеспокоенным парламентариям.
В то самое утро Барту, который по-прежнему сидит в кресле против света, видя, что Алексис Леже не отвечает, повторяет свой вопрос нетерпеливым тоном:
– Но скажите мне все же, что сделал бы Бриан в. подобном случае? Высказался бы он за политику силы или же уступил Германии, как он это уже делал столько раз?
И Луи Барту, который очень бодро выглядит в свои семьдесят два года, одетый в безупречно сидящий традиционный сюртук из твида стального цвета, с пронизывающим взглядом черных глаз из-под маленького профессорского пенсне, усаживается теперь за своим элегантным бюро, совершенно загроможденным редкими изданиями. Затем, положив локти на бювар и прикрыв ладонью глаза, он размышляет вслух:
– Посмотрим, не будет ли разумнее подождать, пока Германия не сделает еще более явно разоблачающего ее шага. Разве наш отказ сегодня не облегчит игру Гитлеру, который обратится к своему народу и скажет ему: «Вы видите, мы искренне хотим вести переговоры, но именно Франция не хочет этого. Мы люди добросовестные и не выходим за рамки права. А Франция становится на путь произвола!»
* * *
Час спустя Андре Франсуа-Понсэ входит в кабинет министра на Кэ д’Орсэ.
– Поверьте мне, соглашение, пусть даже несущественное, предпочтительнее отсутствия всякого соглашения. Здравый смысл диктует, что нужно решиться на наименьшее зло, чтобы избежать наихудшего, – говорит он Барту.
– Вы окончательно убедили меня, – отвечает Барту. Но, подняв палец вверх, он добавляет: – Все это надо сказать там, наверху, ибо именно его нужно убедить в этом.
Наверху находится салон, который глава правительства, Думерг, превратил в свой рабочий кабинет.
* * *
Спустя четыре дня, утром 16 апреля, Барту говорит Леже:
– Мое решение принято, садитесь-ка сюда; мы сейчас напишем ноту в примирительном духе.
В полдень на Кэ д’Орсэ большой завтрак. Среди приглашенных находится и председатель комиссии по иностранным делам сената Анри Беранже. Барту объясняет ему позицию, которую он собирается занять. Беранже поздравляет его с этим решением.
Но во второй половине дня Думерг беседует с Барту. И в тот момент, когда Барту готовится вынуть из кармана своего сюртука текст, подготовленный вместе с Леже, в котором он высказывается, подобно англичанам, в пользу подписания соглашения, и прочитать его Думергу, последний останавливает его.
– Нет, друг мой, – говорит он, доставая, в свою очередь, из кармана черного пиджака бумагу и протягивая ее Барту, – оставьте своей проект и посмотрите вот этот, он лучше. Он составлен мною и двумя государственными министрами. Именно этот текст мы предложим сейчас на заседании Совета министров, то есть, точнее говоря, вы должны его предложить.
* * *
– От вас, господин министр иностранных дел, ускользает истинное положение вещей, – горячится на заседании совета министров Андре Тардье, – и я вам советую не настаивать на своем. Гитлера хватит ненадолго, его судьба предрешена, какое-либо соглашение с ним укрепило бы его положение! А если разразится война, то не пройдет и недели, как он будет свергнут и заменен кронпринцем.
– Наша страна хорошо знает, что вскоре вновь начнется гонка вооружений, – заявляет еще более решительно начальник генерального штаба, – но руководители страны убеждены, что в этой гонке мы сохраним огромное превосходство. Посмотрим еще, сколько времени потребуется Германии, чтобы наверстать в своих расходах на армию сумму в двадцать миллиардов франков, вложенную нами в вооружение нашей страны.
Тогда Думерг передает Барту свою ноту, составленную им вместе с министрами, которой Барту заменяет текст, сформулированный им и Леже.
Барту зачитывает ноту Думерга, выдавая ее за свою собственную. Она написана в категорической форме: никаких возможностей для отступления. Отмечая, что увеличение военных расходов Германии является доказательством того, что рейх перевооружается и что в силу этого факта разрушаются основы всяких переговоров, эта нота устанавливает, что отныне бесполезно вести переговоры с германским правительством, поскольку с настоящего времени оно действует по собственному произволу. Заключение соглашения предусматривало бы возвращение Германии в Женеву. Однако поведение Германии не позволяет предполагать, что у нее имеется хотя бы малейшее намерение когда-либо вернуться туда. В этих условиях Франция не имеет другого выхода, кроме как заняться обеспечением своей собственной обороны и выработкой на конференции в Женеве эффективных гарантий, в которых столь нуждается мир, находящийся под угрозой.
По окончании заседания Совета министров в печать передается следующее коммюнике:
«Совет министров единодушно принял ноту, которую министр иностранных дел Луи Барту составил в согласии с председателем Совета министров в ответ на последнюю английскую ноту. Единогласное одобрение получила нота в редакции, представленной министром иностранных дел».
Вот так пишется история!
На следующее утро, в час, когда является парикмахер, меланхолично настроенный Барту принимает Алексиса Леже в квартире на авеню Марсо.
– Некоторых политических деятелей, – говорит он ему, – обвиняют в том, что они, как флюгеры, всегда повернуты по ветру. Но как раз и нужно повертываться по ветру. Слабость политических деятелей состоит в том, что они, если можно так выразиться, поворачиваются против ветра! Я пережил вчера самый трагический день в моей жизни. Я оказался почти в одиночестве, защищая свой проект ноты. Все министры, за исключением одного, заявили: «Не следует строить себе иллюзий относительно значения германского предложения. Германия маневрирует, чтобы добиться права иметь армию в триста тысяч человек; затем, при обсуждении контрпредложений, она выставит такие требования, что эти контрпредложения окажутся лишенными всякого содержания. Нет, мы отвергаем вашу ноту». Выступить против главы правительства было бы равноценно моей отставке, расколу кабинета, кризису! Мог ли я, автор закона о трехлетней воинской повинности, пойти на то, чтобы вызвать падение правительства национального единства только потому, что я хотел любой ценой договориться с Германией? Общественное мнение сочло бы меня неправым. Общественность враждебно относится к соглашению, она требует энергичных мер, она желает, чтобы Гитлеру дали решительный отпор! Итак, я поступился своим личным мнением ради спасения внутреннего порядка в стране. И я согласился заменить свой проект ноты их проектом!!!
И Луи Барту, столь искушенный во всех политических и парламентских уловках, что его завистники всегда говорят: «Когда Барту некому больше изменить, он изменяет своим настроениям!» – с тех пор отстаивает свои права на авторство этой ноты от 17 апреля с такой горячностью, что в стане его врагов тотчас же заявляют: «Мы хорошо знаем этого Барту! Если он так настаивает на своем авторстве, значит, он тут ни при чем!»
* * *
На следующий день известие о решении Франции воспротивиться перевооружению Германии производит сенсацию во всем мире.
На Кэ д’Орсэ происходит встреча Барту и поверенного в делах Англии Кэмпбелла, которая носит кисло-сладкий характер:
– Я очень хорошо знаю, что эта нота вызовет у английского кабинета глубокое разочарование, – говорит Барту со свойственным ему легким гасконским акцентом, – но когда среди членов правительства насчитывается шесть бывших председателей совета министров, из которых пять были министрами иностранных дел, то такое правительство знает, что оно делает, и можно полагать, что оно выражает единодушное желание французского народа, господин посланник!
Действительно, все те поклонники Бриана и Лиги Наций, которые еще несколько лет назад решительно выступили бы против такой политики, ныне, перед лицом поразительно быстрого перевооружения Германии и распространения нацизма, уже не видят другого пути, по которому должна следовать Франция. Но все отдают себе отчет в том, что эта смелая политика вскоре вынудит Францию вновь укрепить свои уже имеющиеся союзы и искать себе новых союзников.
Алексис Леже, напомнив, что он еще не ответил на последнее предложение, сделанное советским послом Довгалевским, «о военном и политическом союзе, более действенном и более тесном, чем он когда-либо был с царской Россией», говорит Барту:
– Господин министр, поверьте мне: для французской игры более чем когда-либо необходима одна карта – русская.
* * *
В следующее воскресенье, по просьбе Барту, Алексис Леже увозит его в Кошрель, где Барту хочется побродить по усадьбе Бриана, посидеть на его могиле, собраться с мыслями.
– Нужно маневрировать, – говорит Леже. – Нужно повлиять на изменение концепции русских, которая не принимает во внимание ни Лигу Наций, ни наши обязательства по Локарнским соглашениям.
Прежде чем согласиться на заключение франко-русского пакта, следует выдвинуть ряд условий: ограниченность действия пакта рамками Европы: вступление СССР в Лигу Наций; согласие Кремля на то, чтобы Франция ничего не делала иначе, как коллективно, и на то, чтобы франко-русский пакт мог существовать наряду с другими соглашениями, уже подписанными Францией; и, наконец, необходимо согласие русских на то, чтобы этот коллективный пакт оставался открытым для Германии, то есть чтобы он сделался настоящим новым Локарно, соответственно которому Франция будет гарантировать Россию против Германии и равным образом – Германию против России. И таким образом, – заключает Леже, – русские будут приобщены к европейским концепциям.
Эти мысли вызывают у Барту, слушавшего с закрытыми глазами, настоящий энтузиазм:
– Вы блестяще изложили ваши идеи, – замечает он. – Да, первостепенная задача, стоящая передо мной, заключается в том, чтобы привлечь Англию к идее этого Восточного Локарно, ибо, если нам удастся добиться присоединения к нему России, мы еще сможем стабилизировать положение в Европе. Гитлер окажется либо окруженным, либо будет вынужден принять участие в нашей системе коллективной безопасности. Но прежде всего мне необходимо убедить коварный Альбион! А это нелегко будет сделать!
Глава 17. Барту и Польша
Сказать «да», когда это означает «да». – Сравнительное искусство Барту, Бриана, Эррио и Бонкура… осведомлять прессу. – Польша более не нуждается во Франции. – Заведующий протокольным отделом граф Ремер. – Барту покоряет г-жу Бек. – Кабинет в Бельведерском дворце. – У Франции тоже есть сила воли. – Разводы и вторичные браки в Польше. – Мавзолей Ягеллонов.
На следующий день весь мир охвачен возбуждением.
В 3 часа дня Луи Барту произносит речь в парламенте. Он разъясняет свою внешнюю политику.
– В дипломатии существует два способа разрешения проблем, – говорит он. – Один заключается в том, чтобы сказать «нет», когда это означает «нет», но не такое «нет», за которым последует «да»! А другой состоит в том, чтобы сказать «да», когда это означает «да», но не такое «да», которое затем превратится в «нет»! Я утверждаю, что французская политика следует своим постоянным принципам. Мы выступаем за политику разоружения, и мы говорим «нет» политике перевооружения. Ныне Германия идет за Гитлером. Массы настроены фанатически, несмотря на то, что фюрер плохо скрывает свои истинные чувства в отношении их. «Это большое стадо глупых баранов», – говорит он.
После заключения 26 января германо-польского соглашения франко-польские отношения приняли тревожный характер. Полковник Бек проводит решительно прогерманскую политику.
Франция должна попытаться вернуть Польшу в лоно союзников. Поэтому Барту готовится отправиться в Варшаву. Он более решительно, чем когда-либо, намеревается обуздать претензии Германии, поставить рейх на его восточных границах перед лицом системы пактов о взаимопомощи, – системы, благодаря которой будет воздвигнут «общий фронт» против эвентуального агрессора.
По замыслу Барту, Польша, Советская республика, Чехословакия и Франция должны образовать первые звенья этой системы безопасности, которая в целом будет представлять собой восточный пакт, аналогичный западному Локарнскому пакту.
* * *
Двадцать первое апреля, 7 часов вечера. Северный вокзал.
Поезд Париж – Варшава плавно трогается с места.
Обращаясь к молодому начальнику своего кабинета, к своим сотрудникам и нескольким журналистам, Барту говорит:
– Я весьма опасаюсь, что эти господа в Варшаве в сущности предпочитают немцев русским, но тем не менее я намереваюсь откровенно поговорить с маршалом Пилсудским о восточном Локарно!
Во время обеда в вагоне-ресторане Барту блещет ядовитым остроумием. Он скрещивает мечи с директором одной крайне левой газеты, которая ежедневно обвиняет его в том, что ему незнакома демократия!
– Господин директор, быть сыном бедного рабочего, – бросает он через стол своему собеседнику, намекая на свое очень скромное происхождение, – бороться, страдать, побеждать и достигнуть постов, которые в течение стольких лет занимаю я в учреждениях республики и в правительствах, – вот что такое демократия!
Затем Барту принимается объяснять журналистам, сидящим за соседними столиками, все подробности последних дипломатических переговоров. Роша, начальник кабинета Барту, дергает министра за рукав, пытаясь остановить его. Но Барту упрямо продолжает свое.
– По правде сказать, – говорит он, – мой государственный министр Эдуард Эррио может сколько угодно повсюду повторять, что откровенность является наилучшим способом предания тайн публичной огласке. Но за время моего участия в предыдущих семнадцати правительствах я еще не нашел никакого другого способа заставить журналистов хранить секреты французской дипломатии, кроме одного-единственного. Он заключается в том, чтобы открыто рассказать о них журналистам, предупредив их, однако, как я это и делаю сегодня вечером, что, если ими будет допущено какое-либо разглашение того, что я прошу не опубликовывать, я никогда больше не буду иметь с ними дела.
Бесспорен тот факт, что в течение восьми месяцев существования правительства, в состав которого входил Барту, не было отмечено ни одного случая разглашения секретов дипломатии прессой Франции, осведомленной более чем широко, чего совершенно не наблюдалось в то время, когда министром иностранных дел был Бриан.
– У Бриана была совсем иная манера, – заявил Жюль Зауэрвейн из газеты «Матэн». – Когда ему нужно было что-либо скрыть, он рассказывал бесконечные анекдоты на любые темы, кроме той, которая нас интересовала. Накануне свидания в Туари он был неистощим, рассказывая о своих первых шагах в социалистическом движении, о своих распрях с профсоюзами. Мы знали, что он что-то скрывает от нас. Поэтому после Туари мы без зазрения совести разгласили все секретные сведения, какие только могли получить от окружения Штреземана.
– Что касается Эррио, – добавил бывший начальник его кабинета Марсель Рай из газеты «Пти журналь», – то он любит поучать: «Если бы мне нужно было написать сегодня вечером статью, – наставительным топом говорит он журналистам на своей пресс-конференции, – то я изложил бы вопрос о репарациях таким-то образом, а затем вопрос о соглашении с русскими вот так-то, сказав, например, что… и что…» И он добавляет в сторону: «Всегда нужно что-нибудь сказать журналистам. Необходимо, чтобы они ушли с пресс-конференции, получив материал, на основании которого они могли бы писать свои статьи. В противном случае, будучи постоянно лишены возможности возвращаться к себе домой обедать, они направляются в лагерь противника, который пичкает их сведениями, и тогда на следующий день… трах-тарарах!»
Но в этот день, 21 апреля 1934 года, Барту без устали продолжает беседу в вагоне-ресторане поезда Париж – Варшава.
Все смеются. Но когда Роша, начальник кабинета Барту, приносит полученные на имя министра иностранных дел телеграммы о последних событиях, настроение у всех меняется.
Из Рима сообщают, что Муссолини только что создал под председательством генерала Амантеа специальное исследовательское бюро в целях подготовки военных действий Италии в Эфиопии.
В то же время посол Италии в Мадриде Педрацци, по указанию Муссолини, завязывает отношения с главными руководителями карлистов и монархистов, оставшихся на службе в армии молодой Испанской республики.
Посол Германии граф Вельчек также устанавливает в Мадриде тесные контакты между рейхсвером и монархистскими руководителями испанской республиканской армии.
– Эге-ге, все понятно! – говорит Роша. – Дело идет к тому, чтобы в подходящий момент подвести подкоп под республику в Мадриде!
Затем, снова став серьезным, он добавляет в заключение:
– Я долго не забуду двадцать шестое января нынешнего года, день подписания германо-польского соглашения. Я был тогда в Берлине и помню, что, когда я посетил посольство Польши, один из ближайших сотрудников посла, граф Липский, заявил мне буквально следующее: впредь Польша не только не будет более нуждаться во Франции, но она даже сожалеет о том, что была вынуждена заплатить дорогой ценой за ее услуги. А затем Липский еще добавил: «Никогда не будет и речи о каком-либо Восточном Локарно. Мы предупреждаем об этом Москву. Отныне германская экспансия меняет направление и цель. Мы спокойны. Судьба Австрии и Богемии не интересует более Польшу, с тех пор как она не сомневается в намерениях Германии».
– Однако уже поздно, – говорит Барту, – сейчас девять часов, пора спать!
* * *
На другой день, после полудня, прибываем в Варшаву. Идет дождь. Нас высаживают на перроне маленького деревянного вокзала в предместье города.
Бек не потрудился лично встретить министра иностранных дел Франции, отомстив таким образом за подобный же прием, оказанный ему Поль-Бонкуром во время его последнего официального визита в Париж.
Для встречи французской делегации отрядили всего лишь одно польское официальное лицо – графа Ремера, заведующего протокольным отделом.
– Официальный кортеж, – шепчет на ухо Барту один из секретарей французского посла в Польше Жюля Ляроша, – не направится по намеченному маршруту, дабы не дать возможности толпе поляков кричать «Да здравствует Франция!», что они собираются сделать, уже прождав четыре часа под дождем приезда французов.
Тем не менее весть о прибытии Барту распространяется молниеносно. И вот огромная толпа со всех сторон одновременно устремляется к вокзалу, заполняет перроны, а полиция, захваченная врасплох, не может помешать этому.
– Таким образом, это является местью польской оппозиции за ненавистную ей политику Бека – Пилсудского, – говорит Жюль Лярош.
Луи Барту и его сотрудников восторженно приветствуют, их почти несут на руках! С большим трудом они выбираются из толпы, чтобы сесть в машину посольства.
Луи Барту изумлен, растроган, восхищен.
– Политика Пилсудского еще не изменила чувств, питаемых по отношению к нам польской нацией, которая, как кажется, всегда рассматривала нас в качестве своего традиционного союзника, – говорит он.
– Да, но выражение полного ошеломления, которое тотчас же появилось на лице заведующего протокольным отделом, позволяет нам предвидеть реакцию полковника Бека и маршала, – смеясь, отвечает Жюль Лярош.
* * *
И в самом деле, когда Барту спустя некоторое время прибывает во дворец Рачинских, где полковник Бек устраивает в его честь обед, он встречает ледяной прием.
– Франкофильские демонстрации на вокзале – это хороший урок, полученный нашим правительством, и это недопустимо, – успевает еще шепнуть полковник Бек на ухо маршалу в тот момент, когда входит очень оживленный Барту.
Не показывая ни в малейшей степени, что он озабочен натянутыми физиономиями польских официальных лиц, Барту ошеломляет г-жу Бек чрезвычайно остроумными анекдотами. Вечер проходит в обстановке относительного ослабления напряженности.
Барту вызывает восхищение своих хозяев-поляков, выпивая, не поморщившись, поочередно польскую водку и несколько стаканов старого токайского, выдержанного в польских винных погребах.
– In Hungaria natum, in Polonia educatum,[33] – говорит Барту, поднимая свой бокал, как это делают старые поляки.
В тот же день после обеда состоялся большой прием. Князья, графы, герцоги… парадные мундиры, драгоценности… Все это напоминает прошлую эпоху. Очаровательные, чрезвычайно элегантные женщины вызывают восхищение Барту.
– Именно они, мой друг, – с восторгом говорит он французскому послу Лярошу, – на протяжении веков хранили польскую цивилизацию. Как они восхитительны! И они знают французскую литературу лучше, чем я. Именно благодаря им Польша еще существует!
Только и слышно разговоров, что об охоте и необычайных пиршествах в обширных поместьях, не уступающих по своим размерам целым странам! Это совсем иной мир, образ жизни которого кажется настолько же далеким от демократии, насколько Франция далека от гитлеризма!
Но вот приходит время возвращаться в отель «Европейский», где размещаются дипломаты и журналисты… Какой трагический контраст! Какая убогая улица!
Барту остановился в посольстве. Вернувшись туда в тот вечер и проходя через вестибюль, он бросает сопровождающим его польским полицейским: «Завтра в пять часов утра я иду на прогулку!» Последних эти утренние вылазки приводят в такое же отчаяние, как и Роша, молодого начальника кабинета Барту.
На следующий день, в полдень, Барту входит и кабинет маршала Пилсудского в большом Бельведерском дворце, возвышающемся над Вислой. Маршал, вид которого явно свидетельствует о тяжелом заболевании, старается быть настолько неприятным, насколько это возможно.
– Мы восхищены нашими первыми соглашениями с Гитлером, и мы убеждены, что на всем протяжении истории французы никогда не испытывали достаточного уважения к польской нации. Во всяком случае, польское правительство всегда будет отказываться от какого-либо участия в Восточном Локарно, если в нем будет участвовать Россия, – таковы основные мысли, высказанные раздражительным маршалом.
Луи Барту, взгляды которого ни в коей мере не были поколеблены этими высказываниями, отвечает маршалу:
– И тем не менее я буду настойчиво придерживаться политики, которая, как нам это представляется во Франции, является единственной политикой, способной обеспечить всеобщий мир в Европе.
Но маршал спрашивает его:
– Вы полагаете, что сможете придерживаться этой политики, невзирая на явно выраженное враждебное отношение к ней Германии? Нет, нет, поверьте мне, господин министр иностранных дел, вы уступите. А разве я не поступил таким же образом? Ведь именно в этом причина моего соглашения с Германией.
Барту, тон которого становится все более твердым, отвечает:
– Мы не уступим! У Франции тоже есть сила воли!
* * *
На другой день после роскошного приема у г-жи Лярош, которая в то время была в полном расцвете своей красоты, и перед отъездом в Краков у полковника Бека и г-жи Бек состоялся интимный завтрак. Приглашенных было очень немного.
В числе гостей был и генерал Бурхарт, первый муж г-жи Бек, которая разошлась с ним, чтобы выйти замуж за полковника Бека, бывшего товарищем и даже другом Бурхарта.
Барту ничего не знал об этом.
Во время беседы речь заходит о различных ситуациях, создаваемых в результате расторжения брака.
– Можно не достигнуть согласия в семейной жизни, но оставаться друзьями после развода, – говорит г-жа Бек Барту. – Доказательством этого служит то, что за этим самым столом находится мой бывший супруг, которого я не могла выносить как такового, но нежную привязанность к которому я продолжаю сохранять.
Барту принимает это за милую шутку.
После завтрака в комнату входит маленькая дочка г-жи Бек от первого брака. Представив ее Барту, г-жа Бек говорит ребенку:
– А теперь иди поцелуй своего отца!
И девочка, вместо того чтобы подойти к Беку, бросается в объятия генерала.
Барту чрезвычайно озадачен. И это чувство еще более усиливается, когда один из секретарей посла говорит ему на ухо:
– А вы знаете, когда в прошлом году распространилась весть, что полковник Бек, который не был еще тогда министром, собирается разводиться, чтобы затем жениться на супруге генерала, который, в свою очередь, имел намерение вторично вступить в брак, в салонах Варшавы рассказывали следующий маленький анекдот. Один офицер спрашивает у другого: «Где ты будешь проводить рождественские праздники?» Тот отвечает: «У себя дома». – «Много у вас будет народу?» – спрашивает первый, и второй отвечает: «Да, вот, будет моя жена, жених моей жены, моя невеста, муж моей невесты и жена жениха моей жены!»
– Это доказывает, что окружение Пилсудского мало верит в силу общественного осуждения и не особенно с ним считается. Это не так уж плохо! – с серьезным видом заключает Барту, немного раздосадованный тем, что был застигнут врасплох.
* * *
В поезде, на пути в Краков, Барту, которому известно, что Бек поддерживает Гитлера в его намерении «ускорить» развязку австрийской проблемы, нападает на политику аншлюса.
– Я не брал на этот счет никакого обязательства перед Германией, – категорически заявляет полковник Бек. – Я знаю, что меня в этом обвиняют, но это ложь!
Наконец, когда, восхищенный красотами Кракова, Барту входит в склеп замка, перед мавзолеем Ягеллонов он решительно задает полковнику Беку основной интересующий его вопрос:
– Какова будет позиция Польши, если Франция заключит союз с Россией в рамках Лиги Наций?
Пристально смотря вдаль, Бек с безразличным и скучающим видом медленно отвечает, растягивая слова:
– Вы знаете, франко-польский союз больше не интересует Польшу. Ведь в конце концов именно Франция особенно нуждалась в Польше… Что касается России, то я не нахожу достаточно эпитетов, чтобы охарактеризовать ненависть, какую у нас питают по отношению к ней!
* * *
В поезде, направляющемся в Прагу, Барту нисколько не унывает.
– Ну что ж, что касается меня, – восклицает он, – то теперь я убежден, что необходимо создавать Восточное Локарно, имеющее своей опорой Россию, а не тратить время на Польшу. Поляки – люди экстравагантные. По правде говоря, если они действительно переходят на сторону немцев, тем хуже будет для них… Но они никогда не осмелятся пойти на это! Нам предстоит просто-напросто привлечь другие страны к этому пакту, а Польша последует за ними. Что касается русских, то необходимо как можно скорее организовать их вступление в Лигу Наций. Но прежде я отправлюсь навестить наши малые союзные страны – Чехословакию и Румынию, с целью подготовить их к тому, чтобы они рассматривали Россию как опору против Германии.
* * *
В Париже все это производит сенсацию. Дипломатический корпус интересуется вопросом, насколько далеко пойдет обновление французской политики.
На следующий день после своего возвращения в Париж Барту принимает посла Англии, который ему говорит:
– Да, но все это обязывает вашу страну проводить политику постоянной бдительности.
На это Барту отвечает просто:
– Для этого у меня найдется энергия, даю вам слово министра иностранных дел Франции!
Глава 18. Барту – апостол восточного Локарно. Бухарест – Белград
Родной и крестный отец. – Ave imperator, ave imitator.[34] – Две «Марсельезы» в Турну-Северине. – Изумление мэра города Смедерево. – Югославский король Александр и три вида диктаторов. – Француз, который уедет, и Франция, которая остается навечно. – Дольфус на венском вокзале. – Право надеяться.
Двенадцатого июня 1934 года большие стенные часы времен Людовика XV в кабинете Барту на Кэ д’Орсэ бьют 7 часов.
Как и всегда в этот вечерний час, служитель приглашает в кабинет представителей прессы.
Барту стоит позади письменного стола Верженна, заложив большие пальцы обеих рук в проймы жилета.
Он дает виртуозное резюме положения, сложившегося после его возвращения с 79-й сессии Совета Лиги Наций. Он поясняет, каким образом, воспользовавшись предложением о заключении военного и политического пакта о взаимопомощи, которое правительство Сталина сделало в прошлом году французскому правительству, политика, проводимая им, Барту, предусматривает создание с целью гарантии восточных границ Германии пакта о взаимной помощи между СССР, Польшей, Чехословакией, Малой Антантой и Францией – то есть Восточного Локарно.
– И, наконец, господа, – говорит Барту, – я ускорил принятие Советской республики в Лигу Наций, что является необходимым предварительным условием осуществления этого Восточного Локарно. Я вел переговоры с Джоном Саймоном с целью привлечь Англию к участию в международном плане обеспечения европейской безопасности в рамках Лиги Наций, и мне удалось в конце концов добиться признания приоритета этого проекта над различными проблемами разоружения.
И Барту продолжает жонглировать идеями и фактами, заявив в заключение, что он отправится в свою поездку по Балканам удовлетворенный ходом событий.
Утром того же дня лишь его близкие знали, что он был очень раздосадован той шумихой, которую английская пресса подняла вокруг того, чему она дала название «недавняя бестактность французского министра в Женеве».
Рассказывают, что в ходе последних дебатов в Лиге Наций сэр Джон Саймон с ожесточением отстаивал меморандум, в котором как раз рекомендовалось возобновить работу конференции по разоружению еще до возвращения Германии в Женеву и даже до того, как будет достигнуто какое-либо соглашение по этому поводу.
Однако Джон Саймон не был автором этого предложения. Барту, видя, с каким усердием Саймон его отстаивает, и, вспомнив о высказывании Тардье относительно проектов, которые сам Барту иногда защищал, но которые были для него всего лишь тем, что в парламенте называют «чужими детьми», сказал Джону Саймону:
– Вы не родной, а только крестный отец этой идеи! И я поздравляю вас с тем, что вы представляете собой большую ценность в качестве крестного отца, чем родного!
Эта простая фраза произвела потрясающее впечатление. Саймон покраснел от гнева, а члены английской делегации стали мертвенно-бледны.
Пораженный такой реакцией, Барту умолк, и в высокой ассамблее воцарилась гробовая тишина!
Барту не знал, что сэр Саймон глубоко страдал оттого, что у него не могло быть детей, несмотря на то, что в течение ряда лет он прибегал ко всем средствам, какие только может предложить наука в подобном случае. Но все было напрасно… В конце концов Саймон решился принять на себя обязанности крестного отца, продолжая в то же время безутешно горевать из-за невозможности стать настоящим отцом.
Крайне удрученный, Барту сказал тогда: «О, то, что я сделал, хуже, чем ошибка, это бестактность!»
* * *
Несмотря на то, что большинство журналистов уже покинуло пресс-конференцию, Барту демонстративно проявляет свое хорошее настроение… Он только что получил от своего посла в Риме Анри де Жувенеля телеграмму, сообщающую о факте, который вся итальянская пресса оценивает сегодня утром следующим образом: «Встреча дуче и его великого союзника Гитлера в Венеции – историческое событие, которое вскоре изменит облик Европы».
– Но, господин министр, – перебивает его Роша, – не забудьте: двадцать шестого мая Муссолини объявил в Монтечиторио,[35] что все имеющиеся ресурсы Италии будут отныне использованы для подготовки войны с Эфиопией! Именно потому, что он опасается отрицательного отношения к этому своих союзников, он и хотел добиться какой-либо поддержки со стороны Гитлера. Эта встреча была организована палаццо Киджи и Вильгельмштрассе.[36]
Барту не слушал. Он углубился в чтение телеграммы Жувенеля.
Муссолини рассчитывал найти в Гитлере такого главу государства, который был бы готов стать его союзником и подписаться под всеми обязательствами, какие Италия предложила бы ему взять на себя. Угроза войны, исходящая одновременно со стороны Италии и Германии, могла бы тогда, согласно их желанию, парализовать другие державы.
И посол докладывает, что «когда 10 июня в Венеции фюрер, выходя из самолета и приветствуя дуче, воскликнул: «Ave imperator!» – то Муссолини ответил: «Ave imitator!» – что приобретает глубоко иронический смысл, если ваше превосходительство посмотрит на фотографии, сделанные во время их встречи, на которых видно, что дуче, в строгом соответствии с правилами протокола, был одет в парадный мундир верховного главы фашистской армии, а Гитлер прибыл в гражданском платье и в коротеньком старом макинтоше цвета беж».
Первая беседа между двумя диктаторами, говорилось далее в телеграмме посла, выявила одни лишь разногласия: «Что вы думаете о плане совместных действий в будущей войне?» – задал дуче вопрос по существу. – «Мы не готовы», – ответил Гитлер. И Муссолини, которому не удалось добиться отказа Гитлера от его политики в отношении Австрии, вышел после заключительной беседы с фюрером в состоянии крайнего раздражения, уверяя своих сотрудников, что «далее продолжать переговоры бесполезно» и что «желательно, чтобы Гитлер уехал как можно скорее». Со своей стороны, фюрер, казалось, был не более удовлетворен результатами встречи, чем Муссолини.
Обрадованный Барту наконец читает последнюю телеграмму, в которой содержатся выводы посла: «Здесь говорят, что встреча не дала ожидаемых результатов. Гитлер показался Муссолини экзальтированным краснобаем и путаником, недостаточно внимательно прислушивающимся к тем советам, которые желали ему дать. Со своей стороны, фюрер, преисполненный чувством восхищения и уважения к дуче (в котором он признавал своего старшего товарища, творца фашистского режима), все же был оскорблен бесцеремонностью и покровительственным тоном, которые Муссолини позволил себе по отношению к нему».
Барту был в полном восторге.
* * *
Спустя десять дней, 20 июня, состоялся отъезд французского министра иностранных дел в Бухарест и Белград – столицы стран, в первую очередь заинтересованных в Восточном Локарно.
* * *
Двадцать третье июня. 2 часа дня. Турну-Северин, маленькое селение на берегу Дуная, на границе между Румынией и Югославией. Специальный поезд с паровозом, еще украшенным французскими и румынскими флагами, останавливается у перрона, устланного пушистым красным ковром.
Титулеску, в цилиндре, сюртуке и жилете перламутрового цвета, первым выходит из вагона и церемонно приветствует Барту, который, в свою очередь очень взволнованный, горячо благодарит за оказанный ему прием.
Сорок восемь часов, проведенных представителем Франции в Бухаресте, лишний раз доказали, что согласие между двумя странами является столь же полным, как и их общее желание осуществить знаменитое Восточное Локарно сразу же после того, как СССР станет членом Лиги Наций!
Прекрасный румынский ковер красного цвета мягко стелется до самой лестницы пристани на Дунае, где в ожидании Барту стоит большой белый пароход.
И в то время, как Титулеску под звуки «Марсельезы» в последний раз машет своим цилиндром и возвращается к бухарестскому поезду, с югославского судна также раздается «Марсельеза». На палубе заместитель министра иностранных дел Югославии Ян Пурич, славянин с черными глазами, элегантный дипломат в цилиндре, безукоризненно сшитом пиджаке с белой гвоздикой в петлице и в жилете перламутрового цвета, встречает французского министра иностранных дел.
В течение двадцати восьми часов судно медленно плывет по широкому Дунаю. При проходе через Железные ворота судно эскортируют по берегу сербские кавалеристы, производя на полном скаку ружейный салют.
Время от времени Барту просит остановить судно у какого-нибудь селения, жители которого в праздничной одежде столпились на пристани, чтобы увидеть министра иностранных дел Франции.
Девушки в изумительных костюмах, с большими букетами цветов поднимаются на борт судна, чтобы спеть народные песни. Барту восхищен и с восторгом целует их в обе щеки, что явно не в обычае этой страны и, кажется, очень смущает их. Барту очарован. Указывая на самую красивую из девушек, у которой менее тонкая талия, чем у ее подруг, он говорит Пуричу:
– Она очень красива, но, по-моему, она уже беременна!
Судно вновь пускается в путь и снова делает остановки.
Под звуки «Марсельезы», исполняемой на причудливых инструментах, все спускаются по трапу, следуя непосредственно за Барту, который непринужденно направляется к собравшейся толпе народа.
Мэр, предупрежденный заранее, встречает Барту в небольшом здании мэрии, тут же провозглашает его почетным гражданином города и по традиции подносит ему хлеб-соль и вино.
После этой церемонии восхищенный Барту опять возвращается на судно, а немного погодя снова повторяется то же самое.
На следующее утро Барту, как всегда немного рассеянный, произносит перед важной особой – мэром города Смедерево – большую торжественную речь, которую он ранее подготовил для встречи с одним почетным членом румынского муниципалитета, но в конце концов так и не произнес.
Никто этого не замечает, кроме самого мэра, который с трудом подавляет насмешливую улыбку, когда Барту поздравляет в его лице «умный и прекрасный румынский народ».
Спустя несколько часов Барту облачается в свой черный сюртук. Подъезжают к Белграду. Барту собирается вести переговоры с югославским королем Александром о Восточном Локарно, а также о возможностях сближения между Белградом и Римом. Он полагает, что подобное сближение могло бы в случае необходимости стать основой для Средиземноморского Локарно, которое должно стабилизировать положение в районе Средиземного моря.
* * *
Двадцать пятого июня Барту прибывает в королевский дворец на Дединье – розовый дворец в византийском стиле, который величественно возвышается над Дунаем и Савой.
Стройный, элегантный, с выправкой, немного напоминающей военную, король Александр, обладающий острым умом, мистически настроенный человек с большими грустными глазами за маленьким пенсне, при непрерывных вспышках магния фотографов вручает Барту очень редкое издание Расина. Затем, пожимая ему руку, он говорит:
– Существует три вида диктаторов, господин министр: прирожденные диктаторы, как Муссолини, диктаторы поневоле, как, например, Примо де Ривера, и диктаторы в силу привычки – те, кто лишь исполняет долг, к чему их приучили с детства. Этих последних – а я принадлежу к их числу – называют диктаторами только потому, что это модное слово, ибо, когда я распустил югославский парламент на три года, я не совершал диктаторских действий, как считал ваш парламент, я лишь отдавал себе отчет в том, что какая бы то ни было гражданская война в Югославии означала бы конец для моей страны.
И в то время, как фотографы делают свои последние снимки, король, обращаясь к Барту, продолжает:
– Теперь я парламентарный монарх. Народы имеют право сотрудничать с правителями, но в настоящий момент они не могут заменить их, ибо в трудную эпоху, переживаемую нами, закон количества не является достаточным для того, чтобы наделить парламенты той степенью ясновидящего патриотизма и морального авторитета, которые им необходимы.
Несколько минут спустя Барту поднимается на трибуну Скупщины. Многие депутаты одеты в национальные костюмы.
– Я всего лишь француз, который уедет от вас, а вы принимаете меня как Францию, которая остается с вами навечно! – начинает он. Эти слова вызывают всеобщий энтузиазм. Раздаются звуки «Марсельезы».
Вечером состоялся большой обед в офицерском клубе. А затем – возвращение во Францию.
* * *
В поезде Барту с восхищением отзывается о своей поездке. В. Бухаресте, Белграде – повсюду его проект Восточного Локарно был принят исключительно благоприятно. Получая благодаря этому проекту возможность опереться на Россию, три малые страны,[37] которым Франция может оказать лишь косвенную помощь, неожиданно обнаруживают новую силу, чтобы в случае необходимости оказать противодействие Германии, если того потребует развитие событий.
Тут же Барту набрасывает карандашом текст коммюнике для прессы:
«Счастливые путешествия обходятся без затруднений. Таковою была поездка, которую я только что совершил в Румынию и Югославию… Соблюдение договоров представляется всем нам как условие и залог прочного мира… Политика пересмотра договоров не только несправедлива и противоречит желаниям народов, но она чревата опасными последствиями и таит в себе зародыш войны. Выступая против этой политики на торжественном заседании румынского парламента, я изложил принципы традиционной политики Франции. Необходимо иметь определенную политику и придерживаться ее.
Нужно выбрать себе друзей и поддерживать их. Это к тому же является наилучшей гарантией того европейского сотрудничества, которому Франция остается верна.
Ах, если бы Франция захотела подняться выше внутренних междоусобиц, которые раздирают ее! Она играла бы в условиях мира и во имя мира благодетельную роль, которая ей предначертана…»
* * *
На следующий день, в два часа, поезд останавливается у перрона венского вокзала.
Улыбающийся, полный веры в будущее, Барту выходит на перрон, чтобы пожать руку маленькому канцлеру Дольфусу – «Мини-Меттерниху», как называет его Муссолини.
Дольфус и Барту долго разговаривают наедине в дальнем конце перрона.
– Нацистская пропаганда в Австрии добилась огромного успеха, – откровенно сообщает Дольфус Барту. – Эта пропаганда использует наихудшие методы, и на Вену обрушился настоящий террор, сопровождающийся, как обычно, доносами и расправами!
Но вот уже раздается гудок паровоза. Дольфус провожает Барту до его вагона и шепотом сообщает ему дополнительно:
– Я только что решил ускорить свой визит в Рим, который был намечен на пятнадцатое августа, с тем чтобы возможно скорее переговорить с Муссолини и изучить вместе с ним вопрос о средствах, могущих преградить путь этой нацистской кампании. В Венеции, как вам известно, Муссолини не смог добиться от Гитлера заверения в том, что он не заинтересован в делах Австрии, и я весьма обеспокоен этим.
Затем с выражением бесконечной грусти маленький канцлер, который еще верит, что Италия может защитить его от Германии, продолжает:
– На большом официальном обеде, который был дан вечером в день встречи в Венеции, Гитлер сидел рядом со статс-секретарем по иностранным делам Сувичем, уроженцем Триеста. И несмотря на то, что во время обеда Гитлер, не переставая, делал резкие выпады против меня, поверите ли вы, что Сувич, вместо того чтобы защищать меня, совершенно откровенно сказал ему: «В сущности, мы похожи друг на друга: мы оба являемся плохими австрийцами». Я обеспокоен, очень обеспокоен.
Поезд трогается. Барту, не стесняясь, размахивает своим большим носовым платком. Такой вольный способ официального прощания заставляет маленького канцлера улыбаться.
Однако, возвратившись в свой салон-вагон, Барту становится задумчив. Он явно взволнован.
Начальник его кабинета Роша отнюдь не утешает его. Он рассказывает Барту все то, что начальник кабинета Дольфуса только что поведал ему самому:
– Говорят, что Дольфус ежедневно получает на своей квартире и в кабинете на Балль-плац около дюжины писем, в которых ему угрожают смертью. А в течение двух последних недель ему присылают ежедневно более тридцати таких писем. Г-жу Дольфус преследуют самые тяжелые предчувствия, что отразилось на ее здоровье. Она умоляет мужа оставить свой пост, но до сих пор все ее просьбы были тщетны!
Воцаряется молчание. Барту снимает пиджак – он любит работать без пиджака – и через некоторое время заявляет:
– Итак, если мы успеем вовремя осуществить наше Восточное Локарно, мы спасем маленького канцлера, а вместе с ним и Австрию. Я считаю, что имею право надеяться на это!
Глава 19. Вступление СССР в Лигу Наций
Итальянская армия двинется на Мюнхен. – Неистовство Мотта. – Остроумные карикатуры. – II Интернационал принимает III Интернационал. – Громовые тосты и франко-русский союз. – Месть полковника Бека. – «Восточный пакт – этого никогда не будет!» – «Я вижу Францию побежденной».
Проходит несколько дней.
Барту все еще не может выяснить, приобщится ли Англия к Восточному пакту и действительно ли она согласна на вступление СССР в Лигу Наций в декабре этого года.
На Кэ д’Орсэ идут последние переговоры относительно многочисленных проблем, возникающих в связи с представительством русского правительства в женевской организации.
Тридцатое июня. Весь мир чрезвычайно взволнован. Происходит первая бойня, устроенная гитлеровцами в Германии.
В Берлине и других крупных городах Германии Гитлер, ссылаясь на воображаемый заговор, организует убийство генерала Шлейхера и приблизительно 1000–1200 излишне честолюбивых нацистов, а также некоторых известных немецких деятелей, слишком либерально настроенных…
По его приказу в Висзее были задушены ночью в своих кроватях Рем и его самые старые соратники по политической борьбе.
Спустя несколько дней, 3 июля, в 8 часов вечера, Барту и Леже, пришедшие в этот вечер поработать в дом на авеню Марсо, включив радиоприемник, слушают, оцепенев от ужаса, как Адольф Гитлер сиплым голосом объясняет немцам чистку 30 июня:
«…Рем проводил свою личную политику, он хотел организовать мое убийство, и заговор был подготовлен. 1 июля, в 16 часов 20 минут отряды штурмовиков должны были овладеть Берлином и т. д. Я покарал бунтовщиков. Как представитель германского народа, я имею право единолично вершить суд, приговор которого не подлежит обжалованию. Я приказал уничтожить заговорщиков, как это всегда делалось, во все времена. Я отдал приказ расстреливать».
Барту глубоко возмущен.
– Эта кровавая расправа представляет собой разоблачающий факт, – замечает Алексис Леже, – ибо она доказывает нам, что точкой опоры национал-социалистской диктатуры является террор. Отныне в Германии все будут жить в страхе перед этим гестапо, которое не потерпит никакой критики и никакой оппозиции режиму.
Барту перебивает Леже:
– Что касается нас, то нам надо работать, ибо фактором первостепенного значения является вступление России в Лигу Наций, поскольку это есть условие sine qua non[38] осуществления Восточного Локарно. Но, прежде всего, что же думают о нем англичане?
* * *
7 июля в Лондоне, на перроне вокзала Виктория посол Франции Корбэн ожидает прибытия Барту.
У посла озабоченное лицо.
Едва Барту успевает ступить на перрон вокзала, как Корбэн говорит ему:
– Ваше превосходительство, англичане будут считать вас лицом, внушающим некоторое подозрение. Предложение заключить пакт с Россией будет очень плохо принято, но ваш талант, ваш престиж…
Действительно, происходящее на другой день заседание на Даунинг-стрит очень походит на суд инквизиции. Джон Саймон и Макдональд засыпают Барту градом вопросов.
Однако по мере того, как он развивает свою мысль, позиция англичан меняется.
– Но ведь это замечательно! Это невероятно! – восклицает Ванситтарт. – Этот договор явится триумфом политики коллективной безопасности! Это представляет собой даже дипломатическую победу над русскими!
Когда Барту устает, его заменяет Леже. Он в который раз объясняет, что Франция предлагает России свои гарантии против Германии и что равным образом она предлагает такие же гарантии Германии против России. Третьему рейху, следовательно, не остается ничего другого, как присоединиться к пакту.
* * *
После обсуждения Макдональд и Джон Саймон приходят в восхищение. Вместе с французами они составляют текст инструкций, которые должны быть направлены английским послам в Берлине и Варшаве. В тексте указывается:
«Англия с максимальным одобрением относится к новому пакту, известному под названием «Восточное Локарно», и ее дипломаты должны приложить все усилия к тому, чтобы он был хорошо понят в странах, в которых они аккредитованы».
Барту уезжает веселый и радостный.
* * *
Вечером 25 июля я нахожусь в кабинете Барту, когда генеральный секретарь министерства иностранных дел Леже и начальник кабинета министра Роша приносят телеграммы из Вены. Австрийский канцлер только что убит нацистами.
Потрясенный Барту говорит:
– За драматические события, переживаемые Австрией, несут ответственность все страны. Маленький канцлер был символом сопротивления аншлюсу и Германии. В достаточной ли мере мы его поддерживали? Я этого не думаю.
Поток телеграмм увеличивается. Один за другим в кабинет Барту приходят его сотрудники. Барту настолько взволнован, что не может читать вслух. Вместо него это делает Роша.
«В противоположность ранее сообщавшейся версии убийцы Дольфуса, очутившись перед ним, не сразу лишили его жизни, – читает Роша. – Когда четыре человека, ворвавшиеся в кабинет Дольфуса, заперли дверь на ключ, они предложили ему подписать декларацию, в которой он обязывался подать в отставку в целях достижения умиротворения и восстановления согласия и передать свои полномочия фон Ринтелену, доверенному лицу Гитлера. Они хотели также заставить Дольфуса (с тем, чтобы поставить страну в известность об этом новом положении вещей) выступить с прокламацией по радио и выйти на балкон, чтобы отдать войсковым частям, сосредоточенным перед зданием, приказ разойтись. Четверо убийц предупредили канцлера, что они дают ему пять минут на размышление. Когда триста секунд истекли и Дольфус по-прежнему ответил категорическим «нет», три пули сразили его! Убийцы ушли из кабинета, оставив умирающего Дольфуса на диване».
В то время как читали сообщение об этом трагическом событии, в комнату вошел Поль-Бонкур. Как и все, он сражен происшедшим. Нарушая молчание, он замечает, что «Дольфус в некоторой степени стал также жертвой своей собственной игры. Лавируя между организующими интриги различными группами легитимистов, он таким образом порвал свои связи с австрийским народом. Да, когда ликвидируют социалистическую партию в какой-либо стране, последняя легко может стать добычей фашизма!» – делает вывод Бонкур.
Через некоторое время Барту прерывает тягостное молчание:
– Во всяком случае, – говорит он, – если еще осталось что-либо от того, что называют европейской цивилизацией, то убийство как средство международной политики не может быть терпимо.
(Бедный Барту! Он, конечно, не думал, что именно он станет очередной жертвой!)
На Кэ д’Орсэ этот скорбный вечер тянется бесконечно долго. В полночь Барту получает весьма срочную телеграмму: «Муссолини сосредоточивает ряд дивизий на перевале Бреннер».
Посольство Франции в Вене, которое Барту вызывает по телефону, сообщает дополнительные сведения: «Немецкие службы контрразведки только что перехватили итальянское дипломатическое сообщение следующего содержания: “Если деятельность нацистов станет развиваться таким образом, что будет угрожать Австрии, итальянская армия вынуждена будет вступить в ее границы и двинуться на Мюнхен!”»
– Господа, – воспрянув духом, говорит Барту, – на сей раз Австрия спасена, ибо Германия не готова вести войну, будь то даже война с Италией! Но нам не следует закрывать глаза на то, что убийство канцлера – это преднамеренное политическое преступление – совершено с целью нанести Австрии удар, лишающий ее способности сопротивляться гитлеровскому натиску. Мы не должны забывать об этом, господа!
* * *
Женева, 18 сентября 1934 года. Никогда еще с эпохи Аристида Бриана большой зал Ассамблеи не был так переполнен, как на сегодняшнем заседании, во время которого происходит вступление СССР в Лигу Наций.
Этого удалось достигнуть не без труда!
Начиная с 7 сентября, Барту борется в Женеве с невообразимыми трудностями, напоминающими одновременно и сюжет какой-нибудь мелодрамы, и интриги Пале-Рояля.[39]
Неистовство швейцарцев не поддается описанию, с тех пор как 15 сентября, в день открытия 15-й сессии Ассамблеи Лиги Наций, собравшийся на заседание Совет Лиги единогласно, за исключением трех воздержавшихся, принял СССР в Лигу Наций.
Это решение вызывает крайнее раздражение руководителя швейцарской делегации в Лиге Наций Мотта, который восклицает:
– Я потребую изучить возможность проведения референдума по вопросу о выходе Швейцарии из Лиги Наций! И это будет только прелюдией к отказу Швейцарии предоставлять свою территорию для учреждений Лиги Наций.
Вечером 15 сентября Мотта информирует прессу, что в случае, если Швейцария будет вынуждена выйти из Лиги Наций, швейцарское правительство готово возместить из своих собственных средств тридцать миллионов швейцарских франков, затраченных различными странами на строительство знаменитого Дворца наций.
– И тогда Лига Наций и ее делегаты найдут себе приют в каком-либо из больших пустующих дворцов Вены, – заявляет Мотта в заключение.
* * *
Наконец 17 сентября, накануне заседания, на котором русские будут официально приняты в Лигу Наций, Барту должен еще произнести речь с целью обратить в новую веру последних упрямцев.
– Господа, – заявляет он слегка ироническим тоном, – никогда не забывайте высказывания Мирабо, справедливость которого завоевала ему бессмертие: «Якобинцы-министры не всегда бывают министрами якобинцев».
Во всех газетах и журналах появляются многочисленные карикатуры.
На одной из них изображен Зеленый салон в «Отель де Берг», в котором Литвинов в образе старой тучной вдовы сидит на диване. Стоящий перед ним на коленях Барту представляет ему маленькую девочку, символизирующую собой Малую Антанту, в то время как Макдональд через открытую дверь внимательно наблюдает за сидящими на том же самом диване Гитлером и Муссолини, которые усиленно флиртуют друг с другом.
Другая карикатура производит фурор! Она изображает Лигу Наций в виде вертящейся карусели, но вместо деревянных лошадок изображены утки. На переднем плане – Джон Саймон, перевернувшийся на своей утке, за ним верхом на утке следует Муссолини, затем Гитлер и, наконец, Барту, с головы которого слетела шляпа и который кричит Литвинову, стоящему рядом с каруселью: «Иди повеселись с нами!» – «А ты заплатишь за меня?» – спрашивает Литвинов.
* * *
«Литвинов, – пишет в то утро газета «Трибюн де Женев», – первоначально звался Финкельштейном».
И вот однажды во время приема называют имя Финкельштейна. Литвинов не трогается с места. Все, за исключением самого Литвинова, с удивлением оборачиваются.
– Если бы на протяжении четверти века вам довелось быть революционером, которого преследовали все полиции Европы, который денно и нощно находился под угрозой ареста и преследования, вы бы приобрели привычку забывать свое настоящее имя! – говорит Литвинов подошедшему к нему журналисту, который выразил ему свое изумление. – Однажды я был выслан из Англии, но я возвратился туда под другой фамилией. Если бы я попал в ловушку подобного рода, какие полиция мне не раз устраивала, я давно бы умер в тайниках какой-нибудь капиталистической тюрьмы!
* * *
Восемнадцатого сентября 1934 года в зале Ассамблеи, освещаемом ослепительными лучами прожекторов, присутствует самая избранная публика. Но среди нее нет ни одного представителя швейцарского высшего общества.
Около здания стоит многочисленная толпа любопытных. Она приветствует Мотта, когда он входит и выходит.
Освещаемый юпитерами кинооператоров, Литвинов произносит с трибуны большую речь по случаю вступления СССР в Лигу Наций. Объясняя особое устройство Советской республики, он говорит:
«Советский Союз сам по себе есть Лига Наций в лучшем смысле этого слова. Он объединяет 185 народностей… никогда и нигде народности не сосуществовали так мирно в рамках единого государства, не развивались так свободно в культурном отношении, не пользовались такой свободой национальной культуры вообще и языка в частности».
Лицо полковника Бека, который не перестает злиться, становится комичным.
– В конечном счете, – весьма громко замечает он, – это всего лишь II Интернационал, который принимает III Интернационал!
Он делает тем самым намек, что председателем Ассамблеи является швед Сандлер, влиятельный член II Интернационала, которому таким образом приходится принимать в сообщество наций III Интернационал в лице Литвинова.
Во время речи первого русского делегата польская, японская и швейцарская делегации шумно демонстрируют свое отрицательное отношение. Они не выражают никакой готовности сложить оружие.
Литвинов невозмутимо продолжает свою речь. Воцаряется полная тишина, когда он заключает:
«Правительства с чистой совестью и действительно свободные от всяких агрессивных помыслов не могут отказать в замене деклараций более эффективными гарантиями, распространяющимися на них же самих и долженствующими дать и им полное чувство безопасности».
Французская делегация удовлетворена: вступление СССР в Лигу Наций является ее триумфом.
* * *
На следующий день состоялся знаменитый банкет журналистов. Каждый возлагает большие надежды на речи Барту и Литвинова, чтобы уяснить себе сущность событий.
Масса людей. Столы расставлены вплоть до ступенек лестницы; заставлены столами и маленькие комнаты отеля, овальные окна которых выходят в большой Зеленый зал, где происходит банкет. На тарелке у каждого гостя лежит традиционный лист бумаги с отпечатанным на нем меню. На оборотной стороне листа помещены рисунки признанных карикатуристов Лиги Наций Дерсо и Келена, которые сегодня превзошли самих себя. Лигу Наций они превратили в дансинг. Барту с гитарой в руках изображен рядом с председателем Ассамблеи Сандлером, который играет на аккордеоне. Оба исполняют серенаду для мисс Женевы, которой русский генерал признается в любви.
Барту и Литвинов интерпретируют смысл карикатуры каждый по-своему.
Барту выступает первым. Он говорит в несколько шутливом тоне.
– Когда минуту назад я смотрел на это меню, – заявляет он своим негромким, четким голосом, – я увидел девушку, которая уже имела много связей и, как мне кажется, весьма слабо сопротивлялась многочисленным поклонникам, осаждавшим ее. Итак, я увидел, что эта девушка покорена храбрым генералом, который говорит ей, энергично прикладывая руку к своему головному убору, украшенному плюмажем: «Мисс Женева, я желаю тебя, ты будешь моей!»
И далее Барту (не заботясь о том, какое впечатление могут произвести эти слова в чопорном городе Кальвина) продолжает в том же духе:
– В кои-то веки и, может быть, впервые в своей жизни мисс Женева, эта потрепанная старая девственница, оказала сопротивление. И потребовалось вмешательство некоторых политических деятелей из различных стран, чтобы успокоить эту молодящуюся старую деву.
Смех… Раздаются довольно сдержанные аплодисменты! Литвинов поднимается и, в свою очередь, импровизирует, но говорит серьезным тоном, взвешивая каждое слово:
– Франция и Россия будут танцевать вместе, что бы ни случилось и что бы ни думали об этом другие. Они будут танцевать под свою собственную музыку. Они не будут бесконечно кружиться, а закончат свой танец, договорившись относительно каких-либо реальных мер, которые послужат делу мира!
Эти два тоста изрядно портят в этот день настроение некоторым делегатам. В кулуарах Ассамблеи воцаряется грозовая атмосфера.
* * *
В тот самый вечер Барту, настроенный довольно торжественно, что бывает с ним редко, говорит своим сотрудникам в «Отель де Берг»:
– Моя главная задача достигнута. Правительство СССР теперь будет сотрудничать с Европой, и когда король Югославии Александр прибудет в Париж, я буду иметь возможность приступить с ним к обсуждению вопроса о Средиземноморском Локарно.
* * *
В течение еще десятка дней Барту обсуждает в Женеве саарский, польский и австрийский вопросы. Утром 28 сентября, в день отъезда Барту, полковник Бек осуществляет свою месть.
По его указанию начальнику кабинета Барту передают ранним утром ноту следующего содержания:
«Польша заявляет о своей воле связать отныне свою судьбу с судьбой Германии и отвергнуть проект Восточного пакта». Во второй части указанной ноты говорится: «Польское правительство объявляет себя отныне свободным от каких бы то ни было обязательств в отношении Чехословакии и напоминает о своем желании установить общую границу с Венгрией».
Барту стоически переносит взрыв этой польской бомбы. Он размышляет несколько минут, поправляет пенсне и восклицает, захлопывая чемодан:
– Итак, через некоторое время мое правительство, вероятно, поставит перед правительством Варшавы несколько вопросов. Первый вопрос будет касаться того, какое место отводится франко-польскому союзу в этой новой большой политической схеме, осуществление которой, откровенно говоря, должно быть обусловлено прежде всего победой Германии в Сааре, а затем германской победой в Австрии.
* * *
Едва вернувшись на Кэ д’Орсэ, Барту узнает о срочной поездке фон Риббентропа в Париж. Решено, что сначала его примет Леже, а затем Барту посмотрит, стоит ли ему самому встречаться с Риббентропом.
– Я приехал осведомиться о Восточном пакте, – заявляет Риббентроп, входя в кабинет Леже.
Последний начинает излагать содержание этой проблемы, но Риббентроп, тотчас же перебивая его, категорически утверждает:
– Вздор, этого никогда не произойдет!
– Если вы отвергаете Восточный пакт, то это имеет чрезвычайно важное значение – замечает Леже, – ибо все будут думать, что вы твердо решили никогда не присоединяться к различным системам, создаваемым в целях гарантии европейской безопасности!
Громко зевая, скрестив ноги и протянув их до соседнего кресла, Риббентроп, со свойственной дурно воспитанным людям фальшью, старается изображать из себя «английского джентльмена» и с ожесточенной настойчивостью повторяет:
– Восточный пакт – нет, нет, этого никогда не будет… никогда!
* * *
Несмотря на свою обычную живость и язвительную насмешливость, Барту внезапно охвачен мрачными предчувствиями.
За восемь дней до приезда в Париж югославского короля он после завтрака прогуливается с Леже в Булонском лесу. Леже говорит ему о начале предстоящих переговоров с Югославией. Но Барту, участвовавший утром того же дня в заседании Совета министров, на котором каждый, как он выразился, «тянул кто куда», находится под впечатлением неразберихи в министерствах и административных учреждениях. Особенно сильное впечатление оказывает на него смятение в умах, вызванное сближением с Россией и Восточным Локарно.
– Именно вырождение общественной жизни налагает окончательное ограничение на добрую волю людей! – восклицает он. – Нужно было бы создать нечто вроде Директории по примеру Франции тысяча семьсот девяносто четвертого года. Но Директория все же проводила неплохую политику в той хаотической обстановке!
Тщетно пытается Леже снова перевести разговор на тему о международной политике.
– У нас, – продолжает Барту, – общественный порядок, парламент и государственные институты пришли в такой упадок, что, хотя всем известно, что надо сделать, никто не может действовать… В конце концов исход будет фатальным… а война неизбежной! И тот французский политический деятель, который вообразил бы, что он может предотвратить войну, пережил бы жестокое разочарование.
Затем, остановившись и опираясь на руку Леже, он говорит ему:
– Мой бедный Леже, если бы мы до конца высказывали друг другу все наши затаенные мысли, это выглядело бы весьма печально! Я думаю, что наш режим обречен на гибель, а вместе с ним обречена и Франция.
Затем, закрыв глаза рукой, он с чувством невыразимого ужаса говорит тихим голосом:
– Я вижу Францию побежденной!
Глава 20. Марсельская трагедия
Совсем у цели. – Ресторан «Ла Кремайер» на площади Бово. – Предчувствия Александра. – Сорок восемь мобильных гвардейцев. – Средиземноморская Антанта? – «Вы боитесь покушения?» – Павелич и Першич. – В два часа на Бельгийской набережной. – Четыре километра в час вместо двадцати. – Площадь Биржи. – «Где мои очки? Я больше ничего не вижу». – Рыдания Винавера. – Мобильные гвардейцы и избиратели. – «Для глав государств покушения являются профессиональным риском». – Прощальный воинский салют. – Погребальный звон… и последняя дробь барабана.
На Кэ д’Орсэ 1 октября отделы завалены работой.
Весь третий этаж занят подготовкой к переговорам Барту с Александром, которые начнутся на Кэ д’Орсэ 10 октября, после того как 9 октября король Югославии прибудет в Марсель.
На других этажах министерства изучают последствия, которые влечет за собой на международной арене только что достигнутый Францией большой успех в связи со вступлением СССР в Лигу Наций. Наша страна, таким образом, решительно берет на себя обязательства в реализации того самого Восточного Локарно, которое заставит наконец диктаторские режимы уважать мир и стабильность в Европе.
Но успехи, достигнутые Францией, вызвали раздражение бывших побежденных. Адольф Гитлер, провозглашенный несколько недель тому назад «фюрером», уже реорганизует немецкую армию. Рейх расширяет свои секретные соглашения и контакты с Италией и Испанией, где подготовляется гражданская война между монархическими элементами, поддерживаемыми Гитлером и Муссолини, и республиканским правительством, опирающимся на демократические силы Испанской республики.
Тем не менее на Кэ д’Орсэ считают, что 1934 год был знаменательным для Гитлера – убийство Дольфуса, смерть Гинденбурга и чистка 30 июня, освободившая его от компрометирующих или ставших ненужными друзей.
– Действительно, фортуна всегда любит дерзких, – замечает Барту.
На международной арене чувствуется скрытое наступление диктаторских режимов против демократических правительств и, в частности, в течение всех этих последних недель, – против Югославии и особенно против Франции, дипломатическая активность которой, как кажется, еще способна добиться окончательного создания Восточного Локарно, что означало бы решительное обновление французской внешней политики.
* * *
Среда, 6 октября 1934 года.
Ресторан «Ла Кремайер» на площади Бово.
Г-н Андре, занимающий солидную должность инспектора судебной полиции, завтракает с одним из моих друзей, офицером из военного министерства. Когда подали закуски, Андре говорит своему собеседнику:
– Вчера вечером в Сюртэ женераль получена анонимная записка, содержащая предупреждение, что король Югославии не вернется из Франции живым. Поэтому с сегодняшнего утра полицейские обходят меблированные комнаты, показывая фотографии некоторых лиц и расспрашивая о них жильцов. По-видимому, разыскиваемые субъекты находятся в Париже или, скорее, в Марселе, в одной из расположенных в центре города гостиниц.
– Действительно ли это заслуживает серьезного внимания? – задает вопрос офицер.
– По-видимому, да, – отвечает Андре, переходя к антрекоту. – Один из моих коллег, который был в Белграде с официальными лицами, рассказывал, что Александр сам убежден в подобном исходе. И он неоднократно повторял: «У меня слишком много врагов, и неизбежно, что рано или поздно они “накроют” меня». Оказывается, – продолжает Андре, – когда король Александр собирался в Софию незадолго до приезда в Белград Барту, он сказал своим приближенным, находившимся с ним во дворце: «Я думаю, что мне не вернуться в Белград живым». Затем на перроне вокзала в момент отъезда в Болгарию он шепотом отдал распоряжение принцу Павлу: «Если что-либо случится, тебе придется взять на себя заботу о стране».
– Что касается Барту, – добавляет офицер, ставший вдруг особенно внимательным, – то мой коллега, делегат на Женевской конференции по разоружению, утверждает, что с некоторых пор Барту неотвязно преследует мысль о смерти. И это дошло даже до такой степени, что как-то после длинного совещания с русскими Барту сказал своему сотруднику Виталису: «Знаешь ли, милый мой, мои похороны, запомни это хорошенько, должны быть самыми скромными… Обряд в церкви в память о моей жене, которой я это обещал, и всего лишь несколько близких друзей!» А не далее как вчера, – продолжает офицер, – я слышал, как в Бурбонском дворце Пезэ его коллега из комиссии по иностранным делам говорил ему: «Во Франции, пожалуй, нет лучшего друга Югославии, чем я! Я обеспокоен. Я предпочел бы, чтобы король поехал куда угодно, только не в Марсель». – «Так вы тоже пессимист?» – серьезным тоном спросил его Барту. Министерство, – говорит в заключение офицер, приступая к сыру, – предусмотрело посылку сорока восьми мобильных гвардейцев с целью обеспечить безопасность кортежа. Я их убеждаю в необходимости увеличить численность охраны и принять соответствующие меры.
– О, не беспокойтесь, – говорит Андре. – Что касается нас, то югославская полиция прожужжала нам все уши и с утра до вечера призывает нас обеспечить порядок.
* * *
В пятницу 8 октября 1934 года, в 12 часов дня, я вхожу в кабинет Барту. Завтра, в субботу, король Югославии Александр прибудет в Марсель. Барту собирается встречать его. Во второй половине дня оба они должны выехать поездом в Париж.
Барту проявляет обычные признаки хорошего настроения: он ходит по кабинету и все время потирает руки.
В течение нескольких дней он трудится вовсю, готовясь к переговорам с королем. Поскольку основные вопросы переговоров не были точно установлены, Барту вспомнил, что в последние годы жизни Бриана Кэ д’Орсэ предложило Югославии заключить тройственный пакт с Италией и Францией. Этот пакт встретил противодействие Италии, а затем и югославских генералов, которые дали понять Франции, что они не хотят сокращать свои вооруженные силы, поскольку благодаря им Югославия еще могла противостоять Италии.
В ту пору переговоры затянулись. Но около двух лет назад Муссолини демонстративно отказался от этого пакта, «без которого, – убежденно заявил мне Барту, – не может быть настоящего мира на Балканах».
Муссолини, который всегда стремился одолеть югославов, понял в то время, что король Александр является «краеугольным камнем» единства страны и стабильного положения на Балканах, а также большим другом и союзником Франции.
Начиная с завтрашнего дня, Барту будет пытаться вместе с королем Александром изыскать пути для возрождения из пепла этого трехстороннего пакта! Он даже рассчитывает обсудить возможность создания Средиземноморской антанты с участием Югославии, Греции, Италии и Франции.
Итак, Барту договорится с королем Александром относительно основных принципов возможного предложения, которое Белград и Париж могли бы сделать Муссолини и которое Барту изложит во время своего предстоящего официального визита в Рим.
* * *
В ту пятницу, 8 октября, Барту, в восторге от перспектив, которые открывают его переговоры с Александром, с увлечением излагает мне механизм действия будущего франко-югославо-итало-греческого пакта.
– На этот раз я действительно сделаю кое-что для моей страны, – восклицает он. – Этот визит Александра будет иметь важное значение, и он позволит мне поехать затем в Рим, имея уверенность в успехе.
Когда я прощалась с ним, он спросил меня:
– А в сущности, почему бы вам не поехать завтра со мной в Марсель встречать Александра?
И так как я ответила Барту, что в Марселе будут репортеры газеты, а я буду ожидать его в Париже, он сказал мне, смеясь:
– А, ну да, правда, я думаю, что ведь вы боитесь покушения!
– Но почему вы уверены, что покушение будет? – спрашиваю я, прощаясь с Барту.
Пожимая плечами, он рассеянно отвечает:
– По-видимому, обнаружено несколько анархистов, которые все подготовили к покушению в Марселе.
Дверь закрывается. Я видела Луи Барту в последний раз.
* * *
На другой день, 9 октября, в полдень, первые выпуски вечерних газет «Пари-миди» и «Пари-суар» действительно сообщают, что существует план покушения на короля Югославии Александра. Газеты даже поясняют, что, по-видимому, речь идет о каких-то замыслах руководителей хорватских террористов Павелича и Першича. Эти последние, проживая с некоторых пор в Берлине, даже издали там свой дневник. В нем, в частности, они рассказывают о том, что несколько лет назад они подписали соглашение с македонской организацией ВМРО.[40]
Одна из двух упомянутых газет напоминает в связи с этим о нападении в прошлом году на поезд Симплон-экспресс[41] и приписывает организацию его хорватским террористам.
Другая газета публикует некоторые выдержки из этого дневника террористов, из коих явствует, что они научились владеть оружием в лагере в Янкапусте, расположенном в Венгрии у югославской границы, и т. д.
Но в промежутке между двенадцатью и тремя часами пополудни в Париже все так заняты своими личными делами!
* * *
Увы, газеты лишь предвосхитили события.
Ровно в два часа король сходит с корабля на Бельгийскую набережную в старом порту Марселя. Его встречает Барту. Оба они и с ними генерал Жорж садятся в автомобиль, оказавшийся, к великому сожалению, открытым, небронированным и с подножками.
Король – как позднее будут рассказывать официальные лица – бледен, он нервно глотает слюну и смущенно, почти испуганно смотрит на неспокойную толпу, которая встречает его то аплодисментами, то свистом. Толпа сдерживается не сплошным кордоном, а только полицейскими, поставленными через каждые десять метров.
У правой дверцы королевского автомобиля находится один лишь полковник верхом на лошади. Мотоциклистов и кавалеристов, присутствие которых обычно предусмотрено в подобных случаях, на этот раз нет.
Кортеж двигается со скоростью «четырех километров в час вместо полагающихся по правилам для передвижения глав государств двадцати километров», будет позднее констатировано во время судебного расследования.
Под приветственные возгласы кортеж следует по улице Канебьер и достигает площади Биржи. Внезапно позади автомобиля раздается свисток. Проходит еще секунда, и в тот момент, когда королевская машина поравнялась со зданием Биржи, из толпы выскакивает человек. Лошадь полковника встает на дыбы, человек проскальзывает мимо нее и вскакивает на подножку автомобиля. Раздаются выстрелы, и король, обливаясь кровью, падает. Барту ранен в руку, рукав его черного сюртука тотчас же пропитывается кровью. Генерал Жорж ранен в живот.
Полковник убивает преступника, которого толпа тут же топчет ногами. И все эти трагические события происходят при гробовом молчании. В обстановке неописуемого беспорядка Александра в конце концов переносят в префектуру, над которой тотчас же приспускают флаг, возвещающий всем, что король умер. Через длительный промежуток времени (примерно через три четверти часа) прибывает санитарная машина. Она увозит Барту, которому вплоть до его прибытия в больницу никто не остановил кровотечения. Общее смятение было таково, что вследствие этого никогда не удастся полностью установить долю ответственности каждого за происшедшее.
На операционном столе в больнице Барту спрашивает слабым голосом: «Как чувствует себя король? Где он?» – «Он цел и невредим и чувствует себя хорошо», – отвечают присутствующие. Тогда из груди министра иностранных дел вырывается вздох облегчения. Проходит несколько секунд. Пелена смерти заволокла теперь глаза Барту.
«Я больше ничего не вижу, где же мои очки?» – шепчет он. И рука, потянувшаяся к лицу, чтобы найти очки, бессильно падает. Все кончено!
* * *
Новость обрушивается на Париж, подобно удару грома.
На следующий день я пригласила к себе на завтрак известных журналистов и югославских депутатов, прибывших в Париж.
Никогда в жизни мне не доводилось председательствовать на более печальном приеме.
Присутствуют руководитель службы печати в Белграде Винавер, несколько депутатов и директоров агентств, в частности агентства Авала.
Винавер, зажимая рот салфеткой, сдерживает рыдания. Депутат Сокич, поддерживаемый всеми своими коллегами, нападает на Францию, ибо она, по его мнению, несомненно принимала участие в подготовке покушения.
– Нашего короля заманили в ловушку! – повторяет он с яростью. И он зачитывает коммюнике, которое только что составило югославское правительство. Его содержание проникает в самую душу.
«Вчера, 9 октября, в 4 часа дня в Марселе был убит наш король Александр. Он пролил свою кровь во имя будущего мира, ради которого он жил и ради которого он направился в Марсель, где нашел смерть на земле союзника».
Боль, которую причиняет нам всем смерть Барту, делает нас неспособными отвечать югославам что-либо иное, кроме как:
– Но мы тоже потеряли человека, на котором зиждилась вся наша внешняя политика, они его тоже убили!
Это был ужасный завтрак.
* * *
Это убийство свидетельствует о глубокой анархии, которая клокочет во Франции, прикрываемая законными выборами, о той самой анархии, которая приводила в отчаяние Барту за несколько дней до смерти.
– Во время выборов для охраны кандидатов в депутаты имелось больше полицейских, чем их было вчера для охраны короля во время его прибытия, – заявил в Марселе заместитель мэра Сабиани.
И он признал, что в мэрии отказались не только выставить воинский кордон, чтобы изолировать короля от окружавшей его толпы, но даже не согласились предоставить мобильных гвардейцев-велосипедистов, поскольку, учитывая близость выборов, это могло произвести плохое впечатление на избирателей.
* * *
Как только стало известно о смерти короля, Гастон Думерг созывает заседание Совета министров.
Раздается телефонный звонок. Один из журналистов сообщает председателю Совета министров о смерти Барту.
– Не может быть! – восклицает Думерг. Затем он сообщает эту новость прибывающим министрам. Одни хранят молчание, другие плачут. Первым прерывает молчание Эррио.
– Это был великий министр, – говорит он.
– Да, – добавляет Думерг, – он принадлежал к тем людям, величие которых становится особенно заметным только тогда, когда они мертвы!
Потрясенный до глубины души, Сарро с трудом зачитывает коммюнике о событиях в Марселе.
Некоторые министры считают, что трагедия в Марселе непростительна, и заявляют, что она объясняется не каким-либо роковым стечением обстоятельств, а является чудовищным следствием небрежности и ошибок! Они требуют наказания виновных…
Но большинство министров восстает против этого мнения:
– Когда был убит президент Думер, никого не подвергли наказанию. Если вы сегодня сделаете это, в Белграде могут сказать, что на нас лежит известная ответственность.
– Но мы не несем никакой ответственности… Для глав государств покушения являются профессиональным риском… – говорит Тардье, но Думерг решает в качестве арбитра:
– Нет, мы несем ответственность! И поэтому необходимо наказать виновных.
Правительство подает в отставку.
«Преступление, совершенное против дела мира, очевидно». Но правая пресса тотчас же отказывается от попыток расследовать, какое правительство или правительства могло или могли вложить оружие в руки убийцы – этого Калемеля, татуировка которого указывает на его принадлежность к ВМРО.
* * *
Тринадцатого октября состоялись похороны Барту.
На Кэ д’Орсэ происходит торжественная церемония.
На площади Инвалидов организован большой парад войск.
И только народ Парижа, собравшийся плотной массой и хранящий молчание, кажется, понимает все значение происшедшей драмы. Искренне и глубоко скорбят камердинер Гюстав и сотрудники покойного Барту.
Стоящий передо мной на официальной трибуне Пьер Лаваль довольно весело болтает с Франсуа-Понсэ, прибывшим на похороны из Берлина.
Позади меня разговаривают два директора крайне правых газет.
– По существу, – говорит один из них, – Барту был опасным человеком, он довел бы нас до войны…
– Друг мой, вы видели биржевой бюллетень? – спрашивает другой.
– Гёте был совершенно прав: мертвые быстро уходят,[42] – говорит мне Политис, занимавший тогда пост посла Греции в Париже.
После парада войск начинается церемония в церкви Дворца инвалидов. На церемонии присутствует советский поверенный в делах.
– Как, вы в церкви? Советский протокол не запрещает вам это? – спрашивает его один дипломат.
– Да, это так, – грустно улыбаясь, отвечает он, – но я получил специальное разрешение в связи с похоронами Барту… Вы знаете, дорогой коллега, франко-русское соглашение теряет все вместе с ним! Он был реалистом. Он понимал, что без серьезного военного соглашения между Францией и Россией, соглашения, которое заставило бы Гитлера сдерживать свои притязания, мир в Европе невозможен!
И вслед за этим во дворе Дворца инвалидов был дан прощальный воинский салют, раздался похоронный звон и прозвучала последняя дробь барабана.
Глава 21. Пьер Лаваль в кабинете Верженна
Вновь надеть на плечи ранец. – Чистокровная лошадь, конюх и Франция. – Анте Павелич, Геббельс и Нейрат. – Часы. – Полет мухи. – Монахини, двигающиеся беглым шагом. – Рим и Обервилье. – Три коленопреклонения. – Таинственная беседа. – «Миньон» в римской Опере. – Преступление. – Два письма дуче Пьеру Лавалю. – Римские гангстеры. – Заткнуть рот прессе, заткнуть рот парламенту.
Девятое ноября 1934 года. Под Триумфальной аркой, где происходит церемония в память короля Югославии Александра, дует леденящий ветер.
Барабанная дробь. Знамена.
Стоя в первом ряду, против официальных лиц из нового правительства Фландена – Лаваля, маршал Петэн, наклоняясь к новому военному министру генералу Морэну, говорит ему:
– Что касается плебисцита в Сааре, то в этом деле надо действовать прежде всего таким образом, чтобы не создавать новой Эльзас-Лотарингии.
Морэн выражает свое согласие. Впрочем, германский посол во Франции Кестнер каждое утро ходит на Кэ д’Орсэ и ведет там весьма таинственные переговоры с Пьером Лавалем. Содержание их и в дальнейшем будет сохраняться в строжайшем секрете. О них не будет поставлен в известность даже наш представитель в Саарбрюкене Мориз. Во время плебисцита 13 января 1935 года французы не будут бороться с Гитлером за победу. А взамен Германия не потребует нового увеличения своих вооруженных сил.
Из-за отсутствия дара воображения или, скорее, хорошей памяти и способности сохранять воспоминания Петэн, по-видимому, не предвидит неизбежного опьянения, которое охватит весь Саар вечером 13 января, когда Гитлер одержит победу большинством в 90 процентов поданных голосов и когда грандиозные факельные шествия, точно настоящие реки огня, растекутся по городу под звуки национального гимна, исполняемого на дудках и барабанах.
Не перестает дуть леденящий ветер. Церемония заканчивается. Дипломаты, подняв воротники своих пальто, обмениваются мнениями.
Несмотря на только что пережитую Францией трагедию, они считают, что своими поездками Барту наметил надежные пути к восстановлению престижа Франции. Уже сейчас, опираясь на будущий франко-русский пакт, открытый для присоединения Германии и Италии, французские руководители могут положить конец шантажу со стороны диктаторских государств, заявив: «Соглашайтесь на пакт о взаимной помощи, ибо он будет заключен в любом случае – с вами или против вас». И дипломаты добавляют: «Франция все еще находится в выгодном положении».
* * *
Пребывание нового министра Пьера Лаваля в величественном и простом кабинете французских министров иностранных дел приводит в смущение всех дипломатов. Маленький, очень смуглый, почти восточного типа человек с косым взглядом бегающих глаз, Лаваль говорит на жаргоне, представляющем странный контраст с манерой разговаривать всех тех, кто до этих пор руководил внешней политикой Франции из этого большого кабинета Верженна, бывшего министра Людовика XV.
– Видите ли, – заявляет Лаваль представителям прессы, довольно холодно относящимся к нему, – когда вы живете в доме, в котором вам приходится браниться со всеми жильцами понемногу, вы начинаете устанавливать мирные отношения прежде всего с вашими непосредственными соседями, а не с жильцами седьмого этажа! Что касается меня, то я обладаю здравым смыслом, и нам в первую очередь нужно начать урегулирование отношений с Италией и Германией.
Рассуждения Пьера Лаваля сводятся к следующему: «Человек, которому удалось бы обеспечить мир, будет великим человеком века. Итак, если я договорюсь с Берлином и Римом, то мне больше некого будет бояться. Препятствия? Они могут встретиться со стороны малых и крупных союзников на Востоке и на Балканах, а также со стороны умных дипломатов и левых политических деятелей в самой Франции. Ну что ж, я похитрее их, я их проведу!»
Бывший сотрудник Клемансо, Жорж Мандель, который питает к Лавалю сильное недоверие, постоянно говорит о нем:
– Он хочет преуспеть в том, чего не удалось добиться Бриану.
Маленького роста, в черном костюме, с забавным пристежным воротничком, какие носили нотариусы времен Флобера или Бальзака, Жорж Мандель, который согласился принять портфель министра почт, телеграфа и телефона в кабинете Пьера-Этьена Фландена, холодно улыбаясь, дает всем точные ответы.
Никогда не произнося ничего бесполезного, выражая суть дела в нескольких словах, Жорж Мандель обладает изумительной памятью, что позволяет ему высказывать неопровержимые суждения. Он никогда не лезет за словом в карман. Говоря всегда ровным тоном, он имеет привычку повторять своим громким голосом с четкими интонациями:
– Наши государственные деятели воображают, что нужно льстить народу, для того чтобы им управлять. Своим призывом «Будем твердыми» Ницше привел в возбуждение целое поколение. Муссолини объединил вокруг себя Италию, обещая всем трудную жизнь, а повседневный лозунг Шахта и Адольфа Гитлера для германского народа гласит: «Не ждите, что вы будете почивать на ложе из роз». У нас, – продолжает Мандель, – настал час для пессимистов.
Однако Мандель не настоящий пессимист. Он многого ждет от Франции. Он хочет поставить перед ней честолюбивые задачи, которые весьма плохо соответствуют привычке французов к спокойной жизни.
* * *
Однажды вечером, во время тягостных споров, которые тотчас же начались в Женеве относительно последствий марсельского убийства, Титулеску, возмущенный тем, что Лаваль ущемляет интересы малых балканских стран и стран Центральной Европы, не считаясь с тем, какую ценность представляют для Франции союзы с этими государствами, с горечью бросил фразу, которая сразу же облетела все правительственные канцелярии:
– Франции, этой великолепной чистокровной лошади, вместо традиционного прирожденного жокея, на которого она имеет право, дали этого отвратительного конюха – Пьера Лаваля.
Но единственная забота Лаваля состоит в том, чтобы найти оправдания в отношении Италии и Германии.
– Я только что звонил директорам представляемых вами газет, – говорит он журналистам, – чтобы обратить их внимание на опасность войны, угрожающей нам всем в связи с убийством короля Александра террористами, которые, как это кое-кто хочет показать, якобы вдохновлялись Италией. Каковы бы ни были симпатии каждого из нас, мы должны щадить Италию.
Наступает пауза, и Лаваль, испытующе глядя на присутствующих, старается определить, какой эффект произвели его слова. Он явно считает, что они приняты несколько холодно. Передвинув сигарету в угол рта и беспрерывно чистя во время разговора то ногти, то уши, Лаваль, громко смеясь, оборачивается к молодому сотруднику газеты «Энтрансижан» Тувенэну.
– Ну как, дружок, я думаю, вы не желаете вновь надеть ранец на плечи, ради того чтобы защищать честь Югославии? – говорит он таким тоном, как если бы обращался к одному из своих избирателей в Обервилье.
Между тем записки и доклады Франсуа-Понсэ свидетельствуют о наличии связей между руководящими деятелями Германии и группой хорватских агитаторов, проживающих в Берлине на средства немецкого правительства. В этих документах сообщается также о беседе Франсуа-Понсэ с Геббельсом и Нейратом, состоявшейся 24 октября, по вопросу о подстрекателе и организаторе убийства в Марселе, который еще накануне покушения находился в Берлине. (Этим человеком был руководитель усташей Анте Павелич, которого несколько лет спустя Германия сделает главой «Свободной Хорватии».) Наконец, в последнем донесении Понсэ говорится о неловкой позиции Геринга и других немецких руководителей, когда спустя две недели после совершившегося преступления в Берлин для проведения следствия прибыл комиссар французской Сюртэ женераль.
Проходят овеянные печалью заседания. Больно видеть искреннюю скорбь югославских делегатов.
Но теперь Титулеску, Бенеш и особенно югославский делегат Фотич желают получить заверения в отношении переговоров, которые Пьер Лаваль намеревается на этих днях вести в Риме, куда он собирается с официальным визитом к Муссолини.
Разгораются ожесточенные споры.
Однажды после одной из таких дискуссий Фотич показывает Лавалю великолепные часы и говорит ему:
– Эти часы подарил мне Титулеску после подобной же дискуссии, чтобы доказать мне, что он не злопамятен.
Пьер Лаваль, который в течение двух часов бесстрастно выслушивал горькие упреки Титулеску по поводу предстоящей поездки в Рим, отвечает:
– Ну что ж, господин Фотич, в таком случае вы должны были бы подарить мне стенные часы!
– Вы их получите, – перебивает его Титулеску.
– О, я надеюсь! – став весьма любезным, отвечает Лаваль. – Однако я предпочел бы все же карманные часы, ибо тогда я мог бы носить около сердца образ Титулеску!
– Ну что ж, вы получите карманные часы, – отвечает тот. – Но я думаю, что вы предпочли бы иметь Титулеску в своем кармане, а не в своем сердце! Но этого – я хочу вас предупредить заранее, господин министр, – вы никогда не добьетесь!
Спустя сорок восемь часов Лаваль получает самые красивые из всех швейцарских часов, которые ему, впрочем, не придется носить ни в кармане, ни у сердца.
* * *
Придя на Кэ д’Орсэ вечером 31 декабря, за три дня до поездки Пьера Лаваля в Рим, я нахожу министерство в величайшем смятении. Пьер Лаваль сначала заявил:
– Я буду верным продолжателем политики Луи Барту.
Но спустя несколько недель Лаваль начинает готовиться к поездке в Рим с целью, коренным образом противоречащей стремлениям Барту и нашей традиционной политике поддержки малых союзников Франции в Центральной Европе и на Балканах, способных угрожать Германии с тыла. Когда Барту приглашал югославского короля Александра в Париж, он хотел сначала договориться с нашими союзниками, чтобы затем уже обратиться к дуче и начать переговоры о заключении франко-итальянского союза, который явился бы «частью» различных крупных пактов, призванных обеспечить безопасность в Европе. Что же касается Пьера Лаваля, то он решительно хочет прежде всего урегулировать вопрос о франко-итальянском союзе. Малые страны – союзники Франции будут вынуждены после этого принять ту участь, которая выпадет на их долю в результате заключения соглашения между Лавалем и Муссолини.
В течение последних нескольких недель чиновники министерства иностранных дел смогли составить суждение о своем новом шефе.
– Мы не только начинаем проводить новую политику, но и применяем новые методы, – говорят они.
– В Риме дуче наверняка поджидает Лаваля, чтобы выдвинуть вопрос об Эфиопии и Тунисе. Здесь, на Кэ д’Орсэ, мы еще не начали обсуждать эти капитальные проблемы. О чем же думает министр?
– Он думает о своих избирателях в Обервилье, – отвечает один молодой дипломат. – Он прежде всего озабочен тем, чтобы его избиратели получили кинофильм о его путешествии.
– О, дорогой мой, вы преувеличиваете, – говорит его коллега средних лет, – но правда то, что никогда еще не наблюдалось подобного отрицания традиций нашей страны.
В соседнем кабинете, по-видимому, озадачены действиями такого министра иностранных дел:
– Его ум не обладает способностью делать какие-либо политические обобщения. Он доходит до применения в дипломатии жаргона подрядчика, занятого производством общественных работ. «Это берут поштучно», – сказал он мне однажды.
– Да, это именно подрядчик, – добавляет кто-то.
Увы, совершенно очевидно, что Лаваль, конечно, не архитектор!
* * *
Четвертого января в четыре часа дня, когда поезд прибывает на римский вокзал, итальянская полиция предупреждает журналистов, что они должны закрыть окна в своем вагоне и не смотреть. А я опускаю стекло в своем купе и смотрю в окно. Я вижу, как Муссолини, в сюртуке и цилиндре, окруженный несколькими иностранными посланниками, стоит на чем-то вроде эстрады, украшенной зелеными растениями, и протягивает руку Лавалю. Ледяное молчание. Можно услышать, как пролетит муха. То же самое происходит по выходе из вокзала, на улице, где неподвижная и безмолвная толпа спокойно наблюдает, как Муссолини и Лаваль садятся в роскошные автомобили.
* * *
Вечный город сильно изменился со времени установления господства фашизма. Нет больше влюбленных на улицах, нет той грязи и беспорядка, которые в сочетании с доброжелательностью римской толпы и изысканными манерами высшего общества придавали этому городу ни с чем не сравнимое очарование.
Теперь на улицах введено одностороннее движение. И даже на тротуарах. Для того чтобы пройти каких-нибудь двадцать метров вдоль своей гостиницы, мне приходится по приказу итальянской полиции переходить на другую сторону улицы! «По этому тротуару не полагается ходить в ту сторону». И – о ужас! – ежедневно утром и вечером я вижу, как в окружении двигающихся беглым шагом монахинь проходят дети в возрасте от пяти до десяти лет с маленькими деревянными ружьями на плечах.
* * *
Едва прибыв в Рим, Лаваль не отходит от Муссолини и не проявляет никакого интереса к переговорам. Он явно насмехается над своими сотрудниками: «Ах, эти господа дипломаты, им обязательно нужно оправдать свое присутствие!» И обращаясь к журналистам, он ворчливо и насмешливо цедит сквозь зубы:
– Ну, что представляет собой дипломатия? Вы предлагаете что-нибудь, вам предлагают другое. И вы кончаете тем, что договариваетесь. Вот и вся премудрость.
Затем, потирая руки, он в который раз направляется к Муссолини с личным визитом.
* * *
– Мы вынуждены вести переговоры в дьявольской обстановке, – жалуются французские дипломаты, приехавшие с Лавалем в Италию. – Линия министра состоит в том, чтобы создать видимость сохранения традиционной политики, предоставить нам вести переговоры, как нам кажется необходимым, но самому действовать совершенно независимо от нас и без нашего ведома. Отныне политика Лаваля, имеющая сугубо личный характер, и дипломатия Кэ д’Орсэ напоминают собой не что иное, как две параллельные линии. Никакое слияние их невозможно, французская дипломатия абсолютно отлична как по духу своему, так и по букве.
Что касается наиболее близких сотрудников Лаваля, то они ничего не знают не только о его личных действиях, но даже о его истинных намерениях. Это – начало «политики двусмысленностей», которую проводит Лаваль и которую он пытается утвердить на Кэ д’Орсэ в качестве метода дипломатии.
* * *
Время от времени беседы Лаваля и Муссолини приобретают кисло-сладкий характер. 6 января во дворце Киджи при обсуждении вопроса об исправлении границы Ливии Муссолини высказывает неудовольствие сделанной ему уступкой.
– Я не коллекционер пустынь! – возмущенно говорит он. – Генерал Бальбо, который только что пролетел над этими территориями, не смог найти там ни одного сколько-нибудь значительного населенного пункта.
– Но речь и не идет о том, чтобы обнаружить в песках такие города, как Рим и Обервилье! – невозмутимо отвечает Лаваль.
* * *
Вечером Лаваль в сильном возбуждении возвращается в отель «Эксельсиор», где он остановился. Дело в том, что необходимо срочно подготовиться к аудиенции, которую Папа Римский дает министру на следующий день.
Наш посол в Ватикане Шарль Ру пытается вдолбить Пьеру Лавалю самые элементарные понятия о правилах протокола при визите в Ватикан. Деликатная задача!
Лаваль, будучи в отличном настроении, с улыбкой слушает Шарля Ру.
Последний начинает объяснять:
– Вы видите там этого журналиста? Так вот, предположим, что он является Папой и я представляю вас ему. Теперь следите за мной внимательно: вы входите и делаете три коленопреклонения.
– Чего три? – прерывает Лаваль.
– Нужно опуститься на колено – вот таким образом, – спокойно продолжает Шарль Ру.
– Как обращаются к Папе? – спрашивает Лаваль.
– Вы должны называть его «Ваше святейшество», господин министр, но ни в коем случае не «Папский престол», – отвечает наш посол.
* * *
Но по вопросу об Эфиопии в конце переговоров завязывается упорная борьба. Негус (король Эфиопии), который любой ценой хочет избежать вооруженного конфликта, 3 января 1933 года обратился в Лигу Наций с просьбой урегулировать инцидент. Этот факт не может не вызвать беспокойства в правительственных канцеляриях.
Дуче хочет, чтобы Франция взяла на себя обязательство не предпринимать в этой связи каких-либо действий в Лиге Наций. Он желает иметь «свободу рук» в Эфиопии. И он требует, чтобы это было ясно оговорено в тексте франко-итальянских соглашений. Однако дипломаты с Кэ д’Орсэ как раз хотят добиться ясного и четкого заявления, подчеркивающего, что руки у Муссолини именно не свободны.
* * *
После большого званого обеда в посольстве Франции во дворце Фарнезе между Лавалем и Муссолини происходит та знаменитая беседа с глазу на глаз, на описание которой было потрачено столько чернил! Беседа ведется без свидетелей. Муссолини будет затем постоянно утверждать, что Пьер Лаваль предоставил ему «свободу рук» в Эфиопии, Лаваль же всегда будет энергично отрицать это.
Во время приема в присутствии журналистов разыгрывается сцена, которая носит несколько гротескный характер.
Лаваль и Муссолини смотрят друг на друга, как заговорщики. Сначала дуче, призывая в свидетели представителей прессы, перечисляет уступки, сделанные Лавалю по второстепенным вопросам. Последний намеренно «театральным» тоном торжественно заявляет:
– Я смотрю на ваши руки. Это могущественные руки. Я надеюсь, что вы не употребите их для того, чтобы причинить вред Эфиопии!
Муссолини мелодраматически изрекает:
– Эти руки имеют только мирные намерения.
И, обращаясь к журналистам, дуче восклицает:
– Франко-итальянское соглашение будет своего рода «вечно развивающимся творением», благодаря которому дружба обеих стран будет беспрерывно укрепляться!
После этого дуче разрешает народу высказать энтузиазм… или, вернее, он предлагает ему проявить этот энтузиазм. Во время представления оперы «Миньон» в оперном театре весь зал поднимается, чтобы стоя прослушать «Марсельезу». Дуче идет в ложу Пьера Лаваля и горячо пожимает ему руку.
На улицах, особенно поблизости от отеля «Эксельсиор», где остановился Пьер Лаваль и французская делегация, в этот вечер слышны звуки аккордеонов и мелодии флейт, на которых исполняют «Марсельезу» и «Мадлон».
* * *
Что же произошло в действительности между двумя деятелями во время этой беседы, которой суждено было стать знаменитой в дипломатических анналах?
Во всяком случае, эта беседа доставит Лавалю крупные неприятности вскоре по его возвращении в Париж и, в конечном счете, явится причиной его падения. Но важнее всего то, что она нанесет огромный вред Франции.
По возвращении в Париж Лаваль сделает откровенное заявление на заседании Совета министров:
– Господа, и Франция и Эфиопия являются членами Лиги Наций. Но иногда бывают, конечно, весьма неприятные, обстоятельства. А я должен был сделать все необходимое, чтобы достигнуть соглашения с Муссолини.
И, уходя с этого заседания, Лаваль скажет доверительно одному из членов Совета министров:
– Совершенно очевидно, что это преступление, но мы постараемся, чтобы об этом не слишком много было известно!
Со своей стороны, дуче не перестанет публично заявлять, что во время этой беседы Пьер Лаваль предоставил ему полную свободу действий в Эфиопии.
– Да, но только лишь для мирного проникновения… – призна́ется в конце концов Лаваль в момент своего падения.
(В июне 1940 года, когда французское правительство будет эвакуироваться из Парижа и когда все будут заняты тем, чтобы уничтожить или собрать свои бумаги, станет известно, что в досье о визите Лаваля в Рим находятся два письма дуче, адресованные Лавалю. Дуче настоятельно напоминает в них Лавалю о его обещаниях. Обнаружен также и ответ Лаваля Муссолини, который он составил вечером 22 января 1936 года с целью оградить себя от нападок.)
* * *
На обратном пути, в поезде, Лаваль в комическом тоне излагает свои впечатления. Но визит в Ватикан взволновал его. Вспоминая это зрелище неограниченного могущества, эту твердыню традиций и веры, значение которой он не особенно улавливает, однако смутно догадывается о нем, эту организацию, которую не сломили ни время, ни войны, ни смена режимов, он не перестает повторять, в то время как его дочь Жозе угощает чаем в салон-вагоне: «Быть Папой… все же… это значит быть чем-нибудь!»
Он не скрывает своего восхищения фашизмом.
– Я не понимаю, почему во Франции невозможен возврат к корпорациям! – заявляет он некоторым журналистам.
Накануне, по специальному приглашению, журналисты имели честь присутствовать также и на чрезвычайном заседании ассамблеи в палате корпораций Италии.
Тем, кто привык к дебатам в нашем парламенте, где во время дискуссии царит порой даже несколько излишняя свобода, было почти прискорбно видеть, как все эти люди, старые и молодые, высокого и низкого роста, толстые и худые, но одетые в одинаковые черные рубашки, поднимаются как один человек и в один голос произносят приветствие. «Римские гангстеры», – шепотом делятся впечатлениями журналисты, в то время как слова дуче совершенно механически сопровождаются единодушными аплодисментами.
Лаваль, находясь слева от Муссолини, наблюдает за этим итальянцем, который, словно дирижер, указывает, когда надо аплодировать, когда выходить или входить… Наш министр стоит, полный внимания, и сияет от радости. Он надел на свой черный фрак большую ленту ордена Святого Мориса и Лазаря и аплодирует вместе с клакерами.[43] Совершенно очевидно, что все происходящее покоряет его, и он смотрит на нас, чтобы увидеть, оценили ли также и мы превосходный порядок, царящий во время этой церемонии.
– Ах, если бы у нас можно было заткнуть рот прессе и парламенту, как это сделал Муссолини! А? Вот можно было бы тогда наделать дел! – с мечтательным видом произносит Лаваль, сидя у окна своего салон-вагона.
Глава 22. Лаваль в Москве
Реставрация Габсбургов и вокзал в Рейи. – Шушниг в «Лидо». – Унтер ден Линден, возгласы: Hoch!!! Hoch!!![44] – Гитлер на сцене Оперного театра. – «Аромат Борромейских островов». – Франко-русский договор. – Навязчивая идея Пьера Лаваля. – Москва в 1935 году. – Антракт во время представления оперы «Садко». – Мокотовский плац. – Гнев Геринга. – Мнение генерала Морэна.
Проходит несколько дней.
Двадцать восьмое февраля 1935 года. Австрийский канцлер Шушниг прибывает в Париж.
Он торопится скорее провести в жизнь решения, содержащиеся в коммюнике о достигнутых в Риме соглашениях, и начать переговоры с Францией и Англией относительно соглашения о «гарантиях Австрии».
Левая пресса неистовствует.
Прошло всего лишь несколько месяцев с того дня, когда несчастный канцлер Дольфус, подстрекаемый самим Муссолини, приказал безжалостно расстрелять венских забастовщиков.
В газете «Попюлер» Леон Блюм обращается с призывом к народу Парижа: «Чтобы отомстить, при встрече на вокзале нового австрийского канцлера выразите свое возмущение шиканьем и свистом».
Подобного рода призывы в более или менее резких выражениях напечатаны во всех левых газетах.
Для того чтобы избежать инцидентов, могущих иметь международные отклики, Фланден считает необходимым дать строгий приказ своему министру внутренних дел Ренье: «В целях сохранения общественного порядка отменить празднества, торжественные приемы, иллюминации и шумные сборища».
Вот почему, когда я 27 февраля звоню по телефону советнику австрийской миссии Мартину Фуксу, чтобы справиться о часе и месте прибытия канцлера, он отвечает мне:
– Время приезда канцлера никому не известно. Он будет встречен без каких бы то ни было торжественных церемоний на одном из пригородных вокзалов, название которого будет сообщено миссии только за час до прибытия поезда. Префект полиции, – продолжает затем Фукс, – только что предупредил нас, что канцлер не должен появляться завтра на торжественном представлении в Опере. Число представителей прессы, приглашенных на организованный мною для журналистов прием в субботу утром в отеле «Крийон», сокращено со ста пятидесяти трех человек до пятидесяти. Официальные представители французского правительства полны такой решимости сохранить это путешествие в тайне, что мне даже предлагают «отсоветовать» Шушнигу присутствовать на мессе в соборе Нотр-Дам де Виктуар в воскресенье утром. В его распоряжение предоставляется частная церковь архиепископства. И то при условии, что это будет держаться в секрете, дабы избежать демонстраций со стороны католиков.
На другой день утром правая пресса разразилась гневными протестами: «Это скандал! Жалкая встреча канцлера Шушнига на маленьком вокзальчике в Рейи будет больше способствовать падению правительства господина Фландена, чем любое проявление недовольства в парламенте!»
От левых трудно добиться одобрения политики «поддержки Австрии», ибо дело Австрии очень непопулярно. «Антидемократическое, чисто католическое дело», – говорят они.
И действительно, правда то, что Шушниг мечтает о реставрации Габсбургов на австрийском троне. Об этом он будет говорить с Фланденом. К тому же еще противники австрийского дела заявляют, что в Вене уже имеется так много сторонников аншлюса, что видный лидер социалистов Юлиус Дейч сам является его глашатаем. «Так что же – заявляют левые во Франции, – раз сами австрийцы согласны на аншлюс, каких же действий вы хотите от нас?»
В субботу утром я вхожу в отель «Крийон», в угловой салон, окна которого выходят на улицу Буасси д’Англа и на площадь Согласия. Я пришла, чтобы в течение нескольких минут побеседовать с канцлером перед его встречей с представителями прессы. Он принимает меня церемонно, одетый в черный сюртук. Его сходство с Брюнингом поразительно. Та же внешность духовного лица. Он говорит мягким и робким голосом. Насмешливая характеристика Шушнига, которую можно было услышать утром в кулуарах палаты депутатов, полностью соответствует истине: «Он скорее напоминает пастыря, нежели министра!» Позади Шушнига – его министр иностранных дел барон Бергер Вальденег, туго затянутый в черный пиджак, стопроцентный венец.
– У многих во Франции, господин канцлер, – говорю я, – вызывает озабоченность приписываемое вам желание реставрировать власть Габсбургов в Вене. Соответствуют ли действительности их опасения?
Оба австрийца испытывают неловкость. Не предпочитают ли они вместо всякой другой комбинации в вопросе о «гарантиях Австрии» получить от Фландена благословение на заключение пакта между Веной, Будапештом и Римом? Барон незаметно делает знак Шушнигу и выходит из комнаты.
– У нас, конечно, ведется сильная агитация в пользу монархии, – объясняет канцлер, – ибо народ Вены сохраняет к ней привязанность. Народ полагает, что реставрация больше, чем что-либо другое, будет содействовать консолидации политических сил Австрии и ее сопротивлению Германии!
После небольшой паузы я задаю вопрос:
– Но, господин канцлер, если бы наш председатель Совета министров или наш министр иностранных дел потребовали от вас в качестве условия для заключения соглашения, о котором вы ведете переговоры, категорического обещания не восстанавливать монархию, дали бы вы такое обещание?
– В таком случае я заметил бы, что этот вопрос не входит в повестку дня переговоров, – ловко отвечает канцлер, – и что, более того, это вопрос внутренней политики. Я ответил бы также, что в момент, когда в Лиге Наций так много говорят о новой политике «невмешательства», я не могу взять на себя обязательство в принципе отказаться от реставрации. Но я еще раз повторил бы, что этот вопрос не является актуальным.
Из приемной вдруг послышался шум. Входит очень взволнованный Мартин Фукс. Он держит в руках несколько экземпляров газеты «Пари-миди». Канцлер молча смотрит на него и протягивает руку за газетой. Канцлер, который скорее грешит чрезмерной застенчивостью и серьезностью, пожелал накануне вечером посмотреть парижский ночной ресторан и направился со своими друзьями в «Лидо». «Побывав утром на мессе в церкви архиепископства, канцлер Шушниг ночью развлекался в “Лидо”!» – гласит набранный крупным шрифтом заголовок в газете «Пари-миди», сопровождаемый несколькими фотографиями, на которых изображен Шушниг, мирно обедающий со своими друзьями за одним из столиков.
– Это, конечно, не имеет никакого значения, – говорит Шушниг, – но все же весьма некстати. Нацисты сумеют воспользоваться этим, чтобы попытаться дискредитировать меня в глазах венцев!
– О, – весело отвечает Мартин Фукс, – когда господин фон Риббентроп приезжает в Париж, французские газеты пишут о нем точно такие же вещи и даже гораздо худшие! У нас, следовательно, есть средства защиты.
В этот момент секретари открывают обе створки дверей, ведущих в большой квадратный салон, где пятьдесят французских журналистов ожидают Шушнига.
У меня еще остается ровно столько времени, чтобы успеть записать основной вывод из высказанных им мыслей: «Франция и Англия должны срочно принять необходимые меры, для того чтобы защитить Австрию от нацистской угрозы, которая становится очень серьезной».
Начинается пресс-конференция. Неловкие ответы Шушнига на вопросы журналистов подтверждают замечание Эррио: «Шушниг всегда производит впечатление председателя Совета министров, сидящего на откидном стуле».
Шушниг нерешителен? Безусловно. Но вместе с тем он до такой степени настроен против всей политики левых, что, когда Леон Блюм, ставший спустя несколько месяцев председателем Совета министров Франции, попросил его осенью 1936 года приехать в Женеву для обсуждения вопроса о франко-английских военных гарантиях Австрии, канцлер отклонил приглашение, заявив: «Господин Блюм как гарант Австрии и невозможен, и нежелателен».
Во всяком случае, дипломатический корпус в Париже не прощает Фландену того жалкого приема, какой он оказал австрийскому канцлеру.
– Каким образом Кэ д’Орсэ может хвалиться, что оно в состоянии помешать аннексии Австрии, когда оно оказалось неспособным обеспечить даже охрану двух перронов на вокзале и одной площади в центре Парижа! – повторяют с грустным видом, пожимая плечами, послы и посланники.
– Все ли вы видели в Париже, что вам хотелось увидеть, ваше превосходительство? – спрашивает Фланден у австрийского канцлера в момент его отъезда, желая сказать ему что-нибудь любезное.
– О да, но я очень хотел бы увидеть настоящий вокзал! – холодно и иронически отвечает ему Шушниг.
Несколько месяцев спустя, на следующий день после похорон Георга V, командующий хеймвером князь Штаремберг, находясь в Париже проездом, в разговоре с Фланденом деликатно коснется вопроса относительно реставрации Габсбургов: «Мы не подготавливаем реставрации, но мы и не отказываемся от права осуществить ее в один прекрасный день».
По этому поводу, желая опубликовать нечто такое, что могло бы понравиться Фландену, агентство «Гавас» сообщает: «Князь Штаремберг заявил председателю Совета министров Франции, что Австрия не будет добиваться реставрации Габсбургов».
Князь Штаремберг, который как раз в этот вечер обедает с Фланденом, просит последнего внести в сообщение соответствующую поправку. Фланден покорно берет телефонную трубку и диктует требуемое уточнение. Князь уезжает удовлетворенный. Но едва проводив его за дверь, Фланден немедленно звонит в агентство «Гавас»: «Ни в коем случае не вносите поправки, которую я вам только что передал!»
«О, французская дипломатия слишком сложна для нас», – постоянно повторяют австрийские дипломаты.
* * *
Берлин, полдень 16 марта 1935 года, Унтер ден Линден. Всеобщее возбуждение. С возгласами: «Ура! Браво! Hoch! Hoch!» – толпа наперебой расхватывает специальные выпуски газет.
Бросаются в глаза набранные аршинными буквами заголовки: «Отныне смыт позор поражения!», «Самое значительное событие за последние пятнадцать лет!» или еще – «Великий день в истории Германии» и, наконец, – «Первый большой шаг на пути к ликвидации Версаля!».
Толпа становится все плотнее. Она поворачивает на Вильгельмштрассе, останавливается перед зданием имперской канцелярии. На балконе появляется Гитлер. Неистовые овации.
Накануне в 6 часов вечера Гитлер пригласил в имперскую канцелярию французского посла. Рядом с ним находился Нейрат.
– Я хочу вас предупредить, – сказал Гитлер послу своим сиплым, отрывистым голосом, – что я только что обнародовал закон, восстанавливающий всеобщую обязательную воинскую повинность и устанавливающий численность армии в двенадцать армейских корпусов и тридцать шесть дивизий.
– Как представитель страны, подписавшей Версальский договор, – ответил Франсуа-Понсэ, поднимаясь со своего места, – я протестую против вопиющего нарушения этого договора. Я сожалею, что фюрер счел возможным своим решением, которое он не имел права принимать в одностороннем порядке, поставить нас перед свершившимся фактом.
* * *
На Берлин спускается вечер.
Огромная толпа сосредоточилась теперь перед зданием Оперы.
На сцене появляется Гитлер в сопровождении фельдмаршала фон Макензена и генерала Бломберга, представляющих старую и новую армии. С мелодраматическими интонациями в голосе Бломберг пылко превозносит немецкие военные традиции от Вильгельма II до Людендорфа.
Во французском посольстве на Паризер-плац всю ночь горит свет в крайнем слева окне первого этажа. Это кабинет посла.
Склонившись над своим бюваром, Андре Франсуа-Понсэ с озабоченным видом составляет телеграмму: «По моему мнению, державы должны отозвать своих послов из Берлина, ускорить заключение Восточного пакта и создать антигерманское оборонительное сообщество».
На следующий день на Кэ д’Орсэ Лаваль встретил эту телеграмму недовольным ворчанием:
– Слишком радикально! Да, конечно… Державы, конечно, будут реагировать… Но они будут применять правовые нормы, они обратятся к Лиге Наций.
Одиннадцатое апреля. Благоухающая атмосфера итальянских озер. Пьер Лаваль, Фланден, Макдональд, Джон Саймон собираются в Стрезе с целью, как уточняет Пьер-Этьен Фланден, «определить общую франко-англо-итальянскую политику в отношении перевооружающейся Германии».
Муссолини заставляет себя ждать. Поздним утром большой белый гидроплан плавно снижается на фоне ярко-голубого неба и опускается на поверхность озера перед Изола Белла.
Скопилось так много полицейских, что они даже мешают видеть замок, в котором происходит конференция.
Муссолини расположен к сотрудничеству с Францией и Англией в вопросе обеспечения независимости Австрии, которую нужно сохранить как разменную монету в отношениях с Берлином.
Муссолини произносит речь. Его точка зрения остается расплывчатой. Он вяло требует предоставления Австрии права перевооружаться и еще более вяло – права обеспечивать свою территориальную целостность.
В заключение Муссолини говорит:
– Двадцатого мая я снова созову в Риме конференцию и приглашу на нее все государства, являющиеся наследниками Австро-венгерской империи. Мы сообща рассмотрим вопрос о заключении двусторонних соглашений с целью защиты статус-кво в Центральной Европе.
Наступает ночь, поэтическая весенняя ночь на итальянских озерах.
В отеле «Борромейские острова» Пьер Лаваль, Фланден, Джон Саймон и Макдональд не спеша составляют коммюнике. Через настежь открытые окна легкий вечерний ветерок доносит вместе с «ароматом Борромейских островов» непрерывные хвалебные возгласы в честь их хозяина, которые выкрикивает собравшаяся перед отелем толпа, получившая, по-видимому, приказ скандировать: «Дуче… Дуче…»
Муссолини доволен. Ни одна из тех словесных уступок, которые он сделал Фландену и Лавалю, даже обещание применить Локарнский договор против Германии в случае, если она когда-либо вновь оккупирует Рейнскую область, его в действительности ни к чему не обязывает. Он будет действовать так, как ему подскажет его звезда.
А толпа без устали продолжает скандировать: «Дуче… Дуче… Дуче…»
* * *
Пятнадцатое апреля. Совет Лиги Наций собрался в Женеве, чтобы торжественно осудить нарушение Версальского договора.
В Лиге Наций царит атмосфера солидарности, почти единодушия! «Наконец-то, – говорят там, – Лига Наций, после более чем тринадцати лет своей деятельности, оправдает в глазах народов свое назначение, утверждая свой авторитет перед лицом главы государства, осмелившегося разорвать тот самый договор, на основе которого была создана Лига Наций».
Но это не так…
За исключением делегатов двух стран, весьма отдаленных от границ Германии, всеми остальными властно руководит чувство осторожности.
В конечном счете Совет Лиги Наций ограничивается принятием решения о создании комитета по изучению вопроса о санкциях, подлежащих применению в отношении государства, которое в будущем нарушило бы международный договор! Малые союзные государства встречают это решение с горестным изумлением.
* * *
Между тем в Париже с 25 апреля по 2 мая Кэ д’Орсэ и советское посольство бурно обсуждают текст франко-русского договора.
Основной причиной, объясняющей теперь выступления в пользу подписания этого пакта, является боязнь русско-германского сотрудничества. В случае установления такого сотрудничества Германия нашла бы в России сырье, в котором она нуждается. Это облегчило бы осуществление ее экспансионистских планов, а в случае конфликта она располагала бы резервом более чем в сто семьдесят четыре миллиона человек.
Этот пакт – результат совместных усилий Эррио, Поль-Бонкура и Луи Барту – является событием чрезвычайной важности. По мнению всех, – даже его противников, – заключение пакта значительно усиливает позиции Франции. Наконец, экономический, технический и военный потенциал СССР окажется таким образом поставленным на службу организации системы безопасности, которую задумали создать Франция и Англия в рамках Лиги Наций.
Но Пьер Лаваль, полностью признавая значение франко-русского пакта, не хочет, чтобы он помешал ему осуществлять его политику сближения с Германией и Италией.
Что касается французского общественного мнения, то оно остается довольно индифферентным.
Франко-русский пакт, которому суждено впоследствии вызвать столь горячую полемику, в момент его заключения не возбуждает никакого волнения.
Точно так же, как это было перед поездкой в Рим, Пьер Лаваль, который сразу же по завершении франко-русских переговоров должен отправиться в Москву, по видимости явно теряет интерес к бурным дискуссиям, продолжающимся с раннего утра до глубокой ночи между советским послом в Париже Потемкиным и генеральным секретарем Кэ д’Орсэ Алексисом Леже и его помощником Рене Массигли.
– Кремль хочет, чтобы франко-русский союз был независим от Лиги Наций и чтобы его статьи могли применяться без обязательного предварительного обсуждения Советом Лиги Наций, – настаивает Потемкин, относящийся с большим недоверием к французскому правительству.
– Простите, но Кэ д’Орсэ хочет, чтобы договор был зарегистрирован в Лиге Наций и чтобы он не мог дать повода к какой бы то ни было гитлеровской агрессии, – возражают Леже и Массигли.
А в заключение они заявляют, что «превыше всего французское правительство опасается неодобрения со стороны Англии».
* * *
В то время как все дипломаты тщетно изыскивают компромиссное решение в отношении проекта франко-русского пакта, Пьер Лаваль доверительно сообщает своим близким друзьям:
– Благодаря поездке в Москву я сумею договориться с французскими коммунистами, чтобы они прекратили свою кампанию против перевооружения и чтобы они отказались от нападок на меня в Обервилье. Приближаются муниципальные выборы, на которых мне будут противостоять коммунисты.
И затем все тем же доверительным тоном Пьер Лаваль добавляет:
– Не мешает, чтобы по возвращении из Москвы я мог бы сказать здесь, на заседании Совета министров и в парламенте, что я лишил франко-советский пакт его существа и что французская армия не имеет никакой связи с Красной армией!
* * *
Двенадцатое мая 1935 года. Восточный вокзал. 6 часов вечера.
Перрон, на который подан поезд Париж – Москва, осаждается обычными в этих случаях фотокорреспондентами, но также – и особенно энергично – делегациями от избирателей Обервилье.
Они пришли приветствовать Пьера Лаваля, который накануне отъезда парафировал наконец франко-русский пакт.
Кэ д’Орсэ добилось победы. В договоре устанавливается, что в случае нарушения русских и французских границ Совет Лиги Наций решит, должен или не должен вступить в действие франко-русский пакт.
Повсюду шепотом рассказывают, что третьего дня в кулуарах Бурбонского дворца Пьер Лаваль сказал своему другу социалисту Соломону Грумбаху:
– Я подписываю франко-русский пакт для того, чтобы иметь больше преимуществ, когда я буду договариваться с Берлином!
– Доведите до сведения своего правительства, – сказал он в тот же вечер германскому послу, – что я в любое время готов отказаться от столь необходимого франко-советского пакта с тем, чтобы заключить франко-германский договор большого масштаба.
Наконец, вчера утром он приказал Франсуа-Понсэ срочно посетить фюрера и дать ему такие же заверения.
* * *
На следующий день, когда поезд пересекает польско-русскую границу, Пьер Лаваль завтракает в вагоне-ресторане со старым послом Франции в Москве Альфаном. С озабоченным видом он доверительно осведомляется у Альфана:
– Как бы устроить так, чтобы я смог на обратном пути остановиться в Берлине и побеседовать с фюрером?
* * *
Солнечным утром 13 мая официальный поезд прибывает на московский вокзал, весь украшенный трехцветными и красными флагами. Военный оркестр очень долго исполняет «Марсельезу» и очень коротко – «Интернационал».
Со времени поездки Эррио, которая имела место два года назад, столица СССР во многом изменилась. Нет больше очередей перед продовольственными магазинами. По улицам ходят маленькие такси зеленого цвета. В одежде женщин появилась некоторая доля элегантности. Но по-прежнему смакуются мелкие сплетни по поводу особенностей социальной и светской жизни в Москве.
* * *
Французское посольство имеет большое влияние в Москве. Посол Альфан – «злободневный человек». Благодаря франко-русскому пакту Франция занимает в советской столице первостепенное место.
На другой день в посольстве на ужине, сервированном за маленькими столиками, Литвинов, русские генералы, дипломаты и народные комиссары – все сияют и улыбаются.
Лаваль, возвратившийся из Кремля в радостном настроении после своего визита к Сталину, беседует с генералами Ворошиловым и Тухачевским и с дипломатами Уманским и Потемкиным. Все ликуют.
* * *
Накануне отъезда Лаваль, Леже и Альфан приглашены Сталиным на небольшой интимный вечер в Кремле. В одном из сводчатых залов Кремля наши дипломаты встречаются в тот вечер со всеми видными руководителями советского государства.
* * *
На следующий день происходит грандиознейший воздушный парад. В искусном построении советские самолеты выписывают в небе над огромным пространством две гигантские буквы RF (Французская Республика).
* * *
За час до отъезда, в антракте представления оперы «Садко» в Большом театре Москвы, высокопоставленный советский служащий созывает в кулуарах журналистов и сообщает им: «Вот заявление, которое ваш председатель Совета министров Лаваль попросил Сталина включить в заключительное коммюнике о переговорах». «Сталин, – зачитывает он заявление, – высказал полное понимание и одобрение политики государственной обороны, проводимой Францией в целях поддержания своих вооруженных сил на уровне, соответствующем нуждам ее безопасности».
Сенсация!
– Это чудесно! – говорят некоторые.
Другие пребывают в раздумье.
* * *
Поезд Москва – Варшава. Желание Лаваля исполнилось! Предстоят похороны маршала Пилсудского в Варшаве, на которых он собирается присутствовать и которые дадут ему наконец возможность поговорить если не с самим Гитлером, то по крайней мере с его представителем – маршалом Герингом.
На другой день утром на Мокотовском плацу на окраине Варшавы, перед гробом маршала, установленном на орудийном лафете, – нескончаемый военный парад. Сразу же после церемонии Пьер Лаваль завтракает в отеле «Европейский» с приехавшим из Парижа на похороны маршалом Петэном и генеральным секретарем Кэ д’Орсэ Алексисом Леже.
Появляется польский офицер. Он приветствует Лаваля и спрашивает: согласится ли глава французского правительства побеседовать с маршалом Герингом в случае, если последний пожелает с ним встретиться?
– Это превосходный случай, – заявляет Лаваль, удаляясь вместе с Алексисом Леже.
* * *
Вечером, в поезде Варшава – Париж, Лаваль чувствует себя разочарованным. Он рассказывает:
– Геринг начал нескончаемый монолог: «Давайте договоримся друг с другом один на один – Франция и Германия. Будучи едины, наши две страны станут властителями всего мира. Но если вы будете продолжать создавать ваши союзы на Востоке, мы с вами ни о чем не договоримся и Европа устремится к войне». И вот что я ответил, – продолжает Лаваль: «Я, господин маршал, могу вступить в союз с Германией лишь при условии, что те же самые мирные гарантии, которые вы дадите Франции, будут распространены и на наших союзников». Тогда Геринг вскочил вне себя от ярости и, заложив руки за спину и выпятив вперед свой огромный живот, начал ходить по салону, ворча: «Опять эти ваши идеи! В таком случае нечего больше и толковать».
* * *
Незначительные события имеют иногда серьезные последствия. Поражение Лаваля на выборах в Обервилье будет представлено как дело рук коммунистов. И это даст новую пищу для недоверия, которое питал Лаваль по отношению к Москве. Лаваль будет убежден, что Сталин, действуя через III Интернационал, дискредитировал его в глазах коммунистически настроенной массы французов.
В связи с этим Лаваль, чтобы выразить свое недовольство, настаивает, чтобы франко-советский договор был ратифицирован парламентом, хотя согласно французской конституции этого совсем не требуется.
Естественно, что предложение о ратификации в значительной мере задерживает вступление в силу этого договора.
Когда договор передадут в парламент на ратификацию, Лаваль уже более месяца будет не у власти. Его доверенные лица будут голосовать «против», а сам он до последней минуты будет утверждать в кулуарах сената, что и он проголосует против. Но в конце концов он снова пересмотрит свое решение и проголосует за.
Впрочем, с того момента, как было установлено, что действие пакта будет зависеть от решений Лиги Наций, франко-русское сотрудничество потеряло все свое значение. Германия, которая рассматривает теперь этот пакт лишь как «попытку идеологического окружения», уже сделала свой вывод: «Франция остается изолированной. Не желая, чтобы СССР рассчитывал на нее, Франция в силу этого сама будет лишена преимущества рассчитывать на помощь СССР».
А на заседании Совета министров в Париже военный министр генерал Морэн заявит: «Русская армия не представляет для Франции первостепенного интереса».
Глава 23. Счастливый случай
Джентльмен и поверенный в делах Англии. – Старый железный лом и свобода рук. – Кроткий взгляд его глаз. – Молчание Пьера Лаваля. – Прецедент создает закон. – Рукопожатие. – Римляне, Карфаген и Лига Наций. – Смерть негусу! – Имя, которое одинаково читается и с начала, и с конца. – План раздела. – Роковая болтливость. – Крушение франко-русского пакта.
Лондон, 20 августа 1935 года. Даунинг-стрит, 10.
Идет чрезвычайное заседание английского кабинета министров под председательством нового премьер-министра Болдуина и его нового министра иностранных дел Сэмюэла Хора.
Со времени визита Лаваля в Рим 5 марта 1935 года дуче готовит нападение на Эфиопию. Он утверждает, что в Риме и Стрезе он получил от французского правительства свободу рук в отношении своих действий в Африке. За несколько дней перед этим итальянские колониальные войска истребили двести солдат негуса.
Негус обращается в Лигу Наций. «Для того чтобы избежать каких-либо пограничных инцидентов, – уточняет негус, – я приказал моим войскам отойти на тридцать километров в глубь страны».
Возбуждение, царящее в среде английских пацифистов, усиливает враждебное отношение министерства колоний Англии к итальянским планам, направленным на установление контроля дуче над верховьем Голубого Нила.
Сэмюэл Хор и Болдуин принимают решение заставить уважать Устав Лиги Наций, нарушить который угрожает Муссолини.
Сэмюэл Хор разъясняет французскому послу, что Муссолини создает опасный прецедент, так как он бросает вызов международному порядку, установленному с 1919 года.
* * *
Таким образом, Англия поддерживает теперь точку зрения Франции… о необходимости применения Устава Лиги Наций. Наконец-то интересы Англии и интересы Франции совпадают.
В Париже Пьер Лаваль все еще возмущается поведением Англии, которая за его спиной подписала 18 июня морское соглашение с фюрером. Еще утром того же дня он сказал английскому поверенному в делах Кэмпбеллу: «Господин поверенный, я не джентльмен, но я бы никогда не поступил так, как только что поступили вы! И это отнюдь не пустяковое соглашение. Благодаря ему рейх получает право построить флот, тоннаж которого будет составлять 30 процентов тоннажа английского флота!»
Фактически положение во Франции целиком определяется преобладающей ролью проблем внутренней политики.
Левые инстинктивно настроены против фашизма. Это определяет позицию центра и правых. Приближаются выборы в сенат.
Французская печать занимает позицию, благоприятную для Муссолини, несмотря на то, что его завоевательные планы создают непосредственную угрозу нашим позициям в Джибути, который является конечным пунктом железной дороги, идущей из столицы Эфиопии – Аддис-Абебы.
* * *
Англия тотчас же реагирует на провокации дуче, который в своих речах поясняет, что английские вооруженные силы не имеют никаких средств, способных оказать противодействие Италии. «Английский флот – это старый железный лом!» – восклицает дуче.
Чтобы парировать удар, Англии необходима помощь Франции. Наше правительство приперто к стене. Таким образом, именно на долю Лаваля выпадает задача доказать эффективность системы Лиги Наций. В данных обстоятельствах эта организация должна констатировать наличие агрессии и привести в действие статью Устава, требующую проведения мобилизации и применения санкций, включая блокаду и военные санкции. Именно в этом заключается существо французской точки зрения.
Но не взял ли Лаваль на себя каких-либо обязательств в Риме и Стрезе? Действительно ли он обещал Муссолини свободу рук в Эфиопии?
Все это вскоре должно выясниться в Женеве, где с 30 июля непрерывно заседает Совет Лиги Наций. Последний прекращает свои усилия, направленные на то, чтобы отговорить Муссолини от организации похода против негуса, только для того чтобы создать благоприятную обстановку для трехсторонних переговоров в Париже или в Лондоне. Но все переговоры неизменно оканчиваются провалом.
Официально Пьер Лаваль остается верен традиционной политике Франции. Он притворяется даже весьма озабоченным тем, чтобы добиться применения положений Устава вплоть до мельчайших деталей. Но официозно он полон решимости поддержать дуче и ведет дело таким образом, чтобы создать у прессы, представителей которой он принимает каждый вечер в «Отель де Берг», благоприятное отношение к этой своей секретной линии политики. Его намерение состоит в том, чтобы в нужный момент иметь возможность заявить, что он вынужден считаться с мнением, выражаемым прессой, и что, следовательно, он не может противостоять решениям дуче!
* * *
Атмосфера в Париже накаляется. Редактор газеты «Матэн», описывая Муссолини, у которого он получил интервью, впадает в лирический тон:
«На его устах улыбка, и иногда в его глазах появляется столько кротости, что мне становится вполне понятно, почему те, кто хоть раз почувствовали на себе этот взгляд, остаются преданными дуче до самой смерти!»
А правые журналы начинают проводить народный опрос на тему: «Французы, будете ли вы сражаться за негуса?»
«Существует большая опасность, – упорно пишут газеты, – что какая-либо акция со стороны Лиги Наций вновь толкнет Италию в объятия Германии».
Что касается Англии, то она действует, но совершенно в ином направлении.
В течение десяти дней она сконцентрировала в Средиземном море свой флот метрополии.
* * *
Прибыв 3 сентября в Женеву, барон Алоизи, министр иностранных дел Италии, заявляет журналистам:
«Необходимо, чтобы члены Лиги Наций хорошо обдумали и сделали выбор между нашим уходом из организации или уходом Эфиопии».
Затем на заседании Совета Лиги Наций он зачитывает заявление дуче, который отказывается вести переговоры с Эфиопией.
Английские делегаты считают, что уже не время заниматься процедурными вопросами, ибо это дает Муссолини возможность осуществлять «свою войну». Италия должна теперь же отказаться от применения силы при урегулировании конфликта. Совет Лиги Наций легко соглашается с предложением о применении положений Устава в полном объеме.
Пьер Лаваль своего мнения не высказывает.
* * *
Проходит три дня. Пьер Лаваль получает официальное предложение от Соединенного Королевства. Это предложение отражает раздражение, проявляемое английским общественным мнением, которое считает, что ему брошен вызов. «Мы мирная нация, но мы не трусы», – дает крупный заголовок газета «Морнинг пост».
Лаваль продолжает хранить молчание.
В Лиге Наций все взоры обращены на Лаваля, которому представляется случай, поймав Англию на слове, вырвать у нее пресловутое обещание, обязывающее впредь английские войска в случае необходимости автоматически прийти на помощь Франции и ее союзникам.
Проходят долгие часы ожидания, Лаваль по-прежнему нем как рыба. Английское правительство проявляет нетерпение, Лондон официально запрашивает у Кэ д’Орсэ: «В случае, если английский флот метрополии, вступивший в действие от имени Лиги Наций в Средиземном море, подвергнется нападению, может ли он рассчитывать на помощь французского флота?»
Спустя сорок восемь часов Лаваль дает ответ: «Франция не сможет нести ответственность за санкции, предпринятые против Италии, если до их применения они не получат единодушного одобрения Совета Лиги Наций». Эррио не согласен с такой постановкой вопроса и открыто заявляет об этом: «В случае нападения Германии на нашу страну эта позиция обернется против нас. И вы можете в один прекрасный день очень пожалеть о том, что внесли таким образом в механизм оказания взаимной помощи этот элемент “политической консультации”».
* * *
Время идет… Ответственные деятели Лиги Наций, а также чешский, польский, румынский и югославский министры («мои цыплята», как называет их Лаваль) один за другим атакуют французского министра и убеждают его: «Вспомните, что в Англии именно прецедент создает закон» – и, следовательно, совершенно необходимо принять английское предложение.
В тот вечер, 3 сентября, в Женеве сэр Сэмюэл Хор требует срочной встречи с Пьером Лавалем и торжественно заявляет ему:
«Англия рассматривает инцидент между Италией и Эфиопией как испытание способности Лиги Наций к действию. Этот инцидент решит вопрос о том, будет или нет Англия и впредь сохранять веру в эффективность Лиги Наций. Таким образом, английский кабинет должен сейчас решить, учитывая то, что произойдет, имеют или не имеют какую-либо практическую ценность принципы Лиги Наций. Если английским министрам будет доказано, что система Лиги Наций является действенной, английское правительство будет готово в дальнейшем неукоснительно и точно следовать ее законам. Оно будет поступать таким же образом и в случае разного рода осложнений, которые могут возникнуть в Центральной или Восточной Европе».
«Я готов, – утверждает в заключение Сэмюэл Хор, – в любой момент дать эти заверения публично как перед Ассамблеей Лиги Наций, так и перед английским парламентом. Но как будет действовать Франция? Ответьте мне, г-н Лаваль».
Вечером Энтони Иден, бывший в то время молодым человеком и занимавший пост министра по делам Лиги Наций, высказывает некоторым из своих друзей: «Мы озабочены, Сэмюэл Хор и я, у нас создалось такое впечатление, что мы только что поставили Лаваля в чрезвычайно затруднительное положение и даже причинили ему некоторые неприятности!»
На следующий день сэр Сэмюэл Хор в своей торжественной речи перед Ассамблеей излагает, каким образом «Англия рассчитывает привести в исполнение статью 16 Устава Лиги Наций, предприняв в отношении Италии экономическую блокаду и даже нечто большее, если дуче будет упорствовать в осуществлении своих завоевательных планов».
Речь производит огромное впечатление.
Сэмюэл Хор спускается с трибуны.
Эррио, в то время государственный министр и делегат Франции в Лиге Наций, идет ему навстречу, с чувством жмет ему руку и взволнованно говорит: «Вот ответ на речь, которую я произнес здесь в 1921 году, предлагая Протокол о мирном урегулировании международных конфликтов. Этого ответа Франция ждала более десяти лет!»
«В своей сегодняшней речи, – приходит к выводу сэр Сэмюэл Хор, – я даю вам по меньшей мере пятьдесят процентов того, что вы требовали от Англии в Протоколе о мирном урегулировании».
А Лаваль, как и раньше, продолжает молчать.
* * *
Совершенно очевидно, что он в плену обязательств, данных им Муссолини во время переговоров в Риме.
Внезапно Лаваль ставит перед английским правительством следующий вопрос:
«Будет ли готова Англия перенести вместе с Францией последствия возможных немецких репрессалий, например против Чехословакии?»
* * *
Время идет…
В Лиге Наций всеми овладевает чувство тревоги.
«Но мы не понимаем, почему так странно ведет себя ваш министр», – заявляют французским представителям делегаты различных стран.
* * *
В парижской прессе неожиданно поднимается вызывающая удивление кампания в пользу Муссолини и против Англии.
В газете «Гренгуар» Анри Беро помещает свою знаменитую статью, в которой пишет: «Я ненавижу Англию. Я говорю и повторяю еще раз, что коварный Альбион должен быть обращен в рабство».
Организуются многочисленные митинги.
Леон Додэ разражается неистовой статьей: «Эта обагренная кровью, преисполненная ложной суеты и невежества Вавилонская башня, каковой является Лига Наций, должна быть разрушена, подобно тому, как римляне разрушили Карфаген. И, если против Италии начнут войну, я первым подпишу призыв к физическому уничтожению ста сорока левых депутатов».
Истерия охватывает всех поголовно, включая и храброго генерала Кастельно, который заявляет:
«Если будет начата война против Италии, мы, генералы, офицеры и солдаты, откажемся сражаться».
* * *
В Женеве Ассамблея выполняет свой долг. Она официально признает факт нарушения Италией Устава и налагает на государства – члены Лиги Наций обязанность выполнять статью 16, то есть применить в отношении Италии все экономические и политические санкции, включая или исключая войну, в зависимости от позиции дуче.
И тотчас же Иден требует закрытия Суэцкого канала и прекращения поставок нефти.
* * *
Лаваль пытается извернуться. В конце концов он отказывается взять на себя обязательство поддержать Англию в случае, если английский флот потерпит какой-либо ущерб в результате своих действий в Средиземном море. Он отказывает английскому флоту даже в праве пользоваться французскими портами.
* * *
Рим, 2 октября 1935 года.
Радио обращается с призывом к жителям Рима собраться на площади Венеции. Раздается звон колоколов.
На балконе появляется Муссолини. Он приветствует неистовствующую толпу.
– Чернорубашечники революции! Мужчины и женщины всей Италии! Итальянцы, рассеянные по всему миру, находящиеся за морями и за горами, слушайте! В истории нашей родины скоро пробьет торжественный час!
Толпа в экстазе вопит:
– Дуче… Дуче… Дуче!..
– Кому принадлежит Эфиопия? – кричит Муссолини.
– Нам… нам!.. – отвечает толпа.
– Мы проявляли терпеливое отношение к Эфиопии в течение сорока лет!..
– Довольно, смерть негусу! – отвечает толпа.
* * *
На следующий день, 3 октября, итальянские армии вторгаются на территорию Эфиопии. Это война!
* * *
Глубоко возмущенная мировая общественность громко выражает свое мнение: «На этот раз Лига Наций должна действовать. В противном случае вера в нее будет утрачена».
Вечером 10 октября Энтони Иден выглядит усталым. «Я очень опасаюсь, как бы в Англии не утомились от игры, которой предается французская дипломатия. Боюсь, не подготовились ли к отступлению на Даунинг-стрит… не следовало ожидать, что мы будем действовать одни».
В Лондоне, в окружении Болдуина, начинают высказывать предположение, что в ближайшие месяцы для Англии могло бы даже стать опасным, если бы она оказалась вынужденной слишком буквально толковать статью 16 Устава.
На следующий день, утром, сэр Сэмюэл Хор приглашает итальянского посла в Лондоне Гранди.
– Великобритания, – заявляет он ему, – не имеет никакого желания нападать на фашизм. Не в большей степени она испытывает желание прибегнуть к блокаде и тем более – к военным санкциям против Италии. В конечном счете, Англия весьма охотно пошла бы на заключение соглашения с дуче.
* * *
В Женеве сенсация!
Атмосфера в кулуарах Лиги Наций моментально изменяется. «Вы совершенно правы, – говорят английским делегатам, – вы не можете оказывать доверие министру, имя которого одинаково читается и с начала, и с конца: «Лаваль – лаваль!» (Laval – laval!)
Государственный министр Эррио чрезвычайно резко осуждает Лаваля:
«В течение ряда лет мы требовали проведения политики, соответствующей принципам Лиги Наций. Наконец, Англия соглашается с французской точкой зрения, и как раз в этот самый момент Франция изменяет свою позицию!»
* * *
Двадцать третьего октября Сэмюэл Хор произносит речь, в которой весьма сурово отзывается о Франции:
«Англия не забудет того, что если ее флот вынужден был отказаться от всяких действий в Средиземном море, а правительство Болдуина должно было изменить свою позицию в отношении итало-эфиопского конфликта, то это произошло потому, что Франция отказала Великобритании в поддержке, которую она должна была ей предоставить в силу статьи 16 Устава Лига Наций».
И Сэмюэл Хор с горьким упреком говорит в заключение:
«Если когда-либо придется снова столкнуться с подобным кризисом, то нынешний кризис по крайней мере принесет известную пользу, ибо он позволяет распознать, какие государства искренне преданы идее коллективных действий, а какие только заявляют об этом, а в действительности совершенно с ней не считаются».
В свою очередь, и английское общественное мнение обвиняет Францию в том, что она всегда видела в Лиге Наций лишь инструмент, созданный для того, чтобы защищать ее от Германии.
* * *
«На этот раз все кончено, – обмениваясь мнениями, говорят наши униженные и опечаленные делегаты. – Счастливый случай упущен… Англия вернулась к своей политике блестящей изоляции!»
* * *
Но в то время, как вопрос о применении весьма туманных санкций еще будет в течение некоторого периода официально обсуждаться, а Эфиопия будет пылать в огне войны, Совет Лиги Наций, без чьего-либо ведома, уполномочивает Пьера Лаваля и Сэмюэла Хора разработать в Париже и Лондоне «план раздела Эфиопии» – план, который оба министра обязуются, прежде чем он будет принят, передать на рассмотрение Лиги Наций. Этот план состоит в том, чтобы разделить Эфиопию на три части, причем дуче сохранит за собой те территории, на которых находились в то время его армии, то есть почти всю территорию страны.
* * *
В парижских салонах и в Академии рукоплещут Анри Беро, который повсюду заявляет и пишет:
«Лаваль проводит единственно разумную политику. Франция нуждается в союзе с Италией, и ей нет дела до Лиги Наций и Эфиопии».
«Италия не первая страна, нарушившая международные договоры! – заявляет в парламенте депутат от Нейи Кериллис. – Что сказали тем странам, которые нарушили их раньше Италии?»
Заместитель министра иностранных дел Англии Роберт Ванситтарт, упорно трудящийся в Париже над планом раздела Эфиопии, посещая салоны, заявляет: «В Лондоне теперь часто повторяют, что в конце концов… тем хуже для Эфиопии!»
* * *
Шестого декабря Сэмюэл Хор прибывает в Париж. В результате он достиг соглашения с Муссолини и Лавалем относительно плана раздела Эфиопии. Они поставят Лигу Наций перед свершившимся фактом. Но это предварительное соглашение между французами, англичанами и итальянцами должно быть тотчас же парафировано. А потом… тем хуже для негуса… пусть общественность возмущается, пусть протестует печать… пусть партии спорят… пусть Лига Наций неистовствует! Будет слишком поздно, чтобы изменить то, что произошло!
Форин офис опасается какого-либо разглашения содержания этого плана. Дуче предупредил, что если план будет опубликован прежде, чем он будет подписан, то в таком случае он вынужден будет отказаться поставить под ним свою подпись. Дуче обещал своему народу, что в результате этой «цивилизаторской» войны на его долю выпадет неизмеримо больше выгод, чем дает ему уже принятый план раздела Эфиопии.
Кэ д’Орсэ получает от Пьера Лаваля строжайшее указание хранить молчание. Категорически запрещается делать всякие сообщения, высказывать предположения или намеки относительно результатов трехсторонних переговоров. «Иначе – капут!» – разъясняет Лаваль своему заведующему отделом печати Пьеру Комеру.
Но для двух парижских журналистов, одним из которых была я, слишком сильным оказался соблазн опубликовать точные данные об этом разделе Эфиопии. Может быть, еще можно будет in extremis[45] спасти Эфиопию, помешать тому, чтобы дуче смог таким образом одержать победу над Лигой Наций и пятьюдесятью четырьмя государствами, а также тому, чтобы основной принцип Лиги Наций – поддержание территориальной целостности государств-членов – был в результате этого раздела автоматически упразднен.
* * *
Девятого января 1936 года, между 2 и 3 часами утра, Пьер Лаваль узнает, что две крупные парижские газеты – «Эко де Пари» и «Эвр» – полностью публикуют план раздела Эфиопии, показывая таким образом, как Сэмюэл Хор, Лаваль и Муссолини тайно осуществляют свою политику.
В правительственных канцеляриях разражается скандал.
На следующий день, когда будет уже слишком поздно, чтобы изменить достигнутое соглашение, Сэмюэл Хор вынужден будет признать в палате общин, что он вел тайные переговоры, стараясь поставить Лигу Наций перед свершившимся фактом.
И Сэмюэл Хор подает в отставку.
* * *
Двадцать седьмого января в Париже, во время одного из самых бурных и драматичных в истории Третьей республики заседаний парламента, разъяренные депутаты требуют у Лаваля отчета.
Поль Рейно, перечислив неблаговидные предлоги, которые в один прекрасный день смог бы использовать Гитлер для оправдания своей агрессии против Австрии, Чехословакии и Польши, восклицает: «Вот почему необходимо признать принцип, по поводу которого не могут возникнуть какие бы то ни было споры: “Остановить агрессора, кто бы он ни был и какова бы ни была его жертва”».
Палата депутатов содрогается. Она чувствует, что перед ней встает подлинно угрожающая проблема – проблема гитлеровской Германии, подстерегающей свою добычу!
Лаваль не способен противостоять таким настроениям в палате депутатов. И тем не менее для согласия Пьера Лаваля уйти от власти потребовалось, чтобы государственный министр Эррио подал в отставку и увлек за собой всех министров-радикалов…
Перед тем как вручить заявление о своей отставке президенту, Лаваль собирает представителей печати.
«Господа, – с улыбкой заявляет он, – я исполнил свой долг. Я оставляю Францию целой и невредимой. Французы сейчас менее разъединены, чем это было до моего прихода к власти. Поверьте, господа, что и в области внешней политики я трудился на благо Франции».
В вестибюле журналисты, громко разговаривая, надевают свои пальто. Одни одобряют Лаваля, другие возмущаются: «Но ведь трудно даже представить, какое глубокое недоверие посеял он между Францией и Англией… Он содействовал созданию фашистских лиг, и мы теперь никогда не сумеем от них избавиться… Ему удалось оторвать некоторые левые партии от традиционной французской политики, увлекая их миражем соглашения с диктаторами… Он преждевременно уничтожил франко-русский пакт…»
Мимо проходит серьезный и молчаливый Поль Бонкур.
Послушав некоторое время, он удаляется со словами: «Во всяком случае, Пьер Лаваль нанес решающий удар по системе коллективной безопасности! Это конец Лиги Наций и начало предоставления агрессору свободы действий. Господа, теперь у Гитлера руки свободны!»
Глава 24. Рейнская область
Донесения Франсуа-Понсэ. – Обед у Болдуина. – «Самый блистательный успех за всю мою карьеру». – Прием в советском посольстве. – «Что это – мобилизация?» – Ничего без Англии. – В парижском Коричневом доме. – Страсбург и немецкие пушки. – «Да, но не в Женеве». – Обойдемся и без палки, и без браунинга. У Альбера Сарро на авеню Виктор Гюго. – Унижение и существующий порядок в международных отношениях.
Двадцать пятое января 1936 года. Лондон в трауре.
Умер король Георг V. И делегации со всего мира присутствуют на его похоронах, где Франция представлена новым председателем Совета министров Альбером Сарро и его министром иностранных дел Пьер-Этьеном Фланденом, сменившим Пьера Лаваля.
Международное положение неустойчиво.
Среди союзников только и разговоров что о постоянных предупреждениях, которые Андре Франсуа-Понсэ посылает на Кэ д’Орсэ с целью напоминать, что Гитлер замышляет реоккупацию Рейнской области. Одни обсуждают его донесения, посланные в ноябре, другие говорят о донесениях от 31 декабря, в которых он снова настойчиво повторяет, что в этот последний день года, делая логический вывод из событий, нетрудно предвидеть, что усилия дипломатии рейха будут демонстративно направлены на освобождение Германии от зависимости, которую она считает слишком тяжелой. Ссылаясь на необходимость обеспечить свою национальную безопасность, рейх будет пытаться разместить гарнизоны и построить укрепления на восточной границе и в Рейнской области.
* * *
В Париже, в то время как парламент приступает к обсуждению вопроса о ратификации франко-советского пакта, генеральный штаб направляет на Кэ д’Орсэ очередную записку, которой предупреждает, что, если парламент проголосует за ратификацию пакта, Гитлер использует это обстоятельство в целях военной оккупации Рейнской области.
Ни для кого больше не является секретом тот факт, что германский генеральный штаб ведет подготовительные работы по реоккупации Рейнской области и что Гитлер имеет общий план германской экспансии в Европе.
За несколько часов до ратификации франко-советского пакта Вильгельмштрассе направляет на Кэ д’Орсэ ноту с последним предупреждением: «Рейх будет рассматривать ратификацию франко-советского пакта как нарушение Локарнских соглашений».
Наш посол в Берлине снова и снова повторяет свои предупреждения. Тем не менее Париж и Лондон продолжают считать, что по вопросу о независимости Австрии между Берлином и Римом действительно существуют противоречия. Но дуче готов благоприятно отнестись к заключению соглашения об австро-германском сближении; это соглашение будет подписано 11 июля 1936 года.
Наконец, война, которая бушует в Эфиопии, и особенно вызванные ею финансовые и экономические санкции по отношению к итальянскому правительству быстро скрепляют союз Рим – Берлин, о создании которого мир услышит в конце года.
На следующий день после похорон короля Георга V, 26 января 1936 года, Болдуин дает интимный обед на Даунинг-стрит.
«Наш посол в Берлине, – обращается к Энтони Идену французский министр иностранных дел Пьер-Этьен Фланден, – не строит никаких иллюзий относительно приготовлений германского генерального штаба к реоккупации Рейнской области. Какова будет позиция английского правительства в связи с этим нарушением со стороны рейха Локарнского пакта?»
Наступает длительное молчание. Болдуин покашливает.
– А что намерено предпринять само французское правительство? – спрашивает Иден.
– До тех пор, пока у нас не будет определенного мнения на этот счет, мы не сможем с пользой для дела обсуждать позицию Англии!
* * *
В Париже, после восьми дней ожесточенных дискуссий между Советом министров и высшим военным комитетом, Пьер-Этьен Фланден, вернувшись из Женевы, сообщает своему английскому коллеге: «Я уполномочен заявить вашему правительству, что, если Германия начнет осуществлять свои намерения, Франция будет готова действовать».
* * *
Как только Вильгельмштрассе получило секретным путем сведения о доверительных франко-английских беседах, Адольф Гитлер решил ускорить ход событий. Он сообщает об этом Болдуину через своего посла в Лондоне фон Гёша.
И, конечно, не без участия последнего 21 февраля в печати было опубликовано любопытное сообщение из Лондона, в котором говорилось о настроениях в английских официальных кругах: «В этих кругах полагают, что никакая внешнеполитическая акция не будет в состоянии помешать немцам реоккупировать Рейнскую зону. В случае реоккупации Рейнской зоны вся Англия единодушно будет стремиться преуменьшить значимость этого события».
«Англия платит Франции долг той же итальянской монетой», – между прочим говорят в Лиге Наций.
Во всяком случае, 25 февраля германский посол в Лондоне фон Гёш заявляет австрийскому посланнику, которого он пригласил к себе на завтрак:
– Теперь я обрел уверенность в том, что английское правительство не будет действовать, если германские войска вступят в Рейнскую область. А это для Германии равноценно молчаливому согласию на ремилитаризацию Рейнской зоны. Таким образом, я добился самого блистательного успеха за всю мою карьеру!
* * *
Уже на следующий день на Олимпийских играх в Гармише, в Баварии, Гитлер предупреждает генерала Бломберга о своем намерении оккупировать Рейнскую область без предварительного предупреждения и переговоров.
Спустя несколько дней в Берлине он излагает свой план высшим офицерам Большого генерального штаба. Генерал Фрич выдвигает возражения:
– Генеральный штаб не возьмет на себя с легким сердцем ответственность за такую опасную операцию. Немецкая армия находится в состоянии полной реорганизации, и она не готова к войне. Она может потерпеть поражение от одной только французской армии. Можно опасаться, что Франция, пограничные армейские корпуса которой находятся на германской территории, немедленно предпримет ответные действия, еще до того как авангарды германских войск достигнут Кёльна.
– Я сожалею, что мне приходится говорить вам это, – отвечает Гитлер, – но ваши сведения получены из недостоверного источника. Если вам сказали, что французская армия начнет боевые действия, то вас ввели в заблуждение. Я-то знаю, что Франция абсолютно ничего не предпримет и что мы сможем действовать в совершенно спокойной обстановке. Нет даже необходимости выдавать вашим солдатам боеприпасы, так как им не придется сделать ни одного выстрела.
– А если Франция все-таки окажет сопротивление? – спрашивает по-прежнему недостаточно убежденный Фрич.
– Если Франция предпримет ответные действия в тот вечер, когда мы войдем в Рейнскую область, я покончу с собой, и вы сможете отдать приказ об отступлении, – говорит выведенный из себя Гитлер.
Но доктор Шахт, в свою очередь, замечает:
– Я опасаюсь репрессивных мер экономического и финансового порядка. Германия не в состоянии их выдержать, и у меня складывается неблагоприятное мнение относительно изложенного нам плана.
Гитлер еще колеблется.
* * *
Берлин, 6 марта, 4 часа 30 минут. Большой прием для военных представителей в советском посольстве на Унтер-ден-Линден. Показывают фильм о маневрах русской армии на Украине.
Генералы из германского генерального штаба приняли приглашение. На приеме присутствуют все военные атташе иностранных держав. Присутствует и испанский военный атташе майор Бейгбедер вместе с генералом Санхурхо, который ведет переговоры с Германией об условиях переворота в Испании и закупает оружие в кредит.
В 5 часов 15 минут немецкие генералы сообщают, что они задерживаются в связи с важным совещанием у канцлера.
В 6 часов в буфете бельгийский военный атташе генерал Шмидт отводит в сторону своего друга из французского посольства и говорит ему:
– В настоящий момент принимается решение о реоккупации демилитаризованной зоны. Скажите об этом вашему военному атташе и приходите поделиться со мной вашими впечатлениями.
Французский военный атташе относится к этому недоверчиво:
– Вы шутите! Мы еще не дожили до этого!
* * *
Через два часа, в 8 часов 30 минут, агентство «Гавас» сообщает, что иностранные послы, аккредитованные в Берлине, приглашены на завтрак на Вильгельмштрассе для вручения им сообщения по поводу Локарнских соглашений.
Тем не менее в ночь с 5 на 6 марта Гитлер все еще продолжает колебаться.
Наконец на заре 7 марта он восклицает:
– Франция находится в самом разгаре предвыборной кампании, разобщенная и раздираемая борьбой партий. Франция будет протестовать, но без Англии она не решится действовать. Итак, вперед!
И Гитлер решился.
* * *
Двумя часами позже германские войска вступают в Рейнскую область. Суматоха, беспорядок, роты не знают, где находятся их батальоны, батальоны не знают, где их полки. Расквартирование войск не подготовлено. Пехоте не выдано ни одного патрона, а артиллерии – ни одного снаряда! Самолеты вооружены пулеметами, но не имеют на борту никаких боеприпасов.
Испытывая все же некоторую боязнь, фюрер приказывает, чтобы войска не занимали казарм. Они должны расположиться в окрестностях городов и будут там оставаться на случай возможных осложнений.
И стремясь опередить международные отклики, с целью облегчить Англии ее позицию «выжидания в надежде на будущее», Гитлер спешит объявить: «Вооруженные силы в Рейнской области не будут увеличены в течение очень длительного периода времени».
* * *
В Париже с 9 часов утра в помещении министерства внутренних дел идет заседание Совета министров. Председательствует Альбер Сарро. На заседании присутствуют Фланден, Поль-Бонкур, три министра национальной обороны и Жорж Мандель, в то время министр почт, телеграфа и телефона.
Жорж Мандель говорит:
– Речь идет о том, чтобы установить: будем ли мы рассматривать нарушение границ Рейнской области как акт войны, ответим ли мы ударом на удар или выдвинем только возражения юридического порядка? Кто может ответить на этот вопрос?
* * *
С 10 часов продавцы газет галопом носятся по улицам, выкрикивая: «Германские войска вступают в Рейнскую область». Тотчас же по Парижу прокатывается волна паники.
– Что это, мобилизация? – спрашивают все.
– Любой исход лучше, чем война, ибо любая война в Европе в настоящее время будет означать конец нашей капиталистической системы! А что же мы тогда будем делать? – отвечают представители деловых кругов.
В Лондоне вся пресса вплоть до таких крайне антинацистски настроенных газет, как «Ньюс кроникл» и «Дейли геральд», изощряется в стремлении оправдать действия фюрера. Крупными буквами на первом плане газеты помещают фразу, в которой некий банкир из Сити выразил свое беспокойство одному из наших дипломатов: «Лишь бы какой-нибудь французский лейтенант не наделал глупостей на границе!»
* * *
Впрочем, уже в два часа дня Болдуин звонит по телефону Фландену:
«Вы совершили бы серьезную ошибку, если бы начали действовать, прежде, чем посоветуетесь с нами и с участниками Локарнских соглашений. Английский кабинет настоятельно просит Францию не принимать никаких решений, которые могли бы поставить под угрозу будущее, до того как участники Локарнских соглашений соберутся в Париже во вторник 10 марта».
* * *
Начинается политика выжидания. Пресса проповедует ее открыто. Какая партия захочет заявить о своей готовности пойти на риск войны за три недели до выборов?
* * *
В 6 часов вечера на Кэ д’Орсэ открывается второе заседание Совета министров.
«Какая бы то ни было операция может быть осуществлена только в рамках тотальных мероприятий по усиленной обороне на широком фронте», – заявляет начальник генерального штаба генерал Гамелен.
Но начальники генеральных штабов военно-морских и военно-воздушных сил отвечают на это:
«Что касается нас, мы считаем: для того чтобы действовать, необходима всеобщая мобилизация».
По окончании этого заседания Фланден заявляет представителям печати: «Франция приняла решение ничего не предпринимать без Англии и поставить вопрос о реоккупации Рейнской области перед Советом Лиги Наций».
* * *
Вечером Гитлер, пославший в Париж Вилли Шлейера, «руководителя партийной группы национал-социалистов, проживающих во Франции», приказал парижскому Коричневому дому (посольство Германии. – Примеч. ред.) отметить память погибших героев.
– Германия, – восклицает Шлейер, – не оплакивает тех, кто пал, ибо они погибли во имя того, чтобы могла жить Германия, и сегодняшняя молодежь так же полна решимости двигаться вперед, как и молодежь 1914 года!
* * *
На другой день, в воскресенье 8 марта, утром, в Елисейском дворце снова заседает Совет министров.
– Если вы издадите декрет о мобилизации, вы нанесете ущерб моральному состоянию армии, ибо вы хорошо знаете, что вы ничего не предпримете, – говорит военный министр генерал Морэн, намекая на выступления в пользу политики выжидания участников Локарнских соглашений, а затем и Совета Лиги Наций.
Но Фланден, Бонкур и Мандель добиваются полномочий Совета министров на то, чтобы на конференции участников Локарнских соглашений предложить:
«Немедленные военные действия, всю ответственность за которые Франция согласилась бы взять на себя».
* * *
Утром 10 марта генерал Гамелен, присутствующий на докладе генерального штаба сухопутных войск, замечает: «В особенности не следует поступать таким образом, чтобы могли утверждать, будто армия не пожелала выступить». И он посылает на Кэ д’Орсэ свой план действий, который предусматривает условие, что: «Эта операция может начаться только через шесть дней, когда я буду располагать силами, которые предоставит в мое распоряжение первый эшелон прикрытия».
Во второй половине дня, в то время как на Кэ д’Орсэ происходит заседание участников Локарнских соглашений, Альбер Сарро заявляет с трибуны палаты депутатов:
«Мы не желаем допустить, чтобы Страсбург оказался под огнем немецких пушек. Франция ставит вопрос о действенности заключенных договоров, о всеобщих гарантиях, предоставляемых пактом Лиги Наций его участникам, и о верности государств, присоединившихся к этому пакту, своим обязательствам».
В кулуарах националисты только и думают о том, чтобы использовать происходящие события против франко-русского пакта.
* * *
А в это время продолжается совещание стран – участниц Локарнских соглашений.
Фланден в который уже раз повторяет:
«Если участники Локарнских соглашений, констатируя нарушение Германией Локарнского договора, уполномочат Францию принять меры военного порядка, прибегнуть к которым решил вчера французский Совет министров, то международная обстановка может быть немедленно улучшена».
Но все представители стран – участниц Локарнских соглашений один за другим заявляют:
«Ввиду серьезности положения мы просим разрешения проконсультироваться со своими правительствами».
Но еще до того как в Париже были получены ответы, драма, начавшаяся 7 марта, была уже сыграна!
* * *
Несколько часов спустя Энтони Иден сообщает Фландену:
«Обсудив вопрос, английское правительство выдвигает требование предварительного созыва Совета Лиги Наций, который по условиям Локарнского пакта один только и правомочен решать вопрос о каком-либо нарушении Устава тем или иным из его участников».
Фланден соглашается.
– Хорошо, но не в Женеве, – обусловливает он, – а в Лондоне.
Крайне обеспокоенный, генеральный секретарь Кэ д’Орсэ Алексис Леже говорит Фландену:
– Помните, что на заседании Совета Лиги Наций в Лондоне 19 марта вы будете находиться в весьма выгодном положении. У вас будет возможность заставить Англию или уважать свои обязательства по Локарнскому пакту, или подписать с вами военный союз.
Французское общественное мнение делится на глубоко враждебные друг другу течения.
С большой горечью Эррио констатирует:
«Франция даже не хочет больше брать на себя ответственность, заняв позицию, которая была бы связана с риском войны!»
В светских салонах повторяют, что унижение Франции перед Германией предпочтительнее, чем военная акция, которая была бы чревата рискованными последствиями.
Банкиры и дельцы хором поддакивают.
«Наконец-то, – восклицают они, – правительство, кажется, намерено действовать подобающим образом. Не следует оказывать сопротивление Гитлеру».
В дело вмешиваются карикатуристы. В «Гренгуар» художник Поль Ириб изображает улыбающуюся Марианну, которая хлопает по плечу отчаявшегося Фландена и говорит ему: «Нет, нет, Фланден, обойдемся и без палки, и без браунинга!»
Впервые возникают споры внутри семей, члены которых начинают вдруг замечать, что у них уже нет больше обоюдного согласия в отношении смысла, придаваемого ими словам «родина», «честь», «мораль» и даже «свобода».
Вечером 10 марта Альбер Сарро пригласил на свою личную квартиру трех министров национальной обороны – Морэна, Деа и Пьетри, а также начальников генеральных штабов сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил – адмирала Дарлана и генералов Пюйо и Гамелена. Последний зачитывает записку, которую его просили составить. Записка начинается следующей фразой: «Совершенно очевидно, что какая-либо операция может быть предпринята только в рамках Лиги Наций и совместно с ее представителями или по крайней мере совместно с «гарантами» Локарнского пакта таким образом, чтобы эта операция не носила характера агрессии с нашей стороны».
(Поставить вопрос таким образом значило сделать практически невозможной какую-либо акцию. И впоследствии единственно в чем все сорок миллионов французов будут проявлять почти полное единодушие, так это в том, что они будут жалеть, что Франция не воспользовалась в то время правом немедленного вооруженного вмешательства, которым она располагала в силу Версальского договора.)
Покорившись судьбе, Фланден констатирует:
«Никогда еще французское общественное мнение не переживало подобного раскола в такой критический момент. Правительство лишено возможности действовать, а согласие между моими сотрудниками и мною самим не является таким, какое необходимо было бы иметь при столь серьезных обстоятельствах».
Многие французы, уже поддавшись немецкой пропаганде, откровенно говорят: «В конце концов, ведь германская армия оккупировала не французскую территорию!»
Что касается Андре Тардье, то в своих ежедневных статьях он пишет: «Поддерживать политику, основывающуюся на бессилии Женевы, по меньшей мере так же неблагоразумно, как путешествовать на автомобиле с неисправным рулевым управлением».
Что касается представителей стран – участниц Локарно, которые теперь наполняют поезда и самолеты, следующие на Лондон (заседание Совета Лиги Наций назначено на 19 марта), то их высказывания свидетельствуют о том, что в целом эти государства горячо желают, чтобы Франция попросту согласилась перенести это тяжелое унижение, лишь бы можно было не нарушать существующего порядка в международных отношениях.
Общественность ничего не ждет от окончательного вердикта, который вынесет Лига Наций.
Однако она задает себе вопрос, станут ли участники Локарнских соглашений и впредь искать гарантии безопасности на будущее в рамках пакта Лиги Наций и путем его строгого применения?
Глава 25. На развалинах Локарно. Англо-французское соглашение
No sanctions… no sanctions[46]… – Твердость, осторожность, но не безрассудство. – Благодарю вас за благоразумие. – В два часа ночи в салоне П.-Э. Фландена. – Ланкастер-хауз и последняя ночь Карла I. – Свист огнетушителя. – По-гитлеровски. – Да, нет, да. – Французы хотят жить спокойно. – На борту пакетбота линии Дувр – Кале.
Лондон. Отель «Савой», 12 марта, за шесть дней до заседания Совета Лиги Наций. Проходит обычный вечер, устраиваемый раз в неделю: лакеи в коротких штанах и кружевных жабо, фраки и декольтированные платья резких тонов.
В холле, где один за другим появляются делегаты Франции и другие участники Локарно, из гула голосов выделяются все те же обрывки фраз: «Нарушение Локарно… After all[47]… войны не последовало!.. Ну что же, not so bad!!![48] Конечно, конечно… это не носит сколько-нибудь серьезного характера… В конце концов, не так уж плоха эта германская нота, она не смогла бы вызвать применение санкций… no sanctions!»
С любым французом, кто бы он ни был, непременно заговаривает англичанин или англичанка, объясняя: «Поймите, если ваша страна сама не реагировала на действия Германии, непосредственно затрагивающие ваши интересы, то как же вы хотите, чтобы Великобритания вмешивалась и действовала в интересах Франции!»
Один за другим прибывают «великие жрецы» Женевы. У всех удрученный вид. Заметив Бонкура, румынский министр иностранных дел Титулеску всплескивает руками и без конца повторяет: «Ах, дорогой мой, дорогой мой». Входя в лифт, он высказывает свою мысль:
– Но каким же образом Франция будет защищать своих отдаленных союзников… Она не может защитить сама себя!
Краснобай Пьетри, наш министр морского флота, безмятежно изрекает в стиле учебника по истории дипломатии:
– Французская делегация должна сочетать твердость с осторожностью и воздерживаться от безрассудства. Она должна стоять на равном расстоянии между слабостью и непреклонностью.
Прибывают Фланден и Бонкур, все еще, каждый по-своему, взволнованные приемом, который оказал им на вокзале Виктория представитель английского правительства. Горячо пожимая им руки, он заявил:
– Ах, благодарю вас за благоразумие! Если бы Франция бросилась в контратаку, мы, конечно, были бы вынуждены последовать за ней. Спасибо!
* * *
Часом раньше на заседании английского кабинета министров Иден выступил в поддержку французской позиции. Но его точку зрения одобрил один лишь Чемберлен.
– А как же вы отнесетесь в таком случае к мнению дельцов из Сити, у которых немало общих интересов с немецкими промышленниками? – спрашивают другие министры и хором твердят: – И потом, разве Гитлер не заявлял, что предлагает Европе план сохранения мира на двадцать пять лет? Чего же еще желать?
* * *
Проезжая в машине французского посольства из отеля «Савой» через Стрэнд и Трафальгар-сквер на Даунинг-стрит, П.-Э. Фланден замечает, что на задних стеклах большинства автомашин вывешены плакаты. «Германия хочет мира, – гласят они, – пусть же Франция договаривается. А что касается нас, то и мы хотим мира!»
Принимая Фландена, Болдуин говорит ему:
– Англия не готова! До тех пор, пока мы полностью не завершим перевооружения, мы не желаем подвергать себя ни малейшему риску войны. Не удивляйтесь поэтому, что английский кабинет будет «осторожен»!
В заключение Болдуин дипломатически дает понять Фландену, что министры английского кабинета не проявляют большого энтузиазма в том, что касается выполнения обязательств по Уставу Лиги Наций и что они явно ставят в упрек Франции пренебрежительное отношение к этим обязательствам во время итало-эфиопского конфликта.
– Впрочем, – добавляет он, – основная масса англичан довольно основательно забыла обязательства, вытекающие из Локарнского договора.
* * *
У нового короля был более теплый прием.
Эдуард VIII встречает П.-Э. Фландена в своем кабинете в Букингемском дворце крепким рукопожатием.
Однако рядом с Букингемским дворцом, в Вестминстере, все члены парламента и даже лейбористы настроены антифранцузски!
– Позиция, занятая вашим Пьером Лавалем во время итало-эфиопского конфликта, определяет сейчас нашу позицию. Is not that right?[49] – говорит краснолицый Ландсбери, старый лидер лейбористской партии.
Многие члены парламента показывают французам письма, которые они получают от своих избирателей.
Все они похожи одно на другое.
«Гитлер предлагает мир на двадцать пять лет, так не упускайте же случая! Поговорите с ним, установите в Европе прочный мир… Это даст нам возможность улучшить свои дела!»
Некоторые английские депутаты ведут себя так вызывающе, что французские делегаты отказываются от приглашений на прием, где они могли бы встретиться с ними.
* * *
В отеле «Савой» эксперты ожидают возвращения Фландена. «Договоры, пакты, торжественные обязательства – в Лондоне все это мало значит», – считают они. «И однако, мы ведем переговоры с теми же самыми англичанами, – не могут не заметить эксперты, – которые всего несколько дней назад требовали от нас во имя великих международных принципов применения санкций против Италии».
Утомленный и подавленный, появляется Фланден:
– Господа, английское правительство несомненно желает срочно сменить роль «гаранта Локарно» на роль «арбитра» между Парижем и Берлином! И если для этого потребуется закрыть глаза на совершенное рейхом насилие, то Болдуину ничего не стоит это сделать!
Один из наших экспертов добавляет:
– Между прочим, здесь утверждают, что, когда три недели назад бывший английский министр воздушного флота лорд Лондондерри совершил поездку в Германию, то Гитлер и Геринг консультировались с ним по вопросу о реоккупации Рейнской области, и он ободрил их, убедив в том, что английское общественное мнение по меньшей мере «молчаливо» одобрит эти действия.
Оба французских министра уже поспешно поднялись на второй этаж, в апартаменты Фландена, и прошли в маленький салон с видом на Темзу.
Во время скромной трапезы завязывается разговор.
– У нас остался выбор только между двумя решениями, – излагает свою точку зрения Фланден. – Или Франция, дезавуированная английским общественным мнением, будет действовать в Рейнской зоне в одиночку, и, как во времена Пуанкаре и Рура, это будет Франция, использующая все средства, чтобы добиться цели, или же на развалинах Локарно Франция постарается создать новый союз с Англией. В конце концов, не это ли второе решение должны мы принять?
Фланден поясняет:
– Во всяком случае, нам нужно найти новую формулу, способную вызвать психологический шок, с целью снова привлечь к себе симпатии.
* * *
И вот начинаются переговоры о заключении нового франко-английского союза. Мучительные переговоры!
Вечером среди толпящейся элегантной публики отеля «Савой» можно видеть, как появляются с озабоченным видом Фланден, Поль-Бонкур и их сотрудники.
– Боже мой, как далеки те времена, – вздыхает Поль-Бонкур, – когда Францию окружали друзья.
Бельгийцы во всем следуют за Англией. Ван Зееланд пытается найти новые «компромиссные формулировки».
Озабоченная фламандским вопросом, Бельгия желает вернуться к довоенной политике нейтралитета.
Министр иностранных дел Польши полковник Бек устанавливает все более тесный контакт с Берлином.
– Мы не можем защищать Локарнский пакт, – объясняет он Поль-Бонкуру, – поскольку Франция вела переговоры о нем без нашего участия.
Что же касается Италии, то от нее не следует ничего ожидать. Но Гранди корректен:
– Мы не можем помочь вам, так как во исполнение Устава Лиги Наций вы применяете санкции против Италии. И тем не менее морально мы вас поддерживаем.
Короче говоря, за исключением Литвинова, усилия Франции не поддерживает ни один из ее союзников.
Все они полагают, что отказ Франции от своих обязательств в районе Средиземного моря в связи с итальянской агрессией в Эфиопии, а в настоящее время несостоятельность французской политики в Рейнской зоне перед лицом германской агрессии могут лишь побудить как тех, так и других к поискам путей сближения с Германией.
В конце концов Фланден и Бонкур предлагают английскому кабинету вместо военных действий взять на себя обязательство защищать французскую территорию «в случае неспровоцированной агрессии» всеми имеющимися в его распоряжении наземными, морскими и воздушными силами.
На основе взаимности Франция согласилась бы взять на себя такое же обязательство в отношении Англии.
Но тотчас же обоим становится ясно, что добиться распространения обязательств Англии за пределы Франции будет невозможно.
Следовательно, подобное предложение навсегда оставит в силе сомнения относительно английской позиции в случае любого конфликта, кроме прямой и неспровоцированной агрессии против Франции. А такие сомнения будут поощрять экспансионистскую политику Германии! Но чего же можно добиться лучшего в данный момент?
* * *
Восемнадцатое марта, 2 часа ночи. Фланден пригласил представителей печати в свой маленький салон.
После полного драматизма заседания кабинета Англия в конце концов приняла французский проект, получивший название «нового Локарно с участием английского правительства».
«Я решил, – разъясняет Фланден, – заменить гарантии Локарнского пакта, которые даны в отношении одной лишь Франции, двусторонними франко-английскими гарантиями, что в иное время можно было бы назвать оборонительным военным союзом. В английских кругах я встретил, – признается он, – весьма мало понимания нашей точки зрения и, чтобы добиться сотрудничества генеральных штабов, которое, по моему мнению, необходимо совершенно определенно закрепить в тексте соглашений, я был вынужден дать большое сражение. Соглашение опубликовано в Белой книге.
Запомните, господа, что в сущности это первое официальное обязательство, взятое на себя Англией после войны».
С восторгом Фланден добавляет: «Английское правительство обещало мне оказать завтра в Совете Лиги Наций всю необходимую поддержку, чтобы констатировать факт реоккупации Рейнской области и осудить его. Оно обязалось также признать это соглашение в качестве «начала» нового Локарно!»
* * *
Заседание Совета Лиги Наций состоялось на следующий день в большом и строгом зале Ланкастер-хауза, где провел ночь накануне своей казни король Карл I.
– Теперь уже не только король, а все государственные деятели мира вот-вот потеряют голову, – меланхолически говорит Титулеску, в то время как министры торжественно занимают свои места вокруг стола, отдаленная часть которого отведена для германских делегатов, принимающих участие в заседании – впервые за последние три года не в качестве членов Совета, а в качестве обвиняемых.
Энтони Иден начинает свою речь: «Будущее всего мира зависит от мудрости решений Совета…»
Но вместо тишины, в которой должны были бы прозвучать эти проникновенные слова, раздается сначала тихий, а затем все усиливающийся нелепый свист, похожий на гудок игрушечного паровоза. Оказывается, это один из ста восьмидесяти присутствующих журналистов нечаянно коснулся головки огнетушителя и – о ужас! – струя жидкости бьет через дверь в зал, где заседает Совет, обрушивается на делегатов, которые с шумом вскакивают со своих мест, бормоча: «Какое неприятное предзнаменование!»
Когда волнение улеглось, Риббентроп ринулся в «атаку по-гитлеровски»: «Именно сама Франция нарушила Локарно, заключив договор с СССР!» И в заключение он говорит напыщенным тоном: «Сегодня Германия предлагает Европе мирный договор на двадцать пять лет!»
Совет приступает к голосованию, которое – тринадцать дней спустя после совершившейся агрессии – должно решить, нарушила ли Германия границы Рейнской зоны!
В неестественной позе, с закрытыми глазами, Риббентроп продолжает неподвижно сидеть за столом.
Начинается голосование.
«Нет» – говорит Эквадор, ведущий в данный момент переговоры с Германией о торговом договоре. «Нет» – повторяет Чили (которое продает рейху всю свою селитру). «Нет» – говорит Риббентроп… «Да» – утверждают другие десять членов Совета Лиги Наций, уточняя по очереди, что их ответ не означает «порицания» или «осуждения» Германии, а является лишь «констатацией факта».
После десятка речей, полных взаимных поздравлений по поводу мудрости, проявленной членами Лиги Наций, 24 марта Совет откладывает свои работы sine die.[50]
* * *
На этот раз кажется весьма серьезным падение авторитета женевской организации, которая непрерывно подвергалась изнуряющим ее ударам вследствие постоянных препирательств между Францией и Англией.
Прежде всего создается впечатление, что отныне Франция будет рассматриваться на международной арене как маловлиятельная держава. Франция постепенно сошла со сцены, на которой ныне ее место вот-вот займет Германия.
Германские делегаты ликуют. Они тотчас же начинают пропагандировать во всех странах Центральной Европы новый гитлеровский лозунг:
«Любой ценой французы хотят спокойно жить у себя дома! Следовательно, гарантии, которые они дали всем своим не имеющим с ними общей границы союзникам, являются иллюзорными».
* * *
Спокойно проходит на следующий день переезд из Дувра в Кале.
В то время как члены французской делегации с меланхоличным видом рассматривают исчезающие за горизонтом английские берега, Фланден и Поль-Бонкур беседуют в маленьком салоне нижней палубы. Слышно, как Фланден вполголоса говорит Бонкуру:
– Действительно, в конечном итоге седьмого марта ради такой реальности, какой является сегодня поддержание более тесного союза с Англией, мы пожертвовали Уставом Лиги Наций, существо которого мы подорвали уже во время эфиопского инцидента.
– Да, но переходя от следствий к причинам, – отвечает Бонкур, – можно констатировать, что если наша позиция седьмого марта была определена сдержанной позицией английской дипломатии, то, в свою очередь, эта сдержанная позиция была лишь прямым следствием наших собственных оговорок во время итало-эфиопского конфликта относительно действенности положений Устава Лиги Наций! Ну что же, друг мой, Ришелье говорил: «Снести оскорбление, не потребовав удовлетворения, значит вызвать новое оскорбление». Жестокая действительность заключается в том, что, хотя Франция и была в состоянии защитить свои жизненные интересы, она проявила свою неспособность сделать это, и отныне ничто более не воспрепятствует осуществлению плана Гитлера!
* * *
Тем временем устрашенные нейтральные страны признают в Адольфе Гитлере хозяина Европы.
Будущее должно было доказать нам, что из всех проявлений нашей интеллектуальной и моральной слабости в период между двумя войнами эта проявленная слабость была наиболее губительной. Предоставив Гитлеру возможность произвести военную оккупацию Рейнской области, французское правительство позволило ему воздвигнуть линию Зигфрида – иными словами, создать подлинный занавес между Францией и Европой.
Наконец, из всех проявлений нашей слабости это было самым непростительным, поскольку, если бы мы оказали сопротивление в Рейнской области, Германия, будучи не готова к войне, конечно, не пошла бы на вооруженное столкновение, а ее отступление оказалось бы роковым для ее престижа и, несомненно, даже для самого гитлеровского режима.
Глава 26. Леон Блюм – диктатор разума
«Гитлер – это пират…». – Буржуйский сынок. – Последний из французских аристократов. – Восточное Локарно терпит аварию. – В. Женеве: Да здравствует император! – Приоткрытые ворота. – Черный сюртук и плиссированная рубашка с жабо. – Негус в Женеве. – Полицейские свистки. – Фотограф Стефан Люкс. – Револьверный выстрел и плевки. – Немецкие пулеметы и порядок в Лиге Наций. – Лиге Наций показывают нос. – «Все хорошо, прекрасная маркиза».
За подписанием нового договора последовали нелегкие дни.
Третьего апреля под председательством Альбера Сарро и Пьера-Этьена Фландена открывается совещание французских послов в Германии, Англии, Италии и Польше.
Враждебная позиция Берлина и Рима в отношении решений, принятых на днях в Лондоне Советом Лиги Наций, и особенно изложенный фюрером 1 апреля «план мира», которому он предпослал злобные обвинения по адресу французской политики, привели в замешательство обоих французских министров.
Фюрер предлагает, чтобы Германия, Бельгия и Франция по истечении четырехмесячного срока, необходимого для разрядки напряженности, заключили пакт о ненападении сроком на двадцать пять лет. Подобные же пакты Германия обязуется подписать и со своими соседями на востоке и юго-востоке. Рейх снова вступил бы в Лигу Наций при условии, если бы там обсудили вопрос о его колониальных требованиях и т. д.
Поочередно Альбер Сарро и Пьер-Этьен Фланден расспрашивают Андре Франсуа-Понсэ.
– Но, в конце концов, что за человек этот Гитлер? – восклицает Альбер Сарро. – Искренне ли он верит в то, что этот «план мира» явится основой для серьезных переговоров, которые могли бы привести ко всеобщему соглашению?
– Что таит в душе этот странный человек? – задает, в свою очередь, вопрос Пьер-Этьен Фланден.
– Гитлера не следует рассматривать как главу государства или главу правительства обычного типа, – отвечает Андре Франсуа-Понсэ. – Это пират. Ему чужды общепринятые нормы поведения и морали. У него есть своя программа действий: он хочет установить свое господство в Центральной Европе и расширить территорию рейха за счет России. Эту программу он попытается осуществить без войны. Но если Франция и Англия намерены дать отпор его притязаниям, он начнет войну. И когда Гитлер говорит о мире, то речь идет о pax germanica – германском мире.
Мрачная беседа!
В конечном счете на «план мира» германского канцлера французское правительство ответит памятной запиской, которую оно направит английскому правительству и о которой доведет до сведения Брюсселя и Рима. Во французском ответе будет также содержаться изложение «плана мира».
А борьба мнений будет продолжаться.
* * *
Но теперь внимание мира приковано к событиям во Франции.
Шестого мая 1936 года, первый раз в истории Третьей республики, парламентские выборы принесли победу социалистической партии. Вместе с партией радикалов и при поддержке семидесяти одного депутата-коммуниста она готовится взять в свои руки бразды правления страной, которая весьма обеспокоена возможными последствиями этих успехов Народного фронта.
Радикалы и социалисты раздосадованы крупной победой коммунистов, а банкиры, буржуа, дельцы, торговцы и аристократы приведены в ужас.
Классовая борьба поставлена на повестку дня и даже стала служить темой для карикатуристов. В «Кандиде», в номере от 7 мая, один из них изобразил роскошного, выхоленного, красивого белого пса с большой головой, обрамленной классической длинной гривой, характерной для собак такой породы. Удерживаемый на поводке элегантной дамой, стоящей на краю тротуара, он с интересом смотрит на дворняжку, которая спокойно обгладывает в канаве кость.
– Ну-ка, проваливай, буржуйский сынок, – рычит дворняжка прямо в морду большому псу, который отвечает ей:
– Вы что же, будете считать меня счастливчиком, если я вам скажу, что кормят меня только лапшой?
* * *
Первое следствие создания Народного фронта – забастовочное движение, которое приняло невиданные масштабы. Различные союзные правительства начинают постигать таким образом, что Франция разделилась на две части. По одну сторону стоят те, для кого проведение в жизнь франко-русского пакта представляется политикой, благодаря которой можно избежать войны. По другую сторону – те, кто считает, что существование франко-русского пакта, наоборот, делает войну неизбежной.
Победитель на выборах, председатель Совета министров Леон Блюм, назначает своим министром иностранных дел депутата-радикала от департамента Дордонь Ивона Дельбоса – высокого, худого, бледного и благовоспитанного человека, принадлежащего к категории людей «мягких» и «нерешительных».
Последствия слабости, проявленной Францией во время оккупации немцами Рейнской зоны, все более дают себя знать на международной арене. 27 апреля Бельгия денонсирует соглашение, которое связывало ее с Францией и Англией. Она переходит к политике нейтралитета.
Пятого мая маршал Бадольо вступает в столицу Эфиопии Аддис-Абебу. И сразу же назначается на 30 июня созыв чрезвычайной сессии Ассамблеи Лиги Наций. Римское правительство, которое не участвует в работах Лиги Наций с тех пор, как против Италии были применены санкции, теперь выдвигает предложение о своем возвращении в Лигу Наций, но при условии, что Ассамблея признает итальянские завоевания и отменит санкции.
Негус принимает решение лично присутствовать на этой Ассамблее, чтобы в последний раз потребовать законного применения Устава Лиги Наций.
И в такой международной обстановке новому правительству Блюма – Дельбоса предстоит проводить франко-русскую политику создания Восточного Локарно.
В парламенте настроены скептически.
– Вы увидите, – говорят в зале Четырех колонн, – что как только Жорж Мандель потребует проведения политики дипломатического и военного применения пакта в качестве единственного средства преградить дорогу гитлеризму, он столкнется с Леоном Блюмом не как с председателем Совета министров, а как с интеллигентом, социалистом, который пишет в «Попюлер»: «Франко-русский пакт создает неприятную атмосферу».
* * *
Женева, утро 27 июня, вокзал Корнавэн.
В страшную грозу, под раскаты грома и вспышки молнии, прибывает поезд из Парижа.
Однако как только толпа замечает негуса и его окружение в их национальных эфиопских одеждах, она тотчас же начинает кричать: «Да здравствует император!» – и встречает его громом аплодисментов.
Затем, увидев нового председателя Совета министров Леона Блюма и его министра иностранных дел Ивона Дельбоса, толпа кричит: «Да здравствует Франция!»
* * *
Три часа дня. Секретное совещание членов Совета у генерального секретаря Лиги Наций Жозефа Авеноля, который настроен более благожелательно, чем когда бы то ни было, в отношении диктаторских режимов.
– Господа, – говорит он, – в случае, если вопреки мнению секретариата Лиги Наций негус стал бы упорствовать в желании выступить на сессии Ассамблеи, секретариат позаботится о том, чтобы его появление не дало повода для оваций.
Итальянский министр иностранных дел барон Помпео Алоизи, отнюдь не довольствуясь этими условиями, настаивает на выводах доклада римского правительства.
– Господа, дуче требует от Ассамблеи признания итальянских завоеваний в Эфиопии и отмены санкций!
Леон Блюм производит сенсацию. Никто из присутствующих министров и делегатов не представлял себе, чтобы нынешний лидер самой крупной политической французской рабочей партии так сильно отличался от Жана Жореса!
Вместо того чтобы быть трибуном, воспламеняющим массы, глава Народного фронта оказался элегантным человеком с интеллигентным лицом, с мягким голосом, со сдержанной страстностью, который внушает к себе особое уважение благодаря своему гибкому и пытливому уму, украшенному блестящей культурой.
Посланник Чехословакии в Париже Стефан Осуский, который знает Блюма, объясняет своим балканским соседям:
– Дочь премьер-министра Асквита принцесса Элизабет Бибеско характеризует его как «последнего из французских аристократов», и она права.
– Однако не все аристократы, – продолжает Осуский, – ценят его. Девятого февраля этого года я как раз находился в самом «аристократическом» из парижских салонов. Вдруг входит журналист из газеты «Матэн» Жюль Зауэрвейн и рассказывает, что только что автомашина Леона Блюма была остановлена на бульваре Сен-Жермен группой молодых людей из французской лиги «Аксьон франсэз», которая шла за гробом известного историка Жака Бэнвиля. Они узнали Блюма. И тотчас же в окна его машины полетели камни и кирпичи. Обливаясь кровью, спотыкаясь о тротуар, Блюм пытался спастись. Он остался в живых лишь благодаря вмешательству нескольких строительных рабочих, которые приоткрыли ему ворота. И на этом месте Зауэрвейна прерывает хор голосов завсегдатаев этого аристократического салона: «Как жаль, что они его не убили! По крайней мере, от него избавились бы и таким образом, может быть, избежали бы разорения и войны!»
Обуреваемые различными чувствами, члены Совета Лиги Наций быстро заканчивают обсуждение вопросов в отношении завтрашнего дня, которые необходимо решить, и Жозеф Авеноль закрывает заседание.
* * *
Леон Блюм в нервозном состоянии. Он объясняет сопровождающим его до «Отель де Берг» Энтони Идену и трем министрам балканских стран:
– Моя позиция здесь будет несколько нелогичной: моя министерская декларация и личные убеждения заставляют меня выступать за политическое возрождение Лиги Наций, в то время как моя страна и ее союзники нарушают ее основные принципы. Я вынужден даже высказаться относительно признания итальянских захватов, которые ни в коем случае не могут быть терпимы, а также относительно отмены санкций, которые по-прежнему неэффективны. Во всяком случае, я остаюсь горячим сторонником союза с Англией. Нашим общим интересам здесь будет соответствовать мое стремление расширить – пусть даже путем соглашений между штабами – франко-английские обязательства, предусмотренные в «Белой книге»!
С некоторым раздражением Титулеску перебивает Блюма:
– Если я правильно понимаю, ваш кабинет не хочет устрашать правительство нашего дорогого друга Энтони Идена и поэтому не дает ответа на предложения, которые мы выдвигаем перед вами в Бухаресте, Праге и Белграде, о сотрудничестве с Турцией и Россией в деле создания Восточного Локарно. Вы опасаетесь, что эти новые обязательства покажутся Лондону продиктованными соображениями внутренней политики. Так вот, господин Блюм, мы пришли сюда, чтобы громко заявить вам об огромной тревоге малых стран, уже попавших помимо своей воли в экономические тиски Германии. Они хотят знать, могут ли они рассчитывать на Францию, ибо у них, господин Блюм, есть сомнения на ваш счет!
И Титулеску, который, как всегда говорил Бриан, «кричит как оглашенный», подытоживает:
– Успокойте нас, господин председатель Совета министров Франции, или, по крайней мере, скажите нам правду! Ибо мы не забываем, что седьмого марта вы не защищали самих себя, так каким же образом будете вы защищать нас от агрессора?
Блюм не отвечает и кажется уничтоженным. Он только замечает, уже входя в вестибюль «Отель де Берг»:
– И все же никто более меня не убежден, что дорог каждый день и почти каждый час, что разыгрываются последние карты, и тот, у кого они окажутся в руках, должен будет отчитаться перед народами и перед историей!
* * *
В новом отеле «Карлтон», возвышающемся над водами Женевского озера в зеленой листве, на фоне которой вырисовываются уже первые строения нового дворца Лиги Наций, негус, в черном сюртуке в талию и в плиссированной рубашке с жабо, проводит со своими друзьями и юридическими советниками «военный» совет.
С горечью и печалью негус говорит своему советнику, французскому юристу Гастону Жезу:
– Итак? Это, значит, и есть международные законы? Пятьдесят два государства могут таким образом обречь одну страну на исчезновение с карты мира и сделать все это, грубо нарушая обязательства, взятые на себя ими самими!
Обращаясь затем к возвратившемуся из Эфиопии международному юристу Николаю Политису, негус продолжает:
– Я счел необходимым приехать в Женеву главным образом из уважения к своему народу, чтобы высказаться от его имени и сообщить, что в Горе существует новое эфиопское правительство и что сто пятьдесят тысяч человек моей армии под командованием раса Имру готовы сражаться, если, конечно, можно сражаться против позорных итальянских методов ведения войны.
Говоря все медленнее и медленнее, негус заканчивает:
– Я не верю больше в то, что у Англии или у Лиги Наций найдется теперь достаточно смелости, чтобы предоставить моей империи деньги и боеприпасы. Но здесь я буду тем не менее по-прежнему продолжать выполнять свой долг!
* * *
На следующий день утром состоялось торжественное заседание.
В холле здания «Электораль» Леон Блюм – главное действующее лицо!
Министры, делегаты и эксперты различных стран, которых он уже успел принять за это время, озадачены и восхищены. Как обычно, они ожидали увидеть обеспокоенного, взволнованного, торопящегося премьер-министра, а Леон Блюм, к их изумлению, принял их так, словно он каждому из них мог уделить все свое время, а в беседе с ними даже затрагивал – и всегда с блестящим остроумием – самые различные философские и литературные темы.
– У нас появился новый диктатор, – говорит, улыбаясь, Политис, – диктатор разума!
* * *
Заседание начинается без негуса, как это и было заранее решено Жозефом Авенолем.
После того как аргентинский делегат потребовал от Ассамблеи голосовать за «непризнание» захвата Эфиопии, слово было предоставлено вошедшему негусу.
Медлительный и величавый, одетый в свою традиционную длинную мантию каштанового цвета, из-под которой видна белая плиссированная рубашка, негус в глубокой тишине проходит через полутемный зал. Он поднимается на трибуну под внезапно вспыхнувшими огнями прожекторов и магниевых вспышек.
– Чтобы понять трагедию моей страны, нужно вспомнить о соглашении седьмого марта тысяча девятьсот тридцать пятого года, заключенном между Муссолини и Пьером Лавалем… – начинает он.
Но в этот момент поднимается со своего места итальянский консул в Женеве. Это условный сигнал.
Тотчас же наиболее видные фашистские журналисты, с утра прибывшие в Женеву, начинают во всю мочь свистеть в полицейские свистки.
Поднимается всеобщая суматоха. Председатель Ассамблеи не знает, что делать. В зале появляются швейцарские гвардейцы и бесцеремонно хватают смутьянов, которые вопят: «Да здравствует Муссолини!»
Суматоха продолжается на улице.
Население аплодирует швейцарским гвардейцам, которые без разбора избивают всех протестующих.
Негус, не покидавший трибуны, невозмутимо продолжает:
– Соглашение Лаваля – Муссолини препятствует Лиге Наций применять санкции, мешает ей выступить против тех льгот, которые получил Муссолини для перевозки войск и оружия по Суэцкому каналу! С другой стороны, Лига Наций не хочет даже снять эмбарго на поставки оружия для моей страны.
В кулуарах постоянный представитель Италии в Женеве Бова Скопа говорит журналистам:
– Дуче одобряет действия итальянских журналистов. Он предлагает секретариату Лиги Наций освободить их.
Между тем негус заканчивает:
– Народ Эфиопии никогда не покорится. Сегодня он задает вопрос пятидесяти двум государствам: какие меры предполагают они предпринять, чтобы дать ему возможность продолжать борьбу?
* * *
Склонившись к своим пюпитрам, делегаты не реагируют больше. Заседание закрывается.
На следующее утро, сменив на трибуне Ассамблеи Энтони Идена, который напомнил, что «английское правительство настаивает на непризнании захватов, совершенных в Эфиопии, и, предвидя отмену санкций с 15 июля текущего года, требует сохранения английских военно-морских сил в Средиземном море», Леон Блюм, являя собой воплощение кротости и изворотливости, произносит патетическую речь.
– Господа, положим конец страданиям людей во всем мире… По всей вероятности, война неизбежна. Вооружение Германии является причиной войны… Одна только Германия своими действиями препятствует осуществлению разоружения… Тот, кто хочет сохранить в настоящее время мир, должен пойти на риск войны.
Все эти высказывания Леона Блюма были встречены овацией.
* * *
На другой день заседание Ассамблеи проходит скучно. Делегаты дремлют. Вдруг раздается револьверный выстрел!
В одной из боковых лож падает человек. Его поднимают, затем укладывают на диван в кабинете Авеноля. Он в бессознательном состоянии. Тонкая струйка крови медленно стекает по его бледной щеке с правого виска. Конвульсивным движением он прижимает к груди портфель из черного сафьяна. Из его удостоверения личности видно, что это венгерский еврей, фотограф, по имени Стефан Люкс.
Сквозь хрип слышно, как он шепчет по-немецки:
– Мой портфель… Авеноль… мои письма… не забудьте о них… Евреи… письмо… меньшинство…
В последний раз дергается его челюсть. Все кончено.
Прибегает Авеноль. Разъяренный, он хватает портфель и открывает его. В нем лежат два письма: одно адресовано ему, а другое – корреспонденту газеты «Пти паризьен» Дюбоше.
Последнему Стефан Люкс написал: «Я отдаю свою жизнь в надежде, что моя смерть напомнит руководителям Лиги Наций об их долге в отношении евреев, национальных меньшинств и малых наций. Я верил в Лигу Наций. Но я глубоко ошибся!»
– Господа, – говорит Авеноль, который возвращается в сопровождении медсестер и санитаров, – я хочу, чтобы это событие не получило никакой огласки, ибо это могло бы нанести ущерб Лиге Наций.
Но журналисты думают об этом иначе. Они привлекают внимание всего мира к этому самоубийству.
– Это трагическое событие, – говорит латиноамериканец Зимета, – грозит открыть в Лиге Наций эру покушений!
Люксембургский делегат Жозеф Беш замечает:
– Это самоубийство находит здесь больший отклик, чем если бы речь шла о покушении на какое-нибудь высокопоставленное лицо! Именно эта душевная драма как раз и наполняет тревогой большинство из нас!
* * *
В половине третьего человек пятнадцать министров и делегатов украдкой выходят из служебных помещений Ассамблеи и спешат к выходу.
Это – члены редакционного комитета по Эфиопии, обязанные подготовить резолюцию, которая завтра утром должна быть поставлена на голосование Ассамблеи. Они тщетно пытаются ускользнуть от журналистов.
И только чешский делегат направляется прямо к журналистам и говорит:
– Господа представители печати, вы можете оплевать всех нас с ног до головы! Мы этого заслуживаем! Мы мерзавцы!
– Да нет же… нет… – перебивают его тотчас же австрийский, венгерский и албанский делегаты. – Текст, который мы только что подготовили, не так уж плох. В нем не осуждается Италия и, несмотря ни на что, содержится признание свершившегося факта.
* * *
Два часа спустя заседание возобновляется.
У входной двери давка и пререкания между швейцарским полицейским, проверяющим пропуска, и грязно сквернословящим рыжим верзилой, который орет, размахивая руками:
– Давно уже пора, чтобы немецкие пулеметы навели порядок в Лиге Наций!
Это председатель Данцигского сената нацист Грейзер, специальный посланец Гитлера, который явился объяснить Ассамблее, что притязания его хозяина на свободный город Данциг совершенно законны.
На трибуне Грейзер совсем распоясывается.
В конце своей речи он громовым голосом, переходящим в крик, трижды повторяет немецкое слово из пяти букв: «Dreck, dreck, dreck».[51]
– Да он ведет себя как генерал Камброн![52] – с насмешкой говорит польский делегат Сокаль.
– О нет! – возражает Леон Блюм, – Камброн говорил подобные вещи под градом пуль, что гораздо лучше!
– Господа, – говорит Грейзер в заключение, – недалек тот день, когда мне уже не будет больше необходимости участвовать в этих заседаниях! А ведь именно таково желание всего немецкого народа!
После этого Грейзер отдает воинское приветствие Идену, затем – генеральному секретарю и вдруг, повернувшись к аудитории, он мастерски и долго показывает нос присутствующим!
Ошеломленные делегаты болезненно реагируют на эту возмутительную шутовскую выходку, которая дополняет драматические события последних трех дней.
– Международные отношения, которые до сих пор развивались в столь приятных формах между культурными нациями, становятся невыносимыми, – замечает у выхода Политис. – Не следует ли в один прекрасный день ликвидировать их, чтобы не подвергать себя подобным выходкам? Но не придется ли нам в результате этого начать на европейской арене борьбу другого рода оружием?
* * *
Несколько часов спустя в полумраке перрона вокзала Корнавэн группа делегатов окружает негуса. Последний подчиняется предписанию президента Мотта покинуть Женеву в течение четырех часов после заседания.
– Чья же теперь очередь? – тоскливо шепчутся между собой представители балканских стран и стран Центральной Европы. – Конечно, Данцига! Возможно – Австрии, несомненно – Албании и наконец – Чехословакии!
Некоторые довольно резко осуждают Блюма.
– Несмотря на свой исключительный дар анализировать события, изворотливость, культуру и ум, он никогда не станет деятелем, который смог бы объединить усилия против диктаторских режимов, – невесело констатируют они. – Точно так же как и его министр иностранных дел Ивон Дельбос. Этот превосходный депутат-радикал из Дордони – человек мягкий, лояльный, добрый и честный, но он всегда останется робким, он постоянно будет всего бояться и никогда ни на что не осмелится!
Как всегда, равнодушный и смотрящий на всё со стороны, один латиноамериканский посол в Париже говорит французам:
– А прав оказался этот ваш сочинитель песенок, когда он сложил свой знаменитый куплет: «Все хорошо, прекрасная маркиза!»
Но никто не смеется.
* * *
Возвращаясь в Париж после голосования пресловутой резолюции, Леже говорит Леону Блюму:
– Отныне следует проводить политику тесных союзов и военных альянсов, ибо проведение общеполитического курса широких пактов, что проповедует Франция, стало уже почти невозможным.
И Блюм покорно отвечает:
– Да, чтобы спасти мир, нет больше никаких средств, кроме как согласиться с возможностью войны, но все-таки?..
Глава 27. Леон Блюм и гражданская война в Испании
Кабинет на Баль-плац. – Это сигнал. – Авария самолета генерала Санхурхо. – Германский консул в Барселоне. – За стеклянными дверями. – «Я за помощь Испании, однако…» – Фернандо де лос Риос и доки Бордо. – Завтрак у Болдуина. – Леон Блюм – новый Дизраэли. – Непрочная связь. – Генлейн у Ванситтарта. – Невмешательство и локализация пожара. – Дизраэли и умные консерваторы. – План Дельбоса – Шотана. – Европе угрожает опасность.
Вена, 11 июля 1936 года. Баль-плац. Кабинет президента.
Австрийский канцлер Шушниг и германский посол в Вене фон Папен, склонившись над столом, ставят свои подписи под соглашением об австро-германском примирении, напечатанном на больших листах роскошной бумаги.
Набранные крупным шрифтом заголовки всех газет мира сообщают: «Центральная Европа восстановлена!»
Многие газеты, правда с весьма различными комментариями, приводят слова бывшего германского посла в Риме князя фон Бюлова, сказанные им после поражения 1918 года: «Я, конечно, вижу, что союзники выиграли первый тур, но чтобы определить, кто станет настоящим победителем в войне, надо знать, кто будет командовать в Вене!»
За три дня до подписания соглашения Муссолини, вынужденный вследствие войны в Эфиопии оставить Вену наедине с Берлином, в поисках комбинации для окончательного скрепления германо-итальянского блока принимал в своем имении Рокка делле Каминате канцлера Шушнига, сопровождаемого вице-директором канцелярии президента Австрийской республики Гвидо Шмидтом. Они показали ему текст соглашения.
И восхищенный дуче воскликнул:
– Я присоединюсь ко всякой формулировке, которая будет отстаивать независимость Австрии.
Сразу же после этого он смещает своего министра иностранных дел Сувича, ибо тот «не нравится фюреру». На его место Муссолини назначает мужа своей дочери Эдды, графа Чиано, столь сговорчивого, что трудно и думать о большем.
* * *
Париж. Вечером 17 июля на Кэ д’Орсэ.
Вопреки своим правилам Леон Блюм очень поздно входит в кабинет Ивона Дельбоса. В его руке телеграмма. Он читает:
«Мадрид, 17 июля 1936 года… Сегодня утром у себя дома был убит депутат-монархист Кальво Сотелло. В Испанском Марокко начались военные бунты. Отряды мятежников высаживаются в Кадиксе и в Алхесирасе. На севере войска карлистской Наварры и Арагона присоединяются к мятежникам и продвигаются на восток к Сан-Себастьяну и на запад к Барселоне. В Бургосе создана хунта».
– Это сигнал, – очень тихо говорит Леон Блюм.
Затем, усаживаясь, он обращается к Дельбосу:
– После того как 6 мая на выборах в Испании одержал победу Народный фронт и правительство Хираля взяло в свои руки бразды правления, я получил информацию, что всю Испанию с севера до юга охватили беспорядки и что тотчас же выявилась роль Германии и Италии в различных выступлениях мятежников. Конечно… Конечно, Дельбос, – продолжает Блюм, – бесполезно обманывать себя. Рим и Берлин приблизительно в течение трех лет тщательно готовили гражданскую войну в Испании. Впрочем, кажется, что в этих двух столицах убеждены, что не позже как через две-три недели республиканское правительство Мадрида будет заменено диктаторским правлением, полностью преданным дуче и фюреру.
Входит Алексис Леже, к которому Леон Блюм питает явное расположение.
Леже с озабоченным видом сразу же уточняет:
– Цель, преследуемая диктаторами, конечно, ясна. Она заключается в том, чтобы разорвать связи Франции и Англии с их колониями и доминионами. В силу этого Парижу и Лондону было бы очень трудно противодействовать в Европе развитию итало-германской дружбы.
Не зная сути вопроса, Ивон Дельбос еще плохо разбирается в обстановке.
Леже настойчиво продолжает:
– В случае необходимости Германия и Италия готовы предоставить военную помощь мятежникам. Избранный уже давно для этой роли руководитель мятежа генерал Санхурхо погиб во время авиационной катастрофы 26 февраля этого года, возвращаясь с зимних Олимпийских игр из Гармиша в Баварии, куда он ездил для встречи с Герингом, Гитлером, Гессом и немецкими генералами. Вместе с планом военных действий в его бумагах был обнаружен проект договора между Испанией, Италией и Германией.
Леон Блюм, к которому постоянно приходят с визитами испанские социалисты на его личную квартиру на Бурбонской набережной, замечает, что республиканцы, безусловно, подготовились к обороне. Эти испанские социалисты утверждают, что рейх содержит в Испании двадцать пять нацистских организаций, руководимых специальными агентами из берлинского министерства пропаганды, и что эти организации располагают в Испании пятьюдесятью центрами. Они утверждают, наконец, что германский консул в Барселоне Генрих Фрик осуществляет связь с кругами, близкими к фюреру. Встревоженный, Ивон Дельбос откровенно говорит:
– Но если я правильно понимаю, испанское республиканское правительство – законное правительство, являющееся членом Лиги Наций, – будет вправе потребовать у своих союзников по крайней мере оружия и боеприпасов… Но окажемся ли мы тогда в опасном положении перед Берлином и Римом. Что же делать, Леже?
И бесконечная дискуссия продолжается…
* * *
Лондон, раннее утро 23 июля 1936 года.
За стеклянной дверью одного из салонов отеля «Савой» видны фигуры Блюма и Дельбоса. Оба они в сверкающих цилиндрах, и оба кажутся очень взволнованными. Между ними, лицом к двери, стоит наш посол Корбэн в черном сюртуке и сером жилете, еще более бледный, чем обычно. Видно, что он говорит очень серьезным тоном.
Через приоткрытую дверь слышны некоторые фразы.
– …Англия недовольна тем, что происходит в настоящее время во Франции… В Форин офис имеются даже некоторые деятели, которые предлагают предоставить Францию, идущую к революции, собственной судьбе… и попытаться проводить английскую политику на базе дружбы с Италией и Германией… Здесь в изобилии распространяются ложные известия примерно такого содержания: Елисейские поля в огне… на площади Оперы восстание… в помещениях универсальных магазинов разместились Советы… Короче говоря, – более громким голосом подытоживает посол Корбэн, – мы здесь настолько непопулярны, что выставку английской живописи, которая должна была состояться в Париже, только что отменили!
Тишина. Видно, как все трое жестикулируют. Потом беззвучный голос Дельбоса становится слышен:
– Не думаете ли вы, господин председатель Совета министров, что мы были бы правы, если бы не компрометировали себя благожелательным отношением к республиканской Испании? – Корбэн идет еще дальше: – Здесь подобную позицию, господин председатель Совета министров, сразу же расценили бы как прокоммунистическую и, уж во всяком случае, как позицию, способную помешать ходу, который Англия готова дать соглашению, опубликованному в «Белой книге».
– Что касается меня, – говорит Блюм, у которого измученный вид, – я за помощь Испании. Однако я вовсе не отрицаю, что наши английские коллеги, кажется, весьма напуганы успехами Народного фронта. Впрочем, поддержат ли мои министры мою точку зрения? Во всяком случае, с сегодняшнего вечера адмирал Дарлан начнет консультации с английским морским министерством.
* * *
Оба французских министра, прибывших в Лондон для переговоров со своим новым бельгийским коллегой Спааком с целью составить текст приглашения для Берлина и Рима на конференцию пяти, где будет обсуждаться вопрос о Восточном Локарно, должны провести с англичанами широкий обмен мнениями по политическим вопросам и дать таким образом английскому правительству возможность познакомиться с главою нового французского правительства. В действительности Блюм и Дельбос приехали для обсуждения проблемы «поддержки Испанской республики», проблемы, отношение к которой уже создает раскол во французском правительстве и в общественном мнении Франции.
На протяжении всей поездки Дельбос повторял Леону Блюму:
– Поддержать Испанскую республику – это значило бы, во всяком случае, вызвать недовольство Англии, которая должна быть настроена против всякого подобного вмешательства. Тем более что испанская проблема встает как раз в тот самый момент, когда Лондон ищет почву для соглашения с Германией и Италией.
Грустный и озабоченный, Блюм молчит.
Специальный посланец республиканского правительства Фернандо де лос Риос рассказывает обступившим его дипломатам с Кэ д’Орсэ:
– Несколько дней назад в Париже я изложил обстановку Леону Блюму, военному министру Даладье, министру авиации Пьеру Коту и Ивону Дель босу. Первым высказался Даладье, который сказал буквально следующее: «Я полностью согласен с изложением лос Риоса. Поддержка Испанской республики и ее победа над монархистами является жизненно важным вопросом для Франции». В том же духе высказался Пьер Кот, но Дельбос не проронил ни слова. Два дня спустя, – продолжает лос Риос, – Даладье созвал в военном министерстве совещание французских генералов. В моем присутствии он сказал им: «Мы решили оказать помощь республиканской Испании. Это наш долг. Господин лос Риос по моему указанию составил список вооружения, которое мы вскоре направим в Испанию. Он вам сообщит подробности». Тогда, – продолжает лос Риос, – я роздал составленный мною список вооружения, стоимость которого исчисляется примерно в одиннадцать миллионов франков. Ваши генералы немедленно задали мне вопрос, каковы будут формы платежей. Я ответил, что наличными, и на следующее утро вручил им чек. Но и по сей час, когда мы с вами разговариваем, готовые к отправке боеприпасы и вооружение все еще находятся в доках Бордо. Что же происходит?
* * *
Франко-английский завтрак у премьер-министра Болдуина на Даунинг-стрит проходит хорошо.
Болдуин кажется приятно удивленным.
– Но глава французского правительства – человек очень большой культуры, весьма благородного облика, он изящен, изыскан, он джентльмен в подлинном смысле этого слова, – говорит Болдуин в промежутке между пудингом и кофе.
Дело в том, что Леон Блюм пленил сердце премьер-министра. Болдуин – потомок знаменитого художника-прерафаэлита Уильяма Морриса, а Леон Блюм как раз прекрасно знает эту эпоху, так же как, впрочем, и работы Россетти,[53] некоторые наиболее известные произведения которого, весьма романтично обрамленные, украшают кабинет Болдуина.
Совсем покоренный, премьер-министр говорит Энтони Идену:
– Этот Леон Блюм – новый Дизраэли! По моему мнению, этот французский премьер кончит так же хорошо, как Макдональд! Он приспособится к нуждам момента и несколько подзабудет социализм!
* * *
Между тем в автомобиле, когда он огибал Трафальгар-сквер и направлялся к Стрэнду, Блюм и Дельбос, обсуждая поведение и высказывания по их адресу своих английских коллег, приходят к следующему заключению: по сути дела, Болдуин и Иден опасаются, что это совещание трех вызовет недовольство германского правительства и побудит фюрера совершить какой-либо политический акт, который мог бы впоследствии затруднить или помешать созыву конференции пяти с участием Италии и Германии.
Английские министры доверительно сообщили Блюму и Дельбосу, что сейчас происходит перевооружение Англии и что первостепенная забота английской дипломатии в связи с этим состоит в том, чтобы выиграть время и избежать какого бы то ни было конфликта в Европе в течение двух ближайших лет. В таком случае будут уместны любые проявления политики умиротворения по отношению к Германии.
С другой стороны, ни Иден, ни тем более Болдуин не питают иллюзий в отношении нового Локарно. Но они полагают, что следует попытаться провести эти последние переговоры с Германией с максимумом fair play.[54]
Что же касается гражданской войны в Испании, то Болдуин и Энтони Иден задыхаются от гнева при одной лишь мысли, что мадридское правительство является союзником, членом Лиги Наций и что его требования о предоставлении оружия вполне логичны.
* * *
Проходя вновь через холл отеля «Савой», Дельбос громко говорит Леону Блюму, который кажется озабоченным:
– Что ж, положение ясно! Нам нужно сделать выбор между сотрудничеством с Англией и оказанием поддержки Испанской республике!
Войдя в лифт, Леон Блюм с раздражением и нервозностью отвечает:
– Конечно… Совершенно очевидно, что для Франции речь идет прежде всего о том, чтобы не порвать ту непрочную связь, какой является соглашение, опубликованное в «Белой книге». И тем не менее…
* * *
На следующий день после того, как прибыл Спаак, открывается под председательством Болдуина конференция трех.
Леон Блюм расширяет рамки обсуждаемого вопроса:
– Надо подумать также о том, что ситуация в Центральной Европе, создавшаяся в результате нового австро-германского соглашения, ставит Чехословакию в довольно критическое положение.
В связи с этим лорд Галифакс рассказывает, что три недели назад в Лондон приезжал из Чехословакии гитлеровец Генлейн и что в Форин офис он имел беседу с заместителем министра иностранных дел Ванситтартом.
– Последнему, – говорит лорд Галифакс, – Генлейн сказал буквально следующее: «Гитлер требует, чтобы районы Чехословакии, где большинство населения составляют немцы, были отделены от остальной части страны и объединены в автономную провинцию, связанную с Чехословакией федеративным актом, аналогичным тому, какой существует в Швейцарии. Гитлер требует, кроме того, чтобы Чехословакия вместе со всей «Малой Антантой» оставалась в группировке четырех европейских держав лишь при непременном условии расторжения своего союза с Россией». Давая мне отчет об этой беседе, – говорит в заключение Галифакс, – Ванситтарт поделился со мной своими соображениями. Он считает, что Германия действительно ставит своей целью прибрать к рукам всю Чехословацкую республику с тем, чтобы использовать ее для осуществления своей политики проникновения в долину Дуная и на Балканы! Но поскольку для Праги подобное предложение неприемлемо, то, следовательно, в ближайшее время дело дойдет до кризиса в отношениях между Третьим рейхом и Чехословакией!
Воцаряется глубокое молчание.
Затем Болдуин переходит к вопросам, стоящим в повестке дня:
– А пока вполне возможно, что Германия и Италия решатся пойти на вмешательство в гражданскую войну в Испании. В таком случае положение значительно осложнилось бы. Какое бы то ни было обращение за помощью к Лиге Наций представляется английскому правительству преждевременным. Женевское учреждение некомпетентно в вопросах гражданских войн. С другой стороны, обратиться к ней означало бы признать международный характер этого конфликта и, следовательно, рисковать вызвать наихудшие последствия. Интересы мира требуют, чтобы к доктрине «невмешательства», которая позволила бы локализовать пожар, присоединились все страны.
Обернувшись при этих словах к Леону Блюму, Болдуин спрашивает:
– Возьмет ли на себя Франция инициативу подобной дипломатической акции?
Очень серьезным тоном Леон Блюм отвечает:
– Мы изучим этот вопрос!
* * *
В Лондоне Блюм лично выиграл партию. В английском парламенте Галифакс взывает теперь только к французскому премьер-министру:
– Ах, если бы Блюм был англичанином, – говорит он лейбористу сэру Стаффорду Крипсу, – он был бы англиканцем и консерватором, как Дизраэли.
– Вы забываете, милорд, – отвечает Стаффорд Криппс, – что во времена Дизраэли консерваторы были еще умными.
* * *
Усталый и раздосадованный, Леон Блюм возвращается через день в Париж. Вечером на Кэ д’Орсэ, проходя через салон послов, он встречает Фернандо де лос Риоса, который подходит к нему и говорит:
– Господин председатель Совета министров, наше вооружение и боеприпасы так и не отправлены нам из порта Бордо! Никто не мог мне объяснить, какое на этот счет было дано указание и кто его дал! Но одно достоверно – двое суток назад это вооружение и боеприпасы были возвращены во французские арсеналы! Господин председатель Совета министров, что же происходит?
* * *
Седьмого сентября 1936 года в Елисейском дворце идет бесконечно долгое заседание Совета министров.
Тридцатого августа тридцатисемидневные переговоры с основными государствами – членами Лиги Наций завершились наконец выработкой «Пакта о невмешательстве», который Франция, предложив его всем другим державам, должна подписать.
Совет министров разделился на два лагеря, которые открыто борются между собой: Блюм, поддерживаемый Пьером Котом, и Ивон Дельбос, поддерживаемый Шотаном и Даладье.
Дельбос объясняет:
– Поддерживая республиканцев, мы подвергаем себя риску войны с диктаторами. Между тем такая война началась бы в момент, когда страна находится в состоянии катастрофического раскола. Более того, разве Англия не будет против нас? И тогда мы предстанем в глазах Европы как авангард России. Неужели вы хотите этого, господа? Мыслимо ли при этих условиях, чтобы мы отправляли оружие в Испанию?
Блюм возражает:
– С точки зрения международного права ничто не запрещает Франции поставлять вооружение дружественному и законно существующему правительству, являющемуся членом Лиги Наций, ведущему борьбу с мятежниками, за которыми ни одна держава до сих пор не признала еще права воюющей стороны. С точки зрения юридической эксперты Лиги Наций осуждают доктрину невмешательства, это новое законодательство, вытесняющее Женевские законы из международной практики. В будущем при малейшей угрозе войны первая реакция народов проявится в том, чтобы, ссылаясь на эту доктрину, уклоняться или медлить с выполнением своих обязательств, вытекающих из Устава Лиги Наций.
Группа Дельбоса – Шотана возобновляет атаку.
Чувствуя себя задетым, Дельбос заявляет Альберу Лебрену о своей отставке.
– Если министр иностранных дел подаст в отставку, я последую его примеру, – коротко отвечает президент республики.
Трагическое молчание Леона Блюма.
Конечно, строго придерживаясь пакта о невмешательстве, то или иное правительство всегда может заявить парламенту, имея шансы на поддержку значительного большинства: «Если мы не смогли воспрепятствовать войне в Испании, то мы по крайней мере избежали того, чтобы она распространилась на всю Европу. Но я отказываюсь рассматривать свою позицию под таким углом зрения!»
Опять все замолкают.
Но затем Леон Блюм поддается сопротивлению со стороны главы государства и некоторых членов своего правительства. Заседание заканчивается в атмосфере замешательства и возбуждения.
У подъезда Елисейского дворца Блюм говорит одному депутату:
– Для нас дело шло бы ни о чем другом, как о перенесении на французскую землю гражданской войны, которая опустошает Испанию. Это была бы революционная авантюра. Я посчитал невозможным пойти на это.
Журналисты уже спорят по поводу коммюнике, согласно которому «Совет министров Франции, собравшись в Елисейском дворце, решает направить основным заинтересованным правительствам настоятельный призыв о скорейшем принятии и строгом соблюдении в отношении Испании общих принципов невмешательства».
* * *
Вечером в своей маленькой квартире на Бурбонской набережной Леон Блюм, уязвленный происшедшим, записывает свои мысли, о которых он упомянет несколько дней спустя в своей статье в «Попюлер».
«Сегодня, – пишет он, – дух международной солидарности, чувство международного долга, привычка и желание действовать сообща, с полным доверием друг к другу во имя защиты своих прав и сохранения мира извратились и мало-помалу утратились.
Впрочем, в дезорганизованном мире каждое правительство должно призадуматься над опасностью, которая угрожает его собственной стране. Да, Европе угрожает опасность».
Глава 28. Сражения в Испании укрепляют ось Рим – Берлин
Как на иголках. – Генеральный комиссар Испанской республиканской армии Альварес делъ Вайо. – Светский и политический скандал в Женеве. – Мемуары неосторожного президента. – Прекрасный Тексидор. – «Трюк» доктора Шварца. – Милан, 2 ноября, Кафедральная площадь. – Ивон Дельбос и зимний спорт. – Литвинов завтракает у Мориса де Ротшильда. – Бинокль Абеля Эрмана. – We are British![55] – Обед уамериканского посла Уильяма Буллита. – Делайте самолеты… делайте самолеты…
Женева, 23 сентября 1936 года. На Ассамблее Лиги Наций. В холле Плэн-Палэ.
Климат в международной атмосфере весьма холодный.
– Все делегаты чувствуют себя как на иголках! – говорит заместитель генерального секретаря Марсель Одан.
В самом деле, все избегают друг друга!
– Это не Россия нуждается во франко-русском пакте, а именно Франция, – язвительно говорит Литвинов, который каждый раз отворачивается к лестнице, как только со стороны лифта появляются Блюм, Дельбос или члены французской делегации.
– А когда мы требуем сотрудничества в Нионском соглашении,[56] вся пресса Дельбоса под огромными заголовками пишет: «Русские саботируют Нионское соглашение!» Что же можно поделать после этого!» – восклицает русский делегат, посол в Риме, Борис Штейн.
С известной долей ядовитости Литвинов продолжает:
– Ваш большой генеральный штаб в Париже теперь настроен очень антирусски… И ваши генералы, как я вижу, противоречат сами себе с необыкновенным пылом… Один из них даже заявил в каком-то иллюстрированном журнале, что его «совсем несправедливо назвали отцом франко-русского договора», тогда как в действительности он был из числа самых горячих сторонников этого союза.
– Эта резкая перемена взглядов французского генерального штаба внушает тревогу, – замечает историк Гульельмо Ферреро, ставший одной из первых жертв фашизма и нашедший ныне убежище в Женеве, где он преподает в университете. – Она доказывает, что в момент, когда защита родины должна быть превыше всего, руководящие военные деятели всецело заняты проблемами внутренней политики!
Вмешиваясь в беседу, Политис говорит:
– Совершенно очевидно, что французское правительство редко рассматривает франко-русский пакт под углом зрения внешней политики, а чаще всего оно рассматривает его с точки зрения внутренней политики…
По мнению депутата-радикала от департамента Марны, элегантного Франсуа де Тессана, который является влиятельным членом французской делегации, вопрос о применении франко-русского пакта настолько резко разделяет французское общественное мнение, что Леон Блюм вынужден прибегать к весьма изворотливой политике. Левым депутатам он говорит: «Не требуйте от меня, чтобы я сделал большее в отношении Испании: вы же видите, что я даю вам социальные реформы, которых вы добиваетесь…» А правым депутатам Блюм заявляет: «Совершенно ясно, что я уступаю рабочим, но вы видите, я не вмешиваюсь в дела Испании».
– Но подобная политика, – говорит в заключение Франсуа де Тессан, – не умиротворяет ни правых, ни умеренных. Более того, она раздражает левых.
* * *
Центральной фигурой Ассамблеи является молодой генеральный комиссар испанской республиканской армии, журналист и дипломат Альварес дель Вайо, прибывший с целью разоблачить с трибуны Лиги Наций агрессивные действия иностранных держав против Испании. Но поскольку факт явной виновности итальянцев и немцев в войне против Испании ставит в неудобное положение многие делегации, правительства которых стремятся прежде всего придерживаться политики невмешательства, число делегатов на заседаниях по мере того, как он говорит, постепенно редеет… Одни только русские и представители союзных центральноевропейских и балканских малых стран да эфиопы остаются на своих местах!
Что касается испанских республиканцев, то они никого не избегают. Даже наоборот. Но зато их избегают все! Тем не менее сегодня утром дель Вайо окружили в надежде узнать какие-нибудь дополнительные подробности о большом скандальном происшествии с испанской республиканской делегацией в Женеве.
Консул Ривас Чериф, деверь президента Испанской республики Асанья, только что совершил, по насмешливому выражению женевских газет, «самую большую глупость нашего века».
В течение многих лет со свойственным ему едким остроумием Асанья писал мемуары. Чтобы не подвергать их риску в условиях гражданской войны, он отослал рукопись своему шурину в Женеву.
Эти мемуары представляют собой самую страшную сатиру на новую Испанскую республику и на недостатки основных сотрудников президента. Но еще более ужасно то, что Асанья, как и все «весельчаки», в действительности очень грустный человек и главное – глубокий пессимист. Лейтмотивом каждой главы его мемуаров является рассуждение: «Испанская республика должна проиграть войну. Против нее – Италия, Германия и Англия. Она не может надеяться ни на какую иную помощь, кроме помощи со стороны Советского Союза. Следовательно, Испанская республика обречена на гибель».
Риваса Черифа, который всегда мечтал создать себе солидное положение в женевском политическом и светском мире, но никогда не мог добиться этого, вдруг осенила идея устроить серию завтраков и обедов, после которых устраивались бы чтения вслух мемуаров Асаньи. Это имело потрясающий успех… Вся Женева бросилась наконец к консулу!
А между тем самый красивый мужчина консульства, молодой, весьма болтливый и самонадеянный Тексидор оказался уже тайно подкупленным монархистами. Ему удалось позаимствовать у слишком доверчивого деверя четыре главы – и наиболее ядовитые! И бац… он передал их монархической печати. Таким образом, в самый критический момент войны в Испании Франко смог дать своим фалангистским газетам возможность первыми опубликовать эти мемуары, в которых испанский народ обнаружил жесточайшую сатиру на республику. А сатира эта была написана пером самого президента Асанья. Для того чтобы документ был более убедительным для читателя, весьма расторопный юный Тексидор сделал фотокопии рукописного текста. Что же касается незадачливого Риваса Черифа, подавшего спустя сутки в отставку, то он, осыпаемый насмешками женевцев, подыскивает себе работу.
* * *
И тем не менее в связи с политикой невмешательства престиж французской делегации пошатнулся, ибо слишком уж очевидно, что в Гернике, Толедо, Мадриде и Барселоне, увы, решающую роль играют именно итальянские дивизии и немецкие корабли и бомбардировщики.
Но кроме коммунистов, во Франции никто не желал, чтобы правительство предприняло военное вмешательство в дела Испании. Однако, за исключением правых партий, все считают справедливым, чтобы испанским республиканцам не было отказано в оружии и в средствах защиты.
Однажды Леон Блюм и Ивон Дельбос, взволнованные безнадежным тоном речи дель Вайо, заявили ему в присутствии свидетелей: «Лично мы убеждены в том, что имеет место итальянская и немецкая интервенция, но дайте нам неопровержимые доказательства этого для нашего общественного мнения, и политика невмешательства будет пересмотрена…»
Но слушатели остаются недоверчивыми. Подобный пересмотр означал бы, что Париж и Лондон действительно решили перейти к твердой политике по отношению к Риму и Берлину. Но… все знают, что правительство Леона Блюма, как и все правительства, нуждается в поддержке банков.
А представители деловых кругов, в сущности, требуют франко-германского сближения.
Окружая делегатов Жоржа Боннэ и Жака Рюэффа, небольшая группа французов ведет спор.
У всех у них озабоченный вид.
Крупный эксперт фюрера по экономическим вопросам доктор Шварц недавно совершил поездку в центральноевропейские и балканские страны, которая с точки зрения экономической имела исключительный успех.
Доктору Шварцу удалось будто бы обеспечить за Германией половину, если не три четверти всего внешнеторгового оборота балканских стран.
Используя клиринговые соглашения, которые он заключил с правительствами всех этих стран, доктор Шварц предстал перед ними как всегда дающий хорошую цену покупатель вина и скота. И поскольку ни греческие виноделы, ни югославские земледельцы, ни болгарские или турецкие возделыватели табака не питают надежды на то, что Франция купит у них хоть малую часть их товаров, они встретили немецкого покупателя как спасителя. Этот первый этап операции, естественно, сопровождался соответствующей пропагандой рейха: «Приезжайте в Германию – и вы увидите, что по сравнению с Францией там все дешевле на 40 процентов».
– Но вот наступает второй этап операции, – рассказывает Жак Рюэфф. – Чтобы получить возмещение за суммы, которые оно должно было выплатить своим производителям, балканское государство вынуждено обратиться в Рейхсбанк. И тогда-то доктор Шварц заявляет, что «поскольку германская марка блокирована, о платежах в валюте со стороны рейха не может быть и речи, но взамен этого для всех отраслей промышленности – в том числе, естественно, и для производящих оружие, самолеты, боеприпасы и артиллерию – открыты кредиты… Именно таким образом, под страхом невозможности разрешить серьезные внутренние трудности, все государства оказались вынужденными мало-помалу установить с Берлином торговые отношения.
Один из экспертов замечает в заключение:
– На Кэ д’Орсэ полагают, что политические последствия этой поездки трудно переоценить и что отныне Германия прибрала к рукам больше половины европейской торговли, тем более что рейху удалось связать свое процветание с благополучием всех балканских государств. И если бы в настоящий момент правительствам этих стран понадобилось совершить поворот в своей политике, они даже не имели бы возможности оказать противодействие своему новому экономическому хозяину.
* * *
Заседание Ассамблеи прервано до трех часов… Блюм и Дельбос входят в холл. Французские делегаты, не теряя времени, направляются завтракать в «Отель де Берг».
Блюм явно встревожен. Его неразлучный спутник Блюмель, молодой и очаровательный адвокат семьи председателя Совета министров, объясняет:
– Учитывая согласованную экспансионистскую политику диктаторов и гражданскую войну в Испании, задачи, стоящие перед Блюмом, тяжелы и обременительны. Его неотступно преследует мысль, имеет ли он моральное право потребовать от Франции, чтобы она подвергла себя в ближайшее время риску войны, с тем чтобы в будущем избежать другой войны.
* * *
Милан, 2 ноября 1936 года, Кафедральная площадь.
Бесчисленные штандарты, знамена, флажки и т. п. колышатся над целым морем людей.
Вся площадь украшена огромными плакатами и итальянскими флагами гигантского размера. На кафедральном соборе развешаны огромное полотнище красного бархата, кокарды и зеленые, белые и красные ленты. В центре помещен транспарант: «Да ниспошлет Иисус, владыка веков, долгие годы побед Италии и ее дуче, дабы христианский Рим светил вечным светом для мировой цивилизации».
На маленькой трибуне, расположенной на очень большом расстоянии позади трибуны, куда вот-вот должны прибыть Муссолини и Риббентроп, несколько чиновников Лиги Наций (где еще вчера генеральный комиссар испанской республиканской армии Альварес дель Вайо, центральная фигура Ассамблеи, в энный раз изобличал иностранную агрессию в Испании) обмениваются мнениями по поводу нового пакта, который свяжет Рим и Берлин.
* * *
Вдруг зазвучали государственные гимны, здравицы, аплодисменты.
Вслед за дуче появляются в парадных мундирах и занимают почетные места делегаты гитлеровских организаций за границей.
И, покрывая гром приветственных возгласов, Муссолини вопит:
– Есть великая страна, к которой были обращены в эти последние годы горячие симпатии итальянского народа: это – Германия!
* * *
Вечером 7 января 1937 года в министерстве получены две телеграммы.
Первая из них, посланная французским консулом в Мюнхене, сигнализирует о том, что несколько немецких воинских частей только что прошли через этот город, направляясь через Геную в Испанское Марокко для последующей высадки в Сеуте и Мелилье.
Во второй, исходящей от французского верховного комиссариата в Марокко, указывается, что в этих двух населенных пунктах подготовлены казармы для приема немецких войск.
– Вот наконец, – говорят себе некоторые политические деятели и журналисты, – доказательство, которого требуют Блюм и Дельбос для того, чтобы предпринять действия в связи с войной в Испании. Если это сообщение будет опубликовано, оно на этот раз неопровержимо установит наличие интервенции нацистов в Испании, разоблачит их планы в отношении Гибралтара и Северной Африки… А тогда… кто знает… может быть…
* * *
На другой день эта новость уже появляется на страницах двух крупных парижских газет.
Она вызывает возмущение в правительственных канцеляриях, сенсацию в Европе и оцепенение в Берлине. Курс акций на парижской и лондонской биржах и на Уолл-стрите стремительно падает.
Ивон Дельбос срочно возвращается с зимних каникул.
Гитлер, видя, что его план разоблачен, опасается взрыва негодования европейского общественного мнения. Своим судам, уже вышедшим в Средиземное море, он отдает приказ вернуться с полдороги и высадить немецкие войска в Генуе.
Отрицая бесспорный факт, немецкая печать неистовствует. Весьма любопытно, что французская правая печать поддерживает немецкую прессу в ее нападках на французов-антигитлеровцев, которые, как она утверждает, «толкают к войне».
Но ни Блюму, ни Идену ни на мгновение не приходит мысль об отказе от политики невмешательства.
* * *
Некоторое время спустя в Женеве на специально созванном для этой цели заседании Совета Лиги Наций присутствующие с полнейшим безразличием встречают выступление дель Вайо, который зачитывает, однако, поразительные документы.
В Гвадалахаре республиканские войска взяли в плен две итальянские дивизии – дивизию «Литторио» и дивизию «Белая стрела» – со всеми документами их штабов. Вот фотокопии телеграммы, которую дуче отправил своим генералам: «Будучи заранее уверен в вашей победе под Гвадалахарой, я выезжаю завтра из Рима в Ливию».
Но никто не задумывается над всем этим. Машина Лиги Наций продолжает механически действовать…
* * *
И тем не менее многое изменилось в Женеве – вплоть до знаменитых завтраков у Мориса де Ротшильда в Преньи, где беспокойство делегатов сказывается даже во время разговоров за столом.
На одном из своих последних завтраков Морис де Ротшильд обращается к советскому делегату Литвинову:
– Объясните же мне, уважаемый господин делегат, характер ваших отношений с Германией. Я не вполне понимаю… Вы заключили пакт с Францией – и все же постоянно флиртуете с рейхом!
Улыбаясь, Литвинов отвечает:
– Ну что ж, я сейчас вам объясню: две старые, чрезвычайно изысканные дамы-аристократки – Франция и Англия – никогда не причинят зла моей родине. В Европе есть лишь одна страна, которой мы опасаемся, единственная страна, которая обладает силой, направленной против России, – это Германия. И видите ли, дорогой господин де Ротшильд, мы ненавидим Германию до такой степени, что в один прекрасный день мы смогли бы стать ее союзником, чтобы заставить французов и англичан – у которых иначе будет соблазн всегда ей уступать – начать против нее войну и разбить ее для нас.
Занятые шербетом, все смеются по поводу этого рассуждения.
Но один из приглашенных, греческий делегат юрист Политис, возвращаясь из Преньи во дворец Лиги Наций, говорит:
– Я думаю, что гости барона приняли за шутку то, что является целой политической программой, о которой все мы – и те и другие – должны помнить!
* * *
Что же и говорить об атмосфере, которая царит теперь на традиционных завтраках, устраиваемых на каждой сессии первыми французскими делегатами для представителей Малой Антанты и Балканской Антанты.
Все эти министры совершенно обескуражены отставкой Титулеску, просьбу о которой он вынужден был в конце концов подать пятого сентября, уступая влиянию гитлеровской пропаганды при румынском дворе. Все они неустанно говорят тем не менее о том, как Германия с помощью угроз и выгодных предложений стремится привлечь их на свою сторону.
Но позиция французских делегатов, которая отныне стала почти «отчужденной», вызывает у всех глубокие переживания. Иностранные журналисты говорят с сарказмом: «Эта позиция очень похожа на поведение мужа, которому надоела его собственная жена и который каждое утро повторяет ей: “Ну что же ты наконец не найдешь себе любовника?”»
И одна только Елена Вакареску, делегатка Румынии с 1922 года, «бабушка Лиги Наций», как называют ее журналисты, сохраняет свое непоколебимо хорошее настроение.
Намекая на многочисленные специальные сессии Совета Лиги Наций или на чрезвычайные Ассамблеи, которые следуют одна за другой и никогда не приносят никаких результатов, но требуют огромной подготовительной работы, она с юмором говорит:
– Что касается меня, то Леон Блюм сделал то, чего не могла сделать ни война, ни любовь… Он заставил меня похудеть. За один год я потеряла семь килограммов!
* * *
Лондон, вечером 11 мая в отеле «Савой». Завтра состоится коронация его величества короля Георга VI. Герцогини, графини, баронессы, все в декольтированных платьях, а некоторые уже в придворных парадных туалетах, стоят в очереди в помещениях нижнего этажа отеля перед дверью парикмахера.
На улицах Лондона на всех зданиях центра укреплены щиты, на которых электрическими лампочками изображен герб. Загораясь попеременно всеми цветами, на них сверкают слова лозунга дня: «Долгие лета королю и королеве! Пусть их власть длится вечно!»
Никогда еще до сих пор коронация не проводилась с подобным размахом, ибо на этот раз король Англии впервые коронуется одновременно и как суверен Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, и, само собой разумеется, Индии.
В более скромных кварталах юмор вступает в свои права.
На одном из домов Уэст-энда я вижу большую простыню, к которой приколоты портреты королевской четы, окруженные эмблемами. Сверху над ними на видном месте изображен в сильно увеличенном виде клоп со следующей надписью: «Мы присосемся к вам, как он присасывается к нам».
Гайд-парк превращен в подлинный военный лагерь.
Настоящей проблемой является еще спешная постройка сотни маленьких ватерклозетов вдоль всего Вестминстерского аббатства и за ним, предпринятая по настоянию двора.
Во второй половине дня, во время репетиции церемонии коронации в аббатстве, в момент исполнения самого торжественного гимна, их включили все одновременно и… о ужас! – ни звуки труб, ни звуки органов не могут заглушить их неблагозвучный шум. И тотчас начинают срочно навешивать сотню обитых войлоком дверей… Но будет ли это закончено вовремя?
* * *
Наступает ночь.
– Ваша милость не должна ложиться спать, чтобы не повредить прическу, – повторяет английский «фигаро» каждой прекрасной леди, голову которой он только что украсил тремя традиционными белыми перьями, воткнутыми прямо в шиньон.
Покорно подчиняясь, прекрасные дамы, дремлют в креслах холла, сонно покачивая головами, пока метрдотель в безупречном костюме не привозит каждой из них на маленьком столике на колесиках плотный завтрак.
В 6 часов утра два французских академика – суровый Луи Жилле и великий сатирик французского общества последнего сорокалетия Абель Эрман, оба в парадной форме, проходят через холл отеля. Они первыми из приглашенных должны прибыть в Вестминстерское аббатство, где с высоты северной галереи, сидя неподвижно более шести с половиной часов, они будут наблюдать за бесконечными обрядами коронации королей Англии.
Поразительное зрелище для нашего времени: вереница придворных мантий, множество шталмейстеров и маленьких пажей.
В костюме, похожем на костюм адмирала, Макдональд обращает на себя внимание своей элегантностью. Чрезвычайно величественный Болдуин кажется печальным.
Абель Эрман, совсем маленький и сморщенный, очень суетится. Не отводя теперь от глаз зажатого в маленьких пухлых руках бинокля, он без устали рассматривает хоры аббатства и другие трибуны, бросая нелестные замечания по адресу то тех, то других:
– Как, – восклицает он (значительно громче, чем это необходимо), – они возвели в пэрство этого злодея Г.?.. Такое пополнение рядов английской аристократии поистине порочно! А эта герцогиня А… Какая развалина! Конечно, на коронации Георга V она выглядела гораздо лучше!
И так далее.
Находясь в своей стихии, Абель Эрман без устали продолжает в том же духе. Этот баловень парижских салонов является их самым жестоким критиком. Еще вчера Леон Блюм сказал, заметив его:
– Он умеет живописать все то, что могут порождать тайные и прикрываемые элегантностью пороки, – высокомерие, праздность и вечную погоню за деньгами, являющиеся отличительной чертой пришедшей в упадок аристократии. Если бы я принадлежал к светскому кругу, я бы ненавидел его.
* * *
Вечером на банкете Георга VI, которому Частный совет Короны порекомендовал недавно отпустить бороду, дабы совсем быть похожим на Георга V, встречают неистовыми аплодисментами. Он дает четкое определение имперской теории.
Обращаясь к доминионам, он говорит:
– Отныне вы являетесь свободными партнерами. Мы должны совместными усилиями осуществить объединение на базе полного равенства.
Премьер-министр Южно-Африканского Союза Герцог отвечает:
– Этот день освящает великую конституционную эволюцию имперского статута. Все сохраняют свои свободы в совершенном союзе, чтобы иметь возможность совместно трудиться во имя процветания цивилизации!
Царит самое высокое патриотическое усердие. Оно внушает всем англичанам чувства, передать которые могли бы отвечающие на все вопросы слова: We are British!
В дневниках наших министров и государственных деятелей в этот вечер можно было прочесть такую короткую фразу:
«Британская империя… какой силой веет от этих двух слов!»
* * *
Спустя несколько дней новый американский посол в Париже Уильям Буллит, личный друг Франклина Рузвельта, пригласил на обед в свой частный особняк на авеню Иена Эррио, Жоржа Манделя, Николая Политиса, посланника Чехословакии в Париже Стефана Осуского, Раймона Патенотра, Поля Рейно и генерального комиссара испанской республиканской армии Альвареса дель Вайо.
С безнадежным видом дель Вайо объясняет:
– Это премьер-министр Испанской республики Негрин направил меня в Париж, сообщив мне, что нужно любой ценой добыть для нас достаточное количество оружия в целях немедленного вооружения четырех дивизий. После сражения под Толедо итальянцы терпят поражения. Они только что потерпели неудачу в Мадриде. Победа зависит, сказал он мне, от успеха вашей миссии, ибо единственная надежда быстро получить оружие – это Франция.
И в порыве внезапно охватившего его отчаяния дель Вайо, опускаясь на диван, хватается руками за голову и рассказывает:
– Я пришел к Леону Блюму. Я сказал ему: «Ваш министр иностранных дел и вы сами потребовали от нас доказательств, подтверждающих итальянскую интервенцию. Я представил их уже Лиге Наций. Я принес вам новые! Вот они!» – «Дорогой дель Вайо, – ответил мне Леон Блюм, – мы не сомневаемся. Но битву нужно вести в Лондоне. Франция изолирована в Европе и не может предпринимать действий без Англии!» Тогда я перешел в контратаку, заявив ему: «Подумайте, Леон Блюм, вы – лидер французского социализма, и до сих пор испанские борцы любят вас. Если вы будете по-прежнему занимать уклончивую позицию, то обещаю вам, что всякий раз, когда в окопах падет испанский социалист, его последней мыслью будет проклятье вам. Он сможет сказать: «Мой убийца – Леон Блюм…» – И с чрезвычайным волнением дель Вайо восклицает: – Да, я был безжалостен и я видел, как великий человек, обхватив голову руками, вздрагивал под моим натиском. Тогда в комнату вошла его жена и сказала мне: «Имейте сострадание к председателю, он больше не в силах выдерживать это… Вы не имеете права пытать его так, ибо он делает все, что может!» Блюм не поднял головы, и я вышел!
Наступает долгая и мучительная тишина.
Через некоторый промежуток времени ее прерывает, пытаясь изменить атмосферу, посол Уильям Буллит. Он рассказывает: «Представьте себе, загородный дом, который я только что снял в Шантийи, принадлежал Вателю, повару короля Людовика XIV. Естественно, в нем нет душа, ванны и прочего. Я спросил подрядчика, который в прошлое воскресенье приходил ко мне с группой рабочих»: «Сколько понадобится времени, чтобы приспособить этот дом для жилья?» – «Если вы можете оградить нас, месье, от новых законов Леона Блюма и получить у него для нас разрешение работать, как мы пожелаем, тогда мы сможем подготовить вам дом за шесть недель». – «А иначе?» – спросил я его. «Иначе, – проворчал подрядчик, – потребуется минимум четыре месяца!» – Тогда, – продолжал Буллит, – я направился к Блюму. Подвергнутся ли мои рабочие наказанию, – спросил я, – если они будут работать, не придерживаясь установленных вами законов о еженедельных часах отдыха?» – «Конечно, нет! – ответил мне Леон Блюм с самым серьезным видом. – Я дам на этот счет соответствующие указания».
И вот таким образом спустя шесть недель мой дом в Шантийи был готов.
* * *
Но Буллит напрасно теряет время. Рассказ дель Вайо вновь заставил задуматься всех о каждодневных поражениях демократических стран и о победном шествии диктаторских режимов.
Видя это, Уильям Буллит не упускает случая лишний раз предостеречь французских политических деятелей и послов союзных стран против всяких преувеличенных надежд на американское сотрудничество. С рюмкой виски в руке, прислонившись к огромному камину из белого мрамора в большом салоне посольства, он громко повторяет:
– Делайте самолеты, самолеты… и еще раз самолеты, иначе в недалеком будущем все вы будете побеждены.
Глава 29. Австрия под гитлеровским сапогом
Фальцет и пенсне. – Званый вечер у Ага Хана. – Собаки, воющие по покойникам. – Муссолини – римский император. – Содружество двух империй. – Личные апартаменты Эдуарда Бенеша. – Сочетание воды с огнем. – То, что происходит к востоку от Рейна, Англию не интересует. – Пощечина и пуля в лоб. – Пассионария и Дузе. – Красноречие. – какое подкупающее искусство! – Сцена Гитлер – Шушниг. – Национальное единение невозможно. – Геринг и балетное представление. – Гитлер и провидение. – Генеральная репетиция. – Чудовищный выбор: подчинение или война.
Париж, 3 июня 1937 года, во дворце, где заседает сенат.
На трибуне Жозеф Кайо. Его лицо и лысина стали пунцовыми… Пронзительный голос срывается до фальцета… Воинственно поблескивает пенсне… Он жестикулирует, вертится, поочередно призывает в свидетели то трибуны третьего яруса, то председателя сената.
Председатель финансовой комиссии Жозеф Кайо, ставший глашатаем реакции, решил добиться ликвидации Народного фронта.
Дефицит достигает сорока миллиардов. И все растет дефицит торгового баланса. Новое гигантское стачечное движение на заводах Гудрич захлестнуло пригороды Парижа и угрожающе окружило столицу. Наконец, судебное преследование, начатое министрами внутренних дел и юстиции против ТКРД («Тайного комитета революционного действия», известного публике как заговор кагуляров), повлекло за собой арест генерала Дюсеньера и графа Поццо ди Борго.
Все это раздражает представителей правых партий и отнюдь не успокаивает левых политических деятелей.
* * *
Внешняя политика развивается в опасном направлении.
Гражданская война в Испании, неминуемый аншлюс, а теперь еще и гитлеровская угроза Чехословакии доводят до наивысшей степени раскол французского общественного мнения.
В сенате, как и в Бурбонском дворце, лейтмотивом выступлений правых по-прежнему является утверждение, что «Франция не может вести переговоры с Гитлером через посредничество еврея!».[57] В этом суть всей внутренней драмы Франции, которую она переживает весной 1937 года.
Все хотят избежать войны. Однако некоторые группы французов считают, что правильно понимаемый патриотизм заключается в. том, чтобы делать – и иногда даже во вред нашим союзным обязательствам – уступку за уступкой Гитлеру и Муссолини с целью попытаться достигнуть с ними какого-то согласия, ради которого был бы принесен в жертву франко-русский пакт!
Все еще находясь на трибуне, Жозеф Кайо заканчивает наконец свою грозную обвинительную речь против правительства такими стихами Ришпэна:
…Правительство – это… Женщина пьяная, В бездну летящая, Не зная как, не зная почему.Жозеф Кайо только что нанес роковой удар Народному фронту, но, будучи смертельно ранено, это политическое образование проживет в агонии еще десять месяцев!
Восьмого июня образовано радикал-социалистическое правительство Шотана – Блюма. По мнению правых партий, можно не сомневаться, что председатель Совета министров Шотан и министр финансов Жорж Боннэ будут способны в случае необходимости пойти на уступки, которых требуют диктаторы, ибо прежде всего не должно быть войны!
* * *
Женева, сентябрь 1937 года.
Постройка нового дворца Лиги Наций наконец закончена. На Генеральной Ассамблее председательствует Ага Хан. Этого момента в своей жизни он ждал целые годы.
Но Ассамблея тянется бесконечно долго.
Председатель совета, главы правительств, главы делегаций лишь весьма редко появляются там.
– Мне не везет. Это в первый раз главы делегаций так бойкотируют Женеву! – жалуется Ага Хан.
Но совершенно очевидно, что основная игра ведется не в Женеве, а именно в столицах.
Тем не менее после многих недель ловких и осторожных переговоров с представителями личного кабинета Леона Блюма и с Жозефом Авенолем Ага Хан добивается того, что в один из сентябрьских дней Леон Блюм прибывает на несколько часов на большой вечер, посвященный открытию нового дворца.
Несколько дней спустя гости танцевали в большой мраморной галерее – без всякого увлечения, но до шести часов утра.
– Знаете ли вы, во сколько это обошлось Ага Хану? – спрашивает в известной степени шокированный всем этим представитель швейцарского правительства. – Представьте себе, он приказал доставить лакомства, а также индийские напитки прямо из Калькутты. Для этого понадобилось два самолета! Он, должно быть, истратил около миллиона швейцарских франков.
На ярко-зеленых газонах у террасы первого этажа несколько часов подряд отчаянно кричат разбуженные шумом и вырвавшиеся из вольера знаменитые павлины – гордость нового дворца.
Весьма раздраженный и чувствуя, что этот прием не удался, Жозеф Авеноль весь вечер ворчит:
– Ах, если бы я только мог заставить их замолчать!
Французский делегат социалист Мариус Муте спокойно отвечает:
– У меня на родине в деревнях тоже есть собаки, которые воют по покойникам… Тут уж ничего не поделаешь!
* * *
Мюнхен, 25 сентября. Фюрер устраивает грандиозную встречу Муссолини, который от вокзала до города едет между двумя рядами бюстов римских императоров, преемником которых он себя выставляет.
Над большой площадью, где население приветствует дуче, доминирует вывешенная на высокой колонне гигантская буква М, его монограмма, обрамленная колоссальной короной.
Берлин, 27 сентября. Муссолини, стоя на переднем плане в роскошном открытом автомобиле, в котором Гитлер занимает место позади него, торжественно проезжает несколько километров от имперской канцелярии до Олимпийского стадиона.
Повсюду с крыш до тротуаров свисают гигантские германские и итальянские государственные флаги. Эмблемы в виде секиры и пучка прутьев (фасции – символ древнеримских легионов, взятый «на вооружение» итальянскими фашистами; от слова «фасция» и происходит слово фашизм, как обозначение единения «прутьев». – Примеч. ред.) и эмблемы рейха украшают сотни пилонов и колонн.
На следующий день, 28 сентября, в семь часов вечера в Берлине состоялся огромный митинг!
Гитлер чествует своего гостя – «одного из величайших людей всех веков, одного из тех редких гениев, которых создает не история, а которые сами творят историю!». Гитлер превозносит содружество двух империй, которые, как заявляет он, «насчитывают сто пятнадцать миллионов человек, решивших бок о бок сражаться против разрушительной заразы демократического интернационала и оказать сопротивление любым попыткам внести раскол…»
Со своей стороны, Муссолини на совершенно непонятном из-за сильного итальянского акцента немецком языке в высокопарных выражениях восхваляет оба режима и клянется Третьему рейху в вечной дружбе. «Когда фашизм имеет друга, он идет с ним до конца. Завтра Европа станет фашистской и сто пятнадцать миллионов человек поднимутся как один в несокрушимой решимости».
Внезапно гремят мощные раскаты грома. Начинается ужасная гроза. Молнии освещают небо, покрытое зловещими тучами, и в полумраке сумерек эта картина кажется трагической. Проливной дождь обрушивается на толпу, которая в панике бросается к трамваям.
Вечером посол Понсэ говорит тем, кто ему рассказал обо всем этом:
– Итак, кажется, сами силы природы возвещают людям о несчастьях, которые вскоре обрушатся на их головы благодаря союзу двух диктаторов.
Демократический мир пребывает в состоянии крайней растерянности.
Шестого ноября – последний удар, прекращающий мучительные сомнения. Муссолини присоединяется к антикоминтерновскому пакту, заключенному между Германией и Японией в 1936 году.
Андре Франсуа-Понсэ телеграфирует на Кэ д’Орсэ:
«Отныне Франция и Англия отделены от Центральной Европы прочным барьером. Они теперь не в состоянии оказать непосредственную, прямую помощь Австрии и Чехословакии. Это может навести Гитлера на мысль, что пробил час приступить к осуществлению второй части его программы – созданию “великого рейха”».
* * *
Прага, 14 декабря 1937 года. Градчаны. 9 часов вечера. Личные апартаменты президента Чехословацкой республики Эдуарда Бенеша.
Через четыре больших окна открывается вид на Прагу с тонкими очертаниями ее семидесяти дворцов, которые выделяются на фоне падающего легкими хлопьями снега. На переднем плане перед окнами видны национальные флаги Чехословакии и трехцветные флаги Франции. Завтра в Прагу прибывает Ивон Дельбос, возвращающийся из непродолжительной поездки в Варшаву, Белград и Бухарест.
– Национальные меньшинства здесь пользуются большими правами, чем все остальные граждане. И вы это прекрасно знаете, мой дорогой друг, – говорит Эдуард Бенеш, закрывая географический атлас Чехословакии, который он рассматривал в ожидании прибытия генерального секретаря Кэ д’Орсэ.
– Сначала, дорогой Леже, расскажите мне, что происходит в Париже, – очень тихо своим гортанным голосом спрашивает Бенеш.
И Алексис Леже объясняет ему обстановку во Франции… Забастовки… разногласия в общественном мнении…
Нервно постукивая своим обычным жестом длинным ножом из слоновой кости по бювару, Бенеш сосредоточенно слушает.
– Во Франции все хотят избежать войны, – продолжает Леже, – но некоторые группы полагают, что этого можно было бы добиться путем соглашения с Гитлером и Муссолини, даже если бы это и потребовало принесения в жертву франко-русского пакта. Другие группы французов, наоборот, считают, что единственным шансом на сохранение мира является сопротивление двум диктаторам путем применения франко-русского пакта, хотя бы даже вплоть до демонстрации силы именно с тем, чтобы никогда не прибегать к ней…
– А каково положение в Женеве? – прерывает его Бенеш.
После некоторого колебания, все тем же свойственным ему мягким и вкрадчивым голосом Леже обрисовывает тревожную политическую атмосферу, царившую на последней сессии Ассамблеи Лиги Наций.
Германия – готовая к прыжку на Австрию и Чехословакию. Франция и Англия – продолжающие спокойно взирать на удушение Испанской республики. Все другие европейские государства – не имеющие больше никакой другой заботы, кроме опасения, как бы не навлечь на себя гнев Берлина.
Несмотря на эту драматическую картину, Эдуард Бенеш остается оптимистом.
– Да, да… но когда в конце лета немцы направят Праге ультиматум, я знаю, что Франция поддержит нас. Впрочем, группа депутатов чехословацких немцев в пражском парламенте настроена очень хорошо. Если понадобится, в один голос говорят они, мы умрем за Чехословакию, потому что, хотя мы и немцы, мы тем не менее прежде всего демократы!
* * *
Наутро прибывает Ивон Дельбос, ошеломленный тем, что он наблюдал в Варшаве, Белграде и Бухаресте. На перроне вокзала, где со всех сторон раздаются возгласы «Да здравствует Франция!», он говорит новому французскому послу Виктору де Лакруа:
– Поверьте мне, теперь наша страна одинока перед лицом готовящегося нападения!
– Нужно выстоять, господин министр, ибо диктаторы не вечны, – говорит Дельбосу старый господин, похожий на Тьера.
Это Вуех, чешский министр здравоохранения и председатель чешско-немецкой социал-демократической партии.
Тем не менее, отвечая на вопрос Дельбоса, двойник Тьера быстро соглашается с тем, что:
«Чешские немцы считают, что сохранение чешской демократии несовместимо с установлением модуса вивенди с рейхом: это было бы равносильно сочетанию воды с огнем, это невозможно, ибо демократии и диктатуры ни в чем не могут прийти к соглашению!»
* * *
На обратном пути – на последних чешских станциях в Пльзене и в Хебе – организованы волнующие манифестации в честь проводов французского министра. На перроне вокзала в Хебе Дельбос заявляет:
– В мире не существует двух других народов, столь тесно связанных братскими узами, как французский и чехословацкий народы.
* * *
По возвращении в Париж Дельбос находит телеграмму от Андре Франсуа-Понсэ. Он предупреждает министра, что Гитлер собирается в самое ближайшее время захватить Австрию.
Тогда Дельбос в полном согласии с Энтони Иденом пытается добиться принятия совместной декларации о защите Австрии.
Слишком поздно!
Иден подает в отставку, ибо на угрозы фюрера Невиль Чемберлен отвечает:
«То, что происходит к востоку от Рейна, Англию не интересует».
* * *
– Не будем проявлять героизм ради Австрии, лучше укроемся за нашей линией Мажино, – заявляет П.-Э. Фланден во французском парламенте.
Одобряя эти слова, пацифистски настроенный профсоюз учителей вторит этому:
«Мы предпочитаем получить пощечину, нежели пулю в лоб!»
А дни бегут.
* * *
Несколько недель спустя, 21 февраля 1938 года, в испанском посольстве в Париже происходит один из завтраков, регулярно устраиваемых послом для членов французского парламента и политических деятелей, которые еще поддерживают дело несчастных испанских республиканцев. Последние все еще отчаянно сражаются на фронтах Мадрида, Толедо, Теруэля.
Эррио прибывает с опозданием. Он коротко рассказывает:
– На Кэ д’Орсэ сильно встревожены большой речью, произнесенной Гитлером вчера вечером, в которой он потребовал – вы слышали, в каких выражениях! – присоединения к рейху трех миллионов чехословацких немцев.
Тягостное молчание.
Какое-то чувство глубокого волнения с самого начала царит на этом завтраке.
Справа от Эррио сидит знаменитая Долорес Ибаррури, Пассионария, великая вдохновительница испанского сопротивления.
Красивое лицо с правильными чертами и большими выразительными темными глазами. Одетая в простое черное платье из грубошерстной ткани, она чрезвычайно изящна, и ее сходство с Элеонорой Дузе поразительно.
Говорят, что ее красноречие неотразимо. Присутствующие парламентарии хотят услышать ее.
Посол призывает к тишине.
Скромным жестом Пассионария отодвигает свой стул и начинает говорить.
За исключением двух или трех человек, никто из гостей не понимает испанского языка, и тем не менее лица всех присутствующих становятся строгими, сосредоточенными, у некоторых на глазах навертываются слезы.
И когда она снова садится за стол, тишина еще длится некоторое время.
Усаживаясь несколько минут спустя в свой автомобиль, Эррио с глубоким убеждением говорит:
– Красноречие – какое все же это подкупающее искусство! Никто из нас не понял ни единого слова из того, что говорила Пассионария, и тем не менее все мы взволнованы до глубины души!
* * *
Одиннадцатое марта 1938 года, Елисейский дворец, 10 часов вечера.
С озабоченным видом Леон Блюм стремительно взбегает по лестнице главного входа сквозь строй фотографов. Президент республики Лебрен поручил ему сформировать новое правительство. Министерство Шотана было свергнуто накануне сенатом.
Леон Блюм прибыл, чтобы изложить президенту республики трудности, с которыми ему приходится сталкиваться.
Альбер Лебрен чрезвычайно взволнован молниеносно быстрым развитием международных событий.
Он держит пачку телеграмм, только что пересланных ему с Кэ д’Орсэ. В них рассказывается о совершенно невероятной сцене между Шушнигом и Гитлером, во время которой последний угрожал несчастному канцлеру Австрии. Едва дав ему время проглотить скудный завтрак, Гитлер приказал своим генералам войти, чтобы показать главе австрийского правительства тщательно разработанные планы бомбардировки главнейших австрийских городов и даже уничтожения некоторых из них. В последней телеграмме сообщалось, что Шушниг почти покорился, согласившись предоставить нацистскому министру Зейсс-Инкварту важный пост в своем кабинете…
Альбер Лебрен встречает Блюма словами:
– Итак, маленькая Австрия с ее семью миллионами жителей (из которых более половины, как уверяют, настроены в пользу аншлюса) осталась одна лицом к лицу с рейхом и его шестьюдесятью миллионами жителей… Какая драма… Вчера с трибуны нашего парламента Ивон Дельбос правильно сказал, что «Франция не смогла бы оставаться безучастной к судьбе Австрии». Но, по-видимому, как показывает зондаж, проведенный нами в дружественных и союзных странах, они весьма мало склонны к вмешательству!
Потрясенный Леон Блюм своим глухим голосом замечает:
– Через несколько часов ультиматумы Гитлера обрушатся на канцлера Шушнига и его отставка неминуема. Новый австрийский министр внутренних дел нацист Зейсс-Инкварт готовится занять его место.
Президенту республики, беспокоящемуся по поводу трудностей, встающих на пути создания правительства национального единения, единственно только и мыслимого в условиях чрезвычайных обстоятельств, Леон Блюм отвечает:
– Кроме правых, все партии согласны! Через несколько минут я как раз собираю в парламенте на секретное заседание двести парламентариев от этих партий.
* * *
Часом позже в Берлине маршал Геринг, задержавшийся на приеме у Гитлера, заставляет себя ждать в Доме авиации, куда приглашен на представление балета дипломатический корпус.
* * *
В то же самое время в Париже Леон Блюм обращается к парламентским представителям правых партий:
– Господа, нужно создать Священный союз. Левые партии дали свое согласие. Вена с минуты на минуту будет оккупирована! К сожалению, совершенно ясно, что завтра немецкие войска будут в Праге, а затем, может быть… вскоре и в Париже! Объединимся же, создадим правительство национального единения!
Предложение социалистического лидера встречается завываниями, чередующимися с грубыми ругательствами и выкриками: «Долой евреев! Блюм – война!..»
Председатель партии «Альянс демократик» Фланден восклицает:
– Правые партии не сотрудничают с коммунистами. Но эти партии представляют миллион пятьсот тысяч рабочих и крестьян, которых вы не имеете права лишить участия в национальной жизни страны, ибо вы нуждаетесь в них для увеличения производства вооружения.
* * *
В Берлине к этому времени окончилось представление балета, и Геринг принимает поочередно каждого из послов.
И каждому он говорит:
– Отсутствие добросовестности со стороны канцлера Шушнига заставило нас действовать таким образом, как мы только что поступили!
На это даже наиболее прогитлеровски настроенный из послов, англичанин Невиль Гендерсон, возражает:
– Но, господин маршал… если даже канцлер и был недостаточно благоразумен, разве это основание для того, чтобы Германия совершила столь грубое насилие?
– Слишком поздно, – отвечает Геринг. – Гитлер уже выехал из Берлина, чтобы завтра утром вступить в Вену.
* * *
В Бурбонском дворце все еще продолжаются дикие крики двухсот правых депутатов и сенаторов.
Терпеливо, в который уже раз, Леон Блюм повторяет:
– Но, господа, чтобы иметь бо́льшие гарантии, если вы хотите, вы сами выберете министра финансов.
– Нет, мы не хотим участвовать в вашем правительстве вместе с коммунистами! – повторяет Пьер-Этьен Фланден и добавляет: – На Чемберлена это произвело бы такое впечатление, что дело дошло бы до разрыва с Англией. Что же касается нас, правых депутатов, то мы подождем до тех пор, пока весь парламент не будет убежден, что существует лишь одна опасность – коммунистическая!
В свою очередь, сенатор Лемери вопит:
– Подлинная опасность войны в Европе – это Советы!
Отчаявшись, Леон Блюм закрывает заседание.
* * *
На рассвете в Бурбонском дворце депутат от Нёйи Анри де Кериллис своим зычным голосом возмущенно восклицает:
– Вот как отвечают двести французских депутатов на оккупацию немцами Вены!
Что касается генерала Вейгана, который все же одно время высказывался за союз с СССР, то он опять вернулся к своей антисоветской позиции и теперь вторит правым депутатам.
* * *
На следующий день, 13 марта, «имперским законом» Австрия включается в состав рейха и над Веной падает занавес. Ее оккупирует 8-я немецкая армия. С балкона городской ратуши Гитлер обращается к австрийцам:
– Если из австрийского города, где я родился, провидение призвало меня к руководству рейхом, то оно не могло не возложить на меня миссию возвратить мою дорогую родину германскому рейху.
* * *
Поль-Бонкур соглашается принять пост министра иностранных дел в новом кабинете Леона Блюма, политическая база которого еще более узка, чем предшествующих правительств.
Представителям печати, собравшимся в его кабинете на Кэ д’Орсэ, Поль-Бонкур энергично заявляет:
– Моя политика будет заключаться в том, чтобы покончить с политикой Чемберлена. Пусть Англия решается. В силу своих международных обязательств и дружбы с Францией она обязана заявить без обиняков: «В тот день, когда Германия нападет на Чехословакию, Франция выступит на защиту последней, и Англия будет рядом с ней».
Беспрерывно раздаются телефонные звонки из Берлина и Рима. Один из сотрудников министра громко докладывает ему:
– Муссолини только что созвал в Венецианском дворце заседание Большого фашистского совета и зачитал там послание фюрера. Последний сообщает, что в знак признательности за лояльную позицию Италии во время событий в Австрии он предоставляет ей полную свободу действий в районе Средиземного моря и в Африке, а также заверяет, что Германия окажет полную поддержку Италии во всех ее начинаниях. Чтение послания сопровождалось неистовыми криками «ура». В заключение Муссолини добавил: «Отныне все готово для того, чтобы мечта об имперском господстве Италии превратилась в реальность».
Ошеломленные журналисты молча слушают.
В промежутке между телефонными звонками я рассказываю:
– Сегодня у меня на завтраке присутствовал австрийский поверенный в делах Мартин Фукс. Это была настоящая драма. Когда он вошел, в салоне воцарилась мертвая тишина. Никто не осмеливался задавать Фуксу вопросы. Но он заговорил сам, глухим голосом, как если бы говорил во сне: «Да, Шушниг предпочел лучше сдаться немцам, чем дезертировать из своей страны, ибо он мог бежать. Отныне для него начинается длительный период мучительных страданий. Когда же теперь моя страна снова займет свое место в Европе? Почему французское правительство ничего не предприняло в защиту Австрии?» И в течение всего завтрака то и дело воцарялось тяжкое молчание.
Но Бонкур уже давно не слушает моего рассказа. Он читает «телеграмму первоочередной срочности» от своего посла в Берлине: «Могу сообщить вашему превосходительству, что на секретном совещании, созванном фюрером в Киле, очень мало говорилось об Австрии, но зато очень много – о завоевании Чехословакии. Немецкие дипломаты склоняются к тому, чтобы применить дипломатический метод – предъявление Чехословакии ультиматума с требованием разорвать ее договор с Россией и предоставить особые права Судетам. Но в результате возобладала точка зрения Геринга, поддержанная генералами. Следовательно, вполне возможно, что через несколько недель Генлейн потребует автономии для Судетской области. После чего, некоторое время спустя, германское правительство сконцентрирует на чехословацко-немецкой границе двадцать дивизий 4-й армии генерала Рейхенау и десять тысяч солдат судетской бригады, сформированной в Германии в течение этих последних месяцев. Затем, точно так же как и Шушнигу, президенту Бенешу будет направлен ультиматум. Таковы решения, которые были намечены на этом секретном совещании. Немецкие генералы указывали, что было бы чрезвычайно важно выяснить, вмешается ли Франция в конфликт, ибо при всем том не следовало бы идти на риск всеобщей войны».
Люди на Кэ д’Орсэ – в состоянии крайней растерянности:
– В Вене мы только что видели генеральную репетицию предстоящего спектакля… На какой сцене он будет представлен? Смогут ли Франция и Англия, каково бы ни было их стремление к согласию и европейскому сотрудничеству, стерпеть это?
На улице Сен-Доминик, в военном министерстве, близкие к министру Даладье круги настроены пессимистически.
– Чехословакия полностью окружена, и Франция оказывается в изоляции, – заявляют они.
В первый раз французы ясно понимают, что новая война возможна, по всей вероятности – неизбежна и, может быть, даже совсем близка.
* * *
В дни, последовавшие за 14 марта, Поль-Бонкур определяет свою позицию. Он вызывает посланника Чехословакии в Париже Стефана Осуского и говорит ему:
– Если ваша страна подвергнется нападению, Франция выполнит свои обязательства, вытекающие из Локарнского договора от шестнадцатого октября тысяча девятьсот двадцать пятого года.
Спустя десять дней Невиль Чемберлен заявляет в палате общин:
– Франция сообщила нам, что она не допустит покушений на независимость Чехословакии. По отношению к этой стране у нас нет таких же обязательств, как у Франции. Но у нас есть обязательства по отношению к Франции, и маловероятно, чтобы мы могли остаться вне конфликта.
Меланхолично настроенный Бонкур замечает:
– Это не значит, что Чемберлен не желал бы, чтобы французское правительство само освободило его от этих обязательств. И я боюсь, что именно в этом направлении стараются некоторые лица в Париже! Увы, они встречают здесь слишком благоприятную почву!
* * *
Действительно, в парламенте сильнейшее возбуждение.
«Прежде всего надо избежать войны». Таков лозунг, подхваченный всей правой печатью.
В комиссии по иностранным делам Пьер-Этьен Фланден повторяет точку зрения Жозефа-Бартелеми, профессора государственного права. По его мнению, франко-чешский договор не существует больше с тех пор, как Гитлер денонсировал 7 марта 1936 года франко-германское соглашение в Локарно. Локарнский пакт мертв, и все, что связано с ним, также мертво. Следовательно, Франция не обязана воевать ради сохранения Судетов в сфере власти Праги!
– С юридической точки зрения, – говорит в заключение Фланден, – крах Локарнского пакта, с которым связан наш последний договор с Чехословакией, являющийся одним из его следствий, делает франко-чешский договор недействительным. Следовательно, мы свободны.
С негодованием отвергая этот тезис, Бонкур возражает:
– Нарушение Германией договора еще не делает его недействительным. Как же вы можете отрицать наши обязательства по отношению к Чехословакии? Это невозможно ни с юридической, ни с политической точки зрения.
Пьер-Этьен Фланден отвечает на это:
– По моему мнению, ремилитаризация Рейнской зоны слишком затруднила осуществление военных обязательств франко-чешского договора, чтобы не желать в первую очередь сближения с Германией.
* * *
Спустя двое суток по требованию Поль-Бонкура созывается заседание Комитета национальной обороны.
Начальники штабов военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил, начальник генерального штаба генерал Гамелен и маршал Петэн в осторожной форме дают понять, что вытекающее из франко-русского пакта военное сотрудничество между Францией, Россией и малыми союзными с Францией странами никогда серьезно не изучалось.
* * *
Обеспокоенный и грустный, Леон Блюм, возвратившись к себе домой на Бурбонскую набережную, пишет, как он делает это каждый вечер, очередную статью в «Попюлер»:
«Вопрос, который встает перед нами, заключается в том, чтобы определить, что мы должны делать, дабы не оказаться перед чудовищным выбором между подчинением и войной. Как избежать нам этой дилеммы? Некоторые думают, что мы должны отказаться от политики Ришелье и Людовика XIV; что мы должны отстраниться от участия в делах Центральной Европы; что мы должны отгородиться от остальной Европы, дабы сосредоточить свои усилия в рамках нашей империи.
Но вы забываете об оси Рим – Берлин – Токио. Нужно считаться с действительностью, и никто не имеет права закрывать на нее глаза.
У вас нет выбора! Существует один факт, который доминирует над всем, а именно то, что вы собираетесь предоставить Германии свободу действий в Центральной и Восточной Европе; но уверены ли вы в том, что вслед за этим, став более сильной, чем прежде, она не повернется против вас?»
Глава 30. Часы, полные драматизма. Эдуард Даладье. Жорж Боннэ
Изменение французской политики. – Наша авиация была бы уничтожена в течение двух недель. – Франко-русский пакт. – Быть побежденными Гитлером или победить со Сталиным. – Наша маленькая родина принадлежит нам самим. – Полночь в Виндзорском дворце. – Большая сосиска. – Жозеф Авеноль и Дон Кихот. – Негус и его черная мантия. – Война иудеев. – Зуавы, Георг VI и королева Елизавета. – Самый блестящий из всех приемов на Кэ д’Орсэ. – Да здравствует король! Да здравствует королева! – Начался путь Чехословакии на Голгофу. – Двустворчатые позолоченные двери внезапно открываются. – Последнее предостережение.
Десятое апреля 1938 года. Министерская декларация нового правительства Даладье – Боннэ – Рейно – Манделя.
– Великая и свободная страна может добиться спасения только своими собственными силами! Представшее перед вами правительство национальной обороны решило взять на себя осуществление этой воли к спасению, – восклицает Даладье.
Доминирующее положение во всей международной обстановке занимает проблема агрессии, подготавливаемой Адольфом Гитлером против Чехословакии, которую Франция в соответствии со статьями Локарнского договора обязана защищать в случае нападения на нее Германии.
Подыскивая себе министра иностранных дел, Даладье обращается сначала к Поль-Бонкуру, предупреждая его, однако, что его последние заявления в комиссии по иностранным делам восстановили против него большинство радикалов и часть умеренных.
Отвечая на предложение Даладье, Поль-Бонкур вновь подтверждает свое твердое убеждение, что Франция должна принять все меры для оказания помощи Чехословакии. Поразмыслив, премьер Даладье звонит Поль-Бонкуру:
– Ваша политика, конечно, весьма достойна Франции, но я не думаю, чтобы Франция была в состоянии ее проводить. Я собираюсь обратиться к Жоржу Боннэ.
Социалисты отказываются сотрудничать с Даладье, который ориентирует свое правительство в сторону политики правых партий.
Выбор Жоржа Боннэ является показателем изменения французской внешней политики.
Основная причина этого, хотя и неизвестная в достаточной мере общественному мнению, заключается в слабости французских и английских военно-воздушных и военно-морских сил по сравнению с вооруженными силами Гитлера.
– Мы располагаем всего лишь старыми самолетами, скорость которых не превышает 350 км/час, тогда как средняя скорость немецких самолетов достигает 500 км/час, и в случае войны наша авиация была бы уничтожена в течение двух недель, – говорит Жоржу Боннэ начальник штаба военно-воздушных сил генерал Вийемен.
Касаясь состояния французской сухопутной армии, Даладье вновь повторяет нашему послу в Берлине Франсуа-Понсэ:
– Нам необходимо еще полгода, чтобы вооружить нашу армию современными орудиями, способными противостоять немецкой артиллерии. К сожалению, производство 90-миллиметровых зенитных орудий должно начаться только во второй половине 1939 года. Что же касается Англии, то в докладе нашего военного атташе в Лондоне генерала Лелонга утверждается, что «английская сухопутная армия почти не существует. Численность ее достигает всего лишь двести тридцать тысяч человек, включая резерв регулярной армии и тыловые службы. В первые шесть месяцев войны она смогла бы предоставить в распоряжение Франции только 30 тысяч солдат… да и то едва ли! Что касается авиации, то Англия располагает лишь несколькими сотнями современных самолетов, не способных выдержать натиск в десять раз более сильных немецких эскадрилий, однако ее промышленность, по точным данным, начинает производить 150 самолетов ежемесячно.
Доклад Лелонга уточняет также, что «английский флот еще далек от выполнения намеченной программы. Находящиеся в стадии строительства крупные корабли должны быть готовы только в 1940 году. Английский флот не окажет нам никакой помощи на Средиземном море».
– Увы! Мы не можем сделать ничего лучшего, – заявляет английский посол в Париже сэр Эрик Фиппс.
Что касается переписки между чешским и французским генеральными штабами, то в ней подчеркивается, что «после осуществления аншлюса наибольшая часть созданных обеими странами для обороны от Германии укреплений оказывается в настоящее время обойденной немцами. Таким образом, если бы разразилась война, Чехословакия, по выражению официальных английских кругов, была бы «захвачена немедленно и полностью».
Только франко-русский пакт мог бы выправить положение в пользу союзников. Но вот уже три года, как ничего не делается для его применения на практике.
Тезис «лучше быть побежденным Гитлером, чем победить со Сталиным» уже стал лейтмотивом, пользующимся явным успехом в кулуарах парламента.
Генерал Гамелен, более всего опасающийся, как бы франко-русский пакт не превратился в военный союз, до одурения повторяет, что «поскольку Россия не имеет непосредственной границы с Германией, эффективность ее помощи продолжает оставаться зависимой от позиции Польши и Румынии».
Однако изменение политики Франции никогда не будет признано официально. «Если бы мы признали это, – скажет позже главное действующее лицо этой драмы, – Германия широко воспользовалась бы этим, а мы не смогли бы вовлечь Англию ни тем более Америку в действенный военный союз!»
Именно поэтому председатель Совета министров Даладье 12 апреля в своем правительственном заявлении снова провозглашает:
«Франция будет соблюдать все свои международные обязательства».
Но Германия все-таки всегда будет знать, как действовать в связи с подобным поворотом во французской политике, чему соответствует чрезвычайно активная кампания в печати, от осуждения которой правительство весьма далеко. Эта кампания направлена на то, чтобы доказать, что, поскольку Локарнский договор больше не существует с момента нарушения его Германией 7 марта 1936 года, Франция вовсе не обязана защищать Чехословакию, если Германия когда-либо на нее нападет…
Обращаясь к крупной буржуазии и деловым кругам, известный юрист Жозеф-Бартелеми пишет в газете «Тан»:
«Разве есть необходимость в том, чтобы пожертвовать тремя миллионами французов, всей молодежью наших университетов, школ, заводов и страны в целом ради сохранения трех миллионов чешских немцев под господством Чехословакии?»
Жозеф-Бартелеми требует «передачи Судетов рейху».
– Не будем себя обманывать, – говорит юрист международного класса Николай Политис, занимающий ныне пост посла в Париже. – Эта кампания имеет целью оградить Францию от русского влияния и даже направить Германию против Советов! Многим эта политика кажется сейчас наиболее подходящей для того, чтобы избежать войны на Западе!
* * *
И драма начинается…
Двадцать второе апреля. Карловы Вары. Ежегодный съезд партии судетских немцев.
Группами от ста до двухсот человек, по четыре в ряд, делегаты съезда проходят по городу. Шагая в ногу, они поют: «Теперь наша маленькая родина принадлежит нам самим».
Конрад Генлейн, лидер 3600 тысяч судетских немцев, которые по Версальскому договору были объединены с 7 миллионами чехов, 3 миллионами словаков, 700 тысячами венгров и 400 тысячами закарпатских украинцев, предъявляет гневные обвинения пражскому правительству и президенту Бенешу.
Генлейн излагает программу независимости судетских немцев, состоящую из восьми пунктов. Он, между прочим, требует для них полной свободы называть себя немцами и отстаивать немецкую идеологию.
В Париже правительство единодушно считает, что наступил момент для возобновления политики Сердечного согласия и для развития военных обязательств, предусмотренных в «Белой книге» 1936 года.
Франко-английский союз становится настоятельной необходимостью.
* * *
Двадцать восьмое апреля 1938 года. Полночь. Виндзорский дворец.
Лакеи в коротких штанах, с большими светильниками в руках торжественно препровождают Эдуарда Даладье и Жоржа Боннэ в отведенные им апартаменты. Леденящий холод царит в этом огромном безмолвном дворце, куда французские министры приехали на чашку чая, после того как они с самого утра вели переговоры на Даунинг-стрит с Невилем Чемберленом и лордом Галифаксом.
В сопровождении короля и королевы министры только что осматривали залы и коллекции дворца.
Поздно вечером Даладье и Боннэ по просьбе короля поочередно излагают обстановку.
Громадные поленья пылают в готических каминах, не согревая огромных комнат.
Кутаясь в свои пальто и протянув ноги к камину, Даладье и Боннэ поздравляют себя с тем, что днем во время переговоров им удалось добиться согласия на немедленное изучение двумя генеральными штабами эффективных мер для защиты обеих стран против всякой агрессии на суше, на море и в воздухе. И все же они слишком встревожены, чтобы спать.
На Даунинг-стрит в течение семи часов Даладье и Жорж Боннэ по очереди повторяли Чемберлену и Галифаксу:
– Мы предлагаем, чтобы данное совещание закончилось принятием совместной декларации, обязывающей обе наши страны прийти на помощь Чехословакии в случае, если бы она стала объектом агрессии со стороны Германии.
Молчание!
Жорж Боннэ снова разъяснял:
– Для Гитлера дело идет просто-напросто о том, чтобы стереть Чехословакию с карты Европы.
– Франция обязана уважать свою подпись, – в свою очередь опять принимался уговаривать Даладье. – Великобритания, в школах которой дети воспитываются в духе уважения к чувству долга, первая одобрит такое поведение и не будет удивляться этому.
Но Невиль Чемберлен по-прежнему отвечал:
– Англия никогда не хотела подписывать какой бы то ни было договор по Центральной Европе, и она категорически отказалась от этого. Англия согласилась лишь защищать границы Франции и Бельгии. Этим и ограничиваются ее обязательства. А французское правительство требует сейчас распространения этих обязательств и на Чехословакию. Но английское правительство не может удовлетворить это французское требование по принципиальным соображениям, ибо Чехословакия не относится с достаточным уважением к судетскому национальному меньшинству. Английское правительство не может удовлетворить французское требование и по практическим соображениям: если западные державы оказались бы втянутыми в войну с Германией, то усилия рейха были бы направлены на то, чтобы добиться возможно более быстрой победы, ибо в Берлине понимают, что в случае затягивания войны шансов на победу будет все меньше и меньше. Между тем нанести сокрушительный удар по Англии можно было бы лишь с воздуха. Превыше всего я опасаюсь, как бы моя страна не была вовлечена в конфликт до того момента, пока она не будет располагать средствами защиты от нападения с воздуха!
Беспокойство французских министров достигло крайней степени. Наступает ночь. Даладье и Боннэ по очереди подбрасывают поленья в огромный камин.
– Но разве можем мы вернуться в Париж, не добившись даже подписания совместного коммюнике? – приходят к заключению министры и, дрожа от холода, направляются в свои комнаты.
* * *
Наутро английская печать, с энтузиазмом подчеркивая то, что она называет «возрождением Сердечного согласия», в то же время продолжает оставаться весьма сдержанной в отношении Чехословакии.
В статье, озаглавленной «Снова чехи», газета «Дейли экспресс» утверждает: «Мы не любим этой братии. Невозможно, чтобы английское правительство взяло на себя обязательство заставить нас сражаться за такое полуразвалившееся государство, каким является Чехословакия. Если Франция свяжет себя обязательствами с чехами, Англия должна будет держаться от нее подальше».
* * *
В посольстве Чехословакии на Гровенор-сквер посол Ян Масарик явно обеспокоен.
– В палате общин так мало депутатов, которые знают хотя бы, где находится Чехословакия, – говорит он. – Однажды во время разговора с несколькими крупными деятелями, когда я показал им на карте мира Чехословакию, у меня создалось впечатление, что они видят ее впервые. Действительно, задумчиво посмотрев на карту, они сказали: «О! Это любопытно! Какая забавная форма! Можно подумать, что перед тобой большая сосиска!» Но это – трагическое сравнение, – продолжает Масарик. – Мой коллега в Берлине, Мастны, рассказывал мне, что Геринг, обедая в один прекрасный день в посольстве Франции, внезапно сказал Понсэ: «Видите на этой карте контуры Чехословакии? Разве это не вызов здравому смыслу? Это аппендикс – рудиментарный орган Европы. Его необходимо будет удалить! А кстати, – небрежно обратился Геринг к Понсэ, – какую позицию заняла бы Франция в подобном случае?»
И так как посол ответил: «Франция выполнит свои обязательства и окажет помощь чехам», – Геринг закончил со свирепым видом: «Ну что ж, тем хуже!»
Тем временем в Лондоне во время переговоров на Даунинг-стрит Жорж Боннэ повторяет в последний раз:
– Отсутствие согласия между нами откроет фюреру «зеленую улицу», а это будет иметь ужасные последствия.
В конце концов была найдена компромиссная формулировка:
«Париж и Лондон предложат чешскому правительству рассмотреть требования судетских немцев. Оба правительства сообщат президенту Бенешу о своем желании, чтобы конфликт между Прагой и Судетами был урегулирован мирными средствами».
Чемберлен взял на себя обязательство предостеречь германское правительство против «опасных последствий, которые мог бы вызвать «акт насилия» по отношению к Чехословакии в момент, когда еще продолжаются мирные переговоры».
* * *
В тот же вечер в Париже Даладье и Боннэ дают информацию Совету министров:
– Но, господа, – вещают они, – не будем строить никаких иллюзий относительно значения обязательств, которые берут на себя по отношению к нам английские руководители! Мы им сказали: «Если мы будем едины, Гитлер уступит». Они ответили: «Мы готовы попытаться провести с вами этот опыт. Если наша дипломатическая акция увенчается успехом – тем лучше, но знайте, что мы не намерены идти дальше этого».
Вечером Лондон дает указания английскому посланнику в Праге Ньютону направиться к министру иностранных дел Крофта с целью сообщить последнему о желании Англии оказать содействие его усилиям путем «удовлетворения обоснованных требований немецкого населения».
А Боннэ говорит Осускому, который входит в его кабинет:
– Я буду бороться за то, чтобы поддерживать независимую Чехословакию. Но не следует скрывать от вас опасность, какой она подвергается с тех пор, как исчезла Австрия. Мы только что заручились поддержкой Англии, чтобы дипломатическим путем помочь Чехословакии мирно урегулировать судетскую проблему, и ваша страна должна немедленно воспользоваться этим.
Начинается путь Чехословакии на Голгофу.
* * *
Девятого мая 1938 года во Дворце Наций заседает 101 сессия Совета. Гробовая тишина царит в великолепных, украшенных мозаикой мраморных кулуарах этого огромного, со строгими линиями здания из белого камня, в оформлении которого считали за честь участвовать художники-декораторы всего мира. Здесь венецианское стекло, китайские ширмы, восточные ковры, норвежские и шведские изделия из дерева, балканская керамика, испанские фрески, самая модная парижская и лондонская мебель… Здесь есть все… все, кроме жизни!
Одна за другой газеты отозвали своих корреспондентов из Женевы, чтобы направить их в различные части света – туда, где творится история.
Виден силуэт в глубине одного из помещений. Это Жозеф Авеноль, генеральный секретарь Лиги Наций. С поникшей головой, с озабоченным видом, он заявляет своим слабым и невыразительным голосом:
– Я обеспокоен в связи с тем, что швейцарский представитель Мотта собирается объявить о возвращении Швейцарии к политике строгого нейтралитета. Следовательно, во время войны Швейцария сможет выслать всех нас вместе с Лигой Наций, поскольку эта организация «несовместима со швейцарским нейтралитетом». – И замолчав, он направляется в зал заседаний Совета.
Его сотрудники без всякой пощады обвиняют его в том, что он покровительствует только диктаторам.
– Чего же вы хотите, – говорит всегда Авеноль, – эта организация существует только благодаря тому, что того хотят великие державы. Я не Дон Кихот, я могу проводить в жизнь только политику великих держав.
* * *
В то утро, 9 мая 1938 года, едва лишь члены Совета заняли свои места, как на трибунах для публики какой-то человек деревенского вида, очень взволнованный, наклонился с балкона и крикнул. «Да здравствует мир, да здравствует Лига Наций, да здравствуют Соединенные Штаты Европы!»
– Но это сумасшедший… это сумасшедший… – тотчас же вскричали делегаты, в то время как служители бесцеремонно схватили и отправили в полицию этого бравого жителя Цюриха, который, конечно, думал, что его лозунги вызовут горячие аплодисменты.
За столом Совета шведский министр, грустно улыбаясь, замечает вполголоса:
– Боже мой, где же мы находимся? Этот тип воскликнул: «Да здравствует мир, да здравствует Лига Наций, да здравствуют Соединенные Штаты Европы!» – а его бросают в тюрьму! В какое время мы живем!
После этого воцаряется продолжительное молчание. Дверь слева открывается, и медленно входит закутанный в свою широкую черную мантию негус. Он прилетел на самолете из Лондона, чтобы протестовать против соглашения о признании Итальянской империи, которое Лондон подписал в апреле текущего года. Он величественно усаживается в кресло, отведенное для истцов, в самом конце длинного стола Совета.
Бледный, изможденный, подобный мозаичному изображению, он в течение всего заседания подавляет своим восточным величием эти жалкие дебаты, являясь живым укором в глазах любопытствующей, созерцающей его неизвестной публики. В конце этого мучительного испытания председательствующий Мунтерс пронзительным голосом зачитывает расплывчатую резолюцию, не обременяющую совесть правительств, после чего делегаты проворно собирают свои бумаги, закуривают и скрываются в кулуарах. Никто из них даже не считает уместным склониться перед побежденным.
В опустевшем теперь большом зале остаются на своих местах только невозмутимый негус и сопровождающая его свита, которая не решается нарушить молчания. Проходят долгие минуты. Время от времени кое-кто из фотографов приближается к дверям, поспешно возвращается и шепчет своим коллегам: «Он еще там!»
Наконец Хайле Селассие поднимается. Не оборачиваясь, не говоря ни слова, не сделав ни единого жеста, медленно, с необычайным достоинством он проходит через зал Совета, кулуары, вестибюль и исчезает в своем автомобиле, оставляя женевских деятелей с их мелочными расчетами и с их жалкой судьбой.
* * *
В конце сессии Жозеф Авеноль впадает в отчаяние. Делегация Чили заявила, что она выходит из женевской организации!
– Другие государства скоро последуют ее примеру, – в растерянности шепчет он. Генеральный секретарь все еще не может забыть насмешливого тоста, который фюрер произнес на большом официальном обеде во время переговоров с Муссолини в Риме: «Германия и Италия оставили далеко позади утопии Лиги Наций, которой Европа вверила свою судьбу!»
Что касается делегатов, то они разъезжаются с чувством большой тревоги.
– Сколько еще событий может произойти в мире до следующей сессии в сентябре, – вздыхают они.
* * *
Двадцать второго мая в Хебе, на чехословацко-германской границе, происходит серьезный инцидент.
Два словацких мотоциклиста убиты таможенниками Третьего рейха.
И в Германии, и в Чехословакии тотчас же принимаются решения о мобилизации.
Кэ д’Орсэ и Форин офис объединенными усилиями добиваются от Берлина и Праги отмены принятых ими военных мер.
Французская пресса ликует. Совершенно ясно, что фюрер не может противостоять согласованной политике Лондона и Парижа. В печати особенно много статей посвящается рассуждениям о том, что Англия тем самым дает доказательство того, что в случае германского нападения на Чехословакию ее военные силы выступили бы на стороне Франции.
Но вечером 22 мая Форин офис передает Кэ д’Орсэ конфиденциальную ноту. В этой ноте подчеркивается: «Чрезвычайно важно, чтобы французское правительство не строило никаких иллюзий в отношении позиции английского правительства в случае, если совместные усилия, направленные на достижение мирного решения чешского вопроса, не увенчаются успехом».
Поскольку невозможно опубликовать эту ноту, которая поощрила бы агрессию, замышляемую Гитлером, общественное мнение озадачено явно выступающими наружу противоречиями. Оно обвиняет французское правительство, которое, впрочем, постоянно склоняется к политике уступок диктатору и к дезинформации.
Отто Абец, агент Риббентропа, немецкий писатель Зибург и некий доктор Шмоль ведут в Париже пронемецкую пропаганду: «Из-за чего же мы должны воевать?.. Из-за того ли, что три миллиона чехословацких немцев хотят остаться немцами!»
В министерстве юстиции Поль Рейно замечает:
– Немцы хотят навязать каждой европейской стране дух покорности и подлости, дабы облегчить осуществление своей цели!
В силу этого превращение франко-русского пакта в действительный военный союз, необходимую основу всей политики сопротивления Гитлеру, напротив, преподносится общественному мнению Франции как опасная политика, которая неизбежно должна привести к войне.
Внутри каждой политической партии существует непреодолимый раскол в оценке главнейшего вопроса: «Твердость или попустительство по отношению к Гитлеру?»
В социалистической партии Леон Блюм ратует за национальную оборону, но Поль Фор и Спинас выступают против.
В Социалистическом республиканском союзе Поль-Бонкур требует соблюдения заключенных договоров, а Марсель Деа и Адриан Марке провозглашают: «Худой мир лучше доброй ссоры».
В партии радикалов Эррио требует, чтобы Франция проводила политику великой державы, опираясь на Англию и Россию, но Жозеф Кайо высказывается за «отступление в колонии».
А Демократический альянс Фландена просто-напросто требует «отступления» за линию Мажино.
Чиновники и симпатизирующие социалистам интеллигенты бурно восхищаются тезисом Джоно: «Нет постыдного мира, есть только постыдные войны».
Многие преподаватели положили даже этот тезис в основу воспитания молодежи.
Генеральный секретарь профсоюза учителей Андре Дельмас заявляет – и за это его и не думают смещать с должности, – что «лучше жить немцем, чем умереть французом, лучше рабство, чем война».
Антисемитизм Гитлера уже находит своих сторонников.
«Гитлер лишь возродил великую традицию французской монархии, которая давала возможность евреям обогащаться, а затем периодически изгоняла их, овладевая их богатствами», – пишет муниципальный советник Даркье де Пеллепуа во «Франс аншенэ», обычным девизом которой является: «Надвигающаяся война – это война иудеев».
– Один лишь Клемансо мог бы справиться при таком положении, – вздыхает верный сотрудник последнего, член правительства Жорж Мандель. Поддерживаемый министрами Полем Рейно, Кампинки и Шампетье де Рибом, Мандель отчаянно борется против надвигающейся катастрофы.
Двадцать третье мая. Через сутки после смягчения напряженности Гитлер, оскорбленный ликующим тоном французской и английской печати, отдает приказание о постепенной мобилизации армии и промышленности.
Двадцать восьмое мая. Военный совет. На 1 октября фюрер назначает день нападения на Чехословакию. Геринг издает декрет о военно-трудовой повинности, тысячи рабочих принимаются за строительство линии Зигфрида.
Двадцать девятое мая. Жорж Боннэ заявляет чехословацкому посланнику в Париже Стефану Осускому:
– Единственной возможностью избежать худшего является заключение вашим правительством не позже чем в двухнедельный срок соглашения с судетскими немцами.
Французский посланник в Праге Лакруа повторяет чешскому правительству это предупреждение, раскрывающее намерения французского и английского правительств.
А пока, по-видимому, никакие переговоры с русскими и нашими восточными союзниками по вопросу об установлении контакта нашей армии с вооруженными силами русских в случае войны в действительности не ведутся.
Весь мир отдает себе отчет, что сердечное согласие стало «требованием момента».
Вследствие этого английская королевская чета, вместо того чтобы совершить свою первую поездку в одну из стран империи, как этого требует традиция, направляется с официальным визитом в Париж.
* * *
Девятнадцатое июля. Вокзал на авеню Булонского леса.
Прибывают английский король Георг VI и королева Елизавета.
Караул несет полк зуавов. В 1903 году эти знаменитые зуавы на этом же самом месте растрогали до слез Эдуарда VII, напомнив ему Крымскую войну и битву под Балаклавой, где впервые в истории английские и французские пехотинцы сражались плечом к плечу.
На улицах под ослепительным солнцем, на мостовой, на тротуарах – повсюду в Париже, украшенном как никогда, публика настроена восторженно.
Но это не мешает кое-кому говорить в толпе:
– А в 1914 году война вспыхнула несколько недель спустя после визита во Францию его отца, короля Георга Пятого! Тем не менее на этот раз… будем надеяться…
Встреча, оказанная толпой, великолепна. Со времени перемирия не видели такой многочисленной, восторженной и единодушной в своем порыве толпы.
* * *
На следующий день, в среду 20 июля, без четверти двенадцать, Даладье и лорд Галифакс, только вдвоем, входят в кабинет Жоржа Боннэ.
– Фюрер продолжает домогаться английского посредничества с целью добиться от Праги некоторых уступок, направленных на обеспечение чешского нейтралитета, – говорит Галифакс.
– Я хорошо знаю это, – возражает Даладье, – но ведь чешский нейтралитет означает в сущности уничтожение всех сил, способных ударить по немецким армиям с тыла в квадрате Богемии. Следовательно, рейху останется защищать всего лишь одну границу, а именно границу с Францией… Но самой-то Франции придется тогда защищать три границы!
Начинается бурная дискуссия. Галифакс говорит в заключение:
– Английское правительство решило направить в Прагу лорда Ренсимена, чтобы изучить вопрос на месте и собрать информацию.
* * *
Вечером 21 июля, накануне отъезда английского короля и королевы, в их честь устроен обед на Кэ д’Орсэ.
Убранство обеденного зала, выходящего окнами в сад, где еще не наступили сумерки, на редкость красиво.
Огни свечей в двух огромных золотых подсвечниках в стиле ампир освещают сто пятьдесят человек гостей. Вышитый золотом орнамент из листьев на скатерти, баккара, в широких гранях которого отражается золото тарелок, приборов и бокалов, суповых мисок и кувшинов для воды, большая ваза из позолоченного серебра, принадлежавшая Наполеону I и взятая на один вечер из музея Мальмезон, – все это представляет собой пестрое собрание французских шедевров. На миг беспокойство всех и каждого рассеивается.
Вдруг за широко распахнутыми из-за душной ночи окнами послышались громкие возгласы. Это шумит толпа, собравшаяся на мосту Александра III, которая становится все более многочисленной и которую полицейские кордоны не подпускают ближе. Но толпа хочет принять участие в этом вечере сердечного согласия. Сердечное согласие! Разве это не единственный подлинный залог мира?
Мощные прожекторы освещают теперь балкон первого этажа министерства иностранных дел.
По просьбе толпы, уже заполнившей набережную Сены, появляется королевская чета. Их встречают бурной овацией!
– Все же это невероятно, – замечает Леон Блюм, – что народу Франции доставляет удовольствие кричать: да здравствует король, да здравствует королева!
В салонах среди представителей дипломатического корпуса слышен ропот.
Следуя демократическим порядкам, им не отвели специальных мест в зале, где идет представление, в котором оробевший Морис Шевалье не был забавным, но большой успех выпал на долю Луи Жувэ и Мадлен Осерай.
Вечер продолжается. Толпа снова требует короля и королеву, которые в последний раз показываются у окна в своих апартаментах.
В вестибюле Политис замечает:
– Какая тревога и, может быть, даже отчаяние народа чувствуются в этом апофеозе Сердечного согласия!
На следующий день лорд Ренсимен отправляется в Прагу.
Продолжился путь Чехословакии на Голгофу.
* * *
Кэ д’Орсэ, 19 сентября, 10 часов утра…
Парламентарии, министры и журналисты заполнили салон послов. Жорж Боннэ и Даладье возвращаются из Лондона. Они добились там одобрения своего последнего плана урегулирования, который состоит в том, чтобы рекомендовать Праге уступить германскому правительству те судетские районы, где на последних выборах более 50 процентов голосов было отдано немцам. Даладье в конце концов добился того, что взамен Лондон взял на себя формальное обязательство участвовать в международных гарантиях, которые будут предложены Праге в качестве компенсации территориальных потерь и других уступок, сделанных в пользу Германии.
В Елисейском дворце уже закончилось заседание Совета министров.
Посланник Чехословакии в Париже Стефан Осуский только что вошел в кабинет Жоржа Боннэ.
Журналисты спорят.
«Со второго августа все переговоры чехословацкого правительства с Генлейном при франко-английском покровительстве терпят провал», – говорит один. Другой добавляет: «Но хуже всего то, что поляки и румыны все время отказывают в праве прохода через свою территорию русским вооруженным силам… и дело не двигается дальше. А Гитлер угрожает захватить Чехословакию, если к концу месяца Судеты не получат независимости».
* * *
Какова бы ни была неподготовленность Франции, все поголовно возмущены тем, что ее руководители предложили президенту Бенешу уступить Германии три самые крупные судетские области с населением около двух миллионов человек, хотя англичане и обещают в этом случае взять на себя обязательство гарантировать новые границы несчастной Чехословакии.
Депутаты и политические деятели разбились на маленькие группы, которые, кажется, игнорируют друг друга.
Перед окнами, выходящими на Сену, окруженный десятком депутатов, рассуждает Пьер-Этьен Фланден:
– На карту поставлены судьбы мира. Правительство, по-видимому, раскололось. Следовательно, в парламенте разгорятся дебаты, – утверждает он.
Стоящий рядом с ним Луи Марэн замечает:
– Но публичные дебаты в разгар переговоров вызовут беспокойство в умах и явятся поводом к новым соблазнам для Гитлера.
– Так предложим тогда, – восклицает Фернан Лоран, – чтобы завтра же Жорж Боннэ принял расширенную делегацию представителей оппозиции.
В другом конце салона, перед гобеленами, расположились личные друзья министра – те, которых публика называет плохими советниками: председатель комиссии по иностранным делам палаты депутатов Мистлер, Эмманюэль Берль, Анри Беранже, депутат от Сарты – Монтиньи. Они не согласны с компромиссом, предложенным Фернаном Лораном.
– Но наконец представители народа имеют право сказать свое слово, – заявляют они, – иначе мы рискуем тем, что сотни тысяч французов, от которых потребуют пожертвовать своей жизнью, не объясняя им даже причины этого, будут посланы на смерть.
И с удивительным единодушием друзья министра хором повторяют:
– Прежде всего нужно поддержать Боннэ против Даладье, ибо последний непременно вовлечет нас в войну, и притом в скором времени.
Входят Жорж Мандель, Шампетье де Риб, Кампинки и Поль Рейно, которых называют «четырьмя министрами-сопротивленцами».
– Жорж Боннэ предстает, как мне кажется, в самом дурном свете, – говорит Поль Рейно. – Он готов пожертвовать всем, лишь бы умиротворить Гитлера. Если мы хотим все потерять, то нам следует проводить именно такую политику. Слаб только тот, кто признает себя слабым. Если мы позволим Гитлеру сделать еще один шаг, он овладеет чехословацким бастионом.
* * *
Внезапно открываются двустворчатые позолоченные двери кабинета министра. Все взгляды устремляются в ту сторону. Проходит несколько секунд… и бледный, с бумагой в руке, почти шатаясь, Осуский входит в салон послов. Все расступаются и замолкают.
При виде министров, депутатов и журналистов Осуский берет себя в руки.
Его лицо становится багровым. Видно, как он сжимает кулаки. Задыхаясь от гнева, он говорит:
– Господа, вы видите перед собой человека, которого осудили, даже не пожелав выслушать.
Он дает мне знак следовать за собой, и под руку мы идем с ним до его автомобиля. Как только автомашина выехала со двора Кэ д’Орсэ, он откинулся на подушки сиденья и протянул мне бумагу, которую все еще держал в левой руке. Это было краткое франко-английское коммюнике, информирующее чехословацкое правительство о размерах территориальных уступок, которые Париж и Лондон требуют от Праги. Эти уступки практически отдают Чехословакию Гитлеру.
Ни одного слова не было произнесено, пока автомашина не подъехала к зданию миссии Чехословакии на улице Шарль Флоке. В вестибюле посланника ожидали его сотрудники, на лицах которых выражалась тревога.
Осуский молча приглашает их в свой кабинет. Он уже взял себя в руки и вызывает секретаря.
Прежде чем начать диктовать, он говорит:
– Сейчас я попытаюсь убедить президента Бенеша, что он пропал, а с ним и Европа, если только он не окажет сопротивления франко-английской политике запугивания, которая имеет в виду заставить его мирно согласиться на расчленение нашей страны. Я не могу терять ни секунды. Ваш посланник Лакруа и английский посланник через несколько минут будут у нашего министра иностранных дел. Я не питаю иллюзий. Они пойдут до конца. Они будут ему угрожать не только тем, что откажутся поддержать нас, если Германия на нас нападет, но также и тем, что будут возлагать на нас всю тяжесть ответственности за начало войны! Сегодня утром я все понял, – говорит в заключение Осуский, отпуская своих сотрудников и взволнованно обнимая каждого из них.
Затем он медленно диктует текст последнего, отчаянного предостережения.
Глава 31. Не имея силы сопротивляться, пражское правительство уступает своим союзникам и Гитлеру
Кабинет Крофта в Чернинском дворце. – Любопытная телеграмма. – Альбер Лебрен и Даладье внезапно разбужены. – Губерт Рипка у Жоржа Манделя. – На рассвете в Градчанах. – Форт Шатийон. – Сарро и противогазы. – Право ношения белых чулок. – Аттолико и послание Муссолини. – В момент, когда пламя уменьшилось и готово угаснуть…
Прага, 20 сентября 1938 года, в 4 часа дня в Градчанах.
Глава чехословацкого правительства Годжа председательствует на заседании Совета министров, которое длится без перерыва со вчерашнего дня.
Он еще раз перечисляет неоднократные визиты посланников Франции и Англии. Начиная со второй половины дня они ежечасно требуют принятия последнего франко-английского компромиссного плана: «Иначе, – говорят они, – будет слишком поздно».
На чехословацкой границе сосредоточено 30 немецких дивизий, среди которых много бронетанковых и моторизованных! Гитлер с минуты на минуту отдаст приказ о нападении.
Годжа уточняет:
– Франко-английский план обязывает пражское правительство уступить германскому правительству все те районы Чехословакии, в которых на выборах более 50 процентов голосов было отдано немцам. Вместе с тем план содержит отказ в «предварительном плебисците», которого требует Гитлер, и предусматривает «международные гарантии» новых чешских границ.
Восемь часов вечера, Градчаны. Чешские министры продолжают заседать. Они все еще колеблются – принять ли им франко-английский план или прибегнуть к заключению германо-чехословацкого арбитражного договора.
21 час 30 минут, Чернинский дворец.
Министр иностранных дел Крофта принимает французского посла Лакруа. Он говорит ему:
– Мы отказываемся принять план, выработанный без нашего участия. Мы предлагаем прибегнуть к арбитражу на основе германо-чехословацкого договора. Мы обращаемся к вам, так же как и к Великобритании, с горячим призывом… Пересмотрите этот вопрос!
Париж, 21 час 50 минут. Кэ д’Орсэ. Жорж Боннэ и два его сотрудника, Алексис Леже и Жюль Анри, лихорадочно читают любопытную телеграмму французского посланника в Праге Лакруа (эта телеграмма, зарегистрированная за № 22.19–22.20, не опубликована в Желтой книге):
«Прага, 20 сентября. Председатель Совета министров Годжа только что вызвал меня, по согласованию, как он мне сказал, с президентом Бенешем. Годжа заявил мне, что если я этой же ночью уведомлю Бенеша, что в случае войны Германии с Чехословакией из-за судетских немцев Франция, в силу ее обязательств перед Англией, не выступит, то президент Бенеш примет к сведению это заявление. Тогда Годжа немедленно созвал бы кабинет, все члены которого, уже собравшиеся, как кажется, согласны с президентом Бенешем и с ним самим, что необходимо подчиниться. Чешские руководители нуждаются в этом предлоге, чтобы иметь возможность принять франко-английское предложение. Они уверены в армии, руководители которой заявили, что конфликт с Германией один на один был бы самоубийством. Годжа сказал, что демарш, который он предлагает, является единственным средством спасти мир. Он хочет, чтобы все было закончено по возможности до полуночи или, во всяком случае, в течение ночи. Годжа сделает такое же сообщение и английскому посланнику Лакруа».
Жорж Боннэ поставил об этом в известность Даладье и Альбера Лебрена; оба они уже спали и оба в очень плохом настроении, особенно Даладье: «Короче говоря, Прага в поисках самооправдания хочет, чтобы мы стали клятвопреступниками. Во всяком случае, я не хочу ничего предпринимать до тех пор, пока не узнаю мнение Лондона».
– Уже четверть двенадцатого, – отвечает Боннэ, – Лондон ничего тут не сможет поделать. К тому же его линия поведения вам хорошо известна. Необходимо, чтобы в полночь Прага имела наш ответ, судьба мира решается в минуты, которые мы переживаем.
Даладье подозревает Жоржа Боннэ в том, что он после отклонения Бенешем английского предложения, поручил Лакруа посоветовать этот демарш Годже. Жорж Боннэ отрицает это. Он неустанно повторяет:
– Если вы хотите потерять Чехословакию, если вы хотите взять на себя ответственность за войну, тогда пусть пробьет этот роковой час.
Без четверти двенадцать Эдуард Даладье и Альбер Лебрен разрешают Жоржу Боннэ под его личную ответственность направить заявление Бенешу, о котором просил Лакруа.
* * *
Двадцать второго сентября в 10 часов утра в министерстве колоний на улице Удино.
Главный редактор пражской «Лидове новины» Губерт Рипка, «серое преосвященство»[58] Бенеша, который всегда доверяет ему конфиденциальные поручения, входит в кабинет Жоржа Манделя.
– В Праге в Градчанах всю ночь заседал Совет министров, – говорит он. – На рассвете я увидел, как двери зала заседаний совета приоткрылись и вышел Бенеш, состарившийся за несколько часов на сорок лет. Это был старый и разбитый человек. Он вынужден был принять этот франко-английский план, который лишает нас всех наших сил и отдает на милость Германии. Для нас все кончено.
* * *
Полдень. Елисейский дворец. На заседании Совета министров разгораются горячие споры.
Многие министры обвиняют руководителя Кэ д’Орсэ в том, что он оказал грубый нажим на чехословацкое правительство с целью вынудить его принять проект.
Жорж Мандель, Поль Рейно, Шампетье де Риб вручают Даладье свои заявления об отставке, затем берут их обратно.
В Париже всеобщее возбуждение.
Ходит слух, что Жорж Боннэ собирается покинуть Кэ д’Орсэ. В парламенте делегация левых высказывается за проведение твердой политики.
* * *
Двадцать второе сентября, полночь. Годесберг-на-Рейне.
Невиль Чемберлен прибывает из Лондона. Он в высшей степени обеспокоен. Нужно заставить Гитлера принять франко-английское предложение, выдвинутое Парижем, Лондоном и Прагой взамен гитлеровского плана, согласно которому германские армии уже сейчас оккупировали бы почти всю страну.
– Так дело не пойдет, – рычит Гитлер. – Я требую немедленной военной оккупации всех территорий, право на обладание которыми за мной признано.
Потрясенный Невиль Чемберлен задает вопрос:
– Но какого числа должна быть произведена эвакуация чехов с судетских территорий?
– Эвакуация должна начаться двадцать шестого сентября в восемь часов утра и закончиться двадцать восьмого, – отвечает Гитлер.
– Но это диктат! – восклицает Чемберлен.
– Нет, – отвечает Гитлер, – это меморандум!
Затем, одумавшись, он добавляет:
– Ну уж ладно, вы будете единственным человеком, которому я когда-либо делал уступку… Я предоставляю Чехословакии сорок восемь часов сверх назначенного срока…
* * *
Лондон, 28 сентября. Чемберлен заявляет при выходе из самолета:
– Я все-таки не могу сказать, что положение безнадежно, поскольку чехословацкому правительству переданы новые предложения.
Но тем временем английский посол в Берлине Невиль Гендерсон телеграфировал в Форин офис из Берлина: «Лично Гитлер готов пойти на риск войны с Великобританией».
Берлин, 22 часа 30 минут. Внимание всей Германии приковано к вермахту, который готовится к нападению.
В окрестностях Мюнхена происходят передвижения значительных войсковых частей в направлении зальцбургской автострады. От мюнхенского вокзала почти беспрерывно отходят эшелоны.
Прага, 23 сентября, Градчаны.
Президент Бенеш говорит французскому послу Лакруа:
– Мы намерены объявить декрет о всеобщей мобилизации, поскольку германские войска сосредоточиваются на наших границах.
Прага, 23 сентября, 10 часов 30 минут вечера.
Патетический призыв президента Бенеша к населению Чехословакии:
«Наступил час, когда каждый должен отдать все свои силы на службу родине».
В Париже в 11 часов вечера. Небольшие объявления, напечатанные на белой бумаге, вывешены во всех мэриях. Они призывают под знамена один миллион человек.
– Франция должна ответить на принятые Германией военные меры, – говорит Даладье.
* * *
Париж, 26 сентября, форт Шатийон, 15 часов.
Унылый осенний дождь.
Перед высокими железными дверями форта молча стоят в очереди люди всех профессий с маленькими свертками в руках, ожидая, когда они смогут попрощаться с мобилизованными молодыми людьми, которые пока еще не отправились к месту своего назначения.
Всеобщая подавленность. Долгое ожидание.
Справа на авеню де Шатийон привлекают взор большие желтые и красные плакаты: «Французы, вас обманули!» А рядом: «Довольно шантажировать патриотизмом!»
Справа от двери какой-то продавец газет соорудил из сдвинутых ящиков широкий прилавок, над которым он водрузил два зонтика.
Газетные заголовки видны издали: «Долой войну!» – пишет во всю полосу «Аксьон франсэз», а чуть пониже: «Французы не хотят сражаться ни за евреев, ни за русских, ни за пражских франкмасонов». Тут же рядом газета «Эвр», во весь лист которой напечатан призыв: «Обеспечим же мир, пока нет войны!» Ниже, в газете «Жур», виден заголовок: «Неужели собираются воевать из-за процедурного вопроса?» Немного далее привлекают внимание цветные заголовки провинциальных газет. В «Эклер де Нис» ультрамариновыми огромными буквами набрана фраза: «Все чехи и словаки мира вместе взятые не стоят жизни одного французского солдата!»
Кто-то произносит:
– Со вчерашнего дня обстановка еще более осложнилась! Но, к счастью, наши министры в Лондоне!
Наконец железные двери приоткрываются. Родные и друзья один за другим проходят в форт.
Там настоящая суматоха. Полное отсутствие дисциплины. Ошеломленные офицеры смотрят, но не осмеливаются командовать.
Однако часом позже на Восточном вокзале обстановка совершенно другая. Масса знамен…
Автомобилям приказано останавливаться в некотором отдалении от вокзала, и поэтому на прилегающих к нему улицах – тишина.
Прибывают призывники, одетые в большинстве в голубые мундиры. Рядом с ними плачущие жены и громко кричащие дети.
Чувство большого достоинства преобладает при этих душераздирающих сценах расставания: «Рано или поздно, но надо покончить с Гитлером!.. Итак, черт возьми, сегодня мы отправляемся»… – кричат мужчины женщинам, которые в слезах остаются на перроне. И поезда с солдатами трогаются один за другим под чередующееся пение «Интернационала» и «Марсельезы».
* * *
Восемь часов вечера. Кэ д’Орсэ. В салоне послов много народа.
– Что же произошло во время двух только что проведенных в Лондоне совещаний, в которых участвовали Даладье, Боннэ и генерал Гамелен? Есть ли еще надежда на мир? – с беспокойством спрашивают друг друга депутаты и журналисты.
В 8 часов вечера появляется в состоянии крайнего возбуждения министр внутренних дел Альбер Сарро. Заметив атташе Боннэ, он спешит к нему:
– Я телеграфировал вашему министру, когда он был в Лондоне, дабы сообщить ему, что мы не имеем противогазов для раздачи парижскому населению. Я уведомил его о необходимости немедленно раздобыть миллион противогазов в Англии. Не знаете ли вы, каков результат?
– Но в Лондоне противогазов нет даже для лондонцев, – заявляет Луи Марэн, недавно прибывший из английской столицы.
Ожидание затягивается.
Наконец прибывает бледный и осунувшийся Жорж Боннэ.
– Война кажется неизбежной, – быстро говорит он журналистам, которые хотели задать ему ряд вопросов.
Сопровождающий его английский посол Эрик Фиппс проходит вместе с ним в его кабинет. В этот момент видно было, как Жорж Боннэ передал своему английскому коллеге документ, после чего англичанин тотчас же удалился.
Меморандум Боннэ довольно пространен. Его последний параграф гласит:
«Франция находится на грани войны, и в связи с этим вы, конечно, сочтете законной просьбу французского правительства к английскому правительству уточнить свою позицию по некоторым пунктам и прежде всего по вопросу о том, готово ли английское правительство объявить всеобщую мобилизацию в случае, если разразится война в результате предоставления Францией помощи Чехословакии, подвергшейся нападению со стороны Германии».
* * *
Внезапно во всех салонах послышалось дикое завывание.
– Это Гитлер выступает в берлинском Спорт-паласе, – флегматично замечает служащий, настраивая радиоприемник.
Без конца прерываемый бешеными овациями, фюрер говорит своим хриплым истерическим голосом:
«Как только судетская проблема будет разрешена, для Третьего рейха не останется больше в Европе территориальных проблем! Это последнее территориальное требование, которое я выдвинул в Европе, я гарантирую это!
Мы совсем не хотим войны с Францией! Мы ничего не требуем от Франции, ничего абсолютно!
Но наше терпение на исходе!
Словацкие территории должны быть возвращены мне первого октября, в противном случае будет война. Или Бенеш предоставит немцам свободу, или мы сами наконец отправимся добывать эту свободу!»
Овации и одобрительные выкрики усиливаются.
* * *
В салоне послов тяжкое молчание. Проходят часы.
Раздается телефонный звонок. Это посольство в Лондоне информирует Жоржа Боннэ, что Чемберлен после краткого совещания со своим послом в Париже Эриком Фиппсом только что передал в печать следующее коммюнике:
«Если, несмотря на все усилия английского премьер-министра, Чехословакия станет объектом нападения со стороны Германии, то немедленным результатом этого будет то, что Франция окажется вынужденной прийти на помощь Чехословакии, а Великобритания и Россия, конечно, будут на стороне Франции».
Однако, когда час спустя газеты опубликовали это коммюнике и выразили свое удовлетворение по этому поводу, указывая в большинстве случаев, что текст подлинника был написан собственноручно лордом Галифаксом, то службы Кэ д’Орсэ сделали редакциям любопытное уведомление:
«Будьте осторожны! Это коммюнике подозрительно!»
На следующее утро некоторые газеты, имевшие особо тесные связи с Кэ д’Орсэ, комментировали коммюнике следующим образом:
«Позволительно задать себе вопрос, не составлено ли это коммюнике с целью усилить напряженность в отношениях с Германией и сыграть на руку Советам, которые толкают нас к войне!»
И чтобы успокоить умы, Даладье счел полезным сделать следующее заявление:
«Бывшие фронтовики, есть ли необходимость говорить вам, что правительство, которое я возглавляю, не пренебрежет никакой возможностью ради сохранения почетного мира!»
* * *
Двадцать седьмое сентября, 9 часов вечера.
На тротуарах перед Кэ д’Орсэ стоит плотная, нервозно настроенная толпа народа.
Двор министерства заполнен автомашинами.
Вестибюль и салоны бельэтажа освещены, как во время торжественных приемов. Во всех кабинетах все на своих местах. Из всех столиц непрерывно поступают телеграммы. Начало войны кажется неизбежным завтра в 14 часов, как об этом объявляется в последнем ультиматуме, направленном вчера вечером фюрером правительству Праги.
* * *
Однако Рузвельт только что предложил созвать конференцию, имеющую целью предотвратить войну.
Дверь кабинета министра тотчас же наглухо закрывается. Приняв решение использовать инициативу Рузвельта и добиться ее поддержки Римом и Лондоном, министр принимается в связи с этими задачами за работу со своими сотрудниками.
Поскольку оказывается, что в палате депутатов нет радио, многие из депутатов пришли в салоны и различные кабинеты бельэтажа Кэ д’Орсэ, где по радио транслируются последние новости.
– Здесь такое настроение, как на тонущем корабле, а не как в рабочем учреждении, – ворчит Луи Марэн.
В первом салоне депутат Жакино разговаривает с журналистом Дебю-Бриделем по поводу заседания Совета министров, которое закончилось, как говорит он, в обстановке всеобщего смятения.
Сидя между Жоржем Боннэ и Альбером Сарро, напротив президента Лебрена, рассказывает он, председательствовавший Даладье заявил:
– Господа, я решил объявить всеобщую мобилизацию.
Тотчас же вмешивается Жорж Боннэ:
– Но наш начальник штаба военно-воздушных сил генерал Вийемен разъяснил по возвращении из Германии, что в течение не более чем двух недель наши воздушные силы могут быть уничтожены!
– То, что вы говорите, чрезвычайно важно, – возражает Поль Рейно. – Но если бы Гитлер знал ваши высказывания, то зачем ему было бы отказываться от нападения на Чехословакию?
Даладье в растерянности. Он наскоро пишет записку сидящему напротив него Лебрену: «Господин президент республики, я имею честь вручить вам прошение об отставке моего кабинета».
Но Жорж Боннэ перехватывает бумагу и тотчас же начинает шепотом разговаривать с президентом Альбером Лебреном.
– Ваша отставка преждевременна, – тихо говорит Сарро Даладье, – следует подождать.
Правительство остается расколотым, и страсти продолжают разгораться.
Что касается некоторых журналистов, которые выполняют свой долг, публикуя, как обычно, известия о поступающих новостях, включая, естественно, и сведения о подготовительных мерах к германской мобилизации, то правая печать третирует их как «сборище кровавых подлецов», а совершенное ими преступление, заключающееся в том, что они распространили в многочисленных французских газетах сообщение о германской мобилизации, заслуживает, по их мнению, самого строгого наказания.
Юморист из газеты «Эвр» Ла Фушардьер, сторонник мира любой ценой, поступает еще хуже!
Напоминая в своей статье, что особым знаком сторонников Генлейна является ношение белых чулок, он пишет: «И вот встает вопрос о войне, и это потому, что Гитлер хочет предоставить судетским немцам право носить белые чулки, а наш священный долг, по-видимому, заключается в том, чтобы поддержать наших чешских друзей, желающих заставить судетских немцев носить цветные чулки!»
* * *
11 часов 30 минут вечера. В четвертый раз в течение второй половины дня английский посол Эрик Фиппс входит в кабинет Жоржа Боннэ.
– Мое правительство, – говорит он, – которому известно, что Германия начнет военные действия завтра, двадцать восьмого, в четырнадцать часов, только что направило Гитлеру свое окончательное предложение: «После соглашения с Прагой могло бы произойти немедленное вступление германских войск на значительную часть судетской территории». Но будет ли это предложение сочтено фюрером достаточным для того, чтобы он отложил начало военных действий?
В час ночи Боннэ телеграфирует нашему послу в Берлине Франсуа-Понсэ: «Во избежание непоправимого срочно вручите Гитлеру предложение, вновь повторяющее порядок осуществления последнего английского предложения, но предусматривающее немедленную оккупацию немецкими войсками уже более значительной территории, чем предусматривалось ранее. Французское правительство постарается убедить чехословацкое правительство присоединиться к этому предложению до 1 октября. Но все это будет невозможным, если военные операции начнутся завтра».
* * *
Проходит ночь.
Берлин. 28 сентября в 11 часов 15 минут утра Гитлер принимает Франсуа-Понсэ в имперской канцелярии.
Полный тревоги, посол, который просил принять его в 5 часов утра, поспешно заявляет фюреру:
– Прага согласилась бы на немедленную уступку территории некоторых судетских районов, а также на немедленное вступление немецких войск. Но если ваши войска вторгнутся завтра в Чехословакию, то в Германии не может вызвать удивления тот факт, что Франция окажет помощь своему чешскому союзнику. Это будет всеобщая война. Только от вас одного зависит сохранение мира в Европе.
Происходит резкая дискуссия в присутствии Риббентропа.
В 11 часов 40 минут Гитлер поспешно покидает зал, чтобы принять итальянского посла в Берлине Аттолико, который пришел вручить срочное послание Муссолини. Дуче просит фюрера отложить на сутки начало военных действий.
В 12 часов 30 минут Франсуа-Понсэ сообщает по телефону Жоржу Боннэ:
– Я еще не знаю, оставил ли фюрер в силе свой приказ о всеобщей мобилизации на сегодня в четырнадцать часов тридцать минут. Но у меня такое впечатление, что скорее всего оставил.
В 2 часа 20 минут Франсуа-Понсэ телефонирует снова:
– Гитлер решил отсрочить вступление германских войск в Чехословакию. Он предлагает созвать завтра, двадцать девятого сентября, в Мюнхене конференцию. Приглашаются главы английского, французского и итальянского правительств.
Во всем мире энтузиазм!
В палате общин бесконечными овациями встречается заявление Чемберлена:
«Английский народ не последовал бы за нами, если бы мы захотели ввергнуть его в войну ради того, чтобы помешать меньшинству добиться автономии или даже перейти под власть другого правительства. Мы решились высказаться за посредничество».
В Вашингтоне печать ликует.
В Париже сам Леон Блюм пишет в «Попюлер»:
«Мюнхенская встреча – это охапка дров, брошенная в священный очаг в момент, когда пламя уменьшилось и готово угаснуть».
* * *
В то же самое время посол СССР в Чехословакии Александровский возвращается из Москвы в Прагу. Он наконец привозит положительный ответ на три вопроса, поставленные Бенешем Кремлю о характере поддержки, которую Чехословакия может при любом положении вещей ожидать со стороны русских.
От этого ответа зависит сопротивление чешского правительства давлению со стороны Франции и Англии. Стремясь избежать войны, обе эти державы вынуждают Бенеша уступить Гитлеру часть Чехословакии.
Александровский спешно направляется в Градчаны.
Совет министров еще заседает. «Президент Бенеш все еще обсуждает возможности сопротивления», – говорят ему.
Александровский незамедлительно вручает русский ответ начальнику протокольного отдела. Последний открывает дверь зала совета и тотчас же закрывает ее, говоря:
«Слишком поздно, голосование состоялось, правительство Праги решило уступить».
Глава 32. Мюнхен
Камин в доме фюрера. – 1 час 30 минут ночи. – Рыдания посла. – Какие ничтожества! – Это главное – все будут довольны. – Самолет «Пуату». – Вырывают кусок хлеба изо рта. – Глупцы. – Трусливое облегчение и стыд. – В посольстве на улице Гренель. – Франко-русский пакт под угрозой. – Риббентроп и свобода действий в Центральной Европе. – Грандиозный прием в германском посольстве. – Граф Вельчек и Жаклина Патенотр. – Пражский окорок и страсбургский паштет из гусиной печенки.
Двадцать восьмого сентября в 11 часов вечера на Кэ д’Орсэ в кабинете генерального секретаря Алексиса Леже.
Завтра Алексис Леже должен сопровождать Даладье на Мюнхенскую конференцию.
Заканчивая краткий доклад для премьер-министра, Леже внимательно перечитывает его: «Не будем скрывать от себя, господин председатель Совета министров, что целью диктаторов является в первую очередь достижение соглашения, которое обяжет президента Чехословацкой республики Бенеша мирно уступить Германии все судетские территории. Для нас же речь идет прежде всего о том, чтобы добиться от Гитлера и Муссолини гарантий в отношении будущей, урезанной, но независимой Чехословакии. Париж и Лондон должны добиться заверения в том, что два диктатора уже сейчас решили не развязывать немедленно всеобщую войну ради осуществления своей мечты о гегемонии».
* * *
Мюнхен, 6 часов вечера.
Прибывшие на конференцию четыре министра вместе со своими сотрудниками собрались возле большого камина в холле дома фюрера, расположившись полукругом.
Слева от Муссолини, погрузившись в кресло, сидит коренастый, сгорбленный, седеющий Чемберлен, лицо которого с густыми бровями и выдающимися вперед зубами покрыто красными пятнами; позади него разместились его сдержанные и не выставляющие себя напоказ сотрудники Гораций Вильсон и Стрэнг.
Гитлер, одетый в штатское, но с нарукавной повязкой с изображением свастики, очень взволнованный и чрезвычайно бледный, не имеющий возможности без переводчика разговаривать со своими гостями, поскольку он не знает ни одного из трех языков, стоит за креслом Муссолини, не спуская с него глаз. Рядом с Гитлером – огромный, увешанный орденами Геринг с сияющим лицом. Справа от Муссолини, загорелый, ссутулившийся, с изрезанным морщинами лбом, сидит мрачный и озабоченный Даладье. Около него – генеральный секретарь Кэ д’Орсэ Алексис Леже, Роша и посол Франсуа-Понсэ, находящийся, как видно, в состоянии крайнего волнения.
Никто не председательствует. Нет точно установленной повестки дня.
Тягостное и запутанное обсуждение, во время которого все выступления последовательно переводятся на два языка Паулем Шмидтом, носит беспорядочный характер, все время перескакивая с вопроса на вопрос.
Даладье как на пытке. Утром после докладов, которые сделали один за другим Гитлер, Чемберлен и Муссолини, он вскричал:
– Франция уступила в вопросе об аннексии Германией судетских районов, но если речь идет о ликвидации чешской нации, то мне остается лишь немедленно уехать. Напротив, если речь идет о том, чтобы обеспечить будущее Чехословакии, то я готов содействовать этому вместе с другими в духе взаимного сотрудничества.
– Но слова Гитлера неверно поняты, – тотчас же восклицает Муссолини. – Мы должны здесь осуществить дело мира. Я лично отвечаю за целостность будущей Чехословакии.
* * *
После 6 часов вечера дебаты сосредоточились вокруг вопросов о франко-английском проекте, о международной комиссии и о гарантиях четырьмя странами новых чешских границ. Гитлер возражает.
Даладье настаивает:
– Международная комиссия должна контролировать всё, я говорю – всё…
Проходят часы.
В 11 часов Муссолини поднимается:
– Послушайте, вот текст, сейчас его нужно либо принять, либо отвергнуть. Я не могу больше ждать, мой поезд отходит в полночь.
Дискуссия суживается.
В конечном счете решено, что Франция и Англия гарантируют Чехословакии ее новые границы, в отношении которых Германия и Италия дадут свои гарантии только после того, как будут удовлетворены польские и венгерские требования, предъявленные чехам… А осуществление эвакуации судетских территорий будет происходить четырьмя этапами, без плебисцита, но под контролем Международной комиссии.
В 1 час 30 минут ночи соглашение подписывают. Даладье вне себя от отчаяния:
– Чехословакия должна была уступить перед угрозой превосходящих сил. Ею пожертвовали во имя мира, – мрачно повторяет он.
Даладье отказывается присоединиться к поздравлениям, которыми обмениваются другие делегаты. Чехословацкий посланник в Берлине, который ожидал в отеле результатов конференции, разражается рыданиями, в то время как Понсэ говорит ему:
– Поверьте мне, все это не окончательно, это лишь момент истории, которая начинается и которая вскоре все поставит под вопрос!
* * *
2 часа 30 минут ночи.
Автомобили тронулись. Три делегата возвращаются в свой отель. Смотря на удаляющиеся машины, Гитлер с непостижимым презрением говорит Отто Абецу и Риббентропу:
– Это ужасно, какие передо мной ничтожества! Вернувшись в «Отель де катр сэзон», Даладье, чувствующий себя теперь буквально уничтоженным, взвешивает трудности, которые возникнут перед ним завтра по возвращении.
По его просьбе Франсуа-Понсэ звонит по телефону в Париж Жоржу Боннэ, чтобы разъяснить ему детали соглашения.
– Мир спасен, – говорит Жорж Боннэ, прерывая его на полуслове. – Это главное – все будут довольны.
* * *
Тридцатого сентября в 3 часа дня в воздухе, на борту самолета «Пуату».
Хранящий молчание Даладье замечает внизу аэродром Бурже, где волнуется огромная толпа народа.
– Эти тысячи людей, – говорит он, – пришли, чтобы меня освистать. Прикажите пилоту сделать несколько кругов над аэродромом. Я еще не успел обдумать ни краткую речь, которую мне хотелось бы произнести, ни тем более, как мне держаться при выходе.
Наконец самолет снижается, бежит по взлетной дорожке, останавливается.
Бурная овация встречает Даладье.
Приближаются несколько министров.
Гамелен и Шотан еще продолжают спорить.
– Ну, мой генерал, у вас вырывают кусок хлеба изо рта? – только что заявил Шотан Гамелену, который вздрогнул от возмущения и ответил:
– Я никогда не желал и никогда не буду желать войны, но бывают моменты, когда честь и интересы страны повелевают вести ее.
– Ну, ну, не обижайтесь, я пошутил, – говорит в заключение Шотан.
Оглушенный приветственными криками, Даладье шепчет на ухо Ги Лашамбру, который первым подошел к нему:
– Я думал, что эта толпа собиралась расправиться со мной! – Затем он обращается к Гамелену: – О, это не блестяще, но я сделал все, что мог!
И почти триумфально вынесенный на руках толпой, которая прорвала заграждение, Даладье садится в открытую автомашину. Рядом с ним – Жорж Боннэ.
* * *
Больше пятисот тысяч человек запрудили пространство от аэродрома Бурже до улицы Риволи! Потребовалось час сорок пять минут, чтобы добраться до военного министерства! Дома уже украшены флагами, и повсюду люди выражают неистовую радость.
В военном министерстве собрались все министры. Они поздравляют Даладье и увлекают его к окну. Толпа требует его! Овации.
– Глупцы, – бормочет Даладье вполголоса, – если бы они знали, чему аплодируют.
Потрясенные происшедшим, Поль Рейно и Жорж Мандель проявляют ледяную холодность. Даладье оправдывается перед ними:
– Я не думаю, что в том положении, в каком мы находимся, можно было бы сделать что-либо иное. Когда-то я был сторонником пакта четырех. Генерал Гамелен это хорошо знает. Он был в этом вопросе согласен со мной. Может быть, можно было бы теперь восстановить этот пакт?
Докладывают о приходе американского посла. Даладье принимает его и с грустью говорит ему:
– Я не разделяю взглядов Чемберлена, который только что заявил, что Мюнхен – это «мир для вашего поколения». У меня нет ни малейшего доверия к словам Германии. Диктаторская манера, с которой Гитлер со мной обращался, отвратительна.
Но в конце концов Даладье поддается всеобщему радостному настроению, которое ничто не в силах обуздать. Войны избежали! Мужчины будут демобилизованы! Благодарственные молебны следуют один за другим. Крупные газеты и даже фирмы и предприятия открывают подписку для сбора средств на подарки леди Чемберлен. Пьер-Этьен Фланден посылает поздравительные телеграммы Гитлеру, Чемберлену и Муссолини…
А Даладье под рукоплескания толпы направляется к Триумфальной арке, чтобы возложить венок на могилу Неизвестного солдата!
* * *
В Женеве председатель Лиги Наций взволнованно благодарит Чемберлена и Даладье за сохранение мира.
– Даладье пользуется в настоящее время во Франции таким авторитетом, который можно сравнить с авторитетом Раймона Пуанкаре на другой день после подписания мира, – заявляет генеральный секретарь Жозеф Авеноль.
Жорж Мандель ошеломлен.
– Увы, – шепчет он, – как вся эта непристойная радость доказывает, что общественное мнение ничего не понимает в разыгрывающейся драме!
На другой день, 1 октября, Леон Блюм выражает истинные чувства французов, начиная свою статью в «Попюлер» знаменитой фразой: «Я испытываю двойственное чувство трусливого облегчения и стыда!»
В Бурбонском дворце в зале Четырех колонн мрачно настроенный Луи Марэн подводит итог создавшемуся положению:
– Франция, ослабленная, обезоруженная, покинутая Польшей и Румынией, которые больше не верят в ее могущество, почти лишенная поддержки Англии, Франция, пожертвовавшая Чехословакией, чтобы избежать войны, вести и выиграть которую она чувствовала себя неспособной, только что признала перед всем миром свое бессилие. Это больше не Франция Фоша и Клемансо, Марны и Вердена.
* * *
В это время в Праге, в Градчанах, новый председатель правительства генерал Сыровы, которому задали вопрос относительно событий прошлой ночи, когда французские флаги были разорваны, растоптаны и сожжены толпой, ограничился следующим заявлением представителям печати:
«Мы были покинуты, мы остались в одиночестве. Нет ничего позорного в том, чтобы повиноваться советам своих друзей, так же как и в том, чтобы уступить перед натиском превосходящих сил. Мы преодолели скорбь, отчаяние и негодование, чтобы обеспечить будущее».
* * *
Четвертое октября, 10 часов утра. На улице Гренель в советском посольстве.
Посол Суриц спокоен, но грустен.
– Мы не сыграли абсолютно никакой роли в этих переговорах, – объясняет он двум министрам. – Я узнал о мюнхенской конференции из «Пари суар». С нами не посоветовались даже в отношении редакции коммюнике. С марта месяца мы сделали Форин офис и Кэ д’Орсэ не меньше шести различных предложений о сотрудничестве. Нам ни разу не дали никакого ответа. Некоторые депеши с Кэ д’Орсэ имели тенденцию представить дело таким образом, будто моя страна уполномочила Даладье действовать в Мюнхене от ее лица и будто Париж и Москва находились в самом тесном контакте с Лондоном в течение всего кризиса. Я вынужден опубликовать в прессе категорическое опровержение. Но несомненный результат всего этого – то, что пакт, существующий между нашими двумя странами, находится под угрозой.
Провожая своих посетителей до дверей кабинета, Суриц повторяет:
– Да, франко-русский пакт находится под угрозой.
* * *
Бурбонский дворец, 3 часа дня. Стоит вопрос о ратификации Мюнхенских соглашений.
После аншлюса это – первое заседание, на котором обсуждаются проблемы внешней политики! И все же депутаты почти не пользуются случаем, чтобы высказаться.
Один журналист возмущается.
– Но все, что я мог бы сказать, способствовало бы лишь осложнению положения и в то же время сделало бы еще более вопиющим непростительное преступление против мира, за который нас просят поручиться, – невыразительным голосом говорит известный депутат-радикал.
На трибуне оправдывается Даладье:
– Если бы мы начали войну, чтобы поддержать Чехословакию, то кто может сказать, сохранилась ли бы ее целостность? Нет, нет… Я ни о чем не сожалею.
И только Луи Марэн, коммунист Габриэль Пери и правый депутат Анри де Кериллис протестуют.
Начинается голосование.
Семьдесят один коммунист и де Кериллис голосуют против.
* * *
Двадцать третьего ноября в Елисейском дворце. Совет министров.
– Германия согласна подписать с Францией договор о ненападении, подобный тому, какой Чемберлен и Гитлер заключили сразу же после Мюнхенского соглашения, – говорит Жорж Боннэ. – Риббентроп лично прибудет в Париж, чтобы открыть эту новую эру во франко-германских отношениях.
– Время для визита неподходящее, – протестуют министры.
– Следовало бы гораздо раньше поставить в известность общественное мнение о начатых переговорах, – ворчит Даладье. – Приезд Риббентропа в Париж покажется несвоевременным.
Однако 6 декабря в 11 часов утра развязный, в отличнейшем настроении Риббентроп, в сопровождении своего посла в Париже графа Вельчека, входит в кабинет Жоржа Боннэ на Кэ д’Орсэ и решительно садится к столу. Он заявляет без обиняков:
– Через несколько минут мы подпишем франко-германскую декларацию о дружбе и взаимных консультациях. Но мы хотим, чтобы вы официально признали за нами «свободу действий в Центральной Европе».
– Это невозможно, – отвечает Боннэ.
– Ну что ж, оставим вопрос открытым, – говорит жизнерадостный Риббентроп, – мы поговорим еще об этом с фюрером.
Позднее, в связи со вступлением немецких войск в Прагу, Риббентроп будет утверждать, что Боннэ предоставил ему «свободу действий» в Восточной Европе. На что Боннэ ответит самым категорическим опровержением.
В то же время по другую сторону моста Конкорд Дафф Купер, которому создала огромную популярность в Париже его отставка с поста морского министра в кабинете Чемберлена в момент мюнхенской политики «умиротворения» (с большим шумом в прессе), заканчивает свою имеющую триумфальный успех лекцию в Мариньи следующей фразой, которую он произносит торжественно и вполголоса:
– Я не верю в непобедимость немецких армий.
Говоря это, он пристально смотрит на очень известного немца, сидящего в третьем ряду партера.
Дафф Купер бросает фразу:
– Отныне Франция и Англия должны образовать самый тесный и самый прочный союз, какой когда-либо видел мир.
Андре Давид с беспокойством отвечает:
– Увы, это уже не помешает тому, чтобы пробил роковой час.
* * *
Вечером германское посольство устраивает грандиозный прием в честь Риббентропа.
Приглашен так называемый «весь Париж». Министры-евреи получили свои пригласительные билеты только в 6 часов вечера, тогда как прием назначен на 8 часов!
Все же приглашения были разосланы довольно широкому кругу лиц. Многие спрашивают друг друга по телефону:
– Я думаю, вы не пойдете на прием в посольство Германии?
– Конечно, нет, – отвечают многие депутаты.
Однако в тот вечер почти все они были там! Некоторые со смущенным видом объясняют:
– Правительство просило меня по долгу службы пойти сегодня вечером в германское посольство…
Однако имеет место и несколько резких отказов.
– Я не понял приглашения, так как оно было написано на немецком языке, – отвечает греческий посол Политис.
– Я прошу извинения, но я пригласила к себе на обед господина Осуского, посланника Чехословакии, – сообщает по телефону Жаклина Патенотр германскому послу, который часто спрашивает ее: «Но почему же вы никогда не приглашаете меня?» – на что она отвечает: «Потому что всякий раз, как я хочу это сделать, мой обед отменяется в связи с очередной аннексией вашим правительством какой-нибудь европейской страны».
Что сказать о меню?
Пражский окорок… Страсбургский паштет из гусиной печенки.
Ведущая пресса поет дифирамбы политике франко-германского сближения, которая, по ее словам, «открывает для Франции радужные перспективы в Европе». Но она хранит молчание о проекте франко-германского соглашения по вопросам печати, в соответствии с которым должна быть установлена система цензуры, «распространяющаяся на все то, что может обострить отношения между двумя странами».
* * *
На другой день Риббентроп возвращается в Берлин. Два часа спустя все высшие чиновники получают следующий циркуляр: «Соглашение с Францией только что подписано. Мы требуем, чтобы вы позаботились о том, чтобы народ не стал предаваться иллюзиям о мире. Мы рассчитываем на вас в том, чтобы держать в напряжении все силы, дабы рейх мог быть готовым к любой возможной ситуации: к конфликтам, которые могут быть порождены экспансионистскими действиями Германии на Востоке; к конфликтам, которые могли бы возникнуть в связи с необходимостью для Германии оказать поддержку итальянским притязаниям в Северной Африке!»
Глава 33. Гитлер в Градчанах
Мандель и франко-англо-германское совещание. – «Поступайте как хотите, но так, чтобы Мюнхенское соглашение не ставилось под вопрос». – Женева без Литвинова. – Испания – первое поле битвы во Второй мировой войне, которая неотвратимо надвигается. – Муки президента Гаха. – Даладье в бешенстве. – «Вы, проходящие мимо, скажите, есть ли скорбь, подобная моей?» – Мадам Лебрен и «Кохинор». – Последняя капля воды подобна остальным, однако именно она переполняет чашу. – В Париже царит пораженчество. – Геринг – мягкий человек. – Самоубийство на Эйфелевой башне. – Большой прием в польском посольстве. – 14 июля на площади Этуалъ. – Русские не питают больше доверия к нам.
Пятнадцатого декабря 1938 года в 8 часов вечера в министерстве колоний в кабинете Жоржа Манделя.
Входит министр морского флота Сезар Кампинки.
– Что происходит в палате? – спрашивает его Жорж Мандель.
– На заседании – ничего. Но нам сообщили, что на совещании, которое имеет место в Мюнхене, по вопросу об установлении международных гарантий для Чехословакии, – рассказывает Кампинки, – ни Кэ д’Орсэ, ни Форин офис не оказывают немцам серьезного сопротивления!! Совершенно очевидно, что… министры, которые сейчас побуждают свои парламенты приветствовать их за то, что они якобы сумели сохранить мир, не дают достаточно твердых инструкций своим послам. Вот почему Риббентроп с такой наглостью руководит переговорами. «Ну хорошо, – отвечает он послам Франции и Англии, – если вы настаиваете, я поговорю об этом с фюрером, и он поставит под вопрос Мюнхенское соглашение».
Жорж Мандель замыкается в суровом молчании.
Кампинки продолжает:
– На днях, по-видимому, было много телефонных звонков от французских дипломатов, требовавших инструкций. Кто-то с Кэ д’Орсэ был как раз на заседании. Он вышел и ответил от имени своего вышестоящего начальника: «Поступайте как хотите, но только так, чтобы Мюнхенское соглашение не ставилось больше под вопрос».
С безмерной горечью Жорж Мандель то с сарказмом, то с глубокой скорбью говорит:
– Вместо того чтобы неустанно прилагать все свои силы для преобразования франко-русского политического пакта в военное соглашение, вместо того чтобы вплотную заняться перевооружением страны, наше правительство дает поистине образец постоянной несогласованности и полнейшей нерешительности. Разве можно сказать сегодня с уверенностью, будет ли наконец Франция проводить политику сопротивления или, наоборот, безропотно решится на отход в колонии, что так усиленно проповедуется в некоторых кругах.
Морской министр грустно прощается с Жоржем Манделем.
– Немецкая пропаганда наносит поистине колоссальный вред, – говорит он в заключение.
Дверь приоткрывается!
Беатриса Бретти, красивая, элегантная и сдержанная блондинка, актриса театра «Комеди франсэз», с улыбкой напоминает министру, что гости уже пришли.
Всегда готовая проявить великодушие Бретти и ее непоколебимый здравый смысл придают некоторую общительность этому «фанатику труда», каким является Жорж Мандель, «человек будущего во Франции, ибо только благодаря его инициативе будет воздвигнута в один прекрасный день Четвертая республика», как говорит и думает каждый француз.
Редко говорившая о своей профессии, которая между тем захватывала ее, Бретти три года назад привезла Жоржа Манделя в «Комеди франсэз», чтобы спасти театр, касса которого была пуста!
Жорж Мандель, бывший в то время министром почт, телеграфа и телефона, решил организовать ежедневные передачи по радио пьес из репертуара театра. Он помог «Дому Мольера» выйти из затруднения!
Сегодня, как всегда, не создавая себе иллюзий в отношении человеческой благодарности, Жорж Мандель говорит Бретти:
– А, вот ваши коллеги, я их вижу отсюда… Они вас так любят, что страдают оттого, что не имеют возможности пожалеть вас!
– Его превосходительство господин Осуский прибыл, – повторяет служащий.
* * *
Восемнадцатое января 1939 года. 104-я сессия Совета Лиги Наций в Женеве.
Впервые Литвинов отсутствует.
Во время последней Ассамблеи он сказал французскому министру:
– Я прощаюсь с вами. Я не вернусь больше в Женеву, так как в течение многих лет я доказывал своему правительству, что оно должно основывать свою политику на политике Парижа и Лондона. Сегодня Москва ясно отдает себе отчет, что нет никакой англофранцузской политики, если не считать ту, которая излагается на страницах газет. – И Литвинов потрясает экземпляром газеты «Матэн», на первой странице которой помещена статья, озаглавленная: «Направим же германскую экспансию на Восток, и тогда на Западе мы будем спокойны».
И в то время, как французский министр поднимается, чтобы попрощаться, советский министр иностранных дел с невыразимой горечью добавляет:
– Мне отлично известно, что на днях в Бурбонском дворце в комиссии по иностранным делам один из ваших ответственных дипломатических работников сказал буквально следующее: «Я глубоко изучил франко-русский пакт – он никак не связывает Францию автоматически. Нет смысла поэтому его денонсировать, по-сколькуя в сущностия он не налагает на нас обязательства переходить к действиям».
* * *
Один за другим через большой мраморный коридор проходят члены Совета. Сейчас начнется заседание.
На повестке дня стоит вопрос и об окончании дискуссии по поводу жалобы и требований оружия испанских республиканцев, которые все еще продолжают бороться.
– Мы теперь не питаем иллюзий, – говорит дель Вайо. – После Мюнхена мы убедились, что никто в Европе не будет больше сопротивляться немцам.
Заседание Совета тянется бесконечно. Испанский вопрос – последний. Боннэ и Галифакс притворяются, будто не слушают дель Вайо, который внезапно в ожесточении и отчаянии повышает голос:
– Да, господа, израненный, покинутый, преданный всеми испанский народ будет продолжать борьбу. Поскольку не смогли установить справедливого мира, нам остается лишь бороться насмерть. Но когда-нибудь вспомнят о наших предостережениях и убедятся, что Испания была первым полем битвы во Второй мировой войне, которая теперь неотвратимо надвигается.
* * *
Тринадцатое марта 1939 года на Кэ д’Орсэ.
Бурный разговор между послом Германии и Жоржем Боннэ:
– Предупредите канцлера, что, если он аннексирует Богемию и Моравию, вступление немецких войск в Прагу будет означать разрыв Мюнхенских соглашений. Это будет окончательный шаг к европейской войне, – говорит наш министр.
* * *
В тот же самый час в Берлине, в громадном салоне нового здания имперской канцелярии, несчастный президент Чехословацкой республики Гаха, возвратившийся из Берхтесгадена, куда ему приказал явиться фюрер для вручения последнего ультиматума рейха, одиноко сидит в конце длинного стола заседаний.
Перед ним – документ, текст которого, по-видимому, краток. В случае, если он еще будет медлить с его подписанием, фюрер готов разрушить Прагу и крупные города Чехословакии, бросив на них немецкие самолеты. Сотни бомбардировщиков ждут приказа к вылету. Приказ этот будет отдан в 6 часов утра, если до тех пор Гаха не подпишет документ.
Проходят часы. Время от времени в салон заходят сотрудники Риббентропа. Гаха близок к обмороку. Ему делают укол. Он приходит в себя, но его рука еще слаба. Но с первыми проблесками дня он ставит свою подпись – и теряет сознание.
* * *
После этого в Париже в кабинет Жоржа Боннэ входит посол Германии. На нем черный парадный сюртук. В руке он держит письмо германского правительства французскому правительству, извещающее о соглашении, достигнутом между Гитлером и президентом Гаха:
«Президент чехословацкого государства доводит до сведения германского правительства, что в целях достижения окончательного умиротворения он, будучи в полном сознании и здравом уме, вручает судьбу чехословацкого народа и всей страны фюреру и Германскому рейху». Граф Вельчек добавляет: «Господин министр, фюрер принял эту декларацию, и германские оккупационные войска перешли сегодня в 6 часов утра чешскую границу».
Пораженный Боннэ протестует:
«Французское правительство считает, что оно находится перед лицом вопиющего нарушения Мюнхенских соглашений. Оно не может признать законной новую ситуацию, сложившуюся в Чехословакии в результате действий рейха».
* * *
В Берлине Риббентроп отклоняет протест. Он утверждает, что со времени парижских переговоров Чехословакия не должна более быть предметом обмена мнениями между двумя правительствами.
– К тому же, где вы видите ныне спорные вопросы? Германия и Чехословакия согласны во всем.
Но Кулондр, наш новый посол в Берлине, отвечает:
– Новые чешские представители, господин министр, были не в состоянии свободно выразить свою волю…
Узнав о новом германском акте насилия, Даладье впадает в бешенство. Он запирается один в своем кабинете. Через полчаса он говорит своим сотрудникам:
– Теперь нужно поставить себя в такое положение, чтобы не давать больше этому клятвопреступнику повода для нового вероломства, иначе с Францией будет покончено!
Моральная и почти физическая пытка, которой Гитлер подверг несчастного президента Гаха в ночь с 14 на 15 марта, вызывает возмущение в палате депутатов.
Окруженный большой группой людей, Луи Марэн говорит:
– Фюрер властвует сегодня над массой в восемьдесят миллионов человек. Прежняя Священная Римская империя германской нации восстановлена.
А с Чехией, как говорил Бисмарк, «Германия держит в своих руках всю Европу».
* * *
Во второй половине дня перед чешским посольством на Марсовом поле собралась толпа. В большом салоне вокруг посланника Осуского и его супруги собрались все те, кого Париж считает выдающимися деятелями.
В бюро чешского туризма на улице Фобур Сент-Онорэ – скопление народа.
Под двумя скрещенными флагами – французским и чешским – можно прочитать только что, как видно, написанные фразы: «Они четвертовали меня и в скорби я одинока, без друзей. О вы, все проходящие мимо, скажите, есть ли скорбь, подобная моей!»
* * *
Спустя шесть дней, 21 марта 1939 года, в Лондоне, в Букингемском дворце.
Торжественный обед.
Английская королевская чета официально принимает президента Лебрена с супругой.
Мадам Лебрен, к которой пришли жены наших дипломатов в Лондоне, чтобы ознакомить ее с некоторыми элементарными требованиями протокола английского двора, раздосадована. Она хотела надеть на официальную церемонию знаменитый королевский бриллиант «Регент». Ведь королева Англии собирается надеть «Кохинор». «Это рассматривалось бы двором как признак дурного вкуса, – объяснил наш посол в Лондоне. – Это разные вещи, поскольку «Регент» не является личной собственностью президентов Французской республики».
Настроение в Букингемском дворце торжественное. Единственной заботой сейчас является «отразить угрозу свастики, которая нависнет в один прекрасный день над Лондоном и Парижем».
В связи с этим Галифакс представляет Жоржу Боннэ текст резолюции, говоря при этом:
– Нужно теперь же остановить германскую агрессию, какова бы ни была ее цель. Согласны ли вы с текстом этой декларации?
– Мы согласны, – говорит Боннэ. – Но нужно, чтобы вы решились сразу же объявить мобилизацию…
– Мы это сделаем, – твердо отвечает Чемберлен.
Атмосфера тяжелая. Элегантная женщина, жена одного из должностных лиц двора, страстно говорит мадам Лебрен:
– У меня несколько сыновей, мадам, которых я люблю. Но я предпочла бы скорее видеть их мертвыми, чем примириться с владычеством Гитлера над Европой.
В течение трех дней французские представители слышат подобные утверждения.
Наконец английские и французские министры принимают решение быть наготове и создать во чтобы то ни стало то самое объединение всех сил, о котором в их призывах в сентябре не было упоминаний. Это военный союз с СССР, соглашение с Балканскими странами, Румынией, Грецией, Турцией; мобилизация в Англии и материальная поддержка Соединенных Штатов Америки.
На следующий день на вокзале «Виктория», когда двери вагона президента были уже закрыты, к Жоржу Боннэ подходит Черчилль.
– Через несколько дней Гитлер захочет применить по отношению к Польше те же методы, которые он применил в отношении Австрии и Чехословакии, – говорит он. – Фюрер полагает, что одержит успех в третий раз. Но он ошибается. Последняя капля воды подобна остальным, однако именно она переполняет чашу!
* * *
Прошло два месяца.
Двадцать третьего мая в Берлине, в новом здании имперской канцелярии, граф Чиано в присутствии всех официальных представителей подписывает новый пакт, согласно которому «Германия и Италия приняли решение» твердо и непоколебимо «обеспечивать сообща свои жизненные интересы». Однако Гитлер разочарован и взбешен… Муссолини добился того, чтобы в секретной статье было специально оговорено, что «в течение трехлетнего периода Италия не будет обязана вступать в войну, если бы в это время рейх ее начал».
А Гитлер с 30 марта именно и добивается войны!
Гитлер удваивает свои настойчивые обращения к комиссару Лиги Наций в Данциге. Он хочет во что бы то ни стало добиться от Польши добровольного отказа от города, дабы ее союзный договор с Францией не вступил в действие.
– Если Германия пойдет на новый насильственный акт, это вызовет всеобщую драку в Европе и никто не сможет помешать этому, – повторяет Боннэ послу Германии Вельчеку, который неизменно отвечает:
– Данциг – немецкий город, и он должен быть возвращен Германии. Мы желаем, чтобы мир был сохранен, но если разразится европейская война, она не застанет нас врасплох.
Двадцать восьмого июня, вечером, после чтения телеграмм, Боннэ говорит Даладье:
– Гитлер готов к войне.
* * *
Но переговоры с Россией, которые являются единственной реальной базой всякого возможного сопротивления Гитлеру, не продвигаются вперед, так как в Париже царят пораженческие настроения!
«Пти журналь» публикует высказывание полковника де ля Рокка: «Слишком тесный союз с Советами повлечет за собой риск потерять доверие Польши и Румынии». Крупнейшие журналы осмеливаются писать: «Гитлер – это идеальный диктатор!» Или еще: «Несмотря на свою внешнюю свирепость, Геринг мягкий человек».
Заново организованный Риббентропом франко-германский комитет, который возглавляет Абец, становится всемогущим.
Так называемый «весь Париж» битком набивает помещения в левобережных кварталах, где происходят конференции, на которых предводитель гитлеровской молодежи Бальдур фон Ширах рассказывает о «возрождении гитлеризмом французской молодежи».
В некоторых избранных кругах интеллигенции новым модным теориям оказывают довольно благосклонный прием.
«Поражение Германии означало бы крушение главного оплота против коммунистической революции. Следовательно, поражение Германии было бы большим злом, чем поражение Франции. В конце концов, разве не предпочтительнее для Франции быть раздавленной Гитлером, чем стать победительницей с помощью Сталина?»
Кроме того, парижане получают из Берлина по почте пропагандистские листки Геббельса:
«Французы, неужели вы хотите сражаться и умереть за Данциг? Посылать на смерть ваших сыновей, братьев и мужей из-за каких-то коммуникаций, укреплений и пограничных столбов? Конечно, нет, а раз так, то…» и т. д.
А незадолго до этого Гитлер вызвал Раушнига, чтобы вдолбить ему свои лучшие методы пропаганды!
– С сегодняшнего дня, – сказал ему Гитлер, – я организую свою собственную дипломатическую службу. Это стоит дорого, но зато я выигрываю время. Я отредактировал вопросник в отношении интересующих меня лиц. Я поручил составить полную картотеку на влиятельных лиц во всех странах. Эти карточки будут содержать только те сведения, которые действительно имеют значение. «Такой-то – берет ли взятки? Можно ли его купить каким-либо другим способом? Тщеславен ли он? Обладает ли эротическими наклонностями? Какой тип женщин он предпочитает? Не гомосексуалист ли он? Следует обратить самое серьезное внимание на эту последнюю категорию, ибо таких людей можно привязать к себе неразрывными узами. А такой-то – не должен ли он скрывать каких-либо фактов из своего прошлого? Поддается ли он шантажу? Нет ли у него каких-либо особых наклонностей или маний: спорт, страсть к чему-либо? Любит ли он путешествовать?» Именно таким путем я и делаю истинную политику, привлекаю людей на свою сторону, заставляю их работать на себя, обеспечиваю свое проникновение и свое влияние в каждой стране.
Увы, Гитлер действительно очень хорошо организовал свою собственную дипломатическую службу во Франции!
Между тем в Париже генеральный штаб требует от правительства ареста ста пятидесяти человек.
Некоторые из этих принадлежат к политическим или к промышленным кругам, другие – к высшему обществу, наконец, третьи – к прессе.
Арестованы секретарь сената Амурель, журналист газеты «Фигаро» Леон Пуарье и сотрудник «Тан» Сент-Обен. Оба журналиста обвиняются в получении денежных сумм от Германии, причем один из них получил три с половиной миллиона франков, другой – миллион. Пресса неистовствует. Жорж Боннэ в ответ предает суду журналиста «Юманите» Сампэ.
Все эти инциденты свидетельствуют о полном успехе гитлеровских методов пропаганды во Франции.
* * *
Первое июля 1939 года. Никогда парижский сезон не был столь блестящим. Грандиозный праздник на Эйфелевой башне в честь ее пятидесятилетия.
– Смотри-ка, вот человек, которому надоело жить, – флегматично говорит один из муниципальных гвардейцев в полной форме, который несет караул на площадке первого этажа и видит на земле тело упавшего.
Поднимается суматоха.
Оказывается, это чехословацкий военный атташе, лейтенант Бенеш, племянник президента. Горячий патриот, он не смог вынести несчастий, обрушившихся на его страну, и бросился вниз с Эйфелевой башни.
В тот же вечер, в полночь, – большой бал у американского посла Буллита.
Через день английский посол Фиппс устраивает в своем саду прием на тысячу восемьсот человек.
Четвертого июля – знаменитый вечер у польского посла Лукасевича: две тысячи приглашенных! Предел элегантности!
На лужайке при свете прожекторов посол Лукасевич, сбросив лакированные туфли, исполняет польский народный танец.
Вокруг него – весь дипломатический корпус, а также Жорж Боннэ, Галифакс, Гамелен.
Прекрасная летняя ночь, усеянное звездами небо. Сказочный сад, фонарики, гирлянды, мазурки и вальсы Шопена.
– Они танцуют на вулкане, – говорит Поль Рейно. – Да и что значит извержение Везувия по сравнению с грозящей нам катастрофой, которая вот-вот готова разразиться!
Бал, устроенный днем позже Филиппом Ротшильдом, превосходит все предыдущее.
Но 10 июля английский посол в Берлине Гендерсон, проезжая через Париж, отправляется к Боннэ, чтобы сказать ему:
– Вы должны знать, что никогда еще после 1914 года опасность войны не была столь неминуемой, как сейчас. Помните, однако: когда драка начнется, только один человек сможет еще, может быть, спасти мир, и это будет Муссолини, если он предложит конференцию!
* * *
Четырнадцатое июля, площадь Этуаль. Дипломатическая трибуна переполнена.
Перед глазами виднейших представителей союзников – Уинстона Черчилля, румынского короля Кароля, Хор Белиша и многих других – развертывается безукоризненный парад национальных и колониальных войск; оглушающий грохот танков, гул самолетов военно-воздушных сил. Парад проходит в обстановке энтузиазма населения. Он даже создает впечатление внушительной военной силы.
На дипломатической трибуне советский посол хранит молчание.
– Говорят, его беспокоит вопрос о его карьере, – перешептываются его коллеги.
Это вполне возможно, ибо переговоры о франко-русском военном пакте все больше затягиваются.
Однако, когда 4 мая Литвинов был смещен с поста министра иностранных дел, французские парламентские круги, опасаясь заключения германо-русского пакта, высказались в пользу военного соглашения с Россией. 25 мая Москва предложила Лондону и Парижу пакт о взаимопомощи. Пакт предусматривал, в частности, что «в случае войны без СССР не будет заключено ни перемирия, ни сепаратного мира».
«Направьте наконец к нам полномочную военную миссию», – настаивает Кремль. Боннэ и Чемберлен остаются безучастны. Лишь спустя некоторое время они решат послать делегацию в Москву. Ей понадобится пятнадцать дней, чтобы добраться, ибо она поедет пароходом! Ворошилов раздосадован: Боннэ и Чемберлен не дали даже «полномочий» своим представителям.
Наш поверенный в делах в Москве Наджиар, находясь проездом в Париже, заявил:
– Русские начинают приходить к мысли, что они никогда не будут считаться равноправными партнерами в тройственном союзе. И они не питают больше доверия к нам.
Глава 34. Роковой час пробил
Доктор Вольтат – представитель рейха на конференции по китобойному промыслу. – Народ не верит в возможность войны. – Дневник графа Чиано. – Прощальный визит графа Вельчека. – Риббентроп в Москве. – «Это утка, мой дорогой, ложитесь спать, завтра увидим!» – Последняя попытка созвать конференцию в Риме. – Чрезвычайное заседание Совета национальной обороны. – Генеральный штаб считает, что вооруженные силы Франции находятся в боевой готовности. – «Я угрожаю… ты предлагаешь… они испугаются… и ты потребуешь…» – Гнев польского посла. – «От катастрофы к катастрофе мы устремимся к окончательной победе».
Лондон, 22 июля 1939 года. Экономический советник фюрера доктор Вольтат, прибывший в качестве представителя Германии на конференцию по китобойному промыслу, говорит своему английскому коллеге Хадсону:
– Третий рейх был бы готов рассмотреть вместе с вами политические соглашения, которые могли бы способствовать миру в Европе.
Хадсон возражает:
– Это бесполезно, мы не хотим возвращать вам ваши колонии, и если вы попытаетесь изменить силой нынешний статус в Европе, в частности в Данциге, то будет война…
В тот же вечер посольство Франции в Берлине телеграфирует на Кэ д’Орсэ: «Согласно сведениям из достоверного источника, канцлер Гитлер как будто проникся теперь убеждением, что Франция и Англия полны решимости выполнить свои обязательства по отношению к Польше и что, идя на крайности в данцигском вопросе, он рискует развязать всеобщую войну. Тем не менее он продолжает приводить в готовность свою армию с невероятной методичностью и точностью».
Во Франции народ не верит в возможность войны. Во всяком случае, все полагают, что война будет закончена быстро, ибо нацистский режим сразу же рухнет. Что касается генерала Гамелена, то его вера во французскую армию безгранична.
– Война будет выиграна отнюдь не авиацией, а снова французской пехотой, – повторяет он.
* * *
В Соединенных Штатах Америки конгресс расходится на каникулы, не проголосовав за изменения в законе о нейтралитете.
– Закон о нейтралитете будет изменен, как только вспыхнет война, – спокойно замечает американский посол Буллит, однако последний с настойчивостью повторяет:
– Но, господин посол, наша судьба могла бы быть иной, если бы Германия знала, что в случае войны Соединенные Штаты сразу же выступят на нашей стороне!
Восьмого августа германский посол нанес нечто вроде «прощального визита» на Кэ д’Орсэ, создав при этом у всех впечатление человека, убежденного в том, что ничто более не может остановить Гитлера.
* * *
Берхтесгаден, 10 августа. Прислонившись к широкой застекленной двери большого зала, верховный комиссар Лиги Наций в Данциге Бурхардт неподвижно стоит перед Гитлером, который в ярости мечется взад и вперед, отшвыривая ногами и руками попадающуюся на пути мебель.
– Господин верховный комиссар, роковой час пробил, – рычит Гитлер. Зная, что Париж и даже Лондон поддерживают Польшу в ее сопротивлении по вопросу о Данциге, фюрер продолжает: – Я брошу против этих поляков всю мощь новейшего оружия, о котором французы и англичане не имеют ни малейшего представления. В несколько дней Польша будет уничтожена. И если это будет всеобщая война, то я предпочитаю руководить ею в пятидесятилетнем, а не в шестидесятилетнем возрасте.
В тот же вечер в Риме, во дворце Киджи, Чиано пишет введение к своему дневнику:
«Я возвращаюсь из летней резиденции Риббентропа в Фульде. Мне кажется, что его стремление развязать войну непреклонно. Я убежден, что если бы немцам предоставили даже больше, чем они потребовали, они все равно совершили бы нападение, ибо ими овладел демон разрушения».
Три дня спустя Чиано продолжает записи:
«12 и 13 августа я был в Берхтесгадене. Гитлер полон решимости силой урегулировать польский вопрос. Он требует итальянской поддержки в соответствии со Стальным пактом. В ответ я напомнил ему о секретной статье этого пакта, согласно которой Германия до истечения трехлетнего срока не начнет войны без согласия Италии. Разговор носил чрезвычайно резкий характер. Когда я с целью удержать мою страну вне конфликта напомнил ему о традициях Савойской династии, Гитлер вскричал: «Традиция у вас означает измену!»
На это я заявил: «Италия не присоединится к выступлению Германии против Польши».
И вот Муссолини отказывается в данный момент от встречи с Гитлером.
* * *
Париж, 15 августа. На Кэ д’Орсэ никого нет.
По словам одного из наших дипломатов, очень обеспокоенного внезапным предложением Ворошилова прекратить франко-русские переговоры на время, пока Польша не даст своего согласия на проход войск, один русский белоэмигрант, агент-осведомитель министерства, сказал кому-то: «Вы никогда не заключите вашего пресловутого соглашения. Сталин подпишет пакт не с кем иным, как с Гитлером, и не позже, чем в конце этого месяца. После Мюнхена Сталин убежден, что нынешние руководители демократических правительств готовы сделать все возможное и невозможное, как только война станет неизбежной, чтобы направить удар германских армий только на одну Россию. Во Франции и Англии все еще находятся у власти мюнхенцы, а я им не доверяю, повторяет Сталин».
И этот русский белоэмигрант продолжает: «Сталин хорошо знает, что конечная цель Германии – раздавить Россию. Но в настоящее время Россия не готова к обороне, поскольку все ее планы основывались на существовании чехословацкого бастиона».
Никто не придает большого значения этим высказываниям. Тем не менее Боннэ вызывает польского посла Лукасевича.
– Разрешите проход русских войск, – говорит он ему.
Шесть дней спустя, 21 августа, польское правительство окончательно отказывается предоставить право прохода русским войскам.
– Поручили бы вы немцам охранять Эльзас-Лотарингию? – спрашивает Лукасевич.
Наш посол в Берлине Кулондр потрясен.
«Бронетанковые части и дивизии выходят из столицы рейха в направлении Силезии, – телеграфирует он Боннэ. – Эшелоны с войсками и танками идут весь день. Моторизованная колонна протяженностью более ста километров – на марше в направлении Померании на автостраде Берлин – Штеттин. Мобилизовано два миллиона человек».
Тогда Боннэ дает нашему военному атташе в Москве генералу Думенку полномочия на заключение любой ценой военного договора с СССР. «В случае необходимости русские войска пройдут через Вильно, – предлагает Боннэ, – я это гарантирую». Но Ворошилов отказывается. «Польша – суверенное государство. Франция не может давать обязательства от ее имени», – говорит он.
* * *
Беспокойство на Кэ д’Орсэ возрастает. Не отвернулась ли Россия? В полночь агентство «Гавас» сообщает по телефону Боннэ: «Через несколько часов Риббентроп едет в Москву с целью подписать пакт о ненападении».
Боннэ будит Даладье. Тот отвечает:
– То, что вы рассказываете, мой дорогой, – это утка, это идиотизм, ложитесь спать, завтра увидим!
Но агентство ТАСС подтверждает.
Мы проиграли партию.
* * *
Двадцать третьего августа в 6 часов вечера, после того как в Кремле подписали советско-германский пакт, на улице Сен-Доминик на чрезвычайном заседании Совета национальной обороны царит атмосфера катастрофы. Протокол ведет начальник личного кабинета Даладье генерал Декан.
Боннэ задает вопрос:
– Следует ли побуждать Польшу к компромиссу? Это дало бы нам время для завершения наших приготовлений. Что думает по этому поводу Генеральный штаб?
– Господа, – говорит Даладье, – речь идет прежде всего о том, чтобы ответить на следующие три вопроса. Первый: может ли Франция безучастно присутствовать при том, как Польша исчезает с карты Европы? Второй: какими средствами она располагает, чтобы воспрепятствовать этому? Третий: какие меры необходимо сейчас предпринять?
Генерал Гамелен замечает:
– Я верю, что Польша окажет достойное сопротивление, которое помешало бы основной массе немецких вооруженных сил направить свой удар против нас до наступления будущей весны. К тому времени, – добавляет он, – Англия будет на нашей стороне.
Ги ла Шамбр информирует после этого о состоянии авиации:
– Что касается истребительной авиации, то мы располагаем большим количеством современных машин, серийное производство которых налажено. Следовательно, состояние нашей авиации не должно более оказывать давления на решения правительства, как это было в 1938 году. В среднем французские и английские самолеты равноценны итальянским и немецким.
Гамелен и адмирал Дарлан повторяют:
– Сухопутная армия и флот в готовности.
Даладье говорит в заключение:
– В течение очень многих лет Франция прилагала большие усилия для создания системы укреплений, обеспечивающих защиту ее границ. Если уж война должна начаться, то предпочтительно, чтобы она возникла в нынешних условиях. Генеральный штаб считает, что вооруженные силы Франции находятся в готовности и что может быть принято только одно-единственное решение – выполнить свои обязательства.
* * *
На другой день, 24 августа, – заседание Совета министров.
Жорж Мандель и Поль Рейно нападают на Жоржа за то, что он, не имея на то согласия правительства, звонил по телефону в Варшаву с целью потребовать от поляков, чтобы они «не совершали никаких непоправимых действий в случае, если бы рейх захватил Данциг». Оба требуют мобилизации, утверждая: «Это единственный акт, могущий еще устрашить Гитлера».
Даладье возражает. «Но не совсем потеряна и надежда договориться с Россией», – заявляет он президенту Альберу Лебрену. Возвратившись на Кэ д’Орсэ, Жорж Боннэ все еще лихорадочно пытается вести одновременно ряд переговоров.
Четверо сопротивляющихся министров взбешены!
– Жорж Боннэ все портит, присутствие этого человека в правительстве приведет нас к страшным катастрофам, – говорит Жорж Мандель. – Он заставляет весь мир принять участие в том, чтобы на коленях умолять Гитлера сохранять спокойствие. Как же вы хотите, чтобы в этих условиях мир питал хотя бы малейшее доверие к нашей стране? Как же мы можем сохранить наши союзы? Он обращался по очереди то к королю Леопольду, то к Рузвельту, то к Франко, то к Папе Римскому и… кто его знает, к кому еще! Теперь он пытается добиться от Муссолини нового Мюнхена, условия которого были бы много хуже первого мюнхенского соглашения, в то время как – я в этом уверен – прояви мы немного твердости и смелости, мы могли бы еще выиграть драгоценное время. Так почему же Гитлеру не напасть на Польшу, если у него сложилось впечатление, что ее союзница дрожит от страха при мысли об оказании ей помощи?
* * *
Тридцать первое августа, 13 часов.
Понсэ телеграфирует из Рима, где он сейчас занимает пост французского посла: «Муссолини предлагает созвать 5 сентября международную конференцию при условии, что Польша признает – и притом добровольно – присоединение Данцига к Германии».
Тотчас же Чемберлен сообщает по телефону:
– Английское правительство приняло бы участие в такой конференции только в том случае, если бы все страны, включая Германию, предварительно согласились демобилизовать свои войска.
Жорж Боннэ настаивает на немедленном согласии.
В 18 часов Даладье созывает заседание Совета министров.
– Стойте на своем, – говорит Боннэ своим друзьям Шотану, де Монзи, Кэю, Ла Шамбру, Маршандо, – это последняя возможность. Или конференция, или война!
Ужасное заседание Совета министров! Боннэ требует согласия на конференцию, настаивая, чтобы на нее была приглашена и Польша.
– Я протестую против этого нового отступления Франции! – говорит Альбер Сарро.
– Это новый Мюнхен, – заявляют Поль Рейно, Мандель и Кампинки.
– Но наш посол в Лондоне Корбэн настаивал, чтобы мы дали ответ немедленно, – повторяет Боннэ.
– Постойте, – кричит Даладье, – он, Корбэн, сказал вам это! А не прошло и часу, как я сам звонил ему и он мне сказал как раз обратное! Он мне сказал, что нечего торопиться!
Тревожное молчание. Даладье продолжает:
– Ведь это же маневр! Италия пытается вывести Германию из затруднительного положения. Она действует по поручению Гитлера, с тем, чтобы дать ему возможность, не прибегая к войне, добиться своих непосредственных требований.
– Да, но не ответить Риму немедленно – это значит ускорить трагедию, – бросает в ответ Боннэ.
– Хватит уж, Боннэ, – говорит Кампинки, – разве ты не видишь, что все это заранее подготовленная проделка, в которой двое пройдох – Гитлер и Муссолини – играют каждый свою роль: «Я угрожаю… ты предлагаешь… они испугаются… и ты потребуешь».
– И если мы пойдем в Рим на коленях, – восклицает Поль Рейно, – нам либо будет навязана война, либо мы обесчестим себя, не выиграв войны!
В конце концов Сарро зачитывает представителям печати следующее краткое коммюнике: «Франция выполнит свои обязательства».
* * *
Едва забрезжило утро 1 сентября, как на Кэ д’Орсэ прибывает следующая лаконичная телеграмма: «Немцы вторглись на территорию Польши».
Совет министров. Созыв обеих палат парламента. Всеобщая мобилизация. Вступление в войну в принципе решено, но Боннэ все еще ведет переговоры.
– Непоправимый переход от мира к войне, – восклицает он, – столь же печален и трагичен, как уход из жизни дорогого существа, даже когда вы знаете, что оно обречено!
В 6 часов вечера польский посол наносит Жоржу Боннэ визит, полный драматизма.
– Сейчас уже не место разговорам, господин министр, надо сражаться. Что делает ваша армия? Ваша авиация? Вы обещали нам эффективную и быструю помощь, а вместо этого вы тратили время на то, чтобы поощрять Гитлера, делая все необходимое, лишь бы создать у него уверенность, что он может напасть на нас, так как и на этот раз вы не будете выполнять своих обязательств. Хуже того, вы сделали все, чтобы помешать и Англии выполнить свои обязательства. Мысль о созыве конференции в Риме абсурдна. От этого выиграет только Германия, и вы это хорошо знаете. Ваши действия в настоящее время доказывают миру, что Франция не верна своему слову!
Боннэ поднялся, мертвенно-бледный:
– Я прощаю вам такие высказывания, господин посол, – сказал он, – потому что вашу страну постигло несчастье.
Лукасевич, все еще во власти гнева, не слышит.
Боннэ позвонил, служащий открыл дверь. Министр иностранных дел отпускает польского посла.
* * *
В Бурбонском дворце Даладье требует предоставления кредита в 90 миллиардов для проведения всеобщей мобилизации.
«Наступило время покончить с агрессивными и насильственными действиями. Если бы мы не выполнили своих обязательств и позволили Германии раздавить Польшу через несколько месяцев, а может быть через несколько недель, что сказали бы мы Франции, если бы снова пришлось подняться против агрессора?»
Однако какая-то неопределенность веет над дебатами.
Трусливые и запуганные, многие депутаты не понимают создавшейся обстановки! Обращение председателя Совета министров представляется как требование об увеличении военных кредитов. Оно подтверждает сомнения, еще существующие в умах депутатов, которые в кулуарах со скучающим видом говорят об «обязательствах по отношению к Польше».
В маленькой группе, где стоят Пьер Лаваль, Мистлер, Марсель Деа, можно слышать странные высказывания.
– Надо всегда помнить, что Гитлер не требует от нас Эльзас-Лотарингии, а следовательно? – говорит один из них и затем, переходя от одной группы к другой, добавляет: – Но, в конце концов, это – антиконституционный путь вступления в войну. По закону мы еще можем протестовать, поскольку от нас потребовали только голосования за увеличение кредитов.
Один из них, очень взволнованный, повторяет громким голосом, выделяющимся из всего этого гула разговоров спорящих между собой и пребывающих в нерешительности депутатов:
– Враг номер один – это большевизм, не забывайте об этом, не забывайте!
Поль-Бонкур восклицает:
– К счастью, эти господа не выражают подлинных чувств нации. Однако, – добавляет он, – такие, как они, увы, имеются в министерствах и в армии! Я вспоминаю подобное заседание 2 августа 1914 года; но тогда был такой подъем, такое горячее стремление защищать страну! Какая печальная разница!
Стоящий рядом с ним Жорж Мандель, сохраняющий полное самообладание, говорит бесстрастным тоном:
– Да… Война будет долгой… очень, очень долгой! Нельзя предугадать, сколько она продлится! Франция будет захвачена вплоть до Бидассоа, и все несчастья обрушатся на нашу бедную страну… но вы увидите, от катастрофы к катастрофе мы устремимся к окончательной победе!
Перед палатой депутатов прохожие молчаливо расхватывают последний номер «Пари суар», в котором сообщается о начале войны. Люди все еще не верят этому. Они скептически качают головами. Большинство заявляет с понимающим видом:
– Все это только игра, нужно делать вид, что придерживаешься ее правил, но все закончится до того, как произойдет что-либо действительно серьезное.
Журналисты, фотографы, любопытные постепенно покидают министерство на Кэ д’Орсэ. Они поспешно устремляются на улицу Сен-Доминик к военному министерству, где должна разыграться драма. Понемногу в министерстве иностранных дел воцаряется тишина – сначала во дворе, затем в вестибюле, в салонах и наконец – в кабинетах!
Как будто обессиленные и обесточенные, молчат телефоны.
Последний посетитель – германский поверенный в делах – пришел за своим паспортом.
Теперь на всех этажах могильная тишина, кажется, опускается на всю эту дипломатию, действия которой в течение двадцати лет создавали историю между двумя войнами, ныне уже отошедшую в прошлое! С этой самой минуты начинается Вторая мировая война.
Примечания
1
Довиль – приморское местечко во французском департаменте Кальвадос. – Здесь и далее примечания редактора.
(обратно)2
Швейцария в период войн Французской революции конца XVIII века и Наполеона I называлась Гельветической республикой.
(обратно)3
Племя индейцев, проживающее в Северной Америке, в штате Айова.
(обратно)4
Артабан – герой романа де Ля Кальпренеда «Клеопатра», полный гордости характер которого вошел в поговорку – горд, как Артабан.
(обратно)5
Для Франции характерно сравнительно кратковременное существование того или иного Совета министров. Однако эта частая смена министерств не нарушает деятельности административного государственного аппарата, поскольку вновь назначаемый министр не меняет установленного ранее декретом президента республики порядка работы министерства, так же как не сменяет постоянных, особенно высокопоставленных, чиновников, которые обычно и являются первыми помощниками министра в проводимой правительством политике. Но в отличие от постоянного штата министерств каждый министр составляет свой собственный кабинет, куда включает своих непосредственных сотрудников, которых обычно он лично хорошо знает и которым полностью доверяет. Назначение состава кабинета министра полностью зависит от самого министра.
(обратно)6
В пользу Германии (лат.).
(обратно)7
Эта известная фраза о Бриане и Пуанкаре впервые была сказана Жоржем Клемансо еще до описываемых в данной книге событий.
(обратно)8
Паван – старинный испанский танец, медленный и торжественный.
(обратно)9
16 марта 1930 г.
(обратно)10
Французский сатирический еженедельник.
(обратно)11
Последователи учения французского философа Декарта.
(обратно)12
Вокзал в Женеве.
(обратно)13
Если хочешь мира, готовь мир (лат.). Это измененный вариант (парафраз) знаменитой римской пословицы: «Если хочешь мира, готовься к войне» (Si vis pacem, para bellum).
(обратно)14
Послушайте, адмирал (англ.).
(обратно)15
Званый чай (англ.).
(обратно)16
Сенсационная новость, опубликованная в газете до ее появления в других газетах.
(обратно)17
Знак отличия во Франции за заслуги в области литературы, науки и искусства.
(обратно)18
По-французски произношение фамилии Лаваль (Laval) очень созвучно с произношением слова Германия (L’Allemagne), особенно в сочетании с другими словами, как, например, в данном тексте – «Да здравствует Лаваль! Да здравствует Германия!» («Vive Laval! Vive L’Allemagne!»).
(обратно)19
Речь идет об известном замке Тауэр в Лондоне (англ. tower – башня), расположенном на левом берегу Темзы. Время его основания неизвестно, но уже в XII веке он был резиденцией короля Стефана Блуасского.
С XVI века Тауэр служил политической тюрьмой, где содержались некоторые коронованные и другие знатные узники, часто там умерщвлявшиеся (например, Генрих VI Ланкастер, Эдуард V, Томас Мор).
С 1820 года Тауэр превращен в арсенал, в котором собрана богатая коллекция средневекового оружия и орудий пытки.
Кладовые Тауэра служат местом хранения королевских регалий.
(обратно)20
Долина около города Филиппы в Македонии, где в 42 году до н. э., после смерти Цезаря, произошла битва последних защитников республики, возглавлявшихся Брутом и Кассием, с Антонием и Октавианом. Сражение окончилось поражением республиканцев и смертью Брута и Кассия.
(обратно)21
Посвящено любви и скорби (лат.).
(обратно)22
«Punch» («Петрушка») – известный английский сатирический журнал.
(обратно)23
Название улицы, на которой находится военное министерство.
(обратно)24
Русский белогвардеец. Убийство президента Думера было организовано «Русским общевоинским союзом», во главе которого стоял один из главных организаторов интервенции против СССР генерал Миллер. Горгулов сам признался, что убийство президента имело целью спровоцировать войну Франции против СССР.
(обратно)25
Поль-Бонкур – военный министр; Поль Пенлеве – министр авиации; Жорж Лейг – министр военно-морского флота.
(обратно)26
Слава Богу! (нем.).
(обратно)27
В том же году подлинные организаторы провокационного поджога рейхстага были разоблачены Г. Димитровым на инсценированном гитлеровцами в Лейпциге процессе (21 сентября – 23 декабря 1933 года) против коммунистов, ложно обвиненных в поджоге. На судебном контрпроцессе в Лондоне осенью 1933 года было доказано, что рейхстаг подожгли гитлеровцы под непосредственным руководством Геринга. Полный провал обвинения вынудил Лейпцигский суд оправдать коммунистов.
(обратно)28
В конце концов (англ.).
(обратно)29
«Гостиница мира».
(обратно)30
Дело, связанное со скандальным банкротством французского финансиста и афериста Александра Стависского, «покончившего самоубийством» в декабре 1933 года. В мошеннических финансовых операциях Стависского были замешаны многие крупные французские политические деятели и парламентарии, в связи с чем фашистские элементы стремились воспользоваться разразившимся скандалом с целью дискредитировать, а затем и уничтожить буржуазно-республиканский строй во Франции.
(обратно)31
В период подготовки фашистского восстания 6 февраля 1934 года Кьяпп занимал должность префекта парижской полиции и покровительствовал фашистам, с которыми был тесно связан. 3 февраля 1934 года Даладье уволил его с этой должности, что вызвало бурное возмущение французских фашистов.
(обратно)32
Первое голосование по поставленному правительством Даладье вопросу о доверии закончилось в 6 часу вечера 6 февраля 1934 года с результатом: 300 голосов – за, 217 – против. При последнем голосовании в этот день за доверие правительству высказалось уже 360 депутатов, против – 220. Увеличение количества голосовавших за доверие показывает, что в ходе фашистского восстания часть колеблющихся депутатов перешла на сторону правительства, тогда как число сторонников фашизма в составе палаты осталось неизменным.
(обратно)33
В Венгрии рожденное, в Польше выдержанное (лат.).
(обратно)34
Привет тебе, император, привет тебе, имитатор (лат.).
(обратно)35
Монтечиторио – дворец в Риме, где помещается палата депутатов.
(обратно)36
Палаццо Киджи – дворец в Риме, где помещается министерство иностранных дел Италии; Вильгельмштрассе – улица в Берлине, на которой расположено здание министерства иностранных дел Германии.
(обратно)37
Имеются в виду Чехословакия, Румыния и Югославия, с которыми Франция не граничит непосредственно.
(обратно)38
Непременное (лат.).
(обратно)39
Пале-Рояль – знаменитый дворец в Париже, построенный в 1629 году архитектором Лемерсье для кардинала Ришелье и ставший с 1636 года национальной собственностью. Затем он долгое время был резиденцией принцев Орлеанских. Говоря о трудностях, напоминающих интриги Пале-Рояля, Табуи имеет в виду сложные отношения между кардиналом Ришелье и королем Людовиком XIII, а также интриги принцев Орлеанских, представителей младшей ветви Бурбонского дома, против французских королей.
(обратно)40
Так называемая Внутренняя македонская революционная организация была организацией македонских националистов.
(обратно)41
Симплон – проход в Альпах между Валэ и Пьемонтом, через который тянется дорога в 69 км и туннель в 19 730 м.
(обратно)42
Это выражение принадлежит не Гёте, а немецкому поэту XVIII в. Бюргеру Г. А., который, в свою очередь, заимствовал его из народной песни. Бюргер употребил его в известной балладе «Ленора» (переведена Жуковским), где придавал ему иной смысл, подчеркивая власть мертвых над живыми.
(обратно)43
Группа «зрителей», специально нанимаемых для создания успеха отдельному артисту шумными аплодисментами, овациями или, наоборот, провала – свистками и шиканьем.
(обратно)44
Ура! Ура! (нем.)
(обратно)45
В последний момент (лат.).
(обратно)46
Никаких санкций… (англ.).
(обратно)47
В конце концов… (англ.).
(обратно)48
Не так уж плохо!!! (англ.)
(обратно)49
Разве это не так? (англ.)
(обратно)50
На неопределенный срок (лат.).
(обратно)51
Дерьмо.
(обратно)52
Пьер Камброн – французский генерал, командовавший при Ватерлоо одним из последних отрядов старой гвардии Наполеона I. Именно тогда окружавшим его многочисленным врагам, требовавшим, чтобы он сдался, Камброн якобы ответил: «Гвардия умирает, но не сдается!» Но по другой версии, более достоверной, он просто ответил одним словом из пяти букв, которое французы с тех пор называют «словом Камброна».
(обратно)53
Прерафаэлит – сторонник прерафаэлитизма, течения в искусстве, возникшего во второй половине XIX века и утверждавшего, что расцветом живописного искусства является живопись предшественников Рафаэля.
(обратно)54
Честности (англ.).
(обратно)55
Мы англичане! (англ.)
(обратно)56
Автор допускает неточность, относя к этому периоду Нионское соглашение, которое в действительности было подписано 14 сентября 1937 года в Нионе представителями СССР, Англии, Франции, Турции, Греции, Югославии, Румынии, Болгарии и Египта. Это соглашение предусматривало ряд эффективных мер по борьбе с пиратскими действиями фашистов на Средиземном море, особенно усилившимися летом и осенью 1937 года и направленными против морского флота всех наций и против Испанской республики. Нионское соглашение почти полностью ликвидировало преступные нападения фашистов на суда других наций в испанских водах.
(обратно)57
Правые имели в виду Леона Блюма.
(обратно)58
Так называли священника Жозефа дю Тремблэ, который был ближайшим доверенным и тайным советником кардинала Ришелье. С тех пор так называют весьма близких к крупным политическим деятелям лиц, не занимающих обычно официальных должностей, но оказывающих на них большое личное влияние.
(обратно)


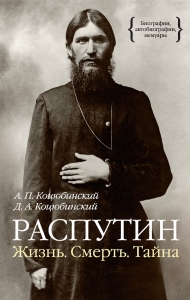
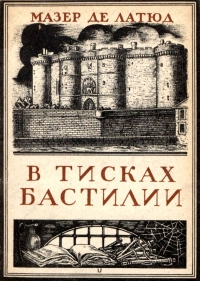
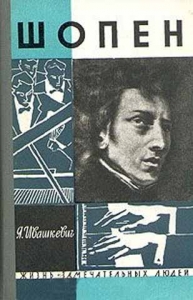
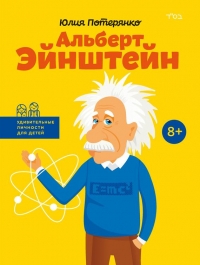
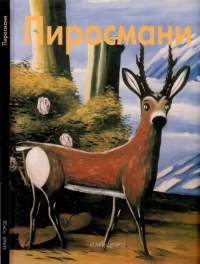
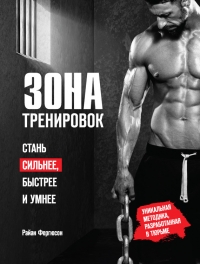
Комментарии к книге «20 лет дипломатической борьбы», Женевьева Табуи
Всего 0 комментариев