СОЛОВКИ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ О НОВОМУЧЕНИКАХ
Вечной памяти Новомучеников Российских, живот свой положивших в ссылках и лагерях.
«Когда в елей Неугасимой Лампады каплет кровь, ее пламя вздымается ввысь. Терновый венец сплетается с Ветвями Неопалимой Купины, и ее свет — с пламенем горящей в лампаде крови. Так было на Голгофе Иерусалимской. Так было на Голгофе Соловецкой, на острове — храме Преображения, вместившем Голгофу и Фавор, слившем их воедино».
Борис ШИРЯЕВI. ОБРЕТЕНИЕ СОЛОВКОВ
8 июля 1990 года, накануне праздника иконы Тихвинской Божией Матери, исполнилось 59 лет со дня кончины последнего Оптинского старца иеромонаха Никона (Беляева), преставившегося в ссылке в Пинеге. Вот уже второй год оптинцы приезжают в этот день на его могилу. На сей раз нам, иеромонаху Феофилакту, послушнику Евгению, заведующей церковно — историческим кабинетом Свято — Данилова монастыря Г. М. Зеленской и мне поручено поставить крест, отслужить панихиду и почтить память Батюшки поминальной трапезой.
В Архангельск мы приезжаем заблаговременно и по благословению Владыки Архангельского и Муромского Пантелеймона 5 июля летим на Соловки. Летим, чтобы отслужить панихиду по всем страдавшим и убиенным в месте сем. Это моя первая встреча со знаменитым архипелагом. Я еще не подозреваю, что через три месяца, поздней осенью, пути Господни вновь приведут меня сюда…
В тот летний день, 5 июля 1990 года, на остров переселялся первый монах вновь возобновляемого Соловецкого Зосимо — Савватиевского монастыря игумен Герман. Он так горячо хлопотал о нас в аэропорту, что забыл о себе, и в последний момент ему не хватило в «Аннушке» места. Отец Герман остался ждать следующего рейса.
Взлетаем, и вижу: перед иллюминатором висит раскаленная сфера, брызжущая сквозь стекло белыми, точно вскипевшее молоко, лучами. Внизу — щемящий беззащитный ландшафт. Его тельце зеленое, причем в добрую сотню оттенков, от темно — зеленого, почти в черноту, до светло — салатового, почти прозрачного. Неназойливость местности перемежается заболоченными участками, извивающимися речками. Петли рек изысканны, их русла завалены «спичками» плывущего по течению леса.
Целомудренная и стыдливая, земля эта в то же время очень стара, вся в шрамах просек, морщинах рек. Заливные неглубокие воды, сквозь них как на ладони проглядывает древняя почва с преисподними разломами. Они ветвятся под водой, как деревья, странно повторяющие очертания небесных молний.
Озера черные, торфяные; те же, что ближе к горизонту, отражают обескровленное небо и лежат белым — белы. Изредка среди озер горбятся деревеньки. Местами совсем нет леса, одни болезненные проплешины.
Почему он такой необжитый? Земля, сотворенная дыханием уст Господних, забыла Создателя своего. Смотрю с поднебесной высоты на озера и болотца, и они открываются мне как плач некоего Великого Существа, навзрыд скорбящего над этой землей. Не просыхают святые слезы, и край лежит весь оплаканный.
Белое море! Очень точное название. Как все на севере, оно действительно белое, то есть на вид простое, а на самом деле с изюминкой. Его незримый спектр насыщен, непредсказуем. Таким мне всегда представлялся океан в «Солярисе»: не зловещим, не устрашающим, напротив, эдаким простецом, а глубины его кто изведает? У моря много подводных течений, это видно по энергичным изломам вод. Наконец, среди белых волн начинает проглядываться архипелаг. «В последние времена острова будут уповать на Бога», — предрек Оптинский старец Варсонофий. Беленькое упование с куполами, как бумажная игрушечка, маячит внизу.
Да будет твердь! Она стремительно приближается, ландшафт на глазах наливается соком: холмистый чахлый лесок с озерными проблесками, невысокие сосны и ели. И стала твердь! «Аннушка» стрекозой опустилась ей на грудь и, подпрыгивая, бежит по взлетной полосе местного аэродромчика. В двух шагах — грузные очертания Северного Афона, который сверху обманчиво показался мне хрупким макетом из картона. Здравствуй, Соловецкий монастырь, основанный трудами Преподобных Германа, Зосимы и Савватия. Слава Тебе Боже! Ничего другого не может вымолвить душа, все иные слова позабыла…
***
Встретил нас Андрей Близнюк, староста Соловецкой православной общины, молодой человек с чуткими глазами и окладистой бородой. Бросаем вещи в грузовик, едем в Кремль. Когда‑то у Св. Врат богомольцев встречал воротной образ Нерукотворного Спаса, писанный, по преданию, самим Елеазаром Анзерским. Сегодня иконы нет, и мы входим в монастырь, перекрестившись на пустоту.
Почти не разрушенный, Кремль тем не менее катастрофически запущен. Храмы охвачены тотальной реставрацией. На гранитных валунах мшистый налет рыжеватого оттенка — это лишайник, он меняет цвет в зависимости от времени года. Такая массивность построек не так уж часто встречается. Монастырь идеально подходит для темницы. Да и куда бежать?[1]
***
Жилище отца Германа расположено в том же корпусе, где музей, но сзади, с торца. Сбоку пристроена деревянная веранда и сенцы. Новенькие, они пахнут свежим деревом; сразу видно, срублены специально для долгожданного хозяина. Внутри все с иголочки чистое — значит, необжитое.
Первым делом мы устраиваем в келье отца Германа красный угол, который почти пуст, обильно украшаем его оптинскими иконами. После общего совещания принимаем решение оставить здесь все съестные припасы, которые у нас с собой, а также часть предназначенных для Пинети брошюрок и сувенирчиков. Выкладываем на стол и толстые книги: И. Концевича, С. Четверикова, затем молимся и трапезничаем.
Раньше Соловки были для меня чем‑то абстрактным: Соловки и Соловки. Теперь я знаю: это шесть островов. Самый большой — Соловецкий, здесь Кремль и печально знаменитая Секирка, чуть поменьше остров Анзер, где приняло венцы неисчислимое число Новомучеников. Далее остров Муксалма и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие острова, причем на каждом осколочке архипелага свой климат, свой ландшафт, от дремучей тайги до тундры, природных повторений на Соловках нет. За день, который у нас в запасе, осмотреть все это невозможно, да и не входит в задачу. Главное — отслужить панихиду по Новомученикам Соловецким. Я мечтала сделать это на Голгофе, но оказывается, это недостижимо, нужен катер и спецразрешение, за один день не управиться.
II. ГОЛГОФА СОЛОВЕЦКАЯ
Почему меня влечет эта загадочная, мало кем посещаемая сегодня гора? Особое, свыше избранное место, она прославлена явлением Божией Матери, Которая повелела выстроить на вершине скит во имя Распятия Ее Сына. До сих пор по крутым голгофским тропинкам ступают стопочки Пречистой, невидимые плотскими очами, лишь замирающим биением сердца ощутимые…
Когда духовник Петра I впал в немилость, государь сослал его на Соловки, где тот постригся в мантию под именем Иова. Новый монах изумлял всех молитвенным бодрствованием, смирением и кротостью. Его освободили от всех послушаний и предоставили возможность вести созерцательную жизнь. Отца Иова повлекло к труднейшему виду подвига — отшельничеству. В то время пустынники спасались на острове Анзер, отделенном проливом в четыре версты. До 1616 г., пока там не поселился Преподобный Елеазар, остров был необитаем.
Много пришлось перенести первому подвижнику. Его одолевали вражеские страхования, демоны в различных образах, но Елеазар не смущался и отгонял супротивную силу молитвой. «Крепись, Господь с тобою», — заповедала ему явившаяся во сне Пресветлая Родительница и приказала написать на стенах кельи: «Христос с нами уставися». С тех пор у Анзерских братьев вошло в обычай изображать эти слова на входных дверях.
О внутренней жизни схимонаха Елеазара говорить трудно, об этом знает только Бог. Нам известно лишь, что он был незаурядным иконописцем, оставил книгу наставлений для новоначальных, а также повесть о явлениях ему Небесной Защитницы, подписанную «Грешный старец Елеазар». После смерти он сам неоднократно являлся страждущим инокам, подавая им помощь и вразумление.
Слава о богоугодном муже разнеслась по всему Беломорскому побережью и достигла столицы. Анзерский схимник был вызван в Москву, где принял исповедь царя Михаила Федоровича, скорбящего об отсутствии наследника. Преподобный Елеазар испросил ему у Господа сына.
Так родился Алексей Михайлович. Вступив на престол семнадцати лет, он пожелал видеть старца, молитвами которого пришел в мир, и тот, несмотря на дряхлость, еще раз с радостью приехал в первопрестольную. Сопровождавший Преподобного монах Никон, его постриженник и духовное чадо, стал молодому царю ближе, чем брат по плоти. Не этим ли объясняется его стремительное восхождение по иерархической лестнице до Патриарха Всероссийского?
Пустынь Преподобного Елеазара Анзерского.
Преподобный Елеазар положил начало Троице-Анзерскому скиту и отстроил в нем храм Пресвятой Троицы, где до наших дней почивают его Св. Мощи. Сюда‑то и поступил бывший государев духовник иеромонах Иов. Жить на острове было трудно: суровый климат, тундровый гнус, скудость пищи, но ревнитель безмолвия все выдержал и через девять лет удостоился принять схиму с именем Иисуса, в честь Навина, царя Израильского.
В шести верстах от Троицкого скита была расположена кругообразная гора с остроконечной вершиной, у подножия которой, по преданию, и начал подвизаться Св. Елеазар. В деревянной часовне хранились Псалтирь и ряса Преподобного, а также собственноручно сделанный им крест. Однажды схимонах Иисус провел там несколько суток в молитве. В первую же ночь, когда он, коленопреклоненный, забылся тонким сном, ему в сиянии небесной славы явилась Госпожа Богородица Дева Мария и с Нею Елеазар Анзерский.
«Отныне эта гора нарекается второй Голгофою, — как наяву, услышал Иисус голос Пречистой, — На вершине ее воздвигнется церковь во имя Распятия Моего Сына, поэтому скит наречется Распятским. Здесь имя Божие прославится мучениками за веру, Я же не оставлю гору сию до скончания века». «Освяти гору Голгофу и водрузи на ней крест Господень!» — вслед за тем раздался голос с небес.
Очнувшись, он рассказал о видении одному из иноков, и тот описал все бывшее с отцом Иисусом на большом деревянном кресте, который до революции хранился в скитской церкви как запрестольный. Поставленные по обету громадные красные кресты вообще были особенностью соловецких лесов. Первый был водружен на месте древнейшего поселения в Савватьево. Впоследствии береговые кресты станут чем‑то вроде пристанищ для мореплавателей. Выполняя волю Божию, схимонах Иисус поднялся на Голгофу, отслужил благодарственный молебен и окропил землю святой водой. Теперь он весь отдается постройке киновии со свыше продиктованным, нигде больше не встречающимся названием «Голгофо — Распятский скит».
Когда старец отходил ко Господу, его келию осиял великий свет, а по воздуху разлилось благоухание. Услышав неземное пение, ученики с удивлением обнаружили, что оно исходит из келии умирающего. В последний миг лицо схимонаха просияло неизъяснимой радостью. Так с улыбкой и отошел в жизнь вечную…
Анзерский скит. Храм во имя Пресвятой Троицы.
В Голгофо — Распятском скиту был самый строгий на Соловках устав. В пищу дозволялось употреблять только овощи, по большим праздникам рыбу; братьям запрещалось иметь любую собственность, а также использовать труд келейников. Молитвенное правило состояло из пяти кафизм, пятисот Иисусовых молитв и трехсот поклонов в день. В храме у гробницы первоначальника Иисуса день и ночь читалась неусыпаемая Псалтирь с поминовением живых и мертвых братий и всех, просящих молитвенного поминовения о здравии и упокоении, причем через каждые два часа смена чтеца — инока извещалась ударом в колокол. Женщины, даже самые благочестивые, на Голгофу не допускались ни под каким видом. Мужчинам было запрещено ночевать здесь. Иногда они благословлялись посещать богослужения, но кров все равно получали в Анзерском скиту. Немудрено, что здесь могли жить немногие, и братия Распятского скита, как правило, не превышала пятнадцати человек.
Прошло несколько столетий, и почивающий под спудом праведный прах схимонаха Иисуса сделался невольным свидетелем христианского мученичества, которое, по пророчеству Владычицы, постигло Голгофский скит. Во времена СЛОНа на остров Анзер ссылали людей, нуждающихся в особой изоляции: рецидивистов и сифилитичек на штрафной паек, сектантов. Поначалу на Голгофе были размещены «мамки» с младенцами, позже скит использовался для священнослужителей высокого сана.
Соловецкие каторжницы жили в Архангельской гостинице. Застигнутых за амурными делами, а также «объявившихся» — открывших свою беременность, отправляли в штрафной изолятор на Заяцкий остров, где царило засилье уголовниц. В этом бабском аду особенно туго приходилось «каэркам», которые, как никто, не были застрахованы от «Зайчиков»: падкие на «благородных» чекисты особенно охотно делали их матерями, и несчастные вынуждены были молчать, чтобы не сгинуть на лесозаготовках. Когда подступало время разрешаться от бремени, их отправляли на Голгофу.
Один из мемуаристов видел этих рожениц, одетых в грязные мешки с дырами для рук и головы, в лаптях на босу ногу. Они лежали на еловых ветках, прижимая к груди худосочных младенцев. В глазах их светился бездонный ужас[2]. Не Та ли, Которой оружие прошло душу и открылись помышления многих сердец, не Споручница ли грешных, не Заступница ли усердная взяла под Свой покров поруганных женщин, не допытываясь, кто «каэрка», кто проститутка, зная одно: мать?..
Призывающих бросать работу сектантов рассредоточивали по глухим командировкам, ссылали на Кондостров, «Зайчики» и на Анзер, где погибли тысячи лиц разных исповеданий: имяславцы, духоборы, христосики. Убежденные, что пришел Антихрист, сектанты отказывались брать документы с печатью, а также открывать свое христианское имя. На вопрос, как их зовут, они отвечали «Бог знает», другого ответа добиться было невозможно.
Иеросхимонах Иисус, основатель Голгофо — Распятского скита.
Одну группу духоборов поручили палачу Новикову. Тот бил их плетьми, покуда не онемеларука. Верующие умоляли застрелить их, не мучить. Их вывели из церковного притвора с руками, связанными за спиной. Палачей возглавлял Д. Успенский, попавший на Соловки за то, что убил отца — священника, как социально чуждого[3].
Голгофо — Распятский скит в XIX веке.
Лязгнули затворы. Бородатый старик, по виду старший, попросил: «Помирать будем, молитву бы на исход души». Ответом ему была жуткая тишина. «Не терпит Антихрист креста, руки вяжет, — вздохнул бородач и разрешил: — Крестись, братия, умом». Раздались выстрелы. На мшистую землю Голгофы хлынула кровь…
Летом 1929 г. на Соловки прибыло тридцать монахинь, в большинстве из Шамординского монастыря, что близ Оптиной пустыни. Они решительно заявили, что на Антихриста работать не будут. К инокиням были применены все принятые в таких случаях меры: ругань, голод, избиение, карцер — безрезультатно. Таких расстреливали или ссылали на Анзер, где они сами умирали медленной смертью. Но протест монахинь происходил настолько достойно, без скандалов и хулиганства, что сам начальник лагеря Зарин не мог перенести их смирения. Это были фанатички, ищущие страданий, и за это их все жалели.
Одного из соловецких врачей и доктора Жижиленко (епископа Максима Серпуховского) вызвали к начальнику санчасти Антиповой и рекомендовали признать монахинь нетрудоспособными, чтобы освободить от работ на законном основании. Врачи, как могли, пытались уговорить упрямых женщин, чтобы те разрешили признать себя больными, без медосмотра, но сестры стояли на своем, даже ссылка на работающих иерархов не помогла. «Спасибо, мы здоровы, просто не хотим служить Антихристу». Но через несколько дней согласились стегать одеяла для лазарета; при работе пели молитвы и псалмы.
Последний акт трагедии: на Соловки доставили священника, который оказался духовным отцом некоторых инокинь. На вопрос духовных дочерей он ответил категорическим запрещением трудиться на безбожную власть. Священника расстреляли, а их разъединили и отправили куда-то поодиночке. Они сгинули без следа[4]…
В коровнике на Анзере работала Варвара Брусилова, родственница знаменитого русского генерала Брусилова. Она была немолода, некрасива, поэтому ее сослали на черную работу. Вечерами Варвара подолгу молилась, уважала Столыпина и ненавидела коммунизм. И вот случилось несчастье: подохло двадцать коров. Ее заключили в каменный «мешок», который монахи использовали для хранения продуктов, а лагерное начальство приспособило под карцер. Следователь Царапкин пытал ее, вынуждал признаться в намеренном вредительстве. Отравление коров Брусилова отрицала, однако с удовольствием подписала, что в гибели России виноваты большевики. Следователя это устроило. Ей добавили 10 лет. Впоследствии, по одним сведениям, расстреляли за контрреволюционную пропаганду, по другим — сгноили на Беломорканале…
В конце 20–х годов на Голгофе в тайне и закрытости содержали духовенство высших иерархий. Их случайно увидела ссыльная О. В. Второва-Яфа, попавшая в лагерь по делу религиозного кружка «Воскресение». В Чистый Четверг, когда Святая церковь празднует установление Таинства Евхаристии, к Троицкому скиту, где она была заключена, с некоего засекреченного, как она пишет, пункта привели четырнадцать епископов и приказали расчистить площадку перед зданием. Не привыкшие к грубой работе, средних лет и совсем старые, слабосильные узники в рясах сосредоточенно скалывали снег, залежавшиеся куски крушили ломом, грузили в тачки и сбрасывали в овраг. Они работали молча, ничем не проявляя своих чувств. Заключенные Троицкого скита столпились у зарешеченных окон и, глядя на издевательство над иереями, не скрываясь, плакали.
«Я тоже смотрела и тоже плакала, — вспоминает очевидица. — Мне казалось, что страницы Четьи — Минеи ожили перед нашими глазами. Эти четырнадцать епископов не были сейчас в подобающем их сану облачении и не находились в храме, не участвовали в обряде «омовения ног» — этой ежегодно повторяющейся мистерии, символизирующей подвиг смирения, — но для меня было ясно: то, что происходит сейчас перед нами — гораздо больше и выше, ибо это уже не условный символ, не обряд, а подлинный подвиг смирения истинных пастырей церкви, самоотверженно и до конца твердо отстаивающих веру Христову»[5].
Если на Голгофе кто‑то умирал, труп стоймя ставили в притворе, где в древнехристианской церкви грешник кланялся всем входящим: «Прости меня, брат, я согрешил». Когда мертвецов набиралось достаточное количество, их выволакивали на улицу и поочередно сталкивали с горы. Смертность на Голгофе была ужасающая, только за 1929–1930 гг. от истощения здесь умерло 979 человек. Среди них был Петр (Зверев), Владыка Воронежский (16.111.1878—25.1.1929), который находился в сторожевой роте лагпункта Кремль, прошел Секирку, а затем отправлен на о. Анзер. Заключенный Осоргин тайно переправил ему мантию и Св. Дары, за что поплатился головой. Вскоре расстреляли и самого епископа. В 1928 г. на Голгофе окончил свои дни священник Дмитрий Николаевич Флерин из с. Волочок Тамбовской губернии, арестованный за то, что отказался сообщить властям содержание принесенной ему исповеди…
Нигде человека не ставили «на комаров» с таким удовольствием, как на Голгофе. Прикручивали к дереву, на ночь оставляли в лесу, и утром одним покойником было больше. А ведь когда‑то Анзер был островом милосердия, в скиты приходили звери, монахи кормили их из рук. Еще в 20–х годах на обочинах замирали непуганые зайцы, наблюдая колонны устало бредущих арестантов[6].
В 1932 г. Голгофа была закрыта. Оставшихся в живых вывозили разрозненно, под покровом тьмы. А Св. Мощи схимонаха Иисуса доныне покоятся в оскверненном храме со снесенной кровлей, куда не пускают даже туристов…
Когда я вернулась из поездки, моя знакомая, Светлана, рассказала мне следующее. Два года назад она водила экскурсии на Соловках. На Анзер без пропуска не попадешь, но их с подругой захватил рабочий баркас, и девушкам посчастливилось осмотреть оба скита, Троице — Анзерский и Голгофо — Распятский, хотя внутрь входить опасно', памятники нуждаются в реставрации, везде висят «живые» кирпичи. Впрочем, уместно ли слово «посчастливилось», если после этого осмотра им в буквальном смысле слова стало нехорошо? Храмовый интерьер оказался разбит на отсеки и камеры со следами тесно навешенных нар. Зловеще скрипели несмазанные двери с глазками и кормушками для еды. Стены были вкривь и вкось испещрены надписями: молитвы, просьбы, адреса. Находиться там неимоверно тяжело, дух мученичества тяжелыми испарениями стоит над землей, не выветривается: взывает, молит. Кого? И о чем?..
Гостьи обрели приют в охотничьей избушке, где по северной традиции обнаружили все необходимое для скромной трапезы, но заснуть так и не смогли, их до утра тревожил дух мертвых. Но самое удивительное: они заметили, что в ночи Голгофская церковь испускает свечение непонятной природы. Смутно белеющие на вершине горы руины являлись источником некоего света, из них исходили лучи, источались во все стороны темноты, обвевали купол и отсылали свет высоко в звездное небо…
III. ИХ ЖЕ ИМЕНА ТЫ, ГОСПОДИ, ВЕСИ
Осмотр Кремля начинаем с музейной экспозиции, которая сразу ошарашивает нас: под застекленными витринами лежат монашеские поми нальники, четки, даже мощевик. Это совсем не музейные экспонаты, разве можно на это «глазеть», не говоря о том, что святыни освящены? Когда‑то в Преображенском соборе хранилась 31 частица мощей святых. Каждый год в Великую Пятницу они были носимы на головах иеромонахов в Успенский собор, где после Царских Часов торжественно омывались. Может быть, этот мощевик тоже? Мы входим в музей с крестным знамением и по примеру отца Феофилакта ведем себя с освященными экспонатами, как это принято в церкви: положив по земному поклону, прикладываемся к мощам Угодников Божиих, вернее, к скрывающему их стеклу.
Соловецких икон в музее мало, большинство привезено из других областей русского Севера, хотя монастырские монахи были искусными иконописцами. Часть икон сгорела в пожаре 1923 г., оставшиеся перенесены в надвратную Благовещенскую церковь, где размещался музей Общества Краеведения. В 1939 г., когда Соловецкую тюрьму ликвидировали, вывезли и монастырскую живопись. В настоящее время соловецкое собрание разобщено, и никто толком не знает, где какие иконы находятся.
Над входом в последний зал висит большой матерчатый лозунг, где старой орфографией выведено: «Железной рукой загоним человечество к счастью». Здесь ни тени иронии, это один из действительных лозунгов СЛОНа. Два других — «Фронтов нет, а опасность есть», «Держи порох сухим» — были начертаны на знамени, полученном Соловецким особым полком войск ОГПУ от прокуратуры Верховного суда СССР. Зал посвящен Соловецкому концлагерю: времена изменились, теперь о замученных не только можно — рекомендуется говорить. Я внимательно рассматриваю фотографии, подписи, заношу в блокнот все имена, которые удается выудить из экспозиции: для панихиды, ради которой мы и прилетели на Соловки. Прошу всех, кому попадет в руки этот очерк, тоже помолиться за Новомучеников Соловецких: им нужны наши молитвы, но еще больше они нужны нам самим.
Судьбы заключенных отечественных концлагерей — темное место советской истории: документация уничтожена или спрятана, надежды на обретение архивов нет. Музей пытался затребовать личные дела заключенных СЛОНа и получил следующий ответ.
Министерство внутренних дел Карельской АССР. Отдел — Информационный Центр 16 июля 1989 Петрозаводск, К. Маркса, 18
164409, Соловки Архангельской области.
Соловецкий историко — архитектурный
и краеведческий музей — заповедник
На Ваш запрос о передаче личных дел бывших заключенных Соловецкого лагеря музею — заповеднику сообщаем, что дела используются для наведения справок по запросам родственников, а также при проведении реабилитации, поэтому передать дела музею не представляется возможным.
Зам. нач. отдела Б. П. СавушкинИстязания Соловецких Отцов за древнее благочестие.
В настоящее время энергией и энтузиазмом сотрудницы музея А. А. Сошиной составляется картотека заключенных. Антонина Алексеевна выискивает сведения где только можно: в книгах, газетах, телепередачах, воспоминаниях родственников, со многими из которых она состоит в переписке, и скрупулезно заносит полученные данные на специальные карточки…
***
В 20–х годах в Соловецком концлагере содержалось большое количество иереев, в том числе «князей Церкви» — епископов. Духовенство составляло две трети общего числа заключенных, где преобладала (нельзя закрывать на это глаза) все‑таки шпана. Печальная правда в том, что близ Кремля, на Секирной горе, на Голгофе похоронены не только мученики за веру, но и «шакалы», «индейцы», «леопарды» уголовного мира. На архипелаге столкнулись две вселенные, с прямо противоположными точками отсчета, причем одних специально натравливали на других. Соловецкое духовенство было разнообразным: муллы, ламы, ксендзы, украинские автокефальные иерархи. Католическое духовенство помещалось в километре от Кремля. Позднее образовалась 14–я запретная рота в Голгофо — Распятском скиту.
При Ногтеве иереи намеренно рассредоточивались по уголовным отделениям, но после 1925 г. жизнь их стала легче. Благодаря новому начальнику Эйхмансу многие уцелели и прожили еще около десяти лет, до конца тридцатых, когда началось поголовное уничтожение священников и епископата. «Социально близкие» уголовники, которым Ногтев поручил было дело внутреннего снабжения, мигом все развалили, и Эйхманс, убедившись в честности и исполнительности сосланных за веру, свел всех в б — ю роту и назначил на материально ответственные должности: в сторожа, весовщики. В конечном счете все остались довольны, в том числе урки, которые стали получать законные, не урезанные пайки.
По нелепой случайности в священническую роту поместили Владимира Шкловского, брата известного писателя, философа, атеиста, который был осужден как «тихоновец» только за то, что принял от знакомого священника на хранение подлежащие изъятию крест и чашу. После общения с епископами и прочтения новыми глазами Евангелия, которое тогда у заключенных не отбиралось, он принял Св. Крещение.
На совершение треб в середине двадцатых смотрели сквозь пальцы. Духовенство еще ходило одетое по сану, при встрече с высшими просило благословения, с равными обменивалось троекратным поцелуем. Кроме того, отбывающим срок духовным лицам разрешалось посещать кладбищенскую церковь Св. Онуфрия. По субботам дорога между монастырской стеной и Святым озером выглядела необычно. «Глядя на идущих в рясах и подрясниках, в клобуках, а то и в просторных епископских одеждах, с посохом в руке, нельзя было догадаться, что все они — заключенные, направляющиеся в церковь», — вспоминает очевидец[7].
Мученичество за Христа.
Снятие и погребение Соловецких страдальцев благочестия.
Миряне допускались в храм по специальному пропуску. Надо заметить, такое разрешение отваживались просить далеко не все: в личное дело вносилась запись о склонности заключенного к религиозному дурману. За посещение богослужения без пропуска полагался карцер.
Молящиеся в церкви Св. Онуфрия чувствовали себя осажденными неким подступившим к стенам незримым врагом, поэтому их молитва была горяча и усердна, и Бог ощущался не философской абстракцией, а верной опорой измученной душе. Наверное, так чувствовали себя наши предки во Владимирском Успенском соборе, когда под стенами храма били копытами кони и гомонили неверные…
Старшим среди епископов негласно был признан Нижегородский митрополит Евгений (Зернов), который пробыл на Соловках до 1926 г., а потом отправился в Коми — Зырянскую ссылку. В 193В г. М. Розанов встретился с ним в ШИЗО Ухтпечлага. Владыка рассказал ему, что вторично арестован за организацию тайных монастырей. Там, на песчаном кладбище у штрафного изолятора в Ухте, Владыку Евгения и похоронили…
Другое авторитетное лицо лагерного духовенства — профессор МДА, создатель кафедры патрологии И. В. Попов, попавший на каторгу за сотрудничество с патриархом Тихоном. Аскет, постник, молитвенник, он тоже пробыл на Соловках недолго (успев обучить грамоте немалое число уголовников), затем отправлен в сибирскую ссылку. Оттуда его неожиданно затребовали в Москву: для какого‑то академического издания срочно потребовался квалифицированный переводчик с латыни. В 1936 г. Ивана Васильевича арестовали вновь, и следы его окончательно затерялись…
После смерти патриарха Тихона Русская Православная Церковь осиротела. Собрать канонически правильный собор для выбора нового Главы было невозможно, ибо почти все законные архиереи обретались в тюрьмах. Сам Патриарх незадолго до смерти назначил преемником митрополита Казанского и Свияжского Кирилла (Смирнова), но, сосланный, тот не имел возможности принять Месгоблюстительство. Духовенство разделилось: одни поминали митрополита Сергия, другие считали его незаконно захватившим церковную власть. К последним относился архиепископ Илларион (Троицкий). Член Поместного Собора, избравшего Патриарха Тихона, он остался верен Святейшему до конца своей недолгой жизни.
Панихида по замученным за Имя Господне.
Владыку Иллариона хиротонисали в 1920 г. 33 лет от роду. Он не пробыл на свободе и двух лет. В 1925 г. епископ Гервасий встретился с ним в Ярославской тюрьме «Коровники» и попытался склонить на путь компромисса. «Сгнию в остроге, но направления своего не изменю», — твердо ответил ему Владыка. Неуступчивого епископа сослали на Соловки.
Всем, даже уркам и чекистам, Илларион Троицкий внушал невольное уважение. Охрана, как бы оговорившись, частенько называла его Владыкой, хотя официальное лагерное обращение к служителю культа было «опиум». Во времена вспыхнувшей эпидемии тифа Троицкий сумел отстоять волосы и бороды духовенства, как приличествующие священному сану. И хотя эпидемия была нешуточная, в Кремле лежали штабеля мертвых, а в лесу рыли глубокие рвы и ежедневно ссыпали туда сотни трупов (многие менялись табличками с мертвыми, чтобы «похоронить» себя), остричь Батюшек никто не посмел.
Одно время Владыка Илларион работал на Филимоновой рыболовной тоне в семи верстах от Кремля. Его рабочая группа так и называлась «артель Троицкого». Он шутил: «Прежде Дух Святый из рыбаков творил богословов, а ныне богословов превращает в рыбаков». Б. Ширяев видел, как Владыка спас тонущего военкома Сухова. Ошеломленный чекист трижды перекрестился перед деревянным распятием, в которое прежде всадил не одну пулю, и сквозь зубы процедил невольному свидетелю: «Молчи, а то в карцере сгною, день‑то нынче знаешь какой, Страстная суббота».
Одновременно с Преосвященным Илларионом на Соловках томился протопресвитер Михаил Польских. Он вышел из лагерного ада живым и всю жизнь собирал сведения об убиенных безбожниками духовных лицах, в результате чего появилась его не имеющая равных книга «Новые мученики Российские» в 2–х томах. Отец Михаил вспоминает, что, когда умер Ленин, заключенным велели встать, но Троицкий не выполнил приказа, демонстративно остался лежать на нарах, и ему сошло с рук.
Об обстановке лагеря Владыка Илларион говорил, что ни один писатель этого не опишет, здесь работает сам сатана. И в то же время подчеркивал, что заключение — бесценная школа добродетелей, этот дарованный Богом опыт можно и нужно обращать во благо душе. Духовенство обкрадывается и обирается шпаной? Есть повод воспитывать в себе добродетель нестяжания. Оскорбляют, унижают, бьют? Смирись, возлюби обидчика. Ощущая долг за вверенные ему души, Владыка даже в лагере не прекращал пастырской деятельности. Часто можно было видеть, как он расхаживал по Кремлю с уголовниками, что‑то горячо объясняя им.
Потом Троицкого назначили лесничим, и он поселился в Филипповском скиту. Олег Волков, тогда молодой человек, ходил его навещать. «Преосвященный встречал нас радушно, — вспоминает он. — В простоте его обращения было принятие людей и понимание жизни… Мы подошли к его руке, он благословил нас и тут же, как бы стирая всякую грань между архиепископом и мирянами, прихватил за плечи и повлек к столу»[8].
«Надо верить, что церковь устоит, — записал Волков слова Владыки Иллариона. — Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся лишь крошечные, еле светящие огоньки — когда‑нибудь от них все пойдет вновь. Без Христа люди пожрут друг друга. Это понимал даже Вольтер»[9].
В 1926 г. в ветхом кладбищенском храме Св. Онуфрия состоялась в первый и последний раз разрешенная на Соловках Пасхальная заутреня. Маленькая церковь не могла вместить даже лагерное духовенство (неистребленное, оно насчитывало тогда более полутысячи человек), не говоря о мирских. Кладбище было до отказа забито людьми. Все напряженно ловили голос Владыки Иллариона, доносящийся из глубины храма. Стояла мертвая тишина, прерываемая звуками священных возгласов. По небу бродили радужные столбы сполохов.
И вот на улицу вышел крестный ход, состоящий из нескольких сот иереев и несметного числа заключенных. В эту ночь из музейного плена были освобождены блистающие хоругви, священные ризы и пелены, вышитые пальцами московских княжон и пожертвованные ими в храмы Северного Афона. И гулкой волной пронеслось по заснеженному острову, по седым верхушкам векового бора: «Христос Воскресе!» И от крика земного с небес осыпался снег. А может быть, обрушились стены тюрьмы, которые человек воздвигает себе сам? Все оковы теряют силу, если дух неподвластен им…
И вот на Отдание Пасхи, в ночь на 7 июля 1926 г., по предложению Владыки Иллариона (Троицкого) были осуществлены выборы Патриарха Всея Руси путем собрания архиерейских подписей. Уединившиеся в кремлевском продуктовом складе сосланные епископы составили документ, известный как «Памятная записка соловецких епископов, представленная на усмотрение (советского) правительства» или просто «Послание соловецких архиереев». Литературно его обработал И. В. Попов.
«В задачу настоящего правительства входит искоренение религии, но успехи его в этом направлении Церковь не может признать своими успехами, — гласил принятый тайным собранием документ. — За последнее время не было ни одного судебного процесса, на котором были бы доказаны политические преступления клира. Несмотря на это, многочисленные епископы и священники томятся в тюрьмах и ссылках и на принудительных работах. Они попали сюда не в судебном, а в административном порядке, и не за политические преступления, а за свою чисто церковную деятельность, борьбу с обновленчеством или по причинам, часто неизвестным самим пострадавшим. Настоящей же причиной борьбы служит задача искоренения религии, которую ставит себе правительство…»
В последующих строках епископам предлагалось избрать на патриаршество Преосвященного Кирилла, томящегося в Зырянском изгнании. Кроме Владыки Иллариона, под документом подписались: Константин (Дьяков), митрополит Киевский (+ 1937); Евгений (Зернов), митрополит Нижегородский (+ 1938); Серафим (Александров), митрополит Тверской (+ 1937); Анатолий (Грисюк), митрополит Херсонский и Одесский (+ 10.1.1938); оренбургский протоиерей Иоанн Шестов и некоторые другие.
«Послание Соловецких архиереев» было вывезено из лагеря в чемодане с дврйным дном. Вскоре об этом стало известно властям, и все подписавшиеся подверглись репрессиям. Преосвященного Иллариона вывезли с Соловков полураздетого, в холодной рясе. В Ленинграде, больного тифом, сняли с этапа и поместили в пересыльную больницу имени доктора Гааза. «Вас необходимо обрить», — сказали ему. «Делайте, что хотите, теперь я свободен», — с трудом улыбнулся Владыка…
Епископ Илларион (Троицкий) отошел ко Господу 15 декабря 1929 г. Родственникам разрешили похоронить его. Когда гроб открыли для прощания, сестра Преосвященного упала в обморок: там лежал изможденный старик, а ведь ему было всего 44 года! Отпевал Владыку Петроградский митрополит Серафим Чичагов в сослужении шести архиереев. Он отдал покойному свое облачение и белую митру. Похоронили Владыку Иллариона в Москве на Новодевичьем кладбище.
На Соловках томились и другие епископы. Владыка Афанасий (Сахаров) был осужден на три года за принадлежность к группе Сергия Страгородского. Но митрополит Сергий оказался на свободе и занял место Патриаршего Местоблюстителя, а Владыка Афанасий, начав со СЛОНа, почти до конца жизни, с редкими перерывами, скитался по концлагерям.
В «Службе Святым царю — мученику Николаю и всем Новомучеником и Исповедником Российским» упоминается славный в житии и кончине «Максим Серпуховский, он же и врач на тайное епископство благословленный». Максим (Жижиленко Михаил Александрович), епископ Серпуховской (2.III. 1885 — расстрелян 6.У1.1930), был яркой, незаурядной личностью. Окончив Московский университет, он стал доктором медицины и главврачом Таганской тюрьмы, где тайно постригся в монахи. После революции — первый катакомбный епископ, за что и попал на Соловки. На ход мировой истории Владыка Максим смотрел без иллюзий и при жизни готовился к испытаниям последних времен.
Владыка Виктор (Остроградский), отбывавший заключение одновременно с ним, напротив, надеялся на «короткий, но светлый период, как последний подарок с неба измученному русскому народу»[10]. Он был добр и щедр, с молитвой раздавал свои посылки голодным уголовникам. В последний раз его видели весной 1931 г. на Беломорканале счетоводом ларька.
Отбывал срок на Соловках и другой активный организатор катакомбной церкви епископ Дамаскин (Глуховский; 1943). А Василия (Зеленцова), епископа Прилуцкого, сослали на Соловки за то, что он организовал Покровское христианское молодежное общество при Троицкой церкви (расстрелян на Лубянке 4 апреля 1930 г.).
Епископ Виктор (Островидов), Владыка Вятский, в 1928–1930 гг. работал бухгалтером на канатном заводе. Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминает, что он всегда был веселым, даже избитый и раненный — настоящий русский святой[11]. Умер в 1934 г. в Савватьевском скиту.
Петр (Руднев), архиепископ Самарский и Ставропольский, на Соловках заведовал читальным залом библиотеки, умер здесь же. В 1928 г. в библиотеке работал А. Н. Греч, потомок Н. И. Греча.
Незабываем для всех знавших его Анатолий (Грисюк), митрополит Херсонский и Одесский. Крупный богослов, перу которого принадлежит труд «Сирийское монашество», молитвенник и подвижник, на Соловках он неукоснительно соблюдал все посты и носил власяницу. Отбыв срок, сослан в Зырянский край, где и скончался. Погребен в посаде Кылтово; в гроб положен в бумажном облачении[12]. К 1957 г. из бывших на Соловках в живых остался единственный архиерей, Эммануил (Лелишевский), епископ Лужский, викарий Петроградский…
Отец Павел Дмитриевич Чехранов (1875–1961), попавший в лагерь за сопротивление «Живой церкви» и работавший здесь архивариусом хозяйственной части, сохранил групповую фотографию иерархов, которая сегодня представлена в экспозиции. В первые годы на Соловках можно было сфотографироваться и даже послать карточку родственникам. Это продолжалось до 1925 г., пока не снялось вместе 67 епископов Русской Православной Церкви. Снимок попал в Париж, где его опубликовали, и фотографироваться заключенным стало запрещено.
Кроме епископов, на соловецкой каторге приняло мученические венцы неисчислимое число иереев. Вот несколько имен. Отец Федор Мешенков (1881–1930) был осужден Особым Совещанием по ст. 58–10 и отправлен на Соловки. По одним данным, умер в лазарете от менингита, по другим, когда товарный поезд с заключенными пришел в Кемь, внутри обнаружили замерзшие трупы, и среди них отца Федора. Священник Алексей Прохорович Тишкин был наблюдателем на метеостанции, в архиве музея хранятся таблицы его метеонаблюдений (осн. ф. 5917). Священник Трефильев работал на кирпичном заводе. Томились здесь игумен Московского Симонова монастыря Антоний, староста церкви Воскресения — на — Крови В. М. Мартынов, друг и ученик профессора И. В. Попова монах Антоний Тьевар, постриженный в Арзамасе под именем Серафима, и сотни других христианских мучеников.
В конце двадцатых — начале тридцатых годов отношение к духовенству опять изменилось, и не в лучшую сторону. У священников отобрали рясы, взамен выдали бушлаты, снова подселили к ним шпану. Если при первой эпидемии тифа Владыка Илларион сумел отстоять волосы и бороды иереев, то теперь батюшек стригли и брили, а строптивых, как сохраненный памятью Олега Волкова отец Иоанн, в связанном виде, насильно.
Когда с острова был удален последний монах, церковь Св. Онуфрия опечатали. Отныне за попытку перекреститься надзор бил плетью, за отправление треб расстреливали, мирянам же, прибегающим к услугам священника, срок заключения удлинялся на 5 лет. Нам никогда не узнать всех имен Новомучеников Рорсийских, от безбожников убиенных. В синодике «Со Святыми упокой»[13] более восьми тысяч человек, но ведь это малая часть тех, кто пострадал за веру Христову!..
«О святии, ихже зде помянухом, и множайшее множество неведомых! Простите убожество словес сих, да напишутся еще похвалы, вам подобающия. Исчислити вас невозможно есть. Всех же молитвами, да приимут чтущии вас от Господа и Владыки живота нашего благодать и велию милость…
Славна суть имена ваша, мужественнии страстотерпцы, образ бо нам есте, лобызающим подвиг ваш, яко ни скорбь, ни теснота, ни смерть от любве Божия разлучити вас не возмогша…
Святые Новомученицы и Исповедницы Российстии молите Бога о нас!»
IV. «НАД КАЖДЫМ РЕЯЛ ЗОЛОТИСТЫЙ НИМБ…»
После музейной экспозиции мы осматриваем Кремль. Впрочем, название не совсем справедливо — это монастырь, кремлем его стали называть лишь в лагерное время. Внутри Преображенского собора царит похожая на разгром реставрация: полы разворочены, стены не побелены, фрески сбиты. Правда, под куполом осталось слабое подобие росписей, но на уровне человеческого роста все сколото.
Когда‑то соборные стены были богаты не сатанински усмехающимся запустением, но яркостью и реализмом душеспасительной живописи. Особенно поражали богомольцев фрески «Страшный Суд», иллюстрации к «Молитве Господней» и Десяти заповедям. На стенах красивой славянской вязью были изграфлены изречения, одно из которых как будто нашему времени адресовано:
«Общество людей без веры в Бога и бессмертие души — это почти стадо диких зверей, хотя и одобренных разумом, но которые всегда готовы терзать и истреблять друг друга. Кто не имеет веры в Бога, тот не имеет веры и в людей. Вера чистая, святая, открытая Богом полезна не только по обетованию вечной жизни, но и к временной жизни»[14].
В числе каторжников был искусствовед А. И. Анисимов, как и Владыка Илларион не вставший при известии о смерти Ленина. На Соловках он занимался реставрацией икон. Здесь и умер от разрыва сердца, видя расстреливаемые росписи. А провинившихся юнг в годы войны специально посылали сбивать фрески в Преображенском. Как‑то мальчишки вместо помоста бросили в грязь икону Георгия Победоносца, пока кто‑то из старших не пристыдил: «Что вы делаете, ведь это защитник воинов». Но много ли собьешь полудетскими руками? На стенах оставались сотни надписей, фрески вопияли, и власти позаботились вырвать их с мясом, до кирпичей, не подозревая, что эта тюремная письменность уже навеки запечатлена в Книге Судеб, которая в свой час откроется, одним во оправданье, другим во осуждение…
Лагерный поэт писал:
Заброшен я в тринадцатую роту, Где стены прошлым отягощены, Где звук псалмов сменила брань шпаны, Махорка — ладан, сумрак — позолоту[15].13–я рота располагалась в Троицком, или, как его называли, Троице — Зосимо — Савватиевском храме. Она насчитывала около четырех тысяч человек. Эти тысячи сморкались, испражнялись, сквернословили рядом с резными раками, где почивали мощи Соловецких Угодников.
В 1925 г. была создана комиссия для публичного вскрытия мощей. В нее вошли Ювеналий (Машковский), архиепископ Курский и Тульский, Мануил, епископ Гдовский, еще один епископ и три ссыльных чекиста. Председательствовал Д. Я. Коган, прославившийся зверствами в Крыму. После вскрытия гробниц Преподобных Зосимы и Савватия их Св. Мощи были выставлены в антирелигиозном музее. По свидетельству очевидца, у Свв. Зосимы и Савватия главы и персты были нетленны, а гроб со Св. Германом закрыт: нетленен весь. В 1933 г. музей реорганизовали в исторический отдел, теперь его можно было посещать только организованно, с ротным. Но мужички просились помолиться у мощей Угодников, и конвойные потихоньку пропускали их. Сегодня рака Св. Зосимы хранится в Третьяковской галерее, Св. Савватия в музеях Московского Кремля. Под Троицким храмом была устроена часовня Св. Германа Соловецкого, где одно время хотели сделать ленинскую комнату, но заступничеством Преподобного усыпальница была спасена от поругания.
Преображенский собор меньше всего пострадал в пожаре 1923 г.: сгорели только четыре помещавшиеся в куполах церковки: 12–ти и 70–ти Апостолов, Иоанна Лествичника и Феодора Стратилата. Именно в Преображенском содержали прибывших с Кемьпункта этапников. Пространство храма было пересечено трехъярусными нарами, где вперемешку размещались и ст. 58–я, «политические», и ст. 49–я, «социально вредные».
Чекисты находили какое‑то нездоровое наслаждение в попрании церковных святынь. Однажды начальник 1–го Кремлевского отделения Баринов, крепко выпив с сослуживцами, побился об заклад, что как Магомет Второй вступил на лошади в храм Св. Софии, так и он въедет на Соловецкий Фавор. И действительно ворвался в Преображенский верхом, победоносно гаркнув при этом: «Здорово, ребята, как поживаете, господа буржуи?» — «Пьяный безумец на лошади в святом храме, а мы топчем ногами основание святого алтаря, Святый Боже, помилуй нас», — еле слышно вздохнул старый священник. Молодой сосед услышал и донес до нас этот горестный шепот.
Спасо-Преображенский собор в XIX веке.
Чекистам было недостаточно самим поганить Божьи храмы, они всячески старались, чтобы их оскверняли священнослужители, хотя бы и невольно. Однажды трех епископов, только что прибывших из Кеми, устроили на ночь в восточной части собора. Утром Владыки Ювеналий, Глеб и Мануил обнаружили, что спали на Престоле, а святилище переполнено матерящейся шпаной. Такое размещение было не случайно. На нарах в алтаре православного храма стремились столкнуть православного иерея, муллу, раввина, ксендза и десятка два головорезов вокруг, дабы духовенство не всегда дружественных исповеданий в придачу подвергалось террору блатников, для которых измываться над человеческим существом было потребностью сродни физиологической. Циничная откровенность произвола, немотивированная ненависть и жестокость ломали многих, впервые столкнувшихся с уголовным миром. Чтобы выжить, люди топтали все лучшее в себе, не замечая, что капитулируют на помоечные задворки жизни…
Два мира шли на подвиг, на мученье, Над каждым реял золотистый нимб. Текли века с обычаем одним: Внизу — тюрьма, вверху — богослуженье. Цвел монастырь, державы украшенье, Спасителем и пушками храним, И, с Божья попущения, над ним Последнее разверзлось униженье. Монахи прогнаны. Со всей страны Сюда свезли кровавых изуверов, И гордых и подсученных «каэров», И нолчиша занюханной шпаны. Кто скажет им, бродящим в отупеньи, О твердости, упорстве и терпеньи?[16] (Строки, рожденные Соловецкой каторгой)В 20–х годах фреска «Возвращение блудного сына», под которой спасал огрубевшие души каторжников о. Никодим, утешительный поп, чей незабываемый образ донесен до нас Б. Ширяевым, была еще цела, а храм уже стоял обезглавленный. Но есть поверье, что и в запустелых церквах совершается богослужение Ангелами Божиими…
***
«Соловки — это искупление за неприятие революции», — часто повторял писатель Борис Глубоковский. Сын профессора Софийского университета, друг имажинистов, он попал в Лагерь Особого Назначения как вернувшийся из‑за границы. До ареста его жизнь проходила в богемном угаре. Сохранился рассказ, как Мариенгоф, Есенин и Глубоковский специальным церемониалом утверждали избрание Хлебникова Председателем Земного Шара. Громко читался составленный для такого случая акафист. Новоиспеченный Председатель после каждого четверостишия произносил «верую», а переполненный зал почтительно внимал кощунству. В заключение Велимиру надели на палец кольцо, взятое у Глубоковского. Когда занавес опустился, хозяин потребовал безделушку обратно. Председатель Земного Шара обиделся и спрятал руку за спину. В конце концов Борис силой стащил с него кольцо, а Хлебников, уткнувшись в пыльную портьеру, долго плакал «светлыми, как у лошади, слезами»[17].
Голгофа Соловецкая. Современный вид.
После всех этих несерьезных игр Борис Глубоковский лицом к лицу оказался с реальностью бытия. Смерть смотрела жестким, в упор, взглядом, изо дня в день держала на прицеле, и он вынужден был задуматься о своей подлинной, Господом назначенной роли в мистерии человеческого существования.
Из разговора двух Борисов, Ширяева и Глубоковского.
«— Вот тебе анекдотик, святой Соловецкий кремль грехом доверху набит. В Преображенском соборе — содом. И чей тут грех, Сам Господь на Страшном Суде не разберет! А под боком, в земляной келье, схимник грех замаливает. Этот самый грех. Какой же иной? Может, его лампадка и сюда светит?
— Вот он, весь на виду, собор твой Преображенский, в содом, свалку ныне преображенный, —
махнул рукой Глубоковский в сторону кремля, над которым высилась громада собора — Весь во тьме! Гроб!
— И у схимника гроб стоял… И Лазарь ожил в гробу… Был ведь Лазарь?
— Может, и был. Да теперь его нет. И не будет. Взяться неоткуда. И гроб запакощен. Сам видел. Чушь все это, чушь.
— Нет, смотри, — вглядываюсь я в обезглавленный купол, — в окне правой звонницы что‑то мерцает…
— Со двора отсвет, от фонарей…
— Снова нет! Звонница — справа к стене. Есть там кто‑то. Я лазил — там пусто, лестница еле держится. Может, отец Никодим забрался всенощную с кем‑нибудь отслужить? Или панихиду?..»
В тот вечер Глубоковский поклялся написать книгу о Соловецкой каторге. «Все запомню, к сердцу суконной ниткой пришью, чтобы бередила, покоя не давала. Покажу русского беса во всей красе его». Ходил, поводил острым глазом, собирал «анекдотики царства Антихристова», но, отбыв срок заключения, отравился в психиатрической больнице. Его замысел остался невоплощенным. Не оттого ли, что был изначально ложен? Ведь бесовская сила, на первый взгляд восторжествовавшая в мире сем, все‑таки оказалась бессильна победить Церковь, даже в дни страшных гонений памятующую, что «не в целости внешней организации заключается ея сила, а в единении чад ея, наипаче же возлагающую Свое упование на непреоборимую мощь ея Божественного Основателя и Его обетование о неодолимости Его Создания»[18].
V. ПАНИХИДА О ВСЕХ ЗАМУЧЕННЫХ И УБИЕННЫХ В МЕСТЕ СЕМ
Сегодня Филипповская часовня действует как приходская церковь. Это первое освященное место на островах. Она построена в память перенесения Мощей Святителя Филиппа.
Филипп (Колычев), митрополит Московский, как бы предсказавший своей мученической кончиной судьбу родного монастыря, был незаурядной исторической фигурой. Это правдолюбец, без которых не стоит русская земля. Несколько столетий спустя такие, как он, с молитвою примут смерть на Голгофе и Секирке.
Федор Колычев с юности был определен к великокняжескому двору, и малолетний Иоанн IV имел его в числе приближенных. Ни один, ни другой тогда не подозревали, что будут вовлечены в роковые отношения убийцы и жертвы. Придворная жизнь не удовлетворяла Федора, его влекло к иночеству. Бросив все, он едет на север, в Соловецкий монастырь, где принимает постриг.
В двух верстах от Кремля он устроил скит, по монашескому имени названный Филипповским. Церковь была освящена в честь иконы «Живоносный Источник». Вплоть до революции там хранилось деревянное изображение Иисуса Скорбящего в терновом венце. В оковах, униженный, с ранами на теле, таким Он стоял перед судилищем Пилата после всех поруганий. По преданию, скульптура была собственноручно изваяна Святителем Филиппом вследствие явления ему Господа в таком виде перед назначением на митрополичью кафедру, а на месте видения из‑под земли брызнули струи ключевой воды…
Усыпальница Святителя Филиппа.
Св. Филипп около двадцати лет возглавляет Соловецкую обитель, а товарищ его детских игр, воссевший к тому времени на престол, становится усердным вкладчиком монастыря; когда же освобождается место митрополита, призывает Колычева в Москву. «Отпусти, Государь, не вручай малой ладье бремени непосильного», — умолял игумен, но Иоанн Грозный, не слушая возражений, возложил на него белый клобук. Господь же уготовил Святителю кровавый венец мученика.
Не желая молчать, митрополит прямо говорил царю все, что повелевала ему совесть, заклинал уничтожить опричнину и восстановить единство Земли Русской; невзирая на лица, обличал беззаконные дела, которые опричники творили от имени Государя.
Однажды в церкви, когда Иоанн Грозный подошел к митрополиту Филиппу под благословение, тот долго не замечал его, а потом сказал: «Мы приносим здесь Господу Бескровную Жертву, а за стенами алтаря льется неповинная кровь. Не об убитых скорблю, ибо Господь прославит их, сожалею о душе твоей погибающей». Нечто подобное через несколько столетий прозвучит и на Соловках, когда опричники новой формации с тем же цинизмом, с той же безнаказанностью будут творить произвол над народом. Именно так ответят убийцам лучшие Сыны Церкви, именно той же мученической судьбы удостоятся они от Господа…
Митрополит Филипп служил литургию, когда в церковь ворвался боярин Басманов, сорвал с него облачение и выволок на улицу. И били метлами по спине, и швырнули на дровни. В темнице заковали в колоды, на ночь запустили в камеру медведя. К утру заглянули: Святитель молится, а зверь кротко лежит в углу.
Не менее десятью членами своими поплатился род Колычевых за родство с опальным митрополитом. Голову особенно любимого им племянника принесли в острог. Св. Филипп отвесил го лове юноши земной поклон и благоговейно поцеловал его в уста…
Вскоре пленника препроводили в Тверь, где он был задушен Малютой Скуратовым. «Благослови, Владыко», — лицемерно подошел тот под благословение. «Благословляю доброго на доброе», — ответствовал митрополит. Скуратов задушил его подушкой — без благословения, ибо не доброе дело содеял. Тело зарыли в землю неостывшим.
В 1591 г. мощи митрополита Филиппа были перевезены в родной Соловецкий монастырь. Над его гробницей повесили икону Богоматери «Славянская», перед Которой он особенно любил преклонять колена. Ее так и называли «Моленье Филиппово».
В 1652 г. царь Алексей Михайлович повелел перенести мощи мученика в Московский Успенский собор, для чего снарядил на Соловки специально построенный для этой цели корабль. Вместе с митрополитом Никоном государь отправил молитвенную грамоту к покойному Святителю, в которой, преклоняя свой царский сан перед святымемолил разрешить грех своего прадеда. В честь этого перенесения и выстроена единственная действующая сегодня на Соловках часовня.
Не случайно первое освященное место трагического архипелага связано именно с прославлением митрополита Филиппа, с его верностью своим убеждениям, нетерпимостью ко злу и, как следствие этого, мученическим венцом. Сегодня в Филипповой часовенке можно помолиться за упокой миллионов православных христиан, повторивших его подвиг в ином столетии, в иных исторических условиях, однако не только не причтенных к светлому лику, но в большинстве не сохранивших для потомков даже данного в крещении имени. Вечная память!
***
Заглянув домой, мы обнаружили в келье благополучно прилетевшего отца Германа. Он листает наши книжки про Оптину пустынь.
— Очень похоже, у меня тут все, как у Авраамия, — печально улыбнулся первый соловецкий монах.
Когда в начале XIX в. Макарий Песношский послал в Оптину пустынь огородника Авраамия, там царило такое разорение, что не было даже полотенца руки обтереть. Сохранились подлинные слова Авраамия: «Я плакал и молился, молился и плакал». Слезы поколения выплаканы — восстанем, братья, пора молиться!
Поддерживая друг друга, мы спускаемся в подклеть с невысокими сводами. Полуразрушенные ступени осыпаются из‑под ног. У стены сооружено что‑то вроде престола. Очень холодно, при дыхании пар изо рта, хотя наверху стоит влажный полярный зной. Тьма кромешная. Когда‑то здесь помещался карцер под странным названием «Аввакумова щель». Прикрепляем свечи к стене — получается что‑то вроде ночника, подземелье освещается неровным прыгающим светом. Расставляем иконы, три из них мои: оборотная Спаситель — Богородица, Батюшка Амвросий и третья, Иерусалимская Троица, которой благословил нас перед отъездом на Соловки Владыка Пантелеймон. Эти иконки были свидетелями всех молитвенных действ нашего паломничества на север, теперь до конца дней это мои святыни.
Отец Феофилакт облачается, достает крест, Евангелие, и начинается катакомбный соловецкий молебен, первый за много десятков лет. И были на нем оптинцы отец Феофилакт и послушник Евгений, соловецкий игумен Герман, соловецкий брат Андрей, Галина Митрофановна и я, раба Божия Анна.
Дыханье на лету превращается в изморось, свечи оплывают, по пальцам течет горячий воск. Поем тропари северным святым — Зосиме, Савватию, Герману, Артемию Веркольскому. Батюшка молится за здравие всех православных христиан, за богохранимую страну Россию. Тени отделены от нас и живут своей особой жизнью. Сгущенные силуэты на фоне светозарной стены низко кланяются, осеняют себя крестным знамением, и кажется, что это не мы, но Кто‑то действует через нас. Отцу ли Феофилакту протягиваю свой помянничек? Батюшка ли громко возглашает в соловецкой крипте имена всех, записанных там: родителей моих, всех крестных детей моих и всех, кого люблю и помню? Что за сила вещает его устами?..
В числе последних два человека, которые и не подозревают о моем существовании. Мы незнакомы, но я ощущаю их необходимыми для России, а значит, нуждающимися в незримой поддержке, которая приходит только через молитву. Это писатель Леонид Бородин, человек мученической судьбы, полжизни проведший в брежневских лагерях, и выразитель устремлений моего поколения Борис Гребенщиков, который сам послал в мир дерзновенную просьбу:
Молись за меня, я прошу, молись за меня, Идущего между Луною и Солнцем, молись за меня. Я знаю тепло, я знаю, как холодно здесь, Но я стою и падаю только с тобой, Так молись за меня.Я ответила как могла: записала его в поминальную книжку…
Насколько сильно переживается молитва в замкнутом пространстве подземелья, как неимоверно возрастает ее мощь, ее подлинность! Святые слова не условны — напрямую питают душу. Только в замурованной пещере до конца понимаешь, что означают слова «хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6, 11). Это значит: дай нам возможность молиться Тебе. На этом взошла катакомбная церковь, против духа злобы Воинствующая, и утверждается Торжествующая.
Как Ты близок, Господи, в заключении, в карцере, в любой насильственной отделенности от мира. Милостивый, Ты приходишь к человеку, воцаряешься в нем, и мы обретаем Тебя в самих себе: больше негде. Ни пышности храма, ни великолепия икон, ни сладкого пения больше нет — Бог и человек, лицом к лицу, двое во вселенной…
В самиздатовской рукописи про узника сталинских лагерей отца Арсения рассказывается, как его с одним юношей заключили в ледяной карцер; когда же отворили дверь, ожидая вывезти два трупа, обрели заключенных живыми и невредимыми. Их спасла молитва, которую они непрестанно творили — молитва согрела, молитва насытила. Нечто подобное коснулось и нас в соловецком подземелье. Не намек ли на то, что, возможно, предстоит пережить? Господи, даруй нам в этот час веры и мужества христианского!
«Новии страстотерпцы Российстии, исповеднически поприще земное притекшии, страданьми дерзновение приимши, молитися Христу, вас укрепившему, да и мы, егда найдет на ны испытания час, мужества дар Божий восприимем. Образ бо есте лобызающим подвиг ваш, яко ни скорбь, ни теснота, ни смерть от любве Божия разлучити вас не возмогша…»
***
Поднимаемся из подземелья в северную жару. Время, время! Час отлета недалек. Почти бежим вдоль Святого озера, углубляемся в поселок и скоро достигаем большого Камня в окружении типовых двухэтажек. Со всех точек обозреваемый, этот памятник так и не понят до конца…
В 1929 г. на Соловки приехал Горький. У заключенных вспыхнула надежда, что знаменитый писатель прекратит беззакония. Но лагерное начальство рассредоточило доходяг по «командировкам», в Кремле оставили тех, кто поприличнее. Их приодели, навели внешний лоск. Горький с комиссией ходил и восхищался гуманностью советского перевоспитания. Заключенные отводили глаза.
Когда великий гуманист вступил в детколонию, навстречу ему выступил подросток с седыми висками. «Хочешь правду?» — спросил он. Горький хотел. Их оставили наедине. Писатель вышел часа через полтора, утирая платком слезы, и поспешил отплыть.
Корабль еще не скрылся из глаз, как мальчика расстреляли. Горький на весь мир заявил, что вражеские измышления о Соловках лживы. Однако вскоре на остров прибыла комиссия из Москвы. Она произвела дознание и пришла к выводу, что в беззакониях виноваты белогвардейцы и аристократы, большинство из которых, как грамотные, занимали административные посты. К расстрелу было приговорено около трехсот человек.
Ночь на 15 октября 1929 г. ознаменовалась массовыми убийствами беззащитных людей. Их выводили южными воротами и вели до ровной, 80 на 80 метров, площадки, которой суждено было стать еще одной соловецкой братской могилой. Каждую ведомую на гибель партию провожала воем чья‑то осиротевшая собака. Выстрелов не было слышно из‑за сильного ветра, и заключенные в Кремле вели счет убитым по этому вою. Палачи были пьяные, стреляли нечетко, и к утру полуприсыпанная яма еще шевелилась. Все это видели обитательницы женбарака — бывшей Архангельской гостиницы.
После октябрьского расстрела состав заключенных изменился: навезли «шахтинцев», жертв «процесса Промпартии» и «дела Академии наук». Шпана и «бытовики» были отправлены на Беломорканал доказывать свою соцблизость. О. Волков, вернувшийся сюда в начале тридцатых годов отбывать второй срок, не встретил никого из знакомых «каэров» и священнослужителей. Под большим секретом ему рассказали, что все убиты…
М. В. Нестеров. Святая Русь.
В 1975 г. в поселке чуть южнее Кремля начали рыть котлован для постройки жилых домов. К изумлению рабочих, вместо земли экскаватор стал выгребать несметное количество человеческих костей. Почвенный слой оказался чьими‑то мощами! Так открылось давнее преступление. Микрорайон для рабочих агарового завода все-таки возвели — на крови! — а в память убиенных водрузили угрюмую Глыбу без надписи.
И вот на дворе 1990 год. Со дня преступления прошло более шести десятков лет. Здесь никогда не служилась панихида. Мы превращаем Камень в престол с теми же иконками и свечками, что в кремлевской крипте — на сей раз они зажжены в память зарытых здесь Новомучеников, и служим панихиду о всех убиенных в месте сем.
Брат Евгений разжег кадило, отец Феофилакт трижды обошел с ним вокруг Камня — по морскому воздуху плывет сладкий дух ладана. Батюшка громко возглашает имена приснопоминаемых, и в числе прочих моих прадедов — священников: Иоанна, Иоанна, Иоанна. Двое старших служили неподалеку в Каргополье, в лагерях погиб только последний…
И вдруг меня осеняет догадка, ничем документальным не обусловленная, пришедшая как откровение во время этой незабываемой панихиды. Мой прадед, протоиерей Иоанн Ильинский, арестованный в 1930 г. в Ленинграде, отправленный неизвестно куда, замученный неизвестно где — не здесь ли, на Соловках, погиб, не на Голгофе ли томился? Иначе почему так властно привлек меня страшный архипелаг? Могут ли такие обстоятельства сложиться случайно, непромыслительно, если без воли Божьей и волосок с головы не падает?..
Между тем к Камню сбежалось много детей. Они стоят полукругом, с интересом наблюдая происходящее. Мы с Галиной Митрофановной раздаем им зажженные свечки. Малыши зажимают их в ладошках, внимательно вслушиваясь в батюшкино: «Во блаженном успении, вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабам Твоим и сотвори им вечную память». А взрослые остались равнодушны: сидят на лавочках у подъездов, праздно скучают на балконах типовых домов, хотя все происходящее у Камня обозревается как на ладони.
«О новии страстотерпцы, иже подвиг противу злобы безбожных подъяша, веру Христову яко щит пред учении мира сего держаще и нам образ терпения и злострадания достойно являюще. О твердости и мужества полка мученик Христовых, за Христа убиенных! Тии Церковь Православную украсиша и в стране своей крови своя, яко семя веры, даша. Купно со всеми святыми достойно да почтутся…»
И крепким узлом связались две нити, почти разорванные, и связь времен восстановилась. Не случайно последние соловецкие иноки, работавшие в хозяйстве концлагеря, ревниво блюли монастырское кладбище, держались за него как за соломинку. Ни одной могилки не запустили, ни одного холмика не затоптали, обновляли кресты и надписи, служили панихиды и литии, как по недавно усопшим отцам, так и по братьям древней обители. Знали: преемственность несокрушима, только ею держится мир. Христианство первых веков крепло и расширялось почитанием мучеников. Не от этого ли зависит и наше будущее?
***
Однажды на Соловецкой каторге состоялось удивительное катакомбное богослужение, рассказ о котором Промыслом Божиим дошел до нас. Он принадлежит перу Бориса Ширяева, чья книга «Неугасимая Лампада» попала ко мне более десяти лет назад. В те времена доступ к ксероксу был затруднен, и в жестко поставленные мне сроки я успела перепечатать лишь несколько эпизодов[19].
Борис Ширяев был дважды приговорен к смерти и оба раза сумел уцелеть. Приговор на Соловки, как и Оптинский Старец Никон (Беляев), он получил в Бутырской тюрьме. Художник Нестеров, оказавшийся в числе сокамерников, утешил: «Не печальтесь, там Христос близко», а потом всю ночь рассказывал, как в былые времена ездил на Соловецкие острова, где и задумал «Святую Русь».
Нарком Луначарский вызволил художника из застенка, а Ширяев очутился на кровавом острове в Белом море, где наконец‑то понял всю мудрость нестеровской картины: Сын Человеческий на фоне северных церквушек, вдали заснеженная земля, обступившие Воплощенного Бога дети, иноки, старики — весь богомольный народ святорусский. Здесь, на Соловках, он своими глазами видел, как из чащоб жизни выходили маловерные и с плачем падали у ног Того, Кто пришел указать смысл креста и обучить человека великому закону жертвы. Постигали вкус слез прозревшие каторжники, и в первую очередь он сам, просвещенный выпускник университета. Соль текла по щекам и делалась сладостью. Христос как будто специально привел его на Соловки, дабы напомнить о Себе: «Ты забыл меня, а Я близко. Я внутри тебя самого…»
По окончании срока Ширяева сослали в Среднюю Азию. Во время оккупации Северного Кавказа он попал в концлагерь, далее оказался в Италии. До конца дней напряженно осмысливая выпавший ему на долю опыт, пласт за пластом снимал толщу воспоминаний, чтобы выплеснуть в мир свои мучительные раздумья о смысле земных страданий. Он‑то и поведал нам о последнем соловецком схимнике.
Когда монастырь был очищен от монашествующих, на острове остался один не пожелавший никуда уходить старец. Начальником СЛОНа в ту пору был вечно полупьяный Ногтев, от изломов похмельной фантазии которого в буквальном смысле слова зависела жизнь людей. Он имел обыкновение ежедневно убивать одного — двух заключенных. Жертвой мог стать любой, имевший несчастье привлечь внимание гражданина начальника — офицер, епископ, уголовник. Прослышав, что на территории его владений обретает живой схимонах, Ногтев прихватил бутылку самогона и со товарищи поскакал в сторону лесной землянки.
Перед иконой тлела лампада, старец стоял коленопреклоненный, в углу чернел раскрытый гроб. «Ну что, товарищ опиум, отменили твоего Бога? — стал глумиться Ногтев. — Довольно попостился, пора бы и разговеться». Наливает стакан, подносит старику, принуждает пить. Тот встал, отвесил богохульнику земной поклон и молча кивнул на гроб: там, мол, будешь. Переменился в лице Ногтев, попятился. Потом смачно выругался, сел на коня и ускакал. С тех пор по его личному распоряжению старика оставили в покое, более того, раз в неделю стали приносить ему паек.
О. Волкову тоже случалось видеть в Онуфриевской церкви старого схимника, может быть, даже того самого, о котором повествует «Неугасимая Лампада». «Слева от амвона, всегда на одном и том же месте, весь скрытый мантией и куколем с нашитыми голгофами, стоял схимник. Стоял не шелохнувшись, с низко опущенной головой, немой и глухой ко всему вокруг — углубленный в себя. Много лет он не нарушал обета молчания и ел одни размоченные в воде корки. Годы молчания и созерцания. Ему не удалось уйти в глухой затвор: камеры, в которых замуровывались соловецкие отшельники, находились под угловыми главами Преображенского собора, обращенного в пересылку. И я гадал, задевает ли схимника происходящее вокруг? Не подтачивают ли его мир разрушившие Россию события? Или они для него — незначащая возня у подножия вершины, на которую вознесла его углубленная беседа с небом?»[20]
И Розанов рассказывает о соловецком схимонахе, который за дряхлостью стал не нужен начальству, и его приговорили к высылке на материк. Старец просил у Бога смерти и действительно умер в ночь перед отъездом, по молитвам Владыки Евгения (Зернова), которого попросил помолиться об избавлении от земного жития. Трудно сказать, один это был человек или трое разных людей, ясно одно: таким высшим представителям рода человеческого неведомо, что такое оковы. Навесь им на ноги колоды стопудовые, они их даже не почувствуют, ибо не в тварной юдоли пребывает сознанье их…
Тема последнего соловецкого схимника проходит через всю ширяевскую книгу. Она возникает во многих главах, то прямо, то косвенно, то намеком; о старце говорят лагерники и лагерницы на всех островах. Единственный оставшийся в аду молитвенник и его Неугасимая Лампада становятся для гибнущих людей символом Святой Руси, дух которой, несмотря ни на что, пребывает неповрежденным. Однажды сам автор, по роду работы имевший право свободного передвижения по архипелагу, сбился с тропинки и после нескольких часов блужданий набрел на легендарную келью, про которую, честно говоря, сомневался, уж не вымысел ли она. Войти он не посмел, до утра сидел на корточках у тусклого оконца, смотрел, как отшельник бьет поклоны, и беззвучно молился вместе с ним.
И вот по лагпунктам прокатилась весть: лесной схимонах преставился. В субботу принесли сухари, а он лбом в земляной пол уперся: в поклоне Господу предстал. Лампада почти вся выгорела, умирающим светом тлела. Тут же подлили масла — огонек занялся во всю мощь…
Похоронили старика где‑то на Анзерах. Никого из иереев на погребение не допустили, и последний соловецкий схимник ушел в землю неотпетым. Эта смерть взволновала весь архипелаг, в ней искали тайного знамения. Кому‑то пришла в голову мысль отпеть Батюшку заочно, одновременно отслужив панихиду по всем погибшим и, конечно, по убиенной семье последнего Государя. Предприятие затеяли опасное, не каждый священник рискнет в нем участвовать. Совсем недавно по стране прогремело «дело лицеистов», по которому многие были поставлены к стенке, а около полусотни приговоренных за месяц до описываемых событий прибыли на Соловки.
Эти люди имели неосторожность собраться на традиционную годовщину Императорского Александровского лицея, отслужить панихиду по усопшим лицеистам всех времен, на которой был помянут и Царь. Присутствовало 30 человек во главе со священником Лозино — Лозинским, также бывшим лицеистом. Собрание было квалифицировано властями как «монархический заговор», все родственники и знакомые участников были арестованы.
«Я устал от жизни, слава Богу», — сказал перед расстрелом бывший лицеист 75–летний князь Н. Д. Голицын. На Соловках воспитанники Лицея держали себя достойно и мужественно. А. П. Веймар, начальник одного из департаментов Министерства иностранных дел, по воспоминаниям очевидцев, нес свойтяжелый рок с редким благородством. Священник Лозино — Лозинский тоже стал соловчанином. На каких только работах он не работал — и счетоводом в часовне св. Германа, и ассенизатором в бывшей гостинице, и сторожем, и почтальоном, неизменно напоминая всем окружающим его изысканного аббата XVIII века[21].
Служить панихиду по новопреставленному соловецкому схимонаху и убиенному Царю — Искупителю согласился все тот же Утешительный поп отец Никодим. Он сознательно пошел на то, за что другие были осуждены к высшей мере. Этот Батюшка вообще ничего не боялся, не случайно легенды о нем ходили по лагерному миру еще несколько десятилетий. М. Розанов лично слышал их в конце 30–х годов за пределами Соловков, в штрафном изоляторе Печорсудстроя. Отца Никодима под видом плотника заводили в женбарак к пожелавшим говеть проституткам, шпана втаскивала его через окно в лазарет к умирающим. «Прибавляй — убавляй мне срок человеческий, Господнего срока не изменишь, — знай посмеивался отец Никодим, — а с венцом мученическим пред Престолом Его мне, иерею, пристать пристойнее».
В заговоре участвовало 22 человека. Они вышли порознь и, сделав обходы, собрались на глухой полянке около Креста — на — крови. В руках горе ли свечи из просмоленных канатов. По счастливой случайности, описание этой панихиды в свое время я перепечатала слово в слово. Привожу этот текст с двойной радостью: за них и за нас…
***
«…О ком говорят слова молитвы? Не о тех ли, кто беззвучно шепчет их? Кто стоит здесь, в лесной храмине, у каменного креста на неостывшей крови? Живущие или тени живших, ушедших в молчание, в тайну небытия? Без возврата в жизнь?
…Это стояли не люди, а их воспоминания о самих себе, память о том, что оторвано с кровью и мясом. В памяти одно — свое, отдельное, личное, особое для каждого; другое — над ним стоящее, общее для всех, неизменное, сверхличное; Россия, Русь, великая, могучая, Единая во множестве племен своих, — ныне поверженная, кровоточивая, многострадальная.
— Покой, Господи, души усопших раб Твоих!
Отец Никодим почти шепчет слова молитв, но каждое слово его звучит в ушах, в сердцах собравшихся на поминовение души мучеников сущих и грядущих принять свой венец…
Отец Никодим, иерей в рубище и на одну лишь ночь вырванной из плена епитрахили, поет беззвучно святые русские песнопения, но все мы слышим разливы невидимого, неведомого хора, все мы вторим ему в своих душах:
— Николая, Алексея, Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех, иже с ними живот свой за Тя, Христа, положивших…
Отец Никодим кадит к древнему каменному кресту, триста лет простоявшему на могиле мучеников за русскую древнюю веру. Их имен не знает никто.
— Имена же их Ты, Господи, веси!..
Ладан, дали, обступившие церковь — поляну полные тайны соловецкие ели. Они — стены храма. Горящее пламенем заката небо — его купол. Престол — могила мучеников.
Стены храма раздвигаются и уходят в безбрежье. Храм — вся Русь, Святая, Неистребимая, Вечная! Здесь, на соловецкой лесной Голгофе, — алтарь этого храма.
— Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная!
Бесконечная? Повергающая, преодолевающая и побеждающая смерть?
В робко спускавшемся вечернем сумраке догорали огоньки самодельных свечей. Они гасли один за другим. На потемневшем скорбном куполе неба ласково и смиренно засветилась первая звезда. Неугасимая Лампада перед вечным престолом Творца жизни.
В земляной келье призванного Богом схимника так же нежно и бледно теплился огонек его неугасимой лампады пред скорбным ликом Спаса. В его тихом сиянии сорок дней и сорок ночей, сменяясь непрерывной чередой, последние иноки умершей обители читали по старой, закапанной воском книге слова боговдохновенного поэта и царя полные муки покаянные крики истомленного духа, ликующие напевы его веры в грядущее Преображение. Они приходили туда и позже — творить литии.
Двадцать два соловецких каторжника в тот час молений о погибших были с тобою, Русь, в бесконечной жизни твоей…
— Вечная память!»
(Б. Ширяев. «Неугасимая Лампада»)
«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его», — сказал Пророк (Еккл. 11,1). То, что соловецкие каторжники сотворили для почивших братьев и убиенного Помазанника со чадами, сегодня сделали для них мы. Воистину не рвется связь времен, и крепится она не чем иным, как молитвенными узелками. Я знаю только имена отца Никодима и раба Божия Бориса, остальные двадцать участников тайной панихиды остаются безымянными. Господи Иисусе Христе, милости, а не жертвы желающий! Помяни их, Господи, во Царствии Твоем, и воздай им, Господи, по милости их и по страданиям их, ибо Тебе Одному все ведомо, души усопших в руце Твоей.
«Вельми светел явися нам подвиг ваш, святии Новомученицы и Исповедницы во дни сия, малодушием омраченныя; оскуде бо вера за умножение беззаконий наших, охладе любы, поколебася надежда, доблесть же ваша озари славою новою Русскую Церковь…»
***
Как важно, что мы попали на Соловки в день, когда сюда переехал первый инок, и мы сослужили с ним за здравие живущих, за вечную память усопших. Несомненно, это имеет какое‑то особое, до конца не разгаданное значение. Символ ли духовной связи Соловков и Оптиной, двух могучих российских твердынь? Она имеет корни, мало кому известные. Преподобный Елеазар, благоустроитель пустынной жизни на Соловецких островах, был родом из Козельска. Оптина пустынь уже существовала, и юноша, с ранних лет обнаруживший склонность к иноческой жизни. не мог не посещать близлежащего монастыря. Он попросил родительского благословения на Соловки — те не стали препятствовать[22]. И вот теперь мы просим молитв у Соловецких Новомучеников, чье заступничество пред престолом Божиим приносит стократный плод…
После панихиды отец Феофилакт произнес проповедь для детей. Он рассказал, какое здесь было святое место, со всех концов России сюда съезжались люди, любящие Бога, а потом его превратили в мучилище. Так пусть они никогда не забывают, что живут в историческом месте, а это налагает большую ответственность: именно им предстоит возрождать славу знаменитого на весь мир монастыря. Как возрождать? Прежде всего жить по совести…
— Вот ваш батюшка, — представил он детям о. Германа, — Мы уедем, а он останется, будьте его помощниками…
Ребятня зачарованно слушала, прикрывая свечки ладошками. Язычки огня трепетали на ветру, но не гасли. Спаси, Г осподи, молодую Россию, наставь на путь правый детей наших, да возгорится в них пламя веры! «Небесныя хвалы личе неусыпный, Новомученицы добропобеднии земли Русския, ныне присно причащаетеся Агнца присноживотного, за негоже от безбожных убиени бысте, егоже отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки…»
М. В. Нестеров. Старец. 1914–1916 гг.
Отец Феофилакт безошибочно определил самую чуткую, отзывчивую точку ситуации: маленьких человечков, еще не погрязших в косности быта, в плотности небытия. Им все интересно, и что такое монах, и что изображено на иконках, и кто такие «убиенные в месте сем». Не случайно именно они подошли к Камню и отстояли панихиду до конца, а взрослые остались лузгать семечки на балконах своих на крови возведенных домов. «Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою» (Мф. 22, 5). В детях живет и действует Сам Бог, не случайно именно через них открывается тайна Русского Севера…
***
Беломорье пребывает под особым покровительством; кроме Св. Предания, тому есть документальные свидетельства близко стоящих к нам времен. Когда в 1919 г. белогвардейские войска уходили из Архангельска, группа гимназистов и гимназисток от 10 до 13 лет наблюдали над ул. Почтамской, невысоко над горизонтом, Пресвятую Богородицу, Она явилась им не во весь рост, а в сидячем положении, с Предвечным Младенцем на коленях. И простирала руки ладонями вниз, покрывая город, как бы благословляя его. Божественное Дитя было в движении. Оно двигало ручками, а потом сделало жест пальцами, крестообразно осенив вотчину Архангела Михаила. Видение продолжалось около часа, потом начало бледнеть, пока не исчезло из глаз, оставив над городом серенькое небо, для не имеющих очи необитаемое…
Потрясенные дети побежали к протоиерею Воскресенского собора (впоследствии взорванного) и, перебивая друг друга, рассказали о случившемся. Отец Михаил (Попов) засвидетельствовал их рассказ и представил епископу Павлу.
Владыка написал: «Милость Божия и заступление Божией матери да будет с нами и над градом нашим»[23].
Несколькими годами спустя в Московском Губревтрибунале слушалось дело об Архангельских контрреволюционерах. Они обвинялись как участники «Союза духовенства и мирян», созданного для помощи международным бандитам и русским белогвардейцам с епископом Павлом[24] и протоиереем Чеканом во главе. Член «преступной группировки» о. Михаил (Попов) обвинялся в том, что «состряпал чудо», а именно: подговорил детей говорить, будто они видели Богородицу, благословляющую белогвардейские войска. Все иереи получили срок тюремного заключения[25].
Близорукий политический глаз все подверстывает к своему скудному мировидению, но факт остается фактом: над северными пределами России распростерла руки Матерь Божия, благословляя землю, которой предстоит столько выстрадать, доколе не придет к покаянию…
Если Тихвинская Богородица перемещениями Своего чудотворного образа указывала людям места, где должны воздвигаться дома молитвы, то Архангельск особенно обозначен, и многого ждет от него Господь. Когда церковь в честь Тихвинской иконы готовилась к освящению, пономарь Георгий, посланный оповестить народ о грядущем торжестве, удостоился видения: он узрел Царицу Небесную, сидящую на обрубке сосны. В правой руке Она держала жезл и опиралась им о землю. Рядом стоял украшенный сединами благообразный муж, похожий на Николая Угодника. Георгий пал на колени и не смел поднять глаз. «Егда не имут веры, тогда будет знамение уверения ради», — сказал Святитель. Когда юноша очнулся, перед ним никого не было, лишь. глухо шумел лес…
История повторяется. Участившиеся в последнее время явления Богоматери, мироточивые иконы, качающиеся лампады — что это, как не знамение? Отчего мы не хотим видеть явного, не желаем верить очевидному, отказываемся признавать Истину, хотя перст уже вложен в голгофскую рану и кровь течет по руке?
И может быть, лучше, что мы отслужили панихиду не на Анзере или Секирке, где преизобилен прах мучеников за веру. Может быть, так и надо: среди поселка, в двух шагах от Кремля, прилюдно? Все это видели жители, хотели или не хотели, а самое главное, видели дети, которым жить рядом не с памятником архитектуры — с монастырем, где ежедневно приносится Бескровная Жертва. А заклание Господа есть заклание каждого члена Тела Его, ибо все мы, во Христа крестившиеся, в смерть Его крестились…
Если Б. Ширяев сохранил для нас праведный образ отца Никодима, то О. Волкову посчастливилось встретиться на Соловках со священником Михаилом (Митроцким), депутатом Государственной думы, академиком — богословом, которому Господь даровал безмятежную детскую веру, столь необходимую в каторжном аду. Писатель сохранил для нас его слова об исповедниках, в которых нуждается Русская Православная Церковь: «Через них она очистится и прославится. В этом промысел Божий. Ниспосланное испытание укрепит веру. Слабые и малодушные отпадут. Зато те, кто останется, будут ее опорой, какой были мученики первых веков…»[26]
Отец Михаил был расстрелян в ночь на 15 октября 1929 г. Его святой прах почивает под Камнем, у которого мы пели «Вечную память». Его слова пророчески сбылись: Соловки — гроб, из которого все ярче и ярче сияет дивный свет Воскресения.
«Егда начинахуся дние огненнаго искушения церкве Российския и не благоволи Господь прияти от нас всесожжения и жертвы, тогда мнозе архиерее и священницы не приложишася плоти и крови, но уразумевше волю Господню, сами себе принесоша, яко непорочное заколение…»
***
На аэродроме Андрей посоветовал: садитесь слева, увидите Анзер. В считанные секунды остров раскрылся под нами огромной мохнатой ладонью, и там, во мху леса, что‑то пронзительно забелело. Церковь Распятия Господня! Анзерский скит расположен в горной впадине и вряд ли виден с птичьего полета. Сомнения нет, это знаменитая Голгофа, где тысячи мучеников взошли на крест: познать тайну Воскресения.
Мне не забыть, как отец Феофилакт, вступив в Фаворское место молитв и одновременно страдалище, перекрестившись, запел тропарь Преображению: «Преобразился на горе еси, Христе Боже». Его голос одиноко отдавался под соборными сводами. Один иеромонах, где остальные, ведь когда‑то в Преображенском соборе литургисали десятки соловецких отцов? Мы заходили в другие храмы (они соединены общей папертью-галереей): и в примыкающий с севера Троицкий, в Никольский и в Успенский, и пели тропари соответствующим праздникам, вернее, пел батюшка, а мы по мере сил подпевали.
А потом мы высоко на колокольне, с которой наконец‑то сняли намозолившую взор соловецкую звезду, и мы под охраной Креста Честного. Дали белые, необозримые! Неисповедимы пути Твои, Господи, неужели я была на Соловках? Стояли впятером в проеме звонницы, где каторжники узрели невнятный свет: не в будущее ли заглянули? Не нас ли, потомков, узрели, пришедших сюда в покаяньи отмаливать убиенных? И что за великая сила слышится, далеким ударам грома подобная?
Соловки несентиментальны. Здесь сердце устремляется к горнему, не снисходя до земных утешений, здесь закаляется дух. А душа ощущает себя блудной дочерью, которая полжизни пасла на чужбине чьих‑то чужих свиней, и вот вернулась к Отцу и просит: прими в число наемниц Твоих…
Родитель по плоти не всегда способен быть отцом по духу — речь идет о Предвечном Отце. В идеале родитель — опора, которая не предает, но мир оскудел на любовь к своим детям, лишь Церковь, как прежде, щедра. И направленье поиска верное, ибо устремлено на вершину, как на последнюю реальность земли. Что может быть реальней Отца, сотворившего все живое?
Остров стремительно уплывает назад по белому — пребелому морю — или это мы улетаем? И я понимаю, что не могу не вернуться сюда…
О твердости, упорстве и терпеньи Высоких душ в томительной ночи Твердят темниц истертые ключи И власяниц терзающий репейник. Несдавшихся последнее хрипенье И токи слез впитали кирпичи, И камера во храме не молчит, Хвалу с хулой мешая в песнопеньи. Вы, в ком еще живет свободный дух, Вы, кто к людскому горю был не глух, К земле склоните честные колени! И слушайте, волненье сжав в тисках, Как о судьбе ушедших поколений Вещает каждый камень в Соловках. (Строки, рожденные Соловецкой каторгой)[27]Молитесь о нас, Угодники Божии Преподобные Зосима и Савватий! Мы снова в небе, в крохотной «Аннушке» с удивленными глазками-иллюминаторами. Она берет курс на Пинегу, где обрел покой последний Оптинский Старец иеромонах Никон (Беляев), почтить память которого мы летим.
VI. СВЕТ НАД АНЗЕРОМ
В октябре, на сей раз со Светланой — Фотиной [28] (той самой девушкой, что воочию видела ГУЛаговские скиты), я вновь обрету свои Соловки. Но попасть на Анзер опять не удастся: осенью пролив опасен, сесть на весла рискнет только самоубийца. И оказии не случится: все работы на острове закончены, там остался один Егорыч, да и тот до ноября.
Не в моей власти доплыть до Голгофы, но я могу как можно ближе подойти к острову мученичества и помолиться о всех живот там положивших. И вот в день Покрова Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа я соберусь в Ребалду — рыбацкий поселок в северо — восточной части Большого Соловецкого острова, откуда остров Анзер виден как на ладони.
Осеннее соловецкое озеро (слайд). Фото С. Харламовой.
Материковые леса давно облетели, а соловецкие березки еще исполнены червонного золота. Кудрявые деревца стоят в полном облачении, огненно вписываясь в светоносную сотканность богородичного дня. Сбоку блистает осеннее светило — белый шар на неестественно синем небе. Лес охвачен жемчужным сиянием. По холодным зеркалам озер катается гоняемая ветром солнечная ртуть.
Я иду по малоезженой дороге, бывшей узкоколейке, позднее перенесенной на Беломорканал, утягиваюсь в лучистый лес, засасываюсь в болото Времени, камешком иду на дно давно минувшего, чтобы изведать всю муку его. И соловецкая чащоба принимает меня, ибо вхожу с молитвой за всех, кто навеки остался здесь. Происходит внедрение в некую Структуру, я делаюсь частью ее. Постепенно в воздухе появляется привкус тлена: каждая пядь земли насыщена прахом убитых. А может быть, это просто запах прелых листьев? Вокруг витает что‑то неутоленное, истерзанное, живое. Каждая клеточка тела, каждая кровиночка души напрягается, делается на волосок от взрыва, но взрыва не происходит. Так в состоянии предвзрывья и лечу через лес, не выпуская четок из рук. На Афоне сплетенная ниточка, вся в молитвенных узелках, проведи через гиблое место!
«Господи Боже мой, помози ми смиренно воспевати славу Новомучеников и Исповедников Российских, имже за тяжкие страдания любовию отверзл еси двери небесныя. Г осподи Боже наш, славу сию мучеником от века бывшим даровавый, яко мощи их сеются во храмех обновления нашего ради, подаждь славу сию и страстотерпцем новым, аще и неведома суть места погребения их…»
Когда‑то в этом лесном чертоге располагались специальные лагпункты — лесоповалы. Штабом лесозаготовок было Исаково. Отсюда управлялось множество подчиненных СЛОНу «командировок» с поэтическими названиями, как‑то: Щучье, Едовый наволок, Кузема, Зашеек, Колвица, Пояконда, Кестеньга.
Сельхоз, торфяные разработки, кирпичный завод — все это было терпимо; более того, туда стремились, чтобы выжить, а на пилу и топор попадали в основном шпана и крестьяне. Отправляли в лес не умеющих устраиваться интеллигентов и никого не прельстивших женщин, «пятиалтынных», как цинично называли их чекисты. Также «командировкам» подлежали люди, занесенные в «белые списки» с негласным предписанием гноить таковых на тяжелых физических работах. Лес и штрафной изолятор на Секирной горе были Сциллой и Харибдой Соловков, заключенные изо всех сил лавировали, чтобы проскользнуть где‑то посередине.
В Кремле имелось изобилие «человеческого материала», который постоянно прибывал, восполнить людскую убыль было проще простого, поэтому с рабочими не церемонились, использовали на всю катушку, зная, что в любой момент возьмут новую рабсилу. Определенный процент потерь допускался; если же перерасход «материала» носил чрезмерный характер, т. е. люди умирали, не отработав запланированные на каждого три месяца, приезжали разбираться из Информационно — следственной части, в просторечии отделения стукачей. Нога прокурора в лес никогда не ступала.
Вручив кружку кипятка с хлебом, зэка гнали на делянку затемно. Не успеешь выполнить норму, или по — лагерному «урок» — оставайся на вторую смену. На работах, особенно ночных, частенько пристреливали, больше шпану. Когда случался саморуб, заставляли пилить одной рукой, пока и ее не отрубят сердобольные товарищи. Поэт Борис Ильич Брик отсек себе палец и послал начальству с запиской: «Вам, жаждущим человечины до черта, посылаю кусок мяса первого сорта». Но Брику повезло, он не только выжил, но и вернулся в родной Ленинград. Ежедневные убийства на глазах у всех приводили к защитному отупению чувств, смерть на лагпунктах воспринималась как само собой разумеющееся событие.
На каждой «командировке» был свой карцер — сарай с зияющими щелями и земляным полом. В любое время года штрафников туда сажали голыми, поэтому они всегда кричали: зимой от холода, летом от комаров, поэтому такие карцеры назывались «крикушниками». Впоследствии, экономя древесину, их стали сооружать прямо в земле. Провинившегося сталкивали в глубокую яму, а по скончании срока подавали шест, и он вылезал, если был в состоянии. В карцерную яму можно было угодить за любую безделицу: невежливо ответил начальству, стоял, расслабившись, работал спустя рукава — был бы человек, а повод найдется.
Воспоминания бывших соловецких узников сохранили несколько имен лесных палачей. С точки зрения психиатрии этих одержимых садистскими вожделениями людей нельзя признать нормальными — ни Воронова, обливавшего заключенных водой из проруби, ни Воронина, предлагавшего отказнику от работы пить мочу своего напарника, ни начальника отделения «Хутор Горка» Иоффе, который выставил на мороз триста человек — половина из них к утру превратилась в мерзлые трупы.
Особенно славилась зверствами «командировка» Овсянка, где главенствовал чекист Иван Потапов. Люди у него десятками умирали на непре рывных, без отдыха, работах, обезумевшие, рубили себе руки — ноги, становились под падающие сосны, вешались на обрывках веревок. В периоды депрессии Потапов стрелял, кто подвернется, официально оформляя эти смерти как попытки к бегству. Процент истощения рабсилы превышал в Овсянке все меры возможного, поэтому туда послали с проверкой уполномоченного ИСЧ Киселева — Громова, который позднее переберется в Финляндию и выпустит книгу «Лагеря смерти в СССР».
Для начала Потапов предложил ему посмотреть карцер. В прикрытой заснеженными досками яме вповалку лежало около сотни полуголых «шакалов». «Крикушником» этот карцер назвать было нельзя: у бедолаг не осталось силы на иное, как тупо, без выражения, смотреть на склонившихся над ними людей.
— Дисциплина! — похвастался Потапов и, странно улыбнувшись, пригласил следовать за ним: —Пошли, покажу шпанское ожерелье…
Проверяющему предстала чудовищная картина: по обеим сторонам барачной двери висели ожерелья из нанизанных на шпагат отрубленных пальцев и кистей рук, многие из которых уже были тронуты тлением.
— Товарищ Ногтев одобряет, меньше саморубов делать будут, — возразил Потапов на требование немедленно снять патологическое устрашение. «Не парень этот Ванька, а сундук с золотом», — подтвердят Киселеву в Кремле.
Подобных «командировок» в начале 30–х годов к УСЛОНу было приписано более ста. И это только в одной части страны, а сколько их было по всему Союзу, мест истребления неугодных режиму людей! Нетрудно догадаться, почему у нас практически нет лесных летописцев: все полегли там. Дошедшие соловецкие воспоминания написаны в основном теми, кто отбывал срок в ротах Кремля или на более легких работах, нежели лесоповал.
***
На пути следования лес несколько раз менялся. Сначала вдоль дороги шагали чахлые, на высокую траву похожие березки, потом их оттеснили облепленные лишайником осины, и наконец потянулась цепь торфяных озер с торчащим из воды сухостоем — пейзаж, достойный места падения Тунгусского метеорита. По дегтярной поверхности гуляет ветер, кидает волнистую рябь, плетет темное кружево на гладях вод.
Дорога до Ребалды тянулась бесконечно. День уже приклонился к закату, прохладное серебро потускнело, и небо окрасилось перламутровыми разводами, когда на горизонте завиднелся домик. Вроде бы рукой подать, а оказалось еще километра три по прямой, как струна, колее.
Постепенно по бокам дороги исчезло все, кроме сосен. Здесь, в северной части острова, они гораздо мощнее, чем в районе монастыря, с крепко нахлобученными, основательно изломанными ветром кронами. Многие стволы покосились от дующих с моря ледовитых вихрей и стоят полунаклоненные к земле, другие лежат, как поверженные великаны.
Земной покров тоже изменился: подлесок окровавлен ягодными кустиками и какой‑то мелкой ползучей травкой. Представленный всеми оттенками, от морковно — светлого до темномалинового, кровавый цвет перемежается белесыми кочками цвета застиранной солдатской гимнастерки. Среди мшистого разнотравья то там, то здесь грузно вздымаются полузаросшие красноватые валуны. А может быть, это просто проступила кровь, которую впитала в себя мученическая земля Соловецкая?
Малая толика лесных ужасов все‑таки дошла до нас, ничтожный процент свидетельств на девяносто девять умолкнувших голосов. В 1928 г. вместо ушедшего в отпуск Эйхманса начальником лагеря временно назначили некоего Ященко. Обнаружив священников и «каэров» на внутрилагерных работах, он возмутился и все переиначил: «социально близких» поставил сторожить склады, а интеллигенцию и духовенство отправил на лесозаготовки. Среди горе — лесорубов оказался начинающий журналист Г. Андреев — Отрадин, тогда 17–летний юноша, которому выпало выжить и написать о пережитом.
Им приказали собраться с вещами и погнали в сторону Секирки. «На расстрел», — решили все, но нет, страшная гора осталась позади. Спустилась тьма, а они шли и шли, пока на рассвете не прибыли в самое сердце соловецкого леса, на Ново-Сосновскую «командировку», где тут же получили «урок»: срубить, очистить от сучьев и выкатить на дорогу десять стволов. А ведь многие из них никогда не держали в руках ни топора, ни пилы…
В бараке без окон невозможно было согреться. «Обросшие грязные лица кажутся темными, одичавшими. Одежда на людях висит клочьями. Это похоже на ад, говорю я. Не хватает только адского пламени и жара. А люди как раз из царства теней» (Г. Андреев — Отрадин)[29].
Срубленный лес шел на экспорт, причем концы были надежно спрятаны: вся продукция сдавалась Кареллесу, а тот, как бы от себя, сбывал иностранцам. Правда, в 1931 г. Молотов публично объявил, что в СССР на лесозаготовках трудятся заключенные. Но условия их труда таковы, цинично провозгласил он далее, что безработные капиталистических стран могут им только позавидовать[30].
Часть командированных назначили ВРИДЛО — временно исполняющими должность лошади, в их числе и поэта А. Ярославского, принадлежавшего к группе «биокосмистов — имморалистов» и выпускавшего поэтические сборники с пикантными названиями «Святая бестиаль», «Сволочь Москва» и тому подобные. Позднее, в 1939 г., его жена бросит камень в самого Д. Успенского, и тот собственноручно застрелит ее…
Среди изгнанников был человек по фамилии Гусев. Очень религиозный, в Кремле он все свободное время проводил в сторожевой роте, у священников, а к себе в 3–ю ходил только ночевать. Гусев был слабого здоровья, в лесу ему стало плохо, он пилил, согнувшись пополам, жаловался: «Конец мне приходит, братцы. Умру без покаяния, бросят, как падаль, без креста, без молитвы, страшно». Его обвинили в симуляции и столкнули в «крикушник».
Ребалда — место переправы на о. Анзер. С рисунка XIX в.
Гусев вышел оттуда полуживым. Товарищи водили его на работу, поддерживая под руки. «Помилосердствуйте, болен же человек», — взывали они к начальству. «Сейчас вылечим», — гоготала охрана, награждая несчастного тумаками.
Теряя рассудок от безысходности, Гусев отрубил себе палец. Надзиратель не позволил делать перевязку, стоял и смотрел, как кровь хлещет на снег. Улучив момент, Гусев опять рубанул себя зазубренным острием, не глядя, наудачу — в алую лужу шмякнулось пол — ладони. Его избили. Придя в себя, он ударил себя в третий раз, на сей раз выше запястья.
На запекшемся снегу валялись розовые куски мяса. Возбужденные охранники, пока достало сил, топтали Гусева коваными сапогами. Больше он не встал. Г осподи, прости меня! Я не знаю его христианского имени!..
Вернувшись из отпуска, Эйхманс обнаружил, что «социально близкие» разворовали все склады, лагерное хозяйство развалено. «Каэров» вернули в Кремль, а Гусев навсегда остался лежать в глухой соловецкой тайге. Он покоится где‑то здесь, между валунами: вправо ли, влево ли от дороги? Место его захоронения неизвестно, знаю одно: под каждым деревом кто‑то зарыт. Вставай под любую сосну и читай «Канон на исход души», не ошибешься…
Видение из области кошмаров: ранним утром в Кремль тянутся подводы, на них груды смерзшихся тел. Это якобы внезапно умершие, а на самом деле забитые мозолистыми кулачищами чекистов. За телегами спотыкается вереница изможденных людей. Обоз вышел из леса, чтобы отработанный «человеческий материал» обменять на новый. Смерть хочет кушать, смерть требует свежатинки…
Но хоронить в монастырь возили только с ближайших лагпунктов. Для таких случаев на Онуфриевском кладбище дежурил специальный гроб — «автобус». Туда закладывали тело, довозили до незарытой общей могилы, опрокидывали, а гроб откатывали на прежнее место для очередных похорон по «соловецкому обряду». Но разве целесообразно возить сюда покойников с Секирки, Голгофы, Кондострова? Таких зарывали на месте, поэтому весь Соловецкий архипелаг — одна огромная Братская Могила.
И вот я иду по узкоколейке, заброшенной магистрали без рельсов, и молюсь о тех, кому довелось (а может быть, посчастливилось?) обрести последний покой в этом диком золотистом лесу с алыми брызгами ягод. Спите, братья, ваш сон утешен. «Зрим вас, како в страшную годину гонений далече от домов ваших сосланы бысте. Зрим вас, гладных, цинготных, вида своего лишенных, струпиями кровоточащими покровенных, приставники биемых и сна лишаемых, плачущих о чадех оставленных и о матерех их беззащитных. И кто испишет имена ваша! Кто поведает миру вся претерпенная вами! Обаче ведает Бог избранныя своя, сохранившыя залог, врученный им даже до смерти, и сего ради дерзновение имущыя молитися о нас».
Всех замученных в месте сем, Господи, помяни!
***
Чем ближе к острову Страстей человеческих, тем ощутимей нарастает в душе ощущение некоего торжества, в котором явственно различаются отголоски чего‑то бетховенского. Словно открывается энергетический центр земли, и силы здесь царят непривычные: силы Скорби и силы Славы, постигаемой через Скорбь. Вот высоко взлетели, вот захлебнулись скрипки героического финала. «Боже, правда Твоя во веки, слово Твое слово истинно» — так бы я назвала эту симфонию. Все сильнее пахнет морем, воздух насыщен живой солью, нарастает йодистый дух: чувствуется близость влажных морских растений. Наконец, вот она, Ребалда: несколько темных бревенчатых домов, пристань с одиноким спасательным кругом, широкая отмель. Меж прибрежных камней запутались мясистые водоросли, это они издают сочный аптечный запах. На серых волнах с белыми «барашками» качается стая чаек, другие кружатся и кричат. Калевала!.. Говорят, северная природа скромная и неброская, но я не видела ничего изысканней, чем флора Соловецкого архипелага, чем эти хмурые свинцовые воды, поросшие изнутри цельбоносной морскою травой.
За полосой неспокойного пролива сгорбился сумрачный остров. Это Анзер, или, как его здесь называют во множественном числе, Анзеры, где, утаенная от глаз людских, восходит к небесам наша Русская Голгофа. Солнце село, над лесом плавают прощальные розовые разводы, море затягивается стремительно густеющей сизой пеленой. Темнеет быстро, неотвратимо. Я сижу на валуне и читаю молитвы за всех погибших на Анзерах.
«Страданьми вашими Церковь Русская славится, мученицы новии, сродницы наши чина и сословия всякого, за Христа от безбожных убиении, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен еси. Оружие крест и щит веру во Христа, страдания же и смерть прияли есте, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен еси.
Оскверненная делы безбожник земля кроплением кровей ваших паки благословляется. Воды же морские и речныя телеса потопляемых святых, яко священие, влагаемое в тыя, воспоияша…»
Молча смотрю на остров, полный невысказанных тайн. Их уже никто не узнает. Угрюмый, он в упор смотрит на меня, и на сей раз на берег не принятую. Испытание? Предупреждение: не рвись в пекло мученичества, не вынесешь?..
— Ты откуда здесь? — раздался над ухом чей‑то голос.
Я от неожиданности вздрагиваю. За спиной как из‑под земли вырос пожилой человек в брезентовой куртке, высоких сапогах и низко надвинутой на лоб вязаной шапочке.
— Из Кремля.
— А обратно как?
— Понятное дело, пешком, ведь машины не будет?
— Сегодня, пожалуй, нет.
— Вот видите…
— Ну, чайку на дорожку?
— Это можно.
Мы заходим в один из неказистых домиков, внутри которого, к моему удивлению, очень уютно. На раскаленной плитке пыхтит чайник. Иван Андреевич щедро насыпает полчайника заварки, заливает кипятком, достает конфетки и сухарики. Глоток, другой — по жилам побежало круто заваренное тепло, и мы начинаем болтать.
Хозяин — подлинный помор, врожденно интеллигентный, словоохотливый, открытый. Живет он в поселке, там его дом и хозяйка, а на лето устраивается береговым матросом на Ребалду. Он рассказал мне некоторые интересные вещи, живое свидетельство из первых уст.
Рыли могилу на поселковом кладбище и наткнулись на странное захоронение: десяток квадратных ящиков из неструганого дерева, внутри которых обнаружились кое‑как затолканные, пополам сложенные скелеты. Судя по всему, запихивали их наскоро, меньше всего заботясь о благообразности погребения. У одного череп был проломлен до основания, костлявые руки приложены к голове…
А в другой раз прокладывали коммуникации у госпиталя, неподалеку от Онуфриевского кладбища, и вдруг лопата ударилась о монашеский гроб. Прихлебывая чифир, Иван Андреевич восхищался работой старых мастеров, нахваливал добротность гробовых стенок, даже краска не пожухла, словно вчера на древесину нанесена. А покойник в одежде своей, крестами украшенной, волосы целые, все честь по чести…
— Нетленный! — воскликнула я.
— Еще бы, домовина‑то как сработана, ни капли воды туда не проникло.
Но разве в этом дело? Не узнанный миром подвижник лежал в соловецкой земле, даже имени не сохранилось, но Господь за праведную жизнь прославил его нетлением. Воистину святых на свете гораздо больше, чем мы предполагаем!..
Остров Анзер Иван Андреевич обследовал вдоль и поперек, причем в скитах, Троицком и Голгофском, частенько находил за стенными кирпичами пачки соловецких бонов. Эти «деньги» были напечатаны специально для лагерей особого назначения и представляли собой расчетные квитанции достоинством 3,20,50 копеек. Первый выпуск за подписью члена ОГПУ Г. Бокия, второй — Л. Когана, третий — Бермана. Кто-то копил на черный день, да не пригодились.
Воистину «не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут» (Мф. 6, 19).
***
Я шагнула из рыбацкой избушки в космическую черноту мира. Над Анзерами пульсировала большая красная звезда — Марс.
— Никуда не сворачивай, — напутствует меня Иван Андреевич, и вдруг мне кажется, что он, как отец, сейчас перекрестит меня на дорожку, — Лихого человека не бойся, нету у нас таких, повывелись. Пятнадцать километров, и выйдешь прямо на аэродром.
Храбро улыбаюсь и, низко поклонившись ему на прощание, ступаю под своды сухо шелестящего леса. В темноте не видно, какой вокруг ландшафт — все слилось в громаду, по обеим сторонам дороги стоящую, пахнущую ночной свежестью, прелой листвой и еще чем‑то настороженным. На гладком, без облачка, небосводе разметалось иссиня — черное кружево сосновых крон. Между ними разбросаны драгоценные камни разной величины, от кучных созвездий до мелкой бриллиантовой пыльцы, и все это слабо цедит на землю потусторонний свет. Бегу по зеркальным лужам — во все стороны летят брызги, перемешанные со звездами и осенней жижицей. Вдоль дороги мелькают отрешенные озера, в них сверкают отраженные небеса.
Пробую поминать усопших, но в ночном лесу это страшновато, и я начинаю молиться Богоматери Одигитрии, призываю Ее, Заступницу, да путеводит нас, грешных, по морю житейскому. О здравии раба Божия Валерия, о Людмиле с Илюшей, о матушке Серафиме, о такой неожиданной в моей жизни Татьяне — Устроительнице и сыне ее Димитрии, о всех, кто вспоминается в этой ночи, чьи лица почти явственно витают на воздухе. О дорогом Батюшке Схиигумене Илии, да помилует всех нас Господь его молитвами!..
И на всем протяжении пути меня не покидало чувство, что меня сопровождает кто‑то незримый, но внутренне очень близкий и явственный. Не знаю, кто это был, но некое присутствие ощущалось отчетливо. Нет, никаких балаганных эффектов не было — ни пугающих теней, ни мерцающих огоньков, — одно направленное в сердце тепло, будто кто‑то грел его своим нечеловечески прекрасным дыханием. Временами я осязала на лице легчайшие взмахи белоснежных крыл…
Мы привыкли искать объект для любви среди подобных нам существ, облеченных плотью и кровью. Это роковая ошибка, из которой произрастают все наши разочарования. Истина проще и гениальнее: существо, достойное любви, может жить на менее плотной, более лучезарной форме проявления бытия. Здесь, как нигде, необходима воля к вере, мужество любви, доверившейся восторгу тонких касаний. Я поверила и была не одна, поэтому четырехчасовой путь через тьму — тьмущую соловецкой чащобы вспоминается как величайший дар Господень…
И вдруг я остолбенела. Ноги, казалось, приросли к земле. Благослови, Пресвятая Дева, описать виденное убогими словами, которые имеются в моем распоряжении, единственно во славу Ново — мучеников Соловецких. Не сон ли, не сказка? Небо было рассечено вертикально устремленным ввысь светоносным Столпом. Он возрос за черной громадой леса, там, где остался Анзер.
Столп не очень яркий, по нашим меркам скорее тускловатый, смутная туманность, напоминающая Млечный Путь. Но странное дело, эта рассеянная дымчатая светлота была в тысячу раз ослепительней всех преисподних огней, реклам и иллюминаций мира сего — блудного Вавилона земного. Перед лицом этой нежно вздыхающей космической измороси все сотворенные источники свечения предстают маскарадной мишурой, оскорбительной подделкой под подлинность.
Строго говоря, это был не столько свет, сколько световая субстанция, имеющая источник сияния в себе самой. Каждый атом воздуха в небесах светился собственным, неотраженным светом. И настолько деликатным и кротким было это просветление, настолько не хотело никого смущать, что при первом же движении страха было готово исчезнуть, испариться. Не покидай меня, Матерь Света! Я боюсь вздохнуть. Я застыла, чтобы неосторожным всплеском души не вспугнуть не по заслугам дарованное…
Возвратившиеся из клинической смерти рассказывают о некоем светящемся Существе. Соловецкое чудо было той же природы, только не Существом, а Столпом. Поневоле поверишь, что этот молочно мерцающий сноп неяркого света тоже имеет власть встречать душу за гранью земного пути и вступать с ней в мысленную беседу, предлагая взглянуть на свою жизнь со стороны и самому оценить ее. Этот свет не сотворен человеком, значит, не живет и не умирает, он бессмертен! Он является нам, когда ему угодно, при жизни или за гробом, или не является совсем…
Тем временем светоносный Столп раздвинул звездное небо и вдруг на глазах растаял, как бы утянулся в черную щель. Мираж? Я долго стояла, задрав голову, ждала повторения знамения. По небу чиркали падающие звезды, изредка пролетали спутники, но чудесного света больше не появилось. Я перекрестилась и пошла дальше.
Через некоторое время, обернувшись, вижу: в полнеба стоят три вертикальных луча, перистым облакам подобные, и опять исходят со стороны острова Анзер. На сей раз они были похожи на взлохмаченные перышки какой‑то притаившейся в чащобе птицы о трех крылах.
Я стояла в луже, полной звезд, как лукошко ягодками, взглядывала то на горнее небо над головой, то на зеркальное под ногами и благословляла обе сферы, небесную и земную, именем Честнейшей Херувим, чей Покров распростерт над миром видимым и невидимым. И торопливо, пока свет не покинул меня, молилась ему, открывая желанья свои сокровенные, главное из которых да сбудется: не оставь нас, Матерь Одигитрия, путеводи сирот заблудших по волнам моря житейского, по безднам круч духовных! «Богородице, беспомощным помоще! Помози и ныне страждущим людем страны Российския, в заточении, в муках или в тяжких обстояниих сущым. Тебе молимся, молися Владычице со святыми Новомучениками и Исповедниками рода нашего, избавитися от бед мнозех рабом Твоим».
Чудо повторилось еще несколько раз, и каждый раз в новом светлом образе, а когда впереди завиднелось похожее на гнилушку зарево поселковых фонарей, звезды побледнели и съежились по крайней мере вполовину. Бриллиантовая пыльца впиталась в глубь бархатной черноты, остались редко разбросанные блеклые самоцветы. О перистых крылышках сполохов, как их здесь называют, больше не было речи, в прямолинейном электрическом зареве они невозможны.
Сполохи — преддверье сияния, которое царит севернее 120 километров, за Полярным кругом. Полярное сияние — это роскошное холодное свечение, дьявольская игра ума, ментальное наваждение, а мой свет был теплый, ненавязчивый, в любую минуту готовый исчезнуть. Он не искушал насильно навязанными чудесами, не насиловал, не завораживал, но кротко мерцал в утешение смертному, как свидетельство святости земли, над которой сие свершается.
***
Если знать правду про ГУЛаг и при этом оставаться атеистом, дальше жить невозможно. После таких не вмещающихся в сознание вещей рушится всякая надежда на разумное начало человеческой природы. Без Бога после такой чернухи остается только наложить на себя руки. Но я видела свет над Анзерами, видела сияние над Отечественной нашей Голгофой, куда вся Россия взошла на крест в лице «князей Церкви» — православных епископов. Поэтому я живу! «Ангели Божии радостнии призывают, да возрадуемся вси! Сии бо радующиеся о едином грешнице кающемся, ликовствуют о множестве новых святых, о Мученицех и Исповедницех Церкве Российския, блистающейся страданьми их».
VII. СЕКИРНАЯ ГОРА — ЛУБЯНКА СОЛОВКОВ
Секирную [31] гору я увижу в убранстве осени. Будет ветер и долгий путь через лес, окрашенный в невообразимые цвета, от нежно — лимонного до сочно — оранжевого, от светло — розового до зловеще — пурпурного. Будет хлестать холодный дождь и течь по лицу соленые капли.
Все двенадцать километров до Секирки вдоль дороги будет тянуться разноцветный мшистый коврик. Сидящие на нем толстые куропатки при нашем со Светланой приближении нехотя отбегают, лишний раз подняться в воздух им лень.
Форма леса здесь особенная: деревья худосочны, как испостившиеся иноки. Приподнявшись на цыпочки в молитвенном порыве, они тянутся вверх, словно хотят коснуться низких туч пламенеющими ветвями, чтобы и небеса запылали прощальным осенним огнем. Кряжистых, разлапистых сосен, как в Ребалде, здесь нет. То там, то здесь холодно блистают соединенные каналами озера. Идем, и меня не покидает ставшее привычным на Соловках ощущение, что тело в земном отсчете, а голова проламывается в какое‑то другое измерение. Мы со Светланой в пустынном лесу, но на уровне души окружены мириадами незримых существ, которые благословляют нас…
На восьмом километре дорога раздваивается. Слева, в самом конце устремленного ввысь лесного коридора, стартует в небо коренастая красавица с красно — коричневым, цвета клубничного варенья, куполом, без креста, с каким‑то непривычным сооружением на макушке. Впрочем, вскоре церковь исчезнет из виду, а дорога, вволю напетлявшись, на одном дыхании взбежит вверх.
У шлагбаума нас встретит дружелюбная собака без хвоста, с красноватыми веселыми глазками. Она привыкла к гостям и с удовольствием фотографируется с тургруппами. Круче, круче — и наконец вот он, штрафной изолятор с флюгером на макушке! Неподалеку в сарае копошится жена смотрителя, крест — накрест подвязанная теплым платком. Но светлых мужей с бичами не видно, никто не изгоняет ее, хотя первые насельники в иноческом чине на острове уже появились.
— Посмотреть? Ну посмотрите, — разрешила она.
Окна церкви застеклены, на них ржавые, по виду тюремные решетки. Прижимаюсь лицом к стеклу: внутри чистенько, стены облуплены, кажется, там слабые остатки фресок.
— Ходят, ягоды собирают, — долетают до нас жалобы смотрительницы. — Я им говорю: миленькие, что ж вы делаете, здесь ведь под каждым камешком кровь, на крови все взошло. Куда там, не слушают, обирают мертвых…
Когда‑то монахи для удобства спуска соорудили круто падающую по склону деревянную лестницу в 365 ступеней. Одним из развлечений палачей ГПУ стало толкать каторжника вниз, в качестве груза привязав к спине тяжелое бревно. Других заключенных заставляли подбирать внизу груду кровавых костей.
Секирная гора. С рисунка XIX в.
Каждый ярус Секирной церкви делился на три отделения с общими, одиночными и особыми камерами. После того как забранные решетками окна забили щитами, уделом узников стала кромешная тьма. Боковые алтари первого этажа превратились в карцеры, где избивали особо строптивых.
На втором этаже помещался «строгий» изолятор. Верхняя одежда у поступающих сюда отбиралась, люди спали на каменном полу в одном белье (в начале 30–х сжалились, настелили деревянные нары). На месте Престола стояла «параша». Позднее по этому принципу на месте Казанского собора в Москве будет построен нужник, на месте храма Христа Спасителя — плавательный бассейн. На первом этаже раз в день давали пшенный навар и полфунта хлеба, в «строгом» те же полфунта, а кружку воды лишь через сутки.
Для самых злостных нарушителей режима предназначался 3–й ярус — продуваемая северными ветрами чердачная камера под куполом, где зимой все получали воспаление легких. Над ней располагался маяк, смотрителем которого почти двадцать лет состоял заключенный А. И. Бэкман, в прошлом гардемарин.
На Секирной горе любили сажать «на жердочки». Суть наказания в том, что на узких бревнышках надо было неподвижно сидеть долгие часы, а то и сутки напролет. У лица роились насекомые, вонзали в тело тысячи жал, но стоило вздохнуть поглубже или слегка пошевелиться, как стоящий начеку охранник бил штрафника пудовым кулачищем. Через несколько часов организм бедного зэка превращался в сплошную рану от насекомых и побоев. Недаром весь уголовный мир Страны Советов дрожал перед словом «Секирка». В ленинградских «Крестах» уголовники спели М. Розанову знаменательную песенку:
Ах, сколько было там «чудес»! Об этом знает только темный лес. На пеньки нас становили, Раздевали, колотили, Мучили тогда нас в Соловках.Петр Якир, сын расстрелянного в 1937 г. командарма, автор воспоминаний «Детство в тюрьме», десятилетием позднее тоже слышал эти грустные куплеты.
Ни один этаж Секирной церкви не отапливался, и полуголые люди приноровились спать вповалку. Лежали грязные, полуголые, ноги одного сплетались с ногами другого, руки сливались в едином объятьи, будто здесь задремал многослойный спрут, рожденный мрачной фантазией ГУЛага. Вершина этой чудовищной пирамиды покрывалась всем имеющимся в наличии тряпьем. И ничего, спали, надышат внутри, и тепло. Именно здесь, в штабелях Секирки, закончил свой жизненный путь Утешительный поп отец Никодим…
В то время как некрещеный Владимир Шкловский жил в Кремле с епископами, иерей Никодим кочевал по глухим «командировкам». Дело в том, что он единственный из духовенства попал в концлагерь не за религиозные убеждения, а по служебной статье: совершение треб без справки от ЗАГСа. Кем только не бывал этот удивительный Батюшка: скотником, рыбаком, лесорубом. Он явно шел по указанному Господом пути. Если в Кремле случаев самоубийства почти не наблюдалось, то в лесу кончали с собой многие, и отцу Никодиму была дана власть безошибочно чувствовать потенциальных самоубийц. Подсядет, поговорит о том о сем, а потом и к делу: «Ты, сынок, Николе Угоднику помолись и Матери Божией «Утоли моя печали». Так и так, мол, скажи, скорбит раб Божий имярек, скорбит и тоскует. Прими на себя скорбь мою, Заступница, отгони от меня тоску, Никола Милостивый. Да почаще, почаще им о себе напоминай. У Святителя дела много, все к нему за помощью идут, может и позабыть. Человек он старый. А ты напомни!»
В минуту откровенности Батюшка говорил, что он по — прежнему священник и прихода его никто не лишал. «Вот он, приход мой, недостойного иерея. Его, Человеколюбца, приход, слепых, расслабленных, кровоточивых, прокаженных и бесноватых и всех, всех чуда Его жаждущих, о чуде молящих. Кто бродит? Они! Они! Все прокаженные, и все очищения просят».
За несколько месяцев до смерти философ Владимир Соловьев признавался друзьям, что предчувствует близость времен, когда христиане будут собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима. Он скончался в 1900 г. Вскоре предсказанные им времена наступили, но священники Промыслом Божиим совершали богослужения даже в тюрьмах и лагерях. Арестованный в очередной раз Владыка Афанасий (Сахаров) попал в Мариинские лагеря вместе с иеромонахом Иераксом (Бочаровым). У отца Иеракса была с собой «домовая церковь», как они называли кружевную занавесь с пришпиленными к ней бумажными иконками — воздушный иконостас. Скользя на железных колечках, завеса раздвигалась в обе стороны, открывая притаившийся внутри столик — алтарь. При аресте тряпичный иконостас был взяг как вещественное доказательство мракобесия, но потом про него забыли, и святыня путешествовала в чемоданчике вместе с личными вещами отца Иеракса. Батюшки спрятали иконостас в овощехранилище и по вечерам тайно справляли все положенные по уставу службы.
Вот и отец Никодим решился отслужить в ночном бараке Рождественскую литургию. Распахну ли дверь вохровцы, а он с двумя казаками Херувимскую поет, рукой помахивает: подождите, прерывать нельзя. «Всякое ныне житейское отложим попечение», — смежив очи, дабы не видеть осатаневшего конвоя, старательно выводили певцы. Втроем и пошли на Секирку.
Редко кто оттуда возвращался, но одному счастливцу повезло. Он‑то и поведал о судьбе Утешительного попа. Батюшке соорудили епитрахиль, крест, дароносицу, и он совершал все, что требовалось: шепотом служил молебны и панихиды, с неструганой деревянной ложки приобщал Святых Христовых Тайн. Пайка «чернушки» пресуществлялась в Тело Господне, а сок давленой клюквы в Кровь Его. «Вина где ж я достану? — разводил руками отец Никодим. — А клюковка, она тоже виноград стран полуночных, и тот же Виноградарь ее произрастил».
А как в штабеля залягут, любил рассказывать на сон грядущий священные сказки, как их называли заключенные. И вот на Пасху отслужил Светлую Заутреню, похристосовался со всеми. Собрались спать, и Батюшка до рассвета рассказывал «сказку» про то, как Мария пришла ко гробу Учителя своего и, не найдя Его Пречистого Тела, плакала у отваленного камня…
Наутро, схваченные морозцем, отлепились друг от друга, отряхнулись от инея, глянь, а Утешительный не встает. Лежит окоченевший, лишь улыбка на губах заледенела — придавили старика. Отец Никодим отошел ко Господу на втором этаже Секирной церкви, где когда‑то был престол Вознесения, под маяком, который и во тьме светит. «Скольких он у нас за зиму напутствовал, а сам без напутствия в дальний путь пошел, — вздохнул каторжанин — Впрочем, зачем оно ему? Он сам дорогу знает».
***
На обрыве смотровая площадка. С высоты орлиного полета перед нами расстилаются безбрежные леса с желтой проседью, серые озера, вдалеке свинцовое море. В двух километрах белеет трапезная церковь Савватьевского скита — отсюда, по сути дела, и начинается история Соловецкого монастыря. Именно здесь, облюбовав пустынный остров для молитв, поселились иноки Свв. Герман и Савватий.
Они принесли на остров первую икону Божьей Матери Одигитрия, в честь Которой отстроили каменный храм. Савватий жил здесь в молитвенном подвиге до конца жизни. Предчувствуя смерть, переплыл на материк для Причащения Тела и Крови Христовой и, вкусив Св. Таин, опочил о Господе.
В первые годы СЛОНа в Савватьеве помещалась лагерная «аристократия» — представители дружественных партий, с которыми большевики делали революцию. До 1923 г. они содержались в северных лагерях, преимущественно в Пертоминском. Их жизнь известна из воспоминаний эсерки Олицкой, которая после Соловков оказалась за рубежом.
Хотя скит был огорожен проволокой и охранялся дозорными вышками, его обитатели пользовались со стороны властей если не уважением, то по крайней мере снисхождением. Крупных ре волюционеров среди них не было, кроме двух: эсера А. Иваницкого, старшего и по возрасту, и по партийному стажу, с опытом царской каторги, и социал — демократа Богданова, тоже подпольщика царских времен. Остальным сколько‑нибудь значительным политическим деятелям Ленин предоставил возможность выехать за границу.
В 1923–1924 гг. в Савватьеве содержалось около пятисот представителей различных партий: социалистов — революционеров, правых и левых, социалистов — демократов, меньшевиков и анархистов, среди них немало супружеских пар. Это были молодые люди, редкие из которых могли похвастаться дореволюционным Партийным стажем.
Заключенные этого привилегированного лагеря держались гордо, с Кремлем, где каждый был сам за себя, не общались, в равной мере презирая как уголовников, так и «каэров». У политических все были за всех, продукты и деньги шли в общий котел. Принципиально настроенные против работы, они не боялись начальства, читали газеты, митинговали и защищали права человека, по каждому поводу устраивая голодовки. Кстати, кормили их лучше, чем других узников.
Молодые политзаключенные уважали только свои революционные традиции, все церковное отрицали, в Божьем храме проводили лекции и диспуты. Однажды на прогулке разыгрались, смастерили снежную гору, а вместо салазок приспособили обледенелые, хорошо скользящие иконы, пока старшие товарищи не усмотрели в этом неуважение к чужому религиозному культу.
Но им жилось не так легко, как кажется на первый взгляд: эсер Юзик Сандомир вскрыл себе вены, профработник металлист Михаил Егоров-Лызлев отравился, меньшевик Яков Аронович повесился. Анархистка Наталья Николаевна Андреева, осужденная по 58–й статье, вынуждена была стать женой отцеубийцы Д. Успенского, позже переехала с ним на Беломорканал, где родила сына, названного в честь Ягоды Генрихом.
Самым крупным событием в истории содержания политзаключенных на Соловках был расстрел безоружных в час прогулки. В декабре 1923 г. пришла инструкция: политические ограничивались в получении писем, им сокращалось время пребывания на свежем воздухе. Когда Савватьевским насельникам сообщили о нововведении, они возмутились, и 19 декабря продолжали гулять, несмотря на приказ вернуться в корпус.
По ним открыли стрельбу. Семь человек было убито наповал, трое тяжело ранены. Первую помощь им оказал социал — демократ врач В. Ельник. На следующий день начальником СЛОНа был назначен А. П. Ногтев. Он разрешил политзаключенным похоронить убитых товарищей. Мертвых предали земле с почестями, пели «Вы жертвою пали…». Могила расстрелянных была отмечена большим валуном с выбитыми на нем фамилиями убитых. Вот эти имена: Леонид Лебедев, анархист; Георгий Трифонович Кочаровский, социалист — революционер, 28 лет; Илизовенко, его жена, 25 лет; Гавриил Антонович Билинга — Пастернак, социалист — революционер, 27 лет; Всеволод Иванович Попов, социалист — революционер, 28 лет; Меер Моисеевич Горелик, 26 лет; Наталья Арнольдовна Бауэр — Цейтлина, социалистка-революционерка, 32 года. Впоследствии валун перевернули, потом разбили кувалдами, а куски побросали в озеро. Больше говорить об изменениях в режиме не рискнули, и все осталось по-прежнему.
Секирная лестница.
Сведения о расстреле в Савватьеве были переданы в Москву Борису Бобину. Корреспонденцию запаяли в алюминиевый чайник, который был увезен за границу заместителем Пешковой по Красному Кресту, за что Бобин был арестован.
В 1925 г. все политические были вывезены в Кемь, откуда в «столыпинах» разъехались по разным политизоляторам. Еще лет десять среднее звено «делателей на ниве народной» держали в ссылках в захолустных городах, неуклонно пополняя их досье. В конце тридцатых все были арестованы…
***
Мы со Светланой — Фотиной кладем по земному поклону в сторону Секиро — Вознесенского храма. Я достаю из сумки красную книжечку карманного формата с рельефным восьмиконечным крестом на обложке. Это «Служба Святым Царю — мученику Николаю и всем Новомучеником и Исповедником Российским». Для того, чтобы прочитать ее, мы и приехали осенью на Соловки. Служба подарена Оптинским иеромонахом, пожелавшим остаться неизвестным. Есть на свете чудесный Батюшка, который любит делать добрые деда, не открывая своего имени. Потрясенные люди не знают, кого благодарить, и не остается ничего иного, как благодарить Бога. Такой подарок обязывает, такой подарок — высокая честь, помоги Господь оправдать этот дар!..
Торжественный акт канонизации Новомучеников и Исповедников Российских, от безбожников убиенных, состоялся в Нью — Йорке в соборе иконы Знамения Божией Матери 31 апреля 1981 г. Значит, все, кто страдал здесь, — святые, все, кто погиб, — святые, и мы с Фотиной молимся им от лица всего нашего поколения. За всех, кто лишен возможности проникнуть на закрытый остров, за всех, чье сердце скорбит о безвинно убиенных, прими, о Боже, эти слова.
«Немощию плоти нам подобострастнии, духом в меру древлих отцев тщалися есте, о непреклоннии Священноисповедницы Российстии, иже в разоренную обитель Соловецкую и во иныя места заточения ссылаеми, умножающимся же страданием вашим, избыточествовавше тайно и утешение от Господа, имже ныне истии утешаетеся, в невечерний день достигши царствия Христова, в нем же не престайте, молим вас, молящеся о спасении душ наших…»
Читаем попеременно, чуть ли не вырывая друг у друга книжечку. Желание молиться Новомученикам сродни физическому голоду, слова этой службы как кусок насущного хлеба. Бесхвостая собака сидит рядом, не уходит, внимательно слушает. Умными глазками смотрит то на меня, то на Фотину, то на церковь, в сторону которой кладутся поклоны. «Услышите нас, в веси Гефсиманстей погребенныя, услышите нас и тии, ихже погребение неведомо. Услышите нас паки вкупе приятые во обители небесныя…»
Вниз спускаемся по печально знаменитой лестнице. Склон горы обрывистый, узкие ступеньки почти отвесно падают на землю. Многие прогнили, и мы перепрыгиваем провалы, держась за перила. Блестящая от дождя древесина усыпана жухлыми иглами и облетевшими березовыми листьями.
Спускаемся молча, мысленно поминая всех, разбившихся на этой лестнице. Вдруг я подскользнулась на мокром листочке и лечу вперед — к счастью, успеваю схватиться за выскользнувшее из руки перило. Больно! Каково же пересчитать все ступеньки, да еще с бревном за спиной? Это полет в вечность, когда душа, толчком исторгнутая из своего обиталища, внезапно взмыв над склоном горы, видит знакомое расплющенное тело, прыгающее по ступенькам, как кем‑то с высоты брошенная кукла…
С осени у подножия лестницы заготавливали скудельницы для трупов. К середине зимы они были переполнены, и мертвых укладывали вокруг, слегка присыпая снегом. Весной 1927 г. белогвардейский генерал Зайцев с анархистом Ломоносовым — Роланд собирали вокруг Секирки оттаявшие трупы, чтобы предать земле. Но покойников было много, поэтому копали неглубоко, единственно, чтобы не грязнить воздух. Оставишь непогребенными, в лесу застоится запах разложения, как летом в Кремле от братских могил. Соловецкая земля святая, она вся превратилась в Св. Мощи. На крови Новомучеников Российских растут деревья, всходит трава…
«Цвети Российского луга духовного в годину лютых гонений дивно процветшии Новомученицы и Исповедницы безчислении: святителие, царственнии страстотерпцы и пастырие, монаси и мирстии, мужие, жены же и дети, добрый плод в терпении Христу принесшие, молитеся Ему, яко Насадителю вашему, да избавит люди своя от безбожных и злых, да утверждается же Церковь Русская кровьми и страданиями вашими во спасение душ наших».
VIII. МАТЬ НЕ МОЖЕТ НЕ ПРОСТИТЬ
Наверное, не случайно местный ряд иконостаса Преображенского Собора был украшен редчайшей иконой Богоматерь Камень Горы Нерукосечной. «Аз видех гору от нея же отсечеся камень нерукосечный». Царь Навуходоносор не ведал, что узрел во сне Саму Царицу мира, от Которой — это время не за горами! — отсечется Нерукосечный Камень, Христос, чтобы распяться за мир земной на Голгофе Иерусалимской.
Она Светлейшая из светлых, и на подлокотниках трона изображены горящие светильники; Она Облаче Пресветлый, и живописец одевает Ее в легчайшие одежды. На груди рядом с Младенцем изображается гора. Божья Матерь в тонких пальцах держит лесенку, ибо Сама есть Лествица, землю и небо соединяющая. Тип иконографии очень редкий, известно лишь девять списков этой иконы. Мог ли беломорский архипелаг обойтись без нее, если здесь тоже была своя Нерукосечная Гора Голгофа?
Соловки прославились и другой иконой Богоматери — Явленной Сосновской, обретенной на сосне в пятнадцати верстах от Кремля. Благодаря удлиненному носу, резко очерченному рту и большим миндалевидным глазам, Лик невольно вызывал греческие аналогии, отсюда второе название иконы — Корсунская.
Удивительными путями приходят в мир богородичные иконы. По воздуху явилась в Кострому Феодоровская икона Божией Матери, перед Которой венчался на царство Михаил Феодорович Романов, причем люди видели, что нес Ее воин, похожий на Св. Феодора Стратилата. Незадолго до наступления страшных дней унии Божия Матерь послала в юго — западную Русь Свою чудотворную икону, именуемую Почаевская. Во время первой мировой войны отряд русских воинов удостоился видения Божией Матери в звездном небе близ города Августова, по имени которого икона получила название Августовской.
Нередко чудесные явления случались на деревьях и при деревьях. Один охотник, углубившись в лес, обнаружил лежащую на земле икону. Подняв Ее, он увидел, что на этом месте забил источник. Это была Богоматерь Знамение, празднуемая впоследствии под именем Курской — Коренной, явленной при древесном корне. Охотник поставил образ в дупло, и Пречистая тут же начала источать чудотворения всем прибегающим к Ней. Позднее икону взял князь Шемяка, но Матерь Божия не пожелала оставаться у него и перенеслась обратно, где была обретена. Крымские татары, напавшие тем временем на Русь, надвое рассекли Св. Образ. После их изгнания благочестивые христиане нашли икону разрубленной на куски и — о чудо! — приставленные друг к другу половинки намертво срослись, только на месте разлома выступила роса. Сегодня Курская — Коренная пустынь возвращена Русской Православной Церкви. В июне 1990 г. в результате археологических раскопок было обнаружено первоначальное место истечения Животворного источника, что является подтверждением Св. Предания.
В XVI веке близ Александрова исчезла икона Рождества Богородицы, чтобы троекратно явиться стоящей на воздухе в нескольких верстах на урочище, окруженном лесными дебрями. Со временем здесь возникла Лукианова пустынь. На дереве была обретена и Жировицкая икона Божией Матери.
Все это имеет особое значение для Русского Севера, ведь северные пределы нашего Отечества, а значит, и Поморья охраняются старинной иконой, по преданию, писанной Св. Евангелистом Лукой еще при земной жизни Богоматери. Воззрев на Свое изображение, Пресвятая Дева произнесла: «Благодать рождшагося из Мене и Моя буди с сею иконою». Впоследствии Св. Лука послал икону в Антиохию в дар Феофилу, к которому обращено его Евангелие. По смерти шь следнего икона переносится в Константинополь, где для Нее воздвигают Влахернский храм, и пребывает здесь более пятисот лет, а Изображенная на нем получает имя Одигитрии, что значит Путеводительница, Крепкая Помощница. За семьдесят лет до взятия турками второго Рима Она пожелала удалиться из греческой земли, дабы явиться в пределах Богоспасаемого Русского Отечества, сообщив ему тем самым честь и славу Царьграда.
Рыбаки, тянувшие невод на Ладожском озере, внезапно сделались озарены ниспадающим свыше светом. Они подняли головы и глазам своим не поверили: над водой плавно скользила икона Богородицы. Перейдя через озеро, Она сделалась невидима. После этого Св. Образ явился в ста двух верстах от Тихвина, где был помещен в часовне; однако скрылся и оттуда, чтобы обнаружить себя неподалеку неподвижно стоящим в воздухе.
На светло — золотом фоне иконы белел округлый овал такого невыразимо любящего Лица, что из глаз столпившихся внизу крестьян исторглись слезы. Очи Пречистой были широко раскрыты и не отрываясь смотрели на всех вместе и одновременно на каждого в отдельности, как бы проницая до последних глубин человеческой природы, а хрупкие руки бережно прижимали к груди Предвечное Дитя, Которое пришло в мир, чтобы умереть за этих людей. Толпа молилась, чтобы Крылатая Голубица даровала им Свою икону. Вняв мольбам, Пречистая опустилась на землю, где для Нее в одну ночь выстроили часовню. Однако и это место Матерь Божия покинула, явившись вслед за тем близ Тихвина, потом в местечке Кожела. И снова скрылась, чтобы обнаружить Себя на берегу р. Тихвинки, где народ взывал: «Приди к нам, Царице, приди к нам, Владычице, призри на ны, недостойныя рабы Твоя, ниспосли щедроты Твоего человеколюбия, посети нас свыше и просвети омраченныя грехами светозарным Твоим Пришествием».
Странствие «гонимой святыни» подошло к концу. Небесная Орлица мягко спорхнула в объятья с плачем облобызавших Ее христиан. Это случилось 26 июня 1383 г. В тот же день заложили сруб, чтобы возвести в честь Божественной Гостьи храм, но утром обнаружили, что и начатая постройка, и икона — все пропало. Бросились искать, взывая к Исчезнувшей, пока на противоположном берегу не обнаружили давешний сруб, кем‑то перенесенный через реку. Над восточной стеною, как солнце, сиял чудотворный образ Честнейшей Херувим…
В Новгород к архиепископу Алексию отправили гонца с чудесной вестью. Преосвященный хиротонисал пресвитеров и, снабдив их антиминсом, послал в Тихвин на освящение храма в честь Успения Божьей Матери. Путеводительница обрела покой, указав России путь, по которому ей идти. С тех пор у нас утверждается особый культ Одигитрии, особенно на севере, где прославилась Одигитрия Смоленская и Одигитрия Грузинская.
День Ее последнего седьмого явления Св. Церковь внесла в святцы как праздник Всечестной иконы, по месту явления названной Тихвинской. Деревянная церковь несколько раз горела, но икона всегда оставалась невредима, и люди неизменно обретали Ее в стороне от пепелища, то на дереве, то на можжевельнике, кротко улыбающуюся, испускающую свет. В Соловецком монастыре хранился изграфленный на тонкой доске список XVI века с этого древнего оригинала. Случайно ли Явленная соловецкая икона была обнаружена на сосне? Не Сама ли Держательница края освятила монастырские владения августейшим Своим посещением?..
Наш национальный позор, что подлинник иконы, стоящей у истоков Московского государства, передавшей России честь быть Третьим Римом, в настоящее время находится за пределами страны. Во время Великой Отечественной войны Тихвинская Богоматерь была вывезена в Псков, при отступлении немцев передвинулась дальше на запад и в итоге оказалась на другом материке. В настоящее время подлинник иконы Тихвинской Богоматери находится в Чикаго. А чудотворная Курская — Коренная пребывает в Вознесенском соборе Нью — Йорка. Правда, к открытию вновь возобновленной Курской — Коренной пустыни Русская Зарубежная Церковь подарила нам список святыни. Сосновская Богоматерь также вывезена с архипелага и, лишенная подобающего почитания, пылится где‑то в качестве музейного экспоната. «О коль мнози святии иконы ныне руками безбожных отъяты от верных, но не исторгнется образ благия Утешительницы из сердец молящихся»…
Иконы разграблены, но Матерь Божия верна Своей земле. Тихо ступает, незримая, по окровавленным тропам Голгофы, проливая горькие слезы и все‑таки благословляя нас. Ведь Мать не может не простить…
IX. ДА СГИНЕТ НЕЧИСТАЯ СИЛА ЗЕМНАЯ
На Соловках совершенно особая энергетика. Это зона белого электричества, которое испепеляет смертного в его несовершенстве. Здесь, на островах, особая экологическая ситуация, но и дух мученичества исключительный, ни с чем не сравнимый. Он тревожит живых, чего‑то требует, но люди не знают, что в таких случаях надлежит делать.
Словецкая икона «Богоматерь Камень Нерукосечной Горы».
Все очень просто: мученики хотят быть замоленными, отпетыми, они просят у нас поминовения. Поэтому вдоль всего северного побережья, от Петрозаводска до Магадана, а также в Сибири и Казахстане в ближайшие десятилетия вырастет много монастырей. В этих географических точках сконцентрирована великая скорбь человечества. Именно здесь должны совершаться неусыпные молитвы об упокоении, ежедневные проскомидии и панихиды. И, наконец, извека утвердившийся на Севере дух святости, рядом с ним тоже трудно жить, если душа нечиста…
Здесь, на Соловках, развитие монашествующих пойдет по — другому, чем где‑нибудь в монастыре средней России, ибо жизнь на Севере — непрестанный духовный рост. Если его нет — значит, смерть. Смерть духа. Чтобы достойно принимать такую энергию, ни на секунду нельзя снижать внутренней высоты. Поэтому на Севере можно жить только в молитве, а ныне, на исходе XX века, после всех страшных событий истории, в молитве за мучеников, число коих неисчислимо. В противном случае человек будет испытывать колоссальное давление Света, соответствовать которому он неспособен, и Свет сотрет его, как букашку.
Деревянная часовня на месте, где на сосне явилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая Сосновская. С рисунка XIX в.
Может быть, поэтому так мало желающих работать у Полярного круга? И вдвойне нужны сегодня крепкие воины Христовы, желающие участвовать в возрождении славы Северного Афона, да станет, как встарь, оплотом Земли Русской!
***
«В Соловках‑то у нас теперь совсем ночи не бывает. Окунется солнце в студеное окиян — море и сейчас же опять на небушко ползет. Птицы Божьей — чайки белой налетело видимо — невидимо. Благословенная пташка. Под застрехами у нас птенцов выводит, ручные, будто куры. А дебрь вся птичьими голосами осанну Творцу поет. Благодать. Прохлада. Покой. О жизни вечной колокола скитские повествуют. Березки — как невесты разумные, в ризы пресветлые облекаются. А в святую ночь Пасхальную ударит торжественный колокол у собора Преображенского «Христос воскресе» и ответят скитские колокола с Живоносного, Валдая — скита, Савватиева, островов Заяцких семь колокольцев: «Воистину». Выйдут старцы пустынные из келий земляных сокровенных и облобызают землю и возвестят благую весть и зверю, и птице, и деревам, и гадам ползучим. В ночь светлую сегодняшнюю на всех островах обитательских у всякой твари мир и ликование. Ни один зверь в эту ночь меньшого не обидит. Свято на островах обительских… И несется благовест торжественный обители Соловецкой через студеные моря, дремучие леса, болота топкие по всей земле Русской до самого Китежа — града. Услышат во Китеже благую весть и ответствуют всеми колокольцами своими: «Воистину». И бежит и расточается вся нечисть земная, хороводятся лешие в вертепы лесов Уренских, Керженских, поныряют русалки в омуты Кеми, реки жемчужной. И ложится запрет им смущать человеков, и нету силы им до самой Пятидесятницы»[32].
Да сбудется, Господи, слово вещее, слово каторжника соловецкого. Да сгинет нечистая сила земная, да сгинет из наших душ, назначенных к построению храма.
К концу своей долгой жизни Б. Ширяев задумался, для чего он писал свою книгу: в память ли тех, что живот положили за древнее благочестие, или во имя новых мучеников, заклавших за Русь Грядущую?
Пусть жизнь сама даст ответ.
Во славу Божию.
Июль — октябрь 1990 года
Примечания
1
В XIV в. Соловецкие острова принадлежали Марфе Борецкой, отсюда частые поездки Св. Зосимы в Новгород. Однажды он предрек гибель всему дому Посадницы. Вскоре вольный город пал, Соловки переходят во владение Московского Государя.
Духовная сила северной твердыни быстро распространяется по Отечеству, питая его. Соловецкими постриженниками были такие иерархи Российской церкви, как патриархи Иоасаф I и Никон, митрополиты Исидор Новгородский, Илларион Псковский, Игнатий Тобольский, Рафаил Астраханский, Иов Новгородский, архиепископы Маркелл Вологодский, Варсонофий Архангелогородский. Молитвами Св. Угодников Зосимы и Савватия источник благодатной жизни здесь никогда не прерывался, хотя в истории архипелага были страницы поистине трагические.
Про Соловки 1918—20 гг., когда во главе Верховного Управления Северной Области встал эсер Н. В. Чайковский, мало что известно, кроме того, что монастырь оставался монастырем и насчитывал около 300 монахов. В 1921 г., как во многих обителях, здесь образовалась сельскохозяйственная артель, но чекисты уже положили глаз на богатые беломорские острова. В 1922 г. ВЧК упраздняется, создается ГПУ. В этом же году сюда начинают перевозить заключенных из лагерей на материке, которые сегодня называются тюрьмами правительства Чайковского — на самом деле это предтечи СЛОНа. Поначалу в эти застенки попадали далекие от политики печерские, пинежские, мезенские мужики, потом туда стали свозить «золотопогонников» и «каэров» со всей страны. Лагеря «основного назначения» располагались частично в устье Северной Двины (остров Мудьюг), частично в Холмогорах и Пертоминске. Начальствовал над ними А. П. Ногтев (1892–1946), бывший матрос «Авроры».
Ученики Святителя Филиппа, соловецкие монахи Вассиан и Иона Пертоминские, утонули в море при выполнении послушания. Волны выбросили тела на берег Унской губы. Они оказались нетленными. Впоследствии это место прославилось изобильными чудесами, и вокруг стали селиться молитвенники и постники. Именно здесь, на месте явления непостыдных мощей Угодников Божиих, и возник один из первых советских концлагерей — Пертоминский, что, несомненно, содержит тайное обетование о грядущей славе всех страдавших в нем. Почему после революции в Господних обителях возникали места мучилищ, а позднее дома умалишенных — тема особая…
В Холмогорском лагере зверствовал Квицинский. Неподалеку от бараков стоял «белый дом» — заброшенная усадьба, где он лично расстреливал заключенных. И вот на Соловки отсюда везут заключенных, баржа за баржей, причем некоторые тонут в Белом море. Надзиратели перешли на Соловки, их стиль и методы обращения с людьми передавались последующим поколениям. Именно из северных лагерей вышли первые палачи СЛОНа — Квицинский, Михельсон, Ногтев, откровенно заявивший своим жертвам: «Вам давно пора понять, что мы победители, а вы — побежденные. Мы совсем не собираемся устраивать так, чтобы вам было хорошо, и нам нет делало вашего недовольства. По — моему, вам гораздо проще сразу повеситься». А. П. Ногтев (1923–1924) был первым начальником СЛОНа, его сменил латышский чекист Ф. И. Эйхманс (1925–1929). С весны 1929–го до конца года опять А. П. Ногтев. С конца 1929–го до весны 1930 г. — Зарин, с весны 1930–го до 1932 г. Д. Успенский.
В 1923 г. в Соловецком Кремле вспыхнул загадочный пожар, который бушевал трое суток. Под шумок из ризницы пропали многие ценности, а главное, сгорели документы, архив, книги описей. В случившемся обвинили монахов и выгнали из монастыря, оставив лишь необходимых работников, без которых власти не могли обойтись: артель рыбаков, штат рыбоконсервного завода, засольщиков капусты, скотников. Для отправления религиозных потребностей рабочим инокам передали кладбищенскую церковь св. Онуфрия, которая действовала до 1931 г.
Как сложилась судьба остальных Соловецких Отцов? На этот счет есть несколько версий. По одной настоятель со старшей братией был расстрелян в Кремле, а остальные отправлены в Сибирь, по другой все вывезены на материк, где и убиты. Проскальзывала догадка, что изгнанные монахи ушли на Валаам, который до 1940 г. оставался на территории Финляндии; утверждали, что во время отступления белых в 1919–м они уехали в Англию, где основались на Соловецком подворье, а также что настоятель умер своей смертью в ночь перед переселением на Большую землю. Все мемуаристы единодушны только в одном: часть монахов оставлена при концлагере в качестве специалистов.
Отец Михаил Польских, соловецкий узник с 1924 г., хорошо знавший местную обстановку, свидетельствует, что последний настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Вениамин жил в избе под Архангельском и, как все высланные на материк монахи, имел статус сосланного на Север. Ночью кто-то, скорее всего местные «революционеры», запалили избу, предварительно подперев дверь колом, и она сгорела дотла (Протоиерей Михаил Польских. Новые мученики Российские, т. 1, с. 211, —Изд. Свято — Троицкого монастыря, Джорданвилль. 1949). Это наиболее вероятный рассказ о судьбе последнего соловецкого настоятеля…
После пожара и изгнания монашествующих архипелаг передается в распоряжение ОГПУ. Начинается история Соловецкого лагеря особого назначения и его обитателей. В 1923 г. на территории Кремля размещено 5 тысяч заключенных, в том числе — женщины, более половины из которых составляли проститутки, незначительное количество — нэпманки, а остальные — «каэрки», т. е. осужденные по 58–й статье.
Первые годы на Соловках существовала и культурная жизнь. Действовал свой театр, где заключенные лицедействовали в костюмах, сшитых из освященных риз. С марта 1924 г. издавался журнал тиражом в 200 экземпляров, с подпиской на материке. В качестве приложения к нему выпускалась газета «Новые Соловки». Авторский и редакторский коллектив этих печатных изданий составляли каторжники. Соловецкая печатная продукция широко рекламировалась: надо было показать миру, как хорошо живется советским заключенным.
На месте монастырского хутора Горка основали биосад. Выращивание южных деревьев в северных условиях и тому подобные эксперименты поддерживали общий для СССР утопический курс «через четыре года здесь будет город — сад». Сюда относятся и археологические раскопки с целью изучения прошлого, и работа Соловецкого краеведческого общества с регулярными отчетами — исследованиями то об архитектуре, то о флоре и фауне, с упорным замалчиванием факта, что их авторы — «мотающие срок» каторжане. Все культурные мероприятия Соловецкого лагеря были направлены на подпитку этой иллюзии, а заключенные тем временем превозмогали полярную зиму полуодетыми. Арестовали во фраке — зимуй во фраке, взяли в шелковом платьице — ходи в платьице.
Лагерная пирамида выглядела так. В 1–3–ю роты помещались наиболее ценные специалисты, в 4–5–ю — музыканты, артисты, литераторы. В 6–й, сторожевой роте — духовенство, в 7–й — средний и низший персонал лазарета, банщики, парикмахеры. 8–я рота — уголовная, 9–я — полувельможная, для заключенных с правом занимать мелкие начальственные посты, 10–я — счетно — канцелярская. 11–я рота — с карцером, 12–я — подлежащая общим работам, 13–я — карантинная, 14–я — закрытая, откуда на работу водили только зимой, а летом держали под замком. 11–14–я роты — дно Соловков.
В середине двадцатых годов о лагере еще не молчали. Один из ведущих журналистов того времени жизнерадостно писал: «О СЛОНе — легенды. О нем — жуткие рассказы и веселые анекдоты. Кругом него — атмосфера глубокого почтения, хотя и не очень сильной любви. Вокруг него — зловещие упражнения белогвардейской прессы… Но остров остался. И лагерь на нем, и заключенные. Как же с ужасами? Есть они или нет?» Далее автор рекламирует соловецкий журнал, на страницах которого «живо и ярко описана до малейших мелочей жизнь тех, кого «Социалистический вестник» рисует замурованными в могилу мертвецами… Отчего не холодеют сердца людей, засланных Советской властью на далекий Север за суровые провинности? Потому что даже там им дана возможность, окунувшись в атмосферу трудовой жизни, понять, осмыслить свой по — настоящему человеческий путь и окрылить свое сознание верой в будущее» (Михаил Кольцов. «Правда», № 75 (3304) от 2 апреля 1926 г.). Бойкий публицист вряд ли подозревал, что через десяток с лишним лет сам попадет под жернова той же сатанинской машины, которая, высосав человека, перемалывает его в труху. Похожая участь постигнет солдата Октября Ногтева, его преемника Эйхманса, расстрелянного на Новой Земле, третьего соловецкого начальника Зарина, снятого за либерализм…
Если первые семь лет на Соловках еще прослеживалось отдаленное сходство со старыми царскими централами, то начиная с тридцатых годов атмосфера резко меняется. Театр просуществовал до 1927–го, в 1932 г. прекратилась издательская деятельность. Управление лагерями переносится на материк, укрупняется. Теперь оно называется Управление Соловецкими и Карело — Мурманским исправтрудлагерями, УСИК — МИТЛ, Соловки с 1932 г. — его IV Отделение. С 1934 г. архипелаг подчиняется Белбалтлагу, а при Ежове преобразуется в СТОН — Соловецкую тюрьму особого назначения, где осенью 1937 г. проходят массовые расстрелы.
Раньше СЛОН имел на материке только бывшие монастырские владения — Сумской Посад и Сороку (ныне Беломорск). Теперь каторжные тракты потянулись в сторону Ухты, Сыктывкара, к первым ГУЛАГовским «метастазам». Как ядовитые насекомые, расползаются лагеря по русскому Северу, переходят за Урал, заполняют Сибирь, Казахстан: смертельная опухоль на нежном теле Святой Руси. Осваивать новые «зоны» посылались первопроходцы — «политические» с 58–й статьей. При всей разнице убеждений, все они были интеллигентными, мыслящими людьми, как правило, обладали специальностью. А «социально близкие», уголовники, наспех сколоченные в трудовые коммуны, остаются на Соловках — отныне здесь третьеразрядный лагерь. На колокольню вместо креста водрузили звезду (снята в 1984 г.).
В 1939 г. ввиду обострения отношений с Финляндией Соловецкая тюрьма, как близкая к границе, перебрасывается на Новую Землю и в Норильск. Какие поселения были на Новой Земле, что там разрабатывали, как жили — неизвестно, оттуда никто не вернулся, а если вернулись, мемуаров не написали. Лишь Б. Ширяев вскользь замечает, что в начале 30–х годов специалисты посылались на изыскательские работы на материк и на Новую Землю, где была запроектирована база промышленного лова тюленей, моржей, трески. Трудно сказать, что вышло из этих проектов. Зато о Норильске свидетельств больше, чем может выдержать сердце…
В 1942–1945 гг. на Соловецкие острова перевели школу юнг ВМФ. Учебные классы размещались в Савватьевском скиту. По окончании войны некоторое время остров был ничейный, далее Соловки — закрытая зона. В 1974 г. на острове учрежден Историкоархеологический и природный музей — заповедник. Много лет экскурсоводы имели право рассказывать туристам только о монастыре; сегодня, напротив, признак хорошего тона говорить о концлагере. Некоторые кремлевские церкви после реставрации будут переданы Русской Православной Церкви. Сегодня срублены кельи для первых соловецких монахов. В октябре 1990 г. Священный Синод благословил открытие Соловецкого Зосимо-Савватьевского ставропигиального монастыря (Московский Церковный Вестник. № 23. — 1990. —С. 1–2).
(обратно)2
Розанов Михаил. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты — Домыслы— «Параши». Обзор воспоминаний соловчан в 2–х книгах: кн. 2, с. 11, —Изд. автора, 1979 г.
Розанов М. 1902 г. р. Бежал из СССР в Маньчжурию в 1928 г. Водворен обратно. В 1930 г. сослан на Соловки. Работал на «командировках», землекопом на тракте Лоухи — Кестельга, с 1932 г. в Ухтпечлаге. 6 войну попал в плен и очутился за границей.
(обратно)3
В лагере он быстро выдвинулся на мелкие начальственные посты, затем возглавлял культурно-воспитательную часть и некоторое время весь СЛОН. Успенский лично расстрелял многих на Соловках и на Беломорканале, где его прозвали «Соловецким Бонапартом».
(обратно)4
Розанов Михаил. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты — Домыслы — «Параши». Обзор воспоминаний соловчан в 2–х книгах: кн. 1, с. 263–267. — Изд. автора, 1979; Прот. Польских Михаил. Новые мученики Российские: т. 1, с. 257–261. —Свято — Троицкий монастырь, Джорданвилль, 1947.
(обратно)5
Соловки, — «Наше наследие», 1989, № 4, с. 50.
(обратно)6
Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг. — Новый мир, 1989, № 10, с. 89.
(обратно)7
Волков О. Век надежд и крушений. М., 1989, с. 62–63.
(обратно)8
Волков Олег. Век надежд и крушений. М., 1989. с. 73.
(обратно)9
Там же, с. 74.
(обратно)10
Прот. Михаил Польских. Новые мученики Российские, т. 2, с. 70. — Свято — Троицкий монастырь, Джорданвилль, 1957.
(обратно)11
Картотека заключенных Соловецкого историко — художественного музея.
(обратно)12
Там же, сведения получены от протоиерея О. Кравченко, Одесса.
(обратно)13
Со Святыми упокой. Религия и атеизм в СССР. Ежемесячник. Октябрь 1976, Мюнхен.
(обратно)14
Соловки и Валаам. Дневник студентов — паломников. М., 1901.
(обратно)15
Кемецкий В. Прекрасной незнакомке, — Соловецкие острова, 1930 г, № 4–5, с. 28.
(обратно)16
Русаков Георгий. Соловки. Венок сонетов, — Соловецкие острова, 1926, № 2–3.
(обратно)17
Мариенгоф Анатолий. Роман без вранья. Л., 1927, с. 82.
(обратно)18
«Послание Соловецких архиереев». ВРСХД, 1928, № 2, с. 18–19.
(обратно)19
Три главы из книги с сокращениями опубликованы в «Смене», 1990, № 3.
(обратно)20
Волков Олег. Век надежд и крушений. М., 1989, с. 63–64.
(обратно)21
Лозино — Лозинский Владимир Константинович (26.5.1884 —умер после 1937 г.) — бывший лицеист, протоиерей, настоятель университетской церкви в Санкт — Петербурге, затем в Ленинграде. На Соловках с июля 1925–го по 15.XI. 1928 г. Сослан в Сибирь (деревня Кузнецово Братского района). После ссылки жил в Галиче. Был настоятелем кафедрального собора в Новгороде. Писал стихи.
(обратно)22
Соловецкий патерик. М., 1895, с. 86.
(обратно)23
«Архангельские епархиальные ведомости», 1919, № 19–20.
(обратно)24
Владыка Павел (Павловский Петр Андреевич) — архиепископ Иркутский. В 1917 г. хирогонисован во епископа Пинежского, викария Архангельской губернии. 1920–1925 гг. провел в заключении, в 1933 г. возведен в сан архиепископа Иркутского. В 1937 г. арестован, сослан, дальше сведений нет, — Русские православные иерархи, исповедники и мученики. Фотоальбом. УМСА — Ргезз, 1986, с. 57.
(обратно)25
Блинов Н. Попы и интервенция на Севере. Архангельск, 1930, с. 13; «Революция и церковь», 1922, № 1–3. Отчет 5–го Отдела НКЮ, с. 70.
(обратно)26
Волков О. Век надежд и крушений. М., 1989, с. 63.
(обратно)27
Русаков Георгий. Соловки. Венок сонетов, — Соловецкие острова, 1926, № 2–3.
(обратно)28
Фотина (светлая — греч.) — аналог славянскому имени Светлана, которого нет в святцах, поэтому все Светы в церкви поминаются как Фотины или Фотинии. Мученица Фотина — та самая самарянка, с которой Господь беседовал у колодца. Позже она проповедовала Евангелие в Карфагене и Риме. Во времена Нерона приняла мученическую смерть, будучи вверженной в колодезь.
(обратно)29
Цит. по: Розанов Михаил. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты — Домыслы — «Параши». Обзор воспоминаний соловчан в 2–х книгах: кон. 1, с. 165, —Изд. автора, 1979.
(обратно)30
Известия, 13 марта 1931 г.
(обратно)31
Высокая и узкая, Секирка получила название от события то ли легендарного, то ли взаправду бывшего: предание утверждает, что ангелы «высекли» здесь жену крестьянина, поселившегося на острове вопреки желанию его первых насельников Св. Германа и Савватия. В часовне у подножия горы одна из фресок изображала женщину, съежившуюся под плетками обступивших ее небожителей. Чета в смущении удалилась, и больше никто не посягал на соловецкую землю даже в мыслях своих.
На вершине находился скит Усекновения Главы Иоанна Предтечи с двухэтажной церковью в два престола: верхним Вознесения, нижним Чуда Архангела Михаила. На маковке купола горел маяк, освещая путь мореходам. На сияющий огонек соловецкий равнялись не только корабли, но и тысячи боголюбивых душ, стекавшихся сюда со всех концов России. «И свет во тьме осветит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5).
В советское время акценты разумного сместились: в двухэтажном храме разместился штрафной изолятор. Лагпункты были обеспечены местными карцерами типа «крикушников», но Секирка являла собой общесоловецкий карательный институт. Сюда заключали за побег или подготовку к таковому, за самоувечье и антисоветскую агитацию, сюда попадали мужчины, согрешившие против седьмой заповеди, рецидивисты и симулянты. На Секирке гноили заживо. Всех приговоренных к высшей мере расстреливали именно здесь. Исполнителем был гроза заключенных И. А. Курилко, в царской армии унтер-офицер, в 1917 г. анархист, с 1918 г. состоящий на командных должностях в Красной Армии, сам позднее осужденный к смертной казни.
(обратно)32
Ширяев Борис. 1237 строк повести об октябрьской яри, палевой Руси, пауке на колесиках, соловецком иноке Авраамии, пламенеющих песках, Преображенском соборе, французском капорале, бронепоезде «Генерал Корнилов», Анзерской дебре, револьвере Кольта, ночах пьяных, колючей проволоке, голой обезьяне, Неопалимой Купине и многом другом, вошедшем в жизнь ротмистра Шахова на волчьих тропах в годы без зимы, лета и осени, — Соловецкие острова, 1926, № 4, с. 28.
(обратно)
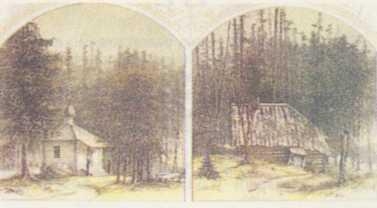

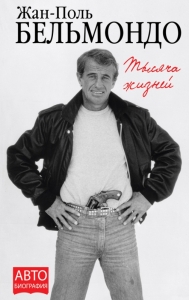
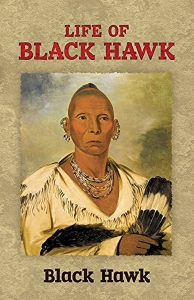
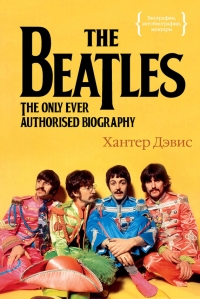

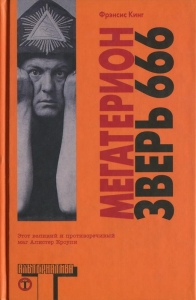
Комментарии к книге «Соловки. Документальная повесть о новомучениках», Анна Всеволодовна Ильинская
Всего 0 комментариев