Р. М. Фрумкина О нас – наискосок
От автора
Вы напишете о нас наискосок.
И. БродскийЯ родилась в 1931 году, а значит — мне пошел седьмой десяток. Возраст свой я стала чувствовать недавно, когда обнаружила, что большинство моих постоянных собеседников моложе меня на двадцать, тридцать, сорок лет. И вот в разговорах с ними я впервые поняла, что прожила жизнь столь же обыкновенную, сколь и необычайную.
Обыкновенную потому, что родилась в Москве, здесь же пошла в школу и в университет, решила заниматься наукой, это у меня получилось, и вот я до сих пор ею и занимаюсь. Даже работаю я в том же институте, куда пришла почти сорок лет назад.
Но вместе с тем это была жизнь фантастическая, невероятная — и безусловно счастливая. Я помню спасение челюскинцев и начало Отечественной войны, у меня был «мой» Пушкин, «мой» МХАТ и «моя» Ленинка. Я близко знала брата великого актера Михоэлса и училась в школе вместе с дочерьми его убийц. Я уцелела чудом по крайней мере четырежды: в 1937, в 1941 и в 1951-м — подобно многим моим современникам — и в 1966-м — уже в силу личных обстоятельств.
Мне посчастливилось учиться у крупнейших лингвистов и математиков, участвовать в становлении математической лингвистики, опровергнуть свои же собственные результаты и написать книги, которые в Ленинской библиотеке держали на открытом доступе, но в специальном шкафу, чтобы их не уворовывали читатели. «Так напишите же об этом!» — сказали мои молодые друзья. И я последовала их совету.
Сюжетообразующим стержнем моей жизни были и остались занятия наукой, и потому я рассказываю о конкретных своих работах, по возможности не вдаваясь в детали.
Читателя может озадачить то, как названы действующие лица моего повествования: имена одних даны полностью, другие скрыты под инициалами, а третьи и вовсе зашифрованы. Это сделано намеренно: к счастью, многие мои герои живы, и это обязывает меня уважать их право быть сугубо частными лицами.
Ноябрь 1995 г.
Часть 1. Зерно и жернова.
Мои родители
Мои родители встретились примерно в 1920 году в Ростове и переехали в Москву не позднее 1923 года. К моменту моего рождения, т. е. к 1931 году, они были обычными, хоть и не коренными, москвичами. Москва успела стать для них городом, с которым уже были связаны воспоминания, где было много знакомых, работа и вполне налаженный быт. Единственный город, который когда-либо возникал в домашних разговорах как особо примечательный, — это Варшава. Там мой отец провел несколько лет перед первой мировой войной. Но об этом я скажу несколько позже.
Мама родилась в 1897 году в маленьком городке Сураж Черниговской губернии, папа — в Екатеринославе, ныне Днепропетровске, в 1890-м. Своих дедушек и бабушек я никогда не видела. Собственно, до 1942 года был еще жив мой дед по материнской линии — он умер где-то в эвакуации. Но после моего рождения наша семья в Сураж не ездила, так что я его так никогда и не видела. Школьницей я очень завидовала тем, у кого дедушка и бабушка были. Наверное, оттого, что после начала Отечественной войны, т. е. с десяти лет, я росла безнадзорным ребенком. Правильнее было бы сказать, что меня вообще перестали считать ребенком. А мне так хотелось, чтобы меня кто-то баловал.
Семьи, где выросли мама и папа, были обычными бедными еврейскими семьями: четверо детей — в семье мамы, одиннадцать — в семье папы. Мама кончила гимназию в уездном городе Унечи, перебиваясь уроками. Папа сдал на аттестат зрелости экстерном. Далее, до момента их встречи, жизнь моих родителей сложилась совершенно по-разному. Это, как я теперь понимаю, были формирующие годы, и именно то, где и как эти годы прошли, добавило различий к их уже и без того разным характерам.
После еврейских погромов 1905 года большая часть папиной семьи эмигрировала: кто-то уехал в Америку, а любимый папин старший брат Вова — в Варшаву. Там Вова имел свое небольшое дело — продавал ткани и, кажется, меха. Он выписал к себе папу, и вплоть до оккупации немцами Польши в 1914 году отец жил в Варшаве. В России папа регулярно бывал по делам Вовиной фирмы и объездил немалую ее часть, включая Зауралье, — где на поездах, а где и в ямщицких санях.
Папа был скорее европейцем, чем сугубо русским. В Варшаве он выучил английский и французский в пределах, необходимых для коммерческой переписки. Разумеется, он свободно говорил по-польски. Его русский был безупречен. Когда они с мамой встретились, она уже училась: вначале на естественном факультете, потом — на медицинском. Чтобы мама могла учиться, папа должен был работать. Варшава была — и осталась — его университетами.
Трудно представить себе более несхожих людей, чем мои родители. Мама, кончившая два факультета, психологически так и осталась человеком из очень бедной еврейской семьи.
Папа, напротив того, был типичным русским интеллигентом, который относился к деньгам как к чему-то, что обеспечивало необходимый уровень комфорта, и не более того. Одновременно он был человеком европейских привычек. Я хорошо помню один из его советов, полученный мною лет в четырнадцать: «Если ты приедешь в незнакомый город и захочешь пообедать, то найди лучший ресторан и закажи себе омлет». Другой совет состоял в том, что по возможности не следовало пользоваться наличными деньгами. За квартиру он всегда платил с помощью «жиро-приказа»: деньги перечислялись со сберкнижки. Для этого в один из выходных (тогда была «шестидневка» и выходными днями были 6, 12, 18, 24 и 30-е каждого месяца) он шел на Телеграф — т. е. в то здание, которое сейчас называют Центральным телеграфом. До войны он обычно брал меня с собой, и пока за окошечком с золотой надписью и подоконником из абсидно-черного стекла совершались какие-то неведомые мне действа, я пребывала в столь характерном для ребенка состоянии завороженной скуки.
Мама в этих финансовых «тонкостях» так и не научилась разбираться, хотя на работе распоряжалась — и очень умело — огромными суммами, занимаясь постройкой и оборудованием очередного медицинского учреждения, чему она в основном и посвятила свою жизнь.
В разные времена наша семья жила по-разному — очень скромно, бедно, достаточно свободно. Не будучи расточителен, папа не испытывал нерешительности даже при крупных затратах. У него были ясные представления о необходимом и лишнем. Весь мир пользовался холодильниками — и потому первый советский холодильник «Газоаппарат» был немедленно куплен. У меня до сих пор сохранился папин саквояж из настоящей кожи — до войны он часто ездил с ним в Ленинград в командировки. Саквояж пережил все, включая эвакуацию вначале под Горький, потом — на Урал, а затем возвращение отца в темную и голодную Москву 1942 года. Я думаю, он переживет и меня. То, что даже самые простые вещи долговечнее людей, мы узнаем очень поздно.
Мама тратить деньги не умела. При этом она вовсе не была скупа, и более того — деньги как таковые ее не слишком интересовали. Вообще у мамы всегда была идея какой-то лучшей жизни, чем та, которая ей была реально доступна. Отчасти эта «настоящая» жизнь была связана с чисто внешними, материальными атрибутами. Но в чем они должны были состоять — сама она едва ли знала. Тем людям, кто, по ее мнению, «умел жить», она завидовала — именно их уверенности, а не чинам или достатку.
Единственным несомненным атрибутом «настоящей» жизни для мамы была безупречная чистота и порядок. Все это достигалось дорогой ценой. Во-первых, потому что мама много и тяжело работала — уходя не позже половины девятого, она возвращалась не ранее семи, а потом еще весь вечер ей звонили по делам. Во-вторых, как и все обычные москвичи, мы жили в коммунальной квартире. У нас были две хорошие комнаты на Тверской, но восьмиметровую кухню без окна мы делили еще с двумя семьями. Конечно, у нас не было горячей воды, хотя и была ванная комната с неработающей газовой колонкой. В свое время была и буржуйка, и жизнь в подвальном общежитии в эвакуации. Это ничего по существу не меняло.
Стирка и уборка в этих условиях требовали героических усилий. Мама была на них готова, но неотменимость этих усилий предполагала смирение. Вот это качество в мамином характере начисто отсутствовало. Я не припомню, чтобы она хоть по какому-либо поводу произнесла фразу типа «Ничего не поделаешь» или же «В конце концов, можно обойтись и без этого». Еще на восьмом десятке мама продолжала работать и, проклиная советские прачечные и советскую власть, которая «даже это сделать не может», вечерами гладила наволочки заново. Наволочки были с кружевными прошвами, сплетенными за сорок лет до того монашками в Страстном монастыре.
Впрочем, из-за роковой неотменимости хозяйственных усилий доставалось не только советской власти, но и нам с папой. Папа был очень аккуратен, но это его не спасало. Я же была неряха и растрепа — не более, впрочем, чем всякая девочка, с шести лет погруженная в книги и лет до четырнадцати вообще не посмотревшая на себя в зеркало.
До войны у меня была няня Матрена Николаевна. (Подробно о ней я еще расскажу.) Свои обязанности она очертила следующим образом: «Я няня к ребенку». Это означало, что всем прочим должна была заниматься мама. Надо сказать, что мама прекрасно готовила и замечательно пекла. Она виртуозно ставила заплаты на батистовое белье и простыни голландского (а как же иначе?) полотна. Уже после войны, в самые тяжелые годы, она тратила на это целые вечера, проклиная белый свет, государство, где нельзя купить пододеяльник, нас — таких безруких, и себя, обреченную на вычерпывание бочки Данаид (впрочем, к цитатам из древних в нашей семье мог прибегать только папа).
Вот тогда я про себя поклялась, что никогда — никогда и ни за что! — не буду чинить постельное белье. Надо сказать, что в результате я вообще не овладела искусством ставить заплаты, о чем как-то вчуже, холодно пожалела в памятном 1990 году.
Итак, будучи хорошей хозяйкой, мама это самое хозяйство откровенно ненавидела. Она была преданной женой и матерью — но вместе с тем, мы с папой ей мешали. Мы мешали ей работать. Ведь помимо того, что нас нужно было кормить, за нами еще нужно было ухаживать. Я болела непрерывно всеми детскими и недетскими хворями. Папа был тяжелым сердечником. Смолоду белобилетник, в гражданскую он перенес еще и сыпной тиф и едва не погиб от перитонита, хотя оперировал его мамин профессор по кафедре хирургии — кажется, это был сам Юдин.
Добавлю, что первый ребенок моих родителей — девочка, умершая еще до моего рождения, — был так называемым «синим ребенком», т. е. страдал тяжелейшим пороком сердца. Мама умудрилась в 1927 году — не знаю уж, на какие гроши, — выехать с ней в Берлин, чтобы показать знаменитому профессору Черни, в клинике которого, если мне не изменяет память, делались попытки операций на сердце. Профессор нашел случай безнадежным. Не дожив до четырех лет, девочка погибла от первой же инфекции, хотя это был всего лишь коклюш.
Итак, мы мешали маме работать. А работу она любила страстно. Собственно, так она любила именно работу, и ничего больше. В этом смысле она была человеком своей эпохи — эпохи строительства. Строительства чего? — спросите вы. Я думаю, что эти отвлеченности ее не занимали. Мама была врач, и как я убедилась, когда повзрослела, врач одаренный. Но она любила именно строить. Еще до войны она построила в Москве образцовый роддом, образцовую районную эпидемиологическую станцию, оборудовала лучшую по тем временам диагностическую лабораторию. Она же полностью обустроила известную поликлинику имени Дзержинского, которая долго называлась поликлиникой Наркомтяжпрома. Там недавно стояла — а может быть, еще и сейчас стоит — знаменитая мебель по эскизам Баухауза, заказанная мамой по личному решению Орджоникидзе в Германии в середине 30-х годов.
После войны она оборудовала один из лучших корпусов Боткинской больницы, еще какую-то районную эпидемиологическую станцию, а потом и огромный комплекс центральной городской. И все ей было мало. Так она доработала до восьмидесяти лет. Строители и тогдашнее руководство города отметили ее юбилей — а через пять недель она сгорела от острого лейкоза. Когда ее хоронили, то к изголовью гроба подошел кто-то из прорабов, поклонился в пояс и сказал: «Мы достроим тебе четвертый корпус, Нина Борисовна».
Мама была человеком железного здоровья и огромного жизненного напора. Если папа никогда не повышал голос, то о маме следовало бы сказать, что в редких случаях она его понижала. Это не всегда было признаком недовольства — нередко это было не более чем проявление энергичной настойчивости. Как только мама приходила с работы, телефон начинал звонить. Это продолжалось по меньшей мере до одиннадцати. Значительная часть звонков никак не относилась к прямым маминым служебным обязанностям (правда, я никогда не знала, чем они ограничивались). Звонили потому, что неясен был диагноз; потому, что хотели показать больного какому-нибудь авторитетному консультанту; потому что не знали, как или куда больного лучше положить; потому что «скорая» не ехала. Звонили врачи, знакомые по работе, знакомые знакомых и совершенно чужие люди, которым кто-то из коллег или друзей посоветовал «позвонить Нине Борисовне».
Я уже упоминала выше, что мама не любила лечить. Когда болела я или папа, она вообще терялась. Тем не менее мама была сильным и, я думаю, даже незаурядным диагностом. Сейчас меня удивляет, как она обходилась без справочников (у нас дома была Большая медицинская энциклопедия, но ее читателем была вовсе не мама, а я, о чем — в свое время).
Будучи студенткой — т. е. в разгар гражданской войны и разрухи, — мама успела побывать на эпидемиях дифтерита и холеры, а также работать «на сифилисе» в санитарном поезде. Во время Отечественной войны, в эвакуации, мама занималась всем, кроме хирургии и акушерства, и, видимо, успешно. Об этом я, однако, знаю мало. Мои собственные впечатления о ее врачебной и прочей деятельности относятся к периоду после 1943 года.
Мамины разговоры с родственниками больного часто заканчивались коротким словом «везите!». Это был вердикт, не подлежащий пересмотру: шансов справиться с ситуацией дома он не оставлял. (Когда мамы уже не было в живых, я вдруг поняла, что в сходных ситуациях произношу это слово, в точности повторяя мамины интонации.) Теперь я понимаю, что мама обладала специфической памятью эксперта, способного мгновенно перебрать все когда-либо виденные им казусы и выбрать наиболее вероятный вариант.
Главным маминым орудием была истрепанная записная книжка. Заглянув туда, можно было подумать, что все лучшие московские врачи в тот или иной период были мамиными однокашниками или сослуживцами. Даже если бы мама была чистокровной русской, «дело врачей» никак не могло бы нас миновать.
На «Скорую» (из дому!) мама звонила примерно так:
«Подстанция? Соедините меня с центральной. Что значит — зачем? Это Локшина говорит. Центральная? Соедините меня с Шапиро! Что значит — не можете? Это Локшина из Боткинской. Да, жду. Леня? Леня, это Нина Борисовна. Да, Нина. Слушай, мне нужен наряд…» Шапиро был известный всей Москве начальник городской службы «Скорой помощи».
О московских больницах у мамы были свои представления. Когда человек по должности имел право на спецбольницу, а случай был серьезный, она говорила: «Ну да. Полы паркетные, врачи анкетные». Или (в мой адрес): «У Преображенского можешь где угодно полежать». Преображенский был крупнейший хирург-отоларинголог. В его отделении койки стояли впритык, чтобы поместить 12—15 человек в палату, рассчитанную на шестерых.
Вообще мы были медицинской семьей, хотя папа никогда не имел отношения к медицине (много лет он занимал довольно солидный пост в Министерстве химии). Дом был наводнен маминой работой: она как бы и не прерывалась. В короткие передышки между вечерними звонками мама пыталась поесть и с куском за щекой рассказывала папе, кто чем болен, что следовало бы сделать, и — какой ужас! — в Москве обнаружен случай сифилиса.
Из сказанного можно заключить, что у мамы было много друзей и что вообще она была общительным человеком. Это, однако, далеко от истины. Друзей — в том смысле, как я привыкла понимать это слово, — у мамы просто не было. У нее были товарищи по работе и знакомые по работе, с которыми вне работы она не виделась, даже когда построила ведомственный дом для себя и своих сотрудников. Было еще огромное множество людей, которым она спасла здоровье и даже жизнь, помогла с жильем, доставала лекарства, путевки, справки, посылала их детей в лесные школы и санатории. После смерти мамы я обнаружила в ящиках письменного стола сотни поздравительных открыток, об отправителях которых я по большей части никогда не слышала.
Были люди, которым она помогла сохранить семьи, которых просто вытащила из положений совершенно немыслимых. Среди них было немало знаменитостей, что сыграло определенную роль уже в моей жизни. Не так давно я наткнулась на книжечку Юрия Нагибина с надписью «Дорогой… от пока еще здорового писателя». А я и не знала, что мама была с ним знакома. На обложке есть его фотография — Нагибин там совсем молодой и худощавый. Теперь и он ушел…
Несмотря на мамину энергию и напористость, подлинным главой нашей семьи был папа. У отца был жизненный опыт, который он умел использовать, чтобы принять на себя всю тяжесть в критических ситуациях. Когда я родилась, ему был сорок один год. У него был ровный и располагающий к себе характер, негромкий голос и плохое здоровье. К счастью, он не был мнителен. Я помню его уже седым, с сильно поредевшими волосами. На фотографии «варшавского» периода у него замечательная шевелюра, усы щеточкой и даже угадывается румянец. Сам он это фото не любил и называл его «парикмахерским».
Папа был общительным и приветливым человеком. К нему ходили жаловаться и советоваться менее образованные или менее опытные люди, особенно женщины — соседки по даче или дому на Тверской, молоденькие сотрудницы из его отдела. Когда отца хоронили, ко мне подходили одна за другой заплаканные женщины, представляясь: «Неля», «Аня», «Инна». В отличие от мамы, у отца были друзья, но у нас дома они не бывали, и я, в сущности, их не знала. Маму вообще раздражали чужие люди в доме. Мне это доставило много тяжелых минут, чтобы не сказать большего. Правда, сейчас я понимаю, что на это были причины. При том, как тяжело мама работала, она до шестидесяти лет жила в коммунальной квартире. Я мало бывала на кухне, хотя у меня были свои обязанности по хозяйству. Но мама была вынуждена видеть чужих людей постоянно. «Своей» комнаты, куда можно закрыть дверь, у нее не было никогда. (Одну из наших двух смежных комнат родители решились сделать «моей», когда мне исполнился двадцать один год.) Не менее важно и то, что мама не принадлежала себе и дома. Сколько я себя помню, ей даже не приходило в голову сказать, чтобы ее вообще не звали к телефону. По-видимому, она постоянно мечтала побыть одна.
С другой стороны, любой пришедший в дом человек — даже случайный — был гостем. Гостей же, по маминым понятиям, надо было угощать. Это означало как минимум пирог, а вовсе не ванильные сухари, хотя мы жили напротив булочной Филиппова, и уж никак не «готовый» торт, хотя Столешников с его знаменитым кондитерским магазином был просто через дорогу.
Папа считал, что праздник — это настроение и, скажем, цветы и бутылка хорошего вина, а вовсе не замученные беготней на кухню хозяева. В этом он был типичным европейцем. Мама этого принять так и не смогла: стол должен был ломиться, а иначе это был бы не праздник, а позор. Соответствующие замечания она продолжала мне делать, когда я была уже двадцать лет как замужем.
Мама была на «ты» с людьми самых разных чинов и званий — от крупных хозяйственников и профессоров до «своего» маляра Миши и часто возившего ее шофера Виктора. Миша и Виктор были моложе мамы на поколение, и их «ты» в комбинации с именем и отчеством было знаком почтительной симпатии. Миша прошел с мамой несколько крупных строек и ценил то, что благодаря маминым связям из «фондов» (т. е. по особым распоряжениям) для работы отпускались действительно хорошие материалы.
Виктор был улыбчивый русский одессит и долго ездил с мамой на трофейном «джипе» с красным крестом. В нем было что-то от ординарца, опекающего генерала. Мало того, что он всегда норовил успеть отвезти маму после работы домой на Тверскую — он полагал, что по дороге надо хоть еды купить. С этой целью он, не обращая внимания на дорожные знаки, останавливался, где считал нужным, и говорил выжидающе: «Ну? А штекл брет?» (Хлеба?)
Отца в подобной ситуации я не могу себе представить. Церемонным он не был, но, как говорили в старину, был человеком учтивым. В разные времена вокруг нас бывали люди, которых, независимо от возраста, все звали по имени или, по русскому обычаю, только по отчеству. Если бы не отец, я бы не знала, что молочницу Маню, которая много лет носила нам молоко на дачу, звали Мария Петровна, а соседку по лестничной площадке — Матрена Захаровна.
Мне было пятнадцать лет, когда мы начали постоянно бывать с отцом в Консерватории. Следующие шесть-семь лет мы бывали там не реже раза в неделю. У папы было больное сердце, и ему нельзя было торопиться. Когда мы входили в еще полупустой вестибюль Большого зала, из-за барьера навстречу нам выходил гардеробщик и снимал с папы пальто. Я не видела в этом ничего необычного. Как сказали бы сейчас, это «вписывалось в образ». Впрочем, пока наши близкие с нами, есть только они сами — «образы» мы создаем им вслед. Папа был человеком, воспитанным в «прежних» привычках.
В 1942 году его отозвали из эвакуации в Москву, где он откровенно голодал, несмотря на относительно привилегированный паек. Из Перми, где мы с мамой прожили до весны 1943-го, мама регулярно посылала папе буханку ржаного хлеба с очередным командировочным того же министерства. Однажды посылка не дошла. Много позже выяснилось, что человек, который вез хлеб, не выдержал и съел его. Я помню, что папа этого человека очень жалел, как унизившего себя. Мама жалела папу и хлеб.
Папа не мог представить, что кто-либо на работе может позволить себе повысить на него голос. По-видимому, хамство еще не стало всеобщим, потому что до 1956 года таких проблем не возникало. Отец очень тогда горевал по поводу внезапной смерти своего начальника — человека совсем молодого и необычайно образованного. Вместо него пришел некто Петухов — тупой чиновник с солдафонскими замашками. После первого же разговора с новым начальством у папы был тяжелый сердечный приступ, а через месяц он ушел на пенсию.
Как и большинство людей его поколения, о такой перспективе отец прежде не думал. Положение человека «не у дел» тяготило его еще долго. Первое время мы еще продолжали часто бывать в Консерватории. Я уже была замужем и жила отдельно, так что время от времени мы созванивались, чтобы, как и в мои школьные годы, просто вместе погулять, — обычно по Тверской и по Страстному бульвару.
Уже после смерти отца я часто думала о том, что благодаря ему я получила довольно своеобразное воспитание. Несмотря на то, что до десяти лет у меня была няня, колыбельную мне пел папа. Это были песня Леля из «Снегурочки»: «Туча со громом сговаривалась…» или пушкинское «Буря мглою небо кроет». Именно папа целовал меня на ночь. Позже он беседовал с моими учительницами музыки, ходил в школу на родительские собрания, встречался с классным руководителем. Мама побывала в моей школе в первый и последний раз, когда мне вручали золотую медаль.
Папа читал мне вслух сказки Гауфа и рассказы Сетона-Томпсона, пока я не научилась читать сама. Когда мне было лет шесть, он принес из библиотеки мои первые «взрослые» книги — это были «Принц и нищий» и «Оливер Твист». Заглядывая в свое детство, я понимаю, что папа, скорее всего, хотел сына, а получив девочку, воспитывал ее как мальчика — в возможных для себя пределах. Так, в эти пределы не входил спорт, поскольку самому папе он был недоступен. Зато как-то неявно предполагалось, что важно быть самостоятельной и уметь путешествовать, что врать — позорно, что достойный человек всегда держит свое слово, что на письма отвечают незамедлительно, а на рабочем столе должен быть абсолютный порядок
Конечно, никаких таких слов папа не произносил. Но если в семь лет я помню его играющим в мои детские игры, то, начиная с двенадцати, я, безусловно, считалась достаточно взрослой, чтобы быть ему товарищем. В связи с чем он, например, очень рано перестал меня спрашивать, куда я иду. Я должна была лишь сказать, в котором часу я вернусь.
Было, однако, ясно, что тем самым я нечто ему обещала, а не сдержать обещание было бы просто скверно и недостойно нас обоих.
В тональности равенства строились и папины рассказы.
Особенно интересны были повествования о жизни в Варшаве и о его путешествиях по России в так называемое «мирное» время — т. е. до первой мировой войны. Эти рассказы были живописны и часто очень забавны. Память у папы была прекрасная, и он не повторялся. Вот одна из моих любимых историй. Году в 1913-м отец на некоторое время приехал из Варшавы в Москву и отправился в трактир пообедать. Судя по фотографии, он был тогда худощавым молодым человеком. Посмотрев меню, отец заказал привычное для себя блюдо «шницель по-венски». Половой, принимавший заказ, выслушал, а потом наклонился к отцу и очень тихо сказал «Барин, вам не съесть. Закажите полпорции».
Выражаясь современным слогом, я бы сказала, что отец был человеком, чуждым всякой мифологии. В его рассказах не было ностальгии по «лучшим» временам. По душевному складу он был человеком мягким, но очень стойким в своих главных убеждениях. Собственно, поэтому он и был главой нашей семьи.
В июле 1941 года началась эвакуация крупных московских учреждений на восток. Мама сказала, что она останется в Москве, а мы с няней и папой пусть едем в Иваново, с Наркоматом текстильной промышленности, где отец тогда работал. На что папа совершенно «железным» голосом ответил, что в войну семьи не расстаются, иначе это уже навсегда. Я бы этот (случайно подслушанный) разговор забыла, если бы эшелон, ушедший в Иваново, не разбомбили.
Мне было лет пятнадцать, когда между нами произошел разговор, значительность которого я смогла оценить много позже. Отец объяснил мне (восьмикласснице!), что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя соглашаться стать осведомителем «органов». Каково бы ни было давление и угрозы. В крайнем случае лучше все бросить и уехать из Москвы, как это сделал один из друзей отца. (По-видимому, вокруг мамы уже тогда что-то происходило. Об этом родители говорили шепотом в другой комнате, считая, что я сплю.)
Поразительно, что отец, очевидно, был вполне уверен, что я не заговорю на такие темы в школе.
В отличие от папы мама, при всей ее решительности и напористости в работе, во внутренней и домашней жизни была во власти самых противоречивых мифов. Она была очень хороша собой. У нее были гладкие черные волосы, собранные на затылке в узел, чистый профиль и безупречная матовая кожа. Косметикой мама не пользовалась. Духи «Красный мак» печально испарялись в маминой тумбочке с застекленным верхом.
До поры — пока это не требовало слишком больших усилий — мама одевалась с завидным вкусом. Однако в своем вкусе и выборе она никогда не была уверена. Я так и не смогла понять, каким образом мама «осваивала» огромные средства на одежду для больных и персонала, занавески и ковровые дорожки для своих больниц и санаториев, если в те же годы выбор чайного сервиза за 120 рублей производства ГДР был для нее прямо-таки моральным подвигом. И хотя мой вкус был для нее еще более сомнителен, она предложила мне самой купить этот несчастный сервиз, взяв с собой в качестве «арбитра элегантности» моего друга по университету Алика.
Получалось, что в работе мама не оглядывалась ни на кого, а в остальной жизни — все должно было быть «как у людей». Кого зачислить в «люди» — это был главный и неразрешимый вопрос. Мама не была так простодушна, чтобы «назначить» образцами кого-либо из светил, ее окружавших. Миф состоял в том, что такие правильные люди существовали. Они все успевали — и работать, и пироги печь, и дом держать.
Вообще-то в этом смысле мама как раз и была таким «правильным» человеком. Как жаль, что никому не было дано ее в этом убедить.
Моя няня Матрена Николаевна
Именно с няней, а не с мамой или папой связаны мои самые ранние воспоминания. Я помню запах ее грубошерстного платка, большую плетеную корзину в форме сундука, где она хранила свои вещи, полотняное летнее пальто с перламутровыми пуговицами, которые я любила разглядывать. Няня растила еще мою умершую в раннем детстве сестричку и вспоминала о ней с жалостью.
Самые интересные нянины рассказы начинались фразой «Когда я жила у профессора Неведомского…». Главная притягательность этих историй заключалась в том, что они существовали в таинственном времени «до меня». Что это, собственно, значило — я не понимала, и потому лет в шесть, рассказывая своей подруге Марине какие-то обычные детские выдумки, начинала фразой «Мы тогда жили у профессора Неведомского».
Папа считал, что няня меня слишком кутает. Няня папу очень уважала и несколько побаивалась, поэтому на его замечания не отвечала. Если же недовольство исходило от мамы, няня отвечала тоном, не допускавшим возражений: «Я у профессора Неведомского детей воспитывала на белой мебели».
Кое-что из таких забавных характеристик можно найти в романе Каверина «Два капитана», где черты моей няни приданы няне, воспитывающей племянника Сани Григорьева.
Уже взрослым человеком я наткнулась на имя профессора Неведомского в каком-то мемуарном труде и была потрясена тем, что этот человек реально существовал.
Моя няня Матрена Николаевна Шарова была родом из деревни Воробьево, что под Торжком. Я помню ее пожилой женщиной лет пятидесяти. В деревне оставалась ее сестра и еще какие-то родственники, о которых я ничего не помню. Иногда в Москву из Ленинграда приезжал нянин племянник и крестник Андрюша, который работал в Ленинградском Ботаническом саду. Обычно он привозил для моего гербария (это было повсеместное детское увлечение тех лет) разные редкостные растения, которые мне никак не удавалось правильно засушить.
Няня моя была неграмотна. Кампания по борьбе с неграмотностью, продолжавшаяся еще в середине 30-х годов, ее не интересовала. Я уже бегло читала, и папа предложил мне учить няню, для чего специально купил букварь. Няня не желала повторять за мной строки про Машу и маму, и я жаловалась папе, что няня балуется. При этом няня говорила на очень чистом московском наречии. Я помню только одно слово, которое, кроме как от няни, я ни от кого не слышала, — пужин. Пужин полагалось съедать часов в шесть, после вечерней прогулки. Чаще всего это была гречневая каша. Перед сном полагалось пить горячее молоко, которое я ненавидела.
Мы гуляли с няней в сквере около Института Маркса—Энгельса и на площади у Моссовета. Большую часть площади занимал памятник Свободы. Мы играли на его ступеньках и разглядывали медные доски, на которых был выгравирован текст первой российской Конституции. В сквере няня садилась на скамеечку и предоставляла мне полную свободу. В том же сквере гуляли другие дети с нянями вроде моей, а еще немецкая группа тети Розы. Тетя Роза носила не платок, как все няни, а берет и мне не нравилась. Мамино мнение, что в любой группе дети непременно подхватят свинку или корь, было очень кстати.
Кроме сквера, мы еще ходили с няней за покупками к Елисееву и в булочную Филиппова. В 30-е годы эти названия магазинов еще сохранялись. В булочной мне разрешалось протянуть продавщице чек через стеклянный прилавок. По весне у Филиппова мы покупали «жаворонков» — сдобные булочки в форме птички, с изюминкой на месте глаза. Черный хлеб продавался на вес, и поэтому часто к большому куску еще давался довесок. Довесок я должна была отдать нищему, если он стоял на улице у выхода.
У Елисеева обычно толпилось довольно много народу, и чтобы не потеряться, я ждала няню на улице, у толстого медного поручня, отгораживавшего стеклянную витрину. Как-то зимой мне захотелось этот поручень потрогать губами. Хорошо еще, что мороз был не сильный, и я легко отделалась.
Няня была человеком верующим, и потому в изголовье моей детской кроватки с сеткой всегда висел образок Николы Угодника. Родители мои были атеистами и к тому же евреями, но это ничему не мешало. По большим праздникам няня ходила в церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке, которая была совсем рядом с нашим домом. Сколько я себя помню, эта церковь была действующей. Почему-то няня называла ее «у Бориса и Глеба», и когда через много лет я впервые прочла «Вакханалию» Пастернака, то была уверена, что слова «у Бориса и Глеба свет, и служба идет» именно к этой церкви и относятся. Меня с собой няня в церковь не брала, но в Страстной четверг мне разрешалось подождать на паперти, пока няня зажжет свечку. Потом мы несли эту зажженную свечку домой, а рядом с нами в наступающих сумерках колебались и двигались такие же огоньки. Страстной четверг так и остался для меня самым непосредственным религиозным переживанием.
Недели за две до Пасхи няня сеяла в большую глиняную плошку овес. К Пасхе он прорастал, няня красила луковой кожурой яйца и клала их на густую зеленую щеточку.
На Пасху вся квартира пекла куличи. Няня, по моим воспоминаниям, принимала в этом косвенное участие — как я сейчас думаю, избегая конфликтов с мамой.
Видимо, качество куличей превращалось в какую-то вселенскую проблему, потому что я до сих пор помню, как мама обсуждает куличи то с папой, то с нашей соседкой Ксенией Ивановной. Творожную пасху мама не делала, потому что у нас не было пасочницы — т. е. специальной разъемной формы из четырех дощечек. Пасхой нас угощала Ксения Ивановна, одаряя меня цукатами, ради которых, по моим понятиям, все и затевалось.
Как и любой ребенок, я принимала нянину любовь как должное. Смутно помню себя в жару и няню у моей кроватки с молитвами Николе Угоднику. В четыре года я болела какой-то особенно тяжелой скарлатиной. Няня самоотверженно пролежала со мной в стеклянном боксе Боткинской больницы чуть ли не сорок дней.
Когда началась война и нам предстояла эвакуация, няня в последний момент объявила, что она никуда не поедет, а останется сторожить квартиру. Накануне отъезда меня позвал папа. Он сидел за письменным столом с зеленым сукном и лампой с зеленым же абажуром. «Посмотри вокруг, — сказал он мне. — Может быть, ты этого уже никогда не увидишь». Папа плакал, не закрывая лица. Мне еще не было десяти, и я была оглушена происходящим. Как мы простились с няней — я просто не помню. Больше я ее не видела.
Не знаю, от кого мы узнали, что няня после первых же бомбежек уехала к себе в Воробьево. Под Торжком были немцы, и о судьбе няни мы ничего не знали. Уже после возвращения в Москву мама не раз упрекала меня в том, что я няню забыла. На самом же деле все обстояло гораздо трагичнее.
Однажды — я не помню, было это еще до конца войны или позже, — я вынула из почтового ящика яркую открытку с маками и ромашками, на обороте которой было карандашом написано: «Фрумкину Марку Романовичу, Нине Борисовне и Риточке». Это выглядело странно. По мере того как я читала, я как бы застывала изнутри и тупела. От имени няниной сестры Дуни сообщалось, что няня очень болела и некоторое время назад умерла. Были еще какие-то подробности, касавшиеся жизни няниных родственников. Текста я не помню, за исключением обрывка фразы: «А медальончик золотой с Риточкиными волосиками мы сохранили…». Не берусь объяснить, почему я решила эту страшную открытку спрятать и никому о ней не рассказывать. Наверное, это была детская реакция на настоящее горе. Потом признаться мне было неловко, а теперь уже и некому.
Довоенное детство
Мое довоенное детство прошло в пределах небольшого фрагмента центра Москвы. Он ограничивался Страстной (Пушкинской) площадью и Тверским бульваром, где мы иногда гуляли с няней или папой, Тверской (улицей Горького), где мы жили, и Никитской (улицей Герцена), где в Хлыновском тупике помещалась моя первая школа. Тверская для меня тогда «кончалась» зданием Центрального телеграфа и углом улицы Белинского. В прочие места — на Красную площадь, в Зарядье — я попадала изредка и с родителями.
О раннем детстве принято вспоминать как о поре особенно счастливой, невозвратной и безоблачной. У меня же самые яркие воспоминания о раннем детстве связаны с необыкновенно острым ощущением скуки, доходящей до отупения.
Чем я себя занимала до того, как научилась читать, я не помню. А научившись, я стала читать так быстро, что книг мне постоянно не хватало. Дома у нас книг было немного: один небольшой стеллаж заполняли главным образом черные с позолотой тома Большой медицинской энциклопедии и темно-красные — собрания сочинений Ленина. На самой верхней полке стопками лежали тонкие тома в бумажных обложках — одно из первых послереволюционных собраний сочинений Горького, собрание сочинений Вересаева и комплект журнала «Красная Новь» за 1926 год. Но до этой полки я добралась только по возвращении из эвакуации, когда мне было одиннадцать лет.
Зато девять томиков «серенького» Пушкина были мне доступны в прямом смысле слова — они стояли на уровне моей макушки. Я их довольно быстро одолела, включая черновые редакции и варианты. После войны я обнаружила, что второй и девятый тома пропали. Это было для меня более ощутимым свидетельством пережитой трагедии, чем разрушенный бомбежкой дом по соседству, у церкви.
Еще у меня были свои книги — тонкие, в бумажных переплетах, большей частью замечательные по оформлению. Я рано научилась узнавать манеру знаменитых тогда детгизовских художников — Лебедева, Тырсу, Чарушина. Эти книги я любила как вещи. Видимо, страсть к книге как к замкнутому в себе объекту эстетической радости сформировалась у меня именно тогда.
Дома читали много. Папа читал книги, газеты и журнал «Интернациональная литература» — прообраз нынешней «Иностранки». Глубокой ночью, когда все в доме спали, читала мама, утром смущенно признаваясь, что потушила свет только в три часа. Ее любимой книгой был «Мартин Иден» Джека Лондона. Но книг до войны почти не покупали, почему — я не знаю. Обычно папа приносил книги из библиотеки Дома инженера и техника, который они с мамой называли «клуб».
Клуб помещался в начале Мясницкой в красивом особняке. На елке в клубе в 1937 году мне подарили тонкую книгу в твердом голубом нарядном переплете. Это были «Детские и школьные годы Ильича». В книге рассказывалось о самостоятельном, в меру шаловливом мальчике, который любил брата и сестер и хорошо учился. Главное же, что запомнилось, — это страсть мальчика к шкуркам от яблок, которые он съедал, когда мама чистила яблоки для пирога.
Замечу в этой связи, что современные представления о том, как пагубно на неокрепшие детские умы и души влияли книги такого рода — от «Мальчика из Уржума» (о детстве Кирова) до «Военной тайны» Гайдара, — кажутся мне искаженными.
Любую умеренно толстую книгу — страниц в двести — я проглатывала за два дня, после чего принималась читать ее заново. Играть в куклы, как обычно играют девочки, я не любила. Обычно я фантазировала на темы прочитанных книг, воображая себя среди папуасов, подобно Миклухо-Маклаю — «Человеку с луны», или преодолевая препятствия вместе с «Детьми капитана Гранта». Батарея центрального отопления и подоконник из пестрого серо-белого камня верно служили моим целям.
Любимой игрушкой была мохнатая обезьянка Яшка. Имя это было дано по недостатку фантазии — так звали обезьянку в одном рассказе Бориса Житкова. Узнав об этом, родители испытали некоторое замешательство: обезьянку подарил мне друг дома, Яков Константинович Письменный, по прозвищу «Борода». Как и многие из гостей, бывавших у нас до какого-то момента, Яков Константинович занимал тогда немалый пост в Наркомате авиации. Мишка и ослик тоже были подарками, но остались безымянными, — как оказалось, к лучшему. Мишку принес Иван Евдокимович Жуков, высокий красавец летчик. Всех этих людей я помню смутно — только голоса, смех и, конечно, запахи. Люди были молоды, пахли свежестью, громко смеялись, Иван Евдокимович подбрасывал меня к потолку, а когда опускал на пол, то я утыкалась в нечто пахнувшее прямо-таки обольстительно — это была полевая сумка светло-рыжей кожи. В 1937-м дом в одночасье затих. Если бы мишку звали Ваней, а ослика, например, Гришей, то родители мои были бы обречены слушать, как имена навсегда сгинувших людей непрерывно повторяет ребенок. Родителей не тронули — т. е. не посадили. Разумеется, вслух ни о чем и ни о ком не говорилось, однако чувство беды я помню, хотя многое воспринималось как фон, лишенный содержания.
Детей лет четырех-шести тогда принято было по осени и весне одевать в шерстяные вязаные костюмчики и такие же шапочки с помпоном. Я совершенно ясно помню на площади Свободы девочку Свету в голубом костюмчике, который был чем-то особенно хорош. Я спрашиваю ее, кто ее папа. «Он репрессирован, — отвечает Света, — он переписывался с Троцким». Конечно, я не знала, кто такой Троцкий, и уж, во всяком случае, не знала слова «репрессирован». Однако я поняла, что ничего подобного никогда и никому нельзя говорить!
Не менее разительный пример из того же ряда. У нас на даче была тумбочка на тонких гнутых ножках, типа венского стула, но без спинки и повыше. На подстолье этой тумбочки папа стопкой складывал газеты. В них тогда печатались стенограммы процессов «врагов народа» 1937—1938 годов. Газет я не читала, но стопка на тумбочке источала ужас. Сегодня я бы сказала — кафкианский ужас. Одно воспоминание тех лет было настолько пронзительным, что осталось частью моей биографии. Мама по работе была непосредственно связана с Орджоникидзе. Как и все в Наркомтяжпроме, она говорила о нем в третьем лице как о «Серго». Серго упоминался нередко и был какой-то важной частью маминой жизни. 18 февраля 1937 года началось для меня как обычный выходной. Это означало, что я могу забраться на постель к папе и наблюдать, как он еще до завтрака читает газету. Именно в это время папе можно было задавать разные вопросы.
Блаженство мое было прервано тем, что маме позвонили по телефону: Серго только что умер от приступа грудной жабы. Дальше я вижу как в кинокадре: плачущая в голос мама (а она никогда не плакала) натягивает свой неизменный берет и выбегает из комнаты. Наплыв. И вечером, обращаясь к папе: «Я приехала, он еще был теплый». Разговоры о том, что Орджоникидзе не то застрелился, не то был застрелен, начались после 1956 года. «Быть того не может, возражала я. — Моя мама приехала, когда он лежал на столе, укрытый одеялом до подмышек, — он был еще теплый». Я не задумывалась о том, что скрыть можно гораздо более крупные вещи, чем дырочку во френче.
Сегодня меня занимает совсем иное. Как у меня хватило ума, чутья после 1956 года никогда не спрашивать маму, кто и зачем ее вызвал и что именно она видела своими глазами. По отношению к родителям предпочтительнее быть ограниченным, нежели жестоким.
Мой отец был от природы музыкален, как и многие в его семье. Мне не было и шести лет, когда в доме появился инструмент. Это было фортепиано знаменитой немецкой фирмы «Рениш». Мне предстояло учиться музыке. Встречу с первой своей учительницей я не помню. По словам отца, она сказала, что у меня совершенно нет слуха. Видимо, папа с этим не мог примириться и потому пригласил другую учительницу. Звали ее Раиса Эммануиловна.
Раиса Эммануиловна была сравнительно молодая темноволосая, смуглая женщина, дружелюбная и с живой мимикой. Во время уроков я обычно сосредоточенно смотрела на украшавшие ее шею бусы из крупных гладких камней винно-красного цвета и едва ли что слышала. По ее мнению, действительно, у ребенка не было слуха. Однако Раиса Эммануиловна считала, что слух можно развить. По крайней мере в последнем она оказалась права, потому что через два года занятий с ней я сдала экзамен в одну из лучших музыкальных школ города.
Заниматься музыкой я, тем не менее, не любила — ни дома, ни в школе. Мне полагалось играть ежедневно полтора часа в два приема, по 45 минут. Няня Матрена Николаевна усаживалась от меня слева и следила за тем, чтобы я «играла, что велено, а не баловалась». Мне же было не столько трудно, сколько невыносимо скучно: ни в шесть лет, ни в девять я не усматривала в этих занятиях никакого смысла. Интересно мне было совсем другое брать аккорды и слушать, как звуки, вибрируя, медленно замирают где-то за черной лакированной крышкой инструмента. Надо сказать, что инструмент у нас был действительно прекрасный, с глубоким, бархатным звуком.
Удивительно, что можно было сделать веселый аккорд грустным, заменив лишь один белый клавиш на ближайший черный, а потом опять нажать на белый — и опять весело. Кроме того, эти переходы от радости к печали и обратно как-то по-разному отзывались в случаях, когда первым в трезвучии было «до» и когда первым было, например, «ре». Следующим моим открытием было то, что я называла «китайская музыка»: она получалась, если играть на одних черных клавишах.
Наверное, если бы милая Раиса Эммануиловна интересовалась моими «открытиями», а не только гаммами и этюдами, я бы как-то связала наши с ней занятия и то, что было содержанием музыки для меня самой.
Парадокс в том, что, не любя занятия музыкой, я очень рано полюбила ее слушать. Помню мое первое отчетливое музыкальное предпочтение. По радио тогда часто передавали сочинение Ипполитова-Иванова «Ворошиловский марш». Это была умеренно бравурная музыка, с повторением определенного ритмического рисунка. С какого-то момента я начинала с замиранием сердца слушать предуготовления к появлению любимого мною фрагмента мелодии. Фрагмент был коротенький и кончался, едва начавшись, о чем я очень жалела. Инструмента у нас тогда еще не было, а значит, мне было лет пять.
Саму вещь, из которой раздавались звуки, в нашем доме называли «репродуктор». (Слово «тарелка» я узнала, когда появились первые фильмы о войне.) Это был конус из очень плотной черной бумаги, похожей на ту, из которой и сейчас делают конверты для рентгеновских снимков. Раструб конуса был неглубок, диаметром немного больше тарелки для супа. Громкость звука можно было регулировать специальным винтиком.
Взрослые и дети в Москве и во всем Советском Союзе слушали одни и те же передачи Радиостанции имени Коминтерна.
Детские передачи часто вел Литвинов — у него был совершенно особенный, убаюкивающе-вкрадчивый голос, о котором я иногда вспоминаю, слушая по «Эхо Москвы» голос музыкального критика Анатолия Агамирова. Быть может, всеми нами любимые «Городок в табакерке», «Оле Лукойе» и прочие детские передачи были выдержаны в очень уж голубых и розовых тонах — но об этом пусть судят историки радиоискусства. По крайней мере неизменный режиссер передач для детей Роза Иоффе никогда не делала их агрессивными или пугающими.
Вообще же на радио царила популярная классическая музыка, а не марши и массовые песни, как это иногда считается сейчас. Невозможно представить себе московского ребенка, который бы многократно не переслушал в детстве — разумеется, если того хотел — балетную музыку и «Детский альбом» Чайковского, «Арлезианку» Визе, вальсы и ноктюрны Шопена, русские романсы и «Форель» Шуберта.
Были у меня в раннем детстве и нелюбимые передачи — главным образом трансляции опер. Трансляции велись вечером, а вечером у репродуктора я оказывалась только в том случае, когда мама и папа куда-нибудь уходили. Няня была на кухне, а я слонялась по комнате и с тоской слушала: «Действие второе. Спальня графини». Тот, кто захочет вживе услышать интонацию, с которой эти ремарки тогда произносились, может сегодня включить музыкальное радио «Орфей».
Голоса дикторов знали так же, как сегодня знают телеведущих. Невидимость сообщала этим людям особую значительность — по крайней мере в глазах ребенка. Когда в 1943 году я поступила в школу, где шефом был Всесоюзный Радиокомитет, моей соседкой по парте оказалась Аленушка Толстова. Как-то раз за ней в школу зашла ее тетя, Наталия Толстова, ведущая из числа самых известных. Помню, как я была потрясена тем, что хорошо мне знакомый голос воплотился в телесную оболочку.
Один из этих голосов остался в памяти потому, что он, большей частью, нес беду. Конечно, до войны этот голос был слышен и в праздники, но ведь про Первое мая и Седьмое ноября и так все знали. Зато утром 22 июня 1941 года мой отец, только услышав голос Левитана из-за какого-то забора в нашем дачном поселке, но не разобрав ни слова за дальностью расстояния, понял, что случилось то, чего он ждал и страшился.
Была ли я до войны хоть раз в кино — я не знаю. В театре я видела знаменитый спектакль Наталии Сац «Негритенок и обезьяна», но, кроме огромных вывернутых губ негритенка, я ничего не помню. Более забавным был «Золотой ключик», которым тогда увлекались все дети; но и оттуда запомнился только нос Буратино — точнее, мое недоумение по поводу того, как этот и вправду очень длинный нос (картонный? деревянный?) удерживался на лице актера.
У меня был любимый двоюродный брат Рома, студент-искусствовед. Однажды он повел меня в Музей изящных искусств. «Давид» Микеланджело удивительным образом стоит и теперь там же, где почти шестьдесят лет назад. Я все задирала голову, чтобы рассмотреть лицо Давида, а Рома пытался обратить мое внимание на непропорционально большие ступни и кисти рук Давида — это говорило о том, что Давид очень юн. Еще я узнала, что вазы бывают краснофигурные и чернофигурные, но все это меня мало трогало.
Сильнейшим и единственным «музейным» впечатлением моего раннего детства была выставка к столетию со дня смерти Пушкина в 1937 году. Пушкин в нашем доме присутствовал в виде «серенького» девятитомника, по которому я и научилась бегло читать, а также в многочисленных рассказах папы. В результате в моей жизни Пушкин — а также его памятник — занимал совершенно особое место. Поэтому выставка в Историческом музее была для меня событием. Впрочем, ребенок быстро забывает хоть и яркие, но однократные впечатления. От выставки, однако, осталась тоненькая темно-синяя книжка — путеводитель с портретами Пушкина и его окружения.
Вот уж подлинно habent sua fata libelli! Когда после смерти мамы я перевезла к себе ту часть нашей библиотеки, которая оставалась в родительском доме, отсутствия путеводителя я не заметила. Позже я никак не могла вспомнить, где же у меня любимый карандашный рисунок Фаворского «Пушкин-лицеист». Еще лет через десять, уже давно оставив привычку бродить по книжным магазинам, я случайно зашла в букинистический на улице Горького, ближе к площади Белорусского вокзала. И вдруг увидела на полке синюю книжечку с черным силуэтом Пушкина. Когда я раскрыла ее еще в магазине, то у меня было чувство, как если бы в продажу кто-то пустил мой семейный альбом. Чаадаев, молодой Жуковский, Пущин, Дельвиг, Пушкин на лицейском экзамене читает стихи перед Державиным, Пушкин Фаворского — пухлощекий мальчик в лицейском мундире, Пушкин с Наталией Николаевной перед балом у зеркала, раненый Пушкин на снегу с запрокинутой головой…
В детстве я разглядывала эту книжечку часами, рассказывая себе истории о том, как Пушкина вылечили, и вот он и теперь живет, и его можно встретить. Такая встреча мне как-то приснилась, и этот сон я помнила много лет.
Очень похожие и, по нынешним понятиям, достаточно странные детские грезы в точности в это время — т. е. в 1937 году — описывала Цветаева в очерке «Мой Пушкин». Подумать только, что со времени, когда девочка Муся раскачивалась на цепях, окружавших памятник, до поры, когда я впервые потрогала чугунные лавры на тех же цепях, прошло всего-то лет тридцать с небольшим…
В зеркале Тарковского
В главе, посвященной моим родителям, я описала свою мать как человека эпохи строительства. Как и большинство городских детей тридцатых годов, я тоже была, хоть и маленьким, но оттого не менее несомненным человеком эпохи строительства — а вернее сказать, строительства и энтузиазма. Лучшее выражение моего тогдашнего мироощущения — это музыка Шостаковича к кинофильму «Встречный», песня с припевом «Не спи, вставай, кудрявая!». Как известно, гениальное искусство не лжет: не может.
Что означало в дотелевизионную эпоху жить в десяти минутах ходьбы от Кремля? Прежде всего это давало возможность быть не только свидетелем, но нередко и участником потока событий, которые мои младшие современники знают только по кадрам кинохроники.
Вот папа крепко держит меня за руку, чтобы я не потерялась. Серое утро. Толпы народу на тротуарах вдоль всей улицы Горького. На мостовой плотно, в несколько рядов замерли танки. Черные радиорупоры, укрепленные на фонарных столбах, выжидающе молчат. Мы ждем начала парада. Тишина такая, что, стоя несколько ниже розового и еще трехэтажного здания Моссовета, мы ровно в десять слышим бой часов на Спасской башне Кремля. И одновременно раскатывается эхом громкоговорителей вдоль всей улицы сигнал трубы «Слушайте все». Начинается!
Все время, пока будут идти танки, ехать пушки и еще какие-то машины, назначения которых я не знаю, толпа будет стоять неподвижно и торжественно: маленькие дети — ближе к кромке тротуара, сзади них — кто повыше ростом, потом — взрослые. Тут уже можно особенно не бояться за детей — во время парада никто не будет бегать по тротуару и толкаться: все знают, что это не положено. Общее оживление начнется, когда парад кончится и пойдет демонстрация. Кроме серого и красного цветов, преобладавших во время парада, появится разноцветье транспарантов с эмблемами заводов, море искусственных цветов — а на 1 Мая белые рубашки мужчин и нарядные пестрые платья женщин.
Дети к началу демонстрации уже будут стоять с воздушными шарами, судорожно сжимая их ниточки в кулачках — обычай отпускать шары возник много позже. Наиболее отчаянные мальчишки пытались пристроиться к колоннам и пробегали несколько метров рядом, пока их не отгоняли озабоченные правофланговые с красной повязкой на правом рукаве. Тут уж можно было гулять по тротуару вверх по улице Горького. Но не вниз — у телеграфа стоял очередной ряд оцепления.
Продолжением праздника была белоснежная хрустящая скатерть и мамин коронный ореховый торт.
Кроме Мая и Ноября, были еще и совершенно особые праздники. Они начинались с какого-то общего волнения по не всегда ясным мне поводам. Когда наконец все хорошо кончалось, мы опять стояли с папой у наших ворот рядом с Моссоветом, а вниз по улице сначала торжественно шли какие-то люди, потом появлялась и медленно ехала вереница черных машин с открытым верхом, а после них опять шли колонны поющих и смеющихся людей с флагами, портретами, большими моделями самолетов. При этом, как только выезжали машины, на нас сверху начинали сыпаться бесконечные белые и розовые бумажные листочки размером в пол-открытки. Их называли «листовки», но я их никогда не держала в руках и потому не знаю, что там было написано.
Первое мое воспоминание такого рода относится к челюскинской эпопее. Главное, что я помню, — это рассказ папы о том, что «прямо там» родилась девочка, а было это в Карском море, поэтому назвали ее Карина. Перелет Чкалова и дрейф Папанина на льдине уже были событиями, происходившими непосредственно в моей жизни. Я до сих пор помню, с кем летал Чкалов, с кем — Громов, кто такой Эрнст Кренкель.
Смысл этих событий для ребенка с улицы Горького, 29 (это наш довоенный адрес) можно передать формулой «мы побеждаем пространство и время». Шутка ли, через Северный полюс — в Америку? Без посадки из Москвы на Дальний Восток? Вместе со всеми я пела «Все выше, и выше, и выше», и мама моя — как я сегодня понимаю, предмет тайного обожания летчика Ивана Евдокимовича Жукова, — тоже пела эту песню.
Да, тексты многих наших песен — если вдуматься — были бы достойны сюжетов Оруэлла. Но замечали ли вы, читатель, что даже те, кого сейчас умудрились унизить с помощью гордого слова «ветеран», толком не знают текстов этих песен? Важно было единение, ритм, музыка. Девочка Варя с Украины, чудом пережившая голод 1933 года, устроилась няней в соседскую семью в нашем дворе. И отъевшись, пела вместе со всеми «Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей».
Нужно быть очень наивным — или очень примитивным, — дабы считать, что кто-то всерьез желал иметь «вместо сердца — пламенный мотор». Едва ли Булат Окуджава и вправду хотел непременно умереть «на той единственной гражданской» — но как же мы любили эту песню уже не в столь далекие времена! Я не сомневаюсь в искренности современных публицистов, недоумевающих по поводу того, как это люди слепо верили, как не понимали, не учитывали, не замечали. По большей части эти упреки адресованы моим ровесникам — ведь это «нас» потом назвали «шестидесятниками». Подобные соображения нередко базируются на непонимании человеческой психологии вообще и обстоятельств ушедшей эпохи в частности.
Мандельштам, после всего, что он пережил в двадцатые и тридцатые, в 1935-м, т. е. уже после убийства Кирова и в разгар террора, написал известную строку: «Я должен жить, дыша и большевея», — а двумя строками ниже читаем: «Я слышу в Арктике машин советских стук». Ахматова, у которой были «муж в могиле, сын в тюрьме», после начала Отечественной войны напишет:
Я знаю, что ныне лежит на весах И что совершается ныне.Представьте себе уральские морозы, когда в шесть утра в совершеннейшей тьме в подвале общежития радио ежедневно поднимает старых и малых песней:
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой.Страна — это была я. Страна огромная — это были все мы. И только естественно, что пародирование «Интернационала», который с детства для меня был — а потому и остался — гимном моей страны, я всегда буду ощущать как кощунство.
Вообще высокая степень тогдашней социальной включенности ребенка в жизнь страны в целом сейчас непредставима. Более подробно я буду говорить об этом в связи с войной и моими послевоенными школьными годами. Что касается тридцатых, то самым ярким примером может быть гражданская война в Испании. Чем на самом деле была эта война, я по-настоящему поняла, когда взрослым человеком прочла очерки Оруэлла «Памяти Каталонии» (Hommage to Catalonia). Правду сказать, у меня не хватило моральных сил прочесть эту книгу до конца — в такое отчаяние она меня повергла.
В детстве же все виделось по-иному: были герои-республиканцы, были негодяи-фашисты. И, наконец, были испанские дети, вывезенные из-под бомбежек в Союз. У меня сохранилась детиздатовская книга стихов А. Барто «Над морем звезды» с фотографиями известного тогда репортера Б. Макасеева. Сейчас эти фотографии ужасают, напоминая прежде всего о Чечне. Тогда же печальный смуглый мальчик лет пяти в шапочке-«испанке» и с игрушечной винтовкой на плече был символом беззащитного добра, противостоящего безусловному злу. Мне очень хотелось увидеть хоть одного всамделишного испанского ребенка. С этим пришлось подождать всего одиннадцать лет: когда я стала студенткой испанского отделения филологического факультета МГУ, моим ближайшим другом стал испанский мальчик. Такие же испанцы, только постаревшие, разговаривают и смеются в фильме Тарковского.
Было еще два события, о которых я по малолетству помнить не могу, но о которых с детства слышала от отца. Это трагический исход полета стратостата Усыскина и катастрофа самолета «Максим Горький». Возможно, что об этом говорилось не раз, поскольку я запомнила не только факты, но и оценки. Отец считал, что экспедиция в стратосферу была технически абсурдной, а поведение истребителя, сопровождавшего в небе самолет-гигант и послужившего, по папиной версии, причиной катастрофы, необъяснимой авантюрой. Я думаю, что об этих трагедиях я могла и не вспомнить, если бы не фильм Тарковского «Зеркало».
«Зеркало» я первый раз видела примерно в 1976 году. Собственно говоря, слово «видела» не самое подходящее, потому что с первых же хроникальных кадров я начала не просто плакать, а заливаться слезами так, что на экран смотрела как через залитое дождем окно. Юная моя спутница смотрела кино; ей было двадцать. Я же, как и сам Андрей Тарковский, смотрела в «зеркало». И то, что прежде я считала героизмом, нередко теперь выглядело как неоправданная жертва.
Действительно. Можно самому выбрать смерть — как евреи, восставшие в Варшавском гетто; как тот, кто
… умер, сам себе привив чуму, последний опыт кончив раньше срока.И совсем другое — думая, что выбираешь, на деле быть лишь игрушкой тирана, пушечным мясом и лагерной пылью. Нужно ли было вообще на одномоторном самолете лететь в Америку через Северный полюс? Наши солдаты, тянущие на себе увязающие в илистой грязи Сиваша пушки, чтобы спасти отрезанный от остальной армии Крым, — не жертвы ли они бездарности командующих и страха не перед врагом, а перед «особистами»? Сколько людей обеспечивали наши свершения в лагерях и «шарашках»?
У меня не просто украли праздники — у меня отняли еще что-то. Мою историю? Мою страну?
Война и эвакуация
Предвоенная весна мне запомнилась каким-то особым чувством новизны, распахнутости и света. Реконструкция четной стороны улицы Горького была в основном закончена. Перед праздничными днями в огромных зеркальных витринах, как обычно, были выставлены чертежи и планы дальнейшего строительства. Мы с папой не спеша переходили от витрины к витрине, и папа рассказывал мне, где именно все это будет построено. Пуск очередной линии метро тоже был событием — мы обязательно ездили смотреть каждую новую станцию.
В ту весну мой отец много болел. Переезд на дачу откладывался. Впервые я проводила в городе конец мая и июнь. Я только что научилась ездить на двухколесном велосипеде и с наслаждением делала круги по свежему асфальту на площади против Моссовета. Другим любимым занятием было бродить по переулкам между Никитской (улицей Герцена) и улицей Горького. Обычно через эти переулки я ходила в школу, поэтому там мне разрешали гулять одной. Реконструкция не коснулась этих мест. Во дворах небольших двухэтажных домов стояли лавочки и цвела сирень. На каменных воротах одного из особняков было выбито: «Свободен от постоя» (с твердым знаком). Это был, как я узнала позже, дом Огарева.
Однажды на темно-сером здании немецкого посольства я увидела большой флаг с белым кругом посередине, в который была вписана огромная черная свастика. Я вернулась домой в страхе и сказала папе, что в Леонтьевском переулке висит флаг с фашистским знаком! (Именно так дети тогда называли свастику.) Папа объяснил мне, что у них там, наверное, какой-то праздник и что так полагается.
Предчувствие беды, с которым, как я потом поняла, жил отец с момента заключения пакта Молотова — Риббентропа, мне не передалось. И это при том, что я до сих пор помню «Правду» со снимком, где Молотов рядом с Риббентропом идет по аэродрому, и папино возмущение тем, что Молотов идет рядом.
Нашей соседкой по лестничной площадке была Матрена Захаровна — вдова, заходившая иногда к папе за советом. Она растила одна дочь Лиду, замечательной красоты девочку немного старше меня, тоже учившуюся музыке. Однажды в июне — это было под выходной, 14-го, — она зашла к нам и сказала отцу, что собирается с Лидой погостить к родственникам в Белоруссию, в Оршу. Папа разгладил свернутую вчетверо вчерашнюю «Правду» и показал Матрене Захаровне в правом углу первой страницы небольшую заметку. Заметка называлась «Опровержение ТАСС». Там было сказано, что все сообщения о том, что на наших западных границах наблюдается сосредоточение немецких войск, — ложь и провокация.
Я в этот момент стояла за папиной спиной, прислонившись к высокой (для меня тогдашней) спинке стула, на котором сидел папа, и потому на всю жизнь запомнила эту газетную страницу и папины слова: «Не езжайте, Матрена Захаровна. Это война».
Матрена Захаровна все-таки уехала и оказалась в оккупации. Я помню ее уже после войны седой и совершенно сломленной. Лида почти два года просидела в подполе, заваленная сеном. Проверяя, нет ли там кого, немецкий солдат проколол ей вилами руку. Рука зажила, но на музыкальную карьеру теперь уже не было надежды.
Тем не менее даже отец не думал, что все случится так быстро, потому что 21 июня мы наконец переехали на дачу. Это было серьезное мероприятие: хотя дача у нас была своя, на зиму там, кроме мебели, ничего не оставляли и даже снимали электросчетчик. Готовили на керосинках и потому из города, кроме кастрюль, тазов и прочей утвари, везли керосин в огромных, почти в мой рост, оплетенных бутылях. Папа ехал с грузовой машиной, потому что мама никогда не помнила дороги, а мы с няней — электричкой. Мама тоже приезжала поездом, но после всех нас, приведя в порядок квартиру.
Самым важным человеком в день приезда был электрик Вдовин, негромкий человек в гимнастерке, с совершенно красным от пьянства лицом. С утра 22-го папа отправился за ним в конец нашего поселка к постройкам, называвшимся тогда «бараки». Вернулся он один и сказал, что у кого-то громко работало радио и что-то такое он услышал, из чего следовало, что вроде бы будет выступать Молотов. Узнать что-нибудь более определенное можно было у нашего соседа Лужецкого — у него был радиоприемник, по тем временам большая редкость. Лужецкий жил наискосок от нас, совсем рядом со станцией. Папа взял меня за руку, и мы вышли из калитки. Не успели мы повернуть к забору Лужецкого, как на дороге появился запыхавшийся человек в берете, который на бегу крикнул папе, что и когда немцы бомбили.
Поворачиваясь, чтобы вернуться домой, папа сказал мне: «Ты, пожалуйста, не огорошивай маму». Что происходило дальше в этот и много следующих дней, я совершенно не помню. Мой разговор с отцом накануне отъезда из Москвы я уже описала выше.
Первым этапом нашей эвакуации был Дзержинск, небольшой промышленный город под Горьким. Ехали мы туда долго, старинным колесным пароходом. По дороге мы узнали, что Москву бомбили. В Дзержинске мы пробыли до конца октября 1941 года. Надо думать, что тогда и кончилось мое детство. Девочка, которая переходила улицу Горького только с няней, осталась в незнакомом городе одна. Я ходила в какую-то школу, сама спускалась в убежище, если тревога была днем, помогала выводить туда маленьких из детсада, который был в нашем дворе.
Дзержинск был построен вокруг химических заводов и в этом смысле мог бы считаться тогдашним аналогом каких-нибудь Набережных Челнов. Помимо самих заводов с их наполненными взрывоопасными веществами емкостями, кругом были огромные склады химического оружия — не знаю уж, какого именно. Город бомбили часто, кругом все горело, но особого страха я не испытывала — по малолетству и глупости. Ужаснулась я по-настоящему, когда в Москве 16 октября началась паника. Отец по делам службы числа 18-го поехал в Горький. Все шоссе было запружено людьми, уходившими из Москвы пешком. Каким-то образом вышел из этой медленно движущейся массы оборванный человек Папа узнал в нем своего давнего товарища, Рашковского. Оба они, по рассказам отца, разрыдались. Рашковский шел пешком вторые сутки.
Безнадежность нашего положения стала отцу окончательно ясна после того, как в тот же день привокзальную площадь, где он ждал поезда обратно в Дзержинск, на бреющем полете обстрелял немецкий самолет. Отец мой, при всей своей мягкости, был, как я уже говорила, человеком неробкого десятка. Он не столько испугался, сколько был раздавлен тем, что в людей стреляли, как в стадо. Связи с Москвой уже не было. Сводкам Информбюро перестали верить. Где был фронт, никто не знал. Надо было спасаться, ехать дальше на восток. В общей панике тогдашний нарком химической промышленности принял замечательное и вполне советское решение. Он уволил всех сотрудников, оставив только свой непосредственный аппарат. (Об этом я знаю из рассказов родителей, но думаю, что так примерно дело и было.)
В один из этих смутных дней мы с папой пошли в магазин, где почему-то купили небольшой фаянсовый чайник для заварки. Дома нас встретила мама, которая была совершенно вне себя. Оказалось, что последний эшелон, на который мы хоть как-то могли надеяться, только что ушел. Ясно было, что, не зная заранее, мы бы все равно им не уехали. Но чего ради именно в это время мы с папой покупали чайник?! (Этот невзрачный чайник пережил все, и моих родителей тоже.)
Позже оказалось, что до города Молотова (так тогда называлась Пермь) эшелон шел месяц и довез, увы, далеко не всех. Мы же опять уехали по воде, и притом последним пароходом. Сели мы на него благодаря маме, которая в ситуации крайностей была способна на отчаянные поступки. С ее слов я знаю следующее. Узнав в порту, что есть еще один пароход, который увозит эвакуированных, мама нашла капитана и спросила его, кто судовой врач. Судового врача не было. Мама сказала, что или она поедет в этом качестве, или капитан пойдет под трибунал. Рисковал ли капитан трибуналом в действительности, я не знаю, но кончилось тем, что он отдал маме свою каюту. Где спала мама, и спала ли она вообще те десять дней, пока мы плыли по Волге и Каме, я не помню, но я спала на узком капитанском дерматиновом диване с вылезающими пружинами и без белья.
Безотносительно к судьбе нашей семьи, капитан поступил скорее осмотрительно: через некоторое время к пароходу прицепили еще и огромную баржу. Кругом были люди, которые ехали на восток уже месяцами. Оперировать мама не умела, но, сделав объявление по пароходному радио, она нашла старика хирурга. Благодаря тому же радио какие-то заразные болезни не перекинулись с баржи на пароход. Сейчас я думаю, что при всем ужасе происходящего мама, видимо, была в своей стихии — как-никак, у нее за спиной был опыт эпидемий и санитарных поездов 20-х годов. «У нас» в пути никто не умер, чем я очень гордилась.
Первое впечатление от Перми — это мучительно долгое ожидание на пристани, где огромная масса людей целый день сидела на своих жалких узлах в ожидании решений о размещении. Я недавно вспомнила испытанное тогда ощущение полной своей заброшенности, прочитав у моего ровесника — поэта Геннадия Русакова — строку «Зачем так страшно пахнет палисадник...».
Далее я помню, как я из последних сил одолеваю какую-то бесконечную лестницу, и наконец все трое мы оказываемся в довольно большой, а главное — теплой комнате. Позже я узнала, что как врач мама получила номер в «Семиэтажке» — лучшей городской гостинице. В сумерках мне дали что-то поесть. И тут же родители ушли на весь вечер, заперев дверь снаружи на ключ. Папа несколько виноватым тоном попросил меня ни в коем случае не зажигать свет и не откликаться на стук в дверь — видимо, наше пребывание в гостиничном номере предстояло еще как-то узаконить. Темноты я не боялась, но несколько часов взаперти в незнакомой комнате в ситуации полного безделья были для меня немалым испытанием.
В этой комнате мы прожили несколько месяцев. В той же «Семиэтажке», как оказалось, жили разные знаменитые люди. Имена некоторых мне были известны по их книгам — это были Тынянов, Каверин, Михаил Слонимский. (С его сыном Сережей по прозвищу «Слон» — будущим известным композитором — мы играли в снежки.) Днем в нашей комнате мама принимала «легких» больных. Хотя она должна была лечить только сотрудников Наркомата химической промышленности, с которым мы эвакуировались, к ней стали обращаться самые разные люди. Так мама познакомилась с Кавериным и актерами Мариинского театра, который был эвакуирован в Пермь. Пермь была голодным городом. Впрочем, о том, каким бывает настоящий голод, я узнала позже, когда в пермские госпитали начали вывозить дистрофиков из блокадного Ленинграда.
Зимой 1942 года папу отозвали в Москву, а нас с мамой переселили в общежитие для сотрудников Наркомата химической промышленности. Сам Наркомат помещался в небольшом трехэтажном особняке, стоявшем на углу большой улицы и переулка, в центре города. В подвале и на чердаке сотрудники жили, в оставшихся помещениях — работали. Нам повезло — мы получили маленькую, но отдельную комнату. Жизнь в общежитии была менее голодной — у мамы была рабочая карточка, у меня — детская. Кроме того, в школе, куда я пошла в третий класс, нас кормили обедом. Это был густой суп с незнакомым мне довольно резким запахом. Позже я узнала, что так пахнет вареный кормовой турнепс.
По мере роста маминой популярности как врача наша жизнь делалась более сытой. По русскому обычаю, кто-то приносил в узелке хлеб, кто-то — мешочек белой муки. Однажды старичок из местных принес даже баночку меда. Еду мы готовили на плитке, но расход электричества был жестко ограничен — это называлось «лимит». Поскольку мамин рабочий день не имел естественного конца, то она оставляла мне необходимые инструкции. Например, уходя на работу, мама говорила: «Если придет Нэлепп, обязательно разогрей ему суп». Георгий Михайлович Нэлепп был знаменитый драматический тенор из Мариинки.
С Вениамином Александровичем Кавериным я познакомилась при сходных обстоятельствах. Каверин был замечательным рассказчиком. Мне врезался в память рассказ о самоубийстве его двоюродного брата, который повесился от неразделенной любви.
Книга Каверина «Два капитана» была необычайно популярна, и хотя я не вполне ее понимала, книга мне очень нравилась. Поэтому Каверина я ужасно стеснялась и боялась его о чем-нибудь спросить. Мама с Кавериным подружилась. В результате няня маленького Пети, племянника Сани Григорьева из второго тома «Двух капитанов», приобрела некоторые черты моей няни Матрены Николаевны.
Тынянов, брат жены Каверина, уже тогда был так болен, что почти не вставал с постели. Однажды мама дала мне небольшой мешок и сказала: «Отнесешь картошку Тыняновым в семиэтажку». Стоял чудовищный мороз, а главное — было совершенно темно чуть ли не с утра. Я помню, как я бреду, спотыкаясь об огромные куски сколотого снега, полосатого на изломах. Потом ненавистная лестница и, наконец, свет из-за приоткрытой в номер двери. В этот светящийся проем я просовываю мешок. Наплыв.
Замечу, что я отнюдь не отличалась послушанием, и если бы мама послала меня по какому-то иному делу, у меня нашлись бы отговорки. По-видимому, в десять лет ребенок способен иметь весьма адекватные представления об относительной важности дел и событий. В этой связи примечательна следующая история. Нашими соседями по подвалу была семья Валик. Бабушка Валик соблюдала субботу. Я таких слов, разумеется, не знала, и эта ситуация называлась «по субботам бабушка Валик не зажигает». Зажигать надо было керосинку. Дома мне запрещалось притрагиваться к спичкам. Зажигать керосинку я отчаянно боялась, но жизненная необходимость это сделать была очевидна, и я «зажигала», обливаясь холодным потом.
Не менее занятно и то, что я совершенно не интересовалась тем, почему бабушка Валик «не зажигает» именно по субботам. Как и мы, Валики были еврейской семьей, но до поры я вообще об этом не задумывалась. Точнее говоря, до войны для меня люди делились на «наших» и «заграничных». Фашисты были вообще вне этих категорий. Папа пытался время от времени дать мне понять, что немцы — это Гауф (который «Сказки») и Бетховен (который написал «К Элизе»), но это как-то проскальзывало мимо. Равным образом неясно было, какой смысл имели папины слова о том, что Бизе — еврей. Бизе — это была «Кармен», подобно тому как Чайковский — «Пиковая дама» (Нэлепп пел Хозе и Германна и всегда оставлял нам с мамой контрамарки).
Впервые почувствовать, что значит быть евреем, мне пришлось во дворе. Мой друг Данька (о нем я скажу ниже) носил литовскую фамилию. Но в глазах уральских мальчишек он обладал классической еврейской внешностью: очень смуглый, черноглазый, кудрявый. Может быть, еще важнее было то, что в 1942 году он еще донашивал свою «заграничную» курточку. Так или иначе, его не просто обозвали «жиденком», но всадили ему под лопатку финку. К счастью, он был в довольно толстом зимнем пальто, так что рана оказалась скорее порезом. Следующей известной мне жертвой был мой одноклассник Юзефович — тихий полноватый мальчик, который тоже «получил финку». Я рассказала маме, мама была в ужасе, но что она могла сделать? Ведь мы с ней почти не виделись.
Я росла в полном смысле слова безнадзорным ребенком. Сейчас никто и не вспомнит, что до войны слово «безнадзорный» было термином, противопоставленным слову «беспризорный». Беспризорниками занималось государство, и к середине 30-х годов их в центре Москвы уже не было. У нас во дворе на Тверской «беспризорник» вообще было ругательством и означало «хулиган». У «безнадзорных» детей был дом и родители, которым некогда было смотреть за своими детьми. Этому определению я и соответствовала. Случалось, что я вообще не видела маму дня по три. Пропустить школу мне бы просто не пришло в голову, но в остальном я делала что хотела. Я быстро научилась цепляться за задок саней, которые были зимой главным транспортным средством, ловко соскакивала, когда возница поворачивался, чтобы огреть безобразников кнутом. Если мне хотелось, я могла отправиться в гости к знакомой девочке, которая жила на другом конце города. Идти туда надо было не меньше часа, а возвращалась я уже в полной тьме, но все это тогда считалось естественным. На всякий случай я оставляла маме записку. Уроки я делала вечером, и они меня не обременяли. Сама по себе школа в моей тогдашней жизни не занимала никакого места, поэтому я о ней почти ничего не помню.
Все мы жили ожиданием возвращения в Москву. Мы — это прежде всего дети и подростки, которые жили в нашем общежитии. Летом мы играли во дворе, довольно равнодушные к тому, что в нем был морг соседнего госпиталя. Зимой, особенно вечерами, собирались на лестничной площадке ближе к чердаку, у огромного стационарного кипятильника, который назывался «куб». Куб топился дровами и играл роль камина в гостиной. Там, глядя в огонь, мы пели «Землянку». В этой компании я выделяла одного мальчика лет тринадцати. Звали его Миша Любович. Любовичи жили на чердаке. Отец Миши работал в наркомате шофером, кем была мама — не помню. В Мише меня притягивала какая-то очевидная доброта и расположенность.
Весной 1943 года, когда возвращение было уже вопросом недель, я вышла во двор снимать повешенное мамой белье. Рядом стоял Миша в своей коричневой вельветовой курточке на молнии, играя ключами, кольцо от которых он вертел на пальце. Что именно он мне сказал и как я ответила, я помнила много лет дословно, но теперь уже забыла. Во всяком случае, это было что-то шутливое и милое, а я ответила в соответствии с желанием скрыть свою особую к Мише симпатию. Не успела я с бельем войти в комнату, как в коридоре послышалось хлопанье дверей, шум и женский крик на немыслимо высокой ноте, так что я ничего не разобрала. Потом распахнулась и наша дверь, и кто-то, не глядя на меня, крикнул: «Нашего Мишу задавило!» В то время как я шла по коридору к своей двери, Миша вышел из двора на улицу — и его сбил проезжавший грузовик Так я оказалась последней, кто его видел живым. Дальше я помню только странно-взрослое Мишино лицо в гробу. Это была первая пережитая мною смерть.
Мне все представлялось, что если бы я так сразу не ушла и мы бы еще постояли у бельевой веревки…
Через несколько дней мы уже ехали поездом в Москву.
Архангельское
Лето 1943 года и два последующих я провела на правительственной даче в Архангельском, в семье Михаила Георгиевича П. Знакомство это началось в Перми. Там до весны 1943-го в эвакуации жила его мать Ольга Никоновна с двумя внуками — дочерью М. Г. Кирой и Борисом, внуком от другого сына. Мама лечила Ольгу Никоновну, а та, узнав, что у мамы есть дочь примерно того же возраста, что ее внуки, позвала меня в гости. Это было летом 1942 года. С самим Михаилом Георгиевичем и его женой и мама, и я познакомились позже — они почти все время были в Москве.
В Перми тогда было два многоэтажных дома — гостиница, которую все называли «Семиэтажка», и еще массивное здание, чем-то похожее на Дом правительства в Москве (который только после выхода романа Юрия Трифонова стали называть «Домом на набережной»). В Перми напоминавшее его здание официально именовалось «Дом чекиста». В нем, вероятно, жили первые лица города — но это скорее догадка. Так или иначе, семью П., как и еще несколько семей эвакуированных в Пермь государственных деятелей, разместили именно там. Я подружилась с Кирой и еще двумя московскими девочками из того же двора — Нелей и Аней. В эту дворовую компанию входил и Данька — сын врача из Каунаса.
Нам было 11—12 лет, и, как водится, все девочки были в той или иной мере тайно влюблены в Даньку. Данька был очень хорош собой, а кроме того, любил петь — у него был замечательный альт. Данька «девочкой» считал Киру, а я была вроде бы «свой парень». Все мы тогда увлекались «Тремя мушкетерами». Кира почему-то оказалась Атосом, Неля и Аня — соответственно Портосом и Арамисом, а мне досталась роль Д'Артаньяна. Данька был Герцогом Букингемским. Это детское распределение ролей для нас с Данькой вылилось в многолетнюю дружбу, хотя жил он в Вильнюсе и в Москве бывал нечасто. Лет двадцать пять — вплоть до своего отъезда в Израиль — он писал мне в Москву, подписываясь «твой Герцог».
С Нелей мы в Москве оказались в одном классе. Кира же стала на следующие несколько лет моей самой близкой подругой. Этому обстоятельству — по существу, совершенно случайному — суждено было многое определить в моей жизни. Прежде всего, это был выбор школы — папа хотел, чтобы после всех переездов я оказалась в школе, где бы у меня была хоть одна подруга. Кира уже поступила в знаменитую 175-ю школу, где учились дети членов правительства. О школе я расскажу отдельно — она того заслуживает. А три лета, проведенных в семье П. в Архангельском, в немалой степени были для меня «годами учения».
Те представления, которые сегодня вызывает сочетание слов «правительственная дача», да еще в Архангельском, несомненно, имеют мало общего с жизнью и бытом, которые я собираюсь описать.
Михаил Георгиевич (для меня — дядя Миша) был сыном уральского кузнеца. В описываемое время ему было сорок. Я помню его высоким, скорее худощавым, светло-русые волосы зачесаны назад. Он всегда носил очки и должен был беречь глаза — в прошлом у него была отслойка сетчатки. Он учился на инженера-электрика в Одессе, где и встретил свою будущую жену, Амалию Израилевну (для меня — тетю Маку).
Амалия Израилевна была миниатюрной женщиной с быстрыми движениями. Она работала в Наркомате электростанций, в том же отделе, что и М. М. Ботвинник То, что тетя Мака работала с легендарным Ботвинником, нас, детей, интересовало куда больше, чем тот крупный — точнее, очень крупный — государственный пост, который занимал сам дядя Миша. Некоторым образом дядя Миша работал «в одном отделе» — страшно сказать, с кем! Но в свои двенадцать-тринадцать лет я об этом как-то не задумывалась.
Амалия Израилевна носила девичью фамилию и была, я думаю, серьезным инженером; она вообще была человеком очень ответственным и пунктуальным. Иногда за столом она могла сказать что-то вроде «А вчера у нас в отделе…». В отличие от нее, дядя Миша о работе не говорил ни слова. Старшие — кроме бабушки Ольги Никоновны, которую мы все звали «баба», — по-настоящему бывали дома только в воскресенье. В будние дни дядя Миша приезжал домой в шесть вечера, обедал и уходил к себе поспать часа на полтора. Я помню, что Кириной привилегией было будить его вечером. В девятом часу дядя Миша опять уезжал в город и возвращался на рассвете. Какой режим был у тети Маки — я не помню. Видели мы ее нечасто.
Из-за этого характерного для руководящих работников того времени распорядка дня семья никогда вместе не завтракала. Да и обедали все вместе только в воскресенье. Это было похоже на праздник, тем более что в воскресенье приезжал дядя Шура, отец Бори, и его мама, тетя Белка. Братья были женаты на двоюродных сестрах. Иногда бывал еще и дядя Вася, самый младший из братьев. Временами на даче гостила родственница Амалии Израилевны Соша — женщина лет тридцати пяти, у которой своей семьи не было. Никто, кроме близких родственников, в описываемое время в доме не бывал.
«Взрослыми» мы меж собой называли Кириных и Бориных родителей, а «баба» была как бы «особь статья» — наверное, потому, что она была рядом с нами, а «взрослые» жили где-то в Москве своей отдельной жизнью. «Баба» Ольга Никоновна была, несомненно, мудрая и незаурядная женщина. Крупная, полная, с несколько монгольскими чертами лица, она занималась домом, хозяйством и детьми. Разумеется, сама она не должна была ни стирать, ни убирать, ни готовить, потому что в доме были повариха и горничная, а продукты привозили в соответствии со списком, который шофер отвозил «на базу». Однако именно «баба» принимала все хозяйственные решения. Она нас и воспитывала — замечу, в немалой строгости. Конечно, если исходить из общего положения дел в голодной стране в 1943 году, с вечной проблемой отоваривания карточек и скудных пайков, семья П. жила как бы роскошно. На самом же деле я не припоминаю на столе ничего такого, чего бы я в принципе не могла съесть дома на Тверской. Не было не только деликатесов, но и вообще «разносолов» — обычный борщ, котлеты, гречневая каша, макароны, сырники, лапшевник, манная каша, яичница. Дядя Миша должен был есть тертую морковку — «для глаз». Детям полагалось есть, что дают. Появление на столе бутылки вина означало торжество и было большой редкостью.
Дача стояла в лесу над Москвой-рекой, среди еще девяти похожих дач, расположенных на расстоянии примерно полукилометра друг от друга. Двухэтажный просторный каменный дом был очень хорош и прекрасно спланирован. Но мебель была самая простая и к тому же казенная, с алюминиевыми бирочками. Никакого фарфора и хрусталя, самые простые гардины, настольные лампы-«монашки», как в канцелярии. Если бы мы не приносили из леса цветы, то в доме цветов не было бы вообще.
В Ольге Никоновне не было ничего от человека, который вознесся «из грязи в князи». Она никогда не сидела без дела: прибирала, штопала, пришивала нам пуговицы. У меня были очень густые и длинные волосы, с которыми я сама плохо управлялась. «Баба» время от времени расплетала мне косы и долго и тщательно расчесывала мои волосы густым гребнем.
Она же мазала зеленкой разбитые коленки, запрещала выпрашивать на кухне еще теплые плюшки и грызть что-либо между положенными общими трапезами. В плохую погоду «баба» играла с нами в карты в «дурака».
Казалось бы, какие могут быть обязанности у детей в доме с поварихой и горничной, куда к тому же продукты привозились, как я теперь понимаю, бесплатно и могли быть доставлены в любых количествах? Однако как только в лесу поспевала малина, «баба» отправляла нас по ягоды с большими алюминиевыми бидонами. Мы также рвали крапиву и щавель для щей. В 1943 году осенью учебный год начинался в октябре — школьники постарше уезжали на полевые работы. Мы же втроем — под руководством «бабы» — вскопали землю под огород. Весной 1944-го мы посадили там картошку.
Вопроса «зачем» у нас не возникало, и в этом не было никакой фальши: шла война. У всех нас позади была эвакуация, а разлом обычной жизни дети воспринимают особенно остро. Летом 1943 года в разгаре была битва на Курской дуге. Страх услышать в очередной сводке Информбюро плохие новости неизменно собирал трех детей-погодков и старую женщину около репродуктора. Ухудшение дел на фронте нередко приводило к тому, что у «бабы» начинался сердечный приступ.
Любопытные воспоминания остались у меня об отношениях между детьми и жившей в доме прислугой. Горничную Зину — молодую и смешливую женщину — мы видели редко. Не могло быть и речи о том, чтобы Зина или кто-то другой «убирал за нами»: за разбросанные по дому книги или обрезки бумаги (мы непрерывно что-то вырезали и клеили) непременно бы влетело. Зато мы ощущали свою зависимость от поварихи Надежды Андреевны и сменившей ее тети Даши. Надежда Андреевна носила белый халат и более походила на медсестру или воспитательницу детсада, чем на повариху. Некогда она работала у нашего посла в Англии И. М. Майского. В силу этого в наших глазах Надежда Андреевна была очень важным человеком. В то лето мне случалось очень рано просыпаться. Чтобы никого не разбудить, из небольшой комнаты для гостей на высоком первом этаже, где я спала, я вылезала в сад через балкон — и изнемогала от сдобных запахов. Толкаться на кухне без надобности, а тем более выпрашивать что-то вкусное — запрещалось. Но запах сдобы увлекал меня назад в детство, к няне и булочной Филиппова. Кончалось это тем, что я бочком протискивалась в кухню через наружную дверь, после чего Надежда Андреевна с неизменным великодушием спрашивала, не дать ли мне чего-нибудь. Благоухающую теплую плюшку я утаскивала, как щенок, в уголок сада и немедленно съедала, давясь пухлым, губчатым тестом.
Тетя Даша появилась на следующее лето. Первое, что мы о ней узнали, — что она в свое время работала у Горького. У самого Горького! Даша была крупная немолодая женщина, которая, сколько я ее помню, никогда не улыбалась и вообще держала себя как-то отчужденно. Может быть, ее мастерство в семье П. оставалось невостребованным. Единственное «роскошное» блюдо, которое мы попробовали благодаря тете Даше, был «крем-брюле». Этот десерт был столь сытным, что никто из нас не мог одолеть обычную чашку. В дальнейшем крем-брюле Даша готовила в кофейных чашках, благодаря чему я и узнала о существовании последних.
Дача стояла над крутым берегом Москвы-реки. Вниз, к воде, вела деревянная лесенка, кончавшаяся мостками. К мосткам были привязаны две-три лодки. Никто из нас троих плавать не умел, а у мостков было уже «с головкой». Вопрос о том, можно ли нам купаться и кататься на лодке, был решен весьма разумным образом. Каждому дали по большому пробковому спасательному поясу и не велели забираться «слишком далеко». После чего мы были полностью предоставлены сами себе. Сегодня, когда родители, в особенности в более обеспеченных семьях, столько времени уделяют детям, все это довольно трудно себе представить. Как это никто не боялся, что мы заплывем за излучину реки, попадем в грозу, перевернемся или, наконец, сядем в лодку вообще без поясов?
Надо сказать, что грести по жаре в пробковом поясе было не слишком приятно, потому что его размер был рассчитан на рост взрослого человека. Поэтому если мы отправлялись подальше, то пояса лежали на дне лодки. Плавать я тогда так и не научилась, но воды бояться перестала и полюбила грести.
По воскресеньям мы иногда ездили с дядей Мишей купаться подальше, на песчаную отмель. Вода на отмели была совсем прозрачная, и нам очень хотелось поймать рыбешек, которые шныряли у самого берега. С этой целью мы использовали в качестве невода дяди Мишины пижамные штаны. Когда в полосатой ванночке из штанов наконец оказывались мальки, мы отпускали их обратно в воду. Дядя Миша нырял, поднимая над водой зажатые в кулак очки. Пожалуй, только в эти часы я видела его отдыхающим. Лицо его переставало быть напряженным, как это бывает на официальных фотографиях. Вообще-то у него было, по крайней мере, одно любимое занятие — косить на рассвете. Но удавалось это ему нечасто, а мы в это время спали.
Остальные дни недели мы делили между лесом и рекой. Противоположный берег Москвы-реки был низким, и там в луговой траве росла настоящая дикая клубника — некраснеющая крупная ягода с удивительным ароматом. Ее было немного, и, набрав горсть, мы ее тут же съедали. Кроме клубники, на тот берег стоило плавать за полевыми цветами. Запахи там были такие, что как-то перед грозой мы, девочки, вернулись оттуда с жестокой головной болью. «Баба» выговаривала нам, что по глупости мы, «городские», нанюхались дурман-травы.
Мне хотелось знать, как дурман-трава выглядит, но никаких справочников в доме не было. Книг на даче было не так уж много. Занимавшие целую стену в «кабинете» книжные шкафы в основном пустовали, как, впрочем, и сам «кабинет», куда дядя Миша даже не заходил — он никогда не работал дома. Кончилось тем, что эту комнату отдали детям. Мы с Борисом перешли туда спать, а в книжных шкафах поселились его бумажные солдатики.
Насколько я помню, увлечение солдатиками было связано с тем, что все мы тогда взахлеб читали и перечитывали «Войну и мир». Это, несомненно, была наша главная книга. Кира, старше меня всего на полтора года, была уже «барышня». Естественно, что она примеряла к себе роль Наташи Ростовой. Тем самым мне — по умолчанию — доставалась роль Сони. Это, конечно, меня не устраивало, и мы ссорились — ненадолго.
До эпохи акселерации было еще очень далеко. Наша летняя одежда, несмотря на кардинальную разницу в социальном положении родителей, исчерпывалась ситцевым платьем и трусиками. Кира, однако, куда более, чем я, была занята своей внешностью. По сравнению с ней я психологически еще долго оставалась ребенком, хотя, как я теперь понимаю, интеллектуально ее обгоняла. Видимо, я рано стала «почемучкой» — но поскольку в детстве я преимущественно бывала одна, свои вопросы я адресовала не родителям, а книгам.
На дачу нам регулярно доставляли небольшую брошюру, которую все называли «список». Это был перечень новых книг, которые можно было выписать бесплатно и без ограничений. Дети тоже что-то выписывали, хотя я помню только «Тайну профессора Бураго» — был такой шпионский роман, выходивший отдельными выпусками. Зачитывались мы с Кирой преимущественно русской классикой. Именно в Архангельском я прочла почти всего Тургенева, Гончарова, пьесы Чехова. Если заряжал дождь, то в доме могло быть совсем тихо с утра до вечера. Кира читала, сидя на диване у стоячей лампы. Там же, в кабинете на большом ковре, лежала я с книжкой, а рядом Борис на корточках строил в каре своих гусар. Борис погиб в Бурже в 1973 году при катастрофе нашего суперсамолета. Так я и запомнила его мальчиком с челочкой и веснушками на носу.
Я упоминала выше Сошу, родственницу тети Маки. У Соши было серьезное музыкальное образование, но что более важно — сама она была очень музыкальна. Благодаря ей ко мне вернулась совершенно заброшенная с начала войны музыка. Зная ноты, я не умела предаваться тому, что принято называть «музицированием». В моей памяти начало нашего общего с Кирой увлечения пением вместе с Сошей связано с известной сценой из «Войны и мира», где Николай, Наташа и Соня поют втроем романс «Ключ». Балы или охота случались в книгах, а играть на фортепиано и петь на два голоса можно было в жизни. Пока Соша гостила на даче, мы со страстью отдавались этому занятию. Так мы «спели» основной репертуар русского городского и классического романса и отчасти, оперы, тем более что русская оперная классика к тому времени нам с Кирой была частично знакома благодаря спектаклям Мариинского театра, эвакуированного в Пермь. «Спели» в кавычках потому, что у меня был неплохой слух, но никакого голоса, а у Киры — если мне не изменяет память — какой-никакой голос был, но не было особой музыкальности. Впрочем, важно иное. «То было раннею весной» или «Мы сидели с тобой у заснувшей реки» в дальнейшем были для меня уже не просто музыкой.
Нарисованная мною картинка выглядит идиллией. Это и была идиллия — причем идиллия усадебная и специфически русская. Архангельское одарило меня русской природой, русской классикой и русской музыкой.
Через сорок с лишним лет после описываемых событий, т. е. в конце восьмидесятых, в Рахманиновском зале Консерватории московский баритон Николай Мясоедов в течение трех сезонов пел лучшие русские романсы в цикле концертов «Из истории русского романса». И всякий раз, возвращаясь домой по развороченной Никитской, я думала: «Еще и поэтому я не уехала из России — и никогда не уеду».
В последний раз я видела дядю Мишу в 1960 году в Берлине, где он был советским послом. Мне было без малого тридцать, но для него я, естественно, осталась девочкой. Он был мне откровенно рад и куда более раскован, чем некогда в Архангельском. Глядя в сторону Бранденбургских ворот, около которых находилось здание посольства, жаловался на то, что на работе он занят всякими глупостями, связанными с разницей в ценах между Западным и Восточным Берлином. (Стену еще не построили.) Потом он оставил меня обедать, и мы опять ели борщ, котлеты, макароны…
175-я школа
175-я школа, более известная в Москве как бывшая «25-я образцовая», знаменита была преимущественно тем, что директором там была Ольга Федоровна Леонова, одна из женщин-депутатов Верховного Совета первого созыва. После того как за время жизни в эвакуации я сменила несколько школ, папа был озабочен тем, чтобы я училась в хорошей школе. В 175-й школе училась моя подруга Кира П. Папа решил попытаться определить меня туда же.
Школа находилась довольно далеко от нашего дома, в Старо-Пименовском переулке (она и теперь там). Леонова приняла папу любезно, посмотрела мой табель, где стояли одни «отлично», и согласилась. Начиная с 1943 учебного года, эта школа становилась женской, поэтому там было довольно много перетасовок. Главное же событие, весьма тягостно повлиявшее на судьбу 175-й школы, произошло где-то в промежутке между визитом папы к Леоновой и 1 сентября 1943 года.
Один мальчик, учившийся (кажется) в восьмом классе, был страстно влюблен в свою ровесницу. Девочке предстоял отъезд в дальние края вместе с отцом. Мальчик умолял, требовал, угрожал — и днем, на Каменном мосту, застрелил из отцовского пистолета девочку, а потом и себя. Чем могла бы кончиться подобная история в другой школе — я не знаю. Но в данном случае мальчик был сыном Шахурина, тогдашнего наркома авиации, а девочка — дочерью известного советского дипломата Уманского. К тому же несколько раньше эту школу кончила Светлана Сталина, а Светлане Молотовой предстояло еще учиться в ней дальше.
Леонову сняли. Директором в школу прислали Анастасию Петровну Моисеенко — женщину с безусловными садистическими наклонностями. Она могла бы быть начальницей в советской колонии для малолетних преступников — впрочем, уж там, я думаю, нашли бы способ отправить ее на тот свет.
Тем не менее следующие семь-восемь лет школа в немалой степени жила по инерции и педагогический коллектив сохранялся, так что мне повезло. Повезло мне и в другом. Все годы, что я училась, нашей классной руководительницей была Елена Михайловна Булганина, жена одного из первых лиц в государстве. Поэтому возможности для вмешательства в жизнь именно этого класса у Моисеенко были ограниченны.
Феномен 175-й школы, на мой сегодняшний взгляд, интересен тем, что эта школа особым образом отражала многие парадоксальные и труднообъяснимые черты тогдашнего советского общества — по крайней мере городских его слоев.
Конечно, это была привилегированная школа, но совсем не в нынешнем понимании.
Начну со школьного быта. Мало кто помнит, что до мая 1945 года в Москве сохранялось «затемнение» — пожалуй, и само слово это молодым поколением забыто. «Затемнение» означало, что с наступлением темноты все окна закрывались плотными шторами из темно-синей или черной бумаги. Только после этого в помещении можно было зажечь свет. Никаких освещенных витрин и вывесок Синие лампочки в подъездах и на лестничных клетках Улицы не освещались. Как ходил вечером трамвай — я не помню. Кажется, по сигналу воздушной тревоги трамвай останавливался и скупой свет отключался. Никому и в голову бы не пришло посветить себе фонариком на темной московской улице — это могло бы кончиться военной комендатурой и всем, что из этого вытекало. Именно снятие «затемнения» было главным знаком того, что война действительно кончилась.
Теперь читателю будет более понятно, что в подобных условиях означали занятия в одну смену. Это, однако, не все. Одна смена позволяла нам оставаться после уроков в классе хоть до пяти вечера. Это тоже было очень важно. Во-первых, в школе было тепло, тогда как дома почти все мы жили с буржуйками и отчаянно мерзли. Во-вторых, большинство жило в тесноте в коммунальных квартирах. Эта теснота тоже сегодня малопредставима: я помню, например, что семья моей одноклассницы Маши Ш. жила вшестером в семиметровой комнате. И, в-третьих, чем бы ни были заняты родители моих подруг по классу, дома их — за редким исключением — не было до позднего вечера.
Школа, таким образом, была местом, где мы могли — если того хотели — проводить большую часть дня. Можно было даже выйти в школьный двор погулять и вернуться обратно в школу. Тот, кто жил поблизости, мог сбегать за забытой книжкой или прихватить из дому кусок хлеба или картофелину в мундире. В школе кормили нас, правду сказать, скудно, но были девочки, которые приберегали ежедневный бублик с соевой конфетой для младших братьев или сестер.
В школе мы носили форму — синее платье и черный передник. Форма появилась не сразу, и первую зиму я ходила в школу в лыжных штанах, потому что мне больше нечего было надеть. Позже форму мне сшили. При этом платье было из какого-то подозрительного материала, но зато передник — чуть ли не из фрачного сукна. Платье быстро протерлось, зато передник дожил до окончания школы.
Форма, казалось бы, должна унифицировать внешний вид детей. В нашей школе все обстояло как раз наоборот. «Правительственные» дети носили платья из хорошей шерсти густых и даже ярких синих тонов, с ослепительными белыми воротничками и манжетами, иногда — кружевными. Остальные ходили в том, что родителям удалось добыть. Мне постоянно доставалось за грязные манжеты, кому-то — за мятый передник. В остальном же учителя наши не выказывали явного различия в своем отношении, например, к Гале Поскребышевой, дочери секретаря Сталина, и Маше Ш., которую я упомянула выше.
Впрочем, определенная разница в отношении была, но проявлялась она преимущественно со стороны Елены Михайловны, нашей классной руководительницы.
Елена Михайловна Булганина была, несомненно, незаурядным человеком. Она преподавала у нас английский язык. Это была женщина лет сорока, среднего роста, очень легко и изящно двигавшаяся, несмотря на свою полноту. У нее был приятный грудной голос и обаятельная улыбка. Одевалась она с европейской элегантной простотой. Папа, пришедший на родительское собрание, сразу обратил на это внимание. Преподавала ли Е. М. ранее в школе — я не знаю, но это был ее первый опыт как классного руководителя. Или, может быть, классной дамы — потому что идеалом Елены Михайловны была, конечно, гимназия, а не какая-то невнятная «25-я образцовая».
Я училась очень хорошо, но никак не была примерной девочкой. Если я скучала, то читала под партой, одновременно ела и пускала зайчики плексигласовой линейкой. Впрочем, на уроках Елены Михайловны мне не пришло бы в голову так безобразничать. Это было бы неуместно — все равно, что прыгать через веревочку на балу. Первые несколько лет я была у Елены Михайловны любимицей — она это и не скрывала. Позже, когда я стала старше, она ко мне охладела, но никогда не была несправедлива. Я же обратила внимание на то, как по-разному Елена Михайловна реагирует на плохие отметки и мелкие провинности моих одноклассниц. Неля Р. — в прошлом Портос из нашего двора в Перми — по русскому письменному имела стойкие двойки. Это было как бы огорчительно, но не более того. Эля Е. — девочка из «простой» семьи — за то же самое получала суровое предупреждение.
Отчасти я сегодня лучше понимаю всю сложность ситуации, в которую попадала Елена Михайловна: ведь с родителями некоторых учениц она была знакома домами, и, быть может, много лет. Маму Эли — не то уборщицу, не то лифтершу — она видела разве что на родительских собраниях, а может, и вовсе не видела.
Справедливости ради замечу, что я не могу припомнить со стороны кого-либо из учителей случаев откровенного снисхождения к детям из-за общественного положения их родителей. И уж тем более я не помню случаев дискриминации. Кто знал, тот получал свою пятерку — и даже требования к более способным были заведомо более суровыми.
Елена Михайловна свой класс любила и употребляла свое влияние на то, чтобы сделать для нас доступным то, о чем в те годы другие школьники не могли даже мечтать. В конце каждой четверти она водила лучших учениц во МХАТ или в Большой. За много лет до отправки в ГДР сокровищ Дрезденской галереи весь класс получил возможность посмотреть эту закрытую для всех экспозицию (насколько я помню, в каком-то хранилище без дневного света). На Новый год в наш класс приезжала кинопередвижка с лучшими фильмами Диснея, которые на экран вышли десятилетия спустя или вообще не вышли.
По окончании учебного года отличившиеся получали в награду книги, которые Елена Михайловна выбирала сама. Книги были весьма ценными, а по тем временам и редкими. Так, в пятом классе я получила собрание сочинений Пушкина в пяти томах, а на выпуске всех нас одарили уникальным однотомным изданием полного Пушкина, приуроченным к 150-летию со дня его рождения.
В более поздние годы экскурсии для школьников стали обычным делом. Но нас еще во время войны водили на «Серп и молот», на «Красный Октябрь», на текстильный комбинат и еще куда-то. Для Елены Михайловны это было просто — ведь в Москве не было человека, который бы не знал, кто такой Булганин. Но ведь ни из чего не вытекало, что, имея двух детей и дом, а также, надо думать, какие-то светские обязанности, она должна была создавать для нас все эти особые возможности.
Другим источником привилегий не только для нашего класса, а для школы в целом были наши шефы — Всесоюзный Радиокомитет. В дотелевизионную эпоху радио было в большой мере законодателем вкуса. Там, как я уже упоминала, царила классика — и в музыке, и в слове. Радиокомитет посылал к нам тех, кто в той или иной форме работал на радио. Особенно часто бывал у нас Всеволод Аксенов, известный мастер художественного слова. Это был человек очень высокого роста, статный и пластичный, будто рожденный для роли Чацкого. За несколько вечеров он прочел нам всего «Евгения Онегина». Он читал также большие фрагменты из «Горя от ума» и «Полтавы» и многое другое.
Совершенно поразили меня стихи Есенина «Собаке Качалова». Все, что я о Есенине знала, — это трагедия самоубийства, свершившаяся в какие-то стародавние времена. Есенина однажды близко видел папа. Было это при следующих обстоятельствах. До переезда на Тверскую — т. е. до 1924 года — мои родители года два жили в Хлебном переулке. Их соседом по квартире был Рюрик Рок, один из «ничевоков». Однажды вечером в дверь позвонили. Отец пошел открывать и обомлел: в дверях стоял некто в крылатке и цилиндре, более всего похожий на оперного Ленского. Это был Есенин.
Тем не менее, как и прочие события и люди, существовавшие «до меня», Есенин оставался для меня полумифической фигурой. Зато Качалова я неоднократно видела не только на сцене, но и за углом нашего дома, в Брюсовском переулке, а еще на Тверском бульваре. И вот выходило, что они современники! Тут я вспомнила, что читала что-то о Есенине в «Красной Нови». Дома я добралась до верхней полки стеллажа и в пыльных томиках «Красной Нови» за 1926 год прочла все, что писали под непосредственным впечатлением от смерти поэта. Похоже, что таким образом я впервые приобщилась к литературоведению.
Кажется, с восьмого класса у нас появился серьезный драмкружок. Занятия вели двое из самых известных дикторов радио — Наталия Толстова и Эммануил Тобиаш. Интерес к драмкружку был отчасти связан с всеобщим увлечением уроками литературы, а точнее — Анной Александровной Яснопольской, которая эти уроки вела. По-видимому, наши руководители были фантастически одаренными людьми. Я помню, как на новогоднем вечере Таня Э., наша первая ученица, девочка скорее флегматичная, во всяком случае чуждавшаяся всякой патетики, прочла монолог Катерины из «Грозы» Островского. Репертуар вечера всегда должен был быть сюрпризом, но это был уже не сюрприз, а потрясение. Таня закончила, а мы так и сидели, не аплодируя.
У нас в актовом зале был хороший рояль. Мне запомнился совсем еще юный и очень худой Гена Рождественский, который обычно аккомпанировал своей матери — известной певице Наталии Петровне Рождественской (она много работала на радио), а кроме того, и сам играл. В том же зале произошло мое «открытие музыки». Случилось это благодаря моей подруге Нуннэ Хачатурян.
Начиная с восьмого класса, Нуннэ училась в одном классе со мной и одновременно — в Центральной музыкальной школе. Она часто бывала у нас дома и любила играть на нашем фортепиано. До какого-то момента для меня это были не самые важные моменты в нашем общении. Однажды, перед началом какого-то ответственного вечера, я была занята в зале не помню уж, чем именно, а Нуннэ сидела на сцене за роялем и «разыгрывалась». Вдруг раздались какие-то совершенно невероятные, божественные аккорды. У меня, что называется, отверзлись уши. Я бросилась на сцену с криком: «Что это? Что это такое?» Нуннэ безмятежно ответила, что это Первый концерт Чайковского.
Эта история доставила особую радость моему отцу. Он все ждал и верил, что серьезная музыка мне откроется когда-нибудь. С тех пор как меня впервые посадили за инструмент, прошло десять лет. Папа был терпеливым человеком.
Следующие три-четыре года моей жизни сопровождались своего рода музыкальным помешательством. Теперь при первой же возможности Нуннэ, а иногда кто-нибудь из ее друзей по ЦМШ играл на нашем «Ренише». Я прибегала к Нуннэ на Пушкинскую, где у них был взятый напрокат рояль. Примерно в это время появился у нас дома трофейный «Телефункен», который благодаря огромному деревянному ящику давал сильный и чистый звук. Я заново открывала для себя оперу. Вскоре мы с папой стали регулярно бывать в Консерватории.
Все остальное время у меня было занято учебой. Школа предъявляла к нам достаточно серьезные требования. Я мало занималась только тогда, когда болела. Начиная с восьмого класса, у нас была система сдвоенных уроков, отчасти напоминающая лекционную. Тогда же из Германии по репарациям школа получила замечательное по качеству оборудование для кабинетов физики и химии. Химию — или нашего химика Дмитрия Сергеевича — я любила, физику — не слишком. Зато, как мне сейчас представляется, именно с тех времен я стала чувствовать эстетику старых приборов и инструментов — красоту всех этих латунных колесиков и рычагов, хорошо пригнанных винтиков с рифлеными головками, сочетание старого дерева и меди в барометрах и гигрометрах.
Нам довольно серьезно преподавали техническое черчение, которое я тоже не любила. Зато я наслаждалась подаренной отцом немецкой готовальней, где в мягких синих углублениях лежали желтые латунные циркули и безупречного качества рейсфедеры. Готовальня эта была так хороша, что как бы заранее не допускала небрежности в деле, для которого она была предназначена. А поскольку способностей к черчению у меня не было, целый год каждое воскресенье с утра я усаживалась за ватманский лист.
Математика, точнее — геометрия, мне тоже давалась не очень легко. Как правило, однако, я сидела над задачей, пока задача не решалась. Это было вызвано не азартом, а чувством дискомфорта от непонимания. В нашем классе была принята одна любопытная процедура. Ни о чем подобном я не слышала от других школьников. До начала урока выяснялось, много ли народу не сумело справиться с заданием. Если не решили всего два-три человека, надо было попытаться успеть объяснить задачу у доски. Эта роль обычно доставалась мне — не потому, что я была сильна в математике и в физике, а потому, что если я решала задачу, то умела объяснить. Но когда с нерешенными задачами приходила большая часть класса, можно было встать и сказать: «Юлий Осипович, мы сегодня не решили». Это делала я, как сильная ученица, или Таня Э., как староста класса и безусловно «первая» ученица.
В этом случае опрос отменялся. Учителем математики был Юлий Осипович Гурвиц, многолетний декан физмата в одном из московских педвузов. Он вставал в проходе между рядами и, выпрастывая безупречные крахмальные манжеты из рукавов пиджака, начинал объяснять буквально «на пальцах».
Когда я уже в университете рассказывала, что в нашем классе было «не принято» списывать и подсказывать, не говоря уже о шпаргалках, мне, как правило, не верили. Это, однако, было именно так — просто ни в том, ни в другом не было резона.
Я не хочу этим сказать, что отношения между учителями и учениками в нашей школе были идиллическими. Характерно, однако, что я не припоминаю учительских прозвищ. Исключение составляет наша директриса, которую мы за глаза звали «Настасья» и дружно ненавидели. К некоторым учителям мы относились как бы снисходительно, но большинство — любили или уважали.
Что касается Анны Алексеевны Яснопольской, то ее боялись еще до того, как начинали у нее учиться, — она вела литературу только с восьмого класса. Позже ее уважали и любили, а также обожали, как это умеют делать только дети.
Как и большинство наших школьных учителей, Анна Алексеевна была весьма немолода — мы по возрасту годились ей во внуки. Я бы не хотела ее идеализировать, но чего в ней определенно не было, так это нелюбви к молодости. Анна Алексеевна была замкнута, требовательна и отгорожена от нас возрастом и ролью. О ее прошлом я ничего не знаю. Своей семьи у нее не было — она жила с семьей сестры. Похожа она была на старого и постоянно настороженного мопса. Преображалась Анна Алексеевна, когда читала нам вслух.
Я думаю, что свою работу она ощущала как миссию. Воспоминания о том, что значили эти уроки для тех, кто учился у нее еще перед войной, я случайно нашла в одной из книг покойного Сергея Львова.
Я училась у Анны Алексеевны в страшные для литературы, да и вообще духовной жизни годы — с 1946 по 1949-й. Это времена беспросветности и молчания. Сейчас трудно поверить в то, что даже лучшая московская школа этого времени — это школа без Достоевского, без «серебряного века», не говоря уже о Бунине и Цветаевой, имена которых просто не упоминались. Это времена «постановлений», растоптавших Ахматову, Зощенко и Шостаковича, борьбы с космополитизмом и, наконец, массовых арестов, начавшихся в 1949-м. (Нашей школы это коснулось непосредственно, о чем — ниже.)
Наивно было бы думать, что в эти времена между любимым учителем и учениками могла существовать атмосфера доверительности. Для учителя — во всяком случае, учителя московской, ленинградской или киевской школы — это был бы смертельный риск в буквальном смысле слова. Однако и здесь существовало пространство поступка.
Год за годом Анна Алексеевна Яснопольская читала вслух замершему классу стихи и прозу русских классиков. Как писала еще в 1932 году Л. Я. Гинзбург, «классическая книга выделяла из себя ходячие знаки эмоциональных и социальных смыслов».
О «Постановлении» 1946 года на наших уроках литературы не было сказано ни слова, но в связи с Пушкиным были прочитаны ахматовские стихи о «смуглом отроке» и некоторые «царскосельские» строфы.
Представления о нравственности, благородстве, личном мужестве вытекали из углубленного изучения эпохи декабристов. Через Грибоедова были открыты Тынянов и Гершензон, через Пушкина — пушкинистика, через Блока — такое издание, как довоенное «Литературное наследство».
Огромное внимание было уделено Белинскому и Герцену. Разумеется, тексты этих авторов следовало читать полностью, а не в каких-то «извлечениях». В результате я в девятом классе прочла двухтомник Белинского и «Былое и думы». Тем самым, возникла возможность восприятия жанров качественно иных, нежели художественная литература. Оказалось, что можно найти в авторе собеседника. Что текст взывает к спору. Что с книгой надо работать.
Разумеется, внимательно читались все комментарии. Примечательно, что авторами многих комментариев были достойнейшие умы того времени. Бонди, Цявловский, Азадовский, Томашевский, Эйхенбаум, Оксман — все они очень рано оказались «на слуху». Комментарии изобиловали ссылками на имена, события и обстоятельства, о которых иначе мы бы никогда не узнали. Я была совершенно переполнена непрерывно совершаемыми мною открытиями. Когда наша школьная библиотекарша пустила меня к дальним полкам, где стояло все «Литнаследство» без каких-либо изъятий, я поняла — вернее сказать, почувствовала, что с чем-то подобным связано мое будущее.
Тем временем я уже была в десятом классе и намеревалась поступать на русское отделение филологического факультета МГУ. С января 1949 года началась активная кампания против космополитов. Вдобавок уже набирали силу аресты среди московской интеллигенции — преимущественно еврейской. Но ни я, ни мои родители не связывали это с моими жизненными планами. Тем более что я была очевидной претенденткой на золотую медаль. Золотая медаль официально означала поступление в любой вуз без экзаменов. Ну, а золотая медаль 175-й школы, с которой в Москве тогда сравнивали только 110-ю мужскую школу Ивана Кузьмича Новикова, должна была распахнуть передо мной любые двери.
Осенью 1948 года мои планы на будущее едва не изменились. В нашу школу на педагогическую практику были посланы несколько студентов исторического факультета. В седьмом классе, где я была вожатой, уроки вел Юрий Абрамович Кревер, тогда, как мне помнится, рассказывавший о восстании гуситов. Он прошел войну, и в частности побывал в Праге. Почему именно в него я была отчаянно влюблена — я и сама не знаю. Впрочем, он и вправду был очень обаятельным человеком. Я помню, как, слушая любимую тогда песню «Эх, дороги, пыль да туман», я впервые по-настоящему поняла, что именно этот небольшого роста молодой человек с изящными руками мог навсегда остаться лежать «неживым в бурьяне». Это возможное горе было для меня более личным, чем гибель на фронте обоих младших братьев мамы, ушедших добровольцами в первые же дни войны.
В нашем классе практику проходила Светлана Сталина, которая специализировалась по истории СССР. По понятным причинам мы смотрели на нее во все глаза и потому сидели как болванчики и едва ли что слышали. Обстоятельства моего первого разговора со Светланой, равно как и с Кревером, из моей памяти стерлись. Однако именно то, что я уже была с ними знакома, дало мне основания пригласить их от имени класса на вечер, который мы устраивали по случаю тридцатилетней годовщины комсомола. Помню, что мы ужасно волновались, придут ли они. Они пришли.
Светлана была худенькой и застенчивой молодой женщиной, входившей в дверь как-то бочком. Одета она была всегда в английский костюм малинового цвета. Примечательным в ее внешности были волосы. Они не просто были рыжими, но как будто светились, наподобие старого золота. Я отчетливо помню, как уже после окончания концерта мы стоим на сцене у рояля вместе со Светланой и Кревером и Светлана убеждает меня поступать на исторический факультет. Разумеется, она приводила какие-то аргументы, но я даже отдаленно не припоминаю, о чем вообще шла речь. Вечер был очень удачный, и все мы были охвачены восторженным чувством дружеской общности.
Кревера я долго помнила и с радостью нашла через много лет в каком-то журнале его статью о методике преподавания истории. Однако решение поступить на филологический осталось непоколебленным. Мама недоумевала, что я буду делать, когда окончу университет, — неужели я хочу быть, как она выражалась, «училкой»? Я из упрямства отвечала «да», хотя так далеко я просто не загадывала. (Более подробно об этом я расскажу ниже, в разделе «Наука как стиль жизни».) Папа напоминал, что золотая медаль мне необходима, а в прочее — не вмешивался. Он только огорчался, когда я засиживалась за уроками до полуночи, а это случалось все чаще. Мне предстояло сдавать одиннадцать экзаменов. Из них самым устрашающим выглядел экзамен по истории, где надлежало помнить содержание всего курса, начиная с пятого класса. К тому же наша «историчка» Софья Моисеевна Качанова требовала знания немалого количества первоисточников — преимущественно трудов Ленина.
И все-таки я продолжала много читать. Последней новинкой тогда был роман Ильи Эренбурга «Буря». Я была зачарована той частью романа, где герой жил в Париже и любил загадочную француженку Мадо. Замечу, что современная западная литература в 40-е годы была по большей части нам недоступна, даже если она и существовала в переводах. Ранний Ремарк и Хемингуэй просто не выдавались в библиотеках, равно как и Фейхтвангер.
Публичные обсуждения «полезных», с точки зрения властей, книг в школах, на заводах и в вузах были тогда обычным явлением. Мы тоже вознамерились устроить обсуждение «Бури» — разумеется, с участием автора. Кто-то из «взрослых» официально пригласил Эренбурга, который жил в доме напротив Моссовета — т. е. в двух троллейбусных остановках от школы.
Мне предстояло открыть этот диспут обстоятельным выступлением. Я заранее так волновалась, что никак не могла заставить себя сесть готовиться. Дело было в начале марта.
17 марта на большой перемене подошла ко мне Елена Михайловна и сказала, что диспута по «Буре» не будет, потому что это запрещено. И не позвоню ли я сама Илье Григорьевичу — так будет лучше — и скажу, что… ну, в общем, что диспута не будет из-за каких-то сугубо школьных сложностей. Я онемела — и отказалась. После следующего урока то же самое сделала Софья Моисеевна, остававшаяся в моих глазах человеком «без страха и упрека». Я уже только помотала головой, что не буду.
Я понятия не имела, что в этот период гонения на Эренбурга достигли такого накала, что у него вообще молчал телефон. Я только чувствовала, что все происходящее — часть какого-то черного, расползающегося ужаса. Еще один урок я просидела в состоянии полной отключенности. В этот день после занятий мы ждали Аксенова. Я заглянула в уже наполнявшийся зал — и вышла. Аксенов был из другой жизни, которая в данный момент — или начиная с данного момента — не имела ко мне никакого отношения. Выйдя из школы, я поняла, что домой идти тоже не могу, и отправилась бродить по городу. Не знаю, где именно я бродила. Я помню, что иду мимо здания архитектора Бурова, построенного им для банка на углу улицы Горького и Настасьинского переулка, и внезапно осознаю, что это уже было, только не со мной, а с еврейским школьником Бертольдом из романа Фейхтвангера «Семья Оппенгейм». После 1933 года в немецких гимназиях уже проявлялся духовный диктат фашизма. Бертольд должен был публично отказаться от того, что он написал в своем сочинении из истории войн между латинянами и древними германцами. Реальные исторические события «отменялись», поскольку германец не мог быть побежден представителями «низшей расы». Эмигрировать из Германии Бертольд не хотел, а бесчестью предпочел самоубийство.
Когда я пришла домой, родители уже беспокоились. 17 марта был день рождения Киры П., который по традиции я не пропускала. Встретив вопросительный папин взгляд, я, как была, в пальто и шапке, бросилась к нему, рыдая в голос. Плача, я все вопрошала: «Папа, что это? Как это?» На день рождения я идти не хотела, смутно ассоциируя Киру и ее семью с отныне невозможным для меня благополучием. Вскоре позвонила удивленная Кира. Я не подошла к телефону, продолжая плакать. Потом позвонил обеспокоенный дядя Миша. Здесь мне уже следовало взять трубку. Я чем-то отговорилась.
В мае, почти накануне главного экзамена — сочинения на аттестат зрелости, у Ларисы Лангер арестовали мать: она работала где-то в системе здравоохранения и дружила с Жемчужиной, женой Молотова. Об этом аресте все знали, и все были этим подавлены. Но чего никто не знал — это того, что все эти годы в нашем классе на соседних партах сидели дети убитых и замученных рядом с детьми убийц и мучителей.
В этом смысле наша школа была великолепной моделью советского социума. Характерны судьбы двух моих одноклассниц. При всем различии, жизни обеих сложились трагически. Отца А. забрали в 1937-м как деятеля Коминтерна. От чужих это как-то удалось скрыть, поэтому чуть ли не до конца шестидесятых существовала версия, что он пропал без вести в начале войны. Разоблачение могло произойти в любой момент. По существу, все детство и юность моей подруги были накрыты ужасом длящегося прошлого.
Другая моя соученица не представляла себе, где именно и кем работал ее отец: что-то там секретное. Ничего особенного — полгорода (тогда мы не знали, что полстраны!) работало в разных «секретных» местах. В 1956 году профессия его станет известна, а имя сделается нарицательным — он был следователь-изверг. Мать Н. с тремя детьми выслали из Москвы, и как сложилась их судьба, я не знаю. Хорошо, если дети сумели изменить фамилию, а если нет?
Некоторых девочек в школу привозили и отвозили на машинах. Я не помню, чтобы сам этот факт кого-нибудь занимал, тем более что многие жили довольно далеко, а в те годы, как правило, дети учились по соседству от дома. Моя подруга Наташа А., отец которой был в ту пору заместителем министра ГБ, предпочитала идти домой на Мархлевского пешком, но это ей не всегда разрешали.
Вообще же у нас в классе никто не интересовался тем, где работают родители и кто они. Конечно, было известно, что отец Нуннэ — знаменитый композитор Хачатурян, а отец Наташи — известный актер МХАТа Ливанов, но отсюда ничего не вытекало. У всех были похожие портфели, более или менее одинаковые тетради и ручки. На стене в классе часов не было, наручные же часы были редкостью. У меня они появились в седьмом классе, и потому меня постоянно дергали за косы, спрашивая «Сколько осталось?» (т. е. до конца урока).
Излишне говорить, что никто не носил украшений, а о косметике и слыхом не слыхали. Многие приносили в школу бутерброды и яблоки, но невозможно себе представить, чтобы, например, Галя Поскребышева принесла на завтрак бутерброд с черной икрой или чем-нибудь подобным.
Частная жизнь сильных мира сего — во всяком случае, в той мере, в которой она отражалась в быту их детей в военные и первые послевоенные годы, — все еще подчинялась правилам эпохи партмаксимума. Обо всем прочем мы не знали и не догадывались.
Живые хотят жить — и в июне 1949 года я сдавала один за другим одиннадцать экзаменов, проходя почти каждый день мимо памятника Пушкину, пьедестал которого по случаю юбилея был доверху завален букетиками ночных фиалок
Я поступаю в университет
Лето 1949 года было теплым, но очень дождливым. Запах влажных ночных фиалок, лежавших холмиками у памятника Пушкину с 6 июня, чуть ли не весь месяц провожал меня вверх по улице Горького. Наверное, с тех пор я этот запах и невзлюбила. Последние школьные экзамены я сдавала в состоянии умопомрачения. Никакая сессия в университете впоследствии так меня не изматывала. Выпускной вечер, видимо, удался на славу, но я помню только чувство ненужности всего происходящего и не испытанное прежде ощущение отчужденности, как если бы я находилась внутри аквариума. Я была глубоко подавлена, хотя причин этому не было — ни явных, ни тайных. Как-то я сумела скрыть свое состояние от мамы, которая впервые пришла в школу и не без изумления принимала поздравления от учителей по случаю моей золотой медали.
Через несколько дней я отнесла свое заявление на филфак и, как все медалисты, получила направление на собеседование.
Собеседование у меня принимал Л. Г. Андреев, впоследствии — декан филфака. Он был скорее дружелюбен и поинтересовался, почему я желаю учиться именно на русском отделении. Я бесхитростно ответила, что хотела бы изучать русскую литературу. Разговор наш выглядел чистой формальностью, но зайдя через несколько дней на факультет, я обнаружила, что в приеме на русское отделение мне отказано. Мне предлагалось учиться на восточном. В то время это означало изучение языков народов среднеазиатских республик с перспективой работать там же. Последнее для меня было лишено всякого смысла.
Я была ошеломлена. Допустим, по наивности. Но реакция моих родителей сегодня и вовсе представляется непонятной. Казалось бы, они были достаточно осведомлены об уже начавшейся «охоте на ведьм», чтобы сказать мне: скажи спасибо, что тебя, Фрумкину Ревекку, вообще пускают на порог МГУ. Это, однако, были другие времена. Например, позади была сессия ВАСХНИЛ, но моя одноклассница Белла Сухарева, которую мой папа прозвал Юдифь за чисто еврейскую красоту, благополучно сдала экзамены на биофак. С другой стороны, мысль о том, что можно поступить на восточное отделение, а потом попытаться перевестись на русское, никому не пришла в голову. И слава Богу: при очевидной, казалось бы, разумности, такой ход был бы тупиковым — с восточного отделения тогда никого и никуда не переводили.
Итак, родители были поражены не меньше меня. Папа не имел нужных знакомств и не мог мне помочь. Мама, которая знала всю Москву, со свойственной ей энергией решила выяснить, кто и почему решил мне отказать.
Дальнейшие события напоминали кафкианские сюжеты. Последовательность их я не помню именно в силу бессвязности происходившего. Мама звонила, ездила, выясняла — и не могла добиться никакого ответа. Кому-то безрезультатно звонил Чуковский. В очередной раз к маминому благоразумию воззвал Мирон Семенович Вовси — мамин близкий знакомый, впоследствии один из главных обвиняемых по «делу врачей». За полгода до окончания школы я долго лежала в больнице, он наблюдал меня и теперь беспокоился, что эта нервотрепка будет мне слишком дорого стоить. Вовси высказался примерно так «Почему бы Рите не принести документы к нам? Золотая медаль — автоматическое зачисление, через неделю будет купаться в море». Действительно, в отрочестве я намеревалась стать врачом, но сейчас я была тверда в своем намерении быть филологом. Поэтому я отказалась, продолжая всхлипывать прямо в телефонную трубку.
Наконец один из добровольных ходатаев передал маме, что дело в том, что я не комсомолка. Это была откровенная ложь. Как и все обычные дети той поры, я в 14 лет вступила в ВЛКСМ. Тогда мама решилась на крайний шаг и позвонила своему давнему и близкому приятелю Анатолию Павловичу О.
Анатолий Павлович был молодым человеком — я думаю, лет тридцати с небольшим. Он иногда бывал у нас дома — у него были какие-то дела с мамой. В нем сразу виделась личность неординарная. Я, грешным делом, его недолюбливала. Сегодня бы я сказала, что для меня он был слишком победителен, а главное — не скрывал этого. О. и в самом деле был хорош собой — высокий, в отлично сшитом костюме, свободный в движениях Он был крупным специалистом по турбобурам и имел три Сталинские премии за какие-то особые достижения в этой области. Мама говорила, что он был любимцем «самого».
В моей истории Анатолий Павлович повел себя в соответствии с манерами крупного организатора и привычками человека, который вхож в любые кабинеты. Он надел тот пиджак, к лацкану которого были прикреплены три золотые медали лауреата, вызвал машину и поехал со мной к проректору МГУ Вовченко. В предбаннике проректорского кабинета он аккуратно отодвинул плечом секретаршу и, взяв меня сзади за воротничок платья, как котенка за шкирку, втянул за собой в кабинет, элегантно прикрыв пухлую дверь.
Вовченко был седовласый и довольно тучный человек, напоминавший маститого генерала из кино. Из дальнейшего мне запомнились только следующие слова моего благодетеля: «Пожалуйста, посмотрите на эту девочку. Она вам не нравится? И чем же, собственно?» Дальнейшее в моей памяти не сохранилось. По каким-то причинам мне следовало встретиться с профессором Р. М. Самариным, который возглавлял романо-германское отделение. Он был готов принять меня у себя на даче в Валентиновке. Встреча эта состоялась, и чем-то она была предельно унизительна. В конце концов меня зачислили — но почему-то на испанское отделение. О его существовании я ничего не знала, но это уже не играло роли: у меня просто не было сил для рациональных реакций.
… И выбираю лингвистику
Университетская жизнь, начавшаяся 1 сентября 1949 года, захватила меня пестротой и неожиданностью впечатлений. Занятия наши можно было бы разделить на три типа: язык, лекции, семинары.
«Язык» мало отличался от уроков в школе, поскольку присутствие было обязательным и каждый преподаватель много задавал на дом. Семинары на первом курсе велись главным образом по истории партии. К ним тоже приходилось основательно готовиться. Что касается лекций, то я быстро поняла, что их посещение было для меня чистой потерей времени. В описываемый период филологический факультет включал в себя отделение журналистики, отделение логики и русского языка и, кроме того, искусствоведческое. Общие лекции первого курса проходили в знаменитой Коммунистической аудитории и предполагали присутствие трехсот
Заработав репутацию сильной и прилежной студентки, я стала понемногу лекции пропускать. В итоге мне удалось за шесть лет учебы на филфаке пропустить все без исключения лекции по общественно-экономическим дисциплинам, включая историю философии, — огромная экономия времени и сил! Конечно, возместить это можно было только чтением первоисточников, но здесь сказалась твердая рука Софьи Моисеевны Качановой, которая на уроках истории в 175-й школе приучила нас читать любые тексты.
Я отнюдь не хочу сказать, что не ходила на лекции по истории партии или диамату потому, что сознательно критически относилась к этим предметам. Напротив того, я упорно и без особых раздумий их учила, да так, что по моим конспектам позже занимались несколько поколений студентов филфака. Просто за все годы учебы в университете у нас практически не было хороших лекторов — т. е. таких, которые умели бы или сообщить что-то, о чем негде прочитать, или представить предмет так, что он сделался бы более логичен и содержателен. Скорее наоборот — из книг можно было почерпнуть куда больше. Исключение составляли лекции по истории зарубежной литературы, поскольку соответствующих учебников не было, и мы были обязаны смотреть на прочитанные нами тексты так, как это излагалось в лекциях. В особой степени сказанное относилось к Р. М. Самарину — не посещая его лекций, можно было самому себе заранее поставить двойку. Но об этом персонаже я скажу отдельно.
Собственно, по-настоящему интересный курс я слушала у одного человека — это был историк В. И. Шунков, который читал нам историю Древней Руси. Я не умела тогда понять, чем этот тихий человек отличался от других профессоров и преподавателей. Через семь лет после описываемых событий я пришла к нему наниматься на работу: он был директором ФБОН — Фундаментальной библиотеки общественных наук Конечно, он меня не помнил, тем более что по истории у нас не было экзамена. Передо мной был все тот же тихий немолодой человек без начальственных замашек. Помню, как меня это поразило — для меня-то с первого курса прошла вечность. Мне представляется, что в университете Шунков был один из немногих профессоров, не озабоченных закулисными играми и зарабатыванием политического капитала. В этих играх были свои победители — к ним как раз относился Самарин. Но и жертвы несли на себе определенный отпечаток — в лучшем случае это была крайняя осторожность, как у читавшего нам литературу XVI—XVII веков Ю. Б. Виппера, а в худшем — откровенный страх И было чего и кого бояться! Впрочем, и это отдельная тема.
Есть парадоксы, которые возможны только в юности: позже они выглядят абсурдом. Мирон Семенович Вовси не случайно предлагал мне отнести документы в медицинский. Я росла в кругу врачей и лет до шестнадцати сама собиралась стать врачом. (Об этом см. раздел «Наука как стиль жизни».) На филологический факультет МГУ я действительно поступала с намерением в будущем заниматься русской литературой. Почему русской? Почему именно литературой? Да потому, что на другое у меня не хватило воображения. О лингвистике я не слышала и даже слова такого не знала. Филологией в свои шестнадцать лет я считала занятия в духе М. О. Гершензона или С. И. Бонди. Сидя вечерами в юношеском зале Ленинской библиотеки, я представляла себя в будущем их последовательницей. Описанные выше детские впечатления о пушкинских днях зимы 1937 года всему этому очень способствовали.
Специализация на филфаке тогда начиналась на третьем курсе. На первых двух можно было не задавать себе вопроса, почему вообще надо выбирать между занятиями языком и занятиями литературой. Тем не менее благодаря Эрнестине Иосифовне Левинтовой, которая преподавала нам испанский, уже через месяц учебы я знала, что хочу стать лингвистом.
Казалось бы, это были всего лишь уроки испанского, именно уроки и только языка, а не культуры, литературы или истории. Но в самих уроках, а точнее — в личности Эрнестины Иосифовны, была некая магия. Я не могу объяснить, в чем именно она заключалась, что неудивительно: на то она и магия, а не просто обаяние. Ощущение же я помню: язык оказался вдруг захватывающе интересен как таковой.
Я к тому моменту довольно порядочно знала английский, но никаких чувств по этому поводу не испытывала. Здесь же возник такой азарт, что через полгода я уже читала без словаря повесть испанского поэта Хуана Рамона Хименеса «Платеро и я». Платеро — это ослик, самая родная душа для лирического героя. Книгу мне дал мой ближайший университетский друг — Викториано Имберт, в прошлом — один из «испанских детей», которые были вывезены в СССР в конце гражданской войны, в будущем — блестящий переводчик русской литературы на испанский, рано ушедший из жизни.
Э. И. Левинтовой я обязана тем, что выбрала языкознание. Благодаря Викториано я почувствовала неожиданную свободу внутри языка, которого еще не знала. Он открыл мне испанскую поэзию — прежде всего Антонио Мачадо и Лорку, а кроме того — великого испанца XV века Хорхе Манрике.
Вспоминая позже это время, я утвердилась в следующей мысли: невозможно стать лингвистом, не испытав страстной любви к языку как к эстетическому, волшебному феномену. Незабываемо чувство, что только на испанском подлинно выразима прозрачно-зеленая красота апреля и фиолетовость теней лунной ночью.
Однако, если любовь к языку возникла как бы в силу естественного хода вещей, то мой интерес к языкознанию как к науке о языке много лет оставался, как я теперь понимаю, весьма поверхностным и как бы заемным. Я с удовольствием учила латынь, староиспанский и старофранцузский. Я даже написала дельный по тогдашним меркам диплом по сравнительной романистике. При этом я совершенно ничего не знала из общей теории языка. Точнее было бы сказать, что я долго не знала, что быть лингвистом — как раз и значит размышлять на такие общие темы. В известной мере это неудивительно: за все университетские годы (1949—1955) я не слушала ни одного разумного теоретического курса по общему языкознанию.
О ситуации в лингвистике тех лет подробно и беспристрастно написал известный востоковед и историк науки В. М. Алпатов в книге «История одного мифа (Марр и марризм)» (Москва 1991). Здесь я ставлю перед собой иную цель. Описывая свои «годы учения», я хочу передать ощущения молодого человека обычных способностей, который, решив стать филологом, оказался в гуще событий в самые важные для формирования своих взглядов годы.
Сегодняшний читатель едва ли может представить себе филологическую среду тех лет. Рядовой филолог — это преподаватель университета или педвуза. Вначале он пережил серию проработочных кампаний конца 40-х годов, требовавших признать Марра пророком и постоянно поливать грязью замечательных ученых, работы которых в действительности и составляли тогдашнюю — а во многом и сегодняшнюю — лингвистику и филологию.
Затем, после выхода в 1950 году работ Сталина по языкознанию, следовало публично отречься от одного кумира и с особым усердием начать поклоняться другому. Н. С. Поспелов, известный русист, к которому мы в июне 1950-го явились сдавать зачет, встретил нас с газетой «Правда» в руке и сказал, вздыхая: «Идите-ка вы все домой, голубушки. Я не знаю, о чем вас теперь спрашивать». Добавьте к сказанному повальные аресты среди московской и ленинградской интеллигенции, которые в близком мне кругу начались около 1948 года. Кстати, не следует думать, что после 5 марта 1953 года все вдруг переменилось.
Так или иначе, должно было пройти очень много времени, чтобы языковеды в массе, а не в лице отдельных «хранителей огня» просто опомнились от бесконечных проработок и обнаружили, что у них когда-то вообще были научные позиции. Поэтому фактически более свободными и независимыми могли оставаться те, кто просто учил студентов языкам
Французский язык нам преподавала Эдда Ароновна Халифман. Именно Э. И. Левинтовой и Эдде Ароновне я обязана своими представлениями о лингвистике и филологии как о ремесле.
Характерологически это были совершенно разные люди. Левинтова была моложава, подтянута, быстра в движениях, насмешлива до язвительности. До войны она жила в Ленинграде и училась в Ленинградском университете. Именно ее товарищи по курсу уходили добровольцами на войну в Испании. Один из них — Георгий Владимирович Степанов — в будущем стал директором Института языкознания АН СССР. Левинтова была потомственной интеллигенткой. Ее отчимом, с которым я еще успела познакомиться, был известный математик Вениамин Федорович Каган. В той же семье рос Яша Синай, в будущем — математик с мировым именем (я помню его ребенком).
Когда я впервые, еще первокурсницей, пришла к Эрнестине Иосифовне домой, в квартиру на Полянке, то первое, что мне бросилось в глаза, был рояль. Письменным столом служил круглый стол, покрытый куском плотной узорчатой ткани. Карандаши и ручки стояли в керамическом кувшинчике. На стенах висели небольшие рисунки и акварели. Оставшееся место заполняли книги. Скромная в целом комната чем-то неуловимо отличалась от всего, что я до тех пор видела.
Э. А. Халифман до войны жила в Харькове. Она с детства страдала жестоким искривлением позвоночника и была так больна, что часто не могла добраться до Моховой иначе, чем на такси. Казалось, что она говорила немного, а скорее слушала нас. У нее был мягкий юмор и способность понимать другого человека почти без слов.
Если Левинтова была пронзительно умна, то Эдда Ароновна была мудра. Естественно, что уроки их были столь же непохожи, как они сами. Тем не менее главное, что мне удалось из этих занятий почерпнуть, имело много общего.
Во-первых, я как-то сразу поверила в то, что языком можно довольно быстро овладеть, если научиться понимать структуру фразы, даже не зная смысла каждого слова. Отсюда вытекало, что прежде всего надо хорошо знать грамматику — точнее, главное в грамматике. А поскольку это главное умещалось в небольшом справочнике, то грамматика в целом выглядела как постижимая.
Во-вторых, очевидно было, что с лексикой все обстояло как раз наоборот. В этом убеждало, например, обращение к знаменитому толковому словарю французского языка Литтре, с помощью которого требовалось готовить домашние задания. Ясно было, что если значение одного сравнительно «простого» слова типа франц. mettre у Литтре описано на нескольких страницах, то это едва ли тот материал, который можно запомнить: в него можно лишь вживаться.
В итоге получалось, что познание языка требует много терпения, умноженного на любовь к материалу. Это и есть, на мой взгляд, чувство ремесла филолога. Ремесло нельзя создать, но его можно унаследовать. Законы ремесла трудно объяснить, но их можно передать подмастерью. В этом отношении мне бесконечно повезло с моими университетскими учителями.
Стоит сказать о том, что представляло собой испанское отделение как явление. Ибо оно было именно явлением, а не просто некоторой группой студентов, которые изучали испанский, а не, скажем, голландский.
Главным мотивом, делавшим нас «испанцами», было, конечно, недавнее трагическое прошлое испанской республики. В двух группах из двадцати семи человек учились трое из вывезенных некогда в СССР испанских детей. Старшая сестра моего друга Викториано в тот момент сидела во франкистской тюрьме. Другая активно участвовала в политической жизни и жила в разных странах, не помню уже где. Практическую фонетику и разговорную речь преподавали трое испанских эмигрантов. Одна из них — Мария Луиса Гонсалес — в прошлом была секретарем у Гарсия Лорки. Когда я была на втором курсе, Игорь Мельчук, впоследствии — лидер московской лингвистики и создатель нового направления в языкознании, организовал у нас испанский хор.
Любимым местом, куда время от времени мы пробирались, был клуб испанских эмигрантов, помещавшийся на улице Правды, в Доме культуры им. Чкалова. (Дом культуры принадлежал 30-му заводу. Завод имел отношение к авиации, о чем, по-моему, знали все, но это знание оставалось строго секретным.)
Таким образом, через 10 лет после конца республики мы жили под знаком страдающей и борющейся Испании. Мы изучали не просто испанский язык, а язык героического народа. Разумеется, едва ли кто-нибудь думал об этом в столь патетических выражениях. Я уверена, однако, что те из нас, кто исходно обладал определенным гражданским темпераментом, жадно ловили любые сообщения об Испании и разделяли надежды наших испанских друзей на то, что режиму Франко когда-нибудь придет конец. Это было для нас куда важнее, чем перспектива применения получаемых нами знаний.
Так мы прожили первые три курса. Явившись 1 сентября 1952 года на факультет, я обнаружила, что нас как отделения больше не существует. Какое-то очень высокое начальство пришло к выводу, что для испанистов не найдется работы. Поэтому нас решили переучить на «французов», для чего добавили лишний год. Хотя кафедра испанского языка сохранилась, что-то очень важное из нашей жизни ушло.
Впрочем, к зиме 1952 года мое самоощущение как студентки филфака, да и вообще отношение к жизни в университете и без того сильно изменилось.
Персональное дело
Это сочетание слов, сломавшее жизнь многим, сегодня, как мне представляется, прочно забыто. Фактически это был своего рода эквивалент судебного дела, возбуждавшегося уполномоченными на то лицами в отношении комсомольца или члена партии. Как и в суде, человека обвиняли в некоем проступке — иногда подлинном, иногда мнимом. Случалось, что не было не только проступка, но и вообще «события преступления», т. е. поступка. Был ли поступок, он же — проступок, и какое наказание должно было воспоследовать — вначале решала небольшая группа лиц. Это могло быть партбюро или комсомольское бюро курса, а далее дело следовало по инстанциям — факультет, райком, горком и т. д. Между комитетом или бюро курса или, допустим, цеха и движением дела выше по инстанциям обвиняемого вызывали на общее собрание. В вузе по очереди дело в присутствии обвиняемого разбирала группа, затем — курс. В каком-нибудь НИИ — лаборатория, далее — отдел.
Замечательным отличием этих публичных разбирательств от любого, даже самого неправедного, суда было отсутствие представителей защиты. И, конечно, господство презумпции виновности. Персональное дело могло закончиться либо выговором разной степени тяжести — от «постановки на вид» до «выговора с занесением в учетную карточку», либо исключением — из комсомола или из партии. В большинстве вузов исключение из комсомола было формальной прелюдией к отчислению с «волчьим билетом». Исключение из партии в разные времена и для разных людей означало отлучение от всех дел с прямой перспективой ареста, а для многих профессий — нечто весьма близкое к гражданской казни. «Выговор с занесением» тоже был «волчьим билетом». Конечно, все эти китайские церемонии жизненно важны были прежде всего для преследования интеллигенции — и будущей интеллигенции. Какой-нибудь третий секретарь райкома партии мог получить выговор за невыполнение плана, но это было не более чем помехой для продвижения по службе. Правда, к нему могли просто прийти ночью и сказать «с вещами» — пожалуй, это и было тем главным, что равняло его с остальными смертными.
Первое персональное дело, на рассмотрении которого я была, касалось моего однокурсника: его обвинили в изнасиловании. «Потерпевшая» — тоже студентка — присутствовала здесь же, в большой аудитории, прилегавшей непосредственно к Коммунистической. Это происходило на общем собрании первого курса чуть ли не в первом семестре. Я тогда еще мало знала кого-либо, кроме студентов своего же отделения. Мне показалось, что ребята «недовыяснили» отношения, и девица не нашла ничего лучшего, как обратиться в комитет комсомола. (Сейчас она почтенная дама и мать троих детей; любопытно было бы узнать, что она помнит о той истории.)
По процедуре все присутствовавшие — а нас было человек двести — должны были голосованием решить, имело ли место — но что? Я была в высшей степени застенчива, но зато весьма начитанна — как-никак, Большая медицинская энциклопедия содержала массу полезных сведений, в том числе и о судебно-медицинской экспертизе. Я попыталась задать свой вопрос председателю собрания. Это был Володя Чивилихин, позднее — известный писатель, тогда еще донашивавший фронтовую шинель. Чивилихин, с которым мне приходилось и позже сталкиваться как с секретарем курсового бюро, был горяч и прямолинеен, но не жесток и, уж во всяком случае, не кровожаден. Как же налилось краской его лицо! Как он поспешил меня «заткнуть»!
Таких и подобных историй было немало. Опыта разбора персональных дел с политической подоплекой у меня до некоторых пор не было. До некоторых пор…
«Испанцы» были склонны к коллективизму, понимаемому преимущественно как взаимопомощь. Делились завтраками, книгами, разбирались сообща в записях перед коллоквиумами и семинарами. Я постоянно занималась с Милдой Ш. — девушкой из Латвии, которая плохо знала русский и на занятиях по истории партии почти ничего не понимала.
На первом курсе мы редко устраивали вечеринки и капустники — это появилось позже, когда мы лучше узнали друг друга. Тесной компании, т. е. постоянного круга друзей, с которыми бы я ходила в Консерваторию или на каток, у меня не было. В театре и на концертах я обычно бывала с отцом. С Викториано мы любили бродить по городу, сидеть на лавочках на бульварах или в еще сохранившихся тогда арбатских или Чистопрудных двориках. Больше всего времени, включая воскресенье, все мы проводили в «читалке» — т. е. в читальном зале гуманитарных факультетов в аудиторном корпусе на Моховой. Там знакомились, дурачились, спорили. Я научилась во время сессии даже спать за столом в читалке, положив голову на локоть. Там же возникали романы. У меня романа не было, если не считать тайной влюбленности в Марка Саперштейна, «испанца» со второго курса. Марк потом стал известен как поэт и переводчик М. Самаев. Но уже тогда он замечательно переводил стихи Антонио Мачадо — мы с Викториано читали его переводы в рукописи, хотя с Марком знакомы не были.
Не помню, при каких обстоятельствах я познакомилась с Эдиком Иодковским. Эдик учился на отделении журналистики. На филфаке стихи писали очень многие, но Эдик сознавал себя поэтом прежде всего. Тогда он был хрупким юношей, почти мальчиком, напоминавшим мне молодого Джона Форсайта из романа Голсуорси.
Почему-то я и еще две девочки из нашей группы — Ася М. и Неля С. — решили вместе встретить Новый год дома у Аси. Асина мама всю жизнь работала в «Правде» и по традиции встречала Новый год с друзьями по работе. Отца у Аси не было, и тем самым в нашем распоряжении оказывалась свободная комната. Мы позвали Эдика и Викториано и довольно весело провели время, взахлеб читая стихи. Кажется, именно тогда мы назвали нашу пятерку «клубом викторианцев», совершенно не задумываясь о том, что это слово уже существует в языке и относится к эпохе королевы Виктории. Заодно мы еще сочинили устав «клуба», из которого я помню только девиз НВВИ. Так мы зашифровали наше решение не портить дружбу «амурами» — а именно: «не влюбляться в Иодковского».
Помню, что той ночью стоял такой сильный мороз, что Эдик отморозил себе уши: он ходил не в шапке, а в популярном у мальчишек кожаном летном шлеме, некогда принадлежавшем его отцу. Помню еще, что моя мама, которая обычно мало интересовалась, где я бываю и с кем встречаюсь, была очень недовольна перспективой встречи Нового года в какой-то компании. С другой стороны, поскольку у нас дома никого в этот вечер не ждали, ей нечего было мне возразить.
В дальнейшем мы не собирались и даже в университете редко встречались все вместе. С Асей я была в приятельских отношениях, с Нелей нас связывало только то, что мы учились в одной группе. С Эдиком мы провели несколько дней летом 1950 года, будучи посланы работать на одну из городских детских площадок
Осенью 1950 года я училась на втором курсе. Мы были изрядно загружены занятиями, но, помимо того, много времени отнимали общественные нагрузки. Тогда еще не было обязательных поездок студентов на целину или в колхоз — это началось позже. Кстати, именно Эдик через несколько лет напишет популярную песню целинников «Едем мы, друзья, в дальние края…». Работа летом на детской площадке или в пионерлагере, кружки в детдомах, воскресники на стройке нового здания МГУ, посадка деревьев, агитационные доклады и выступления самодеятельного хора, выпуск знаменитой филфаковской стенгазеты «Комсомолия» — все это была «общественная работа».
Разумеется, это было достаточно утомительно. Однако среди того, что мне самой приходилось делать (в том числе в школьные годы), в общем не было работы бессмысленной. Конечно, никому не хотелось в дождь и холод тащиться на стройку, но, забравшись в грузовики и заваливаясь друг на друга на поворотах, мы просто радовались жизни, тому, что мы вместе, и очень ждали окончания строительства здания на Ленинских горах На Моховой было тесно. Начиная с третьего курса, нам предстояло учиться во вторую смену, так что потребность в новом здании была для нас очевидной.
Как-то так вышло, что Неля С., ничем не выделявшаяся прежде, именно в это время начала проявлять себя с неожиданной стороны. То ее не было на собрании, потом она стала отказываться от воскресников. А еще она не захотела внести свою долю, когда группа собирала деньги на галоши для Милды Ш., которая жила на одну стипендию. Неля была дочерью профессора из Саратова. Конечно, и она жила очень стесненно, но именно в ту осень у нее появилось два новых, с большим вкусом сшитых платья. Вместе с платьями явилась и неожиданная надменность в посадке головы и манере говорить. Нас это раздражало, и кто-то прозвал ее «Принцесса Греза». Впрочем, все это были мелочи.
История с галошами как бы заставила посмотреть на ситуацию другими глазами, хотя сегодня история эта может показаться лишь поводом для обычного раздражения «толпы» против «индивидуальности». Тем не менее у нас были иные мотивы. В противоположность тому, о чем в первую очередь можно было бы подумать сейчас, в основе неприятия поведения Нели лежала не зависть. Да, мы все были откровенно бедны. У меня — дочери московского врача и работника министерства — была одна пара непромокаемых туфель и одна пара босоножек. У Викториано, при давнем процессе в легких, не было теплого пальто. Фронтовики донашивали шинели и гимнастерки, кое-кто из девочек — школьную форму. Примерно половина нашей группы относилась к «иногородним», но всем хоть как-то помогали родители. У Милды Ш. родителей убили «лесные братья». Выходило, что, кроме нас, ей просто некому помочь. Тем самым дело было отнюдь не в чьих-то новых платьях.
Несформулированный моральный императив коллектива, подобного нашей группе, был скорее близок морали монашествующей общины, хотя формально все это было упаковано в идейную обертку комсомола. Мы твердо знали, что приличные люди так не поступают. И когда на наши упреки Неля ответила вызывающе, мы не нашли ничего лучшего, как исключить ее из комсомола.
На этом злополучном собрании присутствовал известный ныне критик, редактор русского издания «Континента», Игорь Виноградов, тогда — член факультетского бюро. «Группа погорячилась», — сказал он мне позже в коридоре. Если бы он сказал нам это в открытую! Впрочем, могли ли мы посмотреть на ситуацию с другой стороны и оценить, чем может такой вердикт обернуться для студентки второго курса? Не знаю… Но даже в самом страшном сне никому не могло привидеться, что этот инцидент окажется камнем, который обрушит лавину — и какую лавину!
«Процесс»
Мы высказались — и, насколько я помню, успокоились. А тем временем персональное дело Нели двинулось по инстанциям. Самый жуткий эпизод из длинной цепи последующих событий я знаю с чужих слов. История тоже по-своему характерная и столь же непредставимая в наши дни.
Нелю вызвали на заседание какой-то комсомольской инстанции факультета — скорее всего, это было факультетское бюро. Но до этого с ней решил побеседовать один из его членов. В качестве доказательства своей личной безупречности Неля дала этому человеку прочесть свой дневник. Логика ее поступка мне была и осталась совершенно непонятной. У комсомольского вожака была, что называется, губа не дура — он немедленно отнес дневник «куда следует». Поскольку это сделал небезызвестный литератор Феликс Кузнецов, его логика реконструируется из его последующих подвигов на ниве идеологии.
«Там» сочли полезным заняться организацией «клуб викторианцев» и ее шифром НВВИ. Незадолго до того похожее «персональное дело» прошло на мехмате и кончилось для одних исключением из университета, для других — лагерем.
Так или иначе, в декабре 1950 года пятерых студентов, некогда встречавших этот год вместе, стали по одному вызывать в кабинет Петра Юшина, тогдашнего секретаря парткома факультета. Кроме Юшина, на этих допросах присутствовал еще некто. Сегодня бы я сказала — «некто в сером». Юшин был запойный алкоголик, но человек не слишком злобный. Он больше молчал, а расспрашивал «некто». Что говорили другие — я до сих пор не знаю. Я отвечала довольно незатейливо — говорила правду. Было ясно, что мне не верят. Все это походило на дурной сон.
Дома я молчала, но у меня пропал аппетит.
Ася М., у которой с матерью были доверительные отношения, решилась ей признаться. Горький жизненный опыт заставил мать действовать. Среди ее знакомых нашелся некто Алик — журналист, который был на фронте вместе с Юшиным. Алик поехал на факультет. Через несколько дней Асина мама вызвала меня в «Правду». То, что я услышала, походило уже не на дурной сон, а было кошмаром. Нам инкриминировалось создание организации с контрреволюционными целями.
Перед началом зимней сессии допросы внезапно прекратились. «Пока учитесь», — сказал Юшин.
При всей ничтожности моего жизненного опыта я все же понимала, что нас ждет. По моим тогдашним понятиям, арест был равнозначен смерти. Во всяком случае, лучше было умереть, не дожидаясь ареста. Однако же я начала сдавать сессию.
Нам предстоял среди прочего экзамен по литературе средневековья. Этот курс читал Дмитрий Евгеньевич Михальчи, человек старой культуры и незаурядного ума, который лет через семь подарил мне свою дружбу. Сдавать мы должны были по известному учебнику В. М. Жирмунского. Внезапно Михальчи заболел, и вместо него экзамен принимал Самарин. У него я получила первую — и последнюю в своей жизни — двойку. Кроме меня, Самарин поставил двойки еще двенадцати студентам из наших «испанских» групп.
Несмотря на то, что вся эта затея была явно направлена против Михальчи и Жирмунского, преподававшего тогда в Ленинграде, я четко ощущала, что моя двойка предназначалась мне лично. Я не ошиблась. Дело было в том, что Самарин уже знал. История с экзаменом наделала шуму — отчасти именно из-за моей двойки, поскольку я была из немногих безусловных «отличниц». Организовали пересдачу в присутствии комиссии. Только мне и Викториано Самарин поставил по тройке. Тройка означала лишение стипендии, но Викториано получал особую стипендию, а для моей семьи ударом была именно отметка. Я еще раз почувствовала, что Самарин знает.
Начались каникулы. Дома я по-прежнему молчала. Папа явно о чем-то догадывался, но тоже молчал. Я уехала в подмосковный дом отдыха. Стоя на лыжах на опушке леса, я смотрела на синий снег. Чем великолепнее было небо и тишина, тем ужаснее холод, который поднимался к моему горлу.
После каникул все началось опять. Вообще говоря, будь я более опытна, я бы поняла, что все это сравнительно удачно стало заканчиваться. Наше дело было предано гласности и переведено в ранг «персонального», т. е. пущено по комсомольским инстанциям. Значит, Госбезопасность нами более не интересовалась. Но этого не поняли даже мои родители. Папа не мог мне простить, что я не сказала сразу. Мама была в отчаянии от того, что я не вняла постоянным мольбам «не собираться вместе». Получалось, что я невольно предала их с папой надежды.
Самым тяжким ударом для меня было поведение многих моих однокашников, а главное — преподавателей. У нас было принято здороваться за руку — мне перестали подавать руку. Кое-кто из профессуры звал меня по имени — теперь это была только фамилия. Еще лучше было меня вообще не замечать на занятиях.
Викториано упрекали в том, что он предал свою сестру, которая сидела в фашистском застенке. Ведь он принадлежал к группе, противопоставившей себя комсомолу! Собственно, это и было единственным содержанием предъявленных нам обвинений. Через некоторое время Викториано увезли в больницу — открылась с трудом залеченная каверна в легком. Все знали, что без моей помощи Милда Ш. не смогла бы сдать и первой сессии. Когда ее спросили, что она обо мне думает, она не сказала ни одного доброго слова. Я перестала спать и начала терять вес. Ася ходила с такими кругами под глазами, которые бывают только у женщин в последние недели беременности. У ее матери был сердечный приступ. Эдика я практически не видела. Неля окончательно замкнулась в себе. В газете «Комсомолия» появилась карикатура, где мы сидели под книгой, раскрытой так, что переплет служил крышей избушки. На одной стороне книги было написано «Ростан», на другой — «Блок» (!). Почему Ростан — я понимаю: из-за прозвища, данного Неле. Почему Блок — решительно не помню.
Прохождение всех причитавшихся нам кругов ада растянулось на год с лишним. За это время поддержали меня только два человека.
Одного из них я упоминала выше — это был Анатолий Павлович О. Видимо, мама попросила его со мной поговорить. Когда дело уже шло к концу, он мне позвонил. Узнав, что меня ожидает строгий выговор, он сказал, что у него их было три, и притом партийных. Так что это дело поправимое — снимут раньше или позже. Я помню, что я несколько повеселела.
Поддержка другого человека — Коли Федорова — сопровождала меня все это ужасное время, и благодарность ему осталась для меня живым чувством на всю жизнь. Коля был аспирантом кафедры классической филологии. В нашу группу его прислали еще на первом курсе в качестве «агитатора». Он должен был отвечать за наше «общественное лицо». Ясно, что, сочувствуя мне, он-то как раз и рисковал своей репутацией, что вовсе не грозило никому из преподавателей.
Коля был коренным москвичом. Отец его, кажется, юрист, рано умер. Коля жил с тяжело больной матерью, страдавшей астмой. У самого Коли был туберкулез. До всеобщего увлечения античностью было еще далеко. Найти заработок было нереально, и семья перебивалась на мамину пенсию и Колину стипендию. В группе Колю любили, а одна из наших девочек была и на самом деле в него влюблена. Я же всегда была склонна к преобразованию очередных своих безответных увлечений в дружеские отношения, и здесь Коля не был исключением.
Едва ли до начала «процесса» мы встречались один на один. Зато потом Коля в течение многих месяцев регулярно звонил мне по телефону, начиная разговор словами: «Ну что это у вас за голос!» Я стала бывать у него дома в Трубниковском, в старой квартире, где у Коли была отдельная комната с огромным письменным столом. Он зажигал настольную лампу и усаживал меня в кресло напротив стола. Помню, что Коля пытался найти рациональные объяснения случившемуся и понять, в чем же состояли наши порочные «убеждения». Он спрашивал меня, читала ли я — раз уж мы были такие романтики — «Голубой цветок» Новалиса. Я не знала, кто такой Новалис.
Эти разговоры постепенно стали для меня единственной отдушиной. Я находила разнообразные предлоги, чтобы хоть полчаса побыть в комнате на Трубниковском. Там я могла вынырнуть на поверхность и нормально дышать.
Через много лет, когда разница в возрасте и положении между нами стерлась, я неоднократно пыталась объяснить Коле, чем я ему обязана. Он только отмахивался. Коля был и остался нормальным русским интеллигентом.
Еще год
Третий курс я прожила, сжав зубы. Мы учились во второй смене, с 3 до 9 вечера. Почти каждый день нужно было успеть попасть до занятий в Ленинку, а потом еще сбегать домой пообедать и вернуться на Моховую. Впрочем, дело было не только в трудностях учебы. Я не могла бы рассказать об этом времени с позиций меня тогдашней — я была подавлена, испугана и слишком мало знала. А понимала я еще меньше.
Описанная в предыдущем разделе история получила в университете широкую огласку. Какие-то постановления о нас читались на всех факультетах. Конечно, на мне не было написано, кто я, но внутри меня соответствующая надпись сверкала адским огнем.
В университете процедура вынесения строгого выговора с занесением в учетную карточку ВЛКСМ предполагала прохождение шести инстанций. Вначале это была группа, затем — комсомольское бюро курса, далее — общее собрание курса, далее — комитет комсомола факультета, затем вузком и, наконец, райком комсомола. Всякий раз мне приходилось публично каяться в не совершенных мною проступках — если я вообще хотела жить дальше. Мне было 19 лет, и жить я хотела.
Ко всему прочему, меня еще и обвинили в двурушничестве — я тогда была комсоргом группы. Комсоргом меня выбрали в силу тех же причин, по которым в школе мне приходилось говорить учителям от имени класса, когда мы не справлялись с задачей. Я хорошо училась и в ситуациях конфликта лучше других могла сформулировать суть дела — разумеется, в меру своего понимания.
Не уверена, что обо мне тогдашней можно сказать, что у меня были убеждения. Пожалуй, у меня была вера. Много труднее объяснить, как эта вера была устроена. Точкой схода в комплексе моих представлений были какие-то несформулированные, но от того не менее твердые этические догматы. Проанализировать случившееся я не могла — у меня не было для этого никакого умственного инвентаря. Я только чувствовала, что меня как-то грандиозно обманули — все сразу и во всем. Мы не создавали никакой организации. Мы все были самыми обычными комсомольцами и самыми обычными студентами.
Примером чисто инквизиторской жестокости, которая только и могла разыграться в данных обстоятельствах на совершенно пустом месте, может служить вопрос, заданный мне на собрании нашей группы Володей В., впоследствии — известным журналистом. Володя был не слишком задирист и к тому же сильно заикался. Мы были с ним знакомы через Эдика. «Вот вы как-то сказали, — напрягаясь и краснея, произнес Володя, — что в вашей группе один мальчик, да и тот — Шур. Какой политический смысл вы придаете этому высказыванию?» Леня Шур был и в самом деле единственным мальчиком в нашей группе. Трое других, в том числе Викториано, учились в параллельной испанской группе. Ясно, что смысл моей шутки был в том, что у Лени Шура не было шансов покорить мое сердце. Это не мешало мне постоянно подсказывать ему на уроках латыни. Я помню, что от этого вопроса у меня просто перехватило дыхание. Это сегодня я бы предложила Володе объяснить возможные политические смыслы такой фразы, раз уж он их там видит. Интересно, что было бы, если бы я сделала это в 1951 году?
Меня неоднократно допрашивал некто А. Б., тогдашний комсомольский лидер факультета. Я знала, что во время войны он был начальником разведки дивизии. Возможно, отсюда шла его изощренность и какая-то особая профессиональная холодность. Но мне не могло бы прийти в голову, что человек таким образом зарабатывал политический капитал. Для этого мне, безусловно, недоставало цинизма. Кстати сказать, как показало будущее, в отношении А. Б. я, скорее всего, была права: похоже, у него тоже была вера. А вот у Вадима Кожинова был только громкий голос и нахрап — и для него главным было доказать, что он-то, уж конечно, ни в жизнь! никогда! А потому всех нас, вероотступников, следовало просто в порошок стереть.
Осенью 1951 года антисемитская кампания в Москве была уже в разгаре. Каждый день вечерами дома я слышала, что кого-то уволили, обвинили, разогнали — и, наконец, забрали. Папа носил светлую летнюю фуражку, которую некогда купил себе Борис Абрамович Шимелиович, главный врач Боткинской больницы, давний мамин приятель. Ему эта фуражка оказалась мала, и он отдал ее папе. Бориса Абрамовича арестовали по делу Еврейского антифашистского комитета еще в 1949 году, вместе с Перецом Маркишем, Лозовским и другими. Симка Маркиш учился курсом старше меня на классическом отделении. С Галей Лозовской мы учились в одной школе — она кончила двумя или тремя годами раньше. Если мне не изменяет память, Симка исчез с факультета именно зимой 1951/1952-го. Так что для меня даже и позднее, в разгар «дела врачей», принадлежность к «группе риска» определялась не еврейством как таковым. Куда страшнее было то, что я очень многих из гонимых и арестованных так или иначе лично знала.
Надо сказать, что ни в среде студенчества, ни в отношениях между нами и профессурой я никогда не сталкивалась с открытыми проявлениями антисемитизма. Несомненным исключением был Роман Михайлович Самарин. Все годы я чувствовала на себе его «всевидящее око». Он травил меня вполне откровенно — вначале за «дело викторианцев», потом — на всякий случай.
На каждом коллоквиуме и каждом экзамене по зарубежной литературе я чувствовала, как от Самарина исходит хищная радость от возможной поживы. Продержав меня не менее часа, он ставил мне очередную пятерку с видимым удовлетворением. Источник этого удовлетворения мне остался неизвестен. Самарин был далеко не бездарен и весьма образован. Он был отличным лектором — если говорить о форме. Что касается содержания, то никакие лекции по диамату и истории партии не могли бы так растлевать умы, как лекции Самарина по западной литературе. В этих лекциях изящная словесность не существовала вовсе. Она была средством самой циничной, самой беспощадной борьбы всех против всех, инструментом намеренного и подлого обмана невинных душ и так далее. Даже по тем временам его цинизм был чем-то выдающимся.
Лекции Самарина были бы находкой для психоаналитика.
Как-то раз, уже поставив мне очередную пятерку, Самарин спросил, что мне больше всего понравилось из курса. Я назвала роман Мюссе «Исповедь сына века». Роман Михайлович не поленился найти Лилю С., тогдашнего комсорга группы, чтобы донести. Лиля мне выразила, как сказали бы теперь, свою озабоченность. Когда спустя многие годы я пересказывала эту историю моим ученикам, никто не мог понять суть доноса. Самое смешное было то, что Лиля, добрая девочка из какой-то далекой деревни, Мюссе прочесть так и не успела, хоть он и входил в программу. А я от кого-то из старшекурсников уже знала, что Самарин любил читать в подлиннике именно наиболее поносимых им поэтов — какие-нибудь «Эмали и камеи» Теофиля Готье, Рембо или что-то иное в подобном же роде.
Именно Самарин, как мы тогда считали, отправил в лагерь Л. Е. Пинского, любимого профессора студентов романо-германского отделения. В 1966 году Самарин попытался баллотироваться в члены-корреспонденты АН СССР. Это было уже слишком! Академики Виноградов и Жирмунский, хоть и были оба бывшие «сидельцы» и потому особо осторожные люди, выступили категорически против. Других таких попыток Самарин уже не предпринимал.
К четвертому курсу наша эпопея завершилась записью в учетной карточке члена ВЛКСМ, в которой было указано, что строгий выговор вынесен за создание организации, идеологически противопоставившей себя комсомолу. Это был «волчий билет», но для меня более важным было то, что в моей жизни наступила передышка. Впрочем, события лета и осени 1952 года перевели мою жизнь в иную плоскость.
Июль 1952 года я провела на даче под Орлом, где я гостила в прежде незнакомой мне семье Н. Хозяйка дома — давняя мамина приятельница, приветливая женщина лет сорока, — отвечала в Орле и области за всю медицину. Я скоро стала звать ее тетя Валя. Ее муж был ответственным партийным работником в Орле. Мы приехали из Москвы вместе с их дочерью Аидой, которая в том году кончила философский факультет МГУ. Аида была неулыбчивая и замкнутая девушка, с которой за три недели жизни на даче я так и не смогла не то что подружиться, но даже поговорить как следует. В очень просто обставленном деревянном доме жила бабушка — мать тети Вали, еще какие-то родственники и домработница Вера по прозвищу Чижик.
Впервые я видела семью, где столь явно сохранялся определенный уклад с традициями старого русского гостеприимства. Как гостья, я не только не должна была делить с хозяевами домашние заботы, но была просто обязана ничего не делать. Мне стелили в лучшей комнате, ставили на ночь тарелку с клубникой, а за столом стремились налить первой. В комнатах на деревянном полу были постелены домотканые половики, и все ходили босиком. Я как гостья должна была оставаться в обуви.
Тетя Валя и ее муж дядя Коля были в постоянных разъездах по району или области и приезжали преимущественно на выходные. Не помню, каким образом мне удалось уговорить тетю Валю отнестись ко мне «как к своей». После этого жизнь моя стала нормальной и куда более интересной. В будни я помогала Чижику ставить самовар, накрывать на стол, перебирать щавель и варить варенье. Семья была не маленькой, и хлопот хватало.
Дядя Коля приезжал вечером на запыленной машине такой уставший, что пил чай, но есть почти не мог. Тетя Валя очень сокрушалась — у дяди Коли одно легкое было под пневмотораксом. Дядя Коля был черкес — очень худой, с черными густыми волосами. Тетя Валя была настоящей русской красавицей — улыбчивая, русоволосая, с приятной полнотой. Дядя Коля обычно сидел во главе стола в старом деревянном кресле с высокой спинкой. На подлокотники кресла усаживались два его любимых кота — Лизун и Сосун. Прозвища соответствовали кошачьим привычкам, в чем я имела случай убедиться. Один кот был черный, другой — дымчатый.
Как-то в выходной мы с дядей Колей поехали вынимать его невод — дом стоял у реки. Мы уже отъехали, когда на берег выскочил дымчатый и, увидев, что дядя Коля удаляется, прыгнул в воду и поплыл за лодкой как собака. Такого я еще не видела.
Отдыхал дядя Коля за приготовлением воскресного обеда. На улице разжигался огонь, и в настоящем казане с соблюдением всех ухищрений варился узбекский плов. Мне нельзя было есть баранину, и потому для меня дядя Коля клал в плов куски говядины с продетыми в них нитками, за которые потом эти куски вытягивал. Другим шедевром дяди Коли была еврейская фаршированная рыба — именно с этой целью и ставился невод.
Когда через три недели за мной приехала мама, она застала неожиданную для себя буколическую сцену. Я сидела босая под деревом на маленькой скамеечке над огромным тазом с черной смородиной и маникюрными ножницами стригла хвостики у ягод. Неподалеку дядя Коля зашивал суровой ниткой уже нафаршированную огромную рыбину. Тетя Валя очень не хотела меня отпускать. Хотя едва ли она могла представить, что ожидало нашу семью в ближайшем будущем.
Дело врачей
К осени аресты среди московских врачей-евреев приобрели уже повальный характер. До поры, пока это не коснулось самых близких знакомых, родителям удавалось скрывать от меня действительное положение вещей и поддерживать видимость нормальной жизни. К счастью, в это время я была совершенно поглощена другими событиями.
Из Орла я вернулась внутренне распрямленной. Спустя месяц я познакомилась с человеком, за которого через два с половиной года вышла замуж. Надо сказать, что меня как-то удачно миновали бессодержательные романы. Моим излюбленным «жанром» были безответные увлечения, которые — при благоприятных обстоятельствах — я обращала в дружбу, часто — многолетнюю. Через 15 лет Бродский описал не раз испытанное мною чувство:
Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существованье для тебя.Впервые мне открылась возможность симметрии двух существований. Этот было так значительно, что даже ликвидация испанского отделения не произвела на меня особого впечатления. Однако через месяц-другой снаряды стали падать совсем близко.
Напомню, что до января 1953 года никакие сведения об арестах — будь то члены Еврейского антифашистского комитета, врачи, писатели или актеры — не попадали в печать. Например, какой-нибудь крупный московский инженер или юрист, если только он не имел знакомств среди медиков, не знал, что еще летом 1952 года был арестован А. А. Бусалов — бывший начальник Лечсанупра Кремля (его дочь я знала по школе). А ведь люди уровня Бусалова пребывали почти что в ранге министров. Еще меньше было известно о профессуре.
Однажды вечером, кажется, в октябре, я вернулась из университета. Мама открыла мне дверь и собралась что-то сказать — но у нее пропал голос. Наконец она выговорила шепотом: «Мирона посадили». Семья М. С. Вовси, о котором я упоминала раньше, последние несколько лет жила на нашей даче в поселке «Научные работники» по Казанской дороге. Родители мои на даче не бывали, а я провела в семье Вовси не то два, не то три лета. Не помню уже, в какой последовательности я узнала об аресте других: нашего непосредственного соседа по даче Я. Л. Рапопорта; другого соседа — Б. Б. Когана, отца моего приятеля Лени; А И. Фельдмана — дедушки Марины, в классе которой я была вожатой в 175-й школе. Сидел В. Н. Виноградов, характерную речь которого так потрясающе изображал Ираклий Андроников; Г. X. Быховская, крупнейший невропатолог, с которой мама была на «ты»; Я С. Темкин, который однажды в метель пришел к нам домой, потому что я лежала в сильном жару с нарывом в ухе; Б. С. Преображенский, который удалял мне гланды; еще один сосед по даче — известнейший эндокринолог Н. А Шерешевский, и даже В. Ф. Зеленин, который уже тогда был «Зеленин, который капли».
Большинство арестованных занимали высокие посты в медицинском мире и, как правило, были лучшими специалистами в своей области. Фельдман был одним из лучших ларингологов, Коган — крупнейшим авторитетом в лечении астмы. Вовси был главным терапевтом Советской Армии и редактором журнала «Клиническая медицина».
Разумеется, об этом я тогда не задумывалась. Для меня эти люди были соседи, знакомые, родители моих соучеников или товарищей по детским играм. Они бывали у нас дома, лечили меня и папу. Именно их моя мама просила то проконсультировать Андроникова, то навестить тяжело больную жену К. И. Чуковского Марию Борисовну, то посмотреть Ю. М. Нагибина, то кого-то из известных актеров МХАТа. Кто-то из них в свое время помог маме спасти жизнь — притом в буквальном смысле слова — Анатолию Павловичу О. Ночью с ним случился инфаркт — но произошло это не дома, хотя у О. была семья. Маму чуть ли не в три утра разбудил незнакомый женский голос, и она ухитрилась немедленно вывезти больного по «скорой» в одну из лучших клиник
Как-то утром, уходя на работу, папа сказал: «Я знаю, что ты ведешь дневник Пожалуйста, пока нас не будет, сожги его. И все записные книжки тоже». 13 января 1953 года соответствующие фамилии прозвучали по радио, а в «Правде» появилось сообщение ТАСС «Арест группы врачей-вредителей». Естественное для моего возраста непосредственное переживание полноты обыденной жизни, вернувшееся ко мне в хлебосольном доме под Орлом, исчезло. Еще не забытый и совершенно животный страх охватывал меня каждое утро. Я не знаю, чего я больше боялась — того, что за нами придут, или того, что о моих «знакомствах» узнают в университете. Именно с тех пор у меня навсегда осталась привычка вздрагивать от позднего звонка в дверь.
Маму к тому моменту уже уволили с работы и послали прошение о лишении ее звания Заслуженного врача РСФСР и персональной пенсии. Она добилась приема у какого-то ответственного лица в Минздраве, где просила о любой работе. По-видимому, положение безработной для нее было естественной прелюдией к аресту. Маме предложили Якутию. Ей было тогда 56 лет.
Недавно из документальной книги Г. Костырченко «В плену у красного фараона» (1994) я узнала, что среди прочего М. С. Вовси инкриминировалось то, что «у себя на даче» он собирал соучастников по сионистскому заговору. Но у Вовси давно не было своей дачи — она сгорела, не помню точно когда, и именно поэтому их семья жила на нашей. Было бы только странно, если бы к нам не заходил Я. Л. Рапопорт, участок которого примыкал к нашему, Б. Б. Коган, с семьей которого Вовси тесно дружили (он жил через улицу), Е. Я. Герценберг, чья дача была напротив.
Такова, оказывается, была степень риска. Может быть, к лучшему, что я не в силах была сколько-нибудь последовательно думать о случившемся. Я сдавала очередную сессию, ходила с моим будущим мужем Юрой в театр, бывала на выставках с моим близким товарищем Аликом Д., старательно читала в подлиннике Анатоля Франса.
В 80-е годы мой друг Марк Ибшман, родившийся уже после войны, спросил меня о том, как можно было жить под дамокловым мечом и при этом влюбляться, писать тексты для капустников и бродить по городу в период цветения лип. Объяснить это может только тот, кто был современником этих событий уже в зрелом возрасте. Лучше всех об этом написала Л. Я. Гинзбург в книге «Человек за письменным столом».
Слова, описывающие мои тогдашние чувства, я через много лет нашла в дневниках Кафки: «Постоянно трепещущая грань между обычной жизнью и кажущимся более реальным ужасом». Это не значит, однако, что моя жизнь сводилась к отупляющему ужасу. Если бы обычный человек не обладал способностью жить одновременно в разных пластах своей повседневной жизни, то такие испытания, как блокада Ленинграда или конец 40-х — начало 50-х в Москве и том же Ленинграде, породили бы волну самоубийств. Этого, как известно, не случилось.
Новый, 1953 год мы с Юрой встречали в семье его родственника, уже тогда известного историка-византолога Сани Каждана. За столом сидели: художница Наташа Антокольская (дочь поэта), ее муж — поэт и переводчик Леон Тоом, Ольга Чайковская, позднее — одна из лучших наших журналистов, писатель и переводчик Феликс Свет, Арик Гуревич, тогда еще не ставший выдающимся историком Ароном Яковлевичем, его жена Фира, красавица Роза Варшавская и ее муж Толя — автор прекрасных книг по истории. Все это были вполне сформировавшиеся люди, лет тридцати и около того, т. е. ровесники Юры. И это не помешало им так беззаботно веселиться, что в конце вечера Арик Гуревич ушел домой в Юриной шапке.
Пока я сдавала сессию, мама лихорадочно искала способ отправить меня куда-нибудь из Москвы — хотя бы на время зимних каникул. Потом она объясняла это тем, что она не хотела, чтобы я была дома, когда за ней придут. Прежних возможностей у мамы уже не было, и ехать мне было некуда — все ограничилось подмосковным домом отдыха.
Начало второго семестра я запомнила потому, что в феврале 1953-го я впервые услышала откровенно антисемитские высказывания от своих же товарищей по группе. Говорили, что Виноградов на самом деле вовсе Вайнтрауб и Зеленин — тоже не Зеленин. Окна наших комнат на Тверской выходили во двор, и кто-то бросил на подоконник — это был бельэтаж — большой ком грязного снега. Видимо, это было обычное озорство, но мама как была в переднике и без пальто выбежала из парадного. Я помню, что я чуть ли не силой затащила ее обратно в дом с криком: «Ради Бога, мама, ты хочешь, чтобы здесь был погром?».
В отличие от мамы, которая погром пережила, я о погромах даже не читала, а только слышала папины рассказы. Но дух погрома уже витал над нами. Ходили слухи, что евреев будут высылать на Дальний Восток и что для этого там уже построены бараки. Я эти разговоры помню, но тогда я им не поверила. (Позже об этом стали писать как о доказанных фактах.) Впрочем, в свое время рассказам об Освенциме тоже мало кто верил.
Смерть Сталина 5 марта 1953 года повергла нашу семью в состояние столбняка. Папа разрыдался. Я помню лишь ощущение, что произошло нечто вроде конца света. От Маленкова, ставшего после смерти вождя первым лицом, ожидали дальнейших преследований евреев.
Должна сказать, что до 1956 года — т. е. до доклада Хрущева — я была знакома только с одним человеком, полностью отрицавшим общество, в котором мы жили. Это был Алик Д., — о нем я надеюсь сказать отдельно. Отец мой иногда говорил как бы вскользь, что мы живем при диктатуре, но от меня это отскакивало. Мама, напротив, высказывалась в том смысле, что я всем обязана советской власти, поскольку она ликвидировала черту оседлости. Это я тоже не готова была принимать во внимание. Задним числом меня поражает моя неготовность к обобщениям — ведь даже при моем ограниченном жизненном опыте я могла бы о некоторых вещах задуматься.
Человек, конечно, странно устроен. Почему совсем ребенком, читая заключение комиссии Бурденко об эксгумации жертв расстрела в Катынском лесу, я чувствовала, что здесь что-то не так? Почему я скрыла (мне было лет тринадцать), что нашла завалившееся за полку первое издание книги Сталина «Вопросы ленинизма» с надписью: «Нина! Почитай, за умную сойдеш! М.» Я поняла, что надпись эта — крамольная. Я догадалась, что книга была в свое время подарена маме ее единственным близким другом — дядей Мишей Кагановичем. Он был самоучкой и русской грамотой, как видно, не слишком владел. Михаил Моисеевич Каганович был братом «железного наркома» Л. М. Кагановича. Познакомились они с мамой еще в Сураже, т. е. он был юношей, а она, скорее всего, почти девчонкой. Непосредственным свидетелем этой дружбы я была недолго, когда весной 1940 года мама после тяжелейшего воспаления легких увезла меня поправляться в Кисловодск.
Мы и дядя Миша жили там в знаменитом санатории им. Орджоникидзе, в строительстве которого мама как-то участвовала. М. М. Каганович был в то время замнаркома авиации. Меня дядя Миша баловал и почему-то прозвал Кармен, хотя я была круглолицей шатенкой. Когда я в Кисловодске заболела свинкой, он терпеливо кормил меня, как маленькую, с ложечки. Вечерами они с мамой слушали радиоприемник. Немцы продолжали захватывать Европу. С каждым днем дядя Миша мрачнел. Потом его вызвали в Москву.
Перед войной его сняли с должности и отправили в Казань директором завода. Когда туда пришло предписание срочно явиться в Москву, он понял, что его ждет, и застрелился.
Конечно, пройдя сквозь пытку своего «персонального дела» и постоянно чувствуя себя без вины виноватой, я отстранилась от общефакультетской жизни. Но за нежеланием «связываться» стоял лишь страх и некоторая брезгливость, а отнюдь не понимание происходящего.
Врачей - «отравителей» выпустили 4 апреля 1953 года.
Соответствующее сообщение было опубликовано от имени Министерства внутренних дел. Для многих это было основанием поставить оправдание врачей в заслугу Берии, который при Маленкове возглавил это министерство. Произошло это как раз на еврейскую Пасху. Моя безрелигиозная мама плакала и произносила какие-то слова на идиш. Своих чувств я не помню — едва ли я была тогда в силах пережить незамутненную радость.
Оглядываясь назад – 1
Размышляя над рассказанным выше, я вижу, что моя взрослая жизнь может представиться читателю как цепь событий одно прискорбнее другого. Сначала не принимали в университет, потом сочинили «персональное дело» и как чудовищная кульминация — «дело врачей». Почему повествование строится вокруг таких ужасов? Неужели именно они были жизненной доминантой в молодые годы?
Попытка объяснить другому, почему свою жизнь мемуарист видит именно в этих, а не в иных координатах, едва ли может быть убедительной. И все-таки мне представляется уместным сказать несколько слов по этому поводу.
Прежде всего мемуарист, по определению, решает парадоксальную задачу. Согласившись на роль главного героя своих сочинений, он по умолчанию полагает, что интересен читателям прежде всего как личность. А поскольку «времена не выбирают», мемуарист всегда не только свидетель, но и невольный судья времени, которое он описывает. Память же избирательна. Этого довольно, чтобы из пестроты событий высвечивалось прежде всего то, что спустя даже сорок лет ощущается как потрясение, открытие, непрощенное оскорбление или, напротив того, незаслуженная похвала.
Вместе с тем воспоминающий редко пишет об обидах, причиной которых был лучший друг, о неразделенной любви, о блаженстве слушания музыки вместе с возлюбленной и о других переживаниях подобного рода. В конце концов, Пастернак сказал об этом за всех нас в «Темах и вариациях»! Естественное целомудрие побуждает умалчивать о том, что Ахматова считала «недостаточно бесстыдным для стихов».
Что же остается? Преимущественно то, что в зрелые годы осмысляется как ступени в познании себя и мира, как вехи, некогда определившие дальнейшую жизнь, как истоки интересов и антипатий. Как правило, этот опыт социален — он принадлежит исторической личности. Читатель может отвергать саму эту личность и отрицать ее право судить. Но мемуары всегда пишутся cum irae et studio. Автор, заранее отказавший себе в праве пристрастно свидетельствовать о своем времени, напрасно берется за перо.
Наша студенческая жизнь вовсе не была монотонной, и уж тем менее ее можно считать мрачной. Занималась я много, но все равно невозможно было успеть прочитать и выполнить все, что требовалось. (Другие занимались еще больше — одну нашу девочку мы даже прозвали «герой стула».) При этом я смотрела все стоящие фильмы — мы тогда начали знакомиться с неореализмом и хорошим французским кино. С отцом, кроме Консерватории, мы часто бывали в театре Вахтангова. Хорошо помню совсем молодого Юрия Любимова в амплуа «голубых» героев — слово «голубой» на театре было эквивалентом французского jeun premier. Кино я любила страстно, но мой будущий муж предпочитал театр. Оба мы жили в самом центре, поэтому бегали на «лишние билетики», которые он виртуозно добывал. Выставок было немного. В Музее изящных искусств французская живопись кончалась на барбизонцах
Своим открытием живописи я обязана Алику Д. Алик учился в университете и был курсом моложе. Жил он тоже на улице Горького, в доме напротив, поэтому мы часто виделись. Своей комнаты ни у кого из нас не было, и мы бродили по городу, чтобы поболтать. Алик собирал альбомы и репродукции, и у него уже тогда был развитой художественный вкус. Я же, будучи воспитана на «передвижниках», не умела смотреть. При этом я остро чувствовала, что ко всему этому зачарованному миру нужен какой-то ключик, которым я не обладаю. Алику я обязана открытием живописи и вообще пластических искусств как мира иноприродного и живущего по своим законам.
Произошло это, как и с моим открытием музыки, рывком, на юбилейной выставке Серова в Третьяковке. Мы стояли перед известным портретом балерины Тмара. Что мне говорил Алик — я не помню. Однако портрет как-то неожиданно задышал, зажил своей жизнью и стал смотреть на нас из рамы. Запомнился мне наш разговор у «Девочки с персиками». У меня тогда были весьма примитивные представления о женской красоте, в которые не укладывалась ни «Девушка, освещенная солнцем», ни растрепка и непоседа Вера Мамонтова. Желание понять, что же в этих полотнах находят другие, было, однако же, очень настойчивым. Подобная настойчивость вообще была в моем характере. Я не была любознательной в широком смысле: никак нельзя сказать, что я интересовалась многим. Но непонимание как таковое я просто плохо переносила.
Я спросила Алика, что же я должна почувствовать, созерцая девочку с персиками — девочка вовсе не кажется мне хорошенькой, но ведь зачем-то написал ее Серов именно вот так, за столом, с растрепанными черными прядками? «Понимаешь, — сказал мой друг, — ты должна просто захотеть сесть рядом с ней за этот стол, ощутить эту накрахмаленную скатерть, взять нож и разрезать персик».
Мы с Аликом были очень разными. Особенно это касалось социальных и политических проблем. Для меня они как предмет обсуждения не существовали. Алик, напротив того, много размышлял и категорически отвергал государство, в котором мы жили. Больше всего я боялась, что его крамольные речи кто-нибудь услышит. Наконец разговор переходил на другие темы, и я успокаивалась. Алик называл меня тургеневской девушкой — я представлялась ему «идеалисткой». Ничего тургеневского, кроме длинной косы, во мне не было.
Объединяли нас любовь к музыке и особый интерес к литературе и искусству. У Алика были редкостные способности к языкам — он уже свободно знал английский, учил шведский. Под февральским снегопадом мы самозабвенно предавались разговорам о мелодике стиха у Верлена. Я мало встречала людей, которые в такой мере могли заразить другого полновесным переживанием красоты — будь то необычность открывающегося из окна вида, прелесть стихотворной строки, тайна живописного полотна или цветы в хрустальной вазе. Наши разговоры и споры способствовали пробуждению во мне способности открывать прекрасное в прежде виденном.
Алик подарил мне умение понимать пейзаж. Казалось бы, что нового можно найти в картине Левитана «Осенний день в Сокольниках»? Эта работа висела тогда в каком-то маленьком зале Третьяковки. Алик поставил меня под углом к картине и сказал примерно следующее: «Смотри в глубь аллеи. Входи. Иди дальше. Женская фигура будет удаляться — иди вслед за ней».
В отличие от моей относительно спокойной жизни жизнь моего друга сложилась необычно и трудно. В яркий день начала лета 1956 года мы случайно встретились на углу Петровки и Кузнецкого. Алик собирался в туристическую поездку в ГДР. Я порадовалась тому, что он увидит Дрезденскую галерею. Домой Алик не вернулся. Он увидел и Лувр, и Прадо, и Уффици — но, выражаясь словами Грэма Грина, «ценой потери». Мы же встретились только летом 1994 года — в Лондоне. Алик, конечно, все рассказанные выше истории забыл. Помнил он лишь «тургеневскую девушку».
Никогда больше
Весной 1955 года я вышла замуж и переехала жить в семью Юры, в огромную коммунальную квартиру на Пушкинской улице. Незадолго до защиты диплома я пришла в нашу 175-ю школу на традиционный вечер встречи выпускников. Когда мой бывший классный руководитель Елена Михайловна узнала, что я вышла замуж, то она была настолько огорчена, что воскликнула: «А мы так на тебя рассчитывали!» Эта реакция сегодня нуждается в комментариях: едва ли ожидалось, что я намерена постричься в монахини. Но Е. М. искренне полагала, что замужество исключает научную карьеру. (У меня еще будет случай подробно высказаться по поводу женщин в науке.) К тому же оказалось, что, несмотря на репутацию девочки-«профессора», я выскочила замуж первой в нашем классе. Впрочем, слово «выскочила» не слишком уместно, если вспомнить, что мне было уже 23 года.
Я действительно твердо знала, что буду заниматься наукой, и хотела поступить в аспирантуру. Я понимала, что после «дела викторианцев» необходимую для аспирантуры официальную характеристику в университете мне все равно не дадут. Без характеристики можно было обойтись лишь при одном условии: имея диплом с отличием. Я получила не просто диплом с отличием, а такой, где во вкладыше не было ни одной четверки. Однако и это не помогло.
К осени 1955 года я оказалась перед необходимостью искать работу. При том, что спрос на иностранный язык был тогда невелик, аспирантуры, а отчасти и работы не было именно для меня, и никто этого не думал скрывать. Я впервые по-настоящему почувствовала себя ущемленной именно как еврейка. Несмотря на все события, описанные выше, я была к этому не готова. Мой мир продолжал рассыпаться. Никогда прежде я так не следила за своей внешностью.
И никогда у меня не было столько времени, чтобы просто думать. Что-то разрушалось, менялось, но я не понимала что. Мои родители откровенно страдали оттого, что я была безработной. Им казалось, что это делает меня беззащитной перед властями. Я же страдала оттого, что, живя в чужой семье, не могла заработать. Заработок, впрочем, вскоре появился. Цепочка рекомендаций привела меня в Госторгиздат — в этом издательстве налаживался выпуск каких-то реферативных материалов по торговому оборудованию и переработке продовольствия. Помню мои мучения с переводом, который был своего рода тестом на профпригодность. Это была статья под заглавием «Неферментационное побурение очищенного картофеля». Дома мы до сих пор вспоминаем эту историю, когда вода с нарезанной сырой картошкой вдруг розовеет.
Не зря мой будущий муж в свое время щедро снабжал меня английскими книгами — ведь именно таким образом я от уровня школы продвинулась к вполне порядочному знанию языка. К тому же и университетская подготовка, как оказалось, приносит свои плоды даже в таком сугубо практическом деле, как технический перевод. Мои «акции» в Госторгиздате постепенно поднимались — я уже не переводила, а реферировала книги для какого-то высокого начальства. Еще в период безработицы я начала брать уроки немецкого, который не знала совсем. Через полгода я сделала свой первый (и, как оказалось, последний) реферат с немецкого.
Тогда же произошла со мной занятная история, своеобразно иллюстрирующая времена и нравы. Еще до потрясений, связанных с докладом Хрущева о «культе личности», из лагерей понемногу начали возвращаться люди. В Госторгиздате стала работать редактором пожилая женщина, у которой на руке не было нескольких пальцев. В прошлом она была сотрудницей чуть ли не в канцелярии Ленина. Однажды я пришла в издательство с обручальным кольцом. Обручальных колец тогда не носили и купить их было негде. Мое сделали на заказ из царского червонца — это был подарок родителей мужа к первой годовщине нашего брака. Бедная Лидия Ивановна! Как она негодовала! Не берусь вспомнить, что именно она говорила, но получалось, что «они» — т. е. ее поколение — боролись именно за то, чтобы избавить «нас» от подобных предрассудков.
Я была обижена, но мне не пришло в голову задуматься о том, как же все-таки вышло, что со своей борьбой «они», во-первых, создали лагеря, а во-вторых, отправили туда такую вполне пламенную революционерку. Выходит, Лидия Ивановна с ее жизненным опытом и я со своим — мы в известном смысле стоили друг друга.
Доклад Хрущева грянул менее чем через месяц после этого сюжета, в феврале 1956 года. С тех пор прошло почти сорок лет. Вспоминать о тех событиях сегодня — это примерно то же самое, что тогда вспоминать о революции 1917 года. Мои читатели, скорее всего, родились после 1956 года, а многие из них перестройку встретили еще детьми. Одна моя юная приятельница в связи с этим заметила, что Сталинград от нее так же далек (читай — лишен действительного исторического смысла), как Куликовская битва.
Не просто объяснить, каким воздухом мы дышали, прежде чем вдохнуть воздух тех лет, о которых теперь принято говорить как о перерыве между «культом» и «застоем». Еще труднее объяснить, какими мы сами входили в 60-е годы.
Февраль 1956 года не прозвучал для меня однозначным благовестом. То свое состояние я бы описала словами поэтессы Галины Умывакиной:
Это нас провели на мякине, Это мы проглотили ее.Я стала, размышлять о том, что моя «история» была совсем мелким эпизодом в непрерывной охоте за ведьмами. И в тотальной этой охоте, как и в моем случае, доносчиками и палачами были не какие-нибудь демонические личности, а соседи, сослуживцы и вообще самые обычные люди. А что делала та же Лидия Ивановна до того, как оказалась на одном из бесчисленных лесоповалов?
Как единственное содержательное переживание, своего рода катарсис, помню чтение романа Дудинцева «Не хлебом единым». Впервые передо мной открылось существование морального выбора — не как абстрактная возможность, а как глубоко личная, непосредственно переживаемая потребность. Если попытаться сформулировать эмоциональную доминанту моего умонастроения в 1956—1957 годах, то лучше всего ее выразят слова «никогда больше».
Библиотека
Весной 1956 года меня взяли библиографом в библиотеку Института языкознания АН СССР. Могла ли я думать, что именно этот период, когда я была занята вовсе не лингвистикой, а освоением библиотечного дела, предопределит столь многое в моей жизни…
Библиотека Института языкознания в 1956 году заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробнее.
Помещалась она в полуподвальном этаже того самого особняка на углу Волхонки и бульвара, где много лет по очереди обретались Институт языка и мышления имени Марра, Институт языкознания вместе с Институтом русского языка, а теперь — только Институт русского языка. Полуподвал и сейчас занят библиотекой — правда, сильно разоренной разными реорганизациями.
Административно библиотека была подчинена двум учреждениям — ФБОН, т. е. основной гуманитарной академической библиотеке, и институту, в здании которого наша библиотека помещалась. Заведовала библиотекой Надежда Петровна Дебец — несомненно значительная личность и глубоко преданный своему делу человек. Надежда Петровна, или «ЭнПэ», как за глаза звали ее сотрудники, считалась работающей в Институте языкознания. Я и другие библиографы были в ведении ФБОН. Это немаловажная деталь, потому что меня — с согласия Н. П., конечно, — на работу взял В. И. Шунков, директор ФБОН. Виктор Иванович Борковский, тогдашний директор Института языкознания, этого бы ни за что не сделал. И еще неизвестно, как в этом случае могла бы сложиться моя дальнейшая судьба.
В. И. Борковский, у которого я все-таки позже работала и, более того, сохранила о нем самые добрые воспоминания, был антисемитом. О своей первой встрече с Борковским любила рассказывать Надежда Петровна. Ко времени, к которому относится мой рассказ, она разошлась с мужем, крупным ученым-антропологом Г. Ф. Дебецем. Это обстоятельство побудило ее покинуть библиотеку Института этнографии. Когда она пришла представиться Борковскому, тот посмотрел ее анкету и, просияв, воскликнул: «Как приятно познакомиться с истинно русским человеком!» Надежда Петровна едва не расхохоталась ему в лицо. Дело в том, что отец ее был священником, в терминах анкеты — «служителем культа». Для его дочерей это означало ни более ни менее, как «лишенство», т. е. определенное поражение в правах. В частности, они не могли поступать в высшие учебные заведения непосредственно после завершения среднего образования. И вдруг — на шестом десятке лет жизни — кто-то счел это происхождение преимуществом.
Эта история выглядела особенно гротескной для всех, кто знал ее героев. Надежда Петровна была высокая крупная женщина, коротко стриженная, с грубоватым обветренным лицом и низким голосом. За годы замужества она перебывала с Дебецем в дальних экспедициях, в самой что ни на есть глуши, и ничего и никого не боялась. Виктор Иванович был стройным, моложавым, начинающим седеть брюнетом, с темными глазами и угольно-черными бровями — тип скорее южный, нежели русский. Он был обладателем красивого оперного баритона и кончил Консерваторию — кажется, в Киеве. Женат он был на дочери белорусского словесника Карского, что само по себе мало кого могло тогда заинтересовать. Но в первом же разговоре с новым человеком Виктор Иванович непременно сообщал: «Я, знаете ли, женат на дочери академика Карского».
По поводу этого родства добродушно сплетничали, объясняя антисемитские склонности Борковского тем, что в свое время академик не хотел отдавать за него дочь, сказав якобы при этом: «Мало того, что яврей, так еще и поет!» В бытность Борковского моим директором я сама сподобилась услышать от Виктора Ивановича о дочери академика Карского. Что до пения, то он и в самом деле пел, и притом превосходно. Сейчас очень трудно представить себе, что в конце 50-х — начале 60-х годов директор такого консервативного института, как наш, охотно пел русские романсы на институтских вечерах.
Антисемитом Борковский был уж очень на всякий случай, потому что, взявши еврея на работу, он в дальнейшем как бы забывал о том, что в свое время сделал это под большим давлением. По моим наблюдениям, на его отношении к человеку его «исходный» антисемитизм никак не сказывался.
Научная библиотека Института языкознания для того времени была образцовой. У нас любили не только книгу, но и читателей, а это не так часто случается. Опыт общения с сотрудниками Ленинки впервые открыл мне, что среди библиотечных работников страсть к книге часто обратно пропорциональна приязни к читателю. Когда я приходила в Ленинку со служебного входа, я была желанным гостем. Старушки, донашивавшие пожелтевшие кружевные жабо, радушно открывали для меня каталожные ящики и справочники. Если же я приходила туда как читатель, то за несомненным профессионализмом тогдашних консультантов все равно угадывалось нечто вроде «ходят тут всякие».
Замечательным в нашей библиотеке был и подбор сотрудников. Главный библиотекарь — Роза Гутмановна Шварцман — была одной из тех, о ком в стихотворении Пастернака «Ирпень — это память о людях и лете…» сказано: «В дни съезда шесть женщин топтали луга». Благодаря ей я стала понимать, что многие невнятности у Пастернака — это просто отсылки к бытовым деталям, а не какие-то метафизические шифры. Из ровесниц я подружилась с Кирой Филоновой, дочерью известной актрисы немого кино Людмилы Николаевны Семеновой. Людмила Николаевна училась еще у Фореггера, снималась у Эрмлера в знаменитом фильме «Обломок империи». Кира успела поработать в одной из наиболее культурных тогдашних библиотек — в Государственной Театральной, Театралке, как ее все называли. Она свободно владела французским и хорошо знала историю театра и кино.
У нас работала Марианна Шабат, бывшая студентка знаменитого ИФЛИ, героиня автобиографического романа одного из первых писателей-диссидентов Аркадия Белинкова. В 60-е годы книга Белинкова о Тынянове оказала немалое влияние на умы.
Моим ближайшим коллегой был Генрих Соломонович Цвейг — человек совсем уж немыслимой, хотя и типичной для того времени судьбы. Генрих доводился близкой родней знаменитому австрийскому писателю Стефану Цвейгу. Цвейга после войны почти не переиздавали, но в любой библиотеке его книги были измусолены несколькими поколениями читателей — так он был популярен. Война застала Генриха Цвейга студентом Краковского университета по факультету истории. Он успел уйти пешком на восток — это спасло его от гибели в каком-нибудь из немецких крематориев, но не спасло от советской тюрьмы и лагеря особого режима. В лагерь Генрих попал уже не с воли, а после ссылки в Барнаул. В Барнауле он познакомился с другой ссыльной — совсем еще юной Зорей Серебряковой, дочерью советского государственного деятеля, расстрелянного по одному из процессов. (Не помню уже, где отбывала свой срок мать Зори — писательница Галина Серебрякова.) Они с Зорей то ли обручились, то ли поженились. С чьей-то помощью удалось добиться того, что Зоре разрешили уехать в Москву учиться, и она кончила истфак МГУ. Сам же Генрих был арестован как шпион, а их отношения с Зорей как с дочерью врага народа шли в обвинении отдельным пунктом.
В библиотеку Г. С. Цвейг пришел в 1956 году — кажется, осенью. У них с Зорей был маленький сын, о котором Генрих говорил много и с нежностью. Именно от Генриха я впервые услышала рассказы о жизни в тюрьмах и лагерях. О своем прошлом он говорил достаточно подробно, но отстраненно, без всяких эмоций. Позже я неоднократно задумывалась над тем, почему таким потрясением стал для меня вышедший в 1963 году «Один день Ивана Денисовича». Казалось бы, за полтора года, что мы с Генрихом просидели вместе между стеллажами в полуподвальной комнате, набежало немало рассказов о подобных же днях…
Время от времени в библиотеку приходили девочки на временную работу. Среди них была только что кончившая школу хохотушка Светка, с отчимом которой — писателем А. М. Борщаговским — я тогда познакомилась. Через много лет Светка стала известна как Светлана Кармалита, сценарист и режиссер, жена Алексея Германа.
Работа моя в библиотеке по напряженности напоминала конвейер. Каждое утро на мой стол попадала стопка новых иностранных книг и журналов. Из них я должна была отобрать все, что касалось лингвистики. Далее отобранные книги, статьи, рецензии и прочее следовало распределить по рубрикам. Если из заглавия неясно было, о чем идет речь, то я должна была написать краткую аннотацию.
Здесь и обнаружилось, что диплом филфака образца 1955 года не дал мне профессиональной лингвистической подготовки.
Начать с того, что я имела весьма смутные представления о том, из каких разделов вообще состоит лингвистика. Ведь одно дело — понимать, что есть сравнительно-историческое языкознание, и совсем другое — сообразить, куда конкретно отнести поток статей об особенностях кумранских свитков.
Я ничего не знала и об источниках, с которыми мне приходилось иметь дело, поскольку нам не читали источниковедения (замечу, что будущим лингвистам его и сейчас не читают). Поэтому для меня все специальные журналы долго были как бы на одно лицо. И, разумеется, я была в полной растерянности, когда нужно было уточнить имя, дату или термин: я не знала, куда в каждом отдельном случае следует смотреть. Я помнила, что Ираклий Андроников во всех затруднительных случаях обращался к знаменитой «Картотеке Модзалевского», но, увы, ко мне это не имело отношения.
Два года в библиотеке, по существу, и были настоящим приобщением к профессии лингвиста. Во многом — из-за разнообразия конкретных задач, которые надо было решать безотлагательно. В не меньшей мере — благодаря общению с нашими читателями, которые и стали моими подлинными учителями. (О некоторых из них я расскажу отдельно.)
Как библиограф, я постоянно встречалась со многими сотрудниками Института языкознания (позже из него выделился Институт русского языка, которым стал заведовать академик В. В. Виноградов). Одному нужна была справка, другой забыл инициалы автора, к третьему обращалась за помощью я, потому что через мои руки проходила литература на разных языках, в том числе и тех, которые я вовсе не знала.
Одним из первых, с кем я познакомилась, был профессор Петр Саввич Кузнецов. Петр Саввич, имея прекрасную память, был рассеян в мелочах. Это определило обстоятельства нашего знакомства: он регулярно спускался в библиотеку, проходил насквозь все книгохранилище, в тупиковом конце которого стоял мой стол, садился и говорил: «Ревекка Марковна (только так!), знаете ли, я забыл… Вот заглавие помню, а автора забыл, ах нет, заглавие тоже забыл, ну, в общем, вы, конечно, знаете этот компендиум…» Конечно, я не знала!
С каждым днем я не знала все больше и больше: невежественность моя разверзалась. Петр Саввич с беспомощным видом начинал пересказывать, о чем была книга, — это он всегда прекрасно помнил. Я постепенно научилась сужать круг возможных источников и находить то, что ему было нужно.
Одновременно я познакомилась и с Энвером Ахметовичем Макаевым. Это один из немногих моих учителей, о ком я имею счастье писать в настоящем времени. Тогда Энвер Ахметович, как член Библиотечного совета, помогал мне справляться с изданием библиографического бюллетеня. Макаев считался по преимуществу скандинавистом и работал в Секторе германских языков. Он выходил ко мне в коридор, и мы часами беседовали.
Макаев был и остался одним из наиболее блестяще и разнообразно образованных людей, которых я когда-либо встречала. Это был тот редкий случай, когда старший собеседник не подавляет, не указует, а щедро выставляет перед тобой корзины бесценных даров и приглашает взять из каждой, что тебе более по душе. Макаев страстно любил книгу. Может быть, он был ко мне снисходителен еще и потому, что эту страсть я с ним разделяла. Ему же во многом я обязана своим открытием Пастернака и вообще некоторого сверкающего поэтического мира, границы которого я затрудняюсь очертить. Другая его страсть была музыка. Как рассказывали те, кто бывал у него дома, он иногда с радостью играл своим ученикам.
Час ученичества
Сектор германских языков помещался перед входом в конференц-зал, рядом с лестницей, ведущей вниз, в библиотеку. Площадка перед лестницей была своего рода «пятачком», где невольно встречались и сотрудники, и посетители института. Э. А. Макаев, которому тогда было всего лет сорок, оставался человеком старой культуры и в этом напоминал мне отца. Он с изысканной любезностью неизменно представлял мне всех, с кем был знаком сам. А мимо нас то в библиотеку, то на заседание, то в другие отделы проходили Д. Е. Михальчи, в прошлом — мой университетский лектор; академик Н. И. Конрад; И. С. Зильберштейн, бессменный руководитель знаменитого «Литературного наследства», широко известный теперь как основатель Музея частных коллекций; В. М. Жирмунский, наезжавший по делам из Ленинграда; О. С. Ахманова, «главная» англистка в стране, успешно игравшая роль femme fatale в большой науке…
В институт заглядывали такие легендарные личности, как Л. И. Жирков, П. Г. Богатырев.
Надо сказать, что в течение первого года в библиотеке я пребывала в состоянии полной поглощенности своей новой работой. Этому очень способствовала общая атмосфера внутри самой библиотеки. В отличие от того, что мне приходилось видеть в ФБОН в более поздние годы, окружавшие меня люди любили свою работу, а не считали ее необходимым бременем, отнимавшим у них драгоценное время. Признаюсь, что в нашей библиотеке именно я стала первым таким человеком. Способствовали этому разные обстоятельства — и внешние, и внутренние.
Во-первых, после того, как я научилась основам библиографического дела и наладила выпуск справочного издания, моя работа стала рутинной. Во-вторых, хотя у меня еще не было выраженных интересов внутри лингвистики, но свое будущее я видела именно в научной работе. У меня появилось чувство, что время уходит сквозь пальцы. Я откровенно завидовала тем из моих однокашников, кто попал в аспирантуру. Э. А. Макаев поощрял мои смутные надежды и предложил попытаться через год-другой поступить в аспирантуру к нему. Речь тогда почему-то шла об Институте иностранных языков.
Мое самоопределение в лингвистике было в немалой мере следствием счастливой случайности. Точнее, сцепления случайностей. Одна линия была связана с желанием как-то усовершенствовать технологию своей библиотечной деятельности. Другая линия определялась личными дружескими связями и временем, когда все это происходило.
В 1957 году в условиях Москвы успешная работа такой большой научной библиотеки, как наша, зависела от педантичности сотрудников и широты их кругозора. Библиотека была единым организмом, где все мы были взаимозависимы, но никоим образом не взаимозаменимы. В результате получалось, что высокообразованные люди тщательно и привычно делали любую техническую работу, но при этом даже мелкий промах создавал неизбежные сложности для остальных. Не говоря уже о том, что мы были постоянно перегружены.
Я решила поискать в литературе, не придумали ли в мире хотя бы для поиска карточки в каталоге какие-то более совершенные способы, чем ручной просмотр. Первая же большая книга, которая мне попалась, была только что издана в США и называлась «Автоматический библиотечный поиск». Имелась в виду компьютеризация библиотечного дела.
Книга была мне трудна, и я отправилась посоветоваться в читальный зал нашей же библиотеки, где, за неимением другого помещения, работал Игорь Александрович Мельчук, мой давний товарищ по испанскому отделению МГУ. Он пришел в Институт языкознания в 1956 году и занимался машинным (автоматическим) переводом, т. е. тем, из чего в дальнейшем выросла целая наука — компьютерная лингвистика.
Сам этот наш разговор я совершенно не помню. А следовало бы: именно он определил мою жизнь на много лет вперед! Скорее всего (это реконструкция), Игорь сказал мне в свойственной ему категоричной манере, что пора перестать заниматься глупостями, а надо заниматься делом. «Делом» в разные периоды нашей дружбы считались разные научные задачи — те, которыми в данное время сам он был увлечен.
В последующие двадцать лет мне пришлось неоднократно выслушивать подобные же реплики, потому что именно благодаря Игорю я постепенно нащупала свои собственные задачи, а они были далеки от его интересов.
Этот наш разговор не был первым предложением Игоря присоединиться к его деятельности. Впервые о чем-то подобном он сказал мне (как всегда, на бегу) еще на филфаке, в мой преддипломный год. Я была озабочена в равной мере своим дипломом и своим романом. К тому же в тот год я много болела. Было ясно, что я просто не потяну дополнительную нагрузку. Я отказалась — тоже на бегу. Впрочем, Игорь не успел толком объяснить, о чем вообще шла речь. Игоря увлек задачами машинного перевода известный математик Алексей Андреевич Ляпунов, едва ли не более всех способствовавший развитию кибернетики в нашей стране. Тогда Алексей Андреевич активно искал сотрудничества с молодыми лингвистами.
С Игорем мы фактически не работали вместе, но роль его в моем становлении как лингвиста была очень велика. До середины 60-х годов я была среди тех, кому Игорь давал читать свои работы еще в рукописи. Это задало мне некую планку, на которую следовало равняться. В самом деле, Александр Александрович Реформатский был классик, Петр Саввич Кузнецов — святой, мой учитель Владимир Николаевич Сидоров — рыцарь, Алексей Андреевич Ляпунов — гений и святой в одном лице. Можно ли брать пример с небожителей?
А Игорь Мельчук был «свой», ровесник. Из чисто дружеских побуждений в течение нескольких лет он читал мои работы и делал достаточно серьезные замечания. Собственно, именно благодаря Мельчуку я научилась выстраивать свои мысли, ясно говорить и точно отвечать на вопросы.
Общеизвестно, что профессионализм не приобретается вне школы. Вопрос в том, какие люди и какие условия способствуют ее формированию. С моей точки зрения, дело не только в идеях и концепциях, которые впервые предложил и затем отстаивал И. А. Мельчук, но прежде всего в том, что сам он как личность был способен собирать вокруг себя людей. Поэтому наша лингвистика так много потеряла с его отъездом.
Размышляя сейчас об обстоятельствах почти сорокалетней давности, я думаю, что мне необычайно повезло в двух отношениях. С одной стороны, именно тогда в лингвистике начался общий подъем и поворот к структурализму, в котором сами мы, недавние студенты, стали активными действующими лицами. Нас поддерживали и непосредственно нам помогали наши старшие товарищи и учителя — люди большого масштаба и редких нравственных качеств. В этом кругу просто не было иного счета, нежели «гамбургский».
С другой стороны, занятия лингвистикой как профессией сильнейшим образом поощрялись социумом. Последнее утверждение сегодня может навести на мысль о том, что нам хорошо платили. Это не так, но я вообще о другом: я не случайно сказала — социумом, а не государством.
Социум в целом в это время «оттаивал». Лингвистика оказалась первой из наук традиционно гуманитарного цикла, которая освободилась от идеологии. Массовая ориентация новой, структурной лингвистики на кибернетику имела выраженный ценностный характер: «они» заклеймили кибернетику как буржуазную лженауку, а «мы» покончили со всей этой дребеденью и занялись делом, освободив лингвистику от идеологических заклинаний.
Уровень общественного интереса к новой лингвистике был так высок, что лет семь-восемь, с 1957-го и примерно до 1965-го, компенсировал почти полное отсутствие рабочих и даже аспирантских мест.
И вот тогда мне невероятно, фантастически повезло: к лету 1958 года в Институте языкознания в новом Секторе — Секторе структурной и прикладной лингвистики, который А. А. Реформатскому предстояло возглавить, — открылась вакансия. Игорь Мельчук представил меня Александру Александровичу как подходящего кандидата. А. А. Ляпунов, с которым я к тому времени уже была знакома, меня поддержал. В Сектор Реформатского я пришла со своей темой: это было применение статистических методов в лингвистике.
Тематику эту я выбрала и благодаря, и вопреки Мельчуку. Тогда он вместе с ученицей Ляпунова О. С. Кулагиной работал над алгоритмом машинного перевода с французского. Мне он предложил заняться испанским и готов был ввести меня в суть дела. Спустя несколько месяцев выяснилось, что я не могу работать в одной с Игорем упряжке. И вовсе не потому, что я была не готова усердствовать или претендовала на какую-либо самостоятельность. Но я не умела работать, не понимая, почему следует делать то, а не иное.
На мои вопросы Игорь обычно отвечал: «Ты просто делай как я, и все будет как надо». Я отвечала в духе того, что я готова, но ведь его — осеняет, а меня-то не осеняет! И что значит — «как он», если всякий раз это «как» оказывалось ничуть не похоже на способ решения, использованный накануне. К счастью, я нашла задачу, связанную с построением словаря для машинного перевода, решение которой требовало оценок частоты встречаемости в тексте определенных глагольных форм. Игорь одобрил этот подход — и дальше я уже двигалась сама. Как оказалось, в новом и захватившем меня на несколько лет направлении.
Игорь прекрасно умел рассказывать и объяснять, что он делает. Но на том этапе работы действительно было довольно трудно представить приходившие ему в голову решения в виде последовательных шагов. Да и вообще мне кажется, что самой сильной его стороной в общении с коллегами и в дальнейшем — с учениками было его искусство заразить своей страстью и увлечь за собой. Именно заразить, увлечь, поразить — интересной задачей, красотой построения, масштабом воздвигаемого здания, возможностью сделать нечто, до чего пока никто не додумался.
И это всегда удавалось — благодаря тому, что сам Игорь, сколько я его помню, находился в состоянии увлеченности и порыва. Одаренность его проявилась еще в университете. Это было общеизвестно и принималось как данность.
В те времена у Игоря были разнообразные увлечения. Еще до университета это был театр — Игорь входил в актив не то Центрального детского театра, не то Театра юного зрителя. Игорь теперь живет в Монреале, и мне уже не у кого это уточнить. Актив этот был средоточием деятельности группы одаренных ребят и одержимых педагогов. Кроме того, Игорь был хорошим пианистом. Я помню музыкальные вечера, которые он устраивал в университете. Его однокашник Паша Пичугин делал доклад о музыкальном произведении или стиле, а Игорь иллюстрировал это на фортепиано.
Для большинства своих ровесников, и тем более для пришедшей вслед за нами молодежи, Игорь был, несомненно, харизматической личностью. (Я пишу «был» не потому, что сам он изменился, а потому, что в Монреале на эту харизму не может быть спроса.) Харизма многократно усиливала его организаторские способности. Игорю не нужно было тратить время для объяснений, почему надо было делать то, а не иное — будь то маршрут похода, организация семинара или еще что-то. В такого рода ситуациях ему даже не приходилось быть деспотичным — за ним шли с радостью.
Так без всяких размышлений и я стала постоянным участником организованного Игорем маленького семинара по математике, который с осени 1957 года у нас в институте вел прекрасный математик Аркадий Онищик. В математике я была всегда не сильна, но вне зависимости от этого мне как-то даже не пришло в голову усомниться в том, резонно ли начинать серьезные занятия лингвистикой именно с математики. Как я уже упоминала, в университете я выбрала лингвистику, но не получила основательного лингвистического образования. Казалось бы, надо было восполнять именно эти пробелы. Однако же необходимость освоения каких-то основ математики не мне одной представлялась тогда делом первостепенным.
Наш семинар проходил в той самой «комнате за залом», где, начиная с лета 1958 года, мы потом сидели вместе с Игорем в Секторе Реформатского. В нем участвовал покойный Ю. К. Лекомцев — востоковед и совершенно своеобразный теоретик; Т. Н. Молошная — лингвист, работавшая с О. С. Кулагиной и А. А. Ляпуновым над машинным переводом с английского; Е. В. Падучева, которая тогда занималась возможностями теоретико-информационного подхода к изучению языка, и я.
Аркадий Онищик был нашим ровесником и, как всякий прирожденный педагог, ориентировался на то, чтобы его понимали менее способные участники семинара. Игорь и Юра все схватывали на лету. Лена от них несколько отставала, а мы с Таней плелись в хвосте. С той разницей, что я отчаянно пыталась что-то понять, а Таня была скорее равнодушна. Игорь начинал скучать и негодовал на мою тупость, я же не могла взять в толк, почему очевидно верные утверждения из теории множеств являются, тем не менее, теоремами, которые надо доказывать.
Почти одновременно я стала ходить еще на один семинар, более многочисленный и с широкой тематикой. Его с 1956 года вели на филфаке МГУ математик, специалист по математической логике В. А. Успенский и лингвисты — Вяч. Вс. Иванов и П. С. Кузнецов. (Историю этого семинара см. в работе В. А. Успенского «Серебряный век структурной, прикладной и математической лингвистики в СССР и В. Ю. Розенцвейг». — Wiener Slavistischer Almanach, Sonderbd 33, Wien, 1992.)
По существу, для многих из нас именно с этого семинара и началась новая лингвистика.
О лингвистике — от первого лица
Было бы интересно точно описать, как все это было — когда затеялся еще один семинар, на этот раз — в МГПИИЯ; как из него потом образовалось знаменитое «Объединение по машинному переводу» под руководством В. Ю. Розенцвейга и И. И. Ревзина; как возникло столь важное для того времени издание «Машинный перевод и прикладная лингвистика»; кто, когда и почему приходил и уходил, кто на кого влиял и т. д. Мои очерки, однако, никак не претендуют на то, чтобы внести вклад в историю становления структурной лингвистики. К тому же в упомянутом выше историографическом очерке В. А. Успенского этот начальный период описан с документальной точностью. Поэтому я буду говорить далее не вообще о лингвистике этого времени, а о своей лингвистике.
Описывая университетские годы, я упоминала о смятении, связанном с появлением работ Сталина по языкознанию в 1950 году. Сейчас только специалисты помнят, что Марр умер еще в 1934 году. В свое время Марр и его сторонники были достаточно агрессивны, но к концу 30-х годов противостояние марристов и анти-марристов уже не было столь актуальным. А масштабный «крестовый поход» против антимарристов почему-то начался в конце 40-х годов. (Я была на первом курсе, когда у нас на факультете преследовали будущего академика Б. А. Серебренникова, тогда еще молодого ученого, за то, что он открыто не разделял марристские воззрения.) Лишь много позже стало ясно, что эта кампания стояла в одном ряду с другими политическими преследованиями интеллигенции. Марристская фразеология была намеренно возрождена с целью учинить расправу над еще уцелевшими нормальными учеными. Что касается мотивов, побудивших Сталина в 1950 году царственным жестом заклеймить созданный по его же указаниям «аракчеевский режим» в языкознании, то о них мы можем только догадываться. (Некоторые версии см. в книге В. М. Алпатова «История одного мифа», Москва, 1991)
Нельзя представлять себе дело так, что после 1950 года в языкознании немедленно началось возрождение. Прежде всего потому, что в течение нескольких лет все публикации были заполнены толкованиями гениальных произведений вождя. Тем не менее, несомненно начался важный процесс — те, кто выстоял, кто сохранил свои убеждения и себя как личность, смогли наконец вернуться к рабочим столам. Уже к 1958 году академик В. В. Виноградов сумел собрать в Институте русского языка АН СССР лучших лингвистов разных поколений. В кадровом отношении, разумеется, за определенными исключениями, Институт русского языка оказался гораздо более ярким, чем Институт языкознания. Собственно говоря, именно выделение этого нового института из Института языкознания позволило произвести разные перестановки. В Институте языкознания появился Сектор структурной и прикладной лингвистики, которым стал руководить А. А. Реформатский, а в «Русском» (несколько позже) — параллельный ему сектор, которым заведовал С. К. Шаумян. И хотя в 1958 году еще в ходу были цитаты из Сталина и термины, введенные в его работах, силу набирали иные тенденции.
Ориентация лингвистики на математику, кибернетику и, шире говоря, на методологию точных наук окончательно обозначилась именно в конце 50-х годов. Впервые явилась возможность избавления лингвистики от всякой причастности к «идеологическому фронту». Ученые уже могли не думать о том, не сказали ли по данному поводу что-нибудь классики марксизма. Аргументация, согласно принципам которой идейный ревнитель — невидимый, но вечно присутствующий цензор — всегда мог усмотреть в твоей работе какое-то «анти-» и употребить это «в дело» с вытекающими оргвыводами, перестала приниматься всерьез. Внутренний редактор наконец отключился. И вот тогда только и явилась подлинная возможность просто забыть о «трудах» Сталина по языкознанию.
Казалось бы, от такого поворота дел прежде всего должна была выиграть наиболее «гуманитарная» сторона лингвистики — все то, что связано с историей культуры, с функционированием языка как средства общения. Реальность, однако, была много сложнее. Вначале — примерно в течение восьми или десяти лет — доминировала не только ориентация на перспективы машинного перевода, но прежде всего желание «устроить» лингвистику наподобие математики. Это придало сугубо ценностный характер стремлению к формальному описанию феноменов языка. Паролем новой лингвистики надолго стало слово «строгость».
Я помню, как огорчился Э. А. Макаев, когда я рассказала ему о своих планах работать у Реформатского. Для Макаева идея чего-то «машинного» тогда звучала как угроза подлинно гуманитарному началу. И то сказать — Гумбольдта я впервые открыла в 1962 году, и вовсе не по внутренней потребности, а по долгу службы. У меня уже лежала готовая монография, и пора было сдавать кандидатские экзамены, чтобы защитить ее как диссертацию.
Математика была для нас образцом науки, и естественно, что у нас возникали дружеские связи с математиками. Их — математиков, физиков, специалистов по кибернетике, — в свою очередь, привлекала возможность сказать и сделать что-то новое и красивое, применяя свои методы в новой и непривычной области. Это в большой мере определило дух тогдашних семинаров и многому меня научило. Именно благодаря язвительным замечаниям В. А. Успенского, мягкой настойчивости физика М. К. Поливанова, посещавшего тот же семинар, недоуменным репликам Алексея Андреевича Ляпунова я научилась рассказывать в принятом у математиков и физиков стиле. Отныне в любой аудитории меня можно было перебивать, задавать вопросы по ходу дела. Я научилась не теряться и продолжать свою линию изложения, даже когда меня спрашивали о вещах, имеющих лишь отдаленное отношение к теме моего доклада.
Критика на наших сборищах могла быть разносной, но это не мешало неизменно дружелюбному общему духу. Особую важность для становления лингвистов моего поколения имели этические нормы, установившиеся в этом новом сообществе. В огромной степени мы обязаны этим нашим учителям — таким людям, как А. А. Ляпунов, П. С. Кузнецов, А. А. Холодович, А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров, М. М. Бонгард. (О трех последних я расскажу во второй части моих очерков.)
Все эти ученые, безусловно, принадлежали к научной элите. Как подлинные русские интеллигенты, они были людьми социальными. Именно осознание своей социальной миссии отличает элитарную интеллигенцию от высоколобых зазнаек. Наличие таких людей и организует ученых в ценностную среду, которая может быть названа научным сообществом. Эта среда живет по неписаным законам, которые составляют научно-этическую традицию. Неважно, сколько людей образует такую среду в рамках конкретной области знания — их может быть десять и меньше. Важен их научный и нравственный потенциал. Именно он предохраняет общество от распада ценностных ориентиров.
Поэтому уход из жизни таких людей приводил к тому, что целые научные направления не могли в дальнейшем существовать в прежних очертаниях.
Институт и вокруг
Лучшими временами в жизни двух наших институтов — Института языкознания и Института русского языка — были годы между 1958-м и 1965-м. Структурная лингвистика расцветала. Правильнее, впрочем, было бы сказать, что любая настоящая лингвистика тогда склонна была объединиться под эгидой «структурализма», понимаемого скорее как опознавательный знак. Настоящее внимание к структурализму sensu stricto, т. е. к тому, как соответствующие темы обсуждались в 30-е годы, пришло несколько позже и было связано со следующим этапом эволюции нашей гуманитарной науки — с выходом на авансцену семиотики.
В конце 50-х и начале 60-х годов лингвистика стремилась обрести черты зрелой науки — с определенными требованиями к описанию, с четким различием между фактами и гипотетическими построениями, с жесткостью формулировок. Структурная лингвистика именно в силу своей подчеркнутой научности, в отличие от идеологически препарированной гуманитарии, была вне вкусов, вне партий, вне идеологии. Было много конференций, где при некотором сумбуре, характерном для эпохи «бури и натиска», видно было биение живой мысли и желание успеть узнать и понять как можно больше. Хотя я и мои ровесники и были очень молоды и не слишком умудрены, но все же осознавали, что, помимо разрушения стереотипов, мы участвуем в создании не просто новой науки, но способствуем построению обобщенной модели для новой науки, свободной от идеологических догматов. Почти все мы друг друга близко знали, охотно читали работы еще в рукописях, делились мыслями и ценили критические замечания.
В особняке на Волхонке, где в большой тесноте, но в достойной атмосфере жили оба академических института, постоянно что-то происходило. Эта жизнь (во всяком случае, моя) нисколько не походила на популярные в нашей литературе описания будней типичного НИИ. Слоняющиеся без дела сотрудники, перекуры у мужчин и обсуждения тряпок у женщин, несчастные эмэнэсы, глупые и вальяжные доктора наук — все это было не про нас.
Работали мы действительно много. Игорь Мельчук обдумывал свои статьи, бегая из угла в угол и корча зверские рожи. Потом он садился и писал сразу начисто чеканные тексты, которые мы по очереди читали и сопровождали пометками на полях. К А. А. Реформатскому в присутственный день с утра выстраивалась очередь из многочисленных учеников, аспирантов и особенно привечаемых им «русских девок» — молодежи из Института русского языка.
Я любила неприсутственные дни. Тогда я оставалась в нашей маленькой комнате одна и могла писать. Ко мне часто заходил Петр Саввич Кузнецов, который работал в основном в МГУ, но в нашем институте бывал регулярно. Реформатский дружил с ним всю жизнь. Он и Макаев звали Петра Саввича Петей, а мы — в знак особой нежности — за глаза звали его Петя Саввич.
Петр Саввич был как бы немножко ребенок — в нем была необыкновенная непосредственность. И еще он был как бы чудак — потому что писал детективные романы и стихи. Последние он охотно читал и иногда дарил. Я любила его стихотворение, начинающееся строкой «Не оступитесь, лестница узка!». Мне всегда представлялось, что это как раз та узкая и очень крутая лестница, которая вела вниз, в нашу библиотеку.
Петр Саввич был одним из основателей Московской фонологической школы. Познания его были удивительны. В докладе по русской фонетике вполне можно было ожидать примера из суахили. Мыслил он очень ясно и крупно, а рассказывал довольно-таки сбивчиво. Самой интересной частью его докладов было введение. Оно выглядело примерно так формулировалась главная тема и далее перечислялись сюжеты и эпизоды, так или иначе с ней связанные. По поводу каждого из них Петр Саввич замечал: «Но об этом я сегодня говорить не буду». Мы так разбаловались, что иногда просили: «Петр Саввич, расскажите, о чем вы сегодня не будете!..» Петр Саввич выглядел очень пожилым человеком, хотя ему было немногим за шестьдесят. У него была семья, но главой этой семьи был не он, а его жена. В институте не было ни столовой, ни буфета, и я обычно приносила с собой много еды с расчетом на долгое сидение. Рядом с нашей комнатой был огромный кипятильник. Я поила Петра Саввича чаем и убеждала съесть хотя бы бутерброд, потому что приезжал он к нам с Ленинских гор. Он раньше или позже соглашался, смущенно упоминая, что жена дает ему деньги только на проездной билет.
Много времени я проводила на третьем этаже, в Секторе «Словаря языка Пушкина», а точнее — в кабинете, где работали В. Н. Сидоров и И. С. Ильинская. С Сидоровым меня познакомил Петр Саввич. Но об этом я расскажу отдельно.
По случаю «красных дней» мы устраивали капустники. Я часто писала для них тексты. Капустники могли быть довольно-таки ядовитыми. Доставалось более всех, конечно, старшим, потому что они были узнаваемы.
Одно из удачных представлений имело главной героиней Ольгу Сергеевну Ахманову. Человек она была в высшей степени своеобразный — при несомненном уме и незаурядности, она была так искусна в интригах и так театральна, что я никогда не ждала от нее чего-либо доброго. Ахманову изображала Кира Филонова. С присущим ей артистизмом и элегантностью Кира стояла на кафедре и поигрывала дешевыми бусами, которые на глазах превращались в известное всем ахмановское ожерелье. Она говорила: «Знаете, я вчера была на докладе — ах, эти сердитые молодые люди от лингвистики! Совершенно непонятно, но безумно интересно!» Последняя фраза к Ахмановой приклеилась. Она сама этому способствовала, поскольку обладала недюжинным здравым смыслом и по поводу сплетен о своей персоне всегда говорила: «Лучше плохо, чем ничего». Мои друзья с филологического факультета говорили, что Ахманова обожала пересказывать, как мы ее изобразили: это подтверждало ее уникальность.
И все же именно Ахмановой мы трое — И. А. Мельчук, Е. В. Падучева и я — обязаны выходом в 1961 году нашей первой книги «О точных методах исследования языка». Почему возник план этого издания и каким образом он был реализован — я не знаю. Ахманова написала для книги одну главу, и притом довольно невнятную. Главы, написанные Мельчуком и Падучевой, и сейчас заслуживают внимания. Моя — в значительной мере устарела.
Именно потому, что это была первая книга в новой области, она обратила на себя внимание. Ее тут же перевели на английский и издали в Америке. К тому времени уже открылись два отделения, готовившие студентов по специальности «Структурная и прикладная лингвистика», — одно в МГУ, другое — в МГПИИЯ. Первое со временем стало знаменитым ОСИПЛом. (О роли ОСИПЛа см. выступления участников Круглого стола «Фундамент и этажи», «Знание—сила», 1989, 6.)
Наша книга 1961 года попала в основной список учебных пособий. Мы, можно сказать, прославились. (Позже в такой же список была включена моя книга 1964 года «Статистические методы в изучении лексики».) Мне это было полезно, потому что позволило рано понять, что подобного рода известность — это малоценные побрякушки.
Некогда Пастернак в частном письме Илье Груздеву замечательно сформулировал это ощущение «Я поразился легкости, с какой снискивается тут успех, и как легко при этом заводится вторичное, витринное существованье…» («Звезда», 1994, 9, с. 107). Правда, в том же письме Пастернак пишет: «Ничего я так не боялся, как ложной судьбы, параллельной истинной». До таких размышлений мне было тогда очень далеко. Пока мы просто жили.
В эти относительно благополучные времена мы были горазды на выдумки. В Секторе С. К. Шаумяна работал Юрий Дереникович Апресян. На одном из вечеров Юра — общий любимец — получил титул «Мистер Институт» и в качестве приза (если я не путаю) фото Чарли Чаплина с тросточкой.
Регулярной забавой были кулинарные конкурсы. Вместе со съедобными изысками надо было представить рецепт — непременно в запечатанном конверте под девизом. Помню грандиозное овальное блюдо от кузнецовского сервиза, которое приволок Б. С. Шварцкопф. На нем покоилось, покрытое до поры салфетками, фирменное изделие его жены Маши Преображенской (известного диалектолога) под девизом «Ни рыба ни мясо». Кажется, это были фаршированные яйца. Я получила премию за какие-то фокусы, которые назывались «Венок коктейлей». Коктейли именовались «лед и пламень», «брусничная вода» и далее в том же роде.
Непонятным образом у меня сохранились рецепты претенденток на приз в специальном конкурсе на лучший пирог. Грустное это оказалось чтение — иных уж нет, а те — далече… А главное — ничего похожего сегодня не случается. И не потому, что все мы постарели и обнищали, — воздух вокруг нас изменился. Конечно, описываемое время (напомню, что я говорю о периоде между 1958 и 1966 годами) не было ни бесконфликтным, ни таким уж благостным. Более того, дело отнюдь не в том, что мы были молоды и устремлены в будущее. То, что позднее назвали «оттепель», действительно был только промежуток — но он подлинно, объективно был светлым.
Помню, как мы с Юрой Апресяном стоим в Белом зале ФБОН, прижатые толпой к книжным шкафам, куда клали текущую литературу для предварительной библиографической обработки и разметки. (За три года до того я рылась в этих шкафах вместе с философом и эссеистом Г. С. Померанцем и известным ныне социологом Леонидом Гордоном.) Давид Самойлов читает свои стихи. Я кожей ощущаю неповторимость момента. Если это возможно, значит — никогда не вернется то…
Игорь Мельчук еще на факультете дружил с Львом Александровичем Аннинским (для нас он был Леськой). Я помню альбом с фотографиями и текстом под заглавием «Аммоналы истории, писанные Л. Аннинским…» — это была сага о каком-то очередном походе. Аннинский услышал на редакционных посиделках в «Литгазете» какие-то замечательные песни и ухитрился получить пленку с их записью. Игорь немедленно выпросил у него эту пленку и позвал нас — Юру Апресяна, меня и еще трех-четырех человек — в Сектор культуры речи, где был студийный магнитофон. Так я впервые услышала песни Окуджавы.
Позднее и Окуджава, и Высоцкий, и многие другие пели у нас в институте. Андрей Вознесенский, юный и хрупкий, неоднократно читал стихи дома у М. В., одной из сотрудниц нашей библиотеки.
В Музее изящных искусств наконец вывесили картины из коллекций Щукина и Морозова. Прогремела выставка Пикассо — сейчас даже странно думать, что то и дело вспыхивавшие тогда споры перед полотнами все еще ощущались людьми поколения моих родителей как поступки не вполне безопасные.
Впрочем, что тут странного? Разве травля Пастернака в связи с присуждением ему Нобелевской премии не заставляла задуматься о том, что нам не ворота открыли, а в лучшем случае форточку? Или это вообще не форточка, а капкан?
С другой стороны, я хотела вести себя в соответствии с тезисом, который позже удачно сформулировал мой шведский друг, биолог с мировым именем: «Не ждите, что в передовой статье “Известий” когда-либо напишут “теперь все можно”».
Не следует думать, что происходившие тогда в обществе процессы «оттаивания» воспринимались всеми одинаково. В начале лета 1965 года мы с мужем переехали в маленькую кооперативную квартиру, где после десяти лет брака впервые зажили своим домом. Осенью 1965 года мы раздобыли обеденный стол и стулья, что дало возможность отметить новоселье. Примерно полтора месяца мы принимали друзей — всякий раз человек по пять-шесть.
Во время одного из таких застолий бурно обсуждались недавно вышедшие мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Книгой этой тогда зачитывались, достать ее было трудно. Я из чтения Эренбурга поняла, что о недавней культурной истории как СССР, так и Европы представления имею весьма смутные. Было очевидно, что книга эта содержит лишь часть того, что нужно было бы рассказать, и что даже официально признанный властью «главный» публицист страны разрешения на большее не получил.
Нашими гостями были известные и заслуженные люди — В. Г. и Г. Л. Оба, кажется, начинали в ИФЛИ и оба прошли войну. Никто из них никогда не был «верноподданным». Спор шел о том, что правильнее — говорить хотя бы полуправду, раз нельзя сказать все, или лучше молчать? (Самиздата тогда еще не было, а А. Д. Синявский был сотрудником Института мировой литературы и даже руководил дипломниками в Университете дружбы народов, где мы с ним как-то вместе заседали на защите дипломных работ.)
Я не успела даже понять, сколь далеко зашло дело, как оба моих гостя, будучи в здравом уме и ясной памяти, вскочили со своих мест и буквально схватили друг друга за грудки. Жены — по сравнению со мной, почтенные дамы — бросились их разнимать. Такого я не видела ни в одной компании и уж тем более — в собственном доме. Может быть, сегодняшний читатель, он же — телезритель, ничему не удивляется, ибо наблюдает драки в нашем парламенте. Может быть, кто-то и вспомнит, как однажды полез в драку депутат Анатолий Шабад — тоже, кстати, шестидесятнический тип. Так не с Явлинским же он подрался! В. Г. и Г. Л. были, несомненно, в главном единомышленники. Но таков был накал, свойственный духу времени. Даже те, кто по характеру был не слишком склонен к прямому участию в общественно значимых акциях, очень лично переживали происходящее и были готовы нести необходимое бремя ответственности.
Еще в конце пятидесятых я подружилась с Лидией Николаевной Булатовой, известным русистом и диалектологом. Она была старше меня лет на двенадцать. Человек ясного и трезвого ума, Лидия Николаевна поразила меня независимостью и вместе с тем непредвзятостью суждений. Ей я обязана тем, что стала заново задумываться о некоторых вещах, которые прежде принимала как очевидности. Потомственная интеллигентка, Л. Н. первая побудила меня усомниться в состоятельности тезиса о том, что интеллигенция всегда в долгу перед народом. Более важным, с ее точки зрения, было то, что интеллигент имел долги перед самим собой.
Из всех моих знакомых Лидия Николаевна была единственной, кто не был в прошлом ни пионеркой, ни комсомолкой. Тем не менее в начале шестидесятых она два срока была председателем месткома в Институте русского языка. И она же была первой, кто сказал мне, что поступок Павлика Морозова бесчеловечен и аморален. Я никогда не считала нормальным какое-либо доносительство, включая детские ябеды. Но в моих глазах — прежде всего благодаря известной всем детям радиопередаче — Павлик Морозов и его братишка были детьми, которых зарезали, когда они собирали клюкву. Пока я помнила о Павлике, я жалела его точно так же, как невинноубиенного царевича Димитрия. К тридцати годам я успела вообще забыть о Павлике Морозове. Но задуматься о некоторых вещах было полезно.
В 1960 году Лидия Николаевна поехала по туристической путевке в Париж и привезла оттуда «Чуму» Камю. (Русский перевод «Чумы», сделанный для «Нового мира», был рассыпан уже во времена весьма «вегетарианские», чему мои молодые друзья верят с трудом.) Камю я прочитала как откровение. Влияние этой книги на меня было огромно: она помогла мне структурировать какой-то смутный клубок представлений о нравственном долге. Второй книгой, имевшей сходный эффект, было «Самопознание» Бердяева. Чтение этих книг было для меня важнейшим духовным опытом.
В те годы (все еще до самиздата) книги для меня и моего непосредственного окружения в последнюю очередь были развлечением или отвлечением. Если с началом перестройки уже взрослые люди впервые смогли в большой полноте открыть для себя историческую правду, то в 60-е годы через книги мы открывали не только правду, но еще и самих себя.
Понять, как формировался советский читатель, было бы очень поучительно. Скажу несколько слов об одном опыте в этом направлении. Несколько лет назад «Независимая газета» напечатала симпатичную статью Ильи Бернштейна «Портрет шестидесятника на фоне книжного шкафа». По словам автора, его отец родился в 1928 году. Тем более любопытно было узнать, что же о нашем книжном шкафе пишут наши дети. В статье все, в общем-то, правильно — в части информативной. А вот тональность ее совсем не передает воздух эпохи — и здесь я вижу еще одно оправдание для мемуариста.
С известной долей снисходительности автор пишет о том, что «шестидесятники» относились к книге исключительно серьезно и трепетно, причем «поверхностность и неполнота знаний сочетались с энтузиазмом молодости и ортодоксальностью неофита». В подтверждение этого цитируются строки Бродского о том, что его поколение пришло в литературу из умственного, интеллектуального, культурного небытия. (Замечу, что Иосиф Бродский написал это не тогда, когда он входил в литературу, а оглядываясь на свою юность с горних вершин.)
Мой рассказ о школе, где я училась, подтверждает, что мое поколение вынужденно росло в культурной изоляции. Но я все же и сейчас думаю, что душеполезнее трепетно читать Бунина, который впервые стал общедоступен в 1957 году, чем неповерхностно, но бестрепетно читать Пруста. И уж вовсе грустно видеть, как то новое поколение, которое вроде бы не выбирает пепси, а учится в лицеях и гимназиях, трепетно читает Толкиена, но в 15 лет все еще обходится без «Войны и мира».
Довольно остроумно И. Бернштейн высмеивает культ Хемингуэя, напоминая о популярности его известного портрета в свитере и с трубкой. Самое же забавное — это воспоминания автора о том, как он старшеклассником читал «Доктора Живаго» и поражался образованности и начитанности юных героев романа — своих ровесников. Этот пассаж предварен ремаркой: «Стыдно сказать, но мое самое сильное впечатление…».
Мне, видимо, должно быть еще более стыдно. Я прочла «Доктора Живаго» в знаменитом издании Фельтринелли, когда мне было тридцать. Книгу мне достал мой приятель — выпросил у ее владельца на два дня и две ночи, буквально вместо лекарства, потому что я была в тот момент тяжело больна и от болей не могла спать.
Мои самые сильные впечатления состояли в следующем. Прежде всего, через стихи Юрия Живаго мне вдруг открылся весь Пастернак, ранний и поздний сразу. А главное — я впервые подумала о том, что, будь я современницей Живаго, я, скорее всего, оказалась бы вовсе не среди «красных». Выражаясь современным языком, можно сказать, что я сделала тогда первый шаг к смене политической самоидентификации.
Мне, однако, не стыдно. А из Хемингуэя я любила только «Прощай, оружие», за что меня постоянно пинали.
Природа и культура
Туризм — даже ближний, подмосковный, — был в то время уделом «интеллигентных» компаний. В походы еще ходили без гитар, а крепкие напитки — точнее, чистый спирт — брали только как лекарство. Если народу было мало, или с нами шел кто-нибудь из иностранных коллег, или поход был по случаю дня рождения — покупали хорошее сухое вино.
Для Игоря Мельчука поход был прежде всего формой общения со всеми теми славными людьми, которые не сподобились сидеть с ним в одной комнате и работать над общими задачами. Поэтому набиралась группа, которая на проселочной дороге растягивалась как рота солдат на марше. Счастливые замурзанные дети всех возрастов забегали то в голову, то ближе к хвосту колонны.
В этом была особая прелесть, хотя вообще я избегала шумных сборищ и с Игорем в поход ходила редко. На то были и иные причины — и я, и мой муж были ограничены необходимостью соблюдать режим и диету. Поэтому мы ходили в походы без ночевки и в узкой компании, а то и просто вдвоем.
Страсть к походам — ближним и дальним, охватившая тогдашнюю молодежь, интересна как феномен социальный и культурный. Я думаю, что мы были первым послевоенным поколением, которое могло походами компенсировать чисто физическую переуплотненность коммунального быта. Те, кто успел переехать из больших коммуналок, все-таки (как правило) продолжали жить под одной крышей с родителями.
Среди моих многочисленных друзей и знакомых до середины 60-х годов не было никого, кто бы снимал квартиру — в Москве для этого просто не было свободной площади.
У нас с Юрой свой дом появился, когда ему было сорок, а мне — тридцать четыре. Это было решающее для нашей жизни событие, несравненно более значимое, чем защита диссертации.
До всеобщего увлечения садовыми участками и уж тем более до покупок изб в заброшенных деревнях оставалось, по меньшей мере, десятилетие. В моем ближайшем окружении своя, т. е. кооперативная, дача была только у моих родителей. И именно поэтому мы с мужем там никогда не жили: нам вполне хватало вынужденного общества его родителей. Мама моя не могла постичь, почему переночевав, мы, вместо отдыха на всем готовом под нашими столетними соснами, наутро уходили куда-то далеко с рюкзаками, в которых, кроме еды, надо было нести еще и питьевую воду.
Помимо стремления расширить физическое пространство, мое выросшее на асфальте поколение стремилось в какой-то форме открыть для себя природу, причем не столько то, что мы называли «красоты», но прежде всего нетронутую природу средней полосы. И здесь я многим обязана книгам В. Солоухина «Владимирские проселки» и «Капля росы». Солоухин сейчас более известен как патриот в кавычках. Мне все равно, переменился ли он с тех пор как личность или всегда был таким, как сейчас, но помалкивал. Важно, что благодаря его книгам (а не книгам Пришвина) я в свое время научилась видеть и ценить природу на уровне и в пределах микропейзажа, как это умеют делать прирожденные грибники и охотники.
В свое время я очень любила Паустовского и верила, что жизнь устроена именно так, как он ее описывает. Надо было «пощупать мир через подошвы», чтобы понять, что романтическое отношение к природе и вообще к окружающему миру пребывает внутри человека, а вовсе не зависит от того, что ты можешь жить в Мещере или в Коктебеле.
Чтобы понять всеобщую тогдашнюю страсть к странствиям — будь то русский Север или старые армянские храмы, — надо вспомнить, что в отрочестве и ранней юности все мы, родившиеся до войны, были лишены возможностей просто куда-то поехать и увидеть «это» своими глазами. И еще долгие годы после победы вдоль железных дорог стояли полуразрушенные здания вокзалов, видны были ржавые остатки дебаркадеров, полусгоревшие вагоны. Не было денег, не было турбаз, не было мест в гостиницах, билетов на поезд. Когда я была школьницей, то даже наш привилегированный «класс Е. М. Булганиной» никуда не ездил. В Ленинграде я впервые смогла побывать только в 1953 году, потому что нашлась подруга детства моей тетки, которая приютила меня на неделю.
Замечательная возможность путешествий открылась в конце пятидесятых благодаря научным конференциям, которых было много и куда начальство охотно давало командировки. Кроме того, меня иногда приглашали читать лекции. Так я побывала в Черновцах, Ереване, Одессе, Киеве, Таллинне, Вильнюсе, Алма-Ате.
Вообще-то первое в моей жизни приглашение приехать читать лекции я получила из Огайо. Написал мне профессор Тварог, заведовавший в тамошнем университете кафедрой русского языка. Узнал он о моей персоне благодаря тому, что мне на официальное рецензирование был прислан препринт книги американского профессора Николая Платоновича Вакара «Частотный словарь русской разговорной речи».
Николай Платонович Вакар принадлежал к эмиграции первой волны. Мы много переписывались, до самой его смерти. Потом я переписывалась с его вдовой, Гертрудой Павловной, поэтессой, литератором и переводчиком. Ей англоязычные коллеги обязаны возможностью прочесть по-английски «Мышление и речь» Выготского. И уже после смерти Гертруды Павловны я продолжаю дружить с Екатериной Николаевной Чвани, старшей дочерью Вакаров, известной слависткой.
Тогда, в начале шестидесятых, ни на что, впрочем, не рассчитывая, я все же отправилась на прием к нашему директору В. И. Борковскому. Борковский выслушал, посмотрел на меня не без некоторого изумления, потом взял письмо Тварога и начертал поперек грифа Университета штата Огайо: «Под благовидным предлогом отказаться». Этот лист плотной бумаги с рельефом я храню до сих пор.
Институту понадобилось тридцать лет, чтобы решиться официально отправить меня за границу. Первый день августовского путча 1991 года я встретила, стоя за кафедрой в аудитории Университета города Фрибур в Швейцарии. Надо ли говорить о том, как мало меня потом интересовала и конференция, и швейцарские Альпы.
Наука как стиль жизни
«Так начинают. Года в два…»
В 1963 году я защитила кандидатскую диссертацию, в 1964-м у меня вышла монография. Еще до того у меня появились ученики. Сложился некоторый стиль жизни — в общих чертах я рассказала о нем в предыдущем разделе. Почему я жила именно так, а не иначе — я не задумывалась. Я делала именно то, что мне хотелось, и этим была счастлива.
Когда и почему я решила, что буду «заниматься наукой», я не помню. Более того, хотя в отрочестве эта перспектива для меня отождествлялась с чем-то близким к медицине, точнее — к микробиологии (все тогдашние школьники читали книгу «Охотники за микробами» Поля де Крайфа), я не любила школьную биологию. Даже «Рассказы о науке и ее творцах», заботливо выбранные мне в награду нашим классным руководителем Еленой Михайловной по случаю окончания седьмого класса, я так и не прочла, потому что в них говорилось о тех науках, которые меня не занимали, — таких, как химия и физика. Тимирязев для меня был представлен памятником, знакомым с младенчества, и рассказы о нем ничего к этому не добавляли.
Зато по-настоящему интересно было рыться в никем ранее не читанных пыльных томах «Литературного наследства», которые — не знаю, каким путем, — попали в нашу школьную библиотеку. Эта внезапно открывшаяся возможность непосредственного взаимодействия с огромным количеством книг запомнилась навсегда.
Итак, я намеревалась стать ученым, совершенно не понимая, что влечет за собой подобный выбор. Более того, я не понимала, в чем состоит сам выбор — к чему он меня обязывает или чего он меня лишает. Некоторые смутные фантазии касались образа жизни ученого, каким я тогда его представляла: большой письменный стол и книги до потолка. И тишина.
«Кристаллизация» этих детских представлений произошла вне связи с моей реальной жизнью — разумеется, если реальностью считать именно внешний, событийный ее аспект. Тогда я уже училась на первом курсе филологического факультета и была своим предметом совершенно захвачена. Случайно — это было на каникулах — мне попался роман американского писателя Митчелла Уилсона о жизни молодого ученого-физика. Книга эта в оригинале называлась «Живи при вспышках молний», но первое ее русское издание почему-то называлось «Жизнь во мгле». Эффект от чтения носил характер озарения и совершенно не определялся эстетическими качествами книги. Бесхитростный роман я прочла как весть свыше, инстинктивно «присвоив» только тот его пафос (в смысле Белинского), который был важен лично для меня.
Кристаллизация состояла в том, что я впервые погрузилась — пусть лишь в воображении — именно в ту жизнь, которой, как мне тогда казалось, я хотела бы жить. Я почувствовала, что занятия наукой сообщают жизни набор несомненных смыслов. Любопытно, что это живое чувство в дальнейшем меня не покинуло, оставаясь именно переживанием, а не плодом рассудка. Чувство нельзя пересказать, как и музыку. То же, видимо, справедливо и для переживания ценностей. Однако осознание ценностей, и прежде всего осознание ценностной иерархии своих выборов, не только поддается словесным формулировкам, но без них невозможно.
Я уверена, что книга, сыгравшая в моем формировании такую важную роль, сейчас совершенно забыта. Поэтому стоит более подробно объяснить, что именно я в ней тогда нашла.
С точки зрения жанра это типичный «роман успеха». Юный Эрик Горин, выпускник американского университета, приходит в аспирантуру к маститому ученому и говорит, что хочет стать физиком. Он им и становится, но какой ценой! Автор, несомненно, описал собственную дорогу «через тернии к звездам». Иначе невозможно достичь такой убедительности в сочетании с литературной наивностью. Впрочем, как я уже сказала, литературную неискушенность автора я просто не заметила: для меня это была литература факта, а вовсе не роман.
Характерно, что мимо меня прошло все то, что не вполне удалось не только автору, но и герою. Эрик Горин женится на любимой женщине, но для жены и сына у него никогда не остается времени. Он не слишком хорошо разбирается в людях и доверяет равнодушным и даже мерзавцам — понятно, чем это должно кончиться. Человек, которого он считает своим близким другом, слишком надломлен, чтобы ответить ему тем же. И, наконец, дружба с женщиной-физиком, которая приносит герою чувство подлинного понимания, переходит в роман, оскорбительный для всех, поскольку принуждает порядочных людей лгать друг другу.
Ничего этого я тогда не заметила. Я увидела другое: полную и радостную поглощенность героя своей научной задачей. Встречи с другими людьми, которые считали подобные же задачи самым важным, что только есть в жизни. Чувство полета, когда наконец получилось. И, быть может, главное. При всей зависимости от внешних, материальных обстоятельств, Эрик Горин был глубинно независимым человеком, потому что он владел способностью порождать свой мир, который был для меня бесконечно привлекателен. Теперь я понимаю причину этой привлекательности: это был мир бесспорных ценностей.
Герой романа Уилсона — физик-экспериментатор. Именно тогда — в начале пятидесятых — в нашем обществе вокруг физики и физиков начинает возникать ореол профессионального избранничества. Физика меня не привлекала, а потому безразлична была и профессия героя. Тем не менее именно эксперимент как сфера самопроявления действующих лиц раскручивал сюжет за счет очевидных препятствий, которые герой должен преодолеть. Чтобы провести эксперимент, герою предстояло самому сконструировать сложную установку, а для этого научиться паять, выдувать стеклянные трубки и так далее; потом установка не оправдывала надежд, или все ждали, что приборы покажут одно, а они показывали нечто неожиданное. В общем, это были вполне понятные читателю трудности, они же «тернии».
Замечу, что если бы Эрик Горин был физиком-теоретиком или математиком, автору было бы технически трудно построить фабулу: чтобы активно сочувствовать человеку, сидящему месяцами за столом перед исчерканными листами бумаги, надо хоть отчасти понимать, чем же он занят. Но достаточно герою повествования оказаться у любого прибора, чтобы современный читатель был готов заинтересованно следить за ходом дела, не вникая в подробности. Я думаю, что именно поэтому так трудно написать роман об ученом-гуманитарии: содержание его деятельности не порождает интригу, соответствующую ожиданиям массового сознания. Не случайно в некогда популярном романе В. Каверина «Исполнение желаний» начинающий (!) филолог посвящает себя расшифровке десятой главы «Евгения Онегина». Роман вышел во времена расцвета пушкинистики и становления культа Пушкина, что создавало у непосвященных иллюзию приобщенности к занятиям, заведомо достойным главного героя.
Литература, имеющая успех у широкого читателя, как правило, достаточно адекватно отражает массовое сознание; в описываемых случаях — образы «науки и ее творцов». По-видимому, в 19 лет я неосознанно разделяла подобные представления. Этого было достаточно, чтобы выбрать для себя жизненную парадигму, ничего, в сущности, о ней не зная. Конечно, сегодня было бы приятно сказать, что в юности меня вдохновил какой-нибудь шедевр — например, «Игра в бисер» Генриха Гессе. Однако эту книгу я прочла двадцатью годами позже. Самое удивительное, что «Игра в бисер» не поколебала мои более ранние установки, а, напротив, укрепила их. В это время (это было через несколько лет после защиты кандидатской) я переживала серьезный кризис: возникшие у меня задачи увели меня из хорошо обжитой области, где я пользовалась известностью, в сферу, где мне пришлось начинать с нуля, и к тому же в полном одиночестве. В книге Гессе я нашла подтверждение своей убежденности в том, что наука как образ жизни не требует никаких оправданий извне.
Разумеется, выбор науки как главного содержания жизни не определяет жестко стиль существования. Я не имею в виду выдающихся деятелей науки с их универсализмом и прозрениями. Наука как стиль жизни, да и стиль как характеристика самой науки занимают меня здесь в той мере, в которой он может быть соотнесен с жизнью и работой ученых обычных способностей. К ним я отношу себя и других людей, которые с удовольствием живут наукой и пользуются определенным авторитетом у коллег, поскольку являются профессионалами.
Применительно к ним можно сказать, что стиль их жизни определяется отчасти характером избранной научной дисциплины, отчасти — эпохой, а во многом — типом личности самого ученого. Научный стиль отдельного ученого — это, похоже, такое же имманентное свойство личности, как стиль художественный. Поэтому для меня наиболее естественно размышлять не вообще о науке как стиле жизни, а о своей науке и о том научном сообществе, к которому сама я принадлежу.
Процесс и результат
Чтобы приносить истинную радость, занятия наукой должны иметь смысл в самих себе. Как писала Л. Я. Гинзбург, смысл — это когда не спрашивают «зачем?». Позже вы можете говорить о том, что вы хотели осчастливить человечество. Или заслужить одобрение родителей. Или разбогатеть.
Ученым движет мысль, подобно тому, как влюбленным движет страсть. Сама по себе страсть не гарантирует взаимности, но сообщает определенным переживаниям ценность и осмысленность. Движение мысли тоже не гарантирует получение удачного результата. Более того, само по себе это движение ощущается как весьма изматывающий труд. Но сколько бы ученый ни жаловался на мучительность процесса поиска, он интенсивно живет именно этим процессом.
Что касается результата, то, во-первых, результаты случаются не так часто, чтобы заполнять собою жизнь. Во-вторых, почти любой частный результат в принципе опровержим или оказывается позже поглощен более общими утверждениями. Во всяком случае, в перспективе. В-третьих, если результат действительно хорош, то через некоторое время самому ученому он начинает казаться чем-то само собой разумеющимся. И если в нем (результате) не усомнятся другие, то все, что останется от ваших усилий через 10 — 15 лет, — это так называемые «авторитарные ссылки». Нередко в научном тексте читаем: «Как описано у К. …» или «Еще X. показал, что… ». Опытному глазу видно, что сам автор ни К., ни X. не читал, так что ссылки эти — не более чем ритуал. Да и вообще вовсе не обязательно читать К. или X., чтобы затем сообщить читателям некую банальность. Это и есть авторитарные ссылки.
Авторитет — вещь приятная, пока его используют по назначению. Здесь у меня есть достаточный опыт. В ранний период моей жизни в науке (тогда я занималась применением статистических методов в лингвистике) ссылки на мои работы были многочисленны. Поначалу это мне весьма льстило. Постепенно я все чаще стала обнаруживать, что после слов «Как показано у Фрумкиной» следует какая-то несусветная чушь. Вначале это можно было отнести за счет эффекта «испорченного телефона»: сам автор меня не читал, а кто-то другой — читал, но не вполне понял и пересказал на свой манер. Довольно быстро эти ссылки превратились в формальность: если уж пишешь на данную тему, то соблюдай приличия. И что тут приятного — видеть свое имя поминаемым всуе?
Противопоставляя процесс и результат, я отнюдь не хочу сказать, что мне безразлично, куда приведет меня процесс — будет ли от моих усилий какой-то прок или все сделанное пойдет в корзину. Но мне несомненно повезло в том, что я рано поняла, что именно процесс — это житейские будни, а результат — только очень редкие праздники. Это спасло меня от надежд на легкий успех и сократило неизбежные для каждого исследователя периоды подавленности и опустошенности.
«Неволей, если не охотой…»
С проблемой отношений между процессом и результатом тесно связан, казалось бы, праздный, а на деле очень глубокий вопрос правда ли, что наука требует жертв?
Любопытны обстоятельства, при которых мне был преподан наглядный урок на эту тему. Я привыкла еще со школы, что много работать — это нормальное состояние. Однако как в школе, так и в университете объем работы был в основном задан извне. Вопрос о том, сколько же надо, сколько должно работать, возник, когда я стала сотрудником Института языкознания Академии наук. Наш шеф и учитель А. А. Реформатский предоставлял нам полную свободу. То, что своей работе можно было отдавать весь день, а не только вечер, как это приходилось делать многим в предшествующие годы, все мы воспринимали как подарок судьбы.
Бывали, однако, периоды, когда мне не очень ясно было, как двигаться дальше. Иногда просто хотелось взять с утра лыжи и закатиться куда-нибудь в лес. Да и вообще мне хотелось много разного: бродить по городу, когда цветут липы, праздновать масленицу, научиться печь пироги, читать романы по-английски и книги о постимпрессионизме по-французски. Всему этому я время от времени предавалась. Само собой, у меня была семья и соответствующие обязанности. Однако, если я по нескольку дней подряд не работала, то возникало какое-то странное ощущение провалов во времени и неясная досада.
Откуда-то явилось решение: садиться ежедневно за письменный стол в десять утра и сидеть до двух, вне зависимости от того, «получается» или нет. Если совершенно ничего не удавалось, я читала научную классику. В два часа я вставала из-за стола «с сознанием исполненного долга». Разумеется, я забывала о времени, если работа шла. К сожалению, хорошим здоровьем я не отличалась и если писала, то четыре машинописные страницы были пределом моих физических возможностей. Так прошло несколько лет, в течение которых я защитила кандидатскую диссертацию, написала книгу и несколько больших статей. Оказалось, что четыре-пять часов каждое утро без выходных — это не так уж и мало.
Весной 1964 года в Москву из Стокгольма приехал мой знакомый Ларс Эрнстер, биохимик с мировым именем. Ему тогда было сорок четыре года. В одну из наших встреч он поинтересовался моей зарплатой и был поражен ее мизерностью. Я же спросила его, что он любит читать, и, в свою очередь, была поражена ответом. «Знаете, — сказал он, — после четырнадцати часов за микроскопом…» Оказалось, что это его норма и что даже в воскресенье он часто заезжает в свою лабораторию. А сколько я работаю? Услышав, что часа четыре-пять, но тоже без выходных, он ответил мне репликой, которую я запомнила буквально: «Да вы даже своей грошовой зарплаты не заслуживаете!» Зарплата, конечно, была ни при чем. Просто моему собеседнику сама ситуация показалась абсурдной: если молодая женщина работает так мало, то ее место вовсе не в науке. В таком случае, зачем же себя мучить?
Но я отнюдь не мучила себя. Напротив того, я испытывала от своих занятий совершенно непосредственное удовольствие!
Следующая наша встреча произошла через 26 лет в его доме в Стокгольме. Я сказала: «Ну, теперь я тоже… правда, не четырнадцать, но иногда десять». А он ответил: «Ты извини, я должен после ужина хотя бы часов до трех (ночи — Р. Ф.) поработать». Мой друг был экспериментатором. Поэтому для него так же необходимо и естественно было работать 14 часов, как для меня в свое время — пять. Эксперимент не может идти быстрее, чем это позволяет природа вещей. Так что когда и я стала экспериментатором, то оказалось, что сколько ни работай — все мало. Те же, кто не связан с экспериментальными процедурами, обычно работают меньше — если, разумеется, учитывать лишь время, проведенное за письменным столом.
Беллетристы любят писать о том, как решение задачи приходило к великим ученым в самые неожиданные моменты — во сне или за картами. О невеликих не принято писать, а зря. Ведь вопрос не в том, каков масштаб задачи, решение которой является человеку, когда он, например, едет в автобусе. Важно, что для серьезного исследователя жизнь концентрируется вокруг поиска решения. В такие периоды мысль вовсе не переходит на иные предметы и после того, как ты встал из-за стола. Сосредоточенность на своей проблеме существует как бы сама по себе. Все остальное пребывает на втором плане. В этом смысле я не думаю, что занятия наукой требуют от ученого особых жертв. Не вернее ли сказать, что наука почти всегда требует жертв не от самих ученых, которым она приносит столько радостей, а от других — главным образом от близких?
Женщины в науке
Более всего афоризм о жертвах соответствует ситуации, когда науке посвящает себя женщина. (Может быть, это касается не только науки, но вообще всех творческих профессий, однако пусть художницы и балерины скажут о себе сами.) Дело здесь не только в трудностях нашего быта. Более важной мне представляется неизбежная коллизия в иерархии ценностей, возникающая из противопоставления семья — наука. Правда, поняла я это очень поздно, в силу чего много лет мучилась от очевидной бессмысленности выбора между домом и работой.
Вера в возможность гармонии поддерживалась тем, что вокруг меня преобладали именно те женщины, которые выбрали науку, а они не склонны были распространяться по поводу того, чего это им стоило. И уж вовсе было бы странно ожидать признаний в том, что выбор этот не оправдал себя.
Вспоминаю разговор по телефону, случайным слушателем которого я оказалась. Моя коллега уезжала в фольклорную экспедицию и с целью одолжить резиновые сапоги звонила по очереди многочисленным знакомым. Для меня ее реплики сливались в неясный шум, пока не возникло настойчивое повторение фразы: «Так все-таки тридцать восемь или тридцать девять?» По моим понятиям, у нее был другой, меньший размер обуви. Когда она положила трубку, я узнала, что 38 или 39 — это не про сапоги, а про то, что у трехлетнего сына ангина. В тот же день сапоги нашлись, и она уехала, отвезя ребенка к бабушке. Это была заурядная экспедиция и заурядная ангина.
У меня, скорее всего, не хватило бы решимости считать ангину заурядной. А если бы я ехала не в экспедицию на Урал, а с докладом в Оксфорд?..
Как бы там ни было, я откровенно завидовала тем, кому, на мой взгляд, подобный внутренний разлад не угрожал.
На самом деле за свою жизнь я видела не так много женщин, которые могли сочетать роль матери и хозяйки дома с серьезным научным творчеством. В действительности они сделали определенный выбор — и это был выбор в пользу науки, а не семьи. Последствия экзистенциального выбора в подобных случаях обычно представляются как прискорбная, но неизбежная бытовая неустроенность, а кулинария и тряпки — как малодостойная внимания тема.
Наш все еще вполне советский убогий быт, при всей его чудовищности, лишь обостряет конфликт, тем самым затушевывая его сущность. Последняя обнажается именно на фоне западного благополучия. Однажды на симпозиуме по психологии в Берлине я встретила молодую элегантную женщину, которая в свои тридцать четыре года уже была профессором одного знаменитого немецкого университета. При безупречной светскости в ней чувствовалась некая постоянная нервная напряженность. Уехала она внезапно, даже не появившись на традиционной прощальной вечеринке. В связи с чем я и поинтересовалась, есть ли у фрау профессор семья. Моя собеседница — недавняя студентка — поразилась абсурдности моего вопроса: о какой семье может идти речь? Разве не очевидно, что фрау профессор сделала иной выбор?
Свидетельства конфликта ценностей оставили, естественно, именно те, кто добился немалых успехов. Например, известный математик и писательница Е. С. Вентцель, мать троих детей, в одном из своих рассказов призналась, что у нее всегда страдал дом.
Наука как массовая профессия
Одно из самых счастливых состояний, пережитых мною, — это проснуться весной в шесть утра, потихоньку вытащить машинку на нашу шестиметровую кухню и сесть писать. И уж совсем прекрасно было в июне, на даче, устроиться, как только рассветет, за старым садовым столом под зацветающими жасминами и работать до отупения.
Процитирую еще раз Л. Я. Гинзбург: «Человеку может надоесть все, кроме творчества. Человеку надоедает любовь, слава, богатство, почести, роскошь, искусство, путешествия, друзья — решительно все. То есть все это при известных условиях может перестать быть целеустремлением, — но только не собственное творчество» (курсив мой — Р. Ф.). «Надоесть» здесь значит именно перестать быть целеустремлением, а вовсе не опротиветь.
Разумеется, сказанное справедливо не для одних лишь ученых — судя по контексту эссе «Неудачник», откуда взяты эти строки, имеются в виду вообще те, кто занят творчеством. «Целеустремление», вероятно, не обязательно, если просто работать от сих и до сих, рассматривая науку как службу. Но тогда не стоит и ждать от нее особых радостей. Служба не только может надоесть, но, я думаю, непременно надоедает всякому нормальному человеку. С некоторого времени, однако, в науке прочно и комфортабельно обосновался именно человек на службе.
Мое поколение гуманитариев — это появившиеся на свет в начале тридцатых и пришедшие в науку в конце пятидесятых. Обстоятельства позволили нам достаточно рано заявить о своей самостоятельности. У тех, кто был более общителен, вскоре появились ученики. Сами мы все еще имели счастье близкого общения с ныне уже легендарным поколением — людьми, родившимися в 1890 — 1900-е годы. Мы видели в них высокий образец, которому хотели бы следовать в меру своих возможностей. То, что мы так хотели быть похожими на наших мэтров и их круг, объяснимо: это был знак приобщенности к миру безусловных высших ценностей. Еще бы: для них ОПОЯЗ и Московский Лингвистический кружок были естественной средой обитания, а не чем-то, о чем можно узнать из энциклопедии.
Когда я читаю в «Рассказах об Ахматовой» Анатолия Наймана, что героями ее разговоров были именно Коля, Осип, Боря, а не Н. С. Гумилев или Б. Л. Пастернак, то вспоминаю, что и мне доводилось слышать об Андрее (великий математик А. Н. Колмогоров), Роме (знаменитый лингвист Роман Якобсон) и Колюше (Н. И. Тимофеев-Ресовский, известный широкому читателю как легендарный «Зубр» из романа Д. Гранина). Всем им я была в свое время достаточно буднично представлена. Это мне вовсе не льстило, а скорее страшило как знак доверия, выданный авансом неизвестно за какие доблести. Щедрость наших учителей позволила нам подключиться к тому ценностному слою, который был обеспечен золотым запасом научного и жизненного опыта этого поколения.
Л. Я. Гинзбург, вспоминая о сложностях отношений со своими учителями — с Эйхенбаумом, Тыняновым, Шкловским, — называет себя и своих товарищей «жестокими учениками». Имеется в виду ранняя научная самостоятельность и неизбежный в таких случаях бунт против старшего поколения — неважно, в каких именно формах
Пожалуй, я бы предпочла видеть своих учеников «жестокими» в указанном смысле, нежели обнаружить, что они, будучи дружелюбны и даже сердечны по отношению ко мне самой, равнодушны к моим ценностям. Первое поколение моих учеников — это те, кто получил диплом ближе к концу шестидесятых. В это время наука в СССР стала массовой профессией. Научный бум быстро вышел далеко за пределы математики, физики и структурной лингвистики. Вполне закономерно, что наряду с энтузиастами, которым была нужна наука ради нее самой, в науку пришли случайные люди. Сами о себе они этого чаще всего не знали. Занятия наукой представлялись им — тоже не вполне осознанно — как такая деятельность, где ценой не слишком больших усилий можно совершенно законным образом получить большие результаты (эта мифологема оказалась чрезвычайно живучей).
Для менее честолюбивых работать в науке значило «интересно жить». Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что понятие «интересная жизнь» вовсе не было связано с научной работой как таковой, а лишь с социальным престижем науки, в чем бы он ни выражался. Для третьих вообще интересная жизнь начиналась тогда, когда рабочий день прерывался для чаепития, а еще лучше — заканчивался.
Впрочем, нескончаемое чаепитие — непременный атрибут быта любого советского учреждения. И все же работники Госбанка или какого-нибудь министерства никак не могли рассчитывать на то, что в конце рабочего дня к ним придет читать лекцию сам Аверинцев! Или что они будут из тех немногих, кто увидит только что смонтированный фильм Иоселиани «Пастораль» и самого режиссера в придачу. А вот сотрудники Центрального экономико-математического института или любого другого научного учреждения с добротным названием и активной культкомиссией имели такие возможности более или менее регулярно. «Научная работа» для многих лишь заполняла промежутки между капустниками, встречами с художниками и турпоходами.
Здесь я предвижу недоумение читателя: стоит ли вообще говорить о занятиях и лицах, для науки случайных? Конечно, применительно к каждому отдельному человеку сказанное можно считать случайностью. Но то, что с определенного момента в нашей гуманитарной науке (впрочем, и в других тоже) стали количественно преобладать обычные служащие — это уже было закономерностью.
Справедливости ради скажу, что отрицательный эффект пришествия масс в науку наблюдался и в научном сообществе в США как следствие бума в прикладной науке во время второй мировой войны. В автобиографической книге Н. Винера «Я — математик» (1956) читаем: «В результате молодые люди вместо того, чтобы готовиться к долгому и трудному пути, жили с легким сердцем, не беспокоясь о завтрашнем дне… Дисциплина и тяжелый труд были для них не обязательны, и надежды, которые они подавали, расценивались ими как уже исполненные обещания».
Ярко талантливых людей мало в любой среде, и наука — не исключение. Однако, в отличие от искусства, в современной науке отсутствие яркого таланта вовсе не обрекает человека на прозябание. В сложной структуре, которую сегодня являет собой научное сообщество, может найти место каждый — если он любопытен и добросовестен. Но для того, чтобы получать от научных занятий подлинную радость, надо прежде всего любить эти занятия как времяпрепровождение.
Ближайшую аналогию я вижу в том особом удовольствии, которое я получала, когда пела в хоре. Любой из хористов при весьма скромных вокальных возможностях может способствовать чудесам, которые рождаются каждый раз заново, притом здесь и сейчас. Всякий хор требует от своих участников музыкальности, самоотдачи и чувства ансамбля. В этом смысле любительский хор должен быть профессионален. Наука не бывает любительской, если под любительством понимать размытость критерия качества. Вкус в науке — тоже своего рода музыкальность. Если есть вкус, готовность к самоотдаче и чувство ансамбля, то интеллектуальные усилия порождают азарт и приносят совершенно непосредственную радость даже скромному исполнителю. Надо лишь понять, что установка на процесс — вовсе не риторика для утешения неудачливых. Я уже говорила о том, что результат вообще случается не слишком часто. Желание иметь результат во что бы то ни стало — похвально, но у многих оно оборачивается стремлением иметь его поскорее. Отсюда — преждевременные надежды и отчаяние оттого, что они не исполняются.
Часто говорят о том, что отрицательный результат — тоже результат. Это справедливое утверждение на деле значимо только для узкого круга единомышленников, потому что только для них оно имеет практический смысл, а именно: искать дальше надо либо не там, либо не так.
Об ученом, который занимался разной проблематикой, но мало где достиг серьезных результатов, принято говорить: зачем же было так разбрасываться? Напротив того, когда в разных областях есть достойные результаты, это вызывает восхищение: как много разного человек успел сделать!
И почему-то никто не задумывается о том, что, может быть, еще больше можно было бы сделать, если бы соответствующие сферы интересов не были бы столь далеки друг от друга.
В целом, конечно, от ученого ждут именно результата. И все-таки оценка вклада ученого в науку его времени только на основании весомости полученных им результатов всегда неполна и поверхностна, даже если формально правильна. Для того чтобы наука могла быть естественным стилем жизни, нужна ценностная среда — другие люди, которые живут подобным же образом. Но «подобным же образом» — не означает «точно так же». Самый очевидный случай — это ученый, который не любит записывать свои размышления и результаты, довольствуясь тем, что рассказал о них, притом не обязательно в публичном докладе частная беседа с понимающим коллегой учеными этого типа ценится не меньше.
Таким человеком был мой учитель Владимир Николаевич Сидоров. О себе он часто говорил, что ленив писать. Писать он и в самом деле не любил, хотя если уж брался за перо, то писал так же, как мыслил, — блистательно и крупно.
Я думаю, что в науке эффективно работает тот, кто удачно сочетает упрямство с интуицией. Именно упрямство, а не одно лишь упорство. (Без упорства научная деятельность вообще не может состояться — равно как и профессиональная деятельность балерины или скрипача.) Интуиция нужна не только для «прозрений», но и в более прозаические моменты — например, чтобы бросить «копать» в момент, когда кругом уже готовы тебя поздравить. Один раз я это сделала, хотя мне самой это было тяжело, а со стороны выглядело просто необъяснимо. В иных случаях я все копала и копала, и мне даже показалось, что я нашла. Да и другим показалось то же самое. То, что я не там копала, мне стало понятно лишь спустя несколько лет. Упрямства мне хватало, а интуиции — далеко не всегда.
Перемена участи
Для того чтобы рассказать, в каких координатах протекала моя жизнь в 1964 — 1966 годах, мне придется вернуться в годы 1962 — 1963-й, когда я готовилась к защите кандидатской диссертации. С точки зрения моих коллег, особенно старших, я защитилась поздно. И действительно, хотя я не была в аспирантуре, условия работы в Секторе А. А. Реформатского позволяли сделать это года на два раньше. Просто досадно было тратить время на сведение более или менее готовых работ в нечто, что соответствовало бы диссертации как жанру. Необходимость сдавать кандидатские экзамены тоже не воодушевляла. Зато текущей работой я была увлечена чрезвычайно. Именно тогда я много времени проводила в кабинете В. Н. Сидорова в Секторе «Словаря языка Пушкина».
А. А. Реформатский, встречая на улице моего отца (они жили по соседству в районе Аэропорта; позже и мы переехали в тот же квартал), сетовал ему на то, что Рита все никак, а пора бы. В конце концов, было решено, что защищаться мне надо не в нашем заведении, а в Институте русского языка, тем более что немалая часть работы была посвящена анализу частотного «Словаря языка Пушкина».
Я засела за подготовку к кандидатским экзаменам. Надо сказать, что тогда они вовсе не были формальностью, в особенности — экзамен по общему языкознанию и экзамен по специальности. (Сейчас сдают один общий экзамен, и если мне выпадает быть членом комиссии, то потом я, как правило, долго испытываю чувство стыда за неизменно примитивный уровень наших аспирантов.)
Экзамен по специальности, которая называлась «Структурная и прикладная лингвистика», устрашал преимущественно тем, что его нужно было сдавать самому Реформатскому. Предстояло оправдать тот кредит доверия, который был мне им некогда выдан. Что касается общего языкознания, то я именно в то время стала понимать, сколь недостаточны и сумбурны мои познания. А ведь и здесь в комиссии были люди, чьим мнением я особенно дорожила, — например, Э. А. Макаев.
Занималась я, живя на даче, за тем самым садовым столом под жасминами, о котором упоминала выше. Среди прочих работ в списке обязательных была статья Л. А. Чистович «Текущее распознавание речи человеком». Еще не разобравшись толком в сути, я была совершенно поражена новым для меня стилем умозаключений и обращения с материалом. Признаюсь, что хотя со временем я перечитала чуть ли не все, что написала Чистович, эта сравнительно частная работа осталась для меня образцовой. Собственно, это было первое мое знакомство с настоящим экспериментальным исследованием в области лингвистики.
Более всего я была впечатлена именно изяществом метода. Автор выдвигал некую гипотезу и рассматривал возможные следствия из нее. Далее подыскивались эмпирические процедуры, которые позволили бы это следствие наблюдать.
В соответствии с этим планировался эксперимент. Результаты были именно такими, как ожидалось. Разумность исходной гипотезы становилась от этого еще более вероятной.
Если учесть, что я всегда не любила фонетику и, хотя считала себя ученицей Реформатского и Сидорова, «смела» не любить даже фонологию, в работе Чистович должна была быть какая-то особая изюминка. Она там была. Изюминкой для меня оказался экспериментальный метод как таковой. Я впервые чувствовала себя так, как если бы стояла за плечом автора и вместе с ним проживала все происходящее. Я вдруг поняла, что я как бы «задумана» именно для такого способа работы.
Это был род откровения, которого — если бы не перспектива экзаменов — можно было бы еще долго дожидаться.
Вторым важным событием, связанным с защитой кандидатской, было знакомство с моим оппонентом Александром Алексеевичем Холодовичем. Холодович был крупным востоковедом и ученым немалого масштаба, однако прямого отношения к «новой» лингвистике как бы не имел. Но Реформатский был с ним дружен и несколько ранее уговорил Холодовича выступить оппонентом на защите Мельчука. В моем случае произошло то же самое.
Научного руководителя в обычном смысле у меня не было. Я спросила Владимира Николаевича Сидорова, могу ли я поставить его имя на своей работе — это хоть в какой-то мере отражало бы то, чем я была ему обязана. Он согласился. Однако же текст работы он так и не прочел — главное он знал, а прочее ему было неинтересно. Холодович, напротив того, прочел всю работу и прислал много полезных замечаний.
Холодович был ленинградцем, и виделись мы с ним во время его приездов в Москву. Уже после моей защиты он иногда у нас останавливался. Позднее, когда я стала регулярно ездить в Ленинград в командировки, я бывала у него дома.
Как получилось, что Холодович подарил мне свою дружбу, я не помню. Это вышло как-то само собой.
Именно Холодовичу я обязана многими знаниями, но не из лингвистики, а из жизни и отечественной истории. Александр Алексеевич был блестящим рассказчиком. Не менее замечательны были его письма, обычно в иронических тонах. Жизнь его была нелегка. Небольшого роста, плотный, с грубоватым лицом, на вид как бы здоровяк, он был тяжелым сердечником. Он пережил блокаду, имея на руках жену с грудным сыном. Кормили ребенка пережеванными крошками печенья. Когда их вывозили по льду Ладоги, Холодович уже потерял надежду. Мальчик выжил, оказался способным, хорошо развивался. В самом расцвете лет его настигло психическое заболевание. В период наших встреч с Холодовичем сын его считался хроником и не выходил за стены больницы. Отца он с какого-то момента не желал знать, что было для Холодовича источником постоянной травмы.
Именно от Холодовича я впервые узнала о том, чем на самом деле была блокада Ленинграда, — о пожаре Бадаевских складов, о котлетах из человеческого мяса, о том, как имевшие доступ к спецснабжению выносили антиквариат из квартир, перешагивая через окоченевшие тела владельцев.
Когда началась революция 1917 года, Холодович был четырнадцатилетним подростком. Он не просто помнил эти события — он сам был частью жизненного потока и многое знал, хотя бы потому, что был заинтересованным свидетелем. Именно от Холодовича я узнала, что кадры штурма Зимнего, где через просвет арки Генерального штаба видно, как по небу шарят прожектора, — вовсе не кинохроника, а инсценировка Эйзенштейна. Что большевики победили только благодаря присвоению лозунга эсеров «Земля — крестьянам». Что выборы в Учредительное собрание отнюдь не были фикцией, как я привыкла думать. Что «Двенадцать» Блока (произведение, которое я не понимала, потому что его не «слышала») вовсе не воспевает революцию, а передает ужас перед властью головорезов.
Летом, в пыльной пустой квартире (жена и дочь были на даче) Холодович дал мне прочесть «Роковые яйца» и «Собачье сердце» Булгакова. Помню бледную машинопись на папиросной бумаге.
Особенностью Холодовича как рассказчика было то, что его рассказы не были чистыми монологами. Не были они и историями, которые при случае воспроизводились. По свидетельству Анатолия Наймана, Ахматова такие свои рассказы называла «пластинками». (Кстати, замечательные «пластинки» были у Реформатского.) Холодович всегда обращался именно к данному собеседнику. Он любил рассказывать смешное и сам не просто смеялся, но именно заливался смехом — хлопал себя руками по коленям и даже топотал ногами. Однажды это произошло, когда у нас на кухне мы ели арбуз. Мы оба так хохотали, что потом пришлось идти мыть не только руки, но и щеки. Гонорар за оппонирование он называл «говорильные».
По случаю моей защиты Холодович с видом человека, который в силу обстоятельств вынужден ограничиться элементарным знаком внимания, подарил мне томик стихов «Из корейской поэзии» с переводами Ахматовой, над которыми он работал вместе с Анной Андреевной.
Праздновали мою защиту у нас дома. Мы жили тогда еще с родителями Юры. Из «старших» не было только Сидорова — на само заседание мы его привезли на такси, но прочее было ему уже не под силу. Петр Саввич Кузнецов, который в этот день был на юбилее своего близкого друга Колмогорова, тем не менее приехал с Ленинских гор к нам на Таганку. Холодович сидел во главе стола рядом с ним и Реформатским.
На другой день мы с Холодовичем долго гуляли по арбатским переулкам. Я говорила о том, что статистическими методами больше заниматься не буду, что это направление для меня совершенно исчерпано, что в лучшем случае что-то здесь мог бы сделать профессиональный математик. Холодович отвечал, что такое ощущение тупика естественно для исследователя и что иногда полезно отключиться и, например, что-нибудь серьезное перевести.
Возможно, что он уже тогда работал над своими замечательными комментариями к Соссюру. Не знаю, заметил ли кто-нибудь, что написанная Холодовичем биография Соссюра, входящая в известный всем лингвистам «красный том», являет собой текст редких литературных достоинств.
Знакомое и незнакомое
Советом Холодовича «переключиться» я не воспользовалась — очень уж неуютно я себя чувствовала. Мои дальнейшие поиски отчасти шли, как я сейчас склонна думать, под (неявным) влиянием упомянутой выше работы Л. А. Чистович. Поскольку именно тогдашние сомнения и усилия изменили весь мой дальнейший путь в науке, придется рассказать, в чем же заключалась собственно научная проблема.
Обычный текст на любом языке устроен так, что в нем некоторые слова очень часто повторяются, а другие встречаются достаточно редко. В тексте длиной в тысячу слов на самые частые слова приходится около пятидесяти процентов словоупотреблений. Это так называемые «служебные» слова — союзы, предлоги, местоимения, артикли. Остальные пятьдесят процентов словоупотреблений (книга и книги считаются разными словоупотреблениями), как правило, распадаются так: примерно тридцать процентов приходится на две тысячи самых частых слов, а остальные двадцать — это слова из разных частотных «слоев».
Отсюда следуют нетривиальные выводы. Некоторые из них весьма важны для практики.
В любой системе, передающей информацию, заведомо выгодно самые частые сигналы кодировать как можно короче. Это было известно задолго до того, как слово «информация» стало термином: скорее всего, в любой системе письма можно найти тому примеры. Поскольку я занималась именно частотами слов, то понятно, что интересующий меня материал некогда появился в связи с попытками улучшить системы стенографии. Так, еще в конце прошлого века некто Ф. Кединг издал для нужд немецких стенографов частотный словарь слов немецкого языка.
Другая линия была связана с задачами изучения иностранных языков. То, что очень важно выучить именно самые частые слова, — довольно очевидно. Еще в 1911 году вышел словарь Элдриджа «Шесть тысяч общеупотребительных английских слов», рассчитанный на новых иммигрантов в США В последующие годы составлялись словари наиболее частых слов для основных европейских языков. В 50-е годы настал черед и русского языка: здесь первые частотные словари были созданы двумя американцами — Г. Джоссельсоном и Н. П. Вакаром (о Н. П. Вакаре я уже упоминала).
Именно наличие частотных словарей в дальнейшем позволило ученым (мне в том числе) заняться анализом статистической структуры текста на уровне слов и словоформ.
Здесь и обнаружились любопытные количественные закономерности, о которых сказано выше.
В конце 50-х годов мы с эстонским педагогом Эви Штейнфельдт сделали частотный словарь двух тысяч пятисот самых частых русских слов. Словарь этот предназначался школьникам, изучающим русский язык В этой работе мне принадлежало обоснование достоверности оценок, на основе которых слова могли считаться частыми или редкими.
Поскольку словарь Штейнфельдт долгое время оставался единственным общедоступным частотным словарем русского языка, он стал очень популярен. Им пользовались не только педагоги, но и исследователи. Его даже специально переиздали с комментариями на английском. Нам обеим, ей — в Таллинн, а мне — в Москву, писали со всего мира. Это все было, разумеется, лестно: я всего-то работала в науке пять лет. Но в 1963 году доминантой для меня стали серьезные сомнения в обоснованности многих выводов и вообще перспектив работы в рамках использованного мною метода. На этом фоне и происходили мои разговоры с Холодовичем.
Главная «закавыка» была вот в чем. Чтобы решить, какие слова считать частыми, хорошо знакомыми, а какие — редкими, мы со Штейнфельдт, как и все наши предшественники, обследовали письменные тексты — книги, газеты, журналы. Но ведь знакомство со словом едва ли основано только на том, сколь часто мы это слово читаем. Мы его еще и слышим, и сами произносим. А что происходит тогда, когда мы видим соответствующие объекты?
Пусть я, например, десять раз в день беру в руки чашку, сто раз смотрю на часы, пятнадцать раз снимаю телефонную трубку. Или пусть я десять раз в день думаю о таком свойстве разных объектов, как «вредный». Влияет ли это на «вес» соответствующих слов в моей памяти? Или только на «вес» объектов? Предположим, что «вес» слова — это некоторая функция от суммы всех подобных встреч, то есть от встреч со словом как таковым плюс встречи с объектом или свойством, этим словом именуемым. Тогда любой частотный словарь дает смещенные оценки частот, так как учитывает только тексты, т. е. встречи с написанным словом.
Точнее говоря, частотный словарь будет давать близкие к истинным оценки для тех слов, для которых частота встреч с соответствующими им объектами мало что меняет. Например, мы не встречаем объект, соответствующий слову через. (Впрочем, мы переходим через улицу.)
Но, как я выяснила (одновременно с французским ученым Гуженемом), некоторые объекты попадаются нам на каждом шагу, а вот соответствующие им слова — отнюдь нет. Например, слова ножницы и туфли, согласно частотным словарям, вовсе не относятся к частым в текстах. А тогда что же такое вообще частота слова? Не та, которая в частотном словаре, а та, которая фиксируется в нашей памяти?
Впрочем, откуда я знаю, что «там», т. е. в нашей психике, вообще фиксируется? В каком смысле «фиксируется»? Дерево задач разрасталось. Я запутывалась все больше. Мои проблемы явно выходили за пределы лингвистики, как ее тогда понимали. Игорь Мельчук в очередной раз сказал, что я занимаюсь черт знает чем, с раздражением добавив: «С твоими мозгами!» Я не находила никого, с кем могла бы посоветоваться. Однако надо было с чего-то начинать.
Случай привел к тому, что я остановилась на ссылке, попавшейся мне в работе по теории кодирования. Оказалось, что двое американских ученых, Хауэс и Соломон, в 1951 году обнаружили следующее. Если с помощью специального прибора (он называется тахистоскоп) предъявлять слова для зрительного восприятия на очень короткие промежутки времени, порядка долей секунды, то время распознавания слова оказывается обратно пропорциональным частоте встречаемости этого слова в текстах
Получалось, что помимо текстов, позволяющих оценить частоту встречаемости слова, для частоты есть еще и некая независимая, хотя и косвенная мерка — время распознавания слова. Обратно пропорциональная зависимость между частотой и временем распознавания слова подтверждала бы то, что зрительная система человека работает как хорошее декодирующее устройство. Хорошее в смысле эффективности: как и положено, знакомое для него проще, а незнакомое — сложнее.
И все-таки что значит «знакомое», «незнакомое»? Например, всякий раз, как я смотрю на свои часы, я вижу их в разном ракурсе, но считаю их одними и теми же часами. Чашки могут различаться цветом, формой, размером, но все их я называю чашками. Со словами тоже не все так просто. Откуда я знаю, что «апельсин» и «АПЕЛЬСИН» — одно и то же слово? Кстати, тут же обнаружились люди, для которых это разные слова! Это — больные с очаговыми поражениями мозга (не глаза!). Выходит, в некотором смысле мы вообще видим не глазом, а мозгом!
Смятение, которое теперь мне представляется необходимым этапом в формировании познающей личности, тогда переживалось мною весьма драматически. Я не только не знала, что я ищу (сегодня я называю это чувство «потерей задачи» и уверена, что оно составляет нормальный этап любой серьезной работы). Я не знала, как вообще искать «такое»: я, конечно, могла хотеть работать как Чистович, но она-то занималась совершенно другим!
И я сделала первый шаг, естественный для человека, который вторгается в новую для себя область. Я попыталась воспроизвести тот эксперимент, о котором читала. Можно считать, что с этого момента я решила стать экспериментатором.
«Мой стол не так широк…»
Выше я упомянула тахистоскоп. Этот элементарный прибор в то время имелся в психологической лаборатории любого, даже захудалого американского университета. Он-то и был мне нужен. Но я жила в Москве, и найти тахистоскоп оказалось непросто. Разумеется, начинать с поиска экспериментальной установки с моей стороны было порядочной наглостью — ведь я имела самые смутные представления о том, что и как именно тахистоскоп измеряет. Я вообще ничего не знала из экспериментальной психологии, не говоря уже о физиологических проблемах, связанных со зрительным восприятием.
Порог обнаружения и распознавания, порог абсолютный и относительный, саккадические движения глаз, след изображения на сетчатке, метод ветвей и границ, непараметрические методы — все это для меня были сплошные ребусы. Статьи из американских журналов, ради чтения которых я почти что переселилась в Ленинку, выглядели для меня написанными не на хорошо знакомом мне английском, а на каком-то тарабарском языке. Спросить было решительно не у кого. Я упрямо продолжала набираться ума, роясь в журналах и справочниках. Тем временем — притом совершенно случайно — появился первый в моей биографии тахистоскоп. Это было зимой 1965/1966 года. Вместе с тахистоскопом, и тоже случайно, появился в моей жизни человек, с которым некоторое время мы были тесно дружны и о котором я всегда вспоминаю с благодарной нежностью.
Тахистоскоп этот стоял без всякой пользы в Институте дефектологии Академии педагогических наук Мой будущий друг Н., по образованию физик, наряду со своей основной работой в одной из лабораторий этого института ведал там приборами. Институт дефектологии, основанный в свое время Выготским, был тогда в расцвете. Кое-кто из непосредственных учеников Выготского еще работал в полную силу. (Несколькими годами раньше я бывала там несколько раз вместе с Игорем Мельчуком в лаборатории профессора Соколянского, обучавшего слепоглухонемых детей.)
Правила институтом Татьяна Александровна Власова, могущественная и властная женщина, в недалеком прошлом — инструктор ЦК партии, сохранившая все свои прежние связи. Десница ее была тяжела, но щедра: ставки, командировки, оборудование и даже связь с зарубежными учеными обеспечивались безотказно. Кто была Власова по образованию — я не помню. Здравый смысл заменял ей специальную подготовку, хотя не всегда с одинаковым успехом. Отчетность в институте состояла в том, что каждый научный сотрудник ежегодно писал небольшую научную работу, которая так и именовалась — «годовая». Все работы рецензировались внутри института, а затем устраивался их публичный прием. «Татьяна», как ее за глаза звали сотрудники, неизменно читала сама все работы и делала пометки, часто — нелицеприятные, вроде «А это еще что за чушь?».
Меня в институте хорошо приняли. Соколянского, увы, уже не было в живых. Я познакомилась с многими сотрудниками, преимущественно — сурдопедагогами (специалистами по обучению лиц с нарушениями слуха), представителями старшего поколения, и ближе всего — с Рахилью Марковной Босскис. С ее благословения моими первыми испытуемыми стали слабослышащие дети, ученики школы-клиники при институте.
Тем не менее одна, без помощи Н., я вообще ничего не смогла бы сделать. Н. писал тогда кандидатскую диссертацию, где центральное место занимала проблема обработки экспериментов по обнаружению речевого сигнала. Мы оказались в некотором роде коллегами. Я пыталась набрать хоть какой-то опыт в работе с прибором. Поначалу мы встречались только у него в лаборатории, где засиживались допоздна. В дальнейшем наши разговоры вышли далеко за рамки профессиональных обсуждений. Н. стал изредка бывать у нас дома.
Летом 1966 года в Москве должен быть состояться Международный съезд психологов. Я с нетерпением ждала возможности хотя бы увидеть тех, чьи имена и споры мне были так хорошо знакомы по литературе. Н. предполагал участвовать в специальном симпозиуме по восприятию речи, который организовывала в Ленинграде Л. А. Чистович.
Я к тому времени с Чистович была знакома и могла только сожалеть о том, что ее лаборатория находилась в Колтушах. Поскольку именно в Колтушах весной 1967 года я нашла нужную мне экспериментальную установку, мне потом долгое время казалось — живи я в Колтушах, все было бы, как говорил один ленинградский мальчик, «совершенно лучше».
«Наш спор — о свободе»
В январе 1966 года мы с Юрой две недели прожили в Суханово — подмосковном доме отдыха Союза архитекторов. Как-то раз я зашла в библиотеку. Случайно в руках у меня оказался свежий номер «Известий» (до 1985 года из газет я читала только «Литературку»). Увидев там имена Синявского и Даниэля с ярлыками изменников Родины, я отреагировала непосредственно и чисто физиологически. У меня из-под ног стал уходить пол. К счастью, рядом оказалось старинное глубокое кресло. В этом кресле я долго сидела, зажав в руках газету, но не имея сил читать строки, изрыгавшие — опять! — гнилой огонь. Признаюсь, что и через двадцать с чем-то лет я не смогла прочитать до конца книгу «Цена метафоры», посвященную процессу Синявского и Даниэля. Это чтение причиняет мне физическую боль, какая бывает, если начать старательно расцарапывать едва зажившую рану.
Именно эта статья в «Известиях» покончила, как я сейчас понимаю, с эпохой шестидесятых. Разумеется, я не могла предвидеть, в какой мере арест и судебный процесс двух людей, с которыми я была довольно шапочно знакома, повлияет на мою собственную жизнь. Я не знала, началом чего это было, — но кожей почувствовала, что это было несомненным концом. Разумеется, не формулируя для себя, концом чего именно. Ведь как эпоха 60-е годы были осознаны много лет спустя. Конец их теперь принято связывать с нашим вторжением в Чехословакию в августе 1968 года. Но я думаю, что для определенной группы людей «конец прекрасной эпохи» наступил уже в 1966-м.
Пожалуй, действительно знакома я была только с Даниэлем. Андрея Донатовича Синявского я встречала в сугубо академических ситуациях, где нас друг другу по ходу дела представили. Юлик (Юлий Маркович) Даниэль был мужем аспирантки Сектора структурной лингвистики Института русского языка Ларисы Богораз. Кроме того, он был другом одного дома, где мы часто бывали.
У Елены Михайловны Закс, известной переводчицы с немецкого, был своего рода салон — люди время от времени собирались без всякого повода, просто чтобы поговорить. Хозяйке дома было тогда лет пятьдесят. Она жила с дочерью Аленой, которая была несколько моложе меня, и совсем старенькой мамой. Это был приятный и гостеприимный дом, замечательный отсутствием позы и какого бы то ни было пижонства. Застолье было самым скромным — пили чай с чем Бог послал. Соответственно вели себя и гости, хотя многие из них были люди именитые. Я помню читавшего свои стихи известного переводчика В. Левика, несравненную Риту Яковлевну Райт, благодаря любезности которой я тогда прочла рассказы Сэлинджера в оригинале, молодежь из самого интеллигентного тогдашнего журнала «Декоративное искусство», начинающих художников и разную пишущую публику.
Юлик Даниэль, Лариса и их сын Саня, в ту пору мальчик лет четырнадцати, были постоянными подопечными семьи Закс. Лариса привозила Саню мыться, потому что в развалюхе, где они жили, не то вообще не было горячей воды, не то ее постоянно отключали. Объектом особых забот был совершенно богемный быт Юлика. Здоровье он потерял на войне и часто хворал, но к себе относился привычно небрежно. Алена и Елена Михайловна ему постоянно пеняли, но это выглядело безнадежным делом. Алена возила ему то еду, то сковородку.
Все знали, что Даниэль пишет стихи и переводит других поэтов (мне запомнились его переводы из Ивана Драча, он читал их как-то в институте). Что до прозы, то впоследствии Алена долго не могла поверить, что Юлик действительно мог быть автором приписываемых ему объемных сочинений — ей казалось, что ему недостало бы усидчивости.
Я запомнила его улыбчивым и легким на разговор и шутку, сидящим на краю письменного стола в рубашке с воротом нараспашку. Лет через десять, в середине семидесятых, знакомые мне черты проступили в образе молчаливого человека в строгом черном свитере. Это было в доме одного писателя: мой приятель Сережа Чесноков пел там вполне еще запрещенные песни Галича и пригласил меня. Набилось тьма народу, в основном — люди между собой знакомые. Я знала, что Даниэль не имел права жить в Москве, и, как человек со стороны, решила промолчать. Позже Сережа, не знавший, что мы с Даниэлем ранее встречались, подтвердил мою осторожную догадку.
Возвращаясь в 1966 год, я обнаруживаю, что из всего, что произошло в период суда над Синявским и Даниэлем, я помню только одну подробность. Поскольку требовалось доказать, что Терц и Аржак — это псевдонимы именно Синявского и Даниэля, нужна была научная экспертиза по атрибуции текстов. Эту экспертизу предложили выполнить академику В. В. Виноградову, что в известной мере было логично: атрибуция по содержанию (т. е. не графологическая) — это искусство. Виноградов, открывший среди прочих находок неподписанный текст Достоевского, был виртуозом искусства атрибуции. Но он был еще и директором Института русского языка! Всего тремя годами ранее он председательствовал на моей защите. Да и вообще мы были знакомы — в частности, в связи с моей работой со «Словарем языка Пушкина».
В соответствии с моими понятиями о чести, Виноградов обязан был отказаться. Он согласился. Я выразила свое возмущение Лидии Николаевне Булатовой, которая при Виноградове два срока была председателем месткома. Она была иного мнения: от позиции Виноградова зависела судьба целого института, участь же Синявского и Даниэля решали другие люди. А нужное экспертное заключение Госбезопасность как-нибудь да обеспечит.
Жизнь показала, в какой мере Лидия Николаевна была права.
История позорного процесса над Синявским и Даниэлем и тесно связанного с ним дела Александра Гинзбурга, составителя «Белой книги» — сборника документов, относящихся к процессу, — достаточно известна. Я ограничусь в своих очерках рассказом о том, как повлияли эти обстоятельства на жизнь и взаимоотношения отдельных людей — прежде всего на мою собственную жизнь. Алика Гинзбурга знала вся молодая московская интеллигенция. К тому времени, о котором я рассказываю, он уже успел отбыть срок за издание рукописного журнала «Синтаксис». Алик жил с мамой, Людмилой Ильиничной, в комнатушках с печным отоплением. Разваливающаяся печка Гинзбургов была темой общих шуток. С Аликом была дружна моя недавняя дипломница Тамара Казавчинская, из рассказов которой я узнавала разные забавные истории из жизни пестрого общества, постоянно собиравшегося у Алика. Людмила Ильинична полностью разделяла жизнь сына, и его друзья относились к ней с сердечностью. Жили они открытым домом.
Я так и не познакомилась с Аликом. Получилось это случайно — в день, когда Тамара намеревалась нас с Юрой туда повести, мне подвернулись стулья — редкая удача по тогдашним временам. Это было, скорее всего, осенью 1965 года, когда мы только что въехали в свою новую квартиру.
События зимы 1966 года изменили всю конфигурацию человеческих отношений в среде, к которой мы принадлежали. Во-первых, все, кто был знаком с подследственными (Синявского и Даниэля арестовали осенью 19б5-го), автоматически попали в категорию лиц, подозреваемых в сообщничестве или просто подозрительных. Хорошо известная машина стала на глазах набирать обороты. У кого-то были обыски. Кого-то вызывали для дачи показаний. И это происходило не где-то и с кем-то, а с людьми, с которыми я так или иначе была связана.
Во-вторых, как всегда, нашлись блюдолизы, пожелавшие тут же публично заклеймить и т. п. Начиналась кампания. С содроганием я ждала, что в институте от нас потребуют публичных заявлений. Это, однако, случилось только через несколько лет.
Суд над Синявским и Даниэлем состоялся в феврале 1966 года. Документы, с ним связанные, были для меня первыми самиздатскими текстами. Принес мне их Костя (Константин Петрович) Богатырев, живший по соседству. За полгода до того мы познакомились домами.
Костя читал у нас свои переводы из Рильке. Это только задним числом кажется — до стихов ли тогда было? Но, как я уже говорила, душевно здоровый человек обретается разом в нескольких пластах бытия, и в каждом соблюдается своя иерархия ценностей. Я читала о Рильке в «Охранной грамоте» Пастернака. Хотя проза Цветаевой и ее переписка с Рильке и Пастернаком еще долго оставались недоступны, ссылки на стихи Рильке и без того были многочисленны. Но я не знала немецкого. Костины переводы были для меня событием. Я и через тридцать лет помню, как он читал «О фонтанах»:
Я вглядываюсь пристально в рисунок Фонтанов, как в деревья из стекла…Свои размышления по поводу суда и исхода процесса я не помню — слишком сильно было потрясение. В памяти остались лишь споры о том, следовало ли Даниэлю в последнем слове говорить именно то, что он сказал, и прочие обсуждения в том же роде. По-настоящему меня поразила расправа с официальными защитниками по делу, один из которых был исключен из партии и из Московской коллегии адвокатов. Можно ли было себе представить, что присяжного поверенного Александрова отстранили от дел, потому что он выступил в защиту Веры Засулич? Уж на что мой жизненный опыт был ограничен, а все-таки я поняла, что если можно наказать адвоката за выполнение им своей работы, то можно — все.
Одновременно пострадал еще один человек — В. Д. Дувакин, доцент филфака, пожелавший выступить на суде общественным защитником. Дувакин считался специалистом по советской литературе. Известен он был как страстный почитатель Маяковского. Лекции Дувакина были необыкновенно популярны, и на них неизменно набивались слушатели с других отделений. Он, безусловно, выделялся своей эмоциональностью и влюбленностью в предмет.
Дувакин считал Синявского человеком высокой нравственности, который никогда не пошел бы на черное дело. Об этом Дувакин и пришел заявить в суде. Характерологически Дувакин был борцом за правду, и если и видел тогда возможные отрицательные последствия своего поступка, то разве что для себя. Их он, безусловно, не стал бы просчитывать. Но мог ли Виктор Дмитриевич думать, что его выступление на суде окажется камнем, который вызовет лавину немыслимых и непредсказуемых последствий?
Синявского и Даниэля приговорили к лагерям и ссылке на большие сроки. Многие из нас, в особенности те, кто знали осужденных лично, — лингвисты, филологи, писатели — решили, что не могут остаться в стороне от случившегося. Я пытаюсь сейчас вспомнить, почему протесты интеллигенции против этого приговора (а позже — и других) приняли именно форму писем «наверх». Ответа я не нахожу. Думаю, что эта форма протеста была избрана просто потому, что прочие были невозможны. Лет через пятнадцать, т. е. в конце семидесятых, один мой ровесник — человек умный, но крайне осторожный, заметил: «Я всегда считал бесполезным эти письма — зачем посылать открытки Дракону?» Такая вот скрытая попытка оправдать свое неучастие. Что же, протестуют всегда неосторожные.
Первым, кто показал мне проект письма на имя Брежнева в защиту Синявского и Даниэля, был Игорь Мельчук. Мне текст показался длинен, и я его слегка отредактировала. Когда же через несколько дней мы с Игорем снова встретились в институте, то оказалось, что письмо уже отправлено. Я крайне удивилась — а как же моя подпись? Ответную реплику я намеренно ставлю в кавычки, так как у меня были причины навсегда ее запомнить. «Ты слишком больна», — сказал Игорь. Кроме него, это письмо подписали Лидия Николаевна Булатова, Юра Апресян, Эрик Хан-Пира и Наташа Еськова. Апресян и Хан-Пира работали в том Секторе, где Лариса Богораз была аспиранткой, Булатова и Еськова — в других секторах Института русского языка.
Спустя некоторое время в нашей комнате, за столом А. А. Реформатского я читала другое письмо — на имя ректора МГУ И. Г. Петровского. Само письмо занимало не слишком много места, но под ним лежало несколько страниц с десятками подписей. Это было письмо в защиту В. Д. Дувакина. Оказывается, наш филфак в очередной раз отличился: не успел Дувакин выступить в суде, как Ученый Совет факультета уволил его с должности.
Насколько мне известно, это письмо в общей сложности подписало более 500 человек — из МГУ, из Института мировой литературы, из Института русского языка. Даже в нашем Институте языкознания, который в идеологическом аспекте был святее папы римского, среди «нормальных» сотрудников — не членов партбюро и т. п. — почти не нашлось людей, которые бы отказались это письмо подписать. Правда, кое-кто побежал отказываться от своей подписи, едва высохли чернила. Впрочем, nomina sunt odiosa.
Кажется, это было единственное письмо, достигшее своей непосредственной цели. Иван Георгиевич Петровский был интеллигентным человеком и крупным ученым. Говорили, что, узнав о решении Ученого Совета филфака, он поморщился и сказал нечто вроде «Что это они так поторопились?». Достоверно же известно следующее: Петровский отменил решение Ученого Совета филфака, но отстранил Дувакина от преподавания и направил его в должности старшего научного сотрудника в Научную библиотеку МГУ, более известную как «Горьковка». Там Дувакин без помех проработал много лет, создав уникальную фонотеку. Так, он сумел записать свои разговоры с М. М. Бахтиным. Умер Дувакин, к счастью, своей смертью и сравнительно недавно.
Что же касается людей, подписавших письмо в его защиту, то многим из них этот поступок дорого обошелся. Имевшие быть последствия зависели от двух факторов: от местных властей и от личности «подписанта». На филфаке в основном решили закрыть глаза. В нашем институте на первом этапе власти пожурили всех скопом и в форме относительно мягкой.
После вторжения в Чехословакию, т. е. с осени 1968 года, когда со свободомыслием решили расправиться по-настоящему, кары могли быть полномасштабными. И все же в Институте языкознания многие отделались легким испугом — покаялись разок на партбюро, и дело было прочно забыто. Но подпись была слишком удобным предлогом, чтобы им не воспользоваться для подавления неугодных. Мне пришлось платить по весьма высокой ставке, о чем я расскажу в своем месте.
В Институте русского языка тогдашний его директор, Ф. П. Филин, начал с поименного преследования «подписантов», а кончил тем, что институт в его прежнем виде просто перестал существовать. Это, однако, уже другая история.
В промежутке между судом над Синявским и Даниэлем и вторжением в Чехословакию разразилось дело Гинзбурга. «Белую книгу» — сборник документов о процессе Синявского и Даниэля, в 1966 году, наверное, мог составить только человек с характерным для Алика веселым задором и обширными связями с западными журналистами.
Сейчас мало кто помнит, что любое учреждение, где было машбюро или просто много пишущих машинок, регулярно посещал специальный человек, который с каждой машинки снимал образец шрифта. Ксерокс для лиц, не связанных с КГБ, просто не существовал как устройство. Функции копира и множительного аппарата могла выполнять либо пишущая машинка, либо фотопленка. Пишущая машинка дома была у немногих.
Несмотря на все, «Белая книга» была собрана. Она существовала, как мне помнится, в трех или четырех экземплярах Точно же я знаю только то, что один экземпляр Гинзбург сам передал в КГБ, дабы показать, что свою деятельность он считает легальной. Об этом его жесте (сегодня он даже мне представляется иррациональным, но легко быть умной задним числом) я узнала по телефону от Тамары Казавчинской. То, что она мне сказала, сегодня может показаться репликой из глупого шпионского фильма. Тогда же это было, если угодно, следование элементарным правилам гигиены. А услышала я следующее: «Для Иры (невесты Алика — Р. Ф.) книга Фейхтвангера «Успех» стала теперь вполне актуальна».
Суть конфликта в этом романе в том, что еще в до-гитлеровской Германии главный герой — писатель — за свою статью (или книгу — уже не помню точно) попадает в тюрьму, а его невеста посвящает свою жизнь борьбе за его освобождение. Именно в те годы «Успех» многие из нас перечитывали.
Позже рассказывали, что в КГБ Алику сказали: «Мы вас посадим, Гинзбург. Но не за это». И посадили. Это был обвал. Как я уже сказала, Алик и Людмила Ильинична жили открытым домом. Снобизм этой семье был органически чужд. Поэтому двери там действительно были открыты для каждого. Так, с Аликом много лет дружила моя знакомая Галя З. — славный человек и вообще «своя в доску». Ее особо не занимали ни политика, ни новые художественные течения, так что посреди какого-нибудь спора о кубизме она могла увести Алика на кухню со словами «Пойдем выпьем!». Конечно, у Алика был ее телефон — и сотня или сотни других.
Было, таким образом, немало людей, которые любили Алика, а позже — жалели его, Иру и его маму, но при этом они отнюдь не были готовы к вызовам на Лубянку, обыскам и угрозам. Получалось, что их вовлекли в «политику» помимо их воли. Особенно усложнялось дело тем, что, как всегда при бессудных расправах, последствия настигали многих вне сколько-нибудь очевидной логики, как свалившийся на голову кирпич.
X. преподавала в школе, и из КГБ туда звонить не стали. У., ее товарищ по курсу, работал в Исторической библиотеке и по необходимости имел доступ к «спецхрану». Это уже было подозрительно, и в библиотеку позвонили. Начальство откликнулось немедленным увольнением с «волчьим билетом». При этом ни X., ни У. не имели отношения ни к «Белой книге», ни к какой-либо иной деятельности: они просто были дружны с Аликом со времен их общей студенческой юности.
Подобные ситуации неизбежно порождали взаимные претензии и ссоры. У. пытался хлопотать о восстановлении на работе — друзья обвинили его в предательстве и карьеризме. Осторожность приравнивалась к трусости, грань между смелостью и бравадой была слишком тонка. Ни у кого еще не было того практического — и трагического — опыта конспиративной деятельности, о котором впоследствии писал Солженицын. Отсюда неблагообразие диссидентской повседневности, где сочетались бескорыстие, безответственность и безбытность. Общий дух этого неблагообразия довольно близко к действительности описан в романе В. Кормера «Наследство».
Болезнь
Еще весной 1966 года я стала чувствовать какое-то недомогание. Мои жалобы «тянули» на хронический аппендицит. Поэтому мама, которая в свои 69 все еще обладала железным здоровьем, все-таки отправила меня к врачу, велев сделать анализ крови. Врачиха посмотрела бумажку с результатами анализа, помяла мой живот и ничего не нашла. Я пыталась убедить ее в том, что число белых кровяных шариков (важнейший показатель воспалительного процесса) для меня было необычно велико, хотя формально оно соответствовало верхней границе нормы. Она только фыркнула.
В начале июля мы уехали в Прибалтику. Оттуда недели через две Юpa привез меня в Москву с сильнейшим кишечным кровотечением. Следующий месяц я помню смутно. В Боткинской диагноз мне поставили сразу. Болезнь моя называлась «неспецифический язвенный колит». Первое слово на языке простых смертных означало, что происхождение процесса неизвестно, последнее — указывало на то, что поражен кишечник. Второе служило как бы эвфемизмом — по тяжести это заболевание несопоставимо с обычной язвенной болезнью. Я чувствовала, что дела мои плохи, но не знала насколько. Из литературы вытекало, что — совсем. Все это походило на дурной сон. Я лежала дома на диване и плакала.
Тем временем мама нашла научно-исследовательский институт, где специально занимались этим сравнительно редким в нашей стране заболеванием. (Позже я узнала, почему оно считалось у нас редким — врачи склонны были ставить таким больным диагноз «дизентерия», и больные просто умирали.) Все, что мама могла, — это отвезти меня на консультацию к кому-нибудь главному. Главной оказалась доктор Я., довольно молодая женщина, которая лечила больных вроде меня хирургически.
Я. была эффектной молодой дамой: длинная шея, тонкие губы, но равнодушные глаза. Погода была летняя, и свой отменно накрахмаленный белый халат в талию она носила непосредственно поверх дорогого белья. У нее были резкие движения и манеры человека, привыкшего повелевать. Меня, как больную и просто человека, она ни тогда, ни позднее не удостоила сколько-нибудь внимательным взглядом, хотя при этом ее обращение имитировало разговор на равных. Дескать, я — ученый и ты — ученый, я доктор, и ты из врачебной семьи, зачем нам лишние церемонии?
Первый и, по существу, единственный разговор с ней предопределил слишком многое в моем мироощущении и жизненных обстоятельствах, чтобы я могла его забыть. Вот примерно то, что я услышала: «Детей иметь нельзя. Абортов делать нельзя. Оперировать тебя нельзя. Скорее всего, ты, конечно, умрешь. Пока что тобой будет заниматься доктор Л.».
Доктор Л. на вид был добродушным малым украинско-одесского типа. Он завел на меня историю болезни, долго и с интересом расспрашивал, когда и как все это началось, много записывал и ничего не пояснял. Позже у меня было много возможностей убедиться в том, что он был не столько добродушным, сколько равнодушным. Пока он писал, я с ужасом ждала, что он предложит мне лечь к ним в отделение. С ужасом потому, что оба они — и Я., и Л., — разительно отличались от всех врачей, с которыми мне когда-либо доводилось сталкиваться. Даже участковый врач, замученный вызовами и торопливо выписывающий на краю стола больничный лист, приходил ко мне как к больному человеку. Здесь же я сразу почувствовала себя подопытным животным. К сожалению, позже это впечатление подтвердилось. Оно едва не стоило мне жизни.
Кончилось тем, что меня отпустили домой, рекомендовав очень строгую диету. Я чувствовала, что теряю последние силы. Через некоторое время Л. выдал маме два флакона оранжевого аптечного стекла. В каждом было по 50 больших желтых таблеток. По словам Л., институт получил из Швеции новый экспериментальный препарат на испытание. Мне следовало принимать максимальную дозу — по восемь таблеток в день. К флаконам прилагалась подробная аннотация, которую я читать не стала. Юра ее внимательно изучил, но что именно там было сказано — мы не обсуждали.
Приближался долгожданный Съезд психологов. Л. сказал Юре, что я так плоха, что, если я хочу, можно меня туда возить — это ничего не изменит. Но неожиданно для меня лекарство подействовало, притом прямо-таки магически: через неделю все симптомы просто исчезли. Я была очень слаба, но в те времена такси от метро «Аэропорт» до университета было нам вполне доступно.
Съезд промелькнул, как и все подобные слишком большие сборища, в суматохе, тогда мне казавшейся захватывающей. Мимо меня проходили люди, до той поры существовавшие только как авторы статей и книг. С кем-то я познакомилась сама, кому-то меня представили. Трое симпатичных французов побывали у нас дома. Моя коллега Лида Бондарко, известная ленинградская фонетистка, пришла к нам в гости со своим мужем, Вадимом Глезером. Вадим Давидович Глезер, уже тогда крупный физиолог, заведовал в Колтушах Лабораторией зрения. Он был готов принять меня там и показать их тахистоскоп, смонтированный, как водится в России, лаборантом Женей из подручных материалов, но уникальный по многим параметрам.
В целом же съезд был очень духоподъемным мероприятием. Считала ли я тогда, что выздоровела? Безусловно, нет. В таком случае, как вообще можно было строить планы на поездку в Ленинград? Надеялась ли я, хотела ли успеть сделать нечто до того, как?.. Тоже нет — это попросту не мой тип мироощущения. Не так давно одна моя ровесница, ученый с именем, сказала мне «Я хочу, чтобы после меня осталась книга». Меня это поразило. Я никогда не задумывалась о том, что останется «после меня».
Салазопирин — так называлось мое лекарство — кончился у меня примерно тогда же, когда кончился Съезд психологов. И почти сразу же вернулась болезнь. Теперь я осознала, что это действительно конец. Я катастрофически худела и как-то тупела. Один раз я еще съездила к врачам. Л. сказал, что салазопирина у них для меня нет, но ведь я уже приняла достаточную дозу. В ответ на мой вопрос, как же быть дальше, доктор Я. повернула голову в сторону Л., который был поблизости, и капризным тоном сказала: «Миша, я не знаю, что с ней делать!» Я почувствовала, что теряю самообладание, и вышла не попрощавшись, желая лишь одного — никогда больше не видеть их обоих.
Л. солгал нам, когда сказал, что салазопирин — экспериментальный препарат. А убеждать меня в том, что я уже получила нужную дозу, было с его стороны откровенно преступно. Никто из нас сейчас не помнит, почему Юра с самого начала не поверил Л. Из прочитанной им аннотации вытекало, что были больные, принимавшие салазопирин длительными курсами — у них изредка наблюдались осложнения. Но в таком случае речь никак не могла идти об экспериментальном препарате! Быть может, это была ниточка, за которую Юра ухватился. Так или иначе, он отправился в Ленинку, чтобы попытаться узнать правду. На это не потребовалось много времени. Известнейший реферативный журнал по медицине «Excerpta Medica» сразу вывел на нужные сведения.
Салазопирин был изобретен в 1941 году в Швеции и изменил жизнь больных язвенным колитом подобно тому, как инсулин изменил жизнь больных диабетом: именно благодаря салазопирину соответствующий диагноз перестал быть смертным приговором. Но лечение салазопирином предполагало не прием нескольких десятков таблеток, а длительное и обязательно непрерывное его применение.
Доктор Л. и вправду мог не иметь в своем распоряжении нужного мне количества препарата. Но почему было не сказать нам правду? И что было бы со мной, если бы Юра не усомнился?
Прийти, чтобы остаться
Осенью и зимой 1966/1967 года наша жизнь протекала в двух плоскостях. Я пыталась «обжить» изнутри ситуацию своей обреченности. Мои близкие — главным образом Юра — искали способ вытащить меня из пропасти. Плоскости эти почти не пересекались: для каких-либо действительных усилий я была слишком больна. Здесь, увы, Игорь Мельчук оказался провидцем: после того, как он сказал мне «Ты слишком больна», прошло немногим более года. И по сравнению с нынешним моим положением тогда я была, можно сказать, здорова…
Работать я не могла — у меня начиналась дистрофия. Даже читать было трудно. Я обнаружила это, когда меня попросили срочно написать какую-то небольшую рецензию. Я ловила себя на мыслях о том, что, привыкнув постоянно смотреть на часы, дабы не терять попусту минуты, я теперь имею с лихвой время, которое не могу толком использовать. Это запомнилось как одно из наиболее тяжелых переживаний.
Разумеется, у меня оставались домашние обязанности — я все-таки убирала и стирала, что-то штопала. Вынужденно много времени уходило на приготовление еды, потому что мне полагалось есть каждые три часа. Вся одежда стала велика мне на два размера. Сын моей подруги подарил мне подростковые рубашки, из которых он вырос. Я всегда носила брюки, но они должны были на чем-то держаться! Так самым необходимым предметом туалета для меня неожиданно оказались мужские подтяжки, которые в Москве тогда нельзя было купить. Ни о каком пальто не могло быть и речи — оно ощущалось свинцовой тяжестью. Ближе к зиме по великому блату мама достала мне японскую мальчиковую куртку.
Пока что стояла золотая осень, но ее я могла наблюдать преимущественно со своего балкона. На этом фоне в моей жизни появились два новых лица. Один из них — это Н., о котором я говорила выше. Вторым был Саша Полторацкий, мой давний знакомый по институту.
Во времена нашей общей молодости Саша ставил мне в заслугу свойство, которое он описывал цитатой из «The coctail party» Эллиота: «You are never afraid to approach a stranger» («Вы без робости сближаетесь с новым для себя человеком»). Я склонна толковать эту строку несколько иначе, а именно: «Зная, что “на время не стоит труда, а вечно любить невозможно”, вы, однако же, на это готовы». На это я как раз была совершенно не готова и потому всякий раз надеялась, что возникшая привязанность не «на время», а очень надолго или даже насовсем.
Другое дело, что, оглядываясь назад, я вижу, что почти все мои дружеские привязанности возникали в связи с работой. Это были мои учителя, коллеги, позже — участники домашнего семинара и ученики. В подобных ситуациях поначалу для опасений не было причин. Ну, а потом, как правило, было уже поздно. Может быть, слова Эллиота следовало бы перевести «Приобретенье — разве не потеря?».
Позже я задавалась вопросом — подружились ли бы мы с Н., если бы не моя болезнь? Думаю, что нет. Когда в 1965 году я познакомилась с Н., он выглядел скорее юношей, нежели взрослым мужчиной. Возраст свой он почему-то скрывал. Но он скрывал столь многое, что это было мелочью. Родители его рано разошлись, и вырос он с матерью.
Мать была человеком, известным в академических кругах. Сына она любила страстно, и, как можно догадываться, когда-то они были очень близки. В описываемое здесь время они наконец разъехались, и Н. жил один.
На вид Н. можно было дать лет двадцать пять. Он немного походил на юного Пола Маккартни — у него была аккуратнейшая биттловская челка и такая же, как у Маккартни, ямочка на щеке. Впрочем, тогда о Маккартни я ничего не знала. Н. был строен и очень пластичен. Всегда было приятно смотреть, как он двигается. Одевался он неброско, но с безупречным вкусом. Если ему что-то нравилось, но это негде было купить, то он мог сшить это себе сам. Вообще он был человеком разнообразных и порою фантастических умений, и я никогда не знала, докуда они простираются. Например, он сшил себе меховую шапку, которая соответствовала его (по тем временам необычной) прическе.
Регулярно бывать у нас дома он начал осенью 1966 года, когда я была совсем плоха. Он никогда не спрашивал о моем состоянии, не предлагал сделать что-либо для меня или за меня и вообще не выражал никаких чувств. С какого-то времени Н. просто был. Он приходил не реже двух раз в неделю, как правило, после работы. Я открывала дверь — и навстречу мне разливалось сияние. Мы вместе ели, потом Н. мыл посуду, одновременно давая мне многочисленные хозяйственные советы, до которых был великий охотник
Далее он обычно изыскивал что-то, требующее починки или усовершенствования. Через тридцать лет на вопрос, почему у меня лампа висит именно так, я все еще отвечаю: «Это Н. так когда-то решил сделать», хотя с тех пор мы успели переехать на другую квартиру. Смотреть, как он чинит, сверлит или паяет, было для меня больше, нежели удовольствие. Я совершенно успокаивалась и забывала о своем положении.
Мне постоянно хотелось сладкого, но неясно было, что именно мне можно. Однажды Н. попросил дать ему шерстяную нитку попрочнее. Почему-то мне запомнилось, что нитка была красной. Затем Н. очень ловко испек мне целую горку безе, которые снимал с противня с помощью этой самой нитки. Н. кончил физфак МГУ и был некоторое время в аспирантуре. Ушел он оттуда после какого-то конфликта и в институт, где мы познакомились, устроился, так сказать, из соображений удобства и благодаря удачному стечению обстоятельств. Судя по тому, как в дальнейшем складывались его отношения с коллегами и руководством, Н. был человеком, совершенно неподходящим для любой организационной структуры. Он плохо переносил начальство просто из-за того, что оно делало то, что положено, — предписывало и ограничивало. В институте окружали его люди скорее безобидные. По крайней мере, едва ли они заслуживали презрения, которое он не считал нужным скрывать.
Легко догадаться, как Н. ненавидел «Большую власть» и все, что с ней связано. Это доходило до смешного. Тогда я не читала газет и в целом — т. е. с точки зрения места, отводимого политике в моем внутреннем мире, — отличалась скорее индифферентностью. Что касается Н., то газеты были его личными врагами. Если ему нужно было выбросить мусор, оставшийся после очередных подвигов по починке, то он не говорил как все «Можно мне какую-нибудь газету?», а со всем возможным ядом в голосе произносил: «Дайте мне газету «Правда».
Как большинство людей, склонных к постоянной иронии, Н. был очень раним. Я это чувствовала и стремилась быть осторожной. В частности, я старалась его ни о чем не спрашивать и ожидала, что в случае необходимости он расскажет мне то, что нужно, сам.
Н. любил и знал музыку, в том числе — джаз, которого я тогда не знала вовсе. У него была большая фонотека и лучший по тем временам стереопроигрыватель, радиола «Ригонда». Мне этот проигрыватель прежде казался непозволительно дорогим. В декабре 1966 года я решила, что могу подарить его себе на день рождения (я родилась 28 декабря). Я сказала об этом намерении Н., потому что, в сущности, решение о покупке было принято благодаря его уговорам. Н. куда-то звонил, после чего нашел такси, и мы поехали покупать «Ригонду». В магазине я села на какую-то коробку, а Н., перепробовав на предмет чистоты звука несколько образцов, остановился на экземпляре, где у приемника была сломана шкала, приговаривая при этом: «Зато руки свое».
Остаток дня Н. лежал на ковре в большей из комнат нашей маленькой квартиры и чинил шкалу. Испытываемое мною в это время чувство глубокого покоя вполне заменяло любой праздник. Собственно, именно это чувство и было праздником. Заодно зашел разговор о Новом годе. Н. сказал, что по традиции проводит его с матерью. Но вот если бы мы с Юрой вознамерились праздновать сочельник, т. е. 24 декабря, то это было бы замечательно, тем более что заодно мы бы отметили и день моего рождения. Праздновать день рождения я не собиралась, но сочельник означал общий праздник — а это было совсем другое дело.
Так в нашем доме возникла традиция праздновать Рождество по Новому стилю, сохранившаяся до сих пор.
Н. был разнообразно образован и свободно владел английским. Свободно знал он и польский и прекрасно перевел — просто для себя — несколько рассказов Марека Хласко, которого у нас до недавнего времени не издавали.
В середине шестидесятых все мы в известной мере были полонофилами, хотя учить польский язык мне бы и в голову не пришло — я была слишком поглощена другим. Наше с Н. и другими моими друзьями полонофильство возникло не потому, что польское радио, газеты и журналы могли служить нам окном на Запад — эта тенденция характерна уже для следующего поколения. (В середине семидесятых и я выучила польский, хотя в иной связи.)
Я думаю, что главной побудительной причиной нашего интереса к Польше послужил феномен польского кино. Именно благодаря кино глазами таких режиссеров, как Вайда, Мунк и Кавалерович, мы взглянули на недавнее прошлое. (Первый польский фильм, который я увидела еще до того, как вокруг стали говорить о польском кино в целом, назывался «В поисках прошлого».) Мы как бы сами пережили Варшавское восстание, трагедию варшавского гетто, вообще попытались осмыслить войну, верность, предательство и смерть. Замечу, что именно тогда Хедрик Смит, московский корреспондент «Нью-Йорк таймс», в своей знаменитой книге «The Russians» назвал одну из ее глав «Война кончилась только вчера».
Мне кажется, что многие важнейшие составляющие мировоззрения — те, что справедливо называются такими возвышенными словами, как историческая память, чувство родины, гражданская ответственность, моральный долг и им подобные, — постигаются нами непосредственно из воздуха эпохи. Сам же воздух слагается из многого. Польское кино и «Биллиард в половине десятого» Генриха Бёлля с его фразой о «причастии буйвола», «Дневник Анны Франк», инсценированный студенческим театром МГУ, —
это было при нас, это с нами войдет в поговорку.Когда у Н. родился сын и он назвал его Антоном, в честь одного из героев восстания в гетто, я не усмотрела в этом ничего удивительного. История восстания в варшавском гетто замалчивалась много лет. А история Варшавского восстания и подлинная роль Армии Крайовой, равно как и преступное невмешательство наших войск, еще ждут беспристрастных летописцев. Официально наше правительство в середине девяностых наконец как будто бы рассказало правду о Катыни. Мы же еще тридцать лет назад переживали Катынь как наш национальный позор.
Н. с его фрондерством и открытой ненавистью к газете «Правда» и я с моим нежеланием бессмысленно «нарываться» были в равной мере людьми глубоко социальными, и в этом смысле нас следовало бы считать типичными шестидесятниками.
Саша Полторацкий умер от рака летом 1995 года. Познакомились мы в начале шестидесятых. Саша только что кончил филфак по английской кафедре. Знакомство это до моей болезни имело характер несомненной, но довольно поверхностной приязни. При незначительной разнице в годах между нами была существенная разница в положении. Я была в некотором роде «матрона»: замужняя особа, с известностью и учениками, которые обращались ко мне по имени и отчеству.
Саша же пребывал в амплуа Керубино. Позже мы с ним вспоминали этот период его жизни как времена, когда он носил мальчишескую курточку на молнии, и Саша подарил мне фотографию, где он в ней снят, с надписью: «На память о мальчике в курточке».
Внешность Саши была самая обычная. Выделялся он своими манерами, которые выглядели бы более естественно, если бы он носил не курточку, а камзол и шляпу с плюмажем. Или смокинг. Но на нем особым образом смотрелся даже пресловутый синий прорезиненный китайский плащ на клетчатой подкладке — униформа многих тогдашних мужчин. (А. А. Реформатский носил такой же, потому что ничего другого просто не было в магазинах.)
Саша всегда был не просто элегантен, но элегантен подчеркнуто. Если Н. при многих странностях характера был естественен в манере говорить и двигаться, то Саша, за которым особых странностей не водилось, был скорее театрален. Вообще он был человек ритуала.
Ритуалы распространялись на все на способ заваривания чая и кофе, на то, в каких конвертах следовало посылать новогодние поздравления, какие галстуки по какому случаю носить, как именно мыть голову и т. д. Будучи человеком весьма скромных средств, в командировку он ездил со своим маленьким кофейником и подходящим к нему подносом.
Однажды он совершенно всерьез сказал мне: «Ах, Рита, я Нарцисс!» Нарцисс тогда жил вместе с родителями в 18-метровой комнате, в старинной московской коммуналке, где он в очередь с соседями мыл полы в «местах общего пользования». Спал он на раскладушке, которую раздвинуть можно было только так, чтобы изножье поместилось между тумбочками маленького письменного стола. Саше было уже под сорок, когда отец его, почетный железнодорожный служащий, будучи человеком сильно в годах, получил наконец хорошую двухкомнатную квартиру.
К этому времени Саша давно преподавал в университете, защитился, был известен среди англистов. В любой работе — будь то преподавание, перевод, статья или комментирование текстов — Саша был перфекционистом. Казалось, небрежность — это нечто, о чем он мог бы спросить: «А что это такое?».
Когда я заболела и мы вынуждены были вернуться в Москву, я отчего-то решила Саше сообщить, что я не в Эстонии, а дома. Он почти сразу приехал с видом человека, наносящего светский визит по случаю дня ангела. Не меняя тональности, как если бы это было издавна заведено, Саша стал звонить мне чуть ли не через день и заезжать ненадолго, но часто.
Предлоги были разнообразны — он привозил то книгу, то пластинку. Все это обставлялось так, как если бы эти приезды были нужны не мне, а ему самому. Со всеми необходимыми церемониями он заваривал крепчайший чай, рассказывая о том, как домработница О. С. Ахмановой говорила: «После Александра Ивановича семья целую неделю может чай пить». Вынимались лучшие чашки и подаренные мне мамой тарелки старинного фаянса. Саша долго колдовал над чайником, потом наливал мне несколько капель заварки.
Суть наших разговоров была не столь важна, как Сашино присутствие Значимые его фразы начинались словами: «Дорогая моя, не мне вам говорить, что…» Что при моем характере, даже и не выходя из квартиры, я успею сделать больше иных прочих. Что мне пора научиться печь пироги на дрожжах. (Мы заключили пари, и я научилась.) Что мне необходимо сшить платье (имелось в виду нечто нарядное). Что существует особый способ настаивать водку на апельсиновых корках. Что я непременно должна прочесть малоизвестную тогда книгу Даррела «Александрийский квартет» (он ее раздобыл). Ну, и так далее.
Все лето и осень — самое тяжкое для меня время — Саша приходил с цветами. Это были любимые мною полевые и обычные наши садовые цветы — крупные ромашки, васильки, астры. Саша вручал мне букет, после чего начинался ритуал помещения цветов в вазу. Он долго обрывал листья, подрезал или расплющивал стебли, примерялся то к керамической кружке, то к хрусталю. Он же решал, где цветы будут стоять — на подоконнике? На книжной полке? Более всего это действо напоминало балет.
Трудно с определенностью выразить, чем это для меня было. Не то, чтобы меня все это веселило, хотя в Сашиных «пассах» было много забавного. Скорее это складывалось в материю жизни, неизменно многоцветную, которая была значима сама по себе. Возникала некая плотная среда, которая меня облекала и тем поддерживала. В разных формах это длилось несколько лет, тем более что в 1968 — 1969 годах мне было суждено пережить рецидив болезни, не оставлявший уже совсем никаких надежд.
В какое-то из тогдашних рождественских празднеств Саша добыл для меня корзину белой сирени. А ведь в те годы зимой в Москве вообще не было никаких цветов. Не помню, почему мы с ним, живя в одном городе, стали переписываться. Началось это именно в период моей болезни, но длилось много лет.
Что бы ни происходило в его жизни, он никогда не жаловался, повторяя слова Дизраэли: «Never explain, never complain» (ничего не объяснять и ни на что не пенять). Как человек отменного здоровья, Саша был приписан к десантным войскам. В 1967 году его призвали на военные сборы, где ему предстояло прыгать с парашютом. Разумеется, до того он парашюта и близко не видел. Я очень нервничала.
Перед самым Сашиным отъездом от инфаркта внезапно умер мой отец. Саша был с ним знаком и знал, что отец для меня значил. Я не хотела взваливать на него еще и это известие. Саша позвонил, чтобы попрощаться, когда мы уезжали на похороны. Я просила сказать, что меня нет дома. Позже, в письме из военного лагеря он написал запомнившиеся мне слова: «Заполните образовавшуюся пустоту им же».
Как Саше было трудно без своего угла, я поняла, когда он году в 1969-м снял по случаю однокомнатную квартиру в Кузьминках. Я тогда много времени проводила в психиатрической больнице в Люблино, где у меня были эксперименты. Из больницы я любила приезжать к Саше в гости.
Сначала я долго отмывала «больничный дух» в надраенной до блеска ванной. Потом в полупустой комнате, где стоял круглый стол и дачный шезлонг, а вещи и книги были аккуратно сложены в деревянные упаковочные ящики, Саша поил меня чаем. Помню необыкновенной красоты и вкуса яблочный джем, который варил из антоновки его отец, и крахмальную камчатную салфетку того же бледно-желтого цвета.
В дальнейшем наши жизни шли параллельно, пересекаясь летом, когда мы с Юрой уезжали отдыхать, а Саша в наше отсутствие жил у нас на даче. Я все-таки сшила платье, на котором он так настаивал, — вечернее платье из черного бархата. Я неизменно облачалась в него на Рождество. Столь же неизменно Саша восклицал «Ах!», когда вечером 25 декабря я открывала ему дверь. И я думала, что так будет всегда. Я сидела на дачном крыльце в Сашиной старой рубашке, когда мне принесли телеграмму о его смерти.
Продолжение следует
К зиме 1967 года мои коллеги из разных стран начали присылать мне салазопирин. Всякий раз это были с трудом добытые 20 – 30 таблеток — препарат был шведский, и получить его, например, в Болгарии было непросто. Среди моего ближайшего окружения никто за границу не ездил. Поэтому мало было достать лекарство — надо было еще найти оказию. Молодым читателям придется напомнить, что СССР тогда был еще достаточно закрытой страной. Слово «эмиграция» относилось к современникам Романа Якобсона.
Осенью 1966 года произошел эпизод, которому я в тот момент не придала особого значения. Игорь Мельчук пришел меня навестить и был поражен тем, как я исхудала. Он выставил меня на кухню, закрыл дверь и начал звонить по телефону подряд всем надежным людям. Хотя мне было достаточно скверно, все же, сидя на кухне, я давилась от смеха, потому что Игорь наивно полагал, что наши картонные двери и стены не позволяют мне его слышать. Говорил он всем примерно одно и то же «Слушай, Рита Фрумкина умирает». Кому именно он сумел дозвониться, кто обещал помочь — я не знала.
В январе 1967 года положение мое стало таково, что я все-таки начала принимать салазопирин, хотя на курс его заведомо бы не хватило. Спасение пришло неожиданно и было прямым результатом хлопот Игоря. У его приятельницы, математика Наташи Светловой, в Дании был друг по имени Пер, которому Наташа позвонила. Пер добыл салазопирин в расфасовке, предназначенной, вероятно, для больниц, — это была большая банка на 500 таблеток Он отправился в порт и нашел судно, уходившее в Ленинград. Кто доставил лекарство из Ленинграда — я не знаю.
В один прекрасный день, уже зимой, мне позвонила Наташа. Я много слышала о ней, но не была с ней знакома. Она отвергла мое предложение прислать за лекарством Юру и привезла его сама. Небольшого роста, крепко сбитая, свежая, круглолицая, с коротко стриженными густыми каштановыми волосами, она вошла к нам энергичной походкой, легко неся огромную дорожную сумку. Помню ощущение, что прочее содержимое сумки предназначалось другим страждущим. Это была наша единственная встреча. Позже я видела Наташу только на фотографиях вместе с Солженицыным. Они не передают ее живой мимики. Зато на телеэкране видно, что время оказалось к ней благосклонно. Банку я сохранила как память.
К весне я, что называется, вышла из пике. У меня было ощущение, что мне предстоит заново учиться ходить — так я ослабела. Помню, как Н. повел меня — повел буквально, поддерживая под руку, на выставку Фалька.
Жанр повествования о человеке, возвращающемся к жизни, требует рассказать о том, как наконец я вовсю радовалась весне и солнцу. Это было бы откровенной неправдой. Я оказалась перед необходимостью приспособиться к совершенно непривычной для меня схеме жизни.
В этой новой жизни отсутствовала сколько-нибудь определенная временная перспектива. Не следовало строить планы даже на два-три месяца: ничто не гарантировало, что я опять не слягу. Но по характеру я никогда не принадлежала к типу людей, которые могут жить минутой.
Вообще исследователь, живущий минутой, — это, по-моему, невозможное сочетание. Замечательный ученый и философ Сергей Викторович Мейен, рано умерший от рака, работал, пока мог держать в руке лист бумаги. Но он не «жил минутой», а стремился достойно использовать каждую дарованную ему минуту. Как человек глубоко религиозный, он до конца исполнял свой долг. Чтобы осознавать свою научную работу именно как высокий долг, наверное, надо строить свою этику на основе религиозного сознания. Это дано не каждому. Мне этого дано не было.
Конечно, любые мои усилия были бы этически оправданы, будь я, например, врачом. В этом случае благо Другого придавало бы и минутам несомненный смысл — не потому, что я такой уж альтруист, а просто силою вещей. Может быть, на склоне дней смысл сообщает желание подвести итоги, оставить свои труды в завершенном виде. Главным же для ученого, и, вероятно, для любого пишущего человека, остается, как я думаю, сама потребность мыслить и писать, которая как таковая не нуждается в освящении «высшими инстанциями».
Но мне было всего 35 лет. До подобной рефлексии мне еще предстояло дорасти. Пока что меня подавляла неопределенность, возникавшая при необходимости принять любое решение, связанное с временной перспективой. Все размышления — от бытовых до более серьезных — начинались с «если…». Если я буду хотя бы относительно здорова, то надо бы выступить на ближайшей большой конференции. И принять предложение написать раздел в книге, участвовать в обсуждении, читать курс, дать отзыв и т. д. Если я буду на ногах, то следующей осенью я поеду в Ленинград ставить эксперимент.
А если нет? Зачем тратить деньги на лыжный свитер, если мне, быть может, придется вообще забыть о лыжах? Зачем мне выходное платье, если жизнь опять будет ограничена стенами квартиры? Зачем готовиться к докладу, если я никуда не поеду?
До этого времени я была человеком, включенным в плотную сеть разнообразных человеческих отношений — дружеских, приятельских, рабочих. За те семь-восемь месяцев, что я почти не выходила из дому, эта сеть существенно поредела. Сказалось многое, но прежде всего то, что круг моих друзей и знакомых был центрирован вокруг работы. Мало того, что я перестала бывать в институте, где все мы тогда постоянно встречались. Я не могла бывать ни на семинарах, ни на прочих научных и околонаучных собраниях. Большинство приглашений я отклоняла, потому что у меня было слишком мало сил. Но и интересы мои резко изменились. Я уже давно занималась тем, чем среди лингвистов не занимался никто. Это было тем более весомо, что организующим центром в тогдашней молодой лингвистике был Игорь Мельчук и группа людей, которые с ним работали. Если ты не работал с ними и не ходил с ними в походы, то выпадал из компании незаметно, но неизбежно.
Сказанное никоим образом не скрывает в себе упрек. Жизнь показывает, что в ситуации, подобной моей, пристальное участие друзей — не одного-двух самых близких, а большего числа — просто не может быть длительным. Во-первых, как это ни банально, у всех действительно есть свои заботы. Ими можно пренебречь, но лишь на очень короткое время: когда человека положили на операцию или дома у него случилось несчастье. Во-вторых, деятельное сочувствие предполагает пребывание людей на некоторой общей «сцене», где роли распределены заранее, и притом естественным образом. (Я имею в виду более сложную структуру взаимодействий, чем множество исполняемых каждым стереотипных социальных ролей.)
Общительный человек чаще всего осваивает несколько таких сценических площадок: это круг друзей; семья, где одновременно могут быть представлены разные поколения; круг коллег, который может и не пересекаться с дружеским; наконец, разнообразные знакомства, сохраняющиеся в силу традиции, соседства или наличия взаимовыгодных отношений. Ко мне это относилось в полной мере — пока я не заболела.
В первую очередь — что естественно — отпало общение со старшими. Реформатский, правда, постоянно мне звонил. У Сидорова не было дома телефона. Одна из моих старших приятельниц приехала меня навестить, но настолько «в лоб» отказалась понять, что со мной случилось, что после ее ухода я долго плакала. Помню, как разительно отличался от этой встречи визит Елены Михайловны Закс (я рассказывала выше, как в ее доме я познакомилась с Даниэлем). С ней мы как бы просто встретились в другом помещении и беседовали как прежде.
Что касается ровесников, то у многих из них и так была достаточно нелегкая жизнь. У одного тяжело болела жена. Другие боролись за получение квартиры. Игорь сделал все, что мог. Попроси я о чем-то конкретном — никто бы не отказался. Но с исчезновением общих площадок, какими служил институт и прочие места академической жизни, как она описана в разделе «Институт и вокруг», порвались и нити, незаметно связывавшие меня с моим обычным окружением. Меру своего тогдашнего одиночества я осознала много позже, когда поняла, что значила для меня дружба Н. и Саши Полторацкого. Мне кажется, что без них я просто не выдержала бы всего того, что на меня свалилось.
К весне 1967 года вокруг меня с известной систематичностью стали появляться «младшие». В очной аспирантуре у меня занимался Саша Василевич, который незадолго до того слушал мой спецкурс на Отделении структурной и прикладной лингвистики в Институте иностранных языков, а потом писал у меня диплом. Время от времени приходили те, кто обращался ко мне прежде. Стандартной была ситуация, когда мне звонил кто-либо из знакомых и просил поговорить с очередным начинающим.
Оглядываясь назад, я вижу, что в большинстве своем этим молодым людям нужна была не столько помощь профессионала или научное руководство, сколько обычная человеческая поддержка. Исключения тоже были, но сейчас я понимаю, что это были именно исключения. Потому что, как бы я ни меняла в дальнейшем точки приложения своих усилий, количество людей, ко мне приходивших, не уменьшалось, а скорее возрастало. Я, правда, научилась различать, кому из них нужна наука, кому — я сама, а кому — ни то ни другое. Это потребовало много лет и принесло немало разочарований. Если же взглянуть на подобное положение вещей «с птичьего полета», т. е. из дня сегодняшнего, то впору не сетовать на напрасные усилия по обращению молодых людей «в свою веру», а, напротив того, благодарить судьбу.
Резон для этого мне видится в некоторых особенностях моего характера и моей биографии. Болезнь здесь не более чем один из факторов. Впрочем, любая болезнь атакует не какой-то абстрактный организм, а личность, у которой есть цели и ценности. Когда мы говорим о людях, которые любят или, напротив, не умеют лечиться, мы тем самым отмечаем различные реакции личности на болезнь.
Когда летом 1967 года вместе с несколькими молодыми людьми я стала планировать осеннюю командировку в Ленинград, я не думала, что через год с небольшим я свалюсь с рецидивом, от последствий которого никогда не смогу полностью оправиться. Но, так или иначе, в дальнейшем много раз выходило, что, как бы я ни была физически плоха, для нескольких людей я оставалась, быть может, главным источником психологической поддержки, а иногда и единственной опорой.
В дальнейшем они стали моими учениками и друзьями. Из них составился мой первый домашний семинар.
Семинар занял в моей жизни важнейшее место и многое определил. Он оказался, если прибегнуть к использованной выше метафоре, именно той сценической площадкой, где у всех были естественно распределенные роли и потому возможно было деятельное соучастие в жизни друг друга. В заданном с самого начала стиле, хотя с некоторыми перерывами, и, разумеется, с изменением тематики и состава участников, семинар просуществовал до осени 1991 года. После августа 1991-го было уже не до семинаров (об этом см. в разделе «Другая жизнь»).
Семинар
Я решительно не могу припомнить, почему идея домашнего семинара пришла мне в голову. В 1967 году в Москве подобные собрания еще были редкостью, но и о тех немногих, что уже существовали, я узнала позже. Каким образом появились первые участники, я помню гораздо лучше. Саша Василевич был моим аспирантом, Н. — коллегой. Миша Мацковский кончил физический факультет МГУ, но в физике себя не видел. С ним меня попросила встретиться его мать, которая была давней знакомой моих родителей. Алла Ярхо училась у Р. С. Гинзбург, моей старшей коллеги. Кажется, именно Миша привел Лизу Муравьеву, одаренную молодую женщину из старинной русской аристократической семьи, репатриантку из Франции. Таков, или примерно таков, был самый первый состав семинара.
Нас очень сблизила поездка в Ленинград осенью 1967 года. В Институте физиологии в Колтушах, в Лаборатории зрения у В. Д Глезера, мы провели первый — и уже довольно серьезный — эксперимент с использованием тахистоскопа. В дальнейшем много лет мы собирались еженедельно, в 11 утра по субботам. И много лет мое субботнее утро начиналось с того, что я выставляла у входной двери в нашей крошечной передней тапочки для тех, кто забыл свои дома. Самым рассеянным был Миша. Под новый, 1969 год, когда я лежала в больнице, он написал мне в новогоднем поздравлении, что ребята ждут, что я вскоре вернусь домой, и они придут «свежевыбритыми и со своими тапочками».
Отношения между участниками семинара изначально не ограничивались рамками научных или иных деловых интересов, но на самом семинаре обсуждение не выходило за рамки научных проблем. Все молодые люди бывали у меня дома и поврозь — как в связи с работой, так и просто в гостях. Пока семинар состоял из пяти-шести человек, случалось, что всей компанией мы ходили в театр или на какой-нибудь закрытый кинопросмотр, ездили ко мне на дачу.
Характер моих отношений с молодежью хорошо виден из следующей забавной истории. В один из присутственных дней — скорее всего, ранней осенью 1968 года — ко мне в институт зашли по каким-то нашим общим делам Миша и Алла. Я, естественно, не помню, о чем мы говорили. Зато я отлично помню, что мы долго смеялись и дурачились. При этом Миша и Алла устроились вдвоем в старинном кресле, где обычно сиживал А. А. Реформатский, а я, за неимением более удобного места, сидела на столе, который мы делили с Мельчуком.
Запомнилось все это потому, что у нас оказался невольный свидетель. В какой-то момент в нашу тесную комнату вошел коренастый человек лет тридцати и тихо сел за стол А. С., моей коллеги по Сектору. Я не обратила на него внимания. Но время шло, а он все сидел. Тогда я поинтересовалась, кого он ждет. В ответ он вышел из-за стола и почтительно спросил, я ли доктор Фрумкина. Затем он поклонился и представился: «Я ваш болгарский аспирант Герганов». Я просто поперхнулась. Я вынудила человека, приехавшего ко мне как к научному руководителю, ждать, пока мы устанем веселиться!
Позже мы с Енчо Гергановым, одним из моих лучших учеников, не раз вспоминали эту сцену, ибо у встречи нашей была предыстория, притом у каждого из нас — своя.
Примерно за полтора года до описанного выше эпизода мне позвонил известный болгарский ученый Мирослав Янакиев. Мы с ним были поверхностно знакомы. Он спросил, можно ли ко мне прислать кого-либо для учебы в аспирантуре. Я ответила утвердительно, высказав пожелание, чтобы это был «мальчик с английским языком». После появления Енчо эта фраза навсегда вошла не только в семинарский, но и в наш домашний фольклор, и потому я пишу ее в кавычках. Янакиев ответил, что вообще-то у него на примете девочка, знающая французский. Я возразила, что без английского в моей области работать просто нельзя, и прибавила как бы полушутя, что девочек в аспирантуру не беру. После чего начисто забыла о нашем разговоре.
Енчо прежде учился у Янакиева в Софийском университете. Как именно они были формально связаны, когда Янакиев вернулся из Москвы в Софию, забылось. Енчо был уже «не мальчиком, но мужем» — он был женат и работал, но очень стремился учиться дальше. Янакиев сообщил, что Енчо может претендовать на участие в конкурсе на аспирантуру в Москве, но при условии знания английского. Енчо английского не знал, но он был не из тех, для кого это могло бы послужить препятствием. В запасе у Енчо был год. Через год он уже свободно читал на английском любую специальную литературу. Выдержав в Болгарии суровые конкурсные экзамены, Енчо поступил к нам, в аспирантуру Института языкознания.
Это, однако, не вся сказка. Пока Енчо сидел в коридоре у дверей отдела аспирантуры, оформляя какие-то бумаги, Леля В., тогдашняя аспирантка Мельчука, спросила его, к кому он поступает. Услышав, что к Фрумкиной, она воскликнула: «Какой кошмар!» Имелась в виду моя требовательность, которую сама я называла «свирепость».
После всего этого Енчо наблюдал сцену, и по нашим понятиям весьма вольную. По болгарским же правилам поведения, где иерархия всегда была куда более выражена, виденное и слышанное вообще не лезло ни в какие ворота.
Енчо успешно и в срок защитил кандидатскую, вернулся домой, защитил следующую работу и, получив все положенные научные степени, объездил мир и стал крупной величиной в болгарской академической среде. Я пишу о нем в прошедшем времени только потому, что то время действительно прошло.
Енчо был сыном болгарского крестьянина и рос в деревне, где у отца была небольшая мельница. В соответствии с программой построения социализма, мельницу отобрали. Семья, где было четверо детей, осталась без куска хлеба. Отец Енчо был тогда уже далеко не молод. Он, однако, нашел в себе силы не только уйти в город на заработки, но смог приобрести другую специальность — он стал краснодеревцем. Я познакомилась с ним, когда он с сестрой Енчо приезжал в Москву. Енчо походил на него и внешне, и, видимо, характером. Фундаментальными качествами Енчо были его основательность, трудолюбие и выносливость. По моим наблюдениям над многочисленными молодыми и не очень молодыми людьми, с которыми мне приходилось вместе работать, эти качества не обязательно предполагают друг друга и не так уж часто совмещаются. Например, один из моих любимцев, не выносивший халтуры и в этом смысле человек, несомненно, основательный, не обладал никакой выносливостью, хотя был физически здоров. Другой «семинарист», безусловно, не был ленив, а если ему становилось почему-либо интересно, то был и вынослив. При этом все, что он делал в науке, делалось на глазок. Основательность была ему просто чужда. В будущем оказалось, что ее с успехом заменила расчетливость, но к нашим общим делам это уже не имело отношения.
Енчо был основателен во всем. В семинаре он работал, как першерон. Не было книги, которую он не был бы готов прореферировать, даже если для этого приходилось входить в малознакомую до того проблематику. Обладая трезвым умом и редкой работоспособностью, Енчо добирался до сути и не терялся под градом вопросов, обычно сыпавшихся на любого выступавшего.
В соответствии с правилами семинаров математических, у нас докладчика можно было перебивать вопросами по ходу дела. Нередко доходило до того, что я вынуждена была, перекрывая голоса спорящих, взывать: «Дайте же человеку сказать!». Сама я делала доклады очень редко. В сравнении с напряжением, которое я в таких случаях испытывала, любой международный съезд казался пустяком. Меня «клевали» столь же беспощадно, как и других. Гости, даже увенчанные любыми титулами, тоже не могли рассчитывать на снисхождение, что ими весьма ценилось.
Тематика семинара никогда не сводилась к «чистой» лингвистике, да и лингвисты были в семинаре в меньшинстве. Преобладали кончившие математику или физику. Были психиатры и физиологи, психологов же не было вовсе. Первое время мы обсуждали то, чем сами намеревались заниматься или уже занимались. Рассказывали свои результаты или свое видение проблемы. Параллельно реферировали сложные для понимания труды разных авторов, так или иначе относящиеся к делу.
Такие периоды чередовались с иными, когда докладывали не постоянные участники семинара, а те, кого мы специально приглашали рассказать о своей работе. Это были люди разного возраста и разной степени известности, от докторов наук до недавних студентов. Назову некоторых. Это математик и философ В. В. Налимов, нейропсихолог Е. П. Кок, математик А. В. Гладкий, лингвист и литературовед А. К. Жолковский, лингвист и специалист по народной культуре С. Е. Никитина, Ю. А. Шрейдер — тогда преимущественно математик, а ныне — философ, врач-психиатр Г. А. Манов, физиолог Л. П. Латаш, математик А. Л. Тоом, психолог (ныне — известный журналист) Л. А. Радзиховский, психофизиолог и врач В. С. Ротенберг. Некоторые из «гостей» в дальнейшем становились участниками. В соответствии с приходом новых лиц и изменением фокуса моих собственных интересов менялась и тематика.
По моим наблюдениям, семинар, где присутствующие объединены не просто широкими общими интересами, но перспективой решения общих задач, — это самая продуктивная форма взаимодействия в науке. Но слаженная команда, в которой одни ставят эксперименты, а другие обрабатывают и анализируют результаты, — это человек семь-восемь, не больше. С другой стороны, когда такая небольшая группа собирается раз в неделю, то нельзя рассчитывать на то, что у участников хватит запаса собственных задач, не говоря уже о конкретных результатах. Поэтому обязательно нужно устраивать обзорные доклады. Это, как известно, работа трудная и неблагодарная. Енчо здесь был и остался незаменимым.
Психиатрия и около
Как-то раз, будучи в Москве, Людмила Андреевна Чистович решила познакомить меня с одним своим давним приятелем. По ее словам, странно было заниматься столь похожими проблемами, жить в одном городе и при этом не знать друг друга. Речь шла об Иосифе Моисеевиче Фейгенберге, с которым она и пришла к нам в гости. И. М. Фейгенберг был профессором медицины. В конце 60-х годов он занимался некоторыми психофизиологическими особенностями больных шизофренией. В этой связи Фейгенберг выдвинул гипотезу о нарушениях «вероятностного прогнозирования», со временем снискавшую ему известность.
Случилось так, что именно с проблемой вероятностного прогноза у больных шизофренией увязалось многое не только в моей дальнейшей работе, но прежде всего в жизни и мировоззрении. Этим обусловлена обстоятельность, с которой далее об этой проблеме говорится.
Чистович познакомила меня с Фейгенбергом потому, что в некотором роде я тоже занималась вероятностным прогнозом, только на речевом материале и, разумеется, в норме. Но, как гласит известный афоризм, что скрыто в норме, то явно в патологии. Поэтому я была очень заинтригована.
Вероятностный прогноз — не самый удачный термин, поскольку любой прогноз, по определению, вероятностен — иначе это не прогноз, а пророчество. Правильнее было бы говорить о предсказании вероятностей тех или иных событий. В лингвистику и психологию эта проблематика в сильно трансформированном виде перешла из теории информации. Я-то случайно нашла ссылку на заинтересовавший меня эксперимент, но в работу по теории кодирования, где я ее обнаружила, она попала закономерно.
Выше, в разделе «Перемена участи», я говорила о том, что наше представление о более знакомых и менее знакомых словах возникает как результирующая многих составляющих. Там же упоминалось, что в качестве первого шага я решила воспроизвести эксперимент американских ученых, где выяснилось, что «хорошо знакомые» слова в тахистоскопе распознаются быстрее, чем «менее знакомые». Этим я в дальнейшем и стала заниматься вместе с командой, сложившейся на семинаре.
Одна из наиболее сложных задач, возникших в этой связи, состояла в следующем. Надо было найти надежный способ оценить «реальную» степень нашего знакомства со словом — т. е. ту частоту, которая отражена в памяти как суммирующая весь опыт «встреч» индивида и со словом, и с именуемым им объектом, и с промельком образа этого слова (или объекта?) в мысли. Ведь именно от этой частоты зависит возможность распознать слово в тахистоскопе за больший или меньший промежуток времени. Выражаясь иначе, от этой суммарной частоты и зависит наш прогноз.
Неосознанно мы, как правило, предрасположены увидеть (равно как и услышать) «знакомое», т. е. частое, в нашем прошлом опыте. И куда менее готовы увидеть или услышать менее знакомое, или, что в данном случае то же, менее частое. В этом и состоит общеизвестный феномен предвосхищения. Кстати говоря, на нем основан эффект рифмы — «Читатель ждет уж рифмы “розы”». Оговорки, ослышки и пропущенные опечатки — явления того же порядка: редкое заменяется на более частое. (И. М. Фейгенберг предположил, что у больных шизофренией все обстоит наоборот — упрощенно говоря, согласно его гипотезе, больные более готовы увидеть или услышать нечто редкое, нежели частое.)
Но это, так сказать, из числа вещей, известных на уровне «вообще». А можете ли вы мне с ходу сказать, какое слово чаще в указанном выше понимании — крыша или карта? Вроде бы оба и не особо редкие, и не столь уж частые. Впрочем, крыша кажется более частым словом. Возможно. А как вы отнесетесь к тому не самому известному факту, что во всех текстах Пушкина (это более полумиллиона слов) слово крыша встречается только два раза? Вот то-то и оно.
На самом деле от человека можно получить весьма надежные оценки не только частот слов, но даже частот неосмысленных буквосочетаний — таких, как СВО или ОКН. И даже букв алфавита родного языка. Надо лишь найти способ правильно об этом спрашивать. Но такая постановка проблемы выводит нас в новую и весьма загадочную область — проблему измерений в психологии. В этом направлении со временем произошел дрейф тематики семинара.
Оказывается, в процессе переработки информации человек может улавливать разнообразные и невероятно тонкие различия, но при условии, что речь идет о различиях относительных, сравнительных. Например, обычный говорящий не знает, сколько раз (в среднем) среди 1000 букв текста повторяется буква Е. С другой стороны, если группу обычных грамотных носителей русского языка попросить ответить на вопрос о том, что чаще — Е или О, И или У и т. д., то их мнения будут довольно близки. Иными словами, в подобных вопросах любой человек — отчасти эксперт, во всяком случае — в пределах своего повседневного жизненного опыта.
Кстати, чтобы выразить свои ощущения и мнения, человек пользуется особыми словами. Это слова и выражения типа «больше, чем», «самый», «наименьший», «лучше» и т. п. Так что со временем мы специально весь год целенаправленно занимались именно экспертными оценками. Но это потом.
Пока что я согласилась встретиться с младшим коллегой Фейгенберга, врачом-психиатром Д. Тогда я мало что знала о механизмах вероятностного прогноза (в американской традиции принято говорить о «вероятностном обучении», но этого я тоже еще не знала).
Что касается психиатрии вообще и шизофрении в частности, то здесь я была совершенно невежественна. Более того, я толком не читала даже Фрейда. Фрейда у нас много издавали в 20-е годы, но эти издания надо было добывать. У меня, видимо, не было к тому внутренних побуждений.
Д. появился у нас в доме в начале лета 1968 года. Первое впечатление мое было — молодость, здоровье, уверенность в себе. Высокий, темноволосый, со смуглым румянцем и распахнутой мне навстречу улыбкой, он протянул руку и представился: Толя. На вид ему было лет двадцать семь.
Я давно привыкла не доверять своим первым впечатлениям, но не до такой же степени! Тем не менее все описанное выше, будучи очевидным, было в то же время неверным. Толя оказался всего на год моложе меня (это выяснилось не сразу). Глубинным свойством его была именно неуверенность в себе (такие люди часто бывают очень тяжелы для окружающих, и я это испытала в полной мере). Что касается здоровья, то физически он был, конечно, вполне здоров. Но, как говаривали в старину, «нервы его были совершенно расстроены», и это составляло, увы, постоянный фон наших отношений.
Начавшись как сугубо коллегиальные, эти отношения перешли в тесную дружбу. Толя несколько лет был участником семинара и, пока жизнь нас окончательно не развела, непременным гостем на Рождестве. Обязана же я ему бесконечно — и тем, что он подставил плечо, когда я переживала депрессию после рецидива болезни, и тем, что он всегда был готов объяснять самые элементарные вещи, благодаря чему за очень короткий срок ввел меня в психиатрию. Толя дал мне возможность несколько лет проработать вместе с ним в остром отделении той психиатрической больницы, где он был врачом.
Толя давно живет в Израиле. У меня остались его стихи и эти воспоминания. Многие стихи его мне были близки. По-настоящему же все мы любили его песни. В этом человеке было намешано много разного, но в его песнях было сосредоточено то, кем он мог бы быть, но не стал.
Главным итогом этой дружбы для меня, как это ни парадоксально, стало самопознание. Как и важнейшим итогом работы в психиатрии стало не написание книг и статей, а изменение взгляда на себя и других.
Толя изначально сомневался в содержательности гипотезы Фейгенберга. Он допускал, что у больных шизофренией вероятностный прогноз и в самом деле нарушен, но какое отношение этот эмпирический факт мог иметь к глубинным изменениям личности больных? Толя, вообще говоря, имел достаточный клинический опыт и интуицию, чтобы не «искать там, где светло». Но объяснить мне внятно свою позицию он не попытался. Я думаю, причин тому было две. Первая — авторитет Фейгенберга. Вторая — неумение сомневаться систематически, т. е. незнание «правил игры», которым в подобном случае следует ученый.
Я по обыкновению начала с того, что стала искать в литературе, что вообще принято понимать под вероятностным прогнозом. Наша психологическая наука была безнадежно отсталой. Переворотив горы американских журналов, я обнаружила, что проблема вероятностного обучения (probability learning, что точнее было бы переводить как обучение вероятностям) далеко не нова, поскольку о ней написаны уже монографии. Более того, одну их них к тому моменту успели даже перевести на русский!
Я раскопала и более эффектную вещь. Как это свойственно американцам, всегда обкатывающим популярные в науке идеи на всем доступном материале, кто-то успел провести аналогичные эксперименты и с больными шизофренией, притом сделано это было очень давно. И что-то получилось — в том смысле, что больные вели себя иначе, нежели здоровые.
В конце концов мы вместе с Толей и моими ребятами и сами получили достаточно красивые результаты на клиническом материале. Но, что называется, «по дороге» мы поняли, что разница в результатах между здоровыми и больными определялась не диагнозом, а тем, что в медицине называется «статус», т. е. состоянием на данный период времени. Диагноз — величина стабильная, а статус — непрерывно (хоть и не ежеминутно) меняющаяся. Тогда понятно, почему некоторые больные вообще не отличались от здоровых: за счет того, что их статус на период эксперимента был, если угодно, «и так неплох на вид». Тем самым незаметно для себя, мы простились с основной гипотезой.
Впрочем, для моего рассказа это уже не столь существенно. Важно иное. За пять-шесть лет работы с больными я очень изменилась сама. К счастью, я довольно быстро поняла, что с больными нельзя работать на «американский манер» — просто сравнивая феномены в норме с тем, как то же самое выглядит у больных. Надо действительно разбираться в тех изменениях в личности и поведении, которые заставляют считать того или иного человека, во-первых, психически больным, и, во-вторых, больным именно шизофренией.
Я думаю, что количество прочитанного мною было намного больше того, что у нас в среднем успевает прочесть будущий психиатр в вузе и ординатуре. Понемногу мне открылся не просто целый мир «иного». Мой собственный мир стал иным. Именно тогда, в сорок лет, я действительно повзрослела — и с тех пор мое мировоззрение почти не менялось.
Влияние психиатрии на мои самые общие понятия о человеке в его связях и отношениях с другими людьми заключалось прежде всего в том, что я простилась с иллюзиями рационалистического толка.
Рационалистическое понимание мира, на мой взгляд, было определяющим для менталитета моего поколения. Оно отнюдь не сводилось к видению мира в черно-белых тонах или, тем паче, к делению людей на «своих» и «чужих». Но тот способ, которым я и большинство моих друзей объясняли себе характеры и конфликты, отводил рассудку непомерно большую роль. Всем нам свойственно было описывать поведение людей в четких, не перетекающих друг в друга категориях. Это не исключало представления о том, что люди и их устремления противоречивы. Имярек был, с одной стороны, домоседом, а с другой — бонвиваном и охотником до женщин. Но я не могла по-настоящему представить себе, что этот имярек в любом помысле и в каждом движении души существовал как целое, в силу чего был таким и другим одновременно, а не попеременно.
При всем том я отнюдь не являла собой предельный случай рационалистического понимания мира. Игорь Мельчук, например, верил, что нормальный, разумный человек поступает в основном в соответствии с неким алгоритмом. Поэтому если он поступает ошибочно, то надо ему просто объяснить, в чем именно ошибка. Среди математиков очень распространены были представления о том, что и в обыденной жизни нормальный человек руководствуется чем-то близким к правилам формальной логики. Один мой знакомый, крупный математик и человек недюжинного ума, отказывался понять, что между мотивом и поступком часто лежит пропасть.
Соответственно сказанному в нашей среде талантливые люди как бы априори считались людьми этически безупречными. Один блестящий ученый поступил откровенно бесчестно. И почему-то окружающие закрыли на это глаза. Менее одаренному подобный поступок не простили бы. Действовал, таким образом, двойной стандарт. Мне двойной стандарт всегда был ненавистен, но я не сумела бы убедительно объяснить, что могло происходить внутри человека, который поступил по принципу «а мне — можно». У меня просто не было умственного инструментария для обсуждения ситуаций этического конфликта как глубинного противоречия между целями и ценностями.
Возможность понимания открылась мне не через литературу и не через клинику, а через совмещение того и другого. Слова комплекс или вытеснение перестали быть ярлыками. Важнее другое — я стала понимать, что люди в большинстве своем скорее дисгармоничны, и их жизнь и деятельность обеспечивается сложными механизмами, действующими помимо их воли и сознания. Понимание открывало ресурсы приятия.
Например, я вдруг увидела, как по существу несчастлив был NN, для которого любой успех — а у него был и научный, и светский, и успех у женщин — был только ступенькой, временно подтверждавшей его исключительность, которую надо было подтверждать опять и опять. Поэтому однажды, когда NN устроили разнос у нас на семинаре, я пригласила его остаться обедать и, как хозяйка дома, принесла ему свои извинения.
Я обнаружила, что основой одного брака, который до того считала образцовым, была комбинация бытового удобства и душевного безразличия. Я начала понимать, в каких жизненных коллизиях я бессильна что-то изменить, и где я все же могу что-то сделать. Тогда я и увидела, для кого из участников семинара наш круг действительно составлял определенную ценностную среду, а для кого был временной пристанью за неимением более подходящей.
Вторжение
Вернусь к обстоятельствам осени 1968 года. Они по-разному повлияли на жизнь непосредственного моего окружения. Но не миновали почти никого. Я думаю, что отношение к «Пражской весне» у всех нас было одинаково: она давала основание для надежды. Что не означает, однако, что этим событиям отводилось особое место на уровне повседневной жизни.
Ошибется тот, кто представляет себе степень душевного соучастия моих друзей и ровесников в «Пражской весне» наподобие общности переживаний во время почти забытой сегодня 19-й партконференции 1987 года. Помню, как летом 1987-го, вернувшись на дачу в двенадцатом часу ночи после душного и утомительного дня, я первым делом бросилась к телевизору. Я хотела (как и все!) своими глазами видеть то, что ощущалось как «скрипучий поворот руля». Замечу, что до «перестройки» я вообще не смотрела телевизор, не говоря о том, что до 1976 года у нас его просто не было. А весной 1968 года я была озабочена не событиями в Праге, а тем, что мне хотелось взять к себе в аспирантуру Олю З.
Просил меня об этом мой приятель Марк Черкасский, лингвист из Алма-Аты. В 1968 году Марк уже не жил в Алма-Ате, а преподавал в Орехово-Зуевском пединституте, где у него появилась необычная студентка. В один из приездов в Москву мы с Марком встретились, и он попросил меня помочь как-то устроить Олину судьбу.
Год назад, прочитав в «Новом мире» очерк Доры Штурман «Дети утопии», я узнала, что в 40-е годы Марк и Дора были ближайшими друзьями, членами одного кружка, где они критически анализировали марксизм, и как следствие этих занятий стали «подельниками». Знаменательно, что в 1968 году Марк никогда не упоминал о том, что он пережил, хотя мы всегда говорили с ним о вещах жизненно важных.
В просьбе Марка была какая-то скрытая печаль. Было ясно, что я должна сделать что смогу — если найду кандидатуру подходящей. Я сказала: «Пусть придет» — фразу, которую потом ребята «переводили» как «Сезам, откройся!». Оля оказалась «девочкой с французским языком». Вернее — без всякого языка, потому что учили ее в Орехово-Зуеве плохо. Сама же она была настолько неординарна, что я решила попытаться выучить ее французскому за лето. Мы с Юрой собирались на месяц в Эстонию и предложили Оле поехать с нами.
Но до этого мы с ребятами и Юрой еще ездили в Киев, на Всесоюзный съезд психологов. Уровень докладов на этом съезде был столь удручающим, что главное, что мне запомнилось, — это пари, заключенное с Мишей Мацковским. Я сказала, что войду в зал Дворца техники, где происходил съезд, с ведром вишен в руках. Когда Миша увидел, что я уже обзавелась белым эмалированным ведром, то расторг пари, справедливо не желая ненужного шума.
В августе в воздухе повисла тревога. Рано утром 21-го зазвонил телефон. Отец Юры сказал: «Мы высадились» — и сразу положил трубку. Потом я под недоуменным взглядом Оли долго и тупо сидела за кухонным столом, обхватив голову руками. (Вплоть до поступления в аспирантуру Оля жила у нас.) Помню чувство, что у меня над головой захлопнулась крышка кованого сундука.
В промежутке между 21 и 25 августа в Институте русского языка был митинг протеста, на котором выступили Л. Н. Булатова, Л. Л. Касаткин и К. И. Бабицкий, но это событие почему-то прошло мимо меня. Как потом выяснилось — и мимо многих других из моего ближайшего окружения. Состояние тупой подавленности не оставляло меня до 25 августа, когда я узнала, что в знак протеста несколько человек вышли с лозунгами на Лобное место, и в их числе — мой товарищ Костя Бабицкий.
Бывают молчаливые дружбы, когда и видишь человека нечасто, да и знаешь о нем не очень много, но дорожишь им, веришь ему во всем и, не отдавая себе отчета, ждешь, что так оно всегда и будет. Костя работал в том же Секторе в Институте русского языка, где Лариса Богораз прежде была аспиранткой. Какое-то время, в конце пятидесятых, мы были знакомы с ним, как и со многими другими. По-настоящему он раскрылся мне при следующих обстоятельствах. Я делала доклад на большой конференции в Ленинграде, и мне нужно было повесить таблицы. Предыдущий докладчик занял почти всю доску, и у меня оказалось очень мало времени. Я нервничала, и ватман сворачивался в трубочку. Тогда, невзирая на чей-то продолжавшийся доклад, из зала на сцену поднялся Костя, который негромко и спокойно сказал мне «Давай я тебе помогу» — и в минуту повесил все таблицы. Меж тем в зале были лица, с которыми меня соединяли значительно более тесные дружеские узы. Таков был Костя. Другой случай: я кончила делать какой-то доклад, не помню уже где, и села на место. Мне передали записку. Костя написал: «Рита! По-моему, ты хочешь сказать вот что — …» (далее шла запись формулы, намного более удачно выражавшей мой результат).
Костя ясно мыслил и ясно писал. Что касается рукомесла, то Костя умел все, делал это как нечто само собой разумеющееся и не пытался никого уверить, что в этих умениях самих по себе есть некая великая правда (распространенная тогда позиция или поза). У Кости было трое детей. Однажды я спросила его, как они с Таней (Т. М. Великановой) справляются. На что Костя спокойно ответил: «А мы не справляемся».
А еще Костя прекрасно пел старинные русские романсы. Я очень хотела, чтобы он пел романс Верстовского на стихи Грибоедова «Ах, точно ль никогда…», и даже нашла для него пластинку с записью этого романса.
Виделись мы от случая к случаю, но осенью 1965 года на новоселье он был у нас в числе шести-семи ближайших моих друзей. За эти три года я ни разу не слышала, чтобы Костя занимался политикой. Поэтому я была поражена так же, как бывают поражены люди, когда вдруг разваливается казавшийся гармоничным брак или безнадежно заболевает до того совершенно здоровый человек
Среди участников демонстрации 25 августа было два человека из среды «структурных лингвистов» — Лариса Богораз и Костя. Наташа Горбачевская кончала филфак вместе с моими приятелями. С другими у меня были общие знакомые. Для властей это не осталось незамеченным.
В течение многих последующих лет молодые люди не раз задавали мне два вопроса: 1) Почему эта демонстрация была так малочисленна? 2) Почему она была единственным организованным выступлением?
У меня нет хорошего ответа на эти вопросы. Но как свидетель — пусть с ограниченным кругозором, но зато небезразличный к участникам — я могу сказать вот что. Если доверять близким моим знакомым, а не доверять им я не имею оснований, демонстрация 25 августа не была организованным выступлением в том смысле, который принято придавать этому словосочетанию. Не было организации, которая решила, что форма протеста должна быть такой, а не иной, что выйти надо именно на Лобное место, что лучше выйти, допустим, X., а Y., напротив, надо остаться дома, поскольку у нее грудной ребенок, и т. п.
Зато был жертвенный порыв нескольких человек, стоящий, с моей точки зрения, в том же ряду, что и потрясшее всех самосожжение Яна Палаха. Жертвенный порыв не может быть уделом многих. Мы жалели всех, потому что понимали, что им грозит. Считали ли мы за честь, что были знакомы с такими людьми? Думаю, что да — но потом. Гордая приобщенность к этим и им подобным событиям явилась на свет божий задним числом, когда сами события отодвинулись настолько, что стали предметом преданий и мемуаров. Впрочем, в данном случае я имею право говорить только от первого лица.
Я же ничем таким не гордилась, а только ужасалась и боялась. Ни от кого из довольно обширного в то время круга моих друзей и знакомых я не слышала: «Не должны ли мы продолжить то, что они начали?». Такой шаг виделся как заведомо самоубийственный. Кто без греха — пусть бросит в нас камень.
Я жалела Костю — мне казалось, что его позвали, и он пошел так, как шел всегда, когда его звали на помощь. Я боялась, что позвонят в дверь и это будет означать «с вещами». Шансы кончить жизнь в концлагере отныне следовало рассматривать как реальность. (Помню, как в 1969 году я спросила Толю Д, думает ли он о возможности такой перспективы и кем он себя в подобной ситуации видит. Он сказал — конечно, думает, и, может быть, в лагере он мог бы быть фельдшером.) Поскольку меня не вызывали в КГБ, я не имела оснований в душе упрекать кого-то за беспечность, с которой велись телефонные разговоры, оставлялись записки и передавались папки с самиздатом. У многих для таких горьких упреков были основания.
Когда в сентябре 1968 года мы собрались на первый в сезоне семинар, Н. попросил мой магнитофон и, не предупредив меня, включил пленку с записью передачи не то ВВС, не то еще какого-то из «Голосов». Запись была посвящена рассказу о том, как мы вошли в Прагу. Я была в бешенстве: в то время почти на каждом семинаре появлялся кто-то новенький. В каких выражениях я предложила Н. прекратить — забылось. Кажется, я напомнила полушутливое замечание, которое ограничивало достойные обсуждения темы: «Здесь говорят обо всем, кроме секса, религии и политики». (Эта формулировка была мне некогда «подарена» Сашей Полторацким, который предварял ею свои занятия разговорной практикой со студентами-англистами.)
Позднюю осень 1968-го и зиму 1968/1969-го я помню фрагментарно. Причиной тому — рецидив болезни, который в тяжелой форме продлился около полугода, а также некоторые события личного свойства, заслонившие собой события общественные. Мое обычное лекарство перестало мне помогать. Однажды пришлось вызвать «неотложку». По моим вопросам приехавший доктор заключил, что я тоже врач, и с сочувствием сказал, что пока есть хоть какой-то шанс, надо его использовать и лечь в больницу. В моральном отношении эта перспектива была невыносима: некогда солгавший мне доктор Л. теперь сам был «главным», а кроме как к нему, ложиться мне было некуда. Семинары продолжались и те два месяца, что я была совсем плоха. В больнице я встретила новый, 1969год.
Тем временем в обоих институтах — в нашем и в Институте русского языка — намечались акции, связанные с вторжением в Чехословакию и необходимостью показать интеллигенции, кто здесь хозяин. Одновременно в полную силу заново стало обсуждаться дело Синявского и Даниэля и поведение разных лиц в этой связи.
Читатель помоложе, быть может, ожидает далее рассказа о нашем сопротивлении и протестах Он будет не просто разочарован — скорее всего, ему будет трудно поверить в происходившее. Никаких открытых протестов внутри институтов после 25 августа 1968 года просто не было. А. А. Реформатский, вынужденный обстоятельствами выступить в связи с вторжением в Чехословакию, сумел построить свою речь вокруг цитаты из Блока «Век девятнадцатый, железный…» и ничего не сказать по существу. И мы поставили это ему в заслугу: он сумел прикрыть нас, молодых сотрудников, которым просто посреди стихотворной строки заткнули бы рот.
Характер расправ был разным. Как я уже упоминала, это зависело от тех, кто в данном учреждении держал руку на рычагах власти. Уж на что Ф. П. Филин был одиозной фигурой, но в бытность его директором Института языкознания он не совершил и десятой доли тех пакостей, с помощью которых позже он, по существу, разогнал Институт русского языка. Причины многообразны — отсутствие в нашем институте прямых соперников Филина, который все-таки был русистом, отношения между директором и партбюро, где были персоны и почище Филина и т. п.
В нашем институте происходило много отвратительного, но последствия этих чисток и разбирательств были не столь разрушительны, как в Институте русского языка. Там с некоторого момента Ученый Совет стал собираться как будто специально для того, чтобы изгонять одного за другим людей, воплощавших лучшее, что было тогда в русистике, и не только в ней.
Кто-то посмел воздержаться, когда на голосование было вынесено требование одобрить вторжение. От кого-то другого потребовали осудить тех, кто воздержался, а в результате — выгнали всех. Ю. Д. Апресяна, Л. Н. Булатову, Э. И. Хан-Пира и Н. А Еськову — за подписи под тем самым письмом, которое Игорь Мельчук отправил без меня. Л. Л. Касаткина — за выступление против вторжения. Лену Сморгунову и Володю Санникова, организовавших с помощью самого Тарковского просмотр еще не вышедшего на экран фильма «Андрей Рублев», выгнали именно за это. (Один и сейчас процветающий деятель сильно способствовал тогда слухам о том, куда пошли деньги за билеты, намекая, что они были собраны для семей политических заключенных. Насколько я представляю себе тогдашнюю жизнь, это было бы невозможно даже технически — билеты были из кассы клуба «Каучук», где проходил просмотр.)
Наконец, несколько крупных ученых, членов КПСС, решили не связываться с тем, что в просторечии называлось «коллективка», поскольку совместные действия вменялись в вину уже как таковые. Они послали письма — кто прямо в ЦК КПСС, кто — в райком или горком, но каждый только от своего имени. В этих письмах в достаточно обтекаемых и юридически безупречных выражениях отстаивалось право граждан обращаться в высшие инстанции с письмами, в том числе — с прошениями в чью-то защиту. Их вынудили уйти, не помню уже, с какими формулировками.
Поистине, гордиться могла тишайшая и незаметная Татьяна Сергеевна Ходорович. Неожиданно для всех она послала обращение в ООН! Ее тоже выгнали, хотя была она вдовой с тремя детьми.
Все эти расправы растянулись во времени на довольно длительный срок. Здание на углу Волхонки и бульвара, где в 1956 году я начинала работу в библиотеке, где мы смеялись на капустниках, танцевали на елках и однажды даже все вместе праздновали масленицу, стало для меня проклятым местом. Еще в 1968 году один за Другим умерли Петр Саввич Кузнецов и Владимир Николаевич Сидоров. Исключили из партии и вынудили уйти Владимира Давыдовича Левина, замечательного специалиста по истории русского литературного языка, одного из авторов «Словаря языка Пушкина». Примерно так же поступили с крупнейшим русистом и специалистом по фонетике Михаилом Викторовичем Пановым. Выгнали даже Виталия Шеворошкина, нашего ровесника, уникально талантливого индоевропеиста с мировым именем, расшифровавшего древние письменности — лидийскую и карийскую. Прежний Институт русского языка Академии наук, вместе с его атмосферой, ушел в небытие, как Атлантида.
Выбор
В 1970 году у меня была готова докторская диссертация. Написать ее меня уговорил Лев Рафаилович Зиндер. Нас связывали многолетние дружеские отношения. Когда-то нас познакомил А. А. Реформатский. Потом много лет подряд мы с Юрой ездили летом в эстонский городок Выру, где на близлежащих хуторах традиционно отдыхала семья Зиндеров и семья Смолянских, тоже ленинградцев, друзей юности Зиндера.
Лев Рафаилович, непосредственный ученик Щербы, оставался главой Ленинградской фонологической школы. Он в общих чертах знал, чем я занимаюсь, и предложил мне защищаться в Ленинграде, добавив: «Уж оппонентов мы вам как-нибудь найдем».
В соответствии с правилами, я рассказала содержание работы у нас на Секторе, получила одобрение Реформатского, о чем и был составлен подобающий протокол за подписью Мельчука как ученого секретаря Сектора. Следующим необходимым документом была характеристика за подписью «треугольника» — директора, секретаря партбюро и председателя месткома.
Роль этой бумажки в жизни советского гражданина можно сопоставить разве что с пропиской. Главное назначение характеристики было — служить справкой о благонадежности. Поэтому с помощью характеристики можно было манипулировать людьми самым изощренным образом. Разумеется, это касалось преимущественно интеллигенции, но напакостить можно было любому, от медсестры до профессора. Самым же распространенным способом лишить человека чего-нибудь, будь то поездка за границу по профсоюзной путевке или возможность держать экзамены в аспирантуру, был отказ в характеристике
Мне отказали. И это еще не все. Наш тогдашний замдиректора по науке, Ю. С. Елисеев, велел инспектору по кадрам передать мне, что, пока он жив, никакой диссертации у меня не будет. Кадрами ведала милая женщина Мария Алексеевна, которая была нашим добрым ангелом, хотя сделать она мало что могла. (Не помню, в каком году при очередной замене удостоверений Мария Алексеевна вписала в мою не существующую тогда должность «научный сотрудник»: ей было совестно написать «младший».)
Я думаю, что это была расплата не только за мою подпись под письмом в защиту Дувакина, хотя формально в вину мне вменялось именно это. В не меньшей степени это было проявлением откровенного антисемитизма. Вообще же в глазах руководства я, несомненно, принадлежала к числу «подозрительных».
В этой связи замечу, что при всем желании мне нельзя было приписать не только поступков, которые могли бы считаться нелояльными по отношению к властям, но даже слов. Фронда как таковая мне всегда была чужда в силу особенностей моего личностного склада. Возможно, это не делает мне чести, но здесь я считала нужным быть последовательной. Я работала в государственном учреждении, да еще в науке, которая по тем временам считалась идеологически нагруженной. Тем самым я принимала некоторые условия игры: я-то знала, у кого я работаю!
Но эти условия не распространялись на содержательную сторону моей деятельности. Например, я никогда не дала бы положительный отзыв на плохую работу. Это было известно, и потому меня не приглашали оппонировать и рецензировать. То есть «по науке» со мной явно не стоило связываться.
После 1968 года сама я по возможности дистанцировалась от всего, что происходило в институте. Я игнорировала все Ученые Советы, в том числе и в тех случаях, когда получала специальное приглашение. Я не посещала защит, если в этом не было прямой необходимости. Если я получала бумагу с распоряжением директора «Просьба ответить по существу», я отвечала. Если меня просили принимать аспирантские экзамены, я соглашалась. Я исправно выполняла план, который сама же и составляла, а институт, надо сказать, формально не препятствовал изданию моих плановых работ. В соответствии с обычным механизмом, мои книги попадали в издательство «Наука» и выходили немалыми даже для тех времен тиражами.
Таким образом, я за государственные деньги занималась любимым делом, и государство же обеспечивало связь между мною и моим потенциальным читателем. Я очень дорожила этими возможностями. Но в равной мере я дорожила и своей независимостью. Поэтому я не ждала ничего от администрации института, полагая закономерным, что меня не посылают на конференции за границу, не дают аспирантских мест, держат в должности «младшего», не включают в списки на премирование и т. д. Это был мой выбор. И все-таки я не ожидала, что мне не дадут защищать докторскую диссертацию.
Отказ в характеристике выглядел как некая глухая стена, которая воздвиглась ниоткуда. Более того, за нею виделась некая угроза. А вокруг тем временем все чаще стали обсуждать возможность эмиграции.
Сегодня не просто передать дух московской жизни 70-х годов. Чего в этом времени напрочь не было — это пресловутого «застоя». Жили интенсивно, сложно, конфликтно, многие — надрывно. Читали Трифонова и о каждой его вещи спорили; ходили в Консерваторию, смотрели позднего Вайду и раннего Занусси.
Кино, музыка и серьезное чтение были частью самой жизни, а не развлечением. Даже я пренебрегла своим жестким режимом (в 10 утра — за стол) ради фильма Вайды «Пейзаж после битвы». Мне подарили два билета на первый сеанс, т. е. на 9 утра. У Юры были лекции, и я долго размышляла, кого бы осчастливить такой редкой возможностью. Свободен оказался муж моей приятельницы, человек еще более загруженный, чем я. Помню, как мы возвращались молча, потрясенные, и было странно, что вокруг нас еще длилось утро.
Мои теперешние ученики и младшие собеседники тогда как раз родились. Они встретили перестройку малыми детьми или в крайнем случае — подростками. Им трудно представить, что человек, изгнанный из института типа нашего, в особенности если он был еврей или за ним числилось нечто «политическое», практически не имел шансов вернуться к науке. При том, что количество рабочих мест для людей с филологическим образованием и так было очень мало, везде требовали еще и «чистую анкету». Спрос на уроки английского был невелик. Никаких негосударственных организаций не было и в помине. В большинстве случаев гуманитарию вообще невозможно было заработать на жизнь, не выйдя из прежней среды.
По существу, именно это случилось с Костей Бабицким после его возвращения из ссылки. Ему разрешили жить в Москве, но его не брали на работу по специальности и не хотели печатать. Позже художники и писатели уходили в дворники или дежурили в бойлерных. Это, однако, уже не профессия, а образ жизни. Поэтому даже сама угроза лишиться работы для многих была прямым побуждением к эмиграции. Тех же, кто не хотел уезжать, нередко преследовало ощущение, что на горле у них раньше или позже затянется петля.
Гром мог грянуть откуда угодно. Например, рядовой сотрудник подавал заявление на выезд. Тут же «за отсутствие бдительности» увольняли его начальника. Новый начальник на всякий случай разгонял всю прежнюю команду. На моих глазах так распадались лаборатории и отделы. Когда отдельные казусы сложились в типичную схему, стало считаться непорядочным, если люди «подавали», предварительно не увольняясь «по собственному желанию».
Главной издержкой подобных обстоятельств была эрозия человеческих отношений. Характерный для нашего общества дух нетерпимости в сочетании с неуважением к самоценной личности Другого сильно этому способствовал. Жизнь ведь сложнее не только описанной схемы, но и любой схемы вообще. То, что для одних было достаточной причиной не увольняться заранее, для других оборачивалось пренебрежением к их судьбе и праву на автономный выбор.
Иксов оказался на улице, потому что Игреков решил эмигрировать. Так Иксов впервые на своей шкуре почувствовал, что его судьбой реально может распорядиться кто угодно — в том числе Игреков, который был слишком замордован жизнью, чтобы думать о ком-либо, кроме своей семьи. Зеткинда тоже уволили. Но Иксов все же устроился в соседний институт, а Зеткинда, некогда кончившего мехмат с отличием, не брали даже в среднюю школу учителем. Теперь они не здоровались. А ведь когда-то считали себя людьми одной судьбы.
Появилась совсем особая категория людей — «отказники», т. е. те, кто «подал», но получил отказ. Волей-неволей они сбивались в свою стаю, отделенные от других исключительностью своего положения.
До недавнего времени быть евреем означало только проблемы: с поступлением в вуз, с устройством на работу, с дальнейшей карьерой. Теперь быть этническим евреем или быть женатым на еврейке стало отчасти выгодно. Я оторопела, когда мой давний приятель, Борис Гаспаров, который никак не мог добиться разрешения на выезд, написал мне из Тарту, что я принадлежу к привилегированному народу. Но это были, так сказать, «цветочки».
Мой верный друг Н., выслушав историю с отказом в характеристике, сказал: «Вам следовало бы уехать». «А вам?» — спросила я. Он отвечал невразумительно. Мною овладел редко случавшийся приступ гнева, который я называла «белый гнев», потому что все кругом в подобные моменты как бы светилось.
«Я русская», — вызывающе сказала я. «Но я не русский», — отвечал Н. «Так что же?» — спросила я. «У меня обязательства», — сказал Н. Как будто у других обязательств не было! Этот разговор проложил в наших отношениях первую трещину.
Трагичным было то, что мы оба сказали неправду. Я чувствовала себя тем более русской, чем больше мне в этом отказывали. (Особенно остро это проявилось много позже, когда выбор страны проживания стал реальностью.) В этом смысле я была типичной девочкой из интеллигентной московской еврейской семьи, т. е. семьи культурно именно русской. Н. же этнически был половинкой, т. е. в паспорте был записан русским и носил фамилию русского отца. Отца своего он едва помнил, тот рано оставил семью, и, как я уже говорила, вырастила Н. его еврейская мама. Никаких трудностей из-за своей еврейской «половины» Н., естественно, не пережил. Культурно же он был человеком выраженной западной ориентации.
Теперь ни одна встреча с друзьями не обходилась без обсуждения возможности и целесообразности эмиграции. Как сказал тогда мой друг Юлий Шрейдер, и этот вопрос русские евреи склонны были решать сугубо по-русски: они обсуждали, следует ли вообще уезжать евреям, а не то, хорошо ли это для данного человека.
Для меня эта проблема разрешилась как-то сама собой и в одночасье, когда мне пришло в голову следующее простое соображение. Об эмиграции в Израиль я никогда не думала, не чувствуя в себе внутреннего долга по отношению к этому государству. (Сегодня подобные суждения выглядят анахронизмом, но в 1970 году я размышляла именно в этих категориях.) В США у меня были коллеги и некоторое имя. Мне казалось, что это обеспечило бы мне возможность нормально работать. Но что там будет делать Юра, у которого имя и положение были только здесь? И в таком случае, что это будет за семья?
О зрелых и незрелых поступках
Тем временем семинар расширялся и процветал. В 1970 году должно было широко отмечаться столетие со дня рождения Ленина. В этой связи поощрялось всякое «перевыполнение» взятых на себя ранее обязательств. Под этим соусом я представила для печати сборник «Вероятностное прогнозирование в речи», составленный мною из работ участников семинара. Сама я кончила довольно большую книгу, включавшую материалы докторской диссертации. Обе книги благополучно вышли в «Науке» в 1971 году и были немедленно раскуплены.
Интенсивность жизни в семинаре была такова, что временами я забывала о тех жестких ограничениях, которые были связаны с моей болезнью. Я сидела на диете, которую при всей ее примитивности соблюдать можно было только обходясь без общепита. Вернее, единственный устраивающий меня общепит находился не ближе, чем эстонский город Выру. Даже мои командировки в Ленинград были возможны только потому, что там я жила у Лиды Бондарко. Больше я никуда не ездила и предложения выступить с лекциями вынуждена была отклонять.
Невозможность ездить отчасти объясняет и мою отстраненность от набиравшей силы семиотики. При этом с Ю. М. Лотманом и З. Г. Минц я познакомилась еще до «семиотического бума», а Бориса Гаспарова навещала в Тарту ежегодно, потому что бывала там проездом из Выру. Главное, однако, было в том, что я была погружена в свои задачи. Они пересекались с психологией, теорией измерений, с физиологией речи и психиатрией, включали в себя вопросы восприятия речи в норме и патологии. Это было ядро проблем, близких одновременно к естественным наукам и к «наукам о человеке», понимаемым скорее в западном духе.
Позднее я поняла, что в семиотике, взятой как некоторое научное движение, меня изначально не устраивало растворение любых задач в культурологии. И еще меня отталкивала изрядная доля празднословия и позы.
Об этом с присущей ему лаконичностью и умением «попасть в яблочко» однажды сказал Михаил Леонович Гаспаров. Было это почти через двадцать лет после описываемых здесь событий, на Круглом столе по языкознанию и филологии, который я проводила в журнале «Знание — сила». Я процитирую некоторые из его высказываний: «Были идеи. Были идеи Бахтина насчет карнавализации и полифонии, были идеи насчет мифологического подхода к литературе, были идеи насчет бинарных оппозиций и так далее. Но какова была судьба этих идей? Они или выродились в абсолютное празднословие — тут, по-моему, с обеими главными бахтинскими идеями эта катастрофа в руках преемников уже произошла, — или вышли за пределы литературоведения и иррадиировали в области более широкие… Я вспоминаю пару заседаний, посвященных проблемам истории всемирной литературы как таковой. Между этими заседаниями были двадцать лет, но оба были замечательны одним: Декарт и Рембрандт, Шартрский собор и подобные объекты упоминались там гораздо чаще, чем какие бы то ни было писательские имена».
И далее: «Филология и потом, в семидесятых годах, тоже что-то заменяла. Заменяла поэзию, заменяла философию… Заменяя «то-то», она переставала быть или, по крайней мере, не совершенствовалась в том, чтобы быть наукой. Это была не наука, это было искусство, а искусство отличается от науки тем, что в науке один и тот же опыт получается у любого, а в искусстве получается у талантливого и не получается у неталантливого» («Знание—сила», 1989, 6, с.23-24).
Так что мой семинар жил сам по себе, а семиотика — сама по себе. Это не мешало мне внимательно читать все, что выходило в Тарту, и приглашать к нам с докладом А. К. Жолковского, который для меня остался Аликом. В эти годы в Москве часто бывал мой давний знакомый из Софии Людмил Мавлов, известный в Болгарии невролог и специалист по афазиям. Около полугода он стажировался у А. Р. Лурия и был постоянным участником моего семинаpa. Он же привел на семинар тонкого нейропсихолога Елену Павловну Кок. Она работала в Институте Бурденко и была уникальным психодиагностом очаговых поражений мозга, что во времена, когда не было компьютерной томографии, было так же важно, как умение прослушать больного до открытия рентгена.
У Людмила Мавлова и Е. П. Кок я научилась многому из области патологии речи. Людмил очень звал меня в Болгарию, да и семья Енчо приглашала меня в гости как «наставника» сына. Но для поездки по частному приглашению (хотя с ним пускали только в «страны народной демократии») тоже нужна была характеристика! Теперь я не могу вспомнить, кто убедил меня попытаться ее получить весной 1973 года. Аргументы состояли в том, что бывали случаи, когда партбюро давало «кислую» характеристику, но ОВИР это не интересовало.
Меня вызвали на партбюро. Дальнейшее выглядело одновременно как продуманное издевательство и как театр абсурда, где актеры к тому же не выучили реплики. Вначале одна рыхлая дама потребовала подтвердить, что письмо в защиту Дувакина подписывать мне не следовало. При том, что Виктор Дмитриевич уже семь лет спокойно работал в Горьковке, я могла позволить себе вяло согласиться. Затем другая особа пыталась уточнить, каковы мои отношения с Мавловым и едет ли со мною муж. Длилось это довольно долго.
В результате мне вернули бланк ОВИР со всеми нужными подписями. Зато в графе «Характеристика» жирным шрифтом были впечатаны мои «прегрешения», перечисленные в деталях; «политически незрелый поступок, письмо в защиту Дувакина, который выступил в защиту Синявского и Даниэля, которые…».
Первая реакция моя была: «Допрыгалась!» Ведь эта формулировка могла отныне сопровождать меня хоть до могилы. Это уже было, так сказать, «дело».
Я поехала домой и сделала две вещи, помогающие мне в подобном состоянии: выпила кофе и залезла в ванну. Юра счел, что терять уже решительно нечего, и в приемный день мы отправились в отделение милиции, где тогда принимали документы для передачи в городской ОВИР. Мои бумаги взял некто майор Яковлев, которого я запомнила потому, что у него одного из всех чиновников ОВИР — а я потом перевидала многих — было нормальное человеческое выражение лица. Это был плотный и почти лысый немолодой человек, который, подняв на меня внимательный взгляд, спросил: «Так это вы совершили политически незрелый поступок?».
Майор Яковлев был, несомненно, профессионалом. Юра вспомнил, что мы забыли оставить ему открытку с моим адресом, пришел в милицию и сел дожидаться своей очереди. Яковлев вышел из кабинета и, заметив Юру, которого он до того видел мельком (мы были прописаны в разных квартирах и оформлялись поврозь), спросил, что он здесь делает. Юра объяснил. «А документы Ревекки Марковны давно ушли», — сказал Яковлев.
Почему-то мне кажется, что, прочитав мою анкету, он подумал: «Вот кретины!» А «там» могли вообще посмотреть только на наличие необходимых подписей. Так или иначе, через два с половиной месяца мы были в Софии.
Путешествие по Болгарии было и само по себе замечательным. Но значение этой поездки было еще и в другом. Я любила холмы и озера Ханьямаа — местности вокруг Выру в юго-восточной Эстонии, куда я ездила два раза в год. Но мне необходимо было убедиться в том, что я не так больна, чтобы вовсе не иметь выбора. Я все-таки вырвалась за черту, проложенную болезнью.
Вернувшись в Москву, я за три месяца написала другую докторскую диссертацию. Мне дали «чистую» характеристику и даже официальное письмо в Ленинградский университет, куда я вскоре отвезла работу. Там меня поставили на очередь. Мой черед наступил только в июне 1975 года.
Защита и нападение
Защита
В Ленинград мы поехали втроем: кроме Юры, со мной поехал мой ближайший сотрудник Саша Василевич. Нас приютила семья Смолянских, с которыми к тому времени нас связывала уже давняя дружба, продолжающаяся и сейчас.
Моими оппонентами были Л. Р. Зиндер, Л. В. Бондарко и Л. А. Чистович. Защита шла при полном зале, что меня удивило, поскольку я никого не приглашала и не думала, что в Ленинграде у меня найдется столько сочувствующих Атмосфера была вполне доброжелательная. В 1975 году как раз обсуждалась новая инструкция ВАК, согласно которой претендент на докторскую степень должен был быть лидером нового научного направления. Это было нереальное требование, но Л. Р. Зиндер в своем выступлении сказал, что в данном случае оно полностью соответствует действительности.
Выступали и те мои ленинградские коллеги, с которыми я ранее не была знакома лично.
Однако при общем положительном итоге четверо воздержались, а трое проголосовали против. Меня (и, кстати, Зиндера) это не удивило, поскольку тогда еще не было специализированных советов, и литературоведы, как можно было думать, сочли мою проблематику для себя непонятной. Когда огласили результаты голосования, моя давняя подруга, Валентина Люблинская, тогда — сотрудница Чистович, подошла ко мне и со своей неподражаемой южнорусской интонацией сказала: «Да жидоморы они, Рита!»
Потом мы вместе с моей подругой Таней Смолянской и ее отцом, покойным И. М. Смолянским, перешли мост через Неву и оказались в их коммуналке на Красной улице. Мария Марковна, мать Тани, ждала нас за накрытым столом.
Ночью я переживала не известное мне прежде чувство сильнейшего внутреннего подъема. В те годы я заново открывала для себя раннего Пастернака и всюду возила с собой том его стихов. Юра и Саша спали, а я читала «Марбург»:
И ночь отступает, фигуры сторонятся, Я белое утро в лицо узнаю.Той же ночью почему-то мне попалась почтовая открытка — бланк для игры в шахматы по переписке. Я решила отправить ее Толе Д. На свободной стороне я написала концовку из его стихов, написанных мне в 1969 году, в разгар моей болезни:
И опять, и опять, и опять — белые начинают — и выигрывают.Строки эти в контексте дальнейших событий, связанных с защитой докторской, оказались пророческими. С той поправкой, что «партия» была отложена на пять лет.
Прохождение докторской диссертации через ВАК — Высшую Аттестационную Комиссию — всегда было длительной процедурой. Все докторские направлялись так называемому «черному оппоненту», т. е. лицу, выбранному ВАК и для соискателя остававшегося анонимом. Поскольку я защищалась не только в чужом учреждении, но и в чужом городе, у меня не было никаких возможностей хотя бы ускорить отсылку бумаг в инстанции. Так что я настроилась на ожидание, которое вполне могло измеряться многими месяцами.
За год до защиты в 1974 году вышла моя книга, написанная частично в соавторстве уже с новыми «семинаристами». Она называлась «Прогноз в речевой деятельности». Книга имела успех. Я помню, как через несколько лет на Всесоюзной конференции по принятию решений в Пущино на мой вопрос, известны ли аудитории некоторые положения, там изложенные, почти весь зал поднял руки. В «Известиях Отделения литературы и языка АН СССР» (ОЛЯ) были напечатаны несколько моих работ общеметодологического характера. Я упоминаю об этом единственно с целью очертить тогдашний фон моей профессиональной жизни. Ничто не предвещало той цепи событий, о которых я хочу рассказать в этом разделе. И хотя жизнь моя к ним и тогда не сводилась, я сознательно оставляю все остальное за рамками повествования.
«Фрумкина против ВАК»
Первый раз я поинтересовалась положением дел с моей диссертацией через полтора года после защиты. Мне ответили, что отзыв «черного оппонента» был признан не вполне компетентным, и потому работа послана на отзыв повторно. Летом 1977 года, когда я была на даче, а Юра в городе, нам домой позвонил ученый секретарь ЛГУ — довольно крупное должностное лицо. По профессии он был, как я потом выяснила, юристом и никакого отношения к сути дела иметь не мог. Юре он сказал, что вокруг моей работы складывается отрицательное мнение, и потому лучшее, что он мне советовал бы сделать, — это снять диссертацию с рассмотрения.
Резон в таком совете был — если соискатель снимал работу сам, он мог ее же, без всяких переделок, подавать повторно. Но меня это решительно не могло касаться, и я отказалась. Этот звонок сыграл ту же роль, что стук палкой об пол, возвещавший в старинном театре начало спектакля. Все дальнейшее могло бы быть названо «Театром Кафки», если бы Кафка писал пьесы.
В сентябре того же года умерла мама. На другой день после похорон мне позвонил из ВАК человек по фамилии Парастаев. Сказал он мне следующее: «ЛГУ прислал нам фальшивые документы. На вашей защите не было кворума». И пригласил меня явиться в ВАК, назначив время визита на заведомо неприемные часы. Назавтра мы с Юрой поехали в ВАК.
Парастаев развернул передо мной папки и, показывая какой-то список, сказал, что в нем числится 46 человек, а на защите было 30, что не составляет двух третей. Тем самым голосование недействительно, и работа будет отклонена. Этого ему показалось мало, и он добавил: «Да и отзывы у вас плохие». После чего сделал то, что было абсолютно противозаконно, — вручил мне два отзыва. Пробежав их глазами (там было всего страниц пять), я увидела, что такие отзывы не могли быть приняты ВАК ни как положительные, ни как отрицательные. Оба рецензента, упомянув мои несомненные заслуги на ниве структурной, прикладной, а также математической лингвистики, удивлялись, почему я претендую на степень по общему языкознанию. Выходило, что, догадайся я поставить на титуле работы код другой специальности, они ничего не имели бы против.
То, как я себя повела дальше, сегодня мне представляется тем более удивительным, что, будучи всегда слаба в разговорах с чиновниками, я была подавлена смертью мамы и все происходившее воспринимала как не вполне реальные события. Я заметила, что не нахожу отзывы плохими. После чего я отодвинула через весь стол папки и сказала Парастаеву: «Я не буду смотреть эти бумаги. Ваш чиновник два года назад принял документы и расписался в том, что все в них соответствует инструкции. Был ли кворум или нет — это вообще не мое дело. Допустим, его не было — а куда же вы смотрели все это время?».
До этого момента Парастаев вел себя скорее корректно, хотя был известен как редкостный хам. Тут он мгновенно обрел свой нормальный стиль и, захлопнув папки, прорычал что-то вроде «Вы еще об этом пожалеете». Я вышла из кабинета в состоянии, близком к обмороку.
Скажу сразу, что большую часть дальнейших хлопот, встреч, тактических и стратегических решений взял на себя Юра. Я была просто не в силах ходить по инстанциям. Никакая аудитория, будь в зале хоть пятьсот человек, не вызывала у меня такого парализующего ужаса, как перспектива приема в очередном присутственном месте. Я боялась не чиновников. Я боялась обнаружить свою ненависть, тогда как нужно было прежде всего оставаться хладнокровной. Но еще страшнее было другое: свалиться с рецидивом болезни, поскольку главным провоцирующим ее фактором считался стресс.
У меня не было — и, кстати, до сих пор нет — даже догадки о том, что лежало в основе объявленной мне войны. А это была именно война, а вовсе не партия в шахматы. «Процесс» Кафки, впрочем, тоже отличная аналогия.
Я-то была уверена, что кворум был — это было последнее заседание Ученого Совета перед каникулами. Лев Рафаилович Зиндер сидел бледный и нервничал, пока все не собрались.
Что же за список показал мне Парастаев? Зачем он дал мне отзывы? А зачем мне еще летом звонил ученый секретарь ЛГУ? Лучшее объяснение в таких случаях — самое краткое не сумев найти среди «черных оппонентов» лиц достаточно черных, чтобы получить от них отрицательные отзывы, решено было изыскать иной путь. Запугать. Заставить самой забрать работу. По-видимому, на большую изощренность чиновники ВАК не были способны.
Вечером того же дня я позвонила в Ленинград Лиде Бондарко. Она выяснила, что Парастаев показал мне бумагу, вообще не имевшую отношения к голосованию! Он подсунул мне список рассылки автореферата диссертации. Сорок шестым в нем стоял недавно назначенный декан филфака, которого не успели ввести в Ученый Совет.
Итак, это был откровенный шантаж. Нам оставалось притвориться простодушными и объяснить Парастаеву, что произошло недоразумение. Я предполагала, что хоть он и был мерзавцем, но будучи схвачен за руку, должен был бы уняться. Здесь мы попали впросак. Не каждый хам — мерзавец, и не всякий мерзавец — злодей. Но именно Парастаев удачно сочетал все эти качества. На таких не слишком крупных и потому неуловимых функционерах и держалась власть. Власть ВАК — в частности.
Через полтора месяца из Ленинграда позвонила огорченная Лида. Работу вернули на филфак с сопроводительным письмом, из которого вытекало, что кворума не было. Декан упомянул об этом прискорбном факте на очередном заседании. Кого-то якобы вывели, но куда-то не вписали. Или, наоборот, не вычеркнули.
Вообще говоря, если бы это было правдой, то Ученый Совет обязан был вернуться к повторному, на этот раз формальному рассмотрению моей работы. Процедурные нарушения всегда и везде возможны. И это предусматривалось: инструкция ВАК все же защищала соискателя. Но ко мне это, увы, не относилось: прежний Ученый Совет филфака ЛГУ уже был расформирован, а новый не являлся его правопреемником. Однако даже в рамках кафкианской логики надо было рассмотреть юридический аспект происшедшего. Не только со мной и не только при защите диссертации мог произойти такой казус!
Мои друзья по возможности пытались помочь мне развязать этот узел. Сережа Чесноков, постоянный участник нашего семинара, с которым мы были в тесных дружеских отношениях, договорился со своим знакомым юристом. К нему они поехали вдвоем с Юрой. Позже мы узнали, что это был знаменитый Кисенишский — человек, выступавший защитником на нескольких политических процессах.
Кисенишский объяснил, что ВАК — это организация, на которую по закону просто некуда жаловаться. Однако в Прокуратуре Союза существует Отдел общего надзора. Туда можно обратиться, мотивируя свою жалобу тем, что я считаю ущемленными свои гражданские права. Это было логично — в конце концов, если бы, например, сгорела сберкасса, не я же должна доказывать, что у меня там есть вклад! И ученый не сам организует защиту диссертации, не следит за кворумом, не считает голоса и т. п. Урна с бюллетенями тоже может сгореть — покойный И. М. Смолянский рассказывал мне, как однажды кто-то нечаянно вместе с бюллетенем опустил в урну непотушенную папиросу.
А поскольку у меня в руках не было никакой официальной бумаги, дающей основания для ходатайства, Кисенишский посоветовал пойти законным «советским» путем: написать председателю ВАК Кириллову-Угрюмову, послать с уведомлением о вручении, он, натурально, не ответит, и тогда через месяц я могу жаловаться прокурору на то, что так вот поступают с письмами трудящихся.
Своеобразные, однако, были времена! Юра был членом КПСС с 1946 года и представлял себе, какие рычаги «там» обычно пускают в ход. Он позвонил декану ленинградского филфака и сказал, что тот, как член партии, будет нести ответственность за странные манипуляции с составом Ученого Совета и что Юра, в свою очередь, как член партии, это так не оставит. И это сработало! Декан, видимо, достаточно струсил, чтобы понять, что для него более безопасно ввести дело в легальные рамки. Я получила официальную бумагу за подписью Парастаева, где сообщалось, что диссертация возвращена по месту защиты «по причине отсутствия кворума».
С этим уже можно было идти непосредственно в Прокуратуру, не затрагивая вопрос о том, как обращаются с жалобами трудящихся. Попасть на прием в Прокуратуру Союза составляло отдельную задачу, ибо с частными лицами там, как правило, дела не имели. Когда я по заказанному заранее пропуску вошла в здание на Пушкинской, то была поражена любезностью гардеробщицы, охранявшей пустые вешалки.
Разговор мой с прокурором интересен тем, что из всех официальных лиц, с которыми мне пришлось сталкиваться в связи с моим «процессом», это был единственный человек, который вел себя адекватно обстоятельствам. Первый вопрос его был: «Скажите, у вас есть враги?» Я была несколько ошарашена и ответила, что враги, наверное, есть у всех, но своих я не знаю. А не предшествовали ли моей защите какие-либо конфликты и кляузы? Нет. А как мне работается? Все нормально. И тогда он сказал: «Дайте, пожалуйста, вашу жалобу». На что я честно ответила, что жалобу не принесла, потому что никогда их не писала.
Мне было велено написать жалобу и обязательно дать в ней сведения о себе. «Это для нас очень важно», — подчеркнул прокурор. Я потом долго думала, куда же в жалобу вставить перечисление моих «заслуг» перед человечеством — «Прогноз в речевой деятельности», книги, аспиранты, — это же принадлежало совсем другой жизни! Так и не нашла и приложила в виде отдельного листка. Жалобу я оставила в экспедиции и стала ждать.
Судя по развитию событий, прокурор не бездействовал. Парастаев прислал мне еще одно письмо с подробной официальной версией происшедшего. А именно: ЛГУ представил приказ Минвуза РСФСР от такого-то числа и года, согласно которому в Ученый Совет филфака ЛГУ входило 47 человек На моей защите было 30. Кворума не было, работа возвращена в ЛГУ. Конец.
Я известила об этом «моего» прокурора. Он велел писать выше, на имя прокурорского начальства. В этот момент я, признаться, потеряла надежду. Но все-таки жалобу выше написала. Оказалось, что, как говаривал Пунин, самое главное — не терять отчаяния. Из Прокуратуры пришел ответ, что моя жалоба переслана ученому секретарю ВАК. Под этим ответом стояла новая фамилия: «мой» прокурор попал под машину. Он, к счастью, остался жив, но дело мое перешло к другому. Кто-то из друзей мрачно пошутил, напомнив название недавно виденного всеми немецкого фильма «Розы для господина прокурора».
На дворе было уже лето 1978 года. Я была на даче, а у Юры была лекция на вечернем отделении. Явился на нее всего один студент. Оказалось, в этот вечер наши играли с чехами, так что все нормальные люди сидели у телевизоров. Юра ушел домой, лег на диван — и не мог отвлечься от мыслей все о том же.
И тут его осенило. Как будет видно из дальнейшего, это слово здесь самое уместное. Итак, до 1975 года ВАК был частью структуры союзного Министерства высшего образования. Соответственно любые приказы, касающиеся связанных с ВАК дел — в том числе Ученых Советов по присуждению ученых степеней, — должны были исходить от Минвуза СССР, а не от Минвуза Российской Федерации. Тогда чего мог касаться приказ Минвуза РСФСР, на который ссылался Парастаев? Выдумал он его, что ли? Не обязательно. Потому что на филфаке ЛГУ, как и в МАДИ, где работал Юра, да и в любом вузе, был еще один Ученый Совет — административный. У него были свои функции: административный Ученый Совет управлял текущей жизнью факультета. Вот его состав как раз утверждался не союзным Минвузом, а Минвузом РСФСР, поскольку ЛГУ именно ему и подчинялся. К защитам административный Совет не имел никакого отношения.
Но зачем тогда ссылка на Минвуз РСФСР в официальном ответе Парастаева? Было только два варианта ответа. Первый — описка, второй — подлог.
Так или иначе, список того Ученого Совета филфака ЛГУ, который голосовал на моей защите, не военная тайна, и в архиве ВАК, который раз в пять лет утверждал его состав, он, конечно, имелся. Парастаев, однако, в свое время заявил, что этого списка в архиве ВАК нет. И мы ему тогда поверили, поскольку к тому времени ВАК уже вышел из Минвуза СССР и стал самостоятельной структурой. (Поэтому и жаловаться на него мне стало некуда.)
Лежа на диване, Юра рассудил, что в этом случае единственно возможное место, где остались на хранении списки Ученых Советов, — это архив Министерства высшего образования СССР. С целью это выяснить Юра отправился на прием в юридический отдел союзного Минвуза. Там очень удивились и сказали, что все списки Ученых Советов, занятых утверждением ученых степеней, сосредоточены в архиве ВАК.
Итак, это была вовсе не описка. Парастаев с самого начала знал, на что шел. И декан филфака ЛГУ ему помог.
Наиболее независимой структурой в составе ВАК был юридический отдел, который был обязан вести прием граждан. Туда Юра и записался на прием. Сотрудник юротдела, некто Веретенников, сказал, что он дело Фрумкиной знает, поскольку моя жалоба в Прокуратуру лежит у него. Дальше он — как потом оказалось, вполне порядочный человек — произнес замечательную фразу, достойную скрижалей советской юриспруденции. «У меня есть по этому поводу свое мнение», — сказал Веретенников. И продолжил: «Но оно может не совпасть с мнением начальства».
Sapienti sat — сведущий поймет! Дело-то было не арбитражного характера, где всегда есть обстоятельства, дающие основания для интерпретаций. В официальном списке не может быть, «с одной стороны» 45 человек, а «с другой» — больше или меньше.
Тут Юра извлек ответ Парастаева и спросил, при чем здесь вообще ссылка на приказ Минвуза РСФСР, если это министерство никогда к делам ВАК не имело отношения?
Веретенников помолчал и заметил: «А вообще-то вы можете его здорово прищучить». Выходило, что, не зная о подлоге, Веретенников уже дал заключение в мою пользу, но теперь он усмотрел еще и подлог. Юра позвонил ему через месяц. «Вы давно должны были получить ответ», — сказал Веретенников. Ответа не было.
Нам предстоял переезд на новую квартиру. Я решила, что надо дать себе передышку хотя бы до осени.
Тем временем кто только ни пытался мне помочь! Самый интересный сюжет касается «Литературной газеты».
Кому сегодня придет в голову искать защиты в газете? Но то были совсем иные времена и нравы. До 1987 года возможности газеты как источника информации были более чем ограниченны — всякая информация проходила через цензуру. Вместе с тем письмо в газету и участие журналиста в каком-либо деле могли быть единственным оружием, а нередко — последней надеждой. Газета была мощным источникам влияния.
Олег Павлович Мороз, заведующий Отделом науки в «Литературке», вел в то время целенаправленную атаку против ВАК. В силу своей «неподсудности» ВАК был эффективным орудием расправы властей с учеными. Мало где так процветало «телефонное право». Один из наших знакомых привел к Морозу Юру, представив его как «ученого мужа и мужа ученой». Мороз заинтересовался, просил написать нечто вроде «сценария» событий и пригласил нас прийти вместе.
Выходя из дому в назначенный день, мы вынули из почтового ящика письмо со штампом ВАК. Это было официальное извещение о том, что диссертация передана на рассмотрение в Экспертный Совет ВАК по соответствующим наукам. Подписал это извещение начальник Парастаева. Получалось, что работа вернулась в ВАК на прежних правах, как если бы я защитила ее месяц назад! Но что это означало?
Мороз посмотрел на эту бумагу и скептически заметил: «А не думаете ли вы, что — не мытьем, так катаньем?» И как в воду смотрел. «Катанье» продолжалось еще два года. Но работу ВАК вынужден был утвердить.
В период этого «катанья» Мороз дал в «Литгазету» на полосу, посвященную конфликтам с ВАК, небольшую заметку о моем деле. Эту полосу в гранках он показал председателю ВАК Кириллову-Угрюмову, который, увидев мою фамилию, закричал: «Опять Фрумкина? Мы с этим давно разобрались!» Скандал, видимо, был немалый. По Москве ходили следующие стихи, посвященные борьбе Мороза с ВАК:
Мороз крепчал в раздумьях о науке. Ему за то «спасибо» скажут внуки. И только в ВАКе от его раздумий Кириллов становился все угрюмей.В следующий раз я встретила Олега Павловича лет через десять, на заседании «Московской трибуны» — политического клуба московской интеллигенции. Он спросил, как мои дела, на что я ответила, что работаю там же. Оба мы хорошо знали, сколь удивительно это было после всего случившегося.
Поражения и победы
Осенью 1978 года умер А. А. Реформатский. Еще в 1971-м он отказался от заведования Сектором и перешел на должность консультанта. Это было (пусть косвенно) началом конца нашего Сектора именно как группы единомышленников. Вне зависимости от того, чем каждый из нас занимался, мы были прежде всего «реформатские дети» (подробно об этом рассказано во второй части книги). Может быть, наш А. А. просто устал. А может быть, уже тогда начиналась его долгая и изнурительная болезнь. Так или иначе, мы с Игорем были просто убиты тем, что Реформатский решил нас покинуть, а еще более — тем, что он нам об этом не сказал заранее.
Директором Института языкознания была тогда В. Н. Ярцева. Для нее все мы были потенциальными мятежниками, от которых она рада была бы избавиться, но по возможности тихо. Внезапный (по крайней мере для нас) уход Реформатского оставлял Сектор беззащитным перед властью начальства.
Мы сами понимали, что внутри Сектора реального кандидата на должность заведующего не было. От некоторых «варягов», рекомендованных высокими инстанциями, нам удалось отбиться. И все-таки кончилось тем, что нами пришел заведовать некто Р. Г. Котов.
Р. Г. Котов для нас был прежде всего человеком «из органов». Описывать неизбежную реакцию взаимного отторжения кажется мне малоинтересным. Для духа эпохи показательно, однако, что Сектором с тем же названием (но с другими сотрудниками) Котов заведовал еще много лет и ушел с заведования по возрасту.
Первой — по сигналу из райкома партии — уволили Лиду Иорданскую, жену Игоря. Лида была в Институте русского языка на одном из самых позорных разгромных заседаний. Тогда Ученый Совет проголосовал за увольнение Л. Н. Булатовой как «подписантки». Л. Н. Булатова была в расцвете сил и считалась одной из самых сильных русистов среднего поколения. После заседания Лида подошла к тогдашнему секретарю партбюро, Л. И. Скворцову, в прошлом — ее однокурснику, и сказала, что она о нем думает. Скворцов тут же позвонил в райком.
Когда Лиду вызвали на наше партбюро, то она сказала: «Это вам не тридцать седьмой год». Котов откликнулся фразой наподобие «Вам это даром не пройдет». Лида была права: это был уже не тридцать седьмой, и потому ее всего лишь уволили. Для этого Ярцева, не задумываясь, аннулировала только что подписанный ею же протокол о Лидином недавнем переизбрании по конкурсу.
Через несколько недель Игорь зазвал меня в какой-то темный угол институтского флигеля и сказал: «Послушай, давай уедем. Все вместе». «Что значит “вместе”? — возразила я. — Это ведь не поход». Далее я передаю наш довольно сумбурный разговор лишь в общем виде.
Игорь говорил о том, что ему никогда не дадут защитить докторскую, что положение безвыходное, что его здесь удерживают только некоторые личные обстоятельства, но увольнение Лиды — это первая ступенька к принятию им окончательного решения. Однако хотел бы он уехать вместе с Юрой, Аликом, со мною. Ю. Д. Апресян, тоже уволенный из Института русского языка, тогда работал в своеобразной организации «Информэлектро». (Именно там он создал свой знаменитый семинар, который продолжает собираться и по сей день.) С Ю. Д. Апресяном и А. К. Жолковским Игоря давно связывало теснейшее научное сотрудничество. Нас же объединяло только общее прошлое. Для меня это было очень много, для Игоря — едва ли. Сделанное мне «предложение» было эмоциональным порывом — Игорь был на грани нервного срыва, а мне можно было довериться.
История выступления Игоря в защиту Сахарова и последовавшего за этим увольнения его из института — это особая глава в жизни многих людей. Значимые события, этой истории сопутствовавшие, затрагивают других лиц или их память. Это лишает меня права на подробное повествование. К тому же И. А. Мельчук давно уже живет в Канаде, А. К. Жолковский — в США, а Ю. Д. Апресян в перестроечные времена стал академиком РАН.
Вернусь к фактам моей жизни.
Вскоре после увольнения Игоря меня и Сашу Василевича, даже не уведомив, перевели в другой сектор — в Сектор психолингвистики. Ярцевой же скандал с Мельчуком стоил директорского места. Новым директором стал Георгий Владимирович Степанов.
На моей памяти после Борковского это был единственный наш директор, который выглядел человеком на своем месте. Внешность его была европейская — высокий, статный, худощавый, безупречно одетый и столь же безупречный в манере себя держать. Я познакомилась с ним, как только он появился в нашем институте в Секторе романских языков. Степанов был испанистом и еще в довоенные времена учился в ЛГУ вместе с Э. И. Левинтовой, у которой я в МГУ занималась испанским. Он воевал в Испании, был ранен в руку (эта рана всегда его мучила), сидел в тюрьме в Испании, потом — в СССР.
К нам Степанова перевели из Ленинграда с явной целью вознести в дальнейшем на академическую верхушку. Позже, оставаясь нашим директором, он стал академиком-секретарем Отделения литературы и языка Академии наук. Г. В. Степанов не был масштабным ученым. Но он был интеллигентным и культурным человеком, проницательным и наделенным хорошим научным вкусом. Он полностью разделил судьбу своего поколения — видел тюрьму, войну и лагерь. Зачем ему была нужна такая ноша, как директорство в нашем институте, и тем более должность академика-секретаря, я никогда не могла понять.
В моей эпопее с защитой докторской Г. В. Степанов принимал живейшее участие, даже ездил специально в ВАК, но ничего не добился. Именно он позвонил мне в 1980 году домой, чтобы сказать, что работу утвердили. В 1986 году Г. В. Степанов умер от рака — сгорел за какие-то два месяца.
Когда умер Реформатский, Степанов был в отъезде. И тут оказалось, что на гражданской панихиде никто не готов выступить. Я не была уверена, что мне дадут слово, но передала Елисееву — тому самому, при жизни которого я не смела надеяться на докторскую степень, что буду говорить любой ценой. Неожиданно мне дали слово первой.
По-видимому, я сказала именно то, что хотели услышать близкие и ученики Реформатского. А именно: что он был последний, но «нас» стало не меньше, а больше. Это происходило в разгар отъездов. Меня поняли. После панихиды ко мне подходили люди, благодарили. Так я познакомилась с В. Я. Лакшиным и Ю. Ф. Карякиным. Уже на улице подошла немолодая дама, которая представилась: «Я дочь Дмитрия Николаевича Ушакова». Но вот какое письмо я получила от одного из близких друзей А. А., который знал о том, что произошло с моей докторской диссертацией, да и меня знал много лет:
«Дорогая Рита!
Вы очень хорошо вчера говорили у гроба А. А. Реформатского. Но Вы так плохо выглядите! Бросьте все это, пожалейте себя и Юру!..»
Я ответила резко, пренебрегая возрастом и положением адресата. Но и перед читателем может встать тот же вопрос: а стоила ли игра свеч? Неужели не прожить мне было без такой побрякушки, как докторская степень?
Рациональный ответ был бы таков: жизнь в науке (впрочем, как и в спорте или в искусстве) предполагает соблюдение определенных правил. Шахматист должен участвовать в турнирах, актер — выходить на сцену, художник — выставлять свои картины. Ученый должен не только работать за своим столом, но и печататься, защищать диссертации и т. п. Но в моем случае это лишь часть правды. И не главная.
Главное было в ином. Я была готова утонуть в море: например, если бы кто-то доказал, что я не права по существу. Но конфликт вокруг моей диссертации вообще не касался содержания работы — о нем нигде не упоминалось. Покорно согласиться с интригами Парастаева означало — дать утопить себя не в море, а в унитазе. Если я хотела жить в России — а я хотела именно этого, — то приходилось идти до конца.
Потом в течение многих лет меня спрашивали: «Это правда, что вы подали в суд на ВАК?» До сих пор мой случай остался единственным прецедентом посрамления ВАК с помощью Прокуратуры.
Это была наша общая победа. Все участники моих семинаров разных лет, которые в тот момент были в Москве, собрались у нас в сентябре 1980 года. Сережа Чесноков пришел с гитарой и, как много лет назад, пел песни Окуджавы и Галича.
Оглядываясь назад – 2
Праздничным сбором семинара в сентябре 1980-го кончается мое повествование. И еще раз я оглядываюсь назад, на этот раз — из сентября 1995 года. Сколько лет прошло с тех пор?
Я бы сказала — семь, плюс еще неизвестно сколько, потому что после 1987 года время пошло вскачь. Как сказал Блок, мы услышали «шум переворачиваемых страниц истории».
В разговорах о недавнем прошлом люди, которым к 1987 году было хотя бы тридцать, склонны упоминать те или иные события как случившиеся «до перестройки» (до 1987-го), «до путча» (до 1991 года) и еще до «всего этого» (до 1992-го — т. е до перемен, связанных с повышением цен).
До перестройки нельзя было ездить за границу. До путча 1991-го у нас было партбюро и нечего было есть. До «всего этого» в научно-исследовательских институтах платили зарплату, а в технические вузы поступали по конкурсу. Но при всей общности судьбы, каждый из нас переживает «роковые минуты» истории в одиночестве, замкнутый в свою оболочку. У каждого, тем самым, свои отношения с историческим временем.
Мемуары — способ осмыслить эти отношения, причем — задним числом. Относительно синхронно «роковые минуты» описываются и осмысляются в других жанрах повествований от первого лица — в дневниках и частной переписке. Дневников я не вела, но писем писала много. Особое место в моей жизни переписка стала занимать тогда, когда несколько самых близких моих друзей эмигрировали.
Ниже приводятся письма, адресованные моему другу Андрею, уехавшему в США «после перестройки». Они охватывают почти полтора года — с января 1991-го по май 1992-го. Письма сокращены за счет подробностей, касающихся частной жизни адресата.
Другая жизнь
10 января 1991
Дорогой Андрей,
вот уже второй раз у рождественской елки мы пьем за то, чтобы Вам повезло. Посылаю поздравление, исполненное Марком в какой-то новой технике, где все мы подписались.
Как я поняла из только что полученного от Вас письма, по крайней мере на год работой Вы обеспечены.
Да, на компьютере писать удобнее, и все-таки: сделайте милость, не пишите мне по-английски! За многие годы нашей дружбы я так привыкла к Вашим рукописным текстам со всеми милыми мне особенностями стиля и даже почерка. В английском варианте все, что могли бы сказать мне только Вы, превращается в еще одно письмо, открывающееся строкой «Dear Rita», — но такие тексты я получаю от коллег и добрых знакомых со всего света. И без того «расстояния, версты, мили нас расставили, рассадили», — впрочем, я не очень люблю стихи Цветаевой, предпочитаю ее прозу.
Прошли гранки моей новой книги — получилось неплохо, хотя сейчас я многое сделала бы по-иному.
Тут был один небольшой, но весьма представительный симпозиум, куда я вывезла отличную команду. Западные граждане, напротив, были безлики. Более того, за подобный уровень докладов мои «семинаристы» их бы просто заклевали. Что еще раз подтвердило мои австралийские и немецкие впечатления: по части гуманитарной науки мы можем дать им фору.
Жизни нашей они напрочь не понимают. Я так и не смогла объяснить, что у нас нет общественного мнения в их смысле, потому что у нас нет гражданского общества. И что для демократии нужен демос, а не охлос.
Что касается образа иммигранта, в который Вы, по Вашим словам, не вписались, то я думаю, что меня ждало бы то же самое. Впрочем, я здесь тоже куда-то не вписываюсь — правда, я так и не поняла куда именно. Шрейдер сказал лет 20 назад, что у меня высокая «кланообразующая» способность. Он имел в виду, что я сама создавала ту среду, которая мне нужна: научно-дружескую. Немецкая аспирантка, которая сейчас регулярно бывает у меня дома на семинаре, каждый раз восклицает: «О, у Вас атмосфера!».
Пожертвуйте ради меня благами западной цивилизации и пишите от руки, пока не обзаведетесь кириллицей!
29 марта 1991
Дорогой Андрей,
обычно я не пишу Вам о политике: это Вы можете увидеть по CNN и прочитать в газетах. Сейчас я, тем не менее, ни о чем другом не могу думать.
С середины января — начиная с событий в Вильнюсе — мы живем, не выключая радио, чего со времен конца войны со мною не случалось. В Москве появилась новая и ни на кого не похожая независимая радиостанция «Эхо Москвы». Что такое «независимая» — мы еще увидим, но уже непонятно, как мы без нее до сих пор обходились. (Я вообще никогда радио не слушала: «голоса» слушал Юра и звал меня, только если было что-то важное.)
Через неделю после событий в Вильнюсе начали стрелять в Риге. «Эхо» передало, что погиб кто-то из операторов группы Подниекса. Я успела подумать, что вот хорошо, что Андрис, зять Кати Дюшен, всегда был поглощен фольклорными фильмами — снимал то шаманов в тундре, то еще кого-то в тайге. И тут звонит Катя и говорит каким-то слишком ровным голосом: «Ну, что у вас слышно?». Я спрашиваю: «Вы Наташе звонили?». «Да, — отвечает Катя тем же ровным голосом, — мы звонили, и нам звонили. Андрис убит».
Понимаете, Карабах — это было все-таки из категории событий, «которые случаются с другими людьми». Но представить себе, что одна из «девочек Дюшен» овдовела, потому что Андрис снимал убийство безоружных..! Это все равно, как если бы стреляли у нас во дворе.
Это не все. На 28 марта был назначен общемосковский митинг, который был официально запрещен. 28-е — это четверг, присутственный день в институте. Как всегда, в 11 утра я вышла из метро у Ленинки — и остолбенела. Сплошные танки и еще БТРы, которые я близко видела только на страшной пленке, показанной Шенгелая на «Московской трибуне» после тбилисской бойни. И еще какие-то не понятные мне огромные машины с кузовом, закрытым брезентом (потом оказалось, что это водометы). Военных — не протолкнуться. Причем в экипировке, которой я сроду не видела: в белых шлемах с белыми щитами; в черном с дубинками; в обычной форме защитного цвета. И еще много чинов, сверкающих погонами.
Вхожу в наше основное здание — и внутри военные. Прохожу в соседний дворик, где у нас с ребятами каморка на первом этаже, здороваюсь с вахтершей. Вид у нее потерянный. Иду к себе ждать аспиранта М., которому в этот день надо было подписать какие-то бумаги.
Надо сказать, что на душе у меня всю неделю было неспокойно, начиная с субботы 23-го, когда на заседании «Московской трибуны» никто из руководства не пожелал прислушаться к сообщениям о разворачивании коек в специализированных отделениях «Скорой помощи». Главное же — не было высказано никакой позиции: следует ли выходить на запрещенный митинг всем желающим или, может быть, людям постарше лучше остаться дома. (Это вопрос нешуточный, — впрочем, Вы, наверное, не знаете, что в Москве на митингах преобладают люди старше тридцати.)
Итак, сижу. Молодежь моя в основном здании занята другими делами. Наконец приходит мой аспирант. Он-то и объясняет мне, что за войска и какая именно техника стоит у нашего подъезда (он служил в армии). Когда мы с ним выходим из института, до начала митинга остается около часа. Чтобы попасть домой, мне надо идти к входу в метро «Арбатская», но пройти мы не можем, потому что, хотя движение перекрыто и людей как мы почти нет, все пространство буквально забито войсками. Солдат в шлеме ничего не слышит и, поворачиваясь, едва не сбивает с меня очки пластиковым щитом. М., прошедший стройбат (!), тем не менее, не понимает, что делать: он не москвич и в таких ситуациях не бывал. Я же вспоминаю «оцепления» разных лет и довольно быстро нахожу ближайшего человека в фуражке и со звездами на погонах. Он объясняет, как нам двигаться дальше…
Вечером я позвонила А., который, конечно, был на митинге с начала до конца. На улицу вышло около полумиллиона человек. Пока обошлось. К моему замечанию, что это наш последний мирный митинг, он отнесся иронично, как и положено в его годы.
16 апреля 1991
Дорогой Андрей,
ну, слава Богу, что Вы теперь можете выписать к себе семейство. Что касается почты — не взыщите! Письмо от нашего друга Марка, который теперь живет в районе Переделкина, шло на Ленинградский проспект две недели, а письмо из Сиднея — всего 12 дней.
Вокруг уезжают и уезжают. Или решают. Или не решаются. Эта тема ломает все ритмы, превращая обычную жизнь в ситуацию ожидания пересадки на поезд, который надо не пропустить, при том, что время его прибытия неизвестно.
Если учесть, как тесно в Москве связаны между собой люди определенного круга, это создает какую-то призрачность.
Собственно, неопределенность — это и есть главная особенность нового стиля жизни.
Я ненавижу усиленно тиражируемый миф о том, что социализм сделал наших людей вялыми и не способными на инициативу, ибо они якобы привыкли надеяться на государство. Это не надежда, а полная зависимость, напоминающая состояние рядовых солдат посреди театра военных действий: прикажут — будет атака; прикажут — отступление. Можно ли сказать, что солдат надеется на генералов?
Эта зависимость пока лишь возрастает. Захотят закрыть Академию наук — закроют, захотят не выпускать за границу брюнетов — не выпустят; захотят, чтобы любая дрянная бумажка заверялась нотариусом, а не домоуправлением, — будем записываться к нотариусам за неделю и стоять часами в любую погоду во дворе конторы. Перемены идут потоком, и все дезориентированы: например, говорят, что квартиру можно будет выкупить в собственность, а можно и арендовать, но за огромные деньги. Когда, за сколько, на каких условиях?
Можно возразить, что все это мелочи по сравнению с тем, что в Ереване — непрерывные похороны, а в Москве — нищие беженцы. Но я все же думаю, что трезвость и отупение — это разные вещи. Попробуйте не обращать внимания на то, что нет спичек, почтовых марок и конвертов, не говоря уже о писчей бумаге. Я всю жизнь писала на оборотках, но огниво — это все-таки уже из Андерсена. Пока что.
Еще сюжет: вдруг без всяких усилий с моей стороны дали мне звание профессора. Все тот же ВАК, который в 70-е украл у меня несколько лет жизни! При мысли о том, что надо туда ехать, вставал передо мной весь этот кошмар с аннулированием моей докторской. Весьма «кстати» обвалилась у нас с потолка штукатурка, так что за дипломом вынужден был отправиться Юра, а я (которая профессор) осталась мыть полы. Не соскучишься!
Моя коллега из Новосибирска жалуется, что для экспериментов невозможно найти контрольную группу здоровых людей: рабочие завода, которых она обследует, как на подбор — тяжелые невротики. Да, кризисный период ломает людей, это не ново, но когда ломаются близкие люди, кого это может утешить?
Издали «Письма к Милене» Кафки. Вот кто был изначально душевно надломлен! В каждом письме он говорит о своем глубинном страхе — нет, это решительно не то, что сейчас можно читать. Утешаюсь «Записками блокадного человека» Л. Гинзбург.
Прошел первый весенний дождь. Из нашего окна пахнет тополями. Еще поживем… Вопрос, что при этом увидим.
10 августа 1991
Дорогой Андрей,
отвечаю на то письмо, где Вы рассказываете, как Ваши студенты торгуются по поводу оценок. Грустно…
В России выбрали президента, неурожай, жестокая инфляция, которая, по-видимому, только начинается.
За ветчиной по 20 р. кило — в Москве без карточек, но не более 500 г «на рыло» — стоит огромная очередь. Повышение цен привело к всеобщему озлоблению, но вовсе не к насыщению рынка. Моя «профессорская» зарплата — 600 рублей, а обычная простыня стоит 42 рубля.
Настоящие деньги — это водка. Ее дают по талонам, но уж в этих очередях никто из нас не в силах стоять. Юре, как и всем диабетикам, в спецзаказах дают подсолнечное масло и гречневую крупу, а следовало бы давать хоть какие-нибудь белки. Хлеб пока есть, сахар — рационирован и время от времени «отоваривается» (могла ли я думать, что выплывет и станет чуть ли не главным это мерзкое слово из моего военного детства?).
Я получила очень трогательную продуктовую посылку из Сиднея: три женщины, преподавательницы из «нашего» университета, собрали ее вскладчину. Одна из них училась когда-то в Ленинграде в Ин-те Лесгафта, а до того — в США, у того самого профессора Тварога, от которого я получила первое в своей жизни приглашение приехать на Запад с лекциями.
Юра сегодня стоит в очереди за моим авиабилетом до Женевы: через 35 лет работы в Институте меня впервые удостоили служебного загранпаспорта… Никакого желания ехать. Но доклад уже объявлен, да я еще где-то там председательствую.
Пишу с дачи. Кругом все те же сосны; заросшая малиной «щель» (тогда так называли окопчик), которую мы выкопали в июле 1941, после первых воздушных тревог. Необыкновенно цвели посаженные отцом уже после войны липы — как в старой барской усадьбе. Раньше все, кто здесь бывал, умилялись. Теперь удивляются, почему я не развожу на своем участке овощи и картошку. Мои молодые друзья полагают, что я не то позирую, не то ленюсь. Что ж, их можно понять: откуда им знать, что под строевыми соснами картошка пойдет в ботву? Они не голодали ни в 1942, ни в 1946 году.
Еще одна иллюстрация всеобщего развала: Институт не может платить увеличившуюся в 20 раз аренду за помещение, и весь этаж выселяют в никуда. Вчера ребята сняли со стен нашей каморки фотографии Сахарова, Лихачева и фотопортрет А. А. Реформатского, сделанный мною когда-то в день его 60-летия. [Позднейшее примечание авт. Этот портрет висит теперь в Монреале, в кабинете Игоря Мельчука, самого блестящего из учеников А. А.]
Тут меня спросили, чего я сейчас более всего боюсь. Ожидался ответ типа «боюсь погрома». Нет, мои страхи куда более примитивны: я боюсь умереть от царапины, как Базаров. Нет ни йода, ни зеленки, ни марганцовки.
Читаю Ахматову. Почему-то ее мироощущение сейчас мне много ближе, чем когда-либо. Жду писем.
7 сентября 1991
Дорогой Андрей,
отвечаю на письмо, где Вы описываете «художества» Антона по части вождения машины без прав. Да, пишите и дальше именно о всяких бытовых подробностях.
Теперь о нас. Очень трудно написать спокойное письмо. Вообще невозможно на чем-либо сосредоточиться. Путч застал меня во Фрибуре, во Французской Швейцарии. («Нашла время и место!») Узнала за полчаса до своего доклада, за завтраком. Американец, задававший мне после доклада довольно острые вопросы, вечером пришел извиняться — он ничего не знал. Очень было страшно видеть по ТВ танки около нашего дома у метро «Сокол». Для Юры утро 19 августа началось звонком моего приятеля, который сказал, что хочет на время проститься. (Потом выяснилось, что он ушел делать подпольную «Общую газету».) Так что все было — серьезнее некуда. Здесь это поняли. Мой давний знакомый, немолодой немец, юношей переживший в Берлине «Хрустальную ночь», вообще на конференции не появился: как узнал утром 19-го, так и просидел почти два дня у себя в номере гостиницы, не отрываясь от экрана. А я была в таком шоке, что не задумалась о том, что в случае удачи путча и мне мое участие в независимой прессе даром бы не прошло, — только лихорадочно перебирала возможности вернуться, если не будет самолетов в Москву (даже позвонила друзьям в Швецию).
А. провел большую часть времени на баррикадах. Вот тебе и робкий мальчик!
Вчера здесь «плясали карманьолу». Думаю, рано плясали. Теперь-то все и начинается — это действительно революция. От ТВ невозможно отойти, все бросили дачи. Никто не работает.
В церкви Большого Вознесения (ее открыли уже после Вашего отъезда) была панихида по Цветаевой. Я не люблю нашу новоправославную толпу, так что я поехала позже и поставила две свечки: одну — «за упокой болярины Марины», другую — во здравие отечества. Из чего Вы можете заключить, какое у меня настроение.
Чисто по-человечески жаль Горбачева, преданного всеми, включая личного охранника. Ельцин успел понаделать ненужные заявления — сгоряча. Что нас ждет? Вы знаете, что я не склонна к панике, но думаю, что, во-первых, голод. Талоны на сахар не отовариваются уже три месяца. Во-вторых, революционность масс — и это не слова из учебника. Хорошо бы нашу дачу не сожгли — у каждого свое «Шахматово».
Пишите!
12 октября 1991
Дорогой Андрей,
получила Ваше первое письмо из Техаса. Как Вы устроились? Пошли ли дети в школу? Что там за климат — это вроде бы Юг?
О нас писать все сложнее. Да, это несомненно революция, но жизнь идет под откос — по крайней мере мой образ жизни. Нет, мы не голодаем, но слишком много сил уходит на то, чтобы заработать хоть что-то.
Все более остро чувствую, как распадается привычный круг друзей и даже знакомых. Самоценность «другого» мира увеличивается по мере ухудшения повседневной жизни здесь: раньше ехали якобы ради детей, теперь — чтобы выжить в перспективе «мора и глада». Дети уезжают уже сами по себе, после чего начинают собираться и родители. В моем окружении почти не осталось людей, которые осознанно желают жить у себя дома — на Руси. Точнее, в Москве — это ведь отдельная страна.
Возникающее одиночество — это не то, что порождается экзистенциальными мотивами. Вообще говоря, для чувства потерянности или непонятости всегда есть причины, но мы умеем их не замечать. Нет, здесь другое мы ведь избалованы возможностями говорить друг с другом о подлинно важном и находить отклик — а вот с этим стало плохо. Резко поменялись ценности — у многих.
Нынешняя религиозность — это, по-моему, попытка прикрыть вакуум духа и души. Равно как и обожествление наших великих поэтов без размышлений о сути их жизни и служения.
Служение возможно и сейчас, да желающих особо не видно. Боюсь, что фундаментальная наука может просто развалиться: не те в ней сейчас люди, которые в ленинградскую блокаду могли писать лекции по истории античности. Знаменитую коллекцию сортовых пшениц Вавилова сейчас бы втихую сторговали за доллары, не дожидаясь того голода, при котором искушение съесть эти драгоценные зерна естественно.
Я ожидала катастрофы с осени 1990 года, когда из московских магазинов стали исчезать спички и соль. Она мне представлялась преимущественно в виде экономической разрухи. Тем не менее семинар наш по-прежнему завершался чаепитием и общим разговором. Впрочем, наш чайный стол постепенно оскудевал, и я периодически вспоминала прочитанный мной еще в самиздате рассказ Бердяева о заседаниях Вольной Духовной Академии, где его жена подавала участникам морковный чай в чашках лиможского фарфора. Большинство участников семинара по молодости лет едва ли видели лиможский фарфор вне музейной витрины, зато книги Бердяева им вполне доступны. У меня фарфор дулевский, но зато чай был пока что настоящий. Пересказывая эту историю, я однажды выразила надежду, что так далеко дело не зайдет.
Дело зашло много дальше. От своего «большого» домашнего семинара я решила в этом году отказаться: семинар надо успеть закрыть самой, не дожидаясь того момента, когда он превратится в салон. А прежний уровень недостижим без прежних участников.
Зато продолжают приходить студенты — вечером, после всех лекций. Да, Вы ведь не знаете, откуда они взялись.
Меня пригласили на празднование юбилея «нашего» знаменитого (в прошлом) ОСИПЛа — Отделения структурной и прикладной лингвистики на филфаке МГУ. Там после торжественной части подошли ко мне две девочки. «Мы вас так давно разыскиваем — хотим послушать ваши лекции. Где вы читаете?» Отвечаю, что сейчас нигде не преподаю, но если они хотят со мной поговорить, пусть приходят домой.
В условленный вечер — звонок в дверь. Открывать пошел Юра, который тут же позвал меня: «Иди, там толпа!» Действительно, на площадке стояло человек десять. Потом оказалось, что пришла не только целая группа, но кое-кто привел своих бывших одноклассников по известной Вам 57-й школе. Если мы не сохраним себя, то не сохраним и эту молодежь.
Вас ужасно не хватает. Дала ребятам читать Ваши старые работы.
4 ноября 1991
Дорогой Андрей,
нахожусь в раздумье: писать правду — значит говорить о том, что в моих письмах иностранным адресатам я объединяю под рубрикой «наши советские ужасы». Не писать о них — значит делать вид. Зачем Вам тогда мои письма?
Наша жизнь становится все более похожей на ту, о которой я сейчас читаю в дневниках Чуковского за 20-е годы. На улице мороз, но у нас не топят. Перебои с хлебом, потому что едят его много больше. Юра как участник обороны Москвы получил какие-то льготы, но они не избавляют его от стояния в очередях на морозе. Для меня сама мысль об этих льготах мучительна: как подумаю, что они получены за то, что безоружные десятиклассники рыли окопы под Вязьмой. (Кстати, рассказывала ли я Вам, что Юра был там с Женей, сыном Пастернака, и Витей, сыном Авербаха и внуком Бонч-Бруевича? Замечательная компания!)
Чувство братства и победы (получили ли Вы посланное мной потрясающее фото Сварцевича из «Литературки»?) — это всегда вспышка, а Гаврошу место — только на баррикадах и нигде более. Мое же место, надо думать, за письменным столом. Ну, если голова не пуста, то и кухонный сойдет: там теплее. Неужели после всего, что я видела, я дам себя так примитивно согнуть?
А вот что семинар я закрыла — это было правильно. Судите сами: В. — на семестр в Париже, A. З. — на год в Бордо, К. — в Италии, М. — в Гамбурге, Г. тоже на семестр где-то в Новой Англии, К. П. — в Финляндии. Остальные зарабатывают, чем могут.
Сборник, который я с 1982 года регулярно — и фактически бесцензурно — издавала, печатая там всю перечисленную выше команду (да и Вас, милый друг!), теперь, увы, не издашь: не те цены на бумагу и типографию. Вот с этим действительно трудно смириться. До сих пор получаю запросы из библиотек разных стран с просьбой выслать. Самое любопытное — как они об этом издании узнают: тираж 400 экземпляров не давал основания для включения в списки, публикуемые «Книжным обозрением». Т. е. по прежним меркам такой тираж — эквивалент знаменитой строки Галича «“Эрика”» берет четыре копии». А запросы я получала даже из города Лейдена!
Мою недавнюю книгу желает опубликовать в переводе одно американское издательство. В Москве тоже есть предложения кое-что написать, и это для меня много важнее: американцы, как я убедилась, читают друг друга или не читают вовсе.
И все же обратный ход история иметь не может. Теперь ясно, что рейхстаг уже сгорел.
26 декабря 1991
Дорогой Андрей,
огромное спасибо за альбом Бердслея — надо же, он пришел аккурат в сочельник! Вчера мы выпили уже не только за Вас, но еще и за Вадима, а также за всех, кого мы любим и кто далеко…
Все явились «во фраках»; я, несмотря на холод, облачилась в известное Вам вечернее платье. Юра каким-то чудом купил отличную елку, под которую сложили подарки. Саша Полторацкий на правах самого давнего моего друга подарил мне две банки яблочного повидла и коробку от геркулеса, наполненную вермишелью. Шрейдера облагодетельствовали какие-то чужеземные коллеги, поэтому он притащил немецкий клубничный джем и плитку шоколада. Что касается Марка, то он, как художник, зависит лишь от вдохновения. Оно его, несомненно, посетило, потому что я получила в подарок замечательную работу «Рождество», которую сегодня повесила. Кроме того, мне подарили книгу, о которой я мечтала и которую так безуспешно искала для Вас, — «Человек за письменным столом» Лидии Гинзбург. А я — такое везение! — купила в подарок Юре собрание сочинений Трифонова: не иначе, как кто-то из писательского дома принес в соседний букинистический, потому что я этого издания даже и не видела никогда.
Будущее Академии не более ясно, чем будущее СНГ. Роднит их пока то, что у обоих монстров нет бюджета. После большого перерыва наконец открылась Ленинка. Между прочим, из читальных залов — включая профессорский — раскрали все лампочки. А. специально пришел в справочный зал днем — и вернулся домой: там даже верхнюю люстру слегка «раздели». Более важно, вероятно, написать о том, что практически ликвидировали спецхран — так что желающие могут читать хоть Троцкого, хоть Бухарина. Но мне почему-то не хочется.
Вообще читаю по-прежнему много, но я неожиданно заметила, что почти не открываю стихи и совсем не слушаю дома музыку. А ведь всю жизнь, с утра садясь за стол, я включала проигрыватель. Даже в самые тяжелые времена.
Еще раз спасибо за Бердслея! Пишите!
P. S. Подумать только, что перестройка длится уже дольше войны, если даже считать с 1987 года!
3 февраля 1992
Дорогой Андрей,
спасибо за письмо, где Вы комментируете мою статью. В основе ее доклад, сделанный несколько лет назад, когда публичный разговор о том, что наша идеология сделала с такой не самой идеологизированной наукой, как языкознание, был очень важен. Сейчас впервые у меня возникает проблема адресата — я вне научной моды и вне политического трепа. Впрочем, когда пишешь, об этом не думаешь, так что я упрямо продолжаю переводить на английский свою — точнее, нашу с А. книгу. Добрую половину мы сделали заново, потому что внутренне многое уже как-то отжило, да и читатель в Америке другой.
Диссиденты, пересев в руководящие кресла, остались собой к плане неорганизованности и необязательности. А поскольку мой работодатель — из этого круга, то хоть платит он мне за мою квалификацию, большая нагрузка превращается в бессмысленную нервотрепку. Зато у него кабинет на Старой площади и машина с водителем. При том, что мало кто вокруг остался собой, внезапно возвысившиеся — это вовсе особь статья.
Если и в прочих тамошних кабинетах дела обстоят сходным образом, я нам не завидую. Не моей группе из 10 человек, а всем нам вообще.
И вот как-то так складывается, что некоторое время работаешь, пока не свалишься, и вроде бы забываешься, а как выйдешь на улицу, чувствуешь, что доминанта — это обвал. Вы можете себе представить, что вся Тверская — это большая толкучка? Что около Зоопарка я видела на улице огромных крыс? Жизнь многих моих друзей стала походить на то, что бывает в семье с недоношенным грудным ребенком, когда каждый день — это прежде всего борьба за его физиологическое выживание, поэтому прочее — на заднем плане.
В конце концов я почувствовала себя настолько измотанной, что решила прерваться и несколько дней много читала. Одна из новых тем — это разговоры о том, что русская интеллигенция сделала свое дело и может — или даже должна — уйти. По-моему, это некие (подсознательные?) ширмы для оправдания непреодолимых противоречий между традиционными интеллигентскими ценностями, исчезновением привычных врагов в лице госдавления и цензуры — и прессом всеобщей коммерциализации, под которой медленно и неуклонно погибает все, начиная с музеев, библиотек и журналов. «Любимый журнал» [«Знание — сила». — Прим. авт.] тоже на грани — из-за цен на бумагу.
Почему-то хорошим тоном считается говорить, что вот наконец интеллигенция теперь будет «как у них» и оставит свои претензии быть чем-то большим. Конечно, нормального рынка интеллектуального труда у нас нет и долго еще не будет из-за нашей тупости, а в еще большей мере — из-за нашей нищеты. Но стоит подставить вместо интеллектуальный — интеллигентный, как сразу ясно, что словосочетание «интеллигентный труд» — это абсурд.
Любопытно, что мало что понимающие в нашей жизни иностранцы именно эту разницу между интеллектуалами как работниками умственного труда и интеллигентами как носителями определенного нравственного начала отлично чуют.
Пока хорошо держатся «Октябрь» и «Знамя», а кроме того, «Независимая» все-таки сильная газета. И «Эхо Москвы» держит марку. Сережа Мясоедов, племянник моей подруги Оли, которому еще нет и 30-ти, создал Баховский оркестр, и он собирает полные залы — а ведь ребята там чуть ли не три месяца вообще не получают зарплату. Так что интеллигенция и интеллигентность еще есть. Чего нет — так это естественной, нормальной жизни. Как известно, жизнь есть и на войне — так вот, мне кажется, что мы как бы на войне, но без перспективы дожить до перемирия.
Для нормальной жизни мне нужны планы, а не мысли вроде «хоть бы пережить эту зиму». Не так много у меня впереди зим!
Ну, опять нагнала мрака! Пишите же!
3 апреля 1992
Дорогой Андрей,
Вы, наверное, помните, что много лет назад нашумела замечательная именно своей бесхитростностью повесть Наталии Баранской «Неделя как неделя» — о повседневной жизни обычной загнанной советской женщины с двумя детьми и мужем, работающей в каком-то техническом НИИ. Одна известная писательница [Н. И. Ильина. — Позднейшее прим. авт.] мне тогда возразила, что непонятно, на что претендует героиня: она же лишена каких-либо высших запросов! На самом же деле трагизм повести и состоял в том, что достаточно двух детей, чтобы жизнь женщины была сведена к элементарному выживанию.
Могла ли я думать, что на седьмом десятке я должна буду, в сущности, уподобиться героине этой повести! Судите сами: раньше доктор наук вроде меня получал 400 р., а починка обуви стоила в пределах 5 – 8 р. Теперь при самых больших усилиях я могу заработать в лучшем случае в 10 раз больше, а та же починка подорожала в 25 раз. При этом в отличие от моих доходов, цены растут ежедневно.
Я далека от мысли, что Вас интересует стоимость набоек, но это фокальная точка любого разговора. Встречаются люди и говорят «Только давай не будем о ценах», а через две реплики все равно эта тема возникнет.
Более всего меня бесят разговоры о том, что ученые должны сначала заработать, а потом уже пусть эти деньги они и тратят на свои научные причуды: под «причудами» надо понимать фундаментальные исследования. Можно подумать, что Резерфорд заработал деньги на Кавендишскую лабораторию!
На днях зашел ко мне по делу Н. Как Вы знаете, я обычно спрашиваю всех, с кем у меня простые отношения, не хочет ли человек поесть. Вместо ответа — какая-то заминка, и я вдруг просто кожей испытываю то, что называется dejа vu («это уже было»). Было! Только спрашивала не я, а мама, а на пороге нашей комнаты в Перми стоял писатель Каверин. Это эвакуация, зима 42 или 43 года.
Лучшее, что я могла сделать, — это сказать Н., что когда начнем голодать, то предупрежу, чтобы приходил со своими сухарями.
Я обнаружила в себе совершенно не свойственный мне ранее «внутренний жест»: я чувствую себя обедневшей аристократкой, живущей в разрушающемся фамильном замке и тратящей жалкие доходы на кофе, книги, почту и лекарства. Если учесть, что моя бабушка по отцу мыла полы, чтобы прокормить 11 детей, и что единственной роскошью в семье моих родителей было купленное для меня фортепиано, то понятно, что это своего рода иммунная реакция на чудовищное расслоение, которое пронизывает весь социум.
Меня мало волнуют гуляющие по Тверскому бульвару раскормленные собаки со своими не менее раскормленными хозяевами — как написал когда-то Юрий Левитанский, «каждый выбирает по себе время для любви и для молитвы». Но ведь я вижу, как мои же бывшие ученики и коллеги начинают откровенно халтурить под вывесками каких-то новых «Центров», частных колледжей и прочих сомнительных организаций.
Оказалось, что совсем мало людей имеют мужество заниматься своим делом вне зависимости от конъюнктуры. Нет, все-таки самый честный заработок в моих обстоятельствах — это уроки.
Неожиданно для себя самой я тут написала «эссей», где частично затрагиваются эти темы: быть может, для «любимого журнала», но на деле, конечно, для собственного успокоения. Это как умственная гигиена. Чтобы «укрепиться духом», читаю замечательную книгу воспоминаний о Нейгаузе, где есть его письма и многое другое. В свое время мы с отцом почти не пропускали его концертов.
Забавная новость: Шрейдера избрали в Академию естественных наук по отделению теологии. Не вполне естественная наука, некоторым образом. А за Шрейдера я искренне рада: вот уж кто всегда останется самим собой!
20 мая 1992
Дорогой Андрей,
давно о Вас ничего не знаю. Надеюсь, Ваши письма где-то в пути.
Про нас писать все сложнее, поскольку получается, что хуже некуда, но становится все хуже. Как не приведи Бог видеть русский бунт, так и русский бизнес — тоже не приведи.
По старой привычке для меня год кончается перед летом, а начинается — 1 сентября. Тем более сейчас, когда кое-кто из моих подопечных будет поступать в вуз. Самое время решать, чем я буду, кроме своей науки, заниматься.
По-моему, лучший плод нашей свободы — это «альтернативное» образование, а попросту говоря — свободные программы в школах и еще — некоторые новые вузы. Та среда, которая в свое время была возможна только во 2-й московской школе, — власти были не так глупы, чтобы долго терпеть этот рассадник вольномыслия! — эту среду сейчас в принципе возможно создать везде, где для этого найдутся люди.
Поразительно, что, несмотря ни на что, педагог-энтузиаст, полностью поглощенный своей работой, — это по-прежнему вполне характерный для Москвы феномен. Судя по Вашим письмам и моим собственным наблюдениям, такие энтузиасты на Западе обретаются не в школах и университетах — для этого достаточно профессионалов, — а в хосписах, в приютах для наркоманов, в командах спасателей.
Вы помните И.? Он приходил к Вам в клуб «Компьютер» еще совсем мальчиком. Это интересное поколение. В случайной беседе я упомянула о том, что шесть лет назад меня не пустили в Париж только потому, что у меня там не родной брат, а всего лишь двоюродный. Это для них звучит совершенно таким же парадоксом, как для меня слова Ахматовой о том, как раньше — т. е. до 1917 г. — ездили за границу: утром давали дворнику червонец, а вечером он приносил паспорт.
Прежде всего, для них жизнь не разделилась на «до» и «после». «До» они были детьми, не имевшими возможностей выбора своего социального пути. Изменения и разломы в обществе совпали с их личностным становлением. Даже тот сравнительно небольшой «люфт», который тем временем возник между индивидом и государством, дал им возможность многое перепробовать без того, чтобы сесть на шею родителям или превратиться в маргиналов. Для них чиновник всего лишь досадная помеха, а не олицетворенное зло. Отсюда чувство, что главное — хотеть и быть настойчивым.
Они живут настоящим и не видят никакого резона уезжать из своей страны. Вот с ними-то я и останусь. И это уже будет другая жизнь.
Часть 2. Завидуйте нам!
Владимир Николаевич Сидоров
Его имя стоит на титульном листе моей кандидатской диссертации. Сам он, однако, не считал себя моим научным руководителем — я думаю, этот тип отношений был вообще для него не свойствен. Диссертацию мою он читать не стал — главное он знал, а неглавное ему было не слишком интересно. На главное у него было поразительное чутье.
Чем старше я становлюсь, тем глубже чувствую, в какой мере определяющим для моей судьбы было влияние его личности. Бесконечно важным было уже то, что такой человек существовал. Что по крайней мере два раза в неделю каждый мог войти в его кабинет, придвинуть стул к его глубокому кожаному креслу и слушать. Пока он был, можно было не задавать себе вопросов о том, что есть честь, достоинство, непокорность духа, благородство русского интеллигента. Все это существовало как свет и воздух, само собой разумелось и иным быть не могло.
Владимир Николаевич Сидоров умер в 1968 году. Долгое время я не могла ничего о нем написать — кощунством было бы писать с оглядкой о человеке, главным свойством которого была безоглядность.
В первой части книги я рассказала о том, как, работая в библиотеке Института языкознания, я подружилась с Петром Саввичем Кузнецовым. На разных конференциях и докладах я иногда занимала ему место. Как-то, завидев Петра Саввича, рядом с ним сел седой человек. Петр Саввич был с ним на «ты» и познакомил нас, церемонно представив мне Владимира Николаевича Сидорова. Я знала, что Сидорова считали человеком необыкновенным, но почему именно — забылось.
Возможность почувствовать это на собственном опыте представилась мне очень скоро. В Москве проходил Международный съезд славистов. Один польский ученый подал доклад, связанный со статистическим анализом текста, очень близкий по тематике к тому, над чем я уже некоторое время работала. Я прочла текст и обомлела: ну все неверно! Решила выступить в прениях и пошла записываться. Руководительница секции весьма критически на меня посмотрела и сказала: «Да, вообще-то, но… Вот если ваши тезисы кто-нибудь посмотрит, то разве что под его ответственность». А кому показать, если этим никто, кроме меня, у нас не занимается? И кто захочет этой ответственности?
Брожу в каком-то холле в здании МГУ на Ленинских горах. Вижу — Владимир Николаевич у противоположной стены стоит, опершись на палку. Сколько бы ни было народу, его всегда можно увидеть издали благодаря ослепительной седине. Я рискнула подойти — мы ведь были едва знакомы — и объяснить, что так вот просто взять и выступить вроде бы не позволено… Напрасно я думала, что палкой об пол стучат только в романах! «Как! — закричал Сидоров. — Какое еще разрешение? Здесь съезд ученых, а не…» С тем он резко повернулся и направился в зал к лицу, которому была адресована незаконченная фраза.
Назавтра, дрожа от страха, я взобралась на кафедру с целью поразить моего научного противника и увидела Владимира Николаевича в зале. Это было неожиданностью — заседание, на мой взгляд, не могло его интересовать. Польский коллега после заседания подошел ко мне, и мы довольно долго беседовали. Наконец я вышла в уже пустой холл, отупевшая от пережитых волнений. Как-никак международный съезд, а я-то… а мне-то… Владимир Николаевич, прихрамывая, пошел мне навстречу — не мог же он меня ждать? Оказалось, мог.
В битком набитом автобусе (метро «Университет» еще не построили) я нервничала, потому что знала: у Сидорова астма. А он, преодолевая одышку, говорил: «Молодец. Похвалитесь дома. Обязательно похвалитесь». Я похвасталась мужу. Похвасталась тем, что меня ждал Сидоров! Это, а не мой успех, показалось мне событием. Я не ошиблась.
Начиная с осени 1958 года, когда я уже работала в Институте языкознания АН СССР у А. А. Реформатского, мы виделись с Сидоровым почти ежедневно. Для этого мне нужно было лишь подняться этажом выше, в Сектор «Словаря языка Пушкина», где Сидоров работал с 1947 года. Сама эта возможность представлялась мне незаслуженным подарком судьбы, и с течением времени этот подарок не становился менее неожиданным.
Надеюсь, что научная биография В. Н. Сидорова будет написана. Я же рассказываю только о том, что стало частью моей собственной жизни.
В. Н. Сидоров родился в 1903 году в семье профессора русской литературы. Детей было трое. Борис Николаевич стал впоследствии известным генетиком, пострадал, уехал из Москвы и во времена наших встреч с В. Н. работал в каком-то питомнике, где разводил черно-бурых лис, продолжая по мере возможности заниматься наукой. Сестра, Ольга Николаевна, была участницей челюскинской экспедиции. Это сыграло в судьбе В. Н. особую роль. Учился В. Н. в Московском университете и еще тогда начал работать в Московской диалектологической комиссии при Академии наук Его учителями были крупнейшие филологи того времени — Н. Н. Дурново, Д. Н. Ушаков, А. М. Селищев.
Вместе с Р. И. Аванесовым, П. С. Кузнецовым и А. А. Реформатским В. Н. Сидоров был основателем Московской фонологической школы. Работал В. Н. в Научно-исследовательском институте языкознания, на кафедре русского языка в Московском педагогическом институте. В ту пору его друзьями были А. М. Сухотин, Г. О. Винокур, И. С. Ильинская. Одновременно он работал в Учпедгизе, участвовал в разработке реформы русской орфографии, готовил вместе с Р. И. Аванесовым и Н. Н. Дурново учебник русского языка. Этот период «бури и натиска» отчасти описан в книге А. А. Реформатского «Из истории отечественной фонологии». Она и посвящена памяти П. С. Кузнецова, В. Н. Сидорова и А М. Сухотина.
Жизнь эта была прервана в феврале 1934 года, когда Владимира Николаевича, у которого нога была в гипсе из-за туберкулеза колена, увезли ночью, обвинив (вместе с Н. Н. Дурново и другими крупными учеными того времени) в организации «Русской национальной партии». (Эта история описана в недавно вышедшей книге Ф. Д. Ашнина и В. М. Алпатова «Дело славистов». М., «Наследие», 1994.)
Владимир Николаевич рассказывал мне, что, когда он был в заключении, к матери его пришел академик В. В. Виноградов, тоже, кстати, прошедший тюрьму и ссылку, и бросился ей в ноги со словами: «Простите меня, я Володю оговорил!» Не знаю, что по этому поводу думала мать В. Н., но сам он никогда ничего Виноградову в вину не ставил.
Владимир Николаевич попал на Мариинские прииски, в места, откуда не возвращаются. Начальник лагеря понял, что перед ним человек обреченный, пожалел его и сделал писарем. Слава участницы челюскинской экспедиции позволила Ольге Николаевне вымолить — не знаю у кого — замену лагеря ссылкой. Так Сидоров попал в Казань.
О том, что описано выше, я знаю с его слов, но о жизни в Казани он не рассказывал мне ничего.
Из Казани до войны он успел вернуться в Москву к своей работе в горпеде. Славные эти времена не потускнели в его памяти и к концу пятидесятых, хотя позади осталась война и эвакуация. В эвакуации семья Сидоровых страшно бедствовала. Когда мы познакомились, В. Н. был женат, старшая дочь кончила школу, поступила на биофак, младшая была школьницей.
Жили они в коммунальной квартире на Полянке. Ванной комнаты там вообще не было, а кухня, насколько я помню, была без окна. Как и большинство интеллигентов того времени, Сидоровы жили очень скромно, точнее — бедно. Зарплата В. Н., тогда кандидата наук, была невелика, а на нее жили четверо. Жена его была со мной приветлива, но в голосе ее всегда звучала безнадежная усталость.
Уже в конце пятидесятых Владимир Николаевич был очень болен, его мучила астма и приступы печени, приходилось вызывать «неотложку». Он сильно хромал и ходил, опираясь на палку: это были последствия костного туберкулеза. К состоянию своего здоровья В. Н. относился с беспечностью. Мне это казалось необъяснимым легкомыслием. «Съел бы я сейчас отбивную», — говорил он мне, когда мы были в Ленинграде в командировке. А я ядовито продолжала: «С папаверином». «Почему вы без шарфа?» — возмущалась я (при астме любая простуда могла обернуться катастрофой). «Весна, дорогая моя!» — отвечал он, улыбаясь своей особой улыбкой. Я почему-то представляла себе, что если бы князь Андрей Болконский улыбался, это выглядело бы именно так — когда от человека исходит свет.
В перерывах между приступами В. Н. отодвигал свои недуги на самую дальнюю периферию сознания. Именно то, что дух его жил как бы отдельно от тела, сообщало ему особенную манеру говорить, двигаться, смеяться, особую свободу. Он вообще был свободным человеком, может быть, самым свободным из всех, кого я встречала в своей жизни. Я всегда чувствовала, что он никогда и ничего не боится. Об этом ходили легенды.
Одна из них описывает заседание, проходившее в Институте языка в 1950 году, после выхода статей Сталина по вопросам языкознания. В одной из этих статей утверждалось, что современный русский литературный язык сформировался на основе орловско-курских диалектов. Разумеется, все русисты знали, что это неверно. Но молчали. Я не знаю, что еще говорилось на этом заседании. Наверное, хранится где-то его стенограмма, но я думаю, ни одна стенографистка не рискнула в точности записать сказанное Сидоровым. А сказал он без обиняков, что диалектная основа русского литературного языка была иной.
Вождь, стало быть, не прав? И это в 1950 году? После позорно знаменитой сессии ВАСХНИЛ, в разгар арестов среди так называемых «повторников»! Сегодня надо еще объяснить, что значит это проклятое слово. В 1949 году повторно забирали всех тех, кто сидел по 58-й статье и был освобожден после войны. К величайшей моей радости, сегодня многим надо еще объяснить, что это за статья такая. Статья 58 УК со всеми ее многочисленными подпунктами — это контрреволюция, шпионаж, измена Родине и вредительство. По ней и отправили некогда Владимира Николаевича умирать на Мариинские прииски.
Участники заседания 1950 года еще при жизни Сидорова вспоминали, как после его слов в зале воцарилось какое-то свинцовое молчание. Люди подумали: выйдем мы из зала — и кончится для всех нас академическая жизнь. К счастью, ничего такого не произошло, Сидоров продолжал работать так же и говорить то, что думал.
Сейчас, когда по телевизору все любопытствующие могут созерцать куклу, изображающую дряхлеющего Президента России, трудно вообразить, какой безоглядностью надо было обладать Сидорову в 50-е годы. Даже если в этом рассказе не все точь-в-точь соответствует действительности, даже если резкость выступления В. Н. преувеличена, то характерно, что героем этой легенды является именно он. Сама же я была свидетельницей другого его выступления, не имевшего отношения к научным вопросам.
В начале 60-х годов государство поощряло своего рода «моду» — лиц, совершивших не слишком серьезные уголовные преступления, коллектив мог взять на поруки. Альтернативой было отбывание срока в заключении. Некая молодая женщина, работавшая в институте машинисткой, украла деньги. Собрались сотрудники, и среди прочих выступила одна славная девушка, ровесница той, чья судьба решалась, и сказала, что очень полезно будет посидеть преступнице в нашей советской тюрьме.
Следующим на кафедру поднялся Сидоров. Я сидела близко и видела, что он был в состоянии едва сдерживаемого гнева. Обращаясь к залу, он спросил: «Вы знаете, что такое наша советская тюрьма?» Ах, как тихо стало в зале. Как страшно тихо. Почему страшно? В самом деле, почему? Ведь это начало 60-х годов! А все равно было страшно. И многие помнят это заседание по сей день.
В моих воспоминаниях Сидоров остался человеком, чья мысль никогда не была скована необходимостью приспосабливаться к моменту. Это не означает, однако, что он жил в абстрактном времени и не отдавал, себе отчета в том, что было рискованно, а что — нет. Примером тому следующая история, случившаяся со мной.
К началу 60-х годов у нас было мало опыта в проведении больших международных конгрессов. Поэтому, когда в 1961 году в Москве проходил Международный конгресс биохимиков, для его обслуживания Академия наук мобилизовала всех молодых сотрудников, знавших два и более языка. На этом конгрессе я познакомилась с одним очень крупным шведским ученым. Звали его Ларс Эрнстер. Через три года он приехал еще раз как гость Академии и разыскал меня. (Я рассказываю о наших встречах в разделе «Наука как стиль жизни» в первой части книги.)
По существу, впервые в жизни я в течение недели беседовала с человеком из другого мира. В этом мире ученые, где бы они ни жили, регулярно встречались, обменивались мнениями, обсуждали будущее науки и всего человечества. Можно, оказывается, живя в Стокгольме, поставить эксперимент в Бостоне. (Как раз за год до того, получив приглашение прочесть курс лекций в Университете штата Огайо, я была столь наивна, что пошла с этим приглашением к своему директору, В. И. Борковскому.) Неудивительно, что эта встреча была для меня потрясением.
Я пришла к Сидорову на Полянку, полная впечатлений. Он выслушал меня с обычным для него живым интересом к подробностям, а потом в недвусмысленных выражениях посетовал мне на мое безрассудство. Безрассудством было просто встречаться с Эрнстером на улице, гулять с ним вдоль Чистых прудов, водить его по старому, еще не полностью разрушенному Зарядью.
То, что сказал мне В. Н., вызвало у меня взрыв отчаяния. Дело было не в том, что мне так хотелось в Огайо или еще куда-то, хотя, разумеется, хотелось. Эрнстер стал мне ближе многих моих московских знакомых, потому что у нас была одна система ценностей. К тому же он видел в этой жизни все: он пережил геноцид евреев в Будапеште в 1944 году и уцелел только потому, что его и его семью вывез в Швецию Рауль Валленберг.
Эрнстер воплощал тот мир науки без границ, от которого мы были безнадежно оторваны. Это я чувствовала с особой остротой, потому что в моей области — в структурной и математической лингвистике — как раз мы были пионерами. То есть подлинными пионерами, собственно, было поколение Сидорова — ОПОЯЗ и Московский Лингвистический кружок, потому что мы лишь приняли от них эстафету.
Сидоров долго молчал, а потом сказал со свойственной ему мгновенной сменой интонации и настроения: «А вообще-то молодец! Наверное, так и надо…». Я тогда еще не знала, что страх за себя и страх за другого — это совсем разные чувства.
Благодаря Сидорову я довольно рано поняла, что бескомпромиссность и даже резкость в научных спорах может сочетаться с мягкостью и терпимостью в том, что касалось отношения к личности другого, к его склонностям и пристрастиям.
Писать Сидоров не любил. Споры для Владимира Николаевича были способом жизни в науке. Логика его была неумолима. Особенно замечательным было его умение кратко и ясно сформулировать точку зрения оппонента. Я уверена, что сама возможность присутствовать при обсуждениях того, как следует описывать смыслы слов в пушкинских текстах, дала мне больше, чем все годы филфака.
Идеи, которые зарождались у В. Н. в беседах, он дарил щедро, был рад, если кто-то их потом разрабатывал, никогда не огорчался, что он не занялся чем-то сам, и казалось, что этих идей хватит на многие поколения. Одна из них была мне подарена чуть ли не при первой нашей встрече. На вопрос, чем я занимаюсь, я ответила, что занимаюсь применением статистических методов к изучению лексики. В. Н. сказал, что при каждом слове в «Словаре языка Пушкина» указана частота его встречаемости в пушкинских текстах и все его «адреса». По его мнению, это был для меня богатый материал.
Главная мысль Сидорова состояла в следующем: мы воспринимаем язык Пушкина как очень близкий к современному не потому, что в его словаре мало слов, ставших для нас архаичными, а потому, что их относительно мало в пушкинских текстах, то есть эти слова относятся у Пушкина к наименее употребительным. Сейчас подобное предположение показалось бы вполне естественным, но мы-то обсуждали этот вопрос тридцать пять лет назад! Тогда же Сидоров обратил мое внимание на статью Г. О. Винокура «Наследство XVIII века в стихотворном языке Пушкина», вышедшую еще в 1941 году, — в ней было зерно предложенного подхода. Разработка этих идей позволила мне получить интересные данные, касающиеся структуры словаря и текста Пушкина.
Оказалось, в частности, что если взять двести слов, наиболее употребительных у Пушкина, то только пять (!) из них стали архаизмами: пред, хоть (сравните — хотя), сей, да (в значении и), кой (сравните — который). А из следующих двухсот менее частых слов к этому списку мы добавим всего десять — это слова типа оный, ужели, тотчас. Когда же я стала смотреть, какие слова у Пушкина встречаются по одному разу, то и вовсе получился парадокс: с одной стороны, это слова типа благоуханный, вдохновенно, то есть именно «пушкинские» слова, а с другой — совершенно обычные русские слова вроде заманчиво, укладывать, овальный.
И вообще: кто бы мог вообразить, что береговой входит только в строку «береговой ее гранит», а горделиво — в строку «вознесся пышно, горделиво», и больше нигде оба этих слова не встречаются? Было над чем задуматься…
Небезынтересно заметить, что сам Владимир Николаевич, в отличие от нас, опьяненных первыми успехами, весьма сдержанно относился к возможностям математики в описании языка. Причины своей сдержанности он никогда не объяснял. Мне кажется, дело было в том, что Сидоров обладал чутьем, свойственным ученому действительно крупного масштаба. Чутье подсказывало ему, что язык — это система особого порядка сложности, особого качества, в силу чего «лобовое» применение математики не представлялось многообещающим. Вообще Сидорову было присуще умение мыслить свободно и системно (тогда мы говорили «мыслить точно»). Эта редкостная комбинация была его неотъемлемым свойством. Известны замечательные работы Сидорова по русской диалектологии, где на основе уже накопленных наблюдений он предсказал существование русских говоров, которые в тот момент никем не были описаны и были обнаружены позже. (Суть этого явления кратко описана М. В. Пановым в биографии В. Н. Сидорова, приведенной в «Энциклопедическом словаре юного филолога».)
И мышлению Сидорова, и его работам было свойственно изящество и прозрачность формы. Когда мы его слушали, возникало впечатление полной непреднамеренности, отсутствия особых усилий. На самом деле стремление к простоте было осознанной установкой. Владимир Николаевич пишет об этом в предисловии к своей книге «Из истории звуков русского языка» (М., «Наука», 1966).
Поворот языкознания к новым методам в конце 50-х — начале 60-х годов сопровождался введением огромного числа новых терминов и неоправданной усложненностью, затемненностью изложения. В противовес этому Сидоров стремился следовать примеру известнейшего русского лингвиста В. А. Богородицкого, о чем и написал: «Хотя его (Богородицкого) учитель, профессор И. А. Бодуэн де Куртенэ, писал, что В. А. Богородицкий пишет просто до приторности, я был бы очень рад, если бы мне удалось достигнуть этой простоты». Приторной простоты у Сидорова не было, была изысканная простота. Изысканно просто написан учебник русского языка для вузов, известный целому поколению словесников как «Аванесов и Сидоров».
В годы, когда я имела счастье постоянно встречаться с Владимиром Николаевичем, у меня уже были какие-то склонности и пристрастия, и они не пересекались ни с фонологией, ни с исторической фонетикой русского языка, где он был специалистом высочайшего класса. Однако именно у Сидорова я научилась более широкому взгляду на язык. История науки после бесед с Сидоровым переставала быть хаотичным скоплением лиц и работ, а представала как некий поток, пусть и с очень сложными закономерностями.
Он умел показать, как у ученых возникали те или иные задачи и взгляды, раскрыть суть преемственности, и все это — крупными мазками, без деталей, доступных только тем, кто уже читал источники. Именно после бесед с Сидоровым и хотелось сесть за источники, хотелось «прикоснуться» — теперь они читались как откровение, потому что для них Владимир Николаевич умел находить общую раму.
У гуманитариев, как мне кажется, умение видеть «с птичьего полета» редко сочетается со склонностью скрупулезно сопоставлять разбросанные по источникам факты, усматривать неслучайность частностей, любовно анализировать отдельные примеры. У Сидорова эти качества были счастливо соединены. Отсюда, как мне представляется, и возникало чувство такого могущества его ума, что язык со всем волшебством и бесконечной сложностью переставал казаться непознаваемым. Напротив, возникало чувство окрыленности. В наших разговорах на темы, связанные с языком Пушкина и интерпретацией пушкинских текстов, это проявлялось особенно остро.
Я надеюсь, что история создания «Словаря языка Пушкина», уникального издания, выходившего с 1956 по 1961 год, еще найдет своего летописца. Словарь этот был детищем рано ушедшешего из жизни замечательного русского лингвиста Г. О. Винокура (1896 – 1947). Над словарем работали люди, страстно любившие свое дело; старшие и младшие были равны перед значительностью цели. Сидоров сам держал корректуру, не передоверяя никому эту чрезвычайно изматывающую работу, просиживая до глубокой ночи над листами вместе с И. С. Ильинской, А. Д. Григорьевой, В. А. Робинсон, В. Д. Левиным и другими сотрудниками. Работа для них была смыслом и страстью, в ней воплощалась жизнь и представление о жизненных нормах; этот труд, сколь бы он ни был тяжел сам по себе, всегда виделся мне как результат свободного выбора.
Сидорову была присуща несуетная гордость человека, глядя на которого, я впервые поняла смысл слов «меня можно сломать, но не согнуть». Исчезнувший храм Христа Спасителя оставался для него не менее реальным, чем уцелевшие Провиантские склады на углу Остоженки и Садового кольца. «Сей поцелуй, дарованный тобой» Баратынского, одно из любимых своих стихотворений, читал он как строки современника. Жизнь была непрерывна и прекрасна.
Я вижу Сидорова сидящим на скамейке во дворе квартиры Пушкина на Мойке белой ночью 1959 года. Он смотрит на занавешенные итальянскими шторами окна. Потом он читает мне по памяти отрывок из письма Пушкина жене:
«В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых я уже не пляшу». Мы молчим.
Мой учитель А. А. Реформатский
Умирают мои старики —
Мои боги, мои педагоги,
Пролагатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.
Вы, прикрывшие грудью наш возраст
От ошибок, угроз и прикрас,
Неужели дешевая хворость
Одолела, осилила вас?
Б. СлуцкийПочти пятьдесят лет каждый вступающий в филологию открывает учебник А. А. Реформатского «Введение в языкознание». Александр Александрович Реформатский родился в 1900-м и умер в 1978 году. Все больше тех, для кого Реформатский — это учебник, подобно тому как Ожегов — это словарь. Для меня же Реформатский это — «наш А. А.», которого между собой мы иногда любовно называли «Старик». Ожегов — это Сергей Иванович, друг А. А., которого я часто видела в институте.
В учебниках, словарях и других книгах эти люди оставили свой след на Земле. Но живая традиция — это не только книги и статьи. Это прежде всего заповедь способа бытия в науке и в обществе, это уроки жизнетворчества. Живая традиция реализуется в людях. Именно поэтому каждый год, начиная с 1979-го, в середине октября в Институте языкознания Академии наук (теперь — Российской Академии наук) на научные заседания памяти Реформатского собираются вместе ученые разных поколений. «Реформатские чтения» организуют по очереди те, кто в разные годы учился у Александра Александровича. Когда в 1986 году это предложили сделать мне, я решила пригласить выступить именно тех, для кого Реформатский — это уже только учебник, Московская фонологическая школа, статьи и книги.
В нашем институте маленький зал. Когда притихли те, кому пришлось довольствоваться стульями в коридоре, я поразилась, как много в зале лиц совсем юных. И подумала: непросто будет рассказать им о том, чему и как учил нас А. А. Реформатский. И еще более сложно будет объяснить, чт он для нас значил.
Мы, т. е. сотрудники Сектора структурной и прикладной лингвистики Института языкознания АН СССР, которым Александр Александрович заведовал, сидели с ним бок о бок без малого двадцать лет. Сначала в тесной комнатке, именовавшейся «за залом», в особняке на углу Волхонки и бульвара (там сейчас помещается Институт русского языка РАН). Позже — в еще более тесном закутке, в подвале флигеля, который Реформатский называл «голицынские конюшни», напротив Музея изящных искусств. (Так называли музей в моем детстве, и так называл его А. А.) Ну, а в здании на Большом Кисловском, где мне предстояло теперь выступить, мы с ним уже не сидели…
Я не была ученицей Реформатского в прямом смысле слова — не училась у него в аспирантуре, не занималась ни фонологией, ни морфологией. Мои задачи всегда были далеки от А. А., хотя круг его интересов был необычайно разнообразен. Всеяден он, однако же, не был. Он не читал мои работы — и не делал вид, что читал. Дело было не в этом. Все мы, окружавшая его молодежь, интересовали его как люди. Сам он был неповторим — и предполагал эту неповторимость в нас. Это было изначально: если мы чем-то заняты, значит, это имеет смысл. А раз так, надо дать нам свободу заниматься своим делом, не критикуя выбор целей, не навязывая оценок. Это было особенно важно в те жесткие времена.
Молодое поколение, как я сейчас думаю, принципиально не может ощущать свое положение как привилегированное по сравнению с жизнью и бытом поколения предыдущего. Никого нельзя убедить словами наподобие «вам-то хорошо, вы можете то-то и то-то, а для нас это было бы невообразимым подарком». Все позитивное неосознанно воспринимается как естественное и должное, а негативное — как незаслуженное наказание, невезение. Никого не может утешить тот факт, что у него есть крыша над головой, в то время как количество беженцев в России близится к миллионам.
Такая позиция не только понятна — она в определенном смысле правильна. Норма как таковая не осознается. Осознается и переживается ее нарушение. И здесь коллизии, характерные для науки и вообще культуры, — не более чем частные случаи проявления общей закономерности. Никто не ощущает как подарок то обстоятельство, что на русском издано и откомментировано практически все наследие Соссюра. Или что русское издание «Основ фонологии» Трубецкого есть в любой университетской библиотеке. Между прочим, русский перевод сделан А. А. Холодовичем, а комментарии (в виде послесловия) — написаны А. А. Реформатским.
Холодович и Реформатский были тогда уже немолоды и широко известны. Труд, положенный ими на русское издание «Основ», был прежде всего гражданским поступком, равно как и переиздание «Курса общей лингвистики» Соссюра, которое стоило Холодовичу многолетних усилий.
В середине шестидесятых, когда мое поколение кончало университет, ничего этого не было. А что же было?
На филфаке бытовало выражение «держал в руках». Когда на экзамене неловко сказать, что не читал, а сказать, что читал, — рискованно, говорили «держал в руках». Так вот, средний выпускник филфака тех лет — да и не средний тоже — даже держать в руках «Курс» Соссюра не мог, потому как эта книга существовала в нашей библиотеке в единственном экземпляре издания 1933 года. Перевел Соссюра Алексей Михайлович Сухотин, друг и соратник А. А. Реформатского. Собственно, и узнать о существовании «Курса» — книги, возвестившей в лингвистике начало новой эпохи, — в моей молодости было неоткуда: «Курс» в переводе Сухотина был отмечен одной (!) рецензией в 1934 году.
Во времена, когда кибернетика именовалась буржуазной лженаукой, слово «структурализм» звучало просто ругательством. Чтобы понять что к чему, нужен был Учитель. Да, с большой буквы. Реформатский был им для тех, кто непосредственно слушал его лекции в Городском пединституте имени Потемкина. Там студенты занимались по первому изданию учебника Реформатского 1947 года. Он назывался «Введение в языковедение». Этой книге была уготована прекрасная судьба. Но это произошло не скоро. «Введение» Реформатского во времена моего студенчества даже не входило в список рекомендованной литературы — и не случайно.
В ноябре 1950 года АН СССР и Академия педагогических наук РСФСР собрались на научную сессию, где труды Сталина по языкознанию обсуждались в связи с задачами преподавания языков в школе. Любопытно посмотреть, какие лингвисты упоминаются в документах этой сессии и в каком контексте. Конечно, там нет ни Ф. де Соссюра, ни Н. С. Трубецкого — основателей современной лингвистики. Но еще более значим контекст, в котором упомянуты классики русского языкознания. Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щерба и А. М. Пешковский — столпы русской лингвистической мысли и создатели новых научных направлений — оказываются всего лишь критиками дореволюционных методов преподавания языка и редакторами некоторых новых учебников.
В этой обстановке мы учились. В этой же обстановке работал А. А. Реформатский. В 1965 году вышел первый библиографический указатель по структурной и прикладной лингвистике, охватывающий период с 1918 по 1962 год. В разделе «Структурное описание языка» самая ранняя работа — это статья Реформатского «Проблемы фонемы в американской лингвистике». Она датирована 1941 годом, но написана была не позднее 1938-го! В этой статье можно найти все основные понятия структурного подхода к изучению языка. И по стилю это типичная для Реформатского работа — живость изложения, полемика с великими предшественниками и знаменитыми современниками, свобода ума. Реформатский шел своей дорогой. Однажды он так сформулировал важную для себя идею:
«Наука требует преемственности, и не только чаяния перспективы, но и знания ретроспективы». Именно личность Реформатского воплощала традицию и обеспечивала возможность преемственности. В этом — среди прочего — его особая заслуга.
В истории неоднократно повторяются времена, когда главная внутренняя задача творческого человека — сохранить себя для своих учеников. Даже если ученый не может опубликовать свои идеи, он может передать своим ученикам то, что есть в нем самом. Именно это и сделал Реформатский. Без этого следующее поколение ученых не могло бы даже возникнуть, не говоря уже о том, что оно не могло бы состояться. Поэтому вклад А. А. Реформатского в науку намного больше, чем все то, что он написал и напечатал.
Привязанность А. А. к своим ученикам не была связана с тем, кто из них более, а кто — менее талантлив. Игорь Мельчук уже в начале своего пути был яркой индивидуальностью именно как исследователь. Кто-то другой мог быть просто добросовестным, и не более того. Это было несущественно. Существенно, что мы были честными, добрыми и стремились делать свое дело как надо. Эта позиция Реформатского выражалась в разнообразных частностях и оттенках. Так, А. А. по возможности старался представить нас, «реформатских детей», западным ученым, которые приезжали в Москву. В конце 50-х — начале 60-х каждый такой приезд был событием.
На Международном съезде славистов 1958 года (он упомянут в очерке, посвященном В. Н. Сидорову) Реформатский сказал, обращаясь к Б. О. Унбегауну, ученому с мировым именем и фигуре для нас легендарной: «Борис Осипович, познакомьтесь, это Рита». А мне двадцать шесть лет, и я не только еще ничего не сделала — я ничего определенного даже не обещала. И позже. Приехал крупнейший польский лингвист, Витольд Дорошевский, друг юности А. А.: «Витольд, это мои ребята». И, конечно: «Роман Осипович (Р. О. Якобсон), вот мои сюжеты» (т. е. «подданные», от французского sujets).
Благодаря Реформатскому мы хорошо представляли себе, кто стоял перед нами! Замечу, что иначе, чем через Реформатского и других людей его поколения и закала, таких, как Сидоров, Кузнецов или Холодович, узнать это в те времена было весьма затруднительно.
В подобных обстоятельствах ты просто обязан был чувствовать себя звеном цепочки, которая не должна прерваться никогда — ни сейчас, ни позже. Вообще проблема этического выбора была для А. А. важнейшей жизненной осью. Ведь нельзя учить этике, говоря «будьте…». Да, будьте добрыми, честными, будьте справедливы по отношению к научному противнику и т. д. Но либо эти представления воплощены в реальных и притом авторитетных лицах и их поведении и передаются через саму атмосферу жизни в этом кругу, либо — если вокруг вас этого нет — можно и жизнь прожить, так и не поняв, что это такое…
Я обращаюсь мыслью к своим учителям в разгар споров о роли русской интеллигенции, которой якобы предстоит исчезнуть, растворившись в слое «просто» интеллектуалов. Споров о роли русской литературы, которая якобы «брала на себя» слишком много. Ламентаций по поводу коммерциализации искусства в целом. В середине девяностых мы переживаем очередную эпоху ломки, когда связь времен опять грозит прерваться — хотя и по иным, нежели в описанные выше времена, причинам.
Вспоминая Реформатского, я — в который уже раз — утверждаюсь в мысли, что подобную связь осуществляют прежде всего люди его типа. Они образуют ту ценностную среду, которая поддерживает этические образцы и обеспечивает трансляцию культуры.
Странно признаться самой себе, что по годам я уже старше, чем был А. А. Реформатский в начале нашего с ним знакомства. Теперь уже мое поколение должно было бы передать ученикам не столько готовые образцы, сколько пути этического выбора, пригодные для сегодняшней жизни. Если понимать этизацию как акцент на философском осмыслении хотя бы собственной жизни, то в кризисные времена такое осмысление ощущается как необходимость. Человек в принципе не способен к жизни в хаосе. Он не столько должен осмыслить этот хаос, сколько вынужден это делать, чтобы сохранить себя как личность. Скажем, создаются такие защитные механизмы, которые позволяют увидеть в хаосе некие закономерности. Или человек решает, что перед лицом потомков он обязан по меньшей мере свидетельствовать о том, в какие времена ему довелось жить.
Реформатский, несомненно, свидетельствовал — совершенно особым, ни у кого более не виданным мною образом. В частности тем, что он считал себя лично причастным к важнейшим событиям в культуре своей эпохи. Это выражалось, например, вот в чем. А. А. утром входил в комнату, садился и говорил: «Вчера Нейгауз в Largo в си-минорной сонате…» Вы, конечно, могли и не слышать эту сонату Шопена в исполнении Нейгауза, хотя, разумеется, предполагалось, что вам известно, кто такой Нейгауз, не говоря уже о сонате. Вы могли еще и возразить, что, например, Софроницкий играл это Largo лучше, и вас бы внимательно выслушали. Главное же — от нас ждали, что мы понимаем и любим все это, а потому — нам глубоко небезразлично, удалось ли Largo. Реформатский раз и навсегда наделил всех нас правом участия в подобных беседах, и это лежало в основе нашей глубинной с ним связи.
Вне круга лингвистов я не помню (а часто и не знаю), с кем именно А. А. был лишь знаком, а с кем особо дружен. Но он не был тем, кого Пастернак в «Высокой болезни» назвал «музыкой во льду», — он не собирался сходить со сцены вместе со своей средой. Напротив того. Ему было присуще уникальное качество непрерывности и полноты жизни, где Ахматова была великим поэтом, но прежде того — доброй знакомой Анной Андреевной, а совсем еще молодая Белла Ахмадулина — трепетной Беллочкой, соседкой по даче. Витя Шкловский был озорник, которого А. А. знал еще по ОПОЯЗу, с Колюшей Тимофеевым-Ресовским (знаменитым генетиком) они гимназистами учиняли какие-то веселые шалости. Еще с кем-то из крупных лингвистов умыкнули на извозчике одну прелестную переводчицу и т. д.
Реформатский любил многое и многих. При этом любил он страстно. Шахматы он знал профессионально, выписывал журнал «64» и разбирал партии. Страстно любил он и оперу и знал многих оперных певцов, детально обсуждал особенности их звукоизвлечения и артикуляции. (Уже после смерти А. А. в журнале «Наше наследие», № 3, 1988 г., были опубликованы его «Воспоминания об оперных певцах».)
Еще одной страстью А. А. была охота. Думаю, об этом он на равных мог бы поговорить с кем угодно — от Бунина до Пришвина. Он любил поесть и крепко выпить. Как-то я привезла ему из Эстонии банку маринованных маслят собственного сбора. Он оценил.
Внешность Реформатского была своеобразна. Он был невысок ростом, кряжист. Довольно длинная борода и усы делали его похожим на тех ученых прежнего времени, чьи портреты обычно украшают стены университетских помещений. Сходство это пропадало, как только Реформатский начинал говорить или слушать. Взгляд его откуда-то сбоку и поверх очков был быстрый, пронзительный и с хитрецой. Речь — характерно московская, тоже с хитрецой и подковыркой.
Носил А. А. только старые, разношенные и удобные вещи. Н. И. Ильина, известная писательница, на которой он был женат вторым браком, постоянно жаловалась на то, что он не хочет расстаться с тем, чему, по ее мнению, место было на помойке.
В манерах и обычаях Реформатского было много такого, что давало бы основания назвать его эксцентриком.
Это слово, однако, к нему вовсе не подходит — очень уж он был русским. В нашу комнату «за залом» часто заходил Сергей Иванович Ожегов, приветливый и изящный человек с аккуратными седыми усами и тщательно подстриженной бородой. Он неизменно здоровался со всеми за руку — помню, что ладонь у него была узкая и рукопожатие — крепкое. Реформатский прозвал Ожегова «барин». Действительно, рядом с Ожеговым, внешность которого была скорее дворянская, Реформатский выглядел как бы «разночинцем». Был он потомственным интеллигентом — отец его был знаменитым химиком.
Реформатский любил давать своим знакомым прозвища. Рассказ о них составил бы отдельный сюжет (на «реформатских чтениях» уже не помню, какого года, это и было сделано в остроумном докладе Т. М. Николаевой; описание «языковой личности» Реформатского см. в книге «Язык и личность», М., «Наука», 1989). Замечательны эти прозвища были тем, что давались по сложной ассоциации, часто оставаясь полностью немотивированными для непосвященных. Например, зятя своего, Г. Г. Поспелова, прозвал он «Мазепа», потому что тот «увел» дочь А. А. — Марию.
Не менее любопытны были прозвища, даваемые неодушевленным предметам. Так, одну миниатюрную церковку в Зарядье А. А. называл «церковь, где венчалась Лидочка». Имелась в виду Лида Иорданская, жена Игоря Мельчука. Хрупкость и миниатюрность была, видимо, основой этой ассоциации.
У меня прозвища не было, но его заменяло обращение «Рито» — так должно было бы выглядеть мое имя в звательном падеже. Этим обращением открывались письма, которые он писал мне в Эстонию и в больницу. Писать письма он любил и, как истинный мастер эпистолярного жанра, находил особый тон для каждого адресата. Преобладали шутливые отчеты о его жизни и работе в данный момент. Письма мне он обычно подписывал «Ваш шеф Искандер Ислахи», переводя свое имя и фамилию на некий «условно-арабский» язык
Часто писал А. А. шуточные тексты для друзей — прежде всего стихи, именовавшиеся, как правило, «не пур для дам», т. е. умеренно рискованные. Из прозы я помню уморительный текст в жанре заметок для дневника, описывающий его путешествие с Н. И. Ильиной по российским весям. В разговорах с нами А. А. именовал Наталию Иосифовну «писательницей». В повествовании обыгрывалось то обстоятельство, что «писательница» выросла в эмиграции, в Харбине, и вернулась в Россию взрослым человеком, т. е. была якобы почти иностранкой. Например (цитирую по памяти): «Войдя в деревенский нужник, писательница долго искала ручку с надписью pull».
У Реформатского был несомненный дар рассказчика. Нам он рассказывал истории из своей молодости, которые имели вид законченных этюдов. Помню, как к Реформатскому приходили «русские девки» — т. е. молодые сотрудницы из Института русского языка. Они были моложе нас лет на 7 – 10 и эти истории еще не слышали. Мы с Игорем хором просили: «Александр Александрович, расскажите, как Сидоров кота раздавил!» А. А. некоторое время поглаживал бороду, как если бы собирался с мыслями, и хитро посверкивал глазами сбоку, из-под очков. Потом начинал, неторопливо и со вкусом.
Из истории про Сидорова и кота я почти дословно помню только концовку. Дело происходит на вечеринке. А. А. уединился на кухне с Надей Лурье: «А мы с Надькой Лурье там целовались. И вот только мы дошли до подробностей (произносилось как пандроб-ностей), тут в кухню — Володя Сидоров. Он от неожиданности — шмяк в кресло! А там — кот спал, большой такой. Кот — увяу! — и готов».
Прелесть этого рассказа была в том, что Владимир Николаевич Сидоров в представлении всех нас не стал бы целоваться с дамой на чужой кухне, а кроме того, был человеком, который, что называется, и мухи не обидит. А тут кота раздавил — и насмерть!
Не будучи религиозным, Реформатский некогда пел в церковном хоре и великолепно знал весь культурный пласт православного обихода, который большинству из нас тогда был вовсе неизвестен. Помню, как в Консерватории выступал американский студенческий хор «Оберлинер колледж». Я была под сильнейшим впечатлением от одного песнопения. Оно было исполнено на «бис», и я не расслышала имя композитора. На другой день я спросила об этом Реформатского, который тоже был на концерте. «Как, — сказал А. А., — вы не узнали хор Чеснокова?» Мне кажется, это было моим первым знакомством с православной хоровой музыкой: в конце пятидесятых негде было услышать ни «Всенощное бдение» Рахманинова, ни хоры Гречанинова. А о Чеснокове и говорить нечего.
Я помню Реформатского человеком пожилым, но крепким. В сезон он ездил на охоту, иногда играл в теннис. Постоянные разговоры о перспективе упокоиться на Ваганьковском были, как я теперь понимаю, естественным следствием его жизнелюбия. Во всяком случае, себя он не берег. Запомнился один эпизод, в высшей степени характерный для личности А. А. Мы с ним поехали в типографию «Литгазеты», где печаталась моя брошюра, с целью что-то уладить. Когда уладили, то оказалось, что огромный рулон типографской бумаги, нам предназначенный, некому перенести в другое помещение. А. А. сказал, что недаром он в юности подрабатывал грузчиком. Он присел, крякнул и, к моему ужасу, взвалил этот чудовищный вал на закорки и понес. Я онемела и дар речи обрела не скоро. А. А., прежде чем надеть свою неизменную кепку, долго вытирал лысину платком — но и только.
Надо ли говорить, что с таким Учителем нас миновала «проблема поколений» — не только в науке, но и в жизни. Неуступчивость в спорах, неумолимость к небрежностям — и одновременно доверительность, ласковость, даже нежность в письмах. Если А. А. уходил из сектора раньше нас, то обычно говорил: «Ну, дети мои, я кому-нибудь сейчас нужен? Нет? Тогда я пошел». Да, мы были «реформатские дети». Но в этой атмосфере тепла не было тепличности.
Конечно, до понимания личности Реформатского надо было долго расти. Понимание это, по обыкновению, приходит слишком поздно. Я думаю, однако, что это и есть особый дар исключительной личности — одаривая других, не впечатлять их своей необыкновенностью. Ведь это имел в виду Пастернак, написав:
Я ими всеми побежден, И только в том моя победа.Михаил Моисеевич Бонгард
Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отряжала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений.
Б. Пастернак, «Охранная грамота»О его смерти я узнала случайно. Институт наш тогда помещался в старинном флигеле, в дворике около Музея изящных искусств. Трудно вообразить здание, менее приспособленное для работы. Зато стоял флигель в уютном дворе, зеленом и довольно тихом, с клумбой посередине. Вокруг клумбы — садовые скамейки. В теплое время года там и работали.
Во время одного обсуждения «на скамейке», в сентябре 1971 года, мой тогдашний ученик, Миша Мацковский, в ответ на мое замечание «Надо бы у Бонгарда (то есть в его книге) посмотреть» сказал: «Ревекка Марковна, вы, наверное, слышали, что Бонгард погиб на Кавказе?» Я не слышала. Кроме того, этого попросту не могло быть. Поэтому я как-то буднично заметила: «Этого не может быть». Обсуждение продолжалось.
Той же осенью пришел ко мне в гости мой друг Юлий Шрейдер, знавший Бонгарда еще по Московскому университету. Когда он сказал: «Вы, конечно, знаете, что Мика Бонгард погиб», то я спокойно ответила, что этого не может быть. Наверное, такой ответ прозвучал странно, потому что мой собеседник не стал настаивать.
Итак, этого быть не могло. Понадобилось десять лет, чтобы я поверила. А может быть, дело еще и в том, что через десять лет я впервые услышала рассказ Е. И. Тамма, друга М. М. Бонгарда, на глазах которого разыгралась эта трагедия. Конечно, я понимала, что Бонгарда нет в живых, но… Это странное состояние ума и души имело материальное выражение. В 1968 году я получила от М. М. Бонгарда письмо и положила его в средний ящик письменного стола, куда всегда складывала только что полученные письма. По мере того, как я на них отвечала, письма перекочевывали в архив. Письмо Бонгарда оставалось на том же месте.
У Бонгарда было много друзей, товарищей по работе, коллег. Я не входила в их число. По меркам нашего времени следовало бы сказать, что мы были бегло знакомы. С момента гибели М. М. Бонгарда прошло двадцать пять лет, но о нем никто еще не написал.
Как сказал Андрей Вознесенский:
Нас этот заменит и тот — Природа не терпит пустот.Но ведь во второй строке поэта тем больше силы, чем меньше правды в первой. Нас никто не заменит в том смысле, что внутренний мир каждого участника духовного процесса неповторим. (Я не хочу сказать, что содержание этих миров одинаково интересно для потомков, но это уже иная тема.)
Я убеждена, например, что с уходом из жизни современников Юрия Трифонова будет крайне трудно постичь, как бесстрашно искренний человек мог написать в 1950 году «Студенты», а через четверть века фактически на том же материале создать трагический «Дом на набережной».
Наш внутренний мир — это своего рода сцена, где значимым для нас людям отведены свои роли. Кто-то для меня — главный герой, без него вообще невозможна драма жизни; кто-то другой — благородный отец; а вот и инженю; есть и лица, ждущие своей очереди в правой или левой кулисе. Не стоит ожидать от мемуариста, что он расскажет нам о том, как это было «на самом деле». У него другая задача: он должен высветить для нас свою внутреннюю сцену, заботясь лишь о том, чтобы ретроспективное изображение не слишком исказило некогда разыгрывавшийся спектакль. Если герой впоследствии оказался злодеем, то не стоит делать вид, что он никогда не был моим героем. Если те, кто в моих глазах воплощали могущественные силы, а в действительности были лишь марионетками, я солгу именно тогда, когда скажу, что своими глазами уже тогда видела веревочки.
Если не считать моих впечатлений от бурных кибернетических семинаров, где само присутствие Михаила Моисеевича Бонгарда определяло уровень и накал полемики, наше знакомство — это одна встреча, одно письмо, один телефонный разговор. И одна написанная им книга. Много это или мало? Тогда для меня это было очень много. Ссылки на его книгу есть в большинстве моих работ. Но я, разумеется, не могла предвидеть, в какой мере личность и взгляды М. М. Бонгарда повлияют на мою дальнейшую жизнь в науке и, более того, вообще на мои убеждения.
В любом биографическом очерке мы прочтем о том, как среда влияет на становление человека. Но, по-видимому, только оглядываясь назад, можно осознать, кто же сформировал тебя самое. Дело здесь не только в том, что в зрелости наши оценки имеют шанс стать более адекватными. Скорее «шум времени» должен немного поутихнуть, чтобы непосредственность чувств могла быть дополнена анализом и размышлениями над тем, кто и как помог тебе устоять, кто задал высоту планки.
Михаил Моисеевич Бонгард уже в середине 60-х годов был человеком-легендой, хотя ему было лишь слегка за сорок Блестящий ум. В любой концепции найдет слабое место. Феноменальная изобретательность. Редчайшее умение ясно изложить любую проблему. Сочетание зрелости и задиристости. И хотя перечисленного, казалось бы, достаточно, я думаю, что подлинным источником ореола, окружавшего Бонгарда, была его полная внутренняя свобода. (Судя по рассказам тех, кто знал его в ранней юности, это качество отличало его уже тогда.)
Я встречала не так много людей, к которым в полной мере можно было бы отнести изречение «Платон мне друг, но истина дороже». Жизнь, вообще говоря, богаче «истины»: Платон может быть юн или, напротив, немощен, не говоря уж о том, что Платон может быть могуществен…
А теперь о том, как это было.
Я познакомилась с М. М. Бонгардом потому, что искала выход из внутреннего тупика. Если взглянуть со стороны, все обстояло как нельзя лучше: в 1963 году — защита кандидатской, в 1964-м — выход книги «Статистические методы изучения лексики», успех, который был, как я теперь понимаю, в большей мере определен новизной, нежели весомостью результатов. Успех, тем не менее, был очевиден — книгу неоднократно уворовывали с открытого доступа Ленинской библиотеки, что мне льстило.
При этом еще до выхода книги я усомнилась в степени общности своего главного результата. Именно это обстоятельство заставило меня искать встречи с Михаилом Моисеевичем. Я рассчитывала встретить его на семинаре у И. М. Фейгенберга, где он иногда бывал, но этого не случилось. В первой части книги, в разделе «Перемена участи», я рассказала, в чем состояла волновавшая меня тогда научная проблема, и описала пережитый мною кризис. Гораздо позже я прочитала точное описание моего тогдашнего умонастроения. Летом 1966 года в предисловии к своей книге «Проблема узнавания» (она вышла в 1967 году) М. М. Бонгард писал: «Много людей, не дожидаясь появления строгой математической теории, начинают заниматься различными аспектами проблемы узнавания. Инженеры и психологи, физики и врачи, математики и физиологи сталкиваются с необходимостью понять или промоделировать такие функции мозга, как способность “находить сходство”, “обобщать”, “создавать абстрактные понятия”, “действовать на основе интуиции” и т. п.».
Откуда мне было тогда знать, что следующие двадцать пять лет я буду пытаться понять именно то, как мы находим сходство и обобщаем? Я решила попробовать на русском материале воспроизвести тот эксперимент, о котором читала у американцев. Это породило целую лавину вопросов. После первых пробных экспериментов я поняла, что прежде всего надо работать на хорошей установке. Хороший тахистоскоп в Москве был как раз у М. М. Бонгарда, в Лаборатории зрения Н. Д. Нюберга. В Ленинграде была своя установка, в лаборатории В. Д. Глезера в Колтушах. Перед Бонгардом я просто робела, зато с В. Д. Глезером была знакома домами. Я поехала учиться в Ленинград.
Лаборатория В. Д. Глезера и его сотрудники А. А. Невская и Л. Н. Леушина занимались закономерностями распознавания зрительных образов. Освоив с их помощью методику, я могла оценить, что распознавание слов имеет свою специфику. Но словами ни в одной из наших лабораторий не занимались. Первые мои результаты были встречены в Колтушах сочувственно, но ответы на свои вопросы я должна была искать самостоятельно.
Когда я осенью 1967 года прочла только что вышедшую книгу Бонгарда, то впечатление мое было сродни откровению. Не то чтобы я нашла там какие-то ответы или лучше уяснила свои задачи. Скорее наоборот. Но в этой книге было много воздуха и обещания. Распахивались какие-то завораживающие горизонты. Это была Книга. Я и сейчас так думаю. Но о книге потом. Пока что стало ясно, что именно с М. М. Бонгардом и надо было посоветоваться — позвонить и попросить о встрече. Однако на это надо было решиться. К тому же я тогда была тяжело больна. Врачи не обещали ничего утешительного, и хотя работа в этих обстоятельствах оставалась единственной несомненностью, запасы отваги у меня были на исходе.
В один прекрасный день Бонгард позвонил мне. Он представился, сказал, что телефон мой получил от В. Д. Глезера и если мне хочется с ним поговорить, то он может приехать. Когда я открыла ему дверь, то от неожиданности не смогла толком поздороваться. На улице стоял жестокий мороз, а Бонгард был в строгом костюме, без пальто, с непокрытой головой. В руках он держал перчатки. Он объяснил, что у него машина. Так на всю жизнь мне и запомнился его силуэт в проеме нашей двери.
Ход разговора я восстановить не могу, хотя некоторые реплики Михаила Моисеевича запомнила буквально. Я сказала, что прочла его книгу. Он спросил, что я о ней думаю, и заметил, что писал он ее так, чтобы она была понятна всем — от восьмиклассника до академика, а это оказалось предельно трудно. Потом я стала рассказывать свою задачу и описала план эксперимента, который, с моей точки зрения, мог проверить основную гипотезу. Бонгард слушал, задавал вопросы.
Уже по характеру вопросов я поняла, что дела мои плохи. И впрямь: в течение следующих двух часов моя работа за несколько лет, а заодно и все мои планы на будущее были буквально уничтожены. Я спросила: «Неужели исходная гипотеза кажется вам гнилой?» На что Бонгард ответил: «Нет, я просто не вижу здесь никакой гипотезы. Гипотеза должна быть сформулирована в виде алгоритма. Далее мы смотрим, работает ли он. Если работает, гипотеза верна». «Но так, как я, работает вся американская психология», — возразила я. Михаил Моисеевич отвечал в свойственном ему стиле «Тем хуже для нее». Тут я поняла, что подо мной разверзается бездна, и сказала тоном человека, которому терять уже нечего: «Знаете, Михаил Моисеевич, вы, наверное, правы, но я не могу просто пожертвовать всем содержанием моей жизни, раз уж сегодняшний уровень психологии не позволяет формулировать гипотезы в виде алгоритмов». «Что же, — сказал Бонгард, — вам следовало бы родиться лет на сто пятьдесят — двести позже».
Продолжая разговор, он встал и начал ходить по комнате, сжимая руками виски. Я отнесла этот жест на свой счет и вполне серьезно спросила, не повергает ли все мною сказанное его в такое отчаяние. На это он без всякой тени усмешки ответил, что нет, но его огорчает, что его критика столь неконструктивна.
Из всего, что было потом, я помню лишь, что он хвалил Игоря Мельчука, который незадолго до нашей встречи рассказывал свои работы на знаменитом «большом семинаре» И. М. Гельфанда. Поскольку выходило, что Бонгард у меня вроде бы в гостях, я сказала в какой-то момент: «Давайте ужинать» — и накрыла стол. К нам присоединился мой муж. От кого-то я знала, что Михаил Моисеевич не пьет спиртного, но оказалось, что и ужинать он был не намерен. Он взял с блюда корнишон величиной с детский мизинец и сказал: «А вот огурчик я съем, чтобы не огорчать хозяйку».
Что было дальше, из моей памяти начисто стерлось. Очнулась я, сидя на кухне с ощущением полного жизненного крушения. Несколько дней после этой встречи я молчала — в буквальном смысле слова. К работе я вернулась не скоро.
И все-таки никто, даже Бонгард, не мог меня убедить в том, что внимания заслуживают только те гипотезы, которые можно сформулировать в виде алгоритмов. Разница в наших подходах состояла вот в чем. Бонгард сознательно выбрал подход инженера, функционально моделирующего основные блоки мышления, о чем и заявил в своей книге. Я же, пусть не вполне осознанно, пыталась понять, как решила ту же задачу природа.
Мои средства могли быть негодными, сама я могла быть тупицей. Я готова была ни на чем не настаивать, за исключением права на свой способ поиска. Критика Михаила Моисеевича потому и была так разрушительна, что отвергались не конкретные опыты, а лежащие за ними предпосылки. Я, конечно, не умела их сформулировать. Однако, видимо, крепко за них держалась, потому что последовала неизвестному мне тогда завету Н. Н. Пунина: «Главное, не теряйте отчаяния». И поэтому, готовя следующую серию экспериментов, я в очередной раз села читать книгу Бонгарда.
Что я рассчитывала в ней найти, если наши взгляды разошлись столь кардинальным образом? Честно говоря, примерно то же, что я продолжаю находить в ней сейчас. Книга была бездонна и неиссякаема, как родник. Особенно завораживала простота и какая-то пронзительная ясность. С одной стороны, в ней было в явной форме сказано многое из того, о чем я как бы смутно догадывалась, однако выразить не могла. В то же время я поняла, сколь важна способность Михаила Моисеевича додумывать до конца главное. Пытаясь додумывать, я обрастала частностями. Бонгард умел их отсекать. Главное им высвечивалось и тем самым порождало у меня надежду на то, что всегда можно найти это «главное» и что оно в своей основе постижимо.
Именно у Бонгарда я впервые прочла о том, что принципиальная задача любой узнающей системы — это не получение всей информации об объекте, а, наоборот, способность системы выбросить всю несущественную информацию, то есть дать вырожденное описание объекта. В этой же книге на простой модели Бонгард наглядно показал, почему условный рефлекс не может служить элементарным кирпичиком при моделировании психических процессов.
Узнавание. Обучение. Интуиция. Признак. Имитация. Аналогия. Разделение объектов на классы. Признаки, полезные для данной задачи… Глубинный смысл этих элементарных, но бесконечно сложных понятий раскрывался мне постепенно и продолжает раскрываться до сих пор. На мой взгляд, «Проблема узнавания» замечательна прежде всего тем, что она приобщает читателя к определенному стилю мышления. Едва ли мне удастся объяснить, как это происходит. Я усматриваю секрет во взаимодействии читателя и текста. Сказанное было бы общим местом, если бы речь шла о художественной литературе или о публицистике. С научной литературой такое бывает нечасто. Для этого в тексте должно быть изначально что-то глубоко личное. Несомненно, Михаил Моисеевич вложил в эту книгу не только свои научные результаты, но и себя самого, свою страсть и пафос.
Бонгард был умелым и яростным полемистом. Часто его собеседники умолкали, не находя аргументов, и он, тем самым, оказывался в положении «солиста». Однако он вовсе не был монологистом по складу характера. Он не только умел слушать собеседника, но прежде всего стремился заставить его думать, думать изо всех сил, однако вовсе не обязательно думать так же, как сам Бонгард. И вот в книге это качество — рыцарственное отношение к истине и к собратьям по поискам ее — явлено нам в полной мере. Напряженностью мысли книга зовет читателя следовать за автором, разделить его недоумения, надежды и промахи.
Как известно, современные теории личности предлагают описывать личность, исходя из отношения «я — другие». В результате такого подхода выделяются три типа личностей: люди, занимающие позицию «к», позицию «от» и позицию «над». Как бы прост ни был Бонгард в общении, воспринимался он как находящийся «над». Это и неудивительно при такой яркости и остроте ума.
Книга же, напротив, каждой строкой воплощает позицию «к». Например, я почти не знаю научных сочинений, где бы выполнялись научные обещания типа «сейчас читатель в этом убедится сам». Обычно такая фраза — не более чем литературный прием. В книге Михаила Моисеевича такие слова следует понимать буквально: автор предлагает читателю остановиться, оглядеться и подумать вместе. Это не всегда легко, ибо — и в этом еще одна редкая особенность книги — в ней многое как бы известное обнаруживает себя как неизвестное. Вдруг начинаешь понимать, что такоезнание в отличие от научного клише. При этом стиль Бонгарда совершенно лишен педантизма, этого непрошеного спутника строгой мысли. Отсюда — свобода дыхания, присущая этой книге.
Бонгард был одной из самых ярких личностей своего времени. Как это естественно для человека, принадлежащего к элите, он, я думаю, остро сознавал свою социальную миссию, вне которой элиты нет, а есть лишь кучка зазнаек. Иначе зачем бы ему пытаться сделать свою книгу, посвященную научной проблеме, понятной всем — от восьмиклассника до академика?
Через полгода после описанной выше встречи у меня вышла статья, где излагались результаты новых экспериментов. Я послала ее Михаилу Моисеевичу почтой с надписью: «С благодарностью за прошлую и в надежде на будущую критику». Это и был жест отчаяния в смысле Пунина: оценки Бонгарда не оставляли никаких надежд.
В ответ очень быстро пришло письмо. Я приведу из него некоторые выдержки, чтобы читатель мог представить его тональность.
«Глубокоуважаемая Рита Марковна, спасибо за оттиск Вашей статьи. Я потерял, к сожалению, номер Вашего телефона. Поэтому должен прибегнуть к совершенно не свойственному мне способу общения — письму. Мне нравится идея попытаться понять, какими единицами человек оперирует при узнавании, запоминании и т. п. Однако раз уж Вы неосторожно пожелали «будущей критики», выскажу и соображения, заставляющие меня сомневаться как в некоторых выводах Вашей статьи, так и в возможности по времени… судить о структуре «первичных единиц узнавания».
Далее на полутора страницах — анализ и критика моего эксперимента. Заканчивается письмо так
«Если Вам это интересно, я с удовольствием готов поговорить с Вами поподробнее. Мой телефон… адрес… С уважением, М. Бонгард».
На этот раз Михаил Моисеевич в своей критике был полностью прав. Именно поэтому я ему не позвонила и не написала. Здесь мне не хватило опыта — но не опыта жизни в науке, а просто жизненного опыта. Я не оценила того, что сам факт письма для человека, который вообще не писал писем, был значим. Я не поняла, что только собрат по науке мог написать: «Я сформулировал бы результаты второго эксперимента так..». И доброту, скрытую за словами «раз уж Вы неосторожно пожелали…», я тоже не разглядела. Каким-то смутным образом я чувствовала, что Михаил Моисеевич был добрым человеком, но это вызывало у меня еще большую скованность.
Спустя некоторое время, быть может, еще через полгода, одна из моих старших коллег, покойная Е. М. Вольф, знакомая с Бонгардом домами, увидев меня в коридоре института, сказала: «А о вас Мика Бонгард спрашивает, почему вы не появляетесь». Что мне было ответить? Что я робею? Что я боюсь разрушительной критики? Собственно, я предполагала появиться: на этот раз в виде довольно солидной монографии, которая лежала в издательстве и через год должна была выйти. Почему книга казалась мне лучше меня самой, сегодня я не могу объяснить. Рассказывала о своих работах я так же, как писала, не лучше и не хуже. Наконец, перед летними каникулами 1971 года я послала М. М. Бонгарду книгу. Теперь мне было что сказать. И когда осенью я узнала, что сказать уже некому, я отказалась в это поверить.
Письмо Бонгарда лежит у меня в среднем ящике стола, в стопке писем, полученных недавно. Выделяется оно из них совершенно пожелтевшим конвертом.



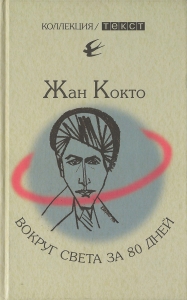
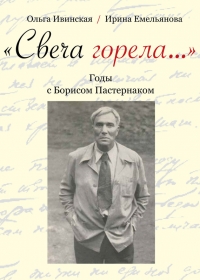

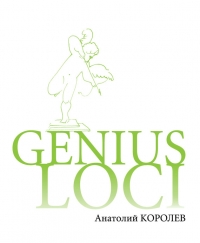

Комментарии к книге «О нас – наискосок», Ревекка Марковна Фрумкина
Всего 0 комментариев