Александр Александрович Формозов Рассказы об учёных
От автора
Мой отец был зоологом, профессором Московского университета, мать – геохимиком, сотрудником Академии наук. Сам я окончил кафедру археологии Исторического факультета МГУ. Вся моя жизнь прошла в кругу людей, работавших в исследовательских институтах, вузах, музеях, библиотеках. К счастью, я встречался и с совсем другими людьми, прежде всего во время экспедиций и командировок, когда забирался в глухие углы Казахстана и Средней Азии, Сибири и Европейского Севера, Украины и Кавказа. Благодаря этому я смог объективно оценить плюсы и минусы взрастившей и воспитавшей меня интеллигентской среды.
В мои студенческие годы о науке говорили и писали очень много. То был период «борьбы за приоритеты», утверждения всюду и везде «одной, единственно правильной точки зрения». Ученые должны были выявить её, а в дальнейшем, следуя ей неукоснительно, не допускать развития каких-либо иных теорий. Выходившая тогда литература по истории науки наделяла своих героев иконописными чертами. Они всё знали заранее, уверенно продвигались вперёд и без колебаний извлекали при опытах желанную абсолютную истину. Разрешалось им лишь небольшое чудачество: например, в биографии A.M. Бутлерова позволительно было упомянуть про его любовь к пчеловодству, но отнюдь не о занятиях спиритизмом.
Даже меня, зелёного юнца, раздражали эти фальшивые схемы, и я настойчиво искал на полках библиотек правдивые книги об ученых, об их нелёгком пути, их поражениях, нередко более важных, чем победы, и победах, зачастую оказавшихся пирровыми. Мне очень понравились «Охотники за микробами» Поля де Крюи. Но там рассказывалось о биологах, а не о моих коллегах-гуманитариях. Все позднейшие издания этого рода, – а теперь у нас немало и хороших русских книг по истории науки, – тоже посвящены преимущественно представителям точных и естественных дисциплин.
Так зародилась у меня дерзкая мысль самому написать книгу о науке и её работниках, максимально честную, где познание мира будет выглядеть не священнодействием олимпийцев, а очень человеческим делом. Ведь на каждом шагу я видел, насколько отражаются на исследованиях «слишком человеческие» свойства их авторов – приверженность к традиции (безразлично – школы или страны) и боязнь нового; или, наоборот, бездумная погоня за модой; насколько полученный результат искажают совершенно сторонние соображения. Сплошь и рядом я убеждался, что красивые легенды для многих людей дороже суровой истины. Я понял, что в науке, как и в искусстве, огромную роль играет условность – ив трудном для усвоения жаргонном языке отдельных дисциплин, и в молчаливой договорённости специалистов считать какие-то моменты бесспорными и наиболее существенными, а какие-то – малозначащими, хотя в действительности всё обстоит не так просто. Короче говоря, я мечтал показать научное творчество во всей его сложности и противоречивости.
Довести задуманное до конца я не смог. Вряд ли задача мне по силам, но ничего в этом роде за истекшие годы в печати не появилось. Поэтому, возможно, для кого-то небесполезны будут мои беглые заметки, отрывочные очерки, связанные между собой общим восприятием темы.
А.А. Формозов.
1 октября 2004 г.
Москва
Цена ошибки
Более полутораста лет назад один начинающий ученый совершил ошибку. Теперь она давно забыта, и мы помним лишь о его зрелых работах, принесших ему заслуженную славу. Ворошить прошлое я решился не для того, чтобы опорочить имя этого человека, а потому, что в истории науки немало подобных эпизодов и над ними стоит задуматься.
Речь идет об Измаиле Ивановиче Срезневском – виднейшем историке русского языка и древнерусской литературы, филологе, палеографе, славяноведе, авторе капитальных трудов и бесчисленных статей и заметок.
Жизнь его сложилась, в общем, весьма счастливо. Он родился в 1812 г. в семье профессора Харьковского университета и рос в среде местной интеллигенции, очень увлекавшейся самобытной украинской культурой. Девятнадцатилетним юношей он издал альманах со своими стихотворениями, а пару лет спустя приступил к публикации сборников «Запорожская старина». Это была характерная для периода романтизма попытка рассказать об истории страны устами её народа. В хронологической последовательности событий здесь помещены песни и думы, частью печатавшиеся и раньше, но в значительной мере новые для читателей; записанные, как разъяснялось в предисловии и примечаниях, издателем и его друзьями, непосредственно от народных певцов-бандуристов.
Книга вызвала широкий резонанс. Н.В. Гоголь восхищался «сокровищами», открытыми Срезневским, и писал ему: «Где нашли Вы столько сокровищ? Все думы и особенно повести бандуристов ослепительно хороши. Из них только пять были мне известны»[1]
С продолжением «Запорожской старины» составитель хотел подождать до отзывов в журналах. Но Гоголь торопил его, уверяя, что ничего дельного из критики Срезневский не почерпнет[2]. Впрочем, отклики оказались благоприятными. В статьях о народной поэзии В.Г. Белинский неоднократно цитировал «Думу о Самке Мушкете». Другими текстами из издания Срезневского дополнил свои сборники украинских песен их авторитетнейший знаток М.А. Максимович[3]. Ф.И. Буслаев, О.М. Бодянский, Н.И. Костомаров использовали материалы «Запорожской старины» и как образцы народной словесности, и как исторический источник, содержащий сведения о событиях, не отраженных в хрониках и грамотах.
Выпустив в свет в 1833–1838 годах шесть книжек «Запорожской старины», Срезневский неожиданно забросил фольклор и занялся экономическими науками. Вскоре он представил Харьковскому университету в качестве докторской диссертации «Опыт о предмете и элементах статистики и политической экономии сравнительно». Специалисты отвергли эту работу, и автору пришлось вернуться к филологии. Неудачи такого рода, конечно, не забываются, но академической карьере Срезневского фиаско на поприще политэкономии не помешало. В 1839 году министерство просвещения отправило его в трёхлетнее научное путешествие по славянским землям. Он побывал в Чехии, Лужице, Крайне, Фриулии, Далмации, Черногории, Хорватии, Сербии; изучил там в монастырях и архивах сотни древних рукописей, завязал прочные научные сношения с ведущими славистами.
И дальше всё шло у него хорошо, жизнь текла ровно и размеренно по традиционному руслу. На родине тридцатилетнего ученого ждала профессорская кафедра в Харькове. Через шесть лет его пригласили в столицу, где с 1848 года и до конца своих дней он вел основные филологические курсы в университете. Некоторое время был его ректором. В 1851 году тридцати девяти лет стал академиком.
Это внешние официальные успехи. Существеннее подлинные достижения – результаты упорного творческого труда. В списке работ Срезневского, опубликованном ещё при его жизни, около четырехсот названий. Многое было издано посмертно и прежде всего «Материалы для словаря древнерусского языка» – три громадных тома, 285 печатных листов. Свыше 130 000 выписок из источников учтено в этом справочнике. Более семисот манускриптов Срезневский скопировал собственноручно. Но и объём проделанной работы, почти невероятный для одного человека, – в данном случае не главное. Главная ценность – в научных наблюдениях и заключениях, вытекающих из этих наблюдений. Насколько богаты тем и другим книги Срезневского, показывает переиздание их чуть ли не через сто лет, уже в наши дни: речи «Мысли об изучении языка» – в 1959 году и «Словаря» – в 1958 и 1989 годах.
Прибавим к печатной продукции плеяду серьезных историков языка и литературы, воспитанных Срезневским в Петербургском университете. Словом, заслуги его перед наукой очевидны, общепризнанны и очень значительны.
Но при всём том на безупречной репутации профессора и академика появилось со временем одно тёмное пятно, и с ним он и сошёл в могилу. Это была та самая «Запорожская старина», с которой началась его по видимости успешная научная деятельность.
После 1838 года изучение фольклора и истории Украины продолжалось во всё возрастающих масштабах. И вот обнаружилось, что большинство дум, записанных от бандуристов Срезневским и его помощниками, ни разу никому не удалось вновь услышать из уст сказителей. Не менее настораживало и противоречие ряда дум из «Запорожской старины» и сопровождавших их статей и комментариев фактам, зафиксированным в надежных исторических источниках. По мере ознакомления с украинским фольклором всё более книжным, чуждым по отношению к устным произведениям этого жанра выглядел и стиль «повестей бандуристов». Неминуемо поднялся вопрос: а бесспорен ли этот материал, не представляют ли собой сборники Срезневского вовсе не публикации подлинных украинских дум, а сочинения современных авторов, подделывавшихся к фольклору и выдававших свои стилизации за творчество бандуристов?[4]
Ничего неправдоподобного в таком предположении не было. В XIX веке фольклористика как наука едва зарождалась. Об идеально точной записи произведений народной поэзии ещё не думали. Люди, интересовавшиеся ею, считали самым важным «овладеть ее духом» и второ– или даже третьестепенным, – как будут переданы соответствующие тексты в печати. Вполне допустимым находили создавать всяческие вариации на народные темы, соединяя куски разных песен и былин, очищая их от «грубых» выражений, добавляя собственные строки «для красоты». Скажем, такой специалист по русскому фольклору, как Иван Петрович Сахаров, грешил этим на каждом шагу. Он объявил, например, что ему в руки попала «тетрадь купца Вельского», сохранившая уникальные песни, сказки и былины. Материалы этой «тетради» он публиковал уже после «Запорожской старины» – в 1840-х годах. Сказка об Анкудине из этой серии, между прочим, очень нравилась Белинскому. Впоследствии выяснилось, что ни Вельского, ни «рукописи Вельского» не существовало в природе, а всё это или упражнения самого Сахарова («Анкудин»), или в лучшем случае компиляции, склеенные из отрывков, заимствованных из ранее вышедших сборников[5].
Такое случалось не только в России. Уже во второй половине XIX века серб Милош Милоевич и болгарин Стефан Веркович выпускали целые книгинародных песен, оказавшихся при проверке неумелыми стилизациями. Незадолго перед тем увидели свет пресловутые «Краледворская рукопись» и «Гузла» Проспера Мериме, вдохновившая А.С. Пушкина на «Песни западных славян». Поэтому признание того, что в «Запорожскую старину» были некогда включены сочинения молодого Срезневского или кого-либо из его друзей, не удивило бы филологов.
Первым намекнул на сомнительность этого издания в 1857 году историк Украины Н.И. Костомаров: «Нельзя, однако, не заметить недоказанности многих рассказов в «Запорожской старине» о событиях казацкой истории, противоречащих всем до сих пор известным источникам… Срезневский оказал бы услугу науке, если б теперь вспомнил о своей «Запорожской старине» и сделал общеизвестными те таинственные источники, которыми пользовался при составлении исторической части своего труда»[6].
Прошло еще полтора десятка лет. Подозрения касательно «Запорожской старины» увеличивались. Покинувший университет и поселившийся на Михайловой горе над Днепром, дряхлый уже Максимович каялся, что в прошлом, будучи вдали от украинских сёл с их песнями и языком, он поддался на обман и засорил свои книги фальшивками. Лишь вернувшись на родину, он почувствовал, как не похожи на подлинные думы мнимые «сокровища» Срезневского[7]. Из второго и третьего изданий «Богдана Хмельницкого» Костомаров выкидывал материалы, взятые из «Запорожской старины», дабы, по его выражению, «очистить книгу от навоза».
Наконец, в 1874 году слово «подделка» чёрным по белому напечатали во введении к двухтомной антологии украинских песен В.Б. Антонович и М.А. Драгоманов. Подделками были названы и «Дума о Самке Мушкете», и «Дары Батория», и «Смерть Богдана», и «Татарский поход Серпяги», и «Битва Чигиринская», и «Поход на поляков»[8]. Рецензируя это издание, Костомаров высказался о «Запорожской старине» гораздо определеннее, чем в 1857 году: «Были ли эти думы и песни составлены нарочно для того, чтобы морочить любителей народной поэзии, или же они написаны, как и всякое другое поэтическое произведение, вовсе не с целью выдавать их за народные, а собирателиошибочно включили их в число народных, во всяком случае, они долго вводили нас в заблуждение»[9]. И снова промолчал Срезневский.
8 феврале 1880 года Костомаров известил А.А. Корсуна, что Срезневский умирает, и сурово подвел итог его жизни: «Много вреда наделал малорусской истории и этнографии этот человек… Он, конечно, сам сознает грех свой и удаляется не только от повторения его, но даже избегает разговоров и упоминаний о «Запорожской старине», однако мужества и честности у него не хватает, чтоб решиться во имя истины публично сознаться в том, что всё, выдававшееся им за историческую и этнографическую правду, была ложь… Срезневский не только печатал фальшивые стихи, выдавая их за народные песни и думы, но даже подставлял и сообщал фальшивые летописные повествования»[10].
После смерти профессора вышли подробные некрологи, сборники статей его памяти, биографические очерки, обзорные работы с обширными разделами о жизни и деятельности классика отечественной филологии. Надо было что-то сказать и о щекотливом вопросе. Сын Измаила Ивановича – Всеволод и автор «Истории русской этнографии» А.Н. Пыпин в один голос заявили, что учёный, несомненно, задолго до Костомаров, Антоновича и Драгоманова, сам понял, какой ошибкой была его юношеская публикация, и даже указал на это, хотя и мельком, в примечаниях к переписке А.Х. Востокова[11].
С трудом разыскиваем в этой объёмистой книге несколько строк петита. Здесь Срезневский напечатал собственное письмо к знаменитому языковеду, отправленное вместе с «Запорожской стариной», и, сорок лет спустя, снабдил его таким примечанием: «Некоторые из этих песен записаны мной со слов певцов, другие – были мне доставлены приятелями и благоприятелями»[12].
С большой натяжкой можно усмотреть в этой фразе признание недоброкачественности своей первой работы. Скорее тут улавливается желание свалить вину на «благоприятелей»: дескать, не я сочинил и пустил в оборот поддельные украинские думы, а мне их подсунули. В комментариях к «Запорожской старине», действительно, не раз говорится: «Доставлено Н. Лисавицким Н.В. Росковшенковой Г. Дьяковым А.Г. Шпигоцким…», и не исключено, что иные тексты Срезневский получил от кого-то и сперва сам поверил в их подлинность. Но, увы, о заведомых фальшивках, вроде «Даров Батория», «Битвы Чигиринской», «Татарского похода Серпяги», «Похода на поляков» так же сообщено: «Списано мною со слов бандуристов»[13]. Нет, двусмысленное примечание 1873 года нельзя считать серьезным ответом критикам.
А между тем ответить было сравнительно просто. В предисловии к «Запорожской старине» автор с важностью рекомендует книгу читателям как результат семилетних трудов[14]. Значит, он начал ее в 1926 году – в четырнадцатилетнем возрасте. Мало того, что весь сыр-бор загорелся из-за произведения, созданного в период младенчества фольклористики, в дни сказки об Анкудине Сахарова и «Гузлы» Проспера Мериме. Обсуждалось и осуждалось творчество несовершеннолетнего подростка.
Смело мог сказать Срезневский своему главному оппоненту Костомарову: «Врачу, исцелися сам!» Ведь публикация русских песен Саратовской губернии, якобы записанных Николаем Ивановичем в годы ссылки «от холщевика-верхового мужика», оказались при проверке перепечатками из старых сборников с произвольными переделками составителя. На это еще при жизни Срезневского указал П.А. Бессонов[15].
И всё-таки шестидесятилетний академик не нашел в себе сил объяснить, что четырнадцатилетним мальчишкой, в пору, когда фольклористика еще не стала наукой, он сочинил легкомысленную книжку и теперь просит специалистов ею не пользоваться. Вероятно, он думал о том, с каким злорадством встретили бы его покаяние коллеги (а лучше ли они его?), как признание давней ошибки неминуемо сказалось бы на оценке его сегодняшних – методически безукоризненных работ. Сталкиваться и с тем, и с другим предстояло бы до конца дней. По самолюбию первоклассного ученого ежедневно наносились бы удары. И он предпочел отмолчаться. Человеческие слабости возобладали над чувством научного долга.
Вот об этой поучительной истории мне и хотелось напомнить, потому что в той или иной мере сходные нравственные проблемы мучат многих учёных, и наука от этого немало теряет. Но рассказываемая история ещё не исчерпана.
Помимо вреда, нанесённого науке, Срезневский и самому себе изрядно напортил. Может быть, он пострадал даже больше всех. Пусть и с опозданием, но историки и фольклористы разобрались, что к чему, и не пользовались уже сомнительными источниками. Жизнь же Срезневского оказалась отравлена.
Первый симптом того мне видится в неожиданной попытке, бросив фольклор, заняться политэкономией почти сразу же после издания и успеха «Запорожской старины». Попытка не удалась – политэкономические темы в николаевские времена находились под запретом. Должно быть, теми же колебаниями вызвано желание отсрочить выпуск следующих книжек «Запорожской старины». Гоголь дал Срезневскому плохой совет – пренебречь мнением рецензентов. Вернее, совет, пригодный для писателя, а не для учёного. Как ни слабо были развиты гуманитарные знания в 1830-х годах, всё же известный ориенталист О.И. Сенковский в своем журнале «Библиотека для чтения» точно определил недостатки «Запорожской старины»: «Автор хочет воссоздать летописи народа, которых не имеет…, и руководствуется своим вкусом в выборе авторитетов…, заставляет говорить местные предания и народные песни… Труд его… не имеет учёной формы»[16]. От составителя сборника Сенковский резонно требовал научного анализа материала, профессиональной критики источников. Но советы запоздали. Издание было уже завершено.
Сознавая его недостатки, вынужденный вернуться к филологии Срезневский в дальнейшем совершенно отошел от фольклористики и обратился к более надежным памятникам древнерусской литературы, зафиксированным письменно, на пергаменте и бумаге, подлинность которых твёрдо доказана. На изыскания фольклористов он смотрел отныне с сугубой подозрительностью. Когда вышел из печати первый том олонецких былин П.Н. Рыбникова, тех самых былин, что входят сейчас в каждую школьную хрестоматию, Срезневский опубликовал крайне кислую рецензию. В ней он упирал на своё «впечатление, ведущее за собой нерешимость простодушно доверять, что собранные песни суть действительно произведения народные, а не подражания им. Сомнение зарождается и укрепляется тем естественнее, чем менее противопоставлено ему преград, а при издании сборника господина Рыбникова не сделано в этом отношении почти ничего»[17]. Обжегшись на молоке, рецензент дул на воду. В 1866 году он обмолвился в письме к А.А. Котляревскому: «Сержусь на тех, которые в молодости увлекаются так же, как и я увлекался, и будут досадовать на себя, как и я досадовал и досадую на себя. Не могу поправить своего прошлого»[18].
Но так было не только с былинами и думами. Любопытна в этой связи статья Д.И. Писарева «Наша университетская наука». Писарев, как и Чернышевский, и Добролюбов, слушал лекции Срезневского в Петербургском университете, работал в его семинариях. Измаилу Ивановичу было тогда пятьдесят лет, и он находился в расцвете таланта. Преисполненный отвращения к университетской системе преподавания, беспощадный к профессорам-рутинерам, Писарев не мог не выделить в лучшую сторону Срезневского, фигурирующего в статье под именем Сварожича[19]. И в то же время он почувствовал какой-то внутренний надлом, какую-то червоточину, отражавшиеся на всей деятельности ученого.
Писарева поразил мощный критический ум, всеразлагающий, всеразрушающий, способный всё развенчать, но не собрать воедино, не творить. Ему бросилось в глаза, что профессор всячески избегает обобщений и выдает на лекциях студентам лишь сырой материал, притом почти всегда добытый им самим, не веря опубликованному коллегами. «Сварожич», по словам Писарева, «как человек умный понимал неестественность своего положения, но по всей вероятности он начал понимать её уже тогда, когда дорога была выбрана, когда первые и самые трудные шаги были пройдены и когда, следовательно, поворотить назад и пойти по другой дороге было уже неудобно и тяжело. Он, конечно, никогда не говорил о том, что ему не нравится предмет его занятий… Но всякий мало-мальски внимательный наблюдатель мог заметить, что Сварожич глубоко равнодушен к своей науке и даже невольно относится к ней с легким оттенком скептического презрения»[20].
Может быть, Писарев – сторонник реальных знаний, третировавший гуманитарные науки как «болтовню», в чём-то сгустил краски, приписав учителю собственное восприятие филологии. Но и в воспоминаниях других учеников нарисован образ, во многом похожий на тот, что набросан Писаревым. Так, в мемуарах П.Н. Полевого отмечены огромная «алчность к работе» Срезневского, его колоссальная эрудиция, и наряду с этим – скептицизм, мнительность, недоверчивость к самому себе, мешавшие ему творить свободно. Полевой утверждает, что в частной беседе Срезневский иногда увлекался и излагал какие-нибудь свои интереснейшие концепции, но никогда не публиковал их. Итог таков: для того, чтобы стать великим учёным, у него было всё, но ему «не хватил о бодрости духа»[21]. Всеволод Срезневский в биографии отца прямо называет причиной его всеразъедающего скептицизма неудачное начало с «Запорожской стариной». Опрометчивый поступок романтически настроенного юноши исказил весь жизненный путь на редкость одаренного и трудолюбивого учёного.
* * *
Что же, спрашивается, человеческому самолюбию всегда суждено побеждать научную совесть? Нет, это не так. Можно привести случаи, прямо противоположные только что рассказанному, но от этого не менее удивительные. Вот один из них. В школьных учебниках любой страны – будь то Россия, США, Франция или Индия – упоминается имя Евгения Дюбуа (1858–1940) – биолога, отыскавшего недостающее звено между обезьяной и человеком – питекантропа. Громадно по значению само открытие, необычна и его история.
В годы первых триумфов дарвиновских идей молодой голландец задался целью найти теоретически предсказанного Эрнстом Геккелем питекантропа. Решить эту задачу было неимоверно сложно. Где добыть средства на исследования? В каком уголке Земного шара, в каких географических и геологических условиях залегают костные останки наших древнейших предков? Всё было неясно. Дюбуа начал с того, что поступил врачом в голландскую колониальную армию и в 1887 году отправился на Суматру. Тем самым он обеспечил себе «оплату проезда» к месту раскопок и наметил район исследований. Три года копал он пещеры на острове и всюду безрезультатно. У другого давно опустились бы руки, но Дюбуа не сдавался. В 1890 году он перенёс раскопки на Яву и здесь с тем же упорством вел работы еще три года. Тут на реке Соло у Триниля его ждал успех: были найдены черепная крышка, бедренная кость и три зуба примитивного человекоподобного существа. В 1894 году он напечатал книгу об этой находке, но этим завершился лишь первый этап в судьбе открытия и начался второй, наиболее ответственный, – борьба за его признание.
Сообщение никому не известного врача вызвало бурю. Многие авторитетные биологи и среди них знаменитый на весь мир Рудольф Вирхов заявили, что описанные кости принадлежат скорее всего своеобразному гигантскому гиббону и для понимания эволюции человека не дают ничего. Другие учёные поддержали точку зрения Дюбуа. Проблема питекантропа оживленно дебатировалась на трёх международных конгрессах по биологии – в Лейдене в 1895 году, в Кембридже в 1898 и в Берлине в 1901, и только в XX столетии мнение об яванском питекантропе как о переходной форме от обезьяны к человеку стало общепринятым. Дюбуа победил.
Говорят, он не выдержал бремени мировой славы. Жил в Лейдене затворником, никого не подпускал к сейфу с костями, не позволял их вновь измерить, не верил в позднейшие находки на Яве, сделанные Г. Кёнигсвальдом. Это как-то объясняет неожиданный финал его жизни. По прошествии сорока лет после раскопок в Триниле, в 1935 и 1940 годах, Дюбуа опубликовал статьи, в которых вдруг согласился со своими давними оппонентами: да, то, что он нашёл, – всего лишь останки гиббона. Понадобились новые наблюдения и сопоставления, чтобы показать: прав был Евгений Дюбуа 1894, а не 1935 года.
Вероятно, мы никогда не узнаем, что заставило восьмидесятилетнего старика перечеркнуть тщательно аргументированную и им, и его коллегами интерпретацию ископаемых костей и внести ненужную сумятицу в антропологию. Однако сам отказ от прославившего ученого открытия не может не произвести впечатления. Времени на новые открытия у него уже не было. В моих глазах это ставит Евгения Дюбуа как личность выше Измаила Срезневского[22].
Спор о Грановском
В истории нашей культуры имел место ряд ожесточённых споров, обусловленных разными взглядами учёных и писателей на задачи деятелей науки. Сущность споров этим не исчерпывалась, но здесь речь пойдёт лишь о названном аспекте.
Для показательного примера остановлюсь на борьбе мнений вокруг статьи В.В. Григорьева «Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве». Опубликованная в журнале «Русская беседа» в 1856 году[23], эта статья сейчас почти забыта, но отклики на неё перепечатывают в собраниях сочинений А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского[24]. Знаком с нею был, видимо, и Ф.М. Достоевский, заимствовавший оттуда кое-какие детали при создании образа Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах» и при характеристике одного из его прототипов – Грановского в «Дневнике писателя»[25]. В самый момент полемики большое впечатление на читателей произвели фельетоны Н.Ф. Павлова «Биограф-ориенталист» и К.Д. Кавелина «Слуга»[26]. Из-за чего же ломались копья?
Товарищ Тимофея Николаевича по Петербургскому университету востоковед Василий Васильевич Григорьев (1816–1881), в будущем профессор этого же университета и член-корреспондент Академии наук, жил в ту пору далеко от центров русского просвещения. Не сумев найти себе места в столичных учебных заведениях, он вынужден был в 1851 году поступить на службу в Оренбург начальником пограничной экспедиции. Поневоле став чиновником, он старался не прекращать научные и литературные занятия. Когда после смерти Грановского в журналах появились первые воспоминания о нём, Григорьев разыскал в своем архиве письма покойного и на их основе попытался рассказать о его молодости.
Рассказ получился живым, богатым бытовыми подробностями. В той или иной мере им пользовались все биографы знаменитого профессора. Но положение автора придало тексту некую двойственность: в задушевные воспоминанияо студенческих годах, о юношеской дружбе просочилась тайная зависть неудачника к завоевавшему громкую известность сверстнику. Это выразилось в цепочке мелких бестактностей. Грановский просил приятеля уничтожить свои незрелые отроческие стихи, а тот их напечатал. Сообщил вдобавок о визитах студента Грановского к «нимфам» и пристрастии к «дарам Рейна и Бургундии», передал его тайное признание о дуэли в Орловской губернии. Над свежей могилой услышать всё это родным и близким было, конечно, неприятно до крайности.
Но возмутила читателей не столько некоторая бесцеремонность мемуариста, сколько его общий вывод. По утверждению Григорьева, Грановский «в пансионе не выучился ничему»[27]; мало вынес и из университета, где студенты лишь зубрили по тетрадкам записи лекций случайных преподавателей; не так уж много получил и во время командировки в Германию, ибо усвоение фразеологии Гегеля не заменяет подлинного знакомства с философией.
При этом Григорьев склонен противопоставлять подготовке медиевиста ту, что давалась его однокашникам, посвятившим себя истории Азии, иными словами – свою собственную. Изучение восточных языков, лекции величайших эрудитов Шармуа и Сенковского, вся школа русской ориенталистики, стоявшей выше западной, требовали серьезного труда. Ученик Сенковского «был в состоянии работать производительно, а не рассуждать только о науке»[28]. Последнее как раз характерно для Грановского. Популярностью он обязан «преимущественно нравственным качествам своим, своей артистической в высшей степени природе»[29]. Не оставив никакого реального вклада в науку, этот «артист на кафедре» импонировал широким кругам общества потому, что был им родным по духу, разделял их слабости.
Почти все отклики на эту публикацию «Русской беседы» были отрицательными. В ней видели «циничный рассказ», желание очернить благородную личность, приписав ей худшие черты самого автора воспоминаний[30]. Говорилось об известных травоядных, «щиплющих лавры» и лягающих мёртвого льва[31]; о взгляде слуги на барина[32]; о мести оренбургского чиновника бывшему другу, отвернувшегося от него как от человека, бравшего на себя полицейские функции[33]; и т. д., и т. п.
Едва ли не самым резким было выступление Н.Ф. Павлова. Он взял под сомнение центральный пункт статьи – оценку научной подготовки представителей разных специализаций в исторической науке, высмеял тезис о превосходстве русского востоковедения. «Не ханскими ерлыками движется вперед дело образования»[34] (Намёк более чем прозрачный – ведь ярлыки послужили темой магистерской диссертации Григорьева). Публичные лекции Грановского де в тысячу раз нужнее разработки подобных частных вопросов.
Эта статья вызвала ответ П.С. Савельева. Крупный археолог и востоковед обвинил Павлова в том, что тот осмеливается судить об ориенталистике, ничего в ней не понимая. Об уровне науки за рубежом и у нас, о степени познаний отдельных людей авторитетно высказываться могут только специалисты, а не фельетонисты[35].
В затянувшейся полемике столкнулось многое: славянофильство и западничество, охранительство и либерализм, но столкнулись здесь и весьма разные представления о человеке науки, свойственные самим профессионалам-исследователям и тем, кто слегка интересуется их занятиями. В эту сторону спора определённую ясность внесло время – века полтора, прошедшие после описанных событий.
О Грановском помнит каждый русский интеллигент. Его именем названа одна из московских улиц. Но что о нём помнят? Пожалуй, только то, что был такой популярный профессор, близкий к Герцену, Белинскому и любимый молодежью. Статьи его забыты прочно. Их и по числу немного, и по содержанию они мало оригинальны. Никакого влияния на медиевистику, как русскую, так и мировую, они не оказали [36].
Имя Григорьева связано с чем-то конкретным для считанных единиц специалистов-востоковедов. Но раскроем книгу академика В.В. Струве «Этюды поистории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии», выпущенную в 1966 году, и мы увидим множество ссылок на Григорьева[37]. Чаще всего цитируется статья «О скифском народе саках»[38]. Напечатанная в 1871 году, она не устарела поныне. Очень высоко ставил Василия Васильевича как филолога и историка-арабиста и академик И.Ю. Крачковский[39].
Принципиально важна помимо статьи о саках ещё одна, более ранняя работа Григорьева – «О куфических монетах, находимых в России и прибалтийских странах как источнике для древней отечественной истории»[40]. Тут в 1842 году впервые было сказано, что клады арабских монет в Восточной Европе позволяют восстановить направления и этапы развития торговли древних руссов. В дальнейшем эту проблему исследовала целая плеяда учёных – П.С. Савельев, А.А. Марков, P.P. Фасмер и другие известные историки и нумизматы[41].
Итак, Григорьев имел право противопоставлять себя Грановскому. В отличие от него он действительно обогатил науку и фактами, и наблюдениями. Не совсем заблуждался он и при оценке своего сверстника как педагога и общественного деятеля. Вот для сравнения отзывы друзей и почитателей Грановского. Герцен в «Былом и думах» писал: «Его сила была… в положительном нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера… Грановский сделал из аудитории гостиную, место свидания, встречи beau mond’a»[42]. По свидетельству другого товарища Грановского – П.В. Анненкова, его публичные лекции слушал «весь образованный класс города, от стариков, только что покинувших ломберные столы, до девиц, ещё не отдохнувших от подвигов на паркете»[43].
Поневоле задумаешься – стоило ли тратить время на просвещение светской черни; тем более, что сменивший в чтении публичных лекций либерала и западника Грановского ретроград и славянофил С.П. Шевырёв пользовался у неё почти таким же успехом. В воспоминаниях А.Н. Афанасьева «Московский университет (1844–1848 гг.)» сказано, что Грановский был «страшно ленив и не усидчив для строгих научных работ». Обе его диссертации, как и статьи, «немного внесли в область науки»[44].
Как видим, слова Герцена во многом совпадают с выводами Григорьева. И он считает, что высокие нравственные качества и артистичность были основными чертами Тимофея Николаевича, и он не преувеличивает умственный уровень его поклонников.
И всё-таки в одном пункте Григорьев был прав в неизмеримо меньшей степени, чем при разборе научной подготовки историка. Герцен говорил: «Наши профессоры… являлись в аудитории не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии»[45]. Это Григорьеву и осталось непонятным. Он как раз был стопроцентным цеховым учёным и недолюбливал популяризаторов, педагогов, общественных деятелей – т. е. ту категорию людей, к которой именно принадлежал Грановский. Эти люди создают не книги и статьи, а, употребляя термин XIX века, «капитал невещественный»; воспитывают студентов в определённых нравственных принципах, влияют на общество, каково бы оно ни было, облагораживающим образом. В условиях николаевской реакции, насаждения квасного патриотизма и культа военщины, лекции, проникнутые гуманизмом, уважением к другим народам, преклонением перед духовной, а не физической мощью, имели огромное значение.
Тут мы и подошли к главной теме очерка. И в XIX, и в XX веках, и сейчас, в начале XXI, среди учёных мы находим эрудитов, исследователей, работающих для очень узкого круга своих коллег, но зато надолго, и – популяризаторов, ориентирующихся прежде всего на запросы текущего момента и потому обречённых на то, что для будущего от них реально ничего не останется. Науке, культуре, обществу необходимы и те, и другие, и было бы идеально, если бы каждый из нас с полной отдачей трудился на своем поприще. К сожалению, специалист сплошь и рядом смотрит на популяризаторов с плохо скрываемым презрением, обличает их в поверхностности и погоне за дешёвым успехом.
Массе же они, естественно, ближе, и она с не меньшим пренебрежением третирует специалистов, издеваясь над их занятиями никому не нужными сюжетами, вроде тех же «ханских ярлыков».
Спору о Грановском в летописях нашей культуры можно подыскать немало параллелей. Нечто подобное происходило в более ранние годы после публикации «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Полезный обобщающий труд, благодаря лёгкому и доступному изложению познакомивший с прошлым своей Родины тысячи читателей, стремились канонизировать и официальные круги, и литературные союзники Карамзина. Об этом сочинении полагалось говорить лишь в таком стиле: «Друг мой! Мы любим Отечество, слава его для нас священна, – мы чувствуем, рассуждаем, и должны быть признательны к сподвижникам сей славы – должны любить Карамзина. Приятно заранее подавать руку потомству в знак согласия с его непреложным мнением. О! Мысль, услаждающая сердца: века повторят слова наши»[46].
Попытки историков указать на фактические ошибки или уязвимые места в концепциях Карамзина встречались взрывом возмущения, градом эпиграмм, а то и кое-чем похуже. В нашем сознании бессмертными пушкинскими строками закреплён отталкивающий образ зоила – Каченовского. А это был серьёзный ученый, первым освоивший выработанные европейской наукой методы критики источников. Как и Григорьева, его обвиняли в чёрной зависти к таланту; в том, что, не будучи в силах подняться до обобщений, он пишет о заведомой чепухе, вроде каких-то «куньих мор док». То же испытал на себе в 1828–1829 годах М.П. Погодин, напечатавший в «Московском вестнике», уже после смерти придворного историографа, замечания Н.С. Арцыбашева на его двенадцатитомник. Против Погодина ополчились такие люди, как С.Т. Аксаков, П.А. Вяземский, В.Ф. Одоевский[47]. Той же установкой объясняется враждебный приём «Истории русского народа», выпущенной в противовес Карамзину Николаем Полевым.
Сохранился любопытный документ. На него редко ссылаются, да и правда – лучше бы его совсем не было. Это письмо П.А. Вяземского 1836 года к министру С.С. Уварову. Автор уверен, что Уваров с его «просвещённым умом» понимает: «Одна и есть у нас книга, в которой начала православия, самодержавия и народности облечены в положительную действительность… Творение Карамзина есть единственно у нас книга истинно государственная и монархическая». Недаром на нее нападали польский революционер И. Лелевель и декабристы, а потом – закрытые Николаем I журналы «Телескоп» Н.И. Надеждина и «Московский телеграф» Н.А. Полевого. Теперь число критиков умножил профессор Н.Г. Устрялов. Надо это пресечь.
Вяземский дал текст письма на просмотр Пушкину, и тот пометил на полях: «О Полевом не худо бы напомнить и пространнее. Не должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести. Не говорю уже о плутовстве подписки»[48]. На всем этом акцентировалось внимание в тот момент, когда журнал Полевого был запрещен, а сам он, чтобы выплатить восемьдесят тысяч долгу и содержать девять детей, работал как каторжник с четырех утра до десяти вечера[49].
Пушкин стал одним из создателей легенды о Карамзине – великом труженике, «честном человеке», независимом от царя и его окружения, смело высказывавшем им свои мнения[50]. Увы, Николай Михайлович был не совсем таков. Известно, например, как он ходил на поклон к Аракчееву, не надеясь иным путем напечатать первые тома «Истории».
Из всего изложенного напрашивается вывод, что людям искусства, литературы более, чем учёным, свойственно сотворять себе кумиры, не подлежащие никакой критике. Тем, кто имеет дело с фактами, ясна ограниченность наших знаний, необходимость пересмотра и переоценки с течением времени любых, в том числе и самых первоклассных работ. Это не означает, что взгляд специалистов на их коллег предпочтительнее любого другого. Зачастую они считают крайне важными совершеннейшие пустяки (мелкие фактические неточности в публикациях, пропуски в списках литературы и т. п.), тогда как талант педагога, искусство популяризатора кажутся им чем-то сугубо второстепенным. И всё же, подводя итог деятельности того или иного учёного, нельзя не прислушаться к голосу профессионалов.
* * *
Оба разобранных примера взяты из времен отдалённых. Но и сегодня мы сталкиваемся подчас со столь же разноречивыми суждениями о вкладе в науку наших товарищей. Показательны, скажем, толки о книгах Александра Львовича Монгайта (1915–1974). Ряд археологов, начиная с Б.А. Рыбакова, отзывался о них как о компиляциях, популяризации, чуть ли не как о халтуре. Многие историки, литературоведы, искусствоведы, этнографы, напротив, видели в Монгай-те крупнейшего ученого, поднимавшегося благодаря своему широкому кругозору до недоступного другим синтеза (и тут, и там присутствовали привходящие обстоятельства – соответственно, антисемитизм и юдофильство). Где же истина?
Монгайт написал несколько обобщающих работ, таких, как «Археология в СССР» (1955), двухтомник «Археология Западной Европы» (1973–1974), «Что такое археология» (3 издания, 1957–1966; в соавторстве с А.С. Амальриком)[51]. В них он характеризовал и каменный век, и бронзовый, т. е. эпохи, которыми вплотную никогда не занимался (Его основная специальность – древняя Русь). Отсюда неизбежные ошибки, раздражавшие знатоков палеолита и неолита. Но всем остальным читателям исторической литературы обзор древностей Европы нужен. Они не в силах рыться в сотнях специальных изданий и воспринимают того, кто их хотя бы перелистал и подготовил их реферативную сводку, как потрясающего эрудита и синтетический ум. Деятельность Монгайта была очень полезной, и в собственном Институте его явно недооценивали. Но люди, не понимавшие законных претензий профессионалов, напрасно возмущались травлей таланта бездарностями там, где не было ничего похожего.
Аналогичные конфликты возникают не только в мире науки. В пору моих юношеских увлечений балетом я был поражен «гамбургским счётом» среди танцовщиков. Некоторые известнейшие артисты не вызывали у них ни малейшего почтения: «Фуэте вертит не в одной точке, не чисто работает». Зато других, оставлявших публику равнодушной, по-настоящему уважали за безупречную технику: «Носок стальной, ни на сантиметр при фуэте не сдвинется».
Видимо, так всегда было и будет: рядом с доступными и близкими самой широкой аудитории свершениями мастеров развивается и творчество людей, ориентирующихся на узкий круг своих коллег, дающих им образцы для подражания, открывающих им что-то новое в их повседневной практике. Поэтому, взвешивая достоинства и недостатки учёного, актёра или художника, надо прежде всего определить, какова их главная направленность, и не требовать от них того, что присуще другому типу талантов.
А.П. Богданов – археолог
Говоря о развитии экологии в России, мой отец[52] намечал такую генетическую линию: К.Ф. Рулье – Н.А. Северцов – Б.М. Житков – А.Н. Формозов. В смысле преемственности идей это, может быть, и так, но кафедру Рулье занял не Северцов, а другой его ученик – А.П. Богданов, – и как раз у него учился Житков. Почему из этого и иных обзоров выпало достаточно известное имя?
Напротив, главный труд моего руководителя по аспирантуре Г.Ф. Дебеца «Палеоантропология СССР» посвящен «памяти первого русского антрополога Анатолия Петровича Богданова». Снова неточность. У истоков этой научной дисциплины в России стоял К.М. Бэр. Для москвичей же центральной фигурой здесь всегда оставался ученик Богданова – Д.Н. Анучин[53]. В пику им и названо другое лицо.
Богданова не было в живых уже свыше полувека, а споры о нём не умолкали. Я заинтересовался этой противоречивой фигурой в 1980-х годах, взявшись за подготовку популярной книжки об археологических исследованиях в Московском крае. Несколько сокращённый и доработанный вариант главы из этой книги[54] я включаю и в данную работу. Естественно, я не претендую на оценку всей научной и общественной деятельности Богданова, а остановлюсь лишь на том, что мне ближе и понятнее.
Перенесёмся мысленно в шестидесятые годы XIX столетия. Несмотря на героизм русских солдат и матросов, оборонявших Севастополь, Николаевская Россия потерпела поражение в Крымской войне. Новый царь, Александр II вынужден был встать на путь реформ. Начали с отмены крепостного права. Разрабатывались и проводились в жизнь другие реформы – земская, судебная, военная. Ослаб цензурный гнёт. На политическую арену выступило поколение тогдашних «шестидесятников».
Именно в этот период общественного подъёма началось массовое исследование подмосковных курганов. На первый взгляд, никакой связи между тем и другим нет. Можно скорее удивляться тому, что тогда нашлись интеллигентные люди, озабоченные не борьбой за справедливый социальный строй, а таким сугубо специальным делом, как раскопки древних могил. Но ни парадокса, ни случайности здесь нет. Имела место строгая закономерность.
К середине XIX века огромных успехов достигла биологическая наука, прежде всего эволюционная теория. В 1859 году вышла книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». В 1856 году найдены костные останки неандертальца. С религиозной догмой о сотворении человека Богом было покончено. Бурное развитие переживала молодая наука антропология – и тот её раздел, что посвящен происхождению человека – антропогенезу, и тот, что именуется расоведением и исследует физические различия между населением разных районов и людьми разного времени.
События в мире биологии воспринимались революционными демократами не как что-то чуждое, не имеющее значения для сегодняшних задач, а, напротив, как нечто чрезвычайно актуальное, как оружие борьбы с силами реакции. Об антропологии, ниспровергающей библейские мифы и показывающей неодолимую силу прогресса, в 1860-х годах много писали в русских журналах Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, П.Л. Лавров, Н.В. Шелгунов, А.П. Щапов и другие участники революционного движения тех лет. Одновременно печатались переводы английских, немецких и французских книг о древнем человеке; в том числе труды Ч. Дарвина, Т. Гексли, Ч. Лайелля, К. Фогта.
На открытия мировой науки предстояло откликнуться и профессуре русских университетов. Отклики были разными. Профессор истории М.П. Погодин опубликовал в 1873 году рассчитанную на широкую публику книгу «Простая речь в мудрёных вещах», где яростно, но неубедительно спорил с Дарвином, Писаревым и теми, кто разделял новые идеи о происхождении человека. А молодые биологи И.М. Сеченов, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев популяризировали идеи Дарвина и сами внесли заметный вклад в развитие эволюционного учения. Судьба этих профессоров сложилась нелегко, особенно в те годы, когда период реформ закончился, и реакция перешла в контрнаступление на либеральные завоевания предшествующих лет. Труды Сеченова запрещала цензура. Мечникова вынудили покинуть Новороссийский университет и уехать за рубеж. Тимирязев ушёл из Московского университета.
Сложилась и третья группа ученых, пытавшихся согласовать официальные охранительные установки с новыми веяниями, не порывая со старым; ладя и с церковными кругами, и с чиновниками из Министерства просвещения; исподволь вводить в русскую науку то, что дала передовая биология. Положение таких людей тоже было непростым. Начальство смотрело на них с подозрением, передовая молодежь презирала за приспособленчество. Противоречивые чувства вызывает их деятельность и сегодня. И всё же и эти люди в определённой мере способствовали прогрессу отечественной науки, помогли ей выстоять в годы реакции, накопили много новых фактов, наметили интересные направления исследований. К числу таких людей принадлежал Анатолий Петрович Богданов, с чьим именем как раз и связано начало широких раскопок подмосковных курганов.
Современники его не любили. «Никого так не ругают в Москве, как Богданова», – писал он сам о себе. Его ученик Д.Н. Анучин, рассказывая об учителе в некрологах и в записях для себя, скрепя сердце признавал, что покойный резко выделялся из университетской среды, совершал порой сомнительные поступки, хотя в целом сделал много полезного[55]. В наше время деятели такого типа, как Богданов, в научно-педагогической области встречаются едва ли не чаще, чем в XIX столетии. Это не столько педагоги, не столько кабинетные исследователи, сколько организаторы, менеджеры, дельцы буржуазного склада (что не мешает им иметь учеников и солидные публикации).
Богданову посвящен большой и содержательный очерк в монументальном труде «Русские биологи-эволюционисты до Дарвина» Б.Е. Райкова[56]. По его мнению, решающую роль в формировании характера и жизненных принципов этого учёного сыграли происхождение и впечатления детских и юношеских лет. Действительно, история его жизни необычна.
В начале октября 1834 года в сторожке церкви села Богородицкого Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии нашли подкидыша. Младенец лежал в красивой корзинке и в шёлковом белье. Хозяйка соседнего имения – молодая вдова Е.Ф. Татаринова – взяла ребёнка к себе в дом. Он рос как барчук в помещичьей семье. Большое участие в его воспитании приняла мать Татариновой – тоже вдова, княгиня Г.Н. Кейкуатова. Официально усыновлен мальчик не был. Под обычной для подкидышей фамилией – Богданова (Бог дал) – его записали в крестьяне. Анатолий жил в холе и неге, как вдруг пришла беда. Татаринова неожиданно скончалась, и приёмыш сделался крепостным ее наследников, родственников покойного мужа. Дворня принялась измываться над вчерашним барчонком. С большим трудом приёмной бабушке удалось вызволить своего любимца.
Но сложности продолжались. Мальчика надо было учить, а устроить «крестьянина» в губернскую гимназию в николаевские времена было делом немыслимым. Помогло лишь ходатайство архиепископа Воронежского и Задонского Антония, почему-то заботившегося о судьбе Анатолия. В гимназии проявились большие способности подростка. Ещё на ученической скамье он написал свою первую статью, напечатанную в «Воронежских губернских ведомостях». Все эти годы он чувствовал себя в ложном положении. Подкидыш, мужик, получавший в то же время изрядные суммы от бабушки, оставался чужаком для однокашников – детей из дворянских, но зачастую обедневших семей. Отсюда, по собственному признанию бастарда, развились те свойства характера, что всегда отталкивали от него людей, – скрытность, завистливость, мнительность, притворство.
Окончив гимназию, в 1851 году Богданов поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. И это прошло нелегко. До завершения курса со званием кандидата[57] (в 1855 году), Анатолий числился крестьянином, и бабушка платила за него подати. Он жил теперь одной мыслью – выбиться в люди любой ценой. «Наболело бесправие подкидыша». Юноша стремился завоевать внимание и покровительство профессоров. Его студенческая работа «О признаках определения формаций осадочных пород» была рекомендована к печати крупным геологом профессором Г.Е. Щуровским и удостоилась серебряной медали. Руководителем студента в университете стал профессор зоологии К.Ф. Рулье – сторонник эволюционной теории, блестящий педагог, о чьих лекциях с восхищением писал Герцен. Дорожа своими взаимоотношениями с профессурой, Богданов и здесь не сумел сойтись со сверстниками. Они видели в нем лишь выскочку и подхалима.
С окончанием университета наметился перелом к лучшему. Для подготовки к профессорскому званию Богданова послали в командировку за рубеж. За 15 000 рублей, данных бабушкой, он купил деревянный дом в Старопесков-ском переулке старой столицы. Посещение Германии, Бельгии, Франции позволило молодому учёному познакомиться с новейшими достижениями западноевропейской науки, малоизвестными ещё в России, изолированной от Запада в годы николаевской реакции. Интересовался Богданов тогда преимущественно зоологией, в особенности проблемой акклиматизации животных, увлекавшей Рулье в конце его жизни. Возглавляемый Рулье Комитет по акклиматизации готовил Акклиматизационную выставку, состоявшуюся в 1858 году в Манеже и предопределившую открытие Московского зоологического сада. Богданов вошел в этот комитет и стал одним из организаторов Зоосада. Уже в эти молодые годы он занял несколько хорошо оплачиваемых должностей и с гордостью сообщал бабушке, что получает 1400 рублей в год.
Дальше опять пошли неприятности. Защита магистерской диссертации «О цветности пера птиц» в 1858 году едва не кончилась провалом. Работа была написана наспех, и оппоненты оценили ее невысоко. Только письмо тяжелобольного Рулье учёному совету с добрыми словами о диссертанте спасло его. Вскоре Рулье умер. На факультете началась борьба за освободившееся место. В ней победил Богданов, искусно обойдя других претендентов, в том числе и более заслуженных вроде Н.А. Северцова (вероятно, в предвидении этого он и спешил с защитой). С тех пор Богданов навсегда связал свою жизнь с Московским университетом. В двадцать три года он адъюнкт; в двадцать девять лет, с 1863 года, – экстраординарный профессор, заведующий Зоологическим музеем.
В эти годы он похоронил свою приёмную бабушку, оставившую ему приличное наследство, и узнал, наконец, кто же его родители. Матерью его оказалась не кто иная, как эта самая «бабушка», а отцом не кто иной, как архиепископ Антоний.
Не всё шло у молодого профессора гладко. Из Комитета по акклиматизации его выжили. Составленный им учебник естествознания для гимназий вызвал отрицательные отзывы специалистов. Большинство коллег считало Богданова не настоящим учёным, а ловким беспринципным карьеристом. Но со временем его энергия, целеустремленность заставили многих признать, что он способен и на большие, полезные для науки и Родины дела.
В 1863 году по инициативе Богданова было основано Общество любителей естествознания при Московском университете. Президентом избрали престарелого Г.Е. Щуровского, но фактическим руководителем стал Богданов. После скорой смерти Щуровского он сменил его во главе «любителей», но через три года передал этот пост своему ученику Д.Н. Анучину. Казалось бы, нужды в новом научном объединении не было. Ведь с 1805 года при университете успешно работало авторитетное Общество испытателей природы. Но постепенно определился совершенно разный профиль этих объединений. Общество испытателей представляло собой замкнутый кружок кастовых специалистов, изредка собиравшихся на закрытые заседания. В Обществе любителей естествознания принимали всех желающих. Заседания были открытыми, получая порой характер лектория, публичных диспутов. В этом сказался дух эпохи, демократического движения шестидесятых годов. В 1864 году в Обществе любителей естествознания появились отделения антропологии и этнографии, отсутствовавшие в Обществе испытателей. Новая организация хотела откликнуться на достижения быстро развивавшейся за рубежом науки, стать пропагандистом её в России.
Помня об успехе Акклиматизационной выставки, Богданов задумал новую выставку – Антропологическую. Для сбора экспонатов понадобилось списаться с целым рядом коллег из разных университетов России и заграницы, провести ряд командировок и экспедиций. Именно тогда Богданов и его помощники приступили к раскопкам подмосковных курганов, чтобы извлечь из них древние вещи и черепа. Материалов собрали много, но выставка, открывшаяся в 1867 году, получила название не Антропологической, а Этнографической, что объяснялось, скорее всего, тактическими соображениями (как бы не напугать начальство, а скорее польстить ему – сколь разнообразно население державы). Экспозицию опять вместил Манеж, и она пользовалась большой популярностью у москвичей. На основе ее возник Этнографический (Дашковский) музей, просуществовавший до 1941 года, когда его слили с Музеем этнографии народов СССР в Ленинграде.
В Манеже демонстрировались сотни археологических находок, в частности из курганов в окрестностях Москвы. Изучению черепов из этих захоронений посвящены две работы Богданова – предварительное сообщение «Курганное племя Московской губернии»[58] и монография «Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии»[59]. За эту книгу ему без защиты диссертации в 1867 году присудили докторскую степень.
В 1876 году в Московском университете по предложению Богданова выделили кафедру антропологии. Предназначалась она для его ученика Дмитрия Николаевича Анучина, по завершению университетского курса посланного в зарубежную командировку. Но в условиях политической реакции, начавшейся после убийства Александра II народовольцами, в 1884 году кафедру закрыли. Анучину пришлось перейти на кафедру физической географии, хотя параллельно и очень плодотворно он занимался и антропологией.
В 1872 году состоялась следующая выставка – Политехническая, приуроченная к двухсотлетию со дня рождения Петра I. Размах её был особенно велик. В Манеже она не вместилась, а раскинулась в шестидесяти двух павильонах, построенных в Александровском саду и вдоль кремлёвской стены по берегу Москвы-реки. После закрытия выставки решено было создать Политехнический музей, куда и передали большую часть экспонатов.
В известной степени и Российский Исторический музей обязан своим происхождением Политехнической выставке. В ее составе находился севастопольский отдел, отражавший героизм русской армии и флота в Крымской войне. Организаторы отдела обратились к императору с ходатайством об открытии в Москве исторического музея и передаче туда собранных материалов. Разрешение на это состоялось, выделена и правительственная субсидия. Начались строительство здания на Красной площади и сбор коллекций.
Давно задуманная Антропологическая выставка 1879 года вышла более камерной, чем предшествующая. Она ограничивалась Манежем, но потребовала огромной подготовительной работы. Богданов, его сотрудники и добровольные помощники немало поездили по России в поисках разнообразных экспонатов. В ряде мест провели раскопки. На выставку пригласили ведущих иностранных ученых. Они, как и русские исследователи, выступали здесь с докладами, так что по сути дела получился международный антропологический конгресс. Он свидетельствовал о быстром развитии русской науки.
Из этой выставки родился еще один московский музей – Антропологический. Он работает и сейчас в старом здании университета на Моховой улице.
При организации всех трёх выставок в полной мере проявились как положительные, так и отрицательные черты Богданова. Каждый шаг давался нелегко. Казенных субсидий на эти всероссийские мероприятия профессор или не имел вовсе, или они сводились к жалким подачкам. Нужно было найти меценатов и использовать их капиталы в своих целях. Богданов умел с ними разговаривать, а правительство по его просьбам награждало наиболее щедрых жертвователей своими орденами (дававшими тогда не только почёт, но и сословные привилегии вроде личного и потомственного дворянства вместе с самыми высокими знаками отличий, приблизиться к которым можно было, только получив нижестоящие). На Этнографическую выставку 10 000 рублей пожертвовал помощник попечителя Московского учебного округа В.А. Дашков; на Политехническую особенно охотно раскошелились московские купцы-толстосумы. Железнодорожный магнат П.И. Губонин дал 20 000 рублей. Фабрикант и владелец железных дорог К.Ф. фон Мекк подарил университету 25 000 рублей на организацию кафедры антропологии.
Третьей выставке – Антропологической – финансово не повезло. Предварительно от купцов Ф.А. Терещенко и Л.С. Полякова было получено 60 000 рублей. Эти деньги тут же истратили на поездки для сбора экспонатов, приобретение их и прочие накладные расходы. Несмотря на успех у публики, плата за входные билеты не покрыла расходы. Остались изрядные долги, и Богданов до самой смерти возмещал их из своего кармана.
Но к финансовым заботам трудности не сводились. Выставки вызывали подозрение и глухое сопротивление со стороны реакционеров. Так, когда Антропологическая выставка была в основном готова, в Петербург пришёл донос о предосудительных замыслах, воплощенных в открываемой экспозиции. Министр просвещения Д.А. Толстой потребовал убрать ряд экспонатов. Богданов обратился тогда к митрополиту Московскому Макарию. Тот побывал в Манеже и сообщил в столицу, что ничего вредного не увидел. Открытие сопровождалось молебном, после чего епископ Ростовский Амвросий благословил «труды русских ученых, веру оправдывающие и веру утверждающие», т. е. только те, что не входят в противоречие с Библией. Иностранные гости вместе с устроителями выставки ездили на приём в Троице-Сергиеву лавру, и у французских антропологов сложилось даже впечатление, что православное духовенство терпимее к науке, чем католическое[60].
Без уступок, лжи, компромиссов, лести, рекламы выставки вряд ли состоялись бы вообще. Это не все одобряли. Передовые учёные осуждали и другое: Богданов прекрасно понимал значение идей Дарвина, но в своих лекциях и статьях никогда не называл его имени, чтобы не раздражать властей предержащих. Подобное лавирование, умение столковаться и с купцами, и с попами, и с чиновниками (порою профессор находил поддержку и у генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, и у министров-ретроградов Д.А. Толстого и И.И. Делянова) отталкивало от Богданова представителей передовых кругов общества.
После Антропологической выставки Богданов уже не брался за предприятия такого рода. Может быть, он опасался нового финансового провала, но, скорее всего, дело заключалось в изменении общей ситуации в стране. Реакционные тенденции восторжествовали. Выставки, предназначенные для широкой публики, в верхах тогда уже считались нежелательными. Свой организаторский талант Богданов проявлял отныне в Московском Зоологическом саду, к руководству которым вернулся в 1880-х годах.
И этот этап его деятельности не всегда встречал одобрение у окружающих. Известны брошюра К.А. Тимирязева «Пародия науки» о ботанической лаборатории, открытой при Зоосаде[61]; и фельетон А.П. Чехова «Фокусники» – об аналогичной зоологической лаборатории[62]. Напомню, что Чехов жил тогда на Кудринской и, конечно, не раз бывал в Зоосаде. Он писал, что звери там мрут с голода, а на дорожках гремит музыка, по вечерам устраивают фейерверки. Перед открытием лаборатории служили молебен, а потом состоялся роскошный обед с музыкантами. Состоит же это учреждение из одного лаборанта, едва поспевающего вскрывать трупы подохших животных. Издания Зоосада читать скучно. Кому нужны эти фокусы?
Богдановскую страсть к шумихе и помпезности Чехов подметил верно, и всё же он и Тимирязев не совсем правы. Лаборатории Зоосаду были необходимы, а доказать это без рекламы может быть и не удалось бы.
В конце жизни к Богданову пришли чины. Он стал членом-корреспондентом Императорской Академии наук, статским генералом – тайным советником. Умер он в 1896 году. И вот что любопытно: никаких палат каменных этот делец и карьерист не нажил. После его смерти семье остались только полуразвалившийся деревянный дом, купленный сорок лет назад на «бабушкины» деньги, и всё еще не выплаченные долги за Антропологическую выставку. Дочь ученого рассказывала Б.Е. Райкову, что умиравший отец говорил ей: «Всю жизнь я служил одному кумиру – русской мысли».
Да, он служил ей, читая лекции, работая над статьями и монографиями, подобно другим профессорам; по-своему служил ей и тогда, когда в интересах дела шел на компромиссы и сомнительные комбинации. След в науке он оставил. Три музея. Зоопарк. Около двухсот публикаций и среди них несколько наметивших новые направления исследований. Помощь в организации экспедиции и издании трудов замечательного путешественника А.П. Федченко, проникшего в труднодоступные районы Средней Азии вскоре после ее вхождения в состав России. Такими итогами жизни и работы можно гордиться.
К числу бесспорных достижений Богданова принадлежат и труды об антропологическом типе древних обитателей Подмосковья. На этом нам надо остановиться подробнее.
5 сентября 1864 года любитель-археолог А.А. Гатцук передал Богданову два человеческих черепа из курганов, раскопанных в Подольском уезде. При первом взгляде на черепа Богданов поразился их своеобразию: они характеризовались резко выраженной долихокефалией – длинноголовостью, сильно отличаясь от обычных для современного населения Подмосковья брахикефаль-ных – круглоголовых черепов. Богданов хорошо знал монографию Поля Брока о черепах из парижских кладбищ. Французский антрополог сравнил костные останки из старых захоронений, разрушавшихся при реконструкции Парижа, затеянной Наполеоном III (вспомним отклики на этот проект у Золя, Мопассана). Это позволило установить, в каких направлениях шли в течение нескольких столетий изменения физического облика французов. Подмосковные курганы обещали аналогичные и даже более интересные наблюдения. Ведь они древнее любого парижского кладбища и уже потому могут дать представление о ходе эволюции местного населения за значительно более долгий срок. Методика промера черепов, применявшаяся Брока, была изложена им в специальной инструкции. Перевод ее Богданов напечатал в «Известиях Общества любителей естествознания» – с тем, чтобы ею воспользовались русские учёные. На первых порах руководствовался ею же и он сам. Особых сложностей в раскопках курганов Богданов не видел – насыпи их тут невелики, до костяков можно добраться без большой затраты средств и сил.
Надо было подумать о том, кто возьмётся за изучение собственно археологических находок. Легко удалось договориться со специалистами-естественниками. Остатки дерева соглашался определить профессор Московского университета ботаник Н.Н. Кауфман. Химический анализ металлических предметов взял на себя ассистент Петровской сельскохозяйственной академии П.А. Григорьев, а кож и тканей – университетский же профессор М.Я. Киттары. Минералогическая характеристика бус и других камней поручалась профессору Петровской академии И.Б. Ауэрбаху.
Особое значение имел выбор того, кто должен был интерпретировать с позиций исторической науки как полевые наблюдения, так и собранные коллекции. В Москве жило немало серьёзных археологов, но, судя по некоторым намекам в публикациях Богданова, никто из них с ним дела иметь не захотел.
Пришлось обратиться к профессору университета И.Д. Беляеву. Немолодой уже к тому времени человек, он был автором монографии «Крестьяне на Руси», многотомных «Рассказов из русской истории» и нескольких десятков статей, посвященных отечественному средневековью. Авторитетом среди коллег он не пользовался. Крайне низко оценивали его работы ведущие московские историки С.М. Соловьев и И.Е. Забелин. К тому же археологией он никогда специально не занимался. Таким образом, самого важного консультанта своих раскопок под Москвой Богданов выбрал неудачно, что проявилось достаточно скоро.
Раскопки начались в 1864 году в Коломенском уезде, у сел Речка и Никульское. Вёл их врач из Коломны A.M. Анастасьев, а помогали ему только что кончивший университет А.П. Федченко (в будущем знаменитый исследователь Тянь-Шаня и Памиро-Алтая) и хранитель коллекций Общества любителей естествознания Н.Г. Керцелли.
Широко развернулись раскопки в 1865 и 1866 годах. Они охватили девять уездов Московской губернии из одиннадцати. Два могильника изучались на окраине самой Москвы – в Сетуни и Черкизове. Работы в Сетуни вёл сам Богданов при участии Федченко. Посмотреть на курганы приезжали Беляев и профессор-медик Н.Д. Никитин.
Богданов руководил раскопками и вдали от Москвы – у села Власьева в Можайском уезде; Обуховки, Петропавловского, Аниськина и Осеева – в Богородском (Богородск – нынешний Ногинск); посещал и другие места – Крымское в Верейском уезде; Ябедино в Звенигородском; Дубровичи, Добрятино, Заболотье и Покров в Подольском.
В книге Богданова названо двенадцать человек, непосредственно проводивших по его плану раскопки в разных пунктах. Среди них мы найдем еще одного биолога, получившего в дальнейшем известность благодаря исследованиям в Средней Азии. Это В.Ф. Ошанин. Вместе со своим другом Федченко он копал курганы у села Павловского в Звенигородском уезде; у сёл Головина, Авдотьина и Хальянова – в Бронницком. Имена прочих участников раскопок сегодня нам ничего не говорят. Вероятно, среди них находились студенты, недавние выпускники университета и местные деятели из земских учреждений. Но и у Федченко с Ошаниным не было опыта археологических изысканий, и вряд ли они отличались в этом отношении большим умением, чем все прочие.
Оплачивалась работа землекопов, по словам Богданова, из его личных средств и из пожертвований. Руководитель экспедиции предпочитал вскрывать значительное число насыпей в одном могильнике, а не по два-три в нескольких, но до конца этот план осуществлен не был. Копали курганы не на снос, а траншеями, прорезая ими могильный холм посередине. Делались ли при этом какие-нибудь чертежи и записи, мы не знаем. Во всяком случае, ни те, ни другие до нас не дошли.
В итоговой монографии Богданова сказано, что изучены были 13 курганов в Звенигородском уезде; 15 – в Московском; 17 – в Подольском; 5 – в Можайском; 43 – в Богородском; 22 – в Верейском; и 14 – в Коломенском; итого 129[63]. Но ниже им рассмотрено 145 черепов хорошей сохранности и 180 скелетов. Значит, погребений вскрыли тогда больше. Расхождение, помимо возможных парных и групповых захоронений, объясняется тем, что в список почему-то не попали данные по двум уездам – Бронницкому и Рузскому (курганы у Палашкина и Новицкого, исследованные А.П. Федченко).
Предшественники Богданова раскопали в Подмосковье примерно сорок курганов, а он и его сотрудники – около двухсот. Такой большой материал давал право на обобщённую характеристику этих памятников. Стало ясно, что они не похожи на южнорусские, нередко содержащие под одной насыпью множество могил разного времени и типа. Земляные надгробия у подмосковных деревень скрывают единичные захоронения одной средневековой эпохи с довольно однообразным набором вещей.
Основные результаты исследований 1864–1866 годов нашли отражение в экспозиции Этнографической выставки 1867 года и в упоминавшейся выше монографии Богданова.
Центральный вопрос, волновавший всех, кто начинал исследование курганов, заключался в том, кому же принадлежат эти памятники – славянам или каким-либо другим народам? Из летописей известно, что до славян-вятичей, а затем рядом с ними в бассейне Оки жили финно-язычные племена меря и мурома. Именно летописным мерянам приписывал средневековые курганы Владимирской губернии А.С. Уваров. Пытался ответить на сложный вопрос и Богданов. Он отдавал себе отчёт в том, что язык, раса и материальная культура – явления разного порядка, и, приведя множество промеров черепов из подмосковных курганов, предпочёл осторожно писать не о славянах или финнах, а о «курганном племени». Этот искусственный термин вызывал недоумение многих читателей, добивавшихся полной определённости – славянские захоронения или финские.
Ещё К.М. Бэр заметил, что черепа из звенигородских курганов – долихокефальны, тогда как современные финны – брахикефалы, и предположил, что могилы принадлежали не финнам, а славянам. Утверждение было верным, но поспешным. Богданов установил, что долихокефалы, похороненные в курганах, достаточно резко отличались не только от современных финнов, но и от русских – тоже брахикефалов.
Позднейшие исследования показали, что процесс брахикефализации – увеличения круглоголовости – в течение тысячелетий шёл повсеместно, вовсе не свидетельствуя о смене населения. Богданов в 1860-х годах этого ещё не знал и уверенно отнести курганные черепа к славянам осмелился только тридцать лет спустя – в докладе на Международном конгрессе доисторической археологии и антропологии, состоявшемся в Москве в 1892 году. К тому времени накопились большие коллекции черепов, в частности из московских кладбищ. Костные останки XVI–XVIII веков оказались по своим показателям стоящими где-то посередине между черепами из курганов и черепами москвичей конца XIX века. Значит, после того, как были насыпаны курганы, никакой новый народ в Центральную Россию не приходил. Изменения в физическом облике обитателей этих мест наступили в результате эволюции.
Таким образом, в разработке вопроса о народе, оставившем подмосковные курганы, Богданов двигался в верном направлении и проявлял вполне разумную осторожность. Не менее важно другое. Признание реальности расовых различий ни в коей мере не ведёт к идее неравноценности рас. Перед нами только следы приспособления предков современных народов к той специфической природной обстановке, где они жили в условиях то относительной изоляции, то, напротив, интенсивного расового смешения. Высших и низших рас не существует. В период возникновения антропологии кое-кто допускал, что, хотя превращение обезьяны в человека произошло в глубокой древности, среди современных народов сохранились представители типа, более близкого к обезьяне, чем к человеку. В таком духе высказывался, например, известный популяризатор науки Карл Фогт.
Взгляды вульгарных материалистов оказали некоторое влияние на Д.И. Писарева, А.П. Щапова, говоривших в своих журнальных статьях о высших и низших расах. Богданов придерживался другой позиции. Его книга завершалась словами: «Нам нет надобности делать из выводов науки ненаучные средства… о происхождении народонаселения Средней России. Не в русском характере, не в духе истинной русской науки ломать факты и ложно освещать их, да и нет в том надобности. Не брахикефалия или долихокефалия даёт право народу на уважение, не курганные предки, каково бы ни было их происхождение, могут унизить или возвысить русский народ и ход его истории»[64]. Выступив против построений расистов, Богданов показал себя с наилучшей стороны.
Основные, чисто биологические, разделы книги Богданова я разбирать не стану. Отмечу лишь главное. В ходе исследований он убедился, что принятая было им методика Брока несовершенна, и создал собственную, более точную и более детальную программу измерения черепов. Проведенные им сотни промеров, оригинальные приемы изучения костных останков человека надолго стали образцом для наших антропологов. Сосредоточив внимание на черепах, автор старался извлечь всё, что возможно, из других костей ископаемого скелета. По его просьбе характеристику их подготовил упоминавшийся выше профессор медицины Н.Д. Никитин.
В заслугу Богданову надо поставить и то, что своими наблюдениями он делился не только с узким кругом специалистов, но в традициях демократической русской науки стремился познакомить с итогами проведенной работы самые широкие слои общества. Демонстрировавшиеся на Этнографической и Антропологической выставках археологические находки и черепа из курганов, макеты насыпей и захоронений дали тысячам посетителей наглядное представление о древностях Подмосковья.
Можно одобрить попытки Богданова получить заключения о материалах из раскопок от специалистов в области точных наук. Правда, его обширный план осуществлен не был, но технолог (в будущем профессор) П.П. Петров опубликовал две заметки о технологических особенностях кож, тканей и глиняных сосудов (15 экземплярах) из курганов[65].
Достоинства трудов Богданова бесспорны, но для археологии значение их оказалось куда меньшим, чем можно было ожидать. Процесс раскопок, сами захоронения, встреченные в них предметы при работе богдановского коллектива так и остались неописанными. Коллекции из разных мест, вовремя не приведённые в порядок и не заинвентаризованные должным образом, постепенно перепутались, потеряли этикетки и превратились в груду беспаспортных вещей. Понять, откуда, из какой курганной группы и из какой могилы происходят те или иные предметы, сейчас уже невозможно.
Находки 1864–1866 годов совсем неплохие, но набор типов древних вещей ограничен. Это всё те же семилопастные височные кольца, те же шейные гривны, бусы, перстни… Интерес этих материалов неизмеримо возрос бы, если бы мы знали, какие вещи встречены вместе, где именно на костях лежали определённые украшения и т. д. В первом случае это позволило бы выделить группы бесспорно одновременных изделий – комплексы, а во втором – реконструировать детали костюма. Из-за того, что ни чертежей, ни полевых дневников, ни публикаций, отражающих массовые раскопки подмосковных курганов, у нас нет, итоги большой работы в значительной мере обесценены.
Кто же в этом виноват? И.Д. Беляев, взявшийся за разбор археологических коллекций, умер в 1873 году, и они перешли в ведение Н.Г. Керцелли. Но и он умер, не составив их научного описания. Причины вроде бы уважительные, но решительно ничто не указывает на то, что Беляев и Керцелли, не имевшие опыта археологических исследований, овладели бы новой для них областью знаний, а Богданов позднее искал других исполнителей начатого дела. Многое было упущено ещё в процессе раскопок. Без дневников и чертежей находки оставались немыми. Безмерно жаль, что перед выездом в экспедицию Богданов не сумел договориться с такими признанными московскими археологами, как А.С. Уваров, И.Е. Забелин, Г.Д. Филимонов.
Совершенно непонятно, почему М.Д. Киттары, П.А. Григорьев, И.Б. Ауэрбах и Н.Н. Кауфман не провели анализы вещей из курганов, как обещал Богданов в книге 1867 года.
Все эти недочёты в работе Богданова заметили уже его современники. Филолог и историк культуры А.А. Котляревский в рецензии на «Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии» прямо говорил о пренебрежении к собственно археологической стороне исследований и зло высмеивал не справившегося с нею Беляева[66].
И сегодня мы с горечью должны сказать, что в истории раскопок 1864–1866 годов, как в капле воды, отразились не только положительные, но и отрицательные особенности личности Богданова. Широкий замысел, организационный размах сочетались с отчуждением от ведущих специалистов, использованием малоквалифицированных помощников, что самым печальным образом повлияло на качество исследований.
Работы, поставленные не с таким размахом и не с такой помпой, но с большей тщательностью, были бы для науки куда нужнее. Этот урок вполне актуален и в наши дни.
Судьба «Записок» историка С.М. Соловьёва
Замечательный русский историк Сергей Михайлович Соловьёв (1820–1879) оставил обширное наследие. Очередное, выпущенное в 1988–1998 годах собрание его сочинений включает двадцать две книги внушительного формата. В этом наследии особое место занимают «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» – рассказ о собственном пути в науке, о своих трудах, учителях, современниках.
В отличие от Карамзина, Костомарова и Ключевского, Соловьёв не обладал литературным талантом. Академик М.М. Богословский говорил, что прочесть все двадцать девять томов «Истории России с древнейших времён» – тяжкий труд. Но «Записки» составляют исключение. Содержащиеся в них оценки людей и событий ярки, врезаются в память. Казалось бы, воспоминания выдающегося ученого должны были быстро найти дорогу к читателю и вызвать сочувственный интерес. Случилось иначе. Они увидели свет только через семнадцать лет после смерти автора и то в отрывках, причём сразу же возник конфликт по этому поводу между его сыновьями, а отзывы прессы оказались в основном отрицательными. В дальнейшем последовало еще четыре издания, но по-настоящему судьба этого произведения так и не осмыслена.
Когда создавались мемуары? Впервые введший их в читательский оборот сын историка Всеволод ссылался на слова отца о том, что они писались «в разное время, в пятидесятых-шестидесятых годах». Сергей Михайлович думал пересмотреть, расширить и отделать их, когда «освободится», т. е. закончит работу над «Историей России»[67]. Это утверждение вроде бы согласуется с указаниями, рассеянными по тексту, – на то, что те или иные его части написаны 15 ноября 1854 года, в сентябре 1855 года, 1 сентября 1857 года, в 1858 году[68]. Исходя из этого, комментатор соответствующей книги «Сочинений» Соловьева – Н.И. Цимбаев – считает, что большинство разделов «Записок» действительно относится к 1850-м годам.
Вряд ли это так. Текст отличается большим стилистическим единством, чего не могло бы быть при подготовке его кусками на протяжении по крайней мере четырёх лет. Дети у С.М. Соловьева в пятидесятых годах только появились (к 1858 году Всеволоду – девять лет, Михаилу – шесть, Владимиру – пять), и было бы странно, если бы молодой ученый уже в тридцать четыре года задумал оставить им воспоминания о своей жизни. Рассказ ведется очень раскованно, что совсем несвойственно сочинениям конца царствования Николая I и периоду до начала реформ Александра II.
Мне кажется, автор испытал влияние стиля «Былого и дум» А.И. Герцена, ставших доступным русским читателям в шестидесятых годах. То, что это наблюдение не субъективно, показывает аналогичное наблюдение одного из рецензентов «Записок»[69]. Для примера приведу такую фразу из воспоминаний Соловьева: «Филарет должен был перестать ездить в Петербург для присутствия в Священном Синоде, где шпоры обер-прокурора, гусарского офицера гра-фа Протасова зацеплялись за его рясу»[70].
Вероятнее всего, в пятидесятых годах Соловьев делал для себя какие-то заметки дневникового типа, а уже позднее, в шестидесятых – начале семидесятых годов использовал их при работе над мемуарами. Тогда, в разгар реформ Александра II, цензура наименее стесняла печать, что сказывалось и на рукописях того времени.
Основной рассказ доведен до 1861 года. Автор уже профессор Московского университета, выпустивший более десяти томов главного своего труда. Особняком стоит последний раздел, где речь идет не столько о событиях личного плана, сколько о положении в стране к концу царствования Александра II. Тут есть текстуальные совпадения с наброском 1879 года «О современном состоянии России» и ссылка на двадцать седьмой том «Истории», увидевший свет в 1877 году[71]. Стилистически эти страницы отличаются от предшествующих. Очевидно, они написаны после определённого перерыва в работе над воспоминаниями.
При публикации «Записок» в 1907 и 1915 годах указывалось, что некоторые их части остались неизданными[72]. Скорее всего, это недоразумение. Всё, что содержится в трёх тетрадях с записями мемуарного характера, сохранившихся в архиве С.М. Соловьева, опубликовано. Ошибка, вероятно, порождена, словами первого публикатора Всеволода Соловьева о том, что он приводит выдержки из пяти тетрадей. Но он пользовался не оригиналом, а копией, сделанной вдовой историка.
После смерти Соловьева черновик его «Записок» был передан семьей профессору Московского университета и директору Московского архива министерства юстиции (нынешнего Российского государственного архива древних актов), зятю покойного Н.А. Попову. Он хотел подготовить его биографию, но умер, не осуществив своё намерение. Побывала рукопись и у другого свойственника историка – П.В. Безобразова. Ему принадлежит биография С.М. Соловьева в павленковской серии «Жизнь замечательных людей» (СПб., 1894). Тут впервые приведены небольшие отрывки из воспоминаний, касающиеся детства и юности будущего ученого.
На публикацию, пусть частичную, решился старший сын Сергея Михайловича Всеволод – автор исторических романов. В журнале «Русский вестник» за 1896 год (№№ 2–5) он поместил извлечения из «Записок» под заглавием «Из неизданных бумаг С.М. Соловьева. Московский университет, славянофилы и западники в сороковых годах»[73].
Публикация ещё не завершилась, когда в печати появились возражения против неё двух других сыновей автора – Михаила и Владимира. Уже в феврале 1896 года, т. е. сразу же по выходе № 2 «Русского вестника», Михаил выступил с протестом на страницах «Нового времени»[74], а в апреле оба брата совместно написали реплику к публикации в «Вестнике Европы»[75]. Всеволод прислал в «Русский вестник» «Необходимое объяснение»[76]. Михаил и Владимир говорили, что воспоминания печатаются неисправно, по копии, а не по подлиннику; без согласования с другими членами семьи. Произвольно отобраны одни эпизоды, другие же, более интересные, опущены. Кое-что обнародовать ещё рано. Они предложили «Вестнику Европы» со временем опубликовать «Записки» целиком по оригиналу. Редакция охотно согласилась. В № 5 этого журнала за 1896 год Владимир Соловьёв напечатал статью о своём отце, состоящую в основном из не вошедших в публикацию Всеволода отрывков из мемуаров[77]. Тот в ответ направил в «Русский вестник» «Нотариальное заявление по поводу издания «Записок» историка С.М. Соловьёва в «Вестнике Европы», отстаивая свои права и грозя братьям судом[78].
В чём суть этого конфликта? Аспектов несколько. Политическая ориентация двух журналов разная. Основанный М.Н. Катковым «Русский вестник» – консервативный орган; редактировавшийся М.М. Стасюлевичем «Вестник Европы» – либеральный. Всеволод Соловьёв выбрал из «Записок» отца страницы, где не слишком лестно характеризовались представители русской интеллигенции сороковых годов, как славянофилы, так и западники, одинаково неприятные консерваторам. Владимир Соловьёв отобрал совсем другие тексты – о положении и типах русского духовенства при Николае I. Сын священника, С.М. Соловьёв хорошо знал эту среду и общую ситуацию в этой сфере, и то, что он говорил, консерваторам нравиться не могло. Между тем, Владимира Соловьёва всегда волновало положение церкви в России, и он был настроен к ее официальной иерархии критически.
Слова двух братьев о несвоевременности публикации некоторых записей их отца связаны с тем, что его характеристики ряда деятелей середины их века весьма нелицеприятны, и это сразу же вызвало нарекания в печати. Действительно, историк не скрывал своего отрицательного отношения к митрополиту Филарету, С.П. Шевырёву, М.П. Погодину, П.М. Леонтьеву, Н.И. Крылову, А.С Хомякову, С.Т. и К.С Аксаковым… Правда, тут же очень тепло говорится о СГ. Строганове, Т.Н. Грановском, Д.Л. Крюкове, Н.Х. Кетчере, даже о таком мало популярном человеке, как М.Т. Каченовский.
К моменту публикации первых отрывков из «Записок» никого из названных лиц уже не было на свете, но были живы их родственники, ученики, почитатели. Известно о протесте, присланном в «Русский вестник» учениками П.М. Леонтьева[79]; о докладе протоиерея Ивана Григорьевича Виноградова в защиту Филарета от нападок С.М. Соловьёва, прочтённом в Обществе любителей духовного просвещения[80].
Особенно удивляют выступления серьёзного исторического журнала «Русский архив». Издатель его Пётр Иванович Бартенев писал, что публикация «Русского вестника» – «грубая ошибка в ущерб памяти автора». Наиболее возмущали его отзывы о Погодине и Шевырёве[81]. Сын издателя, цензор Юрий Бартенев счёл нужным вступиться за Хомякова[82].
Подобные отклики связаны как с христианской заповедью: «Не судите, да не судимы будете», так и с античным принципом: «О мёртвых или хорошо, или ничего». Но дело не только в этом. То, что писалось в эпоху революционной ситуации 1860-х годов, выглядело слишком смелым в годы реакции при Александре III. То, что казалось оправданным в рассказах литераторов А.И. Герцена или П.В. Анненкова (вполне в духе С.М. Соловьёва оценивавших тех же самых людей), воспринималось как нечто предосудительное в устах учёного, ректора университета.
Историки не так уж часто пишут воспоминания. К моменту публикации «Русского вестника» увидели свет только мемуары петербургского академика Николая Герасимовича Устрялова[83] да профессора Московского университета Ивана Михайловича Снегирёва[84]. И те, и другие очень сухие, официальные. И тот, и другой принадлежали к предшествующему по сравнению с С.М. Соловьёвым поколению. Мемуары его сверстника Николая Ивановича Костомарова полностью пришли к читателю только в 1922 году, т. е. через тридцать семь лет после смерти автора, и не выглядят столь остро, как соловьёвские. Для учёного мира действовал особый этикет – «академическая форма». Сергей Михайлович-мемуарист её явно нарушал.
Ситуация повторилась, когда «Вестник Европы» напечатал наконец в 1907 году (№№ 2–6) полный текст «Записок». Это произошло уже после смерти всех трёх сыновей историка. Опять последовали возражения. Профессор Алексей Петрович Лебедев выпустил специальную брошюру «В защиту Филарета, митрополита Московского, от нападок историка С.М. Соловьёва» (М., 1907. -34 с).
В «Русском архиве» вновь выступили оба Бартеневых. Старший поместил там «Воспоминания о С.М. Соловьеве», где сказано о нём много хорошего, но оговорено, что «Записками к прискорбию его почитателей он омрачил себя»[85]. Реплика Юрия Бартенева ещё резче. Она озаглавлена «Недоучки-славянофилы и высокоучёный западник-профессор. С.М. Соловьёв и К.С. Аксаков». По мнению Юрия Бартенева, публикация «Вестника Европы» – «плохая услуга памяти историка», ибо он писал «злобно», «заведомо лживо». Сыну издателя журнала «жутко за мелколожье автора». Учёный характеризуется как человек бездарный, не сумевший ответить своими трудами ни на один жгучий вопрос русской жизни. Ему противопоставлены как великие провидцы и пророки А.С. Хомяков и К.С. Аксаков[86].
Показательна и оговорка редакции «Вестника Европы» о том, что хотя рукопись передал в журнал Владимир Соловьёв уже давно (очевидно, в 1896 году), опубликовать её сразу же было нельзя, поскольку возражали другие члены семьи. Теперь это препятствие отпало[87]. Скорее всего, речь шла о позиции Михаила Сергеевича, умершего в 1903 году.
В 1915 году «Записки» были перепечатаны по журнальному тексту отдельной книгой издательством Н.Н. Михайлова «Прометей» (Пг., 174 с). На этот раз все рецензии оказались положительными, а их было семь – в «Северном вестнике», «Голосе минувшего», «Историческом вестнике», «Вестнике Европы», «Русских записках», «Русской мысли», «Русской старине». Времени прошло много, поколения сменились, давние споры и противоречия сгладились и забылись. Во всех рецензиях отмечено богатство материала о жизни русской интеллигенции середины XIX века.
Прошло, однако, почти семьдесят лет, прежде чем воспоминания Соловьёва вновь увидели свет. В сталинские годы он числился всего лишь «буржуазным учёным», и если лекционный «Курс русской истории» В.О. Ключевского был переиздан, то ничего из наследия его учителя не перепечатывалось вплоть до 1959 года. Только в 1983 году издательство Московского университета выпустило в одной книге «Избранные труды» и «Записки» С.М. Соловьёва. Комментарии к мемуарам составили А.А. Левандовский и Н.И. Цимбаев. Подготовленный ими текст затем воспроизвели в XVIII томе «Сочинений» С.М. Соловьёва в 1995 году.
Н.И. Цимбаев говорит, что текст выверен по рукописи. Сделано это было, видимо, не слишком аккуратно. В обоих изданиях (как и во всех предшествующих) фигурирует некий «Березников», внесённый без уточнения имени и отчества в указатель имён[88]. Между тем ясно, что упоминался крупнейший архивист академик Яков Иванович Бередников. Должно быть, к воспоминаниям С.М. Соловьёва текстологам надо будет возвратиться ещё раз.
Что же всё-таки можно сказать в заключение о своеобразной судьбе интересующей нас книги? Были ль правы хоть в чём-то её критики или их раздражение носило случайный характер?
Жизнь Сергея Михайловича сложилась в целом очень удачно. Окончив университет, он получил возможность побывать в Западной Европе и прослушать лекции ведущих зарубежных ученых. В двадцать четыре года занял кафедру русской истории Московского университета; в двадцать пять лет защитил магистерскую диссертацию, всего через два года – докторскую; в двадцать семь лет удостоился звания профессора. В тридцать один год приступил к подготовке монументальной «Истории России с древнейших времен» и с непостижимой регулярностью выпускал по тому в год до самой своей кончины. Пользовался уважением коллег, студентов.
Казалось бы, всё это должно было дать чувство удовлетворения и доброжелательности к людям. Но этого не произошло. Начало научной карьеры Соловьёва совпало с годами «мрачного семилетия», апогея николаевской реакции. И защита диссертаций, и чтение лекций, и публикация «Истории» встречали сопротивление официальных кругов. В преддверии реформ Александра II возникали ожесточенные споры о судьбах России, не оставлявшие учёного равнодушным. Он чувствовал свою силу и на многих смотрел свысока. Как все специалисты, не терпел дилетантов, вроде славянофилов, с лёгкостью судивших о сложнейших вопросах. Болезненно воспринимал и противодействие тем или иным своим начинаниям. А поскольку Сергей Михайлович набрасывал свои «Записки» не в конце жизни, а в расцвете сил, в возрасте сорока с небольшим лет, то на их страницах заметно отпечатались обиды, раздражение, конфликты недавнего времени.
Мы можем сказать, что данные здесь оценки официальных деятелей николаевского царствования – С.С. Уварова, Д.Н. Блудова, П.А. Ширинского-Шихматова, Д.П. Голохвастова, митрополита Филарета, реакционных профессоров М.П. Погодина, С.П. Шевырёва, И.И. Давыдова, П.М. Леонтьева в общем справедливы, и с близкими оценками они вошли в историю. Споры со славянофилами вызвали не слишком лестные высказывания о С.Т. и К.С Аксаковых, А.С. Хомякове, Ю.В. Самарине, А.И. Кошелеве. Но ведь ещё в 1857 году Соловьёв открыто говорил в печати об их «антиисторическом направлении».
И всё же порой страсти заводили автора «Записок» чересчур далеко. Меня, например, покоробил такой пассаж: «В конце 1846 года я сблизился со славянофилами… Самое видное место в славянофильском кружке занимали Аксаковы. Старик Сергей Тимофеевич – в молодости театрал, игрок, клубист, лёгонький литератор, переводчик, стихоплёт; в старости… человек больной. Умный, практический, хитрый, с убеждениями ультразападными а между тем легко прилаживался к славянофильскому кружку считавший славянофильство своим родным, фамильным делом, делом священным и неприкосновенным… Константин, достойный прозвища Багрова, – человек, могущий играть большую роль при народных движениях и в гостиных зелёного русского общества…, силач, горлан, открытый, добродушный, не без дарований, но тупоумный; последнее можно было ещё легко сносить за открытость…, но, что делало его нестерпимым, так это крайнее самолюбие и упорство в мнениях, для поддержания которых… он средств не разбирал»[89]. Пожалуй, говорить так о людях, уже умерших, людях значительных, в чьём доме некогда бывал, не очень хорошо.
П.И. Бартенева возмущало то, что в «Записках» Погодин без обиняков назван «подлецом»[90]. Он вспоминал, что на отпевании Погодина видел Соловьёва, и тот сказал, что у покойного были добрые черты. Что за двуличие! Но преемнику умершего по кафедре следовало по этикету присутствовать на панихиде и произнести о нём нечто похвальное, хотя всем было известно, что эта кафедра перешла от старого историка к молодому вопреки воле первого.
Подводя итоги своей жизни, человек вправе высказать своё восприятие окружающего, пусть и одностороннее, субъективное. В обществе это не поощряется. Отсюда нападки на Соловьёва поклонников А.С. Хомякова и К.С. Аксакова, Филарета и П.М. Леонтьева. Совершенно ничтожный Юрий Бартенев готов был ради возвеличивания Хомякова и Константина Аксакова всячески принижать первого историка России.
Поражает позиция его отца – Петра Бартенева, великого знатока нашего прошлого, издавшего в «Русском архиве» десятки важных свидетельств о делах и людях XVIII и XIX столетий. Кому, как не ему, должна была быть понятна ценность любого такого свидетельства, вне зависимости от степени субъективизма. Но и Пётр Бартенев обладал стремлением к сглаживанию острых углов, к превращению живой противоречивой жизни в некую идиллию, красивую легенду. Недаром в его «Русском архиве» появились статьи, осуждавшие Льва Толстого за то, что в «Войне и мире» он без должного почтения обрисовал и русское дворянство, и русское купечество, и русское воинство. А ведь именно старший Бартенев выступал главным консультантом Толстого при работе над его эпопеей[91].
Конфликт, возникший вокруг «Записок» С.М. Соловьёва, носил не только частный, но и общий вневременной характер. Какими должны быть мемуары? Насколько допустима субъективность (она же чаще всего откровенность)? В наши дни многих, и меня в том числе, покоробили некоторые высказывания об А.Т. Твардовском в книге А.И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом». Но в целом я всё же с С.М. Соловьёвым, а не с его критиками. Мне близки слова Льва Толстого: «Есть старинное изречение…: «О мёртвых говори доброе или ничего». Как это несправедливо! Напротив, надо бы сказать: «О живых говори доброе или ничего». От скольких страданий это избавило бы людей… О мёртвых же почему не говорить худого? В нашем мире, напротив, установилось вследствие обычая некрологов и юбилеев говорить о мёртвых одни преувеличенные похвалы, – следовательно, только ложь. А также лживые похвалы вредны потому, что сглаживают в понятиях людей различие между добром и злом»[92].
* * *
Когда я писал это очерк, мне казалось, что затронутые в нём споры отодвинулись в далёкое прошлое, а страсти, кипевшие вокруг них, давно улеглись. Я ошибался. В 2000 году на «III Зиминских чтениях» в Москве прозвучал доклад историка из Кемерова А.Н. Бачинина «О судейском комплексе С.М. Соловьёва (По его «Запискам»)». Автор – поклонник психоанализа и находит в мемуарах Соловьёва всё, что положено: «психосексуальные комплексы», «заторможенность самоидентификации», «эротическое влечение клиента к патрону С.Г. Строганову» и т. д. Оставим это на совести новоявленного психоаналитика. Важнее другое: для него «Записки» Соловьёва глубоко антипатичны. Он убеждён, что нельзя «копаться в отхожих местах натуры человеческой». Соловьёв, на его взгляд, совершил «моральное предательство» и «оболгал простодушного и ни в чём не повинного Погодина»[93].
Страсти, возбуждённые появлением «Записок» Сергея Михайловича Соловьёва, бушуют по-прежнему.
Загадочный предшественник
В 1952–1956 годах я вёл раскопки палеолитических стоянок в Крыму. Для начала я объехал ранее известные стоянки, чтобы посмотреть, в каких условиях они расположены, какими методами их изучали мои предшественники. Около заплывших землею старых шурфов и раскопов я вспоминал всё прочитанное в Москве о крымском палеолите, об истории его исследования и о самих исследователях. Особенно интересовали меня двое – Константин Сергеевич Мережковский, зачинатель работ по каменному веку Крыма, и Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский, широко развернувший их в послереволюционные годы. Об этих учёных я постарался узнать побольше из книг и расспросов моих коллег. О Бонч-Осмоловском расскажу в другом месте. О Мережковском поговорим здесь.
Это странная, загадочная фигура. Его исследования в Крыму продолжались два полевых сезона – 1879 и 1880 годов, но за этот короткий срок сделано им столько, сколько иные археологи не смогли совершить за всю жизнь. Им открыты палеолит Крыма и Северного Причерноморья вообще, первые ранне-палеолитические и первые же пещерные стоянки в стране.
Проблема раннекаменного века была тогда только что поставлена. В России его выявили всего в трех-четырех точках: в Иркутске у военного госпиталя в 1871 году; в Гонцах на Полтавщине в 1873 году; в Карачарове на Оке в 1877 году. Русские ученые хорошо знали, что во Франции и Испании стойбища охотников на мамонта и северного оленя приурочены в основном к пещерам, и пробовали отыскать аналогичные памятники в наших горных районах. А.С. Уваров предпринял такую попытку и в Крыму, у Ореанды, но ничего кроме средневековых вещей ему не попалось. А Мережковский, прошурфовав за два года тридцать четыре пещеры, в девяти наткнулся на древние культурные слои. В 1934 году, после двенадцатилетних разведок, Бонч-Осмоловский писал, что из осмотренных им и его сотрудниками четырехсот пещер культурные отложения есть в шестнадцати.
Это ещё не всё. До сих пор древнейшими следами обитания человека на полуострове остаются поселения эпохи мустье. Первое из них, в Волчьем гроте на реке Зуе, нашел Мережковский. Вторую стоянку этого времени в России удалось найти через двадцать лет, а третью – через сорок с лишним, уже после революции. О позднем палеолите Крыма мы и сейчас судим по двум пещерам– Сюрень I и Качинский навес, обнаруженным Мережковским. За следующие сто с лишним лет новых памятников этого периода найдено не было. В гротах у Черкез-Кермена и в Сюрени II Мережковский выделил и мезолит. Значит, он установил все этапы местной палеолитической культуры. Побывал он и на всех характерных для неё типах памятников.
Помимо ныне существующих, бывают и погребённые пещеры с обрушившимся сводом, закрытые осыпями и оползнями. И нащупать, и раскапывать их очень трудно. Впервые расчистила от земли обвалившийся навес и извлекла из-под него мустьерские орудия моя экспедиция 1955–1956 годов на реке Альме у села Малиновки (бывшее Кабази). Но пришёл я сюда потому, что на склоне под скалами в этом пункте собирал кремни ещё Мережковский.
Немало в Крыму и стоянок вне пещер, на плоскогорьях (так называемых яйлах). И этот тип поселений отмечен Мережковским неподалёку от Кизил-Кобы. Весьма редки находки кремневых орудий на побережье, но он разыскал и такой памятник – у Замрука в Западном Крыму. До 1957 года, когда из обреза морского берега у Судака был вынут мустьерский остроконечник, подобные находки не повторялись.
В целом объём работ, проведённых в 1879–1880 годах, поразителен, в особенности, если учесть, что руководитель экспедиции не имел никакого предшествующего опыта – ни своего, ни чужого. При этом полевыми наблюдениями он не ограничивался, а стремился ответить на важные исторические вопросы. В те годы в научной литературе обсуждалась проблема хиатуса – разрыва, тёмной эпохи, разделяющей палеолит и неолит. Мережковский показал, что разрыва в действительности нет, он заполняется микролитическими культурами, вроде найденных у Кизил-Кобы. Позднейшие исследования подтвердили этот вывод.
Но самое удивительное заключается в другом: раскопками занимался двадцатипятилетний студент естественного факультета Петербургского университета, специализировавшийся не по первобытной археологии (или антропологии, как тогда говорили), а по ботанике и зоологии. Прожил он долго, стал профессором, напечатал около семидесяти работ по биологии, главным образом о простейших организмах – губках, водорослях, а также о виноградарстве. В третьем издании «Большой советской энциклопедии» о нём сказано: «Один из основоположников теории симбиогенеза, основываясь на которой, предложил оригинальную систему органического мира с делением его на три царства: микоиды (грибы, бактерии, сине-зелёные водоросли), растения и животные. Указал на эволюционное значение неотении и олигомеризации органов»[94]. За последние годы о научных прозрениях Мережковского говорили не раз[95].
Что касается раскопок, то Мережковский забросил их на второй же год. Память о нём в истории археологии сохранилась только как о человеке, открывшем крымский палеолит, авторе нескольких «антропологических» публикаций, прежде всего двух кратких полевых отчетов[96]. В них обещано скорое издание монографии о палеолите и, кажется, автор ее подготовил. Во всяком случае, С.Н. Замятнин нашёл в архивах пару отпечатанных уже таблиц к этой книге. Света она не увидела. Почему – неизвестно.
Конечно, нередко бывает, что новые задачи отвлекают ученого от старых, почти разрешённых, но тут что-то иное. В 1880-х годах Мережковский поселился в Крыму и пять лет жил по соседству с обнаруженными им стоянками, однако ни разу не попытался продолжить раскопки. Незадолго до первой мировой войны в Крым приехал немецкий археолог Рудольф Шмидт. Он заложил шурфы в ряде пещер, ничего не нашёл и заявил в печати, что палеолита там нет и быть не могло, поскольку в древности полуостров был изолирован от материка. Любой из нас кинулся бы на защиту своих открытий, а Мережковский промолчал.
Загадка за загадкой. Хочется понять, чем объяснялось странное поведение этого человека. Бонч-Осмоловский высказал такое предположение: его предшественник взялся за пещеры Крыма в крайне неудачный исторический момент. «Победоносцевское мракобесие слишком ревниво охраняло православную веру, чтобы допустить у себя какие-либо исследования, нарушавшие его догмы… Раскопки, если не были запрещены, то – ещё хуже – были преданы забвению»[97]. Предположение вполне вероятное. Изыскания в области первобытной культуры, неминуемо входившие в противоречия с Библией, в царской России не пользовались поддержкой правительства. В 1881 году народовольцы убили Александра П. Наступила эпоха реакции. Студент Мережковский тяготел к радикальной молодёжи. В поэме его брата, известного писателя, «Старинные октавы» мы читаем:
«Был Костя – старший брат мой – правоведом, Но поступил он, возмутившись вдруг, И полный нигилизма модным бредом, На факультет естественных наук. … Смеясь над чёртом и над Богом, Он всё, во что я верил, разрушал»[98].В прозаических воспоминаниях Дмитрия говорится, что Константин одобрял убийство императора, из-за чего надолго рассорился с их отцом – столоначальником придворной конторы[99].
Эти факты позволяют согласиться с Бонч-Осмоловским. Да, публикация книги о древнейшем человеке после 1881 года стала невозможной или, по крайней мере, нежелательной. Её автору разумнее всего было переключиться на ботанику или зоологию и вообще не обращать на себя внимания властей. Недаром именно тогда он на два года уехал за границу.
Но как ни логичны эти соображения, кое-что им противоречит. За рубежом Мережковский мог свободно напечатать серию статей о крымском палеолите, а издал лишь маленькую заметку о Волчьем гроте. Через несколько лет исследования древнекаменного века в России возобновились. В 1886 году копал на Афонтовой горе И.Т. Савенков, в 1893 – на Кирилловской стоянке В.В. Хвойко, в 1896 – на Томской Н.Ф. Кащенко. Возразить Шмидту полагалось бы каждому учёному. В 1904 году Мережковский передал Н.П. Загоскину автобиографию и список своих работ для «Словаря профессоров и преподавателей Казанского университета». В этот университет он попал с большим трудом. Ему было важно подчеркнуть, сколь значительны его заслуги перед наукой. Но из археологического раздела списка выпал ряд французских статей и рецензий. По-видимому, Мережковский забыл о них. Плохо позаботился он и о коллекциях из своих раскопок; они рассеяны по разным музеям, а частично и потеряны.
Словом, нельзя свести вопрос к внешним препятствиям. Объяснение Бонч-Осмоловского, чересчур простое и прямолинейное, надо расширить. Главное, вероятно, не в цензурных запретах и полицейских репрессиях, а в глубоком внутреннем кризисе, пережитом русской интеллигенцией в последние два десятилетия XIX века.
В 1907 году И.И. Мечников начинал «Этюды оптимизма» с рассказа о поколении, воспитанном на идеалах шестидесятых годов. Для людей, воодушевлённых идеей прогресса, победного шествия науки, развития знания, торжества разума, эпоха реакции и застоя оказалась жестоким испытанием. Многие утратили былую веру в просвещение и труд, махнули на всё рукой, отошли от активной деятельности[100]. Свидетельство высокоавторитетное, и история Мережковского выглядит как иллюстрация к обобщениям Мечникова. Ей можно найти и близкие параллели.
Знаменитый путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай обогатил этнографию ценными наблюдениями, но плодотворно работал в этом направлении совсем недолго. Только первое его пребывание на Новой Гвинее дало обильный материал, о втором – имеются случайные разрозненные записи. С 1880 года до самой смерти в 1888 году Миклухо-Маклай жил в Австралии – краю для этнографа не менее интересном, чем Океания, но посмотреть на аборигенов за восемь лет так и не съездил. Вместо монографии о меланезийцах он изредка сочинял зоологические заметки, преимущественно о губках (т. е. по излюбленной теме Мережковского)[101].
Назову и известного фольклориста П.Н. Рыбникова. Высланный в молодости в Олонецкую губернию, он составил там замечательное собрание былин, в шестидесятые годы посвятил им ставшие классическими труды, а потом забросил науку и превратился в заурядного чиновника. Умер он в 1885 году, дослуживший до поста калишского вице-губернатора.
На таком фоне становится понятнее и жизненный путь Мережковского. Отрывочные данные об его биографии выдвигают, однако, новые вопросы. Источники наших знаний об ученых прошлого, как правило, предельно скудны. Обычно они исчерпываются юбилейными статьями и некрологами. Мережковский не удостоился ни того, ни другого. Кое-какие сведения о нём можно найти лишь в «Словаре профессоров Казанского университета» и в газетных статьях.
Весной 1914 года величайшим скандалом закончилась его академическая карьера. Его обвинили в истязаниях и растлении своей тринадцатилетней приёмной дочери Калерии Коршуновой. Потом ему стали приписывать и другие жертвы в том же роде. Губернские и столичные газеты из номера в номер помещали статьи о «казанском маркизе де Саде». Хлёсткий фельетон о нём настрочил сам Влас Дорошевич. Обстановка осложнялась тем, что в этот период учёный оказался близок к правым кругам. Обличая его, либеральная «Камско-Волжская речь» как бы опорочивала всю реакционную профессуру. Не молчал и орган правых – «Казанский телеграф». Что же нового узнаем мы из этих источников?
По словам «Камско-Волжской речи», в юности Мережковский подавал большие надежды и уже студентом в двадцать три года читал лекции в Петербургском университете. Затем он женился и поселился в Крыму, около Учан-Су, в имении, выделенном отцом. Извращенность Мережковского заставила жену порвать с ним, а вскоре, после каких-то неблаговидных историй с несовершеннолетними девицами ему пришлось бежать в Америку. Он работал в Калифорнии, пока и там не разразился скандал такого же рода. Преступник вернулся в Крым, откуда (странное дело!) был приглашен в Казанский университет внештатным преподавателем. Защитил диссертацию. Университетская корпорация не желала принимать его в свою среду, и в нарушение всех правил министр народного просвещения своим приказом назначил его профессором. Жил он затворником, в доме с закрытыми ставнями, в гости к себе никого не звал, но имел значительные связи в верхах, вплоть до Столыпина и Плеве; был одержим идеей «жидо-масонского заговора»; вероятно, состоял агентом охранного отделения[102].
Отвечая левой прессе, «Казанский телеграф» утверждал, что она искажает факты. Обвиняемый прежде всего сумасшедший. Ещё в Петербурге вместе с Бутлеровым и Вагнером он увлекался спиритизмом, помешался на этой почве и два года просидел в доме умалишенных. Никаким весом в правых кругах этот так и не оправившийся от болезни человек не пользовался[103]. Опровергало слух о сотрудничестве в охранке и само это учреждение[104].
Две версии. Какой из них верить? Наиболее лёгкое решение: раз это аморальная личность и махровый реакционер, лучше забыть о его научных заслугах. Будем писать не «палеолит Крыма открыт К.С. Мережковским», а «палеолит Крыма открыт в 1879–1880 годах». Способ знакомый, в своё время широко применявшийся. Другой вариант: «Отдадим должное молодому учёному, нигилисту и активному исследователю крымских пещер. Жалкий конец его после душевной болезни для истории науки нисколько не интересен». Но попробуем всё же разобраться, сопоставив всё то, что нам удалось узнать.
Левым газетам доверяешь по традиции больше, чем правым, но всё ли надо понимать буквально в бойких фельетонах, всё ли в них сказано? В качестве примера извращённости там фигурирует и вот что: в Крыму Мережковский разгуливал по своему имению без рубашки и без брюк в коротких штанишках (сиречь в трусиках)[105], а жену свою заставлял ходить босиком. Разумеется, приличная женщина делить жизнь со столь омерзительным субъектом не захотела, и уже её уход из дома характеризует покинутого супруга. В душевном заболевании либеральная печать сомневается. Между тем, это, по-видимому, не выдумка правых.
В статье «Мережковский» «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» сообщал: «Вследствие болезни вынужден был оставить С.-Петербург и научные занятия»[106]. Речь идёт, надо думать, не о колите или даже туберкулёзе. Прервать научную работу могло, по идее, только психическое состояние. Не идёт здесь речи и об удобной формуле для прикрытия какого-то скандала. В 1896 году учёный, деятельность которого оборвалась в самом начале, ещё почтенный человек, заслуживающий статьи в энциклопедии.
Умалчивается о болезни и в автобиографии Мережковского, но прочтём её повнимательнее. Ещё не получив диплом, печатал статью за статьей, а в 1878 году выпустил даже книгу «Этюды над простейшими животными Северной России» (на её титульном листе обозначено: «Студент Санкт-Петербургского университета К.С. Мережковский»). В эти годы он и приступил к раскопкам в Крыму, а кроме того, успел пройти практику на Неаполитанской биологической станции.
Окончив университет в 1880 году, на два года уехал за границу. В Берлине занимался в лаборатории Рудольфа Вирхова. Посетил научные центры Парижа, Иены, Лейпцига и снова Неаполь. С 1883 года – приват-доцент Петербургского университета.
Далее начинается что-то менее понятное: с 1885 года живёт в Крыму; в 1893 – назначается заведующим крымскими фруктовыми садами удельного ведомства (вероятно, не обошлось без помощи отца). В списке трудов – десятилетний разрыв, с 1884 до 1894 года ни одной статьи или заметки им не опубликовано (За восьмилетие с 1877 до 1884 их 38; за 11 лет с 1894 – 32). От ампелографии – изучения сортов и способов возделывания винограда – к своей университетской специальности Мережковский возвращается позднее. В 1897 году устраивается на Севастопольскую биологическую станцию. Потом уезжает в Америку, где работает в Калифорнии, в Сан-Франциско (американские публикации датируются 1900–1901 годами). В Россию он вернулся в 1902 году итут же был приглашен в Казань А.А. Остроумовым. В 1903 году сорока восьми лет защитил магистерскую диссертацию по ботанике[107]. В 1906 – доктор ботаники; в 1908 году – профессор по соответствующей кафедре[108].
Последовательность событий та же, что в обличительном жизнеописании из «Камско-Волжской речи», но неожиданные перемены занятий и переезды никак не объяснены. Тем не менее, при всех недомолвках ясно: 1884 год для Мережковского роковой. Скорее всего, следующие два года до переезда в Крым и стали тем временем, когда, по свидетельству «Казанского телеграфа», он находился в психиатрической лечебнице. Не сразу пришёл он в себя и в Крыму. Десять лет были вычеркнуты из жизни учёного. Выдвинувшийся в столице ещё на студенческой скамье, он лишь на шестом десятке лет с трудом добился профессорской кафедры в провинции.
Таким образом, причина всех странностей – душевный надлом, но отнюдь не случайно, в какой момент болезнь настигла молодого биолога. В стране восторжествовала реакция и многим казалось, что навсегда.
Ну, а как же с «маркизом де Садом», с жидо-масонами и прочим в этом роде? Было это или не было? Мой учитель С.Н. Замятнин расспрашивал людей, слушавших лекции Мережковского в Казани. По их мнению, он был явно ненормален, чем и объяснялись странности в его поведении. Никаких преступлений, по уверению информаторов Замятнина, он не совершал, а сам оболгал себя от изломанности. За это говорит, как будто, и то, что после двукратного скандала – в Крыму и в Америке – человека без степеней и званий вряд ли пригласили бы преподавать в университете. Непонятно к тому же, где он приобрёл связи в верхах – когда был нигилистом в Петербурге, или душевнобольным в Крыму, или беглецом в Америке?
Но есть и другие данные. В газетах упомянута приобщённая к делу Мережковского книга «Рай земной», напечатанная им, минуя цензуру, в Берлине – утопия XXVII века, воспевающая, в частности, наготу, юные тела, плотские радости[109]. «Стойким правым профессором» именовал его в 1911 году «Казанский телеграф»[110]. Едва пронёсся слух о несчастной Калерии Коршуновой, как её приёмный отец получил в университете отпуск по болезни и отбыл в Петербург, а оттуда через короткий срок был командирован министром просвещения в Ниццу. 19 мая его уволили с должности профессора, но «с причислением к министерству»[111]. Без покровительства сильных мира сего обвиняемый, наверное, не смог бы так легко ускользнуть от суда и следствия (или это доказательство его невиновности?).
В Ницце, по сведениям газет, Мережковский вошел в контакт с эмигрантами-революционерами; в частности, с Г.В. Плехановым; и сочинял трактат «Моя месть русскому правительству»[112] (Что это – журналистская «утка» или Плеханов поверил рассказу профессора о его неприятностях на родине, ложному или правдивому? Мы опять же не знаем).
Месяц спустя стало известно, однако, письмо Мережковского не к кому-нибудь, а к Григорию Распутину. Начинается оно словами: «Глубокоуважаемый отец Григорий Ефимович!», а кончается – «раб Божий Мережковский». В нём «раб Божий» просит о защите от клеветы, но роняет и фразу: «Если я… виновен»[113].
Трудно сказать, как развивались бы события дальше, потребовала бы Россия выдачи преступника или нет, но тут надвинулись мировая война, потом революция, и о беглеце забыли. Свои дни он окончил в Женеве, отравившись газом в 1921 году.
Письмо к Распутину и утопия «Рай земной», недавно дважды переизданная, не производят приятного впечатления. Видимо, и дружбу с крайне правыми, и какие-то извращения профессору приписывали не зря. Оправдывать его незачем, но и о душевной болезни надо помнить. С ней как-то связаны не только патологические изменения в психике, но и отказ от убеждений молодости.
A.M. Бутлеров и Н.П. Вагнер проводили свои спиритические сеансы в начале 1880-х годов, а отчёты о них публиковали в пресловутом катковском «Русском Вестнике»[114]. Автор «Сказок Кота-мурлыки» – Вагнер не раз выступал против «жидо-масонов». Вероятно, в эти годы разгрома народничества Мережковский – прямой ученик Вагнера по университету – и расстался с «нигилизма модным бредом», погрузившись в сомнительные, но заманчивые сношения с душами умерших. Резкий поворот направо проходил не безболезненно, а с надрывом, надломом; отразился и на здоровье, и на научном творчестве; превратил талантливого ученого в озлобленного, психически неполноценного неудачника.
Я всматриваюсь в две фотографии Мережковского. Одну – раннюю, можно найти в моих «Страницах истории русской археологии»[115]. Молодой интеллигент, в песне и с бородкой; немного похож на А.П. Чехова. В повороте головы и в выражении лица есть что-то нервное. Второй портрет – с подписью «Казанский маркиз де Сад» помещён в «Камско-Волжской речи»[116]. Лицо сильно изменилось, но оно скорее благообразное, чем отталкивающее; волосы совсем седые (В те дни праздновался юбилей историка народнического направления В.И. Семевского. На фотографии в одном из соседних номеров газеты он почти неотличим от «казанского де Сада» – те же седины, та же клиновидная бородка). Ничего не прочтешь по лицу шестидесятилетнего старика. В сущности, это мёртвое лицо.
Итак, все приведённые нами объяснения не исключают одно другого. Да, наступила эпоха реакции, и развернуть в России раскопки палеолитических стоянок не удалось. Реакция ломала души поколения, вступавшего в жизнь, вызывала тяжелые душевные травмы. Люди, подававшие некогда блестящие надежды, утрачивали веру в прогресс и науку, искали забвения в мистике, а то и в разврате, прочих извращениях.
Конечно, моё истолкование необычной судьбы первоисследователя крымского палеолита надо расценивать как схему. Были, скорее всего, обстоятельства, о которых молчат книги и газеты. Ряд загадок ещё не разрешён. Вполне возможны и иные предположения. Скажем, такое: Мережковский прервал раскопки в Крыму потому, что сразу нашёл всё и ему, вроде бы, нечего было там делать дальше. Сейчас мы стараемся раскопать побольше стоянок, притом целиком, чтобы реконструировать планировку древних поселений. В 1880-х годах такое направление исследований ещё даже не намечалось. Нам важно, в каком порядке залегают в пещерах жилые слои, содержащие кремнёвые орудия разных типов. Благодаря наблюдениям над стратиграфией стоянок устанавливаются этапы в эволюции первобытной культуры, преемственность в её развитии или – наоборот – говорят о перерывах в заселении и приходе новых племён. Мережковскому подобные сюжеты могли показаться второстепенными, а, скорее всего, просто не приходили в голову.
В 1886 году А.П. Чехов написал рассказ «На пути». Герой его в занесённой снегом корчме произносит перед случайной встречной настоящую исповедь, вспоминая о своих поисках жизненного призвания, о сменяющих друг друга своих верах. В юности верил он в Биологию, открывшую тридцать пять тысяч видов насекомых. Но стоило ему открыть тридцать пять тысяч первый вид, и интерес угас. Увлекают начала науки, ознакомление с ее методами. Постепенно понимаешь, что ты можешь вложить лишь маленький камешек в стену недостроенного здания, а не завершить постройку, и энтузиазм пропадает. Показательно, что сюжет этого рассказа приурочен как раз к тому десятилетию, когда пережили кризис Мережковский и Миклухо-Маклай, но коллизия тут, безусловно, не устаревающая, вечная.
Сколько мы знаем примеров того, как творческие люди отказываются от творчества, смело ломают свои судьбы. Леонардо да Винчи, углубившийся в научные опыты и распрощавшийся с живописью, несмотря на просьбы со всех сторон о портретах и украшении храмов. Лев Толстой, бросивший художественную литературу ради моральной проповеди. Николай Ге, поселившийся на хуторе Плиски и занятый больше сельским хозяйством и кладкой печей в деревнях, чем изобразительным искусством. Артюр Рембо – до двадцати пяти лет замечательный поэт, а потом неудачливый коммерсант-авантюрист[117]. Жак Копо, после триумфа театра «Старой Голубятни» расставшийся с Парижем и удалившийся с группой студийцев экспериментировать в провинции. Великий математик Блез Паскаль, посвятивший свои последние годы размышлениям на этические темы. Как-то один популяризатор выразился об этом с наивной категоричностью: «Можно сказать, что он умер, хотя он прожил ещё восемь лет»[118]. Поразительная слепота! «Мысли» Паскаля для человечества дороже его теорем. Нам жаль, что мало картин оставил Леонардо, что Лев Толстой не создал нового романа уровня «Войны и мира», но сами творцы смогли поступить только так, а не иначе.
Я не сравниваю Мережковского ни с гениальным Паскалем, ни с просто талантливым Ге. Отвернувшись от миров цифр и красок, они пошли далеко вперёд по другой дороге – к духовному просветлению. Переживший кризис Мережковский не воскрес, а сломался, растерял то, что имел, переродился в опасного садиста и маньяка. Задача моего очерка – не исчерпывающий анализ его психологии или психологии людей умственного труда вообще. Моя цель состояла в том, чтобы показать, в какой степени результаты и ход наших работ определяются особенностями личности исследователя, как всё здесь переплетено, взаимообусловлено, а порой и запутано. Ведь, если бы зачинатель изучения крымского палеолита не выбыл из строя, начатое им дело развивалось бы, а не прервалось на сорок с лишним лет, так что Бонч-Осмоловскому пришлось потом всё налаживать заново.
А задумался я над этим после того, как на удивление окружающим прекратил свои, продолжавшиеся пять лет, очень удачные раскопки под Бахчисараем. Получилось, что будущим историкам палеолитоведения в России придется ломать голову не над одним Мережковским. Что же мне ответить на недоуменные вопросы? Ответов у меня несколько, любой в чём-то верен и в чём-то неполон; все вместе образуют сложное сцепление.
Внешняя причина – Крым передали из РСФСР Украине. Киевские археологи хотели подчинить себе или прикрыть мою экспедицию (См. ниже очерк «Вокруг пещерной стоянки Староселье»). Я сперва посопротивлялся, а потом предпочёл не тратить сил на конфликты и взялся за новый район – Прикубанье. В то же время на раскопках я почувствовал, что мне ближе чисто гуманитарный, книжный аспект археологии, чем полевой, экспедиционный, тесно соприкасающийся с геологией и прочими естественными дисциплинами. Это – внутренняя причина.
И, наконец, имело место нечто более глубокое – осознание того, что в науке я не найду решений волновавших меня жизненных проблем, и стремление поискать эти решения в иной области. Не знаю, поймут ли меня даже друзья и коллеги. Кое для кого, как и прежде, я – «исследователь крымской пещеры Староселье», хотя сам ценю совсем не эти работы, а свои книги по первобытному искусству и историографии, а к палеолиту Крыма, очевидно, никогда не вернусь.
* * *
В 2003 году в Москве вышел объёмистый (1028 страниц) труд М.Н. Золотоносова «Братья Мережковские. Книга первая. Отщеpenis Серебряного века. Роман для специалистов», посвященный К.С. Мережковскому.
Автор проделал большую работу по сбору материалов о своем герое, просмотрел кипы газет, нашел рукописи ученого, поступившие в архив Женевы после его смерти. В приложении опубликованы «Рай земной» и другие произведения К.С. Мережковского.
Разгадка сочетания в одном лице «гения и злодейства» у Золотоносова иная, чем у меня. Он видит в Мережковском человека Серебряного века, полагая, что деятели этого времени, как и люди итальянского Возрождения, были не только высокоодаренными, но и аморальными.
Меня это не убеждает. Знаковая фигура Серебряного века – А.А. Блок. Он родился в 1880 году, когда К.С. Мережковский уже вёл раскопки в Крыму. Это представители разных поколений. Антихристианство, выраженное в утопии Мережковского, чуждо Серебряному веку, как раз искавшему новое христианство. Схема «Рая земного» со сверхчеловеками – «покровителями» и подопытными «друзьями» – обычными людьми – это не идеалы Серебряного века, а искания поколения Раскольникова. Увлечение Дарвином, Г. Спенсером, социал-дарвинизмом – тоже не Серебряный век, а время более раннее.
Объем работы, проделанной М.Н. Золотоносовым, не уравновешен критикой источников. Не всё, что он нашёл в газетах, следует принимать на веру.
Вот почему, отдавая должное труду М.Н. Золотоносова, я счел возможным перепечатать свой очерк, написанный четвертью века раньше[119].
Таланты и коллективный труд
Сейчас, кажется, никто не станет отрицать, что в сложении современных воззрений на русскую культуру прошлого огромную роль сыграли художники из круга «Мира искусства». Книги, статьи и картины Александра Бену а помогли нашему обществу почувствовать неповторимую красоту Петербурга и его пригородов, традиционно расценивавшихся (хотя бы Стасовым) как нечто казённое, чиновничье, казарменное. «Историко-художественная выставка русского портрета», организованная С.П. Дягилевым в Таврическом дворце в 1905 году, а потом перенесённая в Париж, воскресила забытые имена замечательных живописцев XVIII столетия – Рокотова, Левицкого, Боровиковского. Постройки А.В. Щусева в стиле новгородской и псковской архитектуры (собор в Почаеве, церковь Марфо-Мариинской общины на Ордынке в Москве); серия этюдов Н.К. Рериха «Памятники русской старины»; впечатления И.Э. Грабаря и И.Я. Билибина от деревянного зодчества Севера открыли широкой публике глаза на шедевры, созданные в допетровскую эпоху. Можно вспомнить в той же связи и собрание икон И.С. Остроухова; полотна Е.Е. Лансере, К.Ф. Юона, М.В. Добужинского; гравюры А.П. Остроумовой-Лебедевой.
Новый подход к наследию былых веков нашёл отражение и в печати – в журналах «Мир искусства», «Старые годы»; альбомах «Художественные сокровища России», – ив творчестве целой плеяды талантливейших архитекторов, графиков, пейзажистов. В результате этого подхода нам должен был бы остаться и какой-то итоговый монументальный труд. Так это, очевидно, и мыслилось, когда в 1907 году Игорь Эммануилович Грабарь приступил к подготовке многотомной «Истории русского искусства». Завершить это издание не удалось из-за разгрома типографии Кнебель в начале первой мировой войны анти-немецки настроенными молодчиками. Но и вышедшие тома стали важной вехой в развитии отечественного искусствоведения.
От предшествующих сводок их отличают по меньшей мере три черты. Во-первых, введение в научный оборот множества новых материалов. Сам немало поездив по стране, Грабарь заказал для своей работы тысячи фотографий памятников зодчества, разбросанных по глухим городкам и сёлам Поволжья, Карелии, Беломорья. Во-вторых, – непривычный для книг о древностях стиль изложения – живой, взволнованный. В третьих, – свежий взгляд на вещи, свободный от канонов классицизма, от предвзятого представления о Киевской и Московской Руси как о неспособной к чему-то оригинальному провинции византийской культуры. А благодаря этой свежести, – умение увидеть красоту всюду, где она есть, вплоть до скромной деревянной часовенки.
Всё это бесспорная заслуга Грабаря и как автора ряда глав, и как редактора. Почти через столетие его труд по-прежнему служит превосходным справочником и читается с подлинным увлечением. Но, листая эти тома, вы с удивлением встречаете под некоторыми статьями малознакомые нам фамилии – Ф.Ф. Горностаева, П.П. Муратова, Н.Н. Врангеля, Г.Г. Павлуцкого, А.И. Успенского. Только раз промелькнёт здесь имя А.В. Щусева, зато нигде нет ни строчки Бенуа, Дягилева или Рериха. Почему же так вышло? После разборки колоссального архива Грабаря прочтена его обширная переписка и опубликованы кое-какие выдержки из неё. Отсюда мы узнаём, что заинтересовавшие нас обстоятельства возникли не случайно.
Оказывается, в 1907 году при составлении первого проспекта издания Грабарь был твёрдо уверен в активном сотрудничестве Бенуа и надеялся на помощь Билибина, Фомина, Остроухова, Дягилева, Аполлинария Васнецова. Один из основных разделов книги – «Древнейший период русского искусства», охватывающий вереницу веков до возвышения Москвы, предполагалось поручить Рериху[120].
Казалось бы, в последнем случае названа лучшая кандидатура. Николай Константинович – практически сверстник Бенуа и Грабаря (он родился в 1874 году, а те – в 1870 и 1871 соответственно), автор популярных картин из жизни древних славян – «Гонец» («Восстал род на род»), «Идолы», «Заморские гости», «Город строят»; опытный журналист, печатавшийся ещё с 1890 года и много писавший в «Мире искусства», «Золотом руне», «Весах», в газетах «Русь» и «Слово»; коллекционер, основавший вскоре «Музей допетровской эпохи». Имел университетское образование, а с 1898 года читал лекции в Петербургском Археологическом Институте по курсу «Художественная техника в применении к археологии». Ещё гимназистом он увлёкся раскопками и в течение десяти лет вёл их в Петербургской губернии, в районе Бологого, в Новгородском кремле, изучая как неолитические, так и славянские памятники. В 1903 году Рерих совершил поездку по древнерусским городам – посетил Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Псков, Углич, Калязин, Звенигород. Из этой поездки он и привёз этюды для выставки 1904 года.
Но было в выдающемся живописце и что-то ещё, отталкивавшее от него Грабаря и его соратников. Список будущих авторов сводного труда вызвал резкие возражения со стороны Бенуа. «Скажу прямо, – заявил он, – мне не нравится привлечение к делу таких фруктов, как Рерих, С. Маковский и Успенский… Ей же ей, наша старина заслуживает иного освещения»[121].
Странно выглядит эта троица. Успенский был типичным учёным сухарём, составителем компилятивных сводок из архивных документов о художествах на Руси; человеком, начисто лишённым эстетического чувства. Рерих с его эмоциональным восприятием мира, выспренным стилем, разнообразием интересов и яркостью таланта не напоминает его решительно ничем. Выпадает из этого ряда и Сергей Маковский – поверхностный критик, не умевший держать кисти в руках, столь же далёкий и от науки. Объединяло их в глазах Бенуа, видимо, только антипатичное ему отношение к прошлому.
Грабарь свои кандидатуры сперва отстаивал. Собираясь ограничить авторов строго продуманным планом издания, чуть ли не постраничным, он заверял Бенуа, что рериховского «Ой ты гой-есильного тона» возможно не допустить[122]. Художник, как известно, сочинял поэмы, стилизованные под старину, но тут имелось в виду, разумеется, не это, а характер его прозаических выступлений. И действительно, по стилю они никак не подошли бы к проектируемой книге Грабаря.
Вот как просто и в то же время приподнято писал сам Грабарь: «Подводя итоги всему, что сделано Россией в области искусства, приходишь к выводу, что это по преимуществу страна зодчих. Чутьё пропорций, понимание силуэта, декоративный инстинкт, изобретательность форм – словом, все архитектурные добродетели – встречаются на протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль о совершенно исключительной архитектурной одарённости русского народа. И если бы у кого-нибудь могло возникнуть сомнение насчёт возможности приписать эти свойства народу, среди которого работало так много иностранцев, то достаточно указать на русский Север с его деревянным зодчеством, созданным исключительно русскими мастерами. Самобытность его форм не может вызывать никаких сомнений»[123].
А вот Рерих: «Точно неотпитая чаша стоит Русь… Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. Русь верит и ждёт» (Это отрывок из статьи «Чаша неотпитая», перепечатавшейся неоднократно как символ веры автора. Из газеты «оборонческого движения» за 1937 год она в 1958 году перекочевала в кочетовский «Октябрь»[124]). Или: «Народная жажда знания! Русская смекалка! Русская красота! Русское творчество жизни незабываемое!.. Каменны, непреклонны лица трудовых народов. Мыслят о будущем… Народное священное дело. Творчество жизни незабываемое. Много падла развелось на земле, но встала русская сила и изничтожаются себеумы-подлюги»[125].
Так вещал Рерих в «Листах дневника». В том же духе переписывался он со знакомыми: «По небу ползёт змий злобы и заражает собой всё сущее». «Немало удалось здесь поработать во славу Русскую за эти годы, и такие посевы нужны безмерно». «Русь живёт творчеством, искусством, наукою. Народы поют, а где песня, там и радость. Слушали вчера доклад Жданова – хорошо сказал. Сейчас слушали парад. Величественно»[126].
Да, конечно, это полная противоположность стилю Грабаря. Вместо спокойного раздумья – экстатические выкрики; вместо спора-размышления – ругательства; вместо просветлённости от созерцания прекрасного – взвинченность и надрыв. И вряд ли переваливший на четвёртый десяток лет и отнюдь не склонный к уступкам окружающим художник отказался бы от своего стиля по одному требованию редактора.
Есть всё же и исключение – две отчётного характера статьи о раскопках, помещённые Рерихом в «Известиях Императорского Русского Археологического общества», написаны иначе – без претензий, скорее сухо и скучно, чем цветисто и выспренне[127]. Значит, в каких-то случаях Николай Константинович мог заставить себя – или его могли заставить – говорить проще и ближе к делу.
Но, вчитываясь в приведённые цитаты, мы поймём, что Бенуа и Грабарю претили не только синтаксис и фразеология, не только «ой ты гой еси», но и нечто более глубокое – идеи. И Грабарь, и Рерих с гордостью смотрят на творения русских мастеров, но чувства у них разные. У Грабаря нет ни малейшего оттенка натужного, квасного ура-патриотизма, наложившего зримый отпечаток на прозу Рериха. И, думается, именно это в гораздо большей степени, чем своеобразие языка делало невозможным его сотрудничество в издании Грабаря.
Двадцать лет спустя в мемуарной «Автомонографии» Игорь Эммануилович Грабарь отдавал должное Рериху как художнику; признавал, что он был «блестяще одарён» и создал «настоящее, бесспорное большое искусство, покорившее даже скептика Серова». Но, отмечалось тут же, в «Мире искусства» его «органически не переносили»; не прощали ему связей со Стасовым и ярым пропагандистом великодержавного шовинизма Микешиным; ставили ему в вину карьеризм, неискренность, позёрство и перед коллегами, и перед власть имущими, и перед поклонниками оккультных наук, «рассчитанное на уловление зрителя, читателя, потребителя»[128].
Эта характеристика не была обусловлена тем, что Грабарь писал в 1937 году о человеке, находящемся в эмиграции. О Бенуа он вспоминал там же и с уважением, и с любовью. Нет, тут отзвук давних разногласий внутри «Мира искусства». Рерих не остался чужд этому кругу. Он даже учился в той же гимназии Мая, что и Бенуа, Философов и Сомов; вместе с ними выступал против эпигонов академизма, вроде Боткина; как и они, обращался в своём творчестве к искусству прошлого, но здесь единомыслие и кончалось. Рерих готов был восхищаться любыми «своими» древностями вне зависимости от подлинных достоинств этих памятников. Эстетический вкус Бенуа и Грабаря оставался беспристрастен и строг[129].
И далеко не случайна ненависть к Бенуа, прорвавшаяся в последних письмах к В.Ф. Булгакову семидесятитрехлетнего Рериха, кажущегося нам таким просветлённым и умиротворенным буддийским мудрецом. «Версальские рапсоды уже не будут похулять всё русское». «Всякие рапсоды Версаля поносили нас и глумились о «наследии чуди и мери». Злобные глупцы! Прошли годы, и жизнь доказал правоту нашу. Русь воспрянула! Народы Российские победоносно преуспевают во главе всего мира»[130].
Булгаков поясняет, что раздражение Николая Константиновича вызвала рецензия на посвященную ему монографию В. Иванова и Э. Голлербаха, изданную в Риге. Сейчас мы можем прочесть эту рецензию. Тон её неизмеримо пристойнее откликов обиженного художника. Не скрывая от читателей, что ему «мессианство Рериха не по душе», Бенуа говорит и о том, что «многое в его искусстве мне дорого». В основном же речь идёт о сопроводительном тексте альбома рериховских репродукций, действительно неудачном, удивительно невнятном, повествующем не о мастере живописи, а полусвятом-полупророке, прикоснувшемся к сокровенным тайнам бытия[131].
Так же, как и Рерих, Бенуа высказался о своём противнике буквально на пороге смерти. В письме к И.С. Зильберштейну восьмидесятивосьмилетний искусствовед соглашался, что Рерих – большой художник, хотя, по его мнению, лишь в ранний период творчества – «до Гималаев». Иное дело Рених-человек – мало приятная была личность с бешеным честолюбием. Он для того и забрался в Кулу, чтобы со снежных вершин с величием взирать на мироздание и посылать оттуда вниз свои туманно-мистические пророчества[132].
Как видим, вражда двух выдающихся художников прошла через всю их жизнь, чуть ли не через три четверти столетия. Это теперь деятели начала прошлого века воспринимаются нами как одна плеяда, почти что дружная семья. И отчасти это верно: отойдя и от академизма, и от передвижничества, они все вместе заложили основы современного русского искусства, а попутно сумели открыть и заставить блистать новыми красками забытые сокровища в архитектуре и живописи прошлого.
Но внутри этой группы существовали свои сложные взаимоотношения, делавшие для Рериха иных сверстников даже более чуждыми, чем Стасов и Микешин. В который раз оправдало себя замечательное наблюдение Льва Толстого над своими персонажами: «Оба были люди уважаемые и по характеру, и по уму. Они уважали друг друга, но почти во всём были совершенно и безнадёжно не согласны между собой – не потому, чтоб они принадлежали к противоположным направлениям, но именно потому, что были одного лагеря (враги их смешивали в одно), но в этом лагере они имели каждый свой оттенок. А так как нет ничего не способнее к соглашению, как разномыслие в полуотвлечённостях, то они не только никогда не сходились во мнениях, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого»[133] (Наши герои, впрочем, сердились, и весьма).
Результат же всего этого вышел тот, что сотрудничество Рериха в «Истории русского искусства» оказалось невозможным. Но этого мало. Точно так же отпали и Дягилев, и Билибин, и Фомин, и столь близкий Грабарю Бенуа. Широко известный критик, автор «Истории русской живописи в XIX веке» и десятков статей по искусству не пожелал стать простым исполнителем воли редактора, указывающего ему, что надо сказать здесь, а что – там. Он жаловался самому Грабарю на то, что он «обставил меня своими рецептами и программами. Я принужден компилировать, объезжать какие-то рифы, слушаться какого-то лоцмана. Мне это скучно»[134]. И через полтора года после начала работы инициатор издания потерял наиболее ценного, поистине незаменимого помощника.
Вот тогда и пришлось ухватиться за первых попавшихся людей. Предназначенный Рериху раздел о древнерусском искусстве достался киевлянину Г.Г. Павлуцкому – человеку другого поколения (родился в 1861 году), других вкусов, симпатий и антипатий, чем Грабарь или Бенуа; не художнику, а профессору гелертерского типа, занимавшемуся к тому же в основном античностью, а не древней Русью. Прислал он текст скучный, сухой, справочный, без стержня, во всём выпадавший из стиля многотомника. Четверть века спустя Грабарь назвал эту главу «ложкой дёгтя» и каялся, что пригласил такого неподходящего автора[135].
Рядом с Павлуцким появился и тот самый А.И. Успенский, которого Бенуа так не хотел видеть в числе составителей «Истории». Для невышедших томов готовил материалы и Сергей Маковский. Том, посвященный скульптуре, написал целиком барон Н.Н. Врангель – «баловень светских гостиных», человек не без способностей, но типичный дилетант и среди художников, и среди учёных. Позже Грабарь мечтал о замене этого текста новым.
Так издание, задуманное как коллективный труд единомышленников, превратилось по ходу дела в подвиг жизни Игоря Грабаря, пошедшего скрепя сердце на участие в нём абсолютно случайных людей. «Разномыслие в полуотвлечённостях» пагубно отразилось на судьбе большого и прекрасного начинания.
* * *
С подобными проблемами сталкивалось большинство из нас. Редкую обобщающую работу удалось выполнить, собрав лучших специалистов в данной области. Или всё берёт на себя некий талантливый учёный, привлекая кучу рабски подчинённых ему и относительно более или менее слабых сотрудников; или мы получаем сборник интересных по отдельности, но разнородных, а нередко взаимопротиворечащих статей. Сговориться, пожертвовав чем-то из своих убеждений, таланты, похоже, не могут органически. При индивидуальном творчестве, обычном для гуманитариев, это закономерно. Нельзя, в самом деле, жертвовать собой и, как говорится, наступать на горло собственной песне. Но силы даже самого яркого дарования ограничены, и иные крупные дела ни для кого по отдельности неподъёмны. Разрешима ли эта коллизия, мне пока что неясно.
Первым бросивший камень
За последние десятилетия появилось значительное число книг и статей, документальных фильмов и телепередач, посвященных жизни и деятельности великого русского биолога Николая Ивановича Вавилова. Рассказано о его путешествиях по Азии, Африке и Америке. Проанализированы его идеи и гипотезы. Пролит свет и на историю его трагической гибели. Однако не все стороны завершающего этапа биографии ученого освещены достаточно полно. Вот почему стоит, должно быть, поговорить об одном эпизоде.
Большинство биографов сосредоточило своё внимание на поединке Вавилова и Лысенко во второй половине тридцатых годов[136]. Но автор книги о Вавилове в серии «Жизнь замечательных людей» сумел заметить событие более раннее[137]. В 1932 году в Ленинграде вышла брошюра Г.В. Григорьева «К вопросу о центрах происхождения культурных растений», где утверждалось, что с позиций общественных наук теория Н.И. Вавилова методологически порочна. Именно с этого момента, по мнению СЕ. Резника, положение Вавилова стало ухудшаться. С 1933 года прекратились его поездки с экспедициями за рубеж; с 1935 – он перестал быть членом ВЦИК и тогда же потерял пост президента Академии сельскохозяйственных наук.
Сделав интересное наблюдение, Резник впал далее в ошибку. Он пишет, что никто из его информаторов слыхом не слыхал ни о каком Григорьеве. Значит, это псевдоним.
Брошюра издана в серии «Известия Государственной академии истории материальной культуры» (Т. XIII, вып. 9), из чего следует, что о Григорьеве надо было узнавать у сотрудников этого учреждения, или, вернее, учреждений, сложившихся со временем на его базе, а вовсе не у биологов. Государственная Академия истории материальной культуры (ГАИМК) в 1937 году была превращена в Институт истории материальной культуры Академии наук СССР (ИИМК), переименованный в Институт археологии. В Ленинградском отделении (ныне вернувшем себе самостоятельность и наименование ИИМК РАН) ещё недавно работали люди, хорошо помнившие Георгия Васильевича Григорьева (1898–1941).
Кандидат исторических наук, младший научный сотрудник ИИМК, был известным специалистом по археологии Средней Азии.
Два тома библиографического справочника «Советская археологическая литература», охватывающих публикации 1918–1940 (М.-Л., 1965) и 1941–1957 годов (М.-Л., 1959), фиксируют 14 печатных работ Григорьева. Я просмотрел их все. Они четко распадаются на две группы. В первую входят две брошюры в серии «Известий ГАИМК» 1931 и 1932 годов, во вторую – 9 статей и брошюр, появившихся в 1935–1941 годах, и три статьи, изданные посмертно. Пять публикаций, наиболее солидных, вышли в 1940 году. Накануне войны Григорьев был на взлёте. Как раз в тот день, когда началась блокада Ленинграда, – 8 сентября 1941 года – он защитил кандидатскую диссертацию. Если бы он остался жив, то, вероятно, занял одно из центральных мест среди исследователей среднеазиатских древностей. Но судьба сулила иное.
Основные труды Г.В. Григорьева связаны с экспедиционными материалами. С 1934 года он вёл разведки в районе Самарканда, обнаружил ряд интересных археологических памятников и на некоторых из них в 1934–1940 годах заложил раскопы. Главными объектами стали городища Каучи-тепе (II век до новой эры – I век новой эры) и Тали-барзу (II век до новой эры – VII век новой эры). До Григорьева никто таких ранних домусульманских поселений в Средней Азии не изучал. Сейчас ясно, что в датировках их он ошибся, чересчур удревнил их возраст (относя Каунчи-тепе к концу II – началу I тысячелетий до новой эры), но сравнительного материала тогда ещё не было. Даже критиковавший хронологические выкладки предшественника С.П. Толстов писал о нём с уважением как о «пионере в исследовании домусульманских памятников Средней Азии»[138].
Результаты раскопок Тали-барзу рассмотрены Григорьевым в диссертации и нескольких статьях отчётного характера. Есть у него и заметки на другие темы – о зороастрийском костехранилище у кишлака Фрикент, о находке мустьерского остроконечника в Самарканде, о серебряном блюде Сасанидского типа из Ферганы.
Всё это вполне доброкачественные археологические публикации – описание раскопок, анализ стратиграфии, типология керамики… Ряд работ сопровождается приложениями – сообщениями об остатках фауны из раскопок, составленными крупным палеонтологом В.И. Громовой. Эти первые исследования о домашних животных, разводившихся в Средней Азии в древние времена– бесспорная заслуга главы экспедиции Г.В. Григорьева, свидетельство его интереса к биологическим аспектам археологии. Менее приятно обилие ссылок на Н.Я. Марра, И.И. Мещанинова и яфетическую теорию, равно как и мало относящихся к делу цитат из «классиков марксизма», но всё это можно расценить лишь как печать эпохи.
В целом двенадцать чисто археологических статей Григорьева производят хорошее впечатление и в этом нет ничего удивительного. Г.В. Григорьев вовсе не случайный человек в науке, тем более не бандит с большой дороги, как он выглядит у СЕ. Резника, а питомец прославленной петербургской востоковедческой школы, ближайший сотрудник А.Ю. Якубовского, профессионально подготовленный ученый.
Иное чувство возникает при чтении брошюр 1931 и 1932 годов. Это типичная продукция ГАИМК'а тех лет. Фактов нету или ничтожно мало. Всё забивает социологизаторская фразеология. В самом раннем своём опусе – «Архаические черты в производстве керамики горных таджиков»[139] – автор опирался не на собственные новые материалы, а, в сущности, на единственную чужую статью. Этнограф Е.М. Пещерова непосредственно на месте изучала, как изготовляют глиняную посуду в Таджикистане. Григорьев воспользовался её наблюдениями, чтобы увязать их с марровскими представлениями об истории культуры. Сейчас это сочинение абсолютно никому не нужно.
Вторая брошюра содержит разбор идей Н.И. Вавилова. Текст невелик – 24 страницы. Вначале краткое предисловие анонимного редактора, отметившего, что для «выдающегося ученого» Н.И. Вавилова, как показал Г.В. Григорьев, характерно «некритическое использование буржуазных учений», «повторение реакционных положений буржуазной лингвистики».
Далее следует текст самого Григорьева. Он прочёл четыре статьи Вавилова 1924–1927 годов («Центры происхождения культурных растений», «Мировые центры сортовых богатств (генов) культурных растений», «Географические закономерности в распространении культурных растений», «О восточных центрах происхождения культурных растений») и его книгу «Земледельческий Афганистан», выпущенную в 1929 году совместно с Д.Д. Букиничем. Приводится много цитат. СЕ. Резник писал, что взгляды Вавилова изложены неточно, со множеством передёргиваний. Мне так не показалось, но дело не в том. Всё равно общее впечатление от критики Г.В. Григорьева в наши дни отталкивающее, самое мрачное.
Возразить по существу своему противнику ему в большинстве случаев нечего, и спор ведётся по принципу: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Выделив ряд областей, где и сейчас встречаются прямые предки культурных растений, Вавилов говорил, что в остальные районы их занёс человек в результате заимствований и расселения древних племён. Опровергнуть это, доказать, что предковые формы злаков представлены повсеместно и одомашнены тоже повсеместно и к тому же одновременно, при всём желании нельзя. Но тезис о распространении того или иного явления культуры из одного региона в соседние входил в противоречие с догмами, утвердившимися в ГАИМК'е к началу тридцатых годов. Соглашаясь с Вавиловым, надо было бы признавать большую роль миграций в истории человечества, а эта идея тесно связана с индоевропейской лингвистикой – главным врагом создателя «нового учения о языке», президента ГАИМК'а Н.Я. Марра. В ГАИМК'е, чтобы опорочить своих оппонентов, уверяли, будто миграционизм ведёт к расизму, хотя в действительности большинство лингвистов и археологов, учитывавших возможность древних переселений, расистами не было.
Из догм ГАИМК'а, минуя всю сумму фактов, неизбежно проистекают основные выводы Григорьева: «Сущность ошибок Н.И. Вавилова в том, что он разделяет точку зрения индоевропеистского языкознания… Реакционная шовинистическая западноевропейская лингвистическая теория производит индо-германцев от какого-то индогерманского пранарода, индогерманской расы» (С. 11). «Н.И. Вавилов следует индоевропеистической «теории» миграций, насквозь лживой и шовинистической» (С. 16). «Остаётся пожалеть, что весьма популярный в СССР академик, чрезвычайно полезный в сфере своих собственных ботанических исследований, став на индогерманскую миграционистскую точку зрения, объективно поддерживает реакционную школу в социологии, как отечественную, так и заграничную» (С. 21). Этих тяжких прегрешений не случилось бы, если бы Вавилов немного подучился у великого теоретика Н.Я. Марра и овладел марксизмом. А так Вавилов оказался ничем не лучше прочих буржуазных специалистов, которые, как правило, «или вовсе не пользуются диалектико-материалистическим методом в своих исследованиях, или сдают свои позиции перед лицом буржуазной науки, относясь к ней недостаточно критически» (С. 22).
Этим содержание брошюры и исчерпывается. Никаких своих идей о центрах происхождения культурных растений или о возникновении земледелия у Григорьева не было. Каждому непредубежденному читателю ясно, что это сочинение несерьёзно, ненаучно. Не забудем, однако, когда оно появилось. В 1932 году высказанные в печати обвинения звучали очень грозно.
Как же надо понимать соотношение раннего и позднего творчества Г.В. Григорьева? Первое, что приходит в голову: юноши часто бывают задиристы, склонны к критиканству и, не имея хороших руководителей и опыта собственной работы, порой начинают свой путь с публицистически броских, но пустопорожних выступлений. Потом умнеют, видят свои промахи и создают нечто действительно оригинальное и нужное. В данном случае такое объяснение не годится. В 1932 году Григорьев отнюдь не мальчишка, ему 34 года и подготовка у него весьма солидная. Разгадку надо искать не столько в личности автора, сколько в ситуации, сложившейся в советской археологии тридцатых годов.
Академия истории материальной культуры была основана в 1918 году на базе Императорской Археологической комиссии и вслед за тем более десятилетия работала примерно в том же духе, что и археология, искусствоведение, ориенталистика дореволюционного времени[140]. В 1929 году, в «год великого перелома», ГАИМК, как и все гуманитарные учреждения, решили коренным образом перестроить. В состав Академии ввели С.Н. Быковского, Ф.В. Кипарисова, А.Г. Пригожина и других деятелей, не имевших ни к древностям, ни к науке вообще никакого отношения, но способных провести любую кампанию политического толка, возглавить борьбу, поднять ярость масс и т. д., и т. п. Для учёных началась тяжелая полоса. Более половины (60 человек) старых сотрудников уволили, кое-кого и выслали в административном порядке. Научные труды не печатали. Молодежь подталкивали к нападкам на учителей, коллег, товарищей. Особенно отличились в этом А.Н. Бернштам, П.И. Борисковский, Е.Ю. Кричевский. За ними-то и тянулся молодой ориенталист Г.В. Григорьев.
Так продолжалось пять лет, пока в 1934 году не были опубликованы известные решения партии и правительства о преподавании истории. Социологическую школу Покровского объявили антимарксистской. По достоинству оценили фактологическое направление. Быковского, Кипарисова и Пригожина расстреляли. Историческая наука в СССР возродилась. Археологи тоже смогли вернуться к более или менее нормальной жизни – раскопкам, изданию материалов полевых исследований. Не сомневаюсь, что Григорьеву это пришлось больше по душе, чем выискивание методологических ошибок у этнографов и ботаников. Он приступил к изучению среднеазиатских городищ, сделал интересные находки, пытался исторически осмыслить добытые факты. Если бы не война, он, несомненно, достиг бы многого.
Но война ворвалась в жизнь. Туберкулёзника Григорьева не мобилизовали, но вместе со многими ленинградцами он участвовал в возведении укреплений и других оборонительных предприятиях. Осенью 1941 года вместе с двумя сотрудниками ИИМК'а – A.M. Беленицким и Е.Ю. Кричевским – Григорьев был занят работой такого рода. В минуту перекура Георгий Васильевич произнёс неосторожную фразу: «Всё это бессмысленно, скоро мы все умрём с голоду». Через пару дней он исчез, а Беленицкого вызвали в Большой дом. Много лет спустя Александр Маркович рассказывал мне, как он шёл по опустевшему городу, с остановившимся транспортом и трупами на улицах. Год назад его переполняли бы страх и волнение, а сейчас он испытывал чувство глубочайшего равнодушия. Ему тоже казалось, что конец близок, и не всё ли равно, каким он будет. Даже мысль о том, что Женя Кричевский в очередной раз настрочил донос на своего товарища, не очень трогала.
Беленицкому задали ряд вопросов и в частности полюбопытствовали, что это за история с выступлением Григорьева против Вавилова. Видимо, подследственный сослался на свои заслуги в разоблачении врагов народа. Больше Григорьева никто не видел.
Мне удалось прочесть следственное дело. Оно не велико. Дата ареста – 7 ноября 1941 года. Протоколов допросов всего два: 10 и в ночь с 21 на 22 ноября. Сначала арестованный всё отрицал, на втором допросе признал свою вину. Держался достойно, никого не оклеветал. Ему инкриминировали пораженческую и антисоветскую пропаганду (статья 58–10). Брошюра «К вопросу о центрах происхождения культурных растений» приобщена к делу.
20 и 24 декабря Григорьев отправил начальнику тюрьмы записки, умоляя спасти от голодной смерти, получив для него продуктовые посылки от жены. Но 27 декабря тюремный врач констатировал «паралич на почве истощения». Вавилов пережил своего критика на несколько месяцев. Тогда же не стало и Кричевского. При эвакуации из Ленинграда он по оплошности раскрыл свой чемодан. Содержимое заинтересовало его случайных попутчиков, и хлипкого интеллигентика на полном ходу выкинули из поезда.
Минуло более полувека. Труды Вавилова о центрах происхождения культурных растений неоднократно переизданы, переведены за рубежом. Это классика науки. Ведущие археологи В.М. Массой, Н.Я. Мерперт, захлебываясь от восторга, говорят об открытиях великого биолога, заставивших по-новому взглянуть на ранние этапы мировой культуры. В своей «Истории советской археологии» А.Д. Пряхин, ничтоже сумняшеся, пишет об огромном влиянии идей Вавилова на работников ГАИМК'а. Об этом якобы свидетельствует брошюра Григорьева, где есть и полезные критические замечания[141].
В здании Института истории материальной культуры Российской Академии наук на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга в помещении сектора Средней Азии и Кавказа висят портреты покойных членов сектора. Рядом с портретом Кричевского – портрет Григорьева: узкое лицо с каким-то растерянным выражением.
Поскольку он не был осуждён, сослуживцы отнеслись к его памяти наилучшим образом. Георгий Васильевич упоминался среди жертв блокады Ленинграда. Некролог напечатать не решились, но зато в 1946 году издали две его статьи, а в 1948 – ещё одну.
Что ж, теперь всё в порядке, жизнь всё расставила на свои места? Нет, ни печальная судьба самого Григорьева, ни его добросовестные труды по археологии Средней Азии не перечёркивают то, что он совершил в 1932 году. Он не только бросил в Вавилова первый камень, но и нашел беспроигрышный приём в борьбе, несчётное число раз использованный затем Лысенко и его камарильей: не занимаясь разбором фактов и опровержением построений противника, назойливо повторять: всё это чуждо нашей идеологии.
Каждый человек имеет право на своё мнение, и молодой археолог Григорьев вполне мог усомниться в положениях авторитетнейшего биолога Вавилова. Но вот делать вид, что критика прозвучит в безвоздушном пространстве и не будет иметь никаких последствий; забывать, к чему ведут в данных условиях выдвинутые обвинения, – такого права ни у Григорьева, ни у кого другого не было и быть не могло. И потому я лично простить покойного коллегу не в силах. Не хочу, чтобы эта история забывалась – ведь в ней заключён урок и для нас, грешных.
И всё же осталось неясным одно существенное обстоятельство. Мы не знаем, по своей ли инициативе действовал Григорьев или ему кто-то подсказал, что «надо» выступить против Вавилова и сказать то-то и то-то. Есть у этой брошюры анонимный редактор (С.Н. Быковский?). В таком случае СЕ. Резник не совсем ошибся: Г.В. Григорьев, конечно, не псевдоним, но лишь подставное лицо, пешка в большой игре.
* * *
Любопытно, что шайка, травившая Вавилова, и в дальнейшем пользовалась консультациями каких-то людей из нашего археологического мира. В 1939 году, за год до ареста, Николай Иванович как директор Всесоюзного института растениеводства отчитывался перед президиумом Академии сельскохозяйственных наук. Её вице-президент селекционер П.П. Лукьяненко ни к селу, ни к городу пытал его: «Вы считаете, что центр происхождения человека где-то там, а мы находимся на периферии… Получается, что человек произошёл в одном месте. Я не верю, чтобы в одном»[142].
Всё те же темы: автохтонность и миграции, центр возникновения и расселение или повсеместное развитие[143].
Вокруг Каповой пещеры
В 1960-х годах мне дважды пришлось выступать арбитром в одном тяжёлом конфликте. Оба раза я давал сходные рекомендации. Вопрос решился примерно так, как я и предлагал. И всё же после конца этой истории во мне осталось смутное беспокойство. Я не считаю себя неправым и, если бы сейчас опять должен был высказаться, мало в чём изменил бы свою позицию. Но в глубине души я знаю, что официальные бумаги не отразили всю сложность ситуации, что поглощённый научной стороной дела, я не слишком задумался над иными, чисто человеческими его аспектами.
Конфликт связан с открытием палеолитической живописи в Каповой пещере на Южном Урале – первым памятником этого рода в нашей стране. Замечательные наскальные росписи и гравировки, созданные художниками каменного века, сосредоточены во Франции и Испании. При изучении сотен пещер в Германии, Чехии и Словакии, Польше археологи тщательно осматривали их потолки и стены, но нигде не обнаружили никаких ранних рисунков. Видимо, монументальное искусство получило развитие лишь у определённой группы первобытных людей, а отнюдь не у всех наших предков.
Искали палеолитические наскальные изображения и в СССР. С этой целью обследовали пещеры Крыма и Кавказа. В печати появлялись время от времени сообщения о находках палеолитических рисунков то в Приазовье, то в Средней Азии, то в Сибири, однако беспристрастная проверка неизменно заставляла относить эти произведения к более поздним эпохам – к мезолиту, неолиту или бронзовому веку.
И вот, в 1959 году разнёсся слух, будто в огромной Каповой пещере, расположенной на реке Белой в пределах Башкирского заповедника, зоолог Александр Владимирович Рюмин нашёл росписи, расценивавшиеся им чуть ли не как древнейшие образцы изобразительного искусства на Земле.
Имя было мне знакомо. Незадолго до войны Рюмин окончил кафедру зоологии позвоночных Московского университета, где преподавал мой отец. А ещё раньше, школьником, занимался в знаменитом КЮБЗ'е – Кружке юных биологов зоопарка – вместе с моей будущей мачехой. В рассказах родни «Шурка Рюмин» выглядел человеком не без странностей, но несомненно честным, увлекающимся энтузиастом-романтиком. Как и все кюбзовцы – питомцы советской школы двадцатых – начала тридцатых годов, – он отличался неприхотливостью в быту, трудолюбием, готовностью вести наблюдения даже в тяжелейших бытовых условиях, умением сплачивать вокруг себя молодежь и, в то же время, демонстративным пренебрежением к «хорошим манерам», некоторым анархизмом. Поколение, учившееся в сороковых-пятидесятых годах, – аккуратные и расчётливые юноши, склонные спокойно работать в лабораториях, а не бродить по тайге и пустыням, составляло с бывшими кюбзовцами разительный контраст.
Рюмин не был кабинетным учёным, писал мало и неумело, но как полевой исследователь обладал бесспорными достоинствами – выносливостью, смелостью, зоркостью. Тяготясь любой формой зависимости от начальства, он жаждал сам выполнять намеченную программу, пусть впроголодь, пусть без выходных, но по собственному разумению, из-за чего не смог прижиться надолго ни в одном учреждении. Основным источником его существования стала поэтому ловля ядовитых змей для зоопарков и медицинских предприятий.
Те же свойства характера привели к неприятностям с защитой кандидатской диссертации. Хотя профессора и товарищи предупреждали Рюмина, что рукопись его сумбурна и в ней много завирального, он настоял на диспуте и провалился. Всем запомнился невесёлый банкет, заказанный загодя в ресторане. Кое-кто объяснял странности Рюмина болезнью – во время войны его угостили в Венгрии отравленным вином и едва откачали в госпитале, но, скорее всего, и анархизм, и отсутствие самоконтроля были заложены в нём искони.
После этих рассказов слухи о башкирском открытии я воспринял особенно настороженно. Не очередная ли это фантазия? В конце 1959 года Рюмин выступил с докладом в нашем Институте, и моё предубеждение не рассеялось. Увлечённо говорил он о колоссальной пещере с подземными реками и озёрами, узкими лазами и колодцами, по которым надо пробираться в абсолютной тьме, рискуя сломать себе шею. Устроившись на работу в заповеднике, он якобы поспешил в пещеру с твёрдой уверенностью, что тут должны были жить палеолитические люди и, действительно, сразу же увидал на её полу «камушки, похожие на орудия первобытного человека», и кости животных, покрытые натёками, а на скальных стенах – фигуры вымерших зверей.
Между тем, охотники каменного века селились вовсе не в таких сырых и тёмных карстовых коридорах, а в неглубоких нишах, гротах и навесах; показанные «камушки» никогда не использовались как орудия; кости принадлежали современным, а не ископаемым животным; рисунки же вызывали крайнее недоверие. Сфотографированы были красноватые пятна, представлявшие собой, по мнению докладчика, силуэты голов пещерного медведя, саблезубого тигра-махайрода и т. п. Но во многих местах можно найти пятна естественного ожелезнения с причудливыми очертаниями, а махайрод вымер за тысячи лет до позднего палеолита, когда возникло искусство.
Казалось бы, всё ясно: мы услышали обычные бредни дилетанта. Но один момент не позволял отмахнуться от информации Рюмина. Среди двух десятков диапозитивов он показал кадр с достаточно чётким изображением лошади. Это была уже не игра природы, а настоящий рисунок. Другой вопрос – насколько давно он создан. На скале вполне могли запечатлеть не палеолитическую дикую лошадь, а домашнего коня из стада скотоводов, кочевавших по Башкирии в период бронзы и железа. Из-за этой лошадки Институт принял решение послать в заповедник специалистов для осмотра выявленных там росписей.
Две попытки проникнуть в пещеру предприняли уже зимой 1959–1960 годов, но внятного ответа на вопросы археологов они не дали. Была осмотрена часть росписей, найденных Рюминым, причём подтвердилось впечатление, сложившееся по фотографиям, что это природная окраска камня. Но главную приманку – лошадь тогда увидеть не удалось. Она нарисована на стене второго этажа пещеры, куда нужно залезать по узкой вертикальной расщелине, цепляясь за скользкие камни. Рюмин поднимался по этому проходу многократно. Его московские сверстники предпочли не рисковать.
Пришлось ждать лета и более солидно организованной экспедиции. Она отправилась в Башкирию во главе с сотрудником нашего Института Отто Николаевичем Бадером[144]. Рюмин встретил археологов в заповеднике и провёл их к пещере. Снова нашему энтузиасту постарались внушить, что никогда рука человека не касалась «голов медведя и махайрод а». Но Бадер забрался, наконец, на второй этаж и убедился в древности изображения лошади. Что ещё важнее – рядом он сумел различить фигуру мамонта, которого могли нарисовать только люди палеолитического, а не более позднего времени. Слоев, содержащих кремнёвые изделия и кости животных, в самой Каповой пещере тогда не нашли. Мрачные холодные коридоры, уходящие далеко вглубь горы, служили нашим предкам святилищем, а не жилищем. Зато в ближайших окрестностях в небольших гротах и навесах на берегу Белой при шурфовке попадались палеолитические орудия. Вероятно, именно обитатели этих гротов совершали свои таинственные обряды в Каповой пещере и нанесли охрой силуэты мамонта и лошади на стене её второго этажа.
Такая картина наметилась уже при первом полевом сезоне московской экспедиции, и в тот же год начались осложнения между исследователями пещеры. Рюмин обиделся за непризнанные изображения махайрода и медведя и понял, что дальнейшие работы Бадер собирается вести один. Отто Николаевич, действительно, решил заняться этим районом вплотную и с раздражением глядел на дилетанта, нисколько не желавшего считаться с мнением специалистов.
Конфликт разросся и обострился, когда Рюмин принялся усиленно выступать в печати с сообщениями о своём открытии. Глухо сославшись на то, что археологами оно в целом апробировано и игнорируя их возражения и уточнения, он затем пускался фантазировать во все тяжкие. В газетах и журналах в изобилии появились статьи про «Палеолитический Эрмитаж», сочиненные то самим Рюминым, то приглашёнными им корреспондентами. И чего только там не было! Опять упоминались «образцы камней, похожих на шило», и окаменевшие кости, головы пещерного медведя и махайрода, но прибавилось и многое другое. Росписям приписывался возраст не менее 120–150 тысяч лет, тогда как максимум, о чём можно было бы говорить, это 30–35 тысяч. В соответствующих текстах фигурировал «рисунок, самый первый… на Земле. Ведь здесь рождалось искусство!» В пещере, помимо фресок, есть будто бы и скульптура – из скалы «высечен слон», а на берегах Белой высятся «гигантские изваяния львицы, бизона, головы львов», не уступающие по размерам египетским сфинксам. Отсюда делались выводы, переворачивающие всю историю человечества: Урал – древнейший в мире очаг цивилизации, возникший в не испытавшем оледенения тёплом районе. «Культура Индии, Вавилона, Египта… имеет свои корни в культуре Южного Урала»[145].
Надо ли разъяснять, какая всё это чепуха? «Статуи» Каповой пещеры – не что иное, как сталактиты, не тронутые рукою человека. «Сфинксы» – просто выветренные скалы. Для обработки огромных утёсов у палеолитических людей не было технических средств. Даже если бы твёрдые камни как-то подтесали, за тысячи лет открытая поверхность скал неминуемо разрушилась бы под влиянием ветров, дождей и льда. С потолка взяты неправдоподобно глубокие даты. Периферийность, отсталость уральских культур по сравнению с древнейшими цивилизациями Востока давно установлена в ходе археологических раскопок.
Безответственные публикации не могли не беспокоить специалистов. И добро бы Рюмин печатался только в местных газетах – «Магнитогорском металле» да «Советской Башкирии». Проник он и на страницы авторитетного чешского журнала с французским резюме – «Археологического обозрения», широко читаемого за рубежом[146]. Западные археологи плохо знали своих коллег из СССР и – справедливо или нет – оценивали их не очень высоко. Большая статья Рюмина с собственными беспомощными рисунками могла серьёзно дискредитировать нашу науку. Оградить прессу от дилетантских бредней казалось неизбежным. И конец им был положен резким отзывом Бадера в журнале «Советская археология» в 1963 году[147].
Дальнейшее ещё подогрело обстановку. Рюмина уволили из Башкирского заповедника. Сам он не сомневался, что сделано это по просьбе московского конкурента, и я не решился бы начисто отвергать такую возможность. Но, вероятно, и дирекции заповедника надоел предельно недисциплинированный сотрудник. Прямые свои обязанности ради пещеры он совсем забросил, а столичные учёные смеялись над его писаниями. От подобного человека лучше было избавиться. Далеко не сразу безработному зоологу удалось устроиться преподавателем в Белгородском педагогическом институте, за полторы тысячи километров от Урала (хотя он за свой счёт каждое лето приезжал в Капову пещеру). В Белгороде он продержался недолго, уволили его и оттуда. В 1971 году он договорился о возвращении в Башкирский заповедник, но Бадер пронюхал об этом и организовал соответствующее письмо из Москвы, после чего обещание администрация заповедника взяла обратно. На шестом десятке лет биолог вновь стал зарабатывать ловлей змей по трудовым соглашениям то с тем, то с другим учреждением. В Туркмении его ужалила гюрза. В Карелии он провалился под лёд и еле выкарабкался. Обтрёпанный, издёрганный, он выглядел полунормальным человеком, неудачником.
Московская экспедиция тем временем провела в Каповой пещере шесть полевых сезонов. На панно с фигурой лошади обнаружили ещё несколько рисунков – силуэты восьми мамонтов и носорога. Пещеру слегка благоустроили: поставили лестницу на второй этаж, стены с изображениями отмыли от копоти, грязи и надписей. В СССР и за границей Бадер опубликовал серию статей о первом памятнике палеолитической живописи в Восточной Европе. Рюмин упоминался в них как человек, обративший внимание археологов на Капову пещеру и нашедший рисунок лошади, но наводнивший литературу нелепейшими домыслами. Во всех статьях пещера называлась башкирским именем Шульган-таш, – наверное, затем, чтобы её принимали за новый объект, исследованный одним Бадером.
В этот момент я и был привлечён к разбирательству затянувшегося конфликта. Рюмин начал рассылать жалобы – в Президиум Академии наук, в ЦК КПСС, в газеты, обвиняя Бадера в присвоении чужого открытия. Жалобы переправляли к нам в Институт, мне же поручали составлять на них ответы. Это было неприятно, поскольку оба заинтересованных лица были для меня не посторонними.
Всякий раз я писал приблизительно одно и то же:
1) палеолитическую живопись в Каповой пещере нашел А.В. Рюмин, что отмечается О.Н. Бадером в его публикациях;
2) но дилетант вести самостоятельные археологические исследования не вправе; он должен уступить место специалистам;
3) было бы полезно послать в Капову пещеру научную комиссию с участием О.Н. Бадера и А.В. Рюмина. Осмотрев рисунки, выявленные обоими, комиссия вынесет определенное решение. Тогда обиженный первооткрыватель пещеры увидит, что с его выводами не согласны все археологи и перестанет подозревать конкурента в кознях и интригах. Конфликт двух претендентов на открытие отойдёт на задний план, а на переднем окажется противопоставление дилетанта специалистам. Не исключено также, что Рюмин приведет комиссию к каким-то подлинным рисункам, не замеченным археологами. Недаром он много лазил по закоулкам пещеры.
И сейчас, по прошествии десятков лет, я повторил бы эти рекомендации. В итоге, однако, рюминские жалобы отклонили, а поездка комиссии так и не состоялась. Единственное утешение проигравший мог найти в статье «Пещерные нравы» в газете «Известия», где Бадеру инкриминировалось научное воровство. Ни в судьбе Бадера, ни в судьбе Рюмина этот фельетон ничего не изменил.
Таково существо конфликта, вроде бы уже исчерпанного. Что же заставляет меня вспоминать о нём с чувством беспокойства, чуть ли не собственной вины? Я думаю, что мы, археологи, обошлись с Рюминым чересчур жестоко. Попытаемся влезть в его шкуру.
Башкирский заповедник расположен в глухом углу. До ближайшего села – километров десять, до районного центра – Бурзяна – около пятидесяти по страшному бездорожью. Сообщение с Уфой – только самолетом из Бурзяна. В этой глухомани круглый год, а не один летний месяц, работает пусть и не очень квалифицированный, но всё-таки учёный, переехавший сюда из Москвы. Живётся ему трудно: не с кем поговорить, нечего читать, голодно и бедно. А он увлечён исследованиями, притом отнюдь не легкими.
Пещера полна коварных провалов. Здесь в подземной реке утонул студент из экспедиции Бадера. При подъеме на верхний этаж ничего не стоит сорваться и разбиться насмерть. В дальнем карстовом коридоре Рюмин нос к носу столкнулся с медведем и спасся лишь благодаря находчивости, ослепив зверя светом фонарика. Работать в таких условиях в одиночку невозможно, и бывший кюбзовец подобрал целый отряд добровольцев из школьников, туристов. Изыскания в пещере не были бесплодными – уточнился ее план, обнаружена роспись на стенах. Жаль, конечно, что наш герой потерял всякий контроль над собой и нагородил массу фантазий, но, как-никак, обнаружил изображения именно он.
В этом есть своя закономерность. Капова пещера описана в научной литературе уже в 1760 году. Археологи о ней прекрасно знали.
Ещё до войны пещеры Башкирии раскапывал опытный палеолитчик С.Н. Бибиков. Но, как и все мы, он был убеждён, что живописи палеолита в СССР нет и быть не может. Поэтому он, кажется, и не заглянул в заповедник. Дилетант мыслил менее банально. Открытие живописи древнекаменного века в тысячах километров от Франции – событие в науке. Для Рюмина же это главное событие его жизни; то, что дало ей смысл. Между тем, он не только не получил никакой награды, но и осмеян, уволен со службы, встречает старость в бедности, без всяких перспектив на будущее.
Бадер не переусердствовал в критике фантазий своего предшественника, но зато не всегда верно характеризовал его достижения. Рюмин с обидой твердил, что в газетных статьях им отмечены изображения как лошади, так и мамонтов, а значит, не просто обращено внимание на рисунки, но и доказан их палеолитический возраст. Бадер возражал, что в этих статьях речь идёт вовсе не о фресках, найденных его экспедицией, а о «высеченном из скалы слоне», т. е. о сталактитовом натеке. Разобраться, кто прав, по путаным описаниям и схематическим наброскам Рюмина я не сумел, но подозреваю, что Бадер в чём-то умалял заслуги первооткрывателя живописи.
Насколько ему хотелось стать единственным её исследователем, я увидел по реакции на предложение о поездке комиссии. Отто Николаевич вежливо соглашался со мной, но заявлял, что район труднодоступен, и попасть туда лучше всего зимой, на лыжах. В комиссию он советовал включить семидесятилетнего В.И. Громова и тяжелобольного М.М. Герасимова, великолепно понимая, что ни пятьдесят, ни даже пару километров на лыжах они пройти не смогут.
А трудности были выдумкой. Весной 1967 года я, не торопясь, добрался до Шульган-таша менее, чем за двое суток: за ночь доехал поездом до Уфы, побродил по городу, побывал там в музее; на следующее утро долетел до Бурзяна и за день преодолел оставшуюся часть пути на автомашине. При хорошей организации комиссия могла бы, вылетев утром из Москвы и сделав пересадку в Уфе, пообедать в Бурзяне и начать осмотр пещеры в конце того же дня. Бадер откровенно не желал пускать туда своих коллег.
В то же время, полноценное обследование пещеры в шестьдесят лет было ему уже не по силам. Люди, водившие меня по ней, уверяли, что он поднимался на второй этаж всего дважды – сперва с Рюминым, показавшим ему рисунки, а потом перед отъездом экспедиции, для проверки копий, снятых художниками. Может быть, это и преувеличение, но то, что Бадер гораздо больше занимался нижним этажом пещеры с неясными схематическими начертаниями на стенах и шурфовкой гротов и навесов по соседству, чем верхним этажом с основным скоплением росписей, видно и из его отчётов. А раз так, нельзя было отталкивать Рюмина, бесстрашно рыскавшего по самым глухим закоулкам пещеры. В его лице экспедиция потеряла неоценимого помощника. И уж конечно, совершенно недозволенным приёмом надо признать увольнение Рюмина из заповедника для того, чтобы в будущем работать в спокойной обстановке.
Но попробуем встать и на место Бадера. Сложнейший памятник, объект его многолетних исследований, считает своей неотъемлемой собственностью другой человек – одержимый маньяк, не знающий азов археологии. На заключение специалистов он плюёт, с важностью «расшифровывает» обычные пятна ожелезнения на скалах и «определяет виды животных», контуры тел которых почудились ему в сталактитах и сталагмитах. Об этих мнимых открытиях трубят корреспонденты, литература засоряется чудовищными вымыслами. Хорошо говорить о свободе слова. Это вещь обоюдоострая. Ничуть не устарело давнее замечание Пушкина: «Нам всё ещё печатный лист кажется святым. Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? Ведь это напечатано!»[148] Малограмотные статьи в популярных журналах вводят в заблуждение тысячи читателей. Настоящая наука от этого страдает. Так что стремление убрать с дороги настырного любителя, из года в год путающегося под ногами, тоже понятно. Жаль, разумеется, что Рюмин в результате лишился средств к существованию. Но не археологам же заботиться о трудоустройстве зоолога, прославившегося всяческими странностями и неуживчивостью.
Конфликт, бегло обрисованный мной, представляет собой один из вариантов типичных для нашей среды столкновений между дилетантами и специалистами. У математиков, физиков, химиков подобные коллизии скорее всего вообще не возникают. По крайней мере, в мире естественных наук они маловероятны. У нас же, археологов и историков, это нечто повседневное. И не удивительно. В стране немало краеведов. В южной полосе они при желании ведут археологические наблюдения круглый год, а в северной – минимум полгода. Они следят за земляными работами, за пахотой, обрывами рек и систематически собирают древние предметы, оказавшиеся на поверхности. Ученые из академических институтов выезжают в поле на месяц, на два, много если на три – на большее у них средств не хватает – и уже из-за этого выявляют меньше памятников, чем любители. Приезжий специалист обязан учесть весь наличный материал, он знакомится с коллекциями провинциалов, а затем принимается за раскопки особенно интересных из найденных ими памятников. Краеведы копать не умеют, да без соответствующего разрешения – открытого листа – и не имеют права, но чувствуют себя обиженными. «Мы десятилетиями бесплатно трудимся в глуши, а тут мимоходом заехал барин из столицы и отобрал наши лучшие находки». В той или иной форме каждый из нас, сотрудников академических учреждений, получал такие упрёки.
Как же быть? Всё зависит от человеческих качеств лиц, втянутых в конфликт. Любителю нужно трезво оценивать свои возможности. Главная вина Рюмина состояла в том, что он самоуверенно взялся трактовать крупнейшие исторические проблемы, для него абсолютно чуждые, и упорно не хотел прислушаться к советам понимающих людей. Поскольку сам он имел университетское образование, легкомыслие его непростительно. Обнаружив росписи, он должен был или отойти в сторону, или присоединиться к экспедиции Бадера, чтобы поучиться у археолога-профессионала, но никак не партизанить по собственному разумению.
Нашему брату археологу в свою очередь нельзя забывать, что местные работники поставлены в неизмеримо худшие условия, чем мы, и потому при всяком удобном случае следует подчёркивать их заслуги. Бадер поступил бы умнее и достойнее, если бы помог Рюмину написать серьезную статью о Каповой пещере и опубликовал ее раньше своей. Приоритет первооткрывателя был бы закреплён, и конфликт угас бы, а не обострился. Правда, столковаться с таким, как Рюмин, задача не из лёгких.
Положительные примеры, когда любитель знает, что ему по плечу, а что нет, и плодотворно сотрудничает со специалистами, известны. Житель Днепропетровска А.В. Бодянский посвящал своё свободное время осмотру подтопленных берегов Днепра и ежегодно вынимал из обрывов разнообразнейшие древности. Его сообщения о находках печатали в украинских археологических изданиях, а потом из Киева приезжали экспедиции и путём раскопок изучали разысканные Бодянским поселения и могильники.
Но, увы, чаще бывает иначе. Моцарт верно сказал о дилетантах, что обычно у них нет своих мыслей, а когда есть, они не умеют с ними обращаться. Наши краеведы почти всегда убеждены, что ими не просто нащупаны какие-то любопытные памятники, а совершено открытие мирового значения. В их руках якобы древнейшее искусство планеты или центр происхождения славян и т. д., и т. п., тогда как рутинёры-специалисты злостно не дают хода новаторам. Из-за этих непомерных претензий даже стоящие наблюдения любителей пропадают впустую. Вместо аккуратного отчёта нам присылается выспреннее сочинение с трансэпохальными и трансконтинентальными выводами, свидетельствующими лишь о невежестве автора. Специалисты с раздражением встречают своих потенциальных помощников и стараются помешать их дальнейшей деятельности. Конфликт разрастается. Единственный вход из него я уже указал, но на практике воспользоваться им удаётся двум или трем из сотни исследователей. Ситуация печальная, глупая, неприятна, но, боюсь, что неизбежная.
Вокруг стоянки Староселье
В августе 1952 года мне посчастливилось найти богатую палеолитическую стоянку в пригороде Бахчисарая Староселье. Посчастливилось ли? Это был бесспорный успех, но, как и многие другие в моей жизни, он обернулся против меня. Минуло полвека. Хочется спокойно разобраться в происшедшем.
В 1951 году я кончил университет и поступил в аспирантуру академического института археологии. Там решили направить меня на палеолитическую тематику, поскольку единственный московский специалист в этой области – М.В. Воеводский недавно скончался, а с ленинградской группой шла глухая борьба. Надо было выбрать район полевых работ на ближайшие годы. По совету М.Е. Фосс я остановился на Крыме.
Каменный век полуострова был известен уже неплохо, но явно таил немало непознанного. Судьбы его исследователей сложились печально. Г.А. Бонч-Осмоловский, СИ. Забнин, Н.Л. Эрнст, Т.Ф. Гелах, А.У. Мамин, О.Н. Бадер, Д.А. Крайнов один за другим не по своей воле отправились «прямо-прямо на восток». Оставался один С.Н. Бибиков. Уроженец Севастополя, он с конца двадцатых годов участвовал в экспедициях Бонч-Осмоловского, а после его ареста самостоятельно провёл в Крыму три полевых сезона (1935, 1936, 1938). Уже тогда у него сложилось впечатление о полной изученности крымских пещер и бесперспективности дальнейших работ в этом районе. Он стал подыскивать себе что-то другое: в 1937–1939 годах без особого успеха шурфовал пещеры на Урале, а с 1940 года надолго осел на Днестре.
Обдумывая план первой своей экспедиции, я обратился к Бибикову. Он повторил, что смысла в моей поездке не видит, но не возражает против неё.
И вот в конце лета 1952 года после участия в раскопках С.Н. Замятнина на Сухой Мечетке я приехал в Крым и приступил к поискам новых памятников. Две недели я пробродил без заметных результатов по бахчисарайской округе, пока не наткнулся в балке Канлы-дере на большой скальный навес, содержащий слой с остатками фауны и мустьерскими орудиями. Денег у меня было мало – только те, что благодаря Х.И. Крис[149] я получил от Бахчисарайского музея. Я разбил раскоп площадью менее 20 кв. м и вскрыл покрывавшие пол пещеры отложения, достигавшие 60–80 см.
Удивляло то, что находки оказались включены в слой окатанной щебёнки, а на другом – южном – конце навеса дневная поверхность стоянки возвышалась над северным концом на целых семь метров. Было непонятно, действительно ли здесь гораздо более мощный пласт отложений, или просто в этой части пещеры резко поднимается скальный пол, а культурный слой над ним не столь уж велик. Неясным оставалось и то, перемыт этот слой или находится in situ. Я успел осмотреть Волчий грот, Чокурчу, Шайтан-кобу, Сюрень, но нигде ничего похожего не видел. Решение этих вопросов я вынужден был отложить на будущий год.
Осенью я сделал доклад о поездке в Крым в Москве и Ленинграде. Его встретили вполне благожелательно, хотя Бибиков высказывал свои соображения в несколько раздражённом тоне.
В конце лета 1953 года я опять отправился в Крым, на этот раз из Костёнок. Денег мне дали чуть больше, и я смог взять одного сотрудника: аспиранта-антрополога В.П. Алексеева. Он приехал с женой, тоже антропологом.
Я продолжал расширять раскоп 1952 года в Староселье вверх по балке, вскрыв около 40 кв. м, кроме того, заложил шурф, размером 2 × 2 м, на самой высокой точке в южной части навеса. На глубине 70 см. этот шурф наскочил на захоронение ребенка. Задача разобраться в стратиграфии разных участков памятника отодвинулась на второй план. Надо было выяснить, что же перед нами: мустьерское погребение или гораздо более позднее, впускное.
Не доверяя своему небольшому опыту пещерных раскопок (при всём желании приобрести его мне было негде), я попросил дирекцию института прислать комиссию, наметив её состав: С.Н. Замятнин, С.Н. Бибиков, Г.Ф. Дебец, М.М. Герасимов, тем самым ставя себя под огонь критики старших коллег. Дебец оказался в Киргизии, Бибиков – на Днестре. Приехали Замятнин, Герасимов и Я.Я. Рогинский.
Комиссия занялась извлечением из земли хрупких косточек ребенка и обсуждением вопроса об их возрасте. Разумеется, я советовался с более опытными археологами о методике раскопок. У Герасимова, участвовавшего в исследовании многих палеолитических стоянок (правда, не пещерных), замечаний не было. Замятнин дал мне ряд полезных советов. Герасимов очень искусно отделил костяк от щебёнки. То, что его расчищали антропологи Т.П. и В.П. Алексеевы, а вырезал из грунта и консервировал реставратор с золотыми руками, оказалось большой удачей.
Комиссия отбыла, увезя в Москву монолит со скелетом. Я углубил шурф до выступавшей по всей площади каменной плиты – не то пола пещеры, не то горизонта обвала.
Когда работы были завершены, неожиданно приехал Бибиков. Тон им был взят сразу же резко враждебный. Сейчас я понимаю, что некоторые его упрёки были резонны. План пещеры снят глазомерно, не очень точно. Слой, даже переотложенный, следовало разбирать по горизонтам. Но эти дельные рекомендации терялись на фоне явных придирок. Почему не засыпаны стенки раскопов? Нужды в этом не было. Отложения пещеры состоят из плотной щебёнки, сцементированной известковым натёком, и держатся не хуже каменной кладки. В Сюрени-I и сегодня стоят открытые раскопы Бонч-Осмоловского 1927 года. Возмутила Бибикова замусоренность окрестностей стоянки, находящейся как-никак в пределах города. Не понравился внешний вид моих чертежей – мятые. Прозвучал и такой упрёк: почему Вы не сходили в районное отделение МГБ и не представились? После этого разноса Бибиков уехал в Ленинград.
Осенью состоялось совместное заседание учёных советов институтов археологии и этнографии, посвященное Староселью. С докладами выступили Герасимов, Рогинский и я, а в прениях – Замятнин и Бибиков. Бибиков сказал, что методика моих раскопок «вообще удовлетворительна, но не для такого важного памятника», не поясняя, что это значит. В кулуарах, как я узнал, он отзывался о моих работах куда более резко.
До осени 1953 года я не думал о широких раскопках Староселья. Мустьерская эпоха в Крыму известна лучше прочих этапов каменного века. Но после находки погребения надо было заняться пещерой основательней, соединить шурф и раскоп; вскрыть не 70 кв. м, а значительно большую площадь.
Нужны были консультанты геологи и палеонтологи. Договариваться с ними оказалось трудно. Кости, найденные в 1952 году, определил В.И. Громов, но возиться с большой коллекцией 1953 года ему не захотелось. Сотрудник нашего института В.И. Цалкин побоялся взяться за обработку фауны плейстоценового возраста. Пришлось обратиться в Ленинград к Н.К. Верещагину. Тот согласился определять кости из Староселья, но потребовал оплаты своего труда. За всю мою жизнь я никогда с такими претензиями не сталкивался. Наш институт деньги для Верещагина выделил. Четыре года, с 1953 по 1956, я посылал ему коллекции и деньги, а в ответ после долгих напоминаний получал по листочку с самыми суммарными списками обнаруженных видов. Верещагин сетовал, что многие кости разбиты в процессе раскопок. Я предложил включить в состав экспедиции лаборанта-зоолога с тем, чтобы он непосредственно на месте извлекал кости из грунта и паковал их. Предложение осталось безответным.
С геологами получилось не лучше. Громов ехать в Крым отказался. Он уже не первый год жаловался на болезни и старость (ему было тогда 57 лет, а прожил он ещё 25, так и не уйдя на пенсию). В 1953 году я привозил в Бахчисарай бывшего бакинского профессора В.В. Богачёва, жившего у сына в Симферополе. Обещал посетить Староселье М.В. Муратов, но лишь наездом во время студенческой практики.
Таким образом, наладить сотрудничество с учёными-естественниками я не сумел, хотя и прилагал к тому усилия.
В 1954 году я пробыл в Крыму недолго. Предстояла командировка в Данию. К этому моменту мне сообщили о создании Крымской палеолитической экспедиции во главе с Бибиковым. Он всё же решил не выпускать важный район из своих рук. Мне отводилась роль начальника отряда. Экспедиция располагала 20 000 рублей. Бибиков взял себе 16, а мне оставил четыре. На что он истратил свою долю, не ясно. Раскопки он начал только в 1956 году, продолжая в течение четырёх сезонов работы Бонч-Осмоловского в навесе Фатьма-коба. Результаты исследований не опубликовал. В информационных заметках ново лишь то, что кремнёвая трапеция, привязанная за верёвочку, сама вращается в воздухе. Значит, это блесна и в пещере жили рыболовы[150]. Принять всерьёз сочинения такого рода трудно.
Поехал я в 1954 году весной и провёл небольшие раскопки в двух пунктах – на стоянке Кабази на реке Альме и в Староселье. Здесь я вскрыл на основном раскопе всего 11 кв. м, а шурф 1953 года довёл до скального дна. Я не был уверен, достиг ли тогда коренной скалы, не упёрся ли в горизонт обвала. В разрезах основного раскопа виднелся слой плит, несомненно обвального происхождения. Я подумал – а не разделена ли вся толща отложений единым пластом обвала. Предположение подтвердилось: плиты известняка в шурфе были пробиты и под ними оказалось ещё более полутора метров окатанной щебёнки с культурными остатками. Следовательно, разница в мощности напластований на разных участках пещеры связана не с резким повышением уровня скального пола. На южном конце навеса находится желоб, по которому с поверхности плато периодически скатывались потоки воды. Они смывали отложения с нижнего по балке Канлы-дере конца навеса. В пределах пещеры образовался своего рода конус выноса. Он, как и подтопление стоянки водой, шедшей по балке весной и после дождей, частично нарушил сохранность культурных остатков. Тем не менее, в слое встречались зольные пятна, скопления чешуек, отколотых от одного куска кремня, и костей в анатомическом порядке.
Так я разобрался, наконец, в стратиграфии Староселья. Кое-что подсказал мне и заглянувший в пещеру на пару часов М.В. Муратов. В тот год я заложил ещё один шурф – на крайнем юго-восточном конце навеса. Оглядываясь много лет спустя на свои раскопки Староселья, могу сказать, что именно сезон 1954 года был проведён мною наиболее продуманно и плодотворно.
Но осенью меня ждал сюрприз. Вскоре после того, как я вернулся из Дании, в дирекции мне показали письмо группы сотрудников сектора палеолита в Ленинграде, негодующих по поводу низкого уровня моих раскопок. На первом месте стояла подпись Бибикова, а среди прочих – Л.Я. Крижевской, никогда не занимавшейся палеолитом и не изучавшей пещеры. С.Н. Замятнин и П.И. Борисковский этот документ подписывать не стали. В письме говорилось, что в коллекции, посланной Верещагину в 1954 году (и почему-то на сей раз сразу же им разобранной), он обнаружил три неопознанных мною кости человека, к тому же без этикетки. Что ответить на это? Небольшие кусочки человеческих костей заметит не каждый археолог. Не исключаю, что по рассеянности я не положил этикетку в какой-то пакет. То, что оба промаха совпали, кажется мне уже маловероятным (сопоставив свои записи, я понял, откуда этот материал – из шурфа на юго-востоке навеса). Этикетку мог потерять и не я, а лаборант Зоологического музея, перекладывавший кости из пакетов на лотки.
Главное же в другом. Любой зоолог, разбирая коллекцию, присланную на определение, со всеми недоумениями должен обратиться к тому, от кого он её получил, а не куда-то на сторону. Верещагин не только не передал мне выявленные им остатки скелета человека, но даже не сообщил о своей находке. Я написал ему, что считаю его поступок неэтичным. Он ответил, что Бибиков, как начальник экспедиции, интересовался костями из моих раскопок и один пакет забрал без спроса. Не знаю, так ли это было, но отношения с Верещагиным с тех пор у меня испортились.
Не сомневаюсь, что всю историю подстроил Бибиков, чтобы убрать меня из Крыма. Ряд ленинградцев поддержал его, отчасти по дружбе, отчасти потому, что видел во мне опасного конкурента сектору палеолита, готовившегося злокозненной московской дирекцией. Я на такую роль никогда не претендовал, но кое-кому это чудилось. Как раз осенью 1954 года вышла моя рецензия на ленинградский сборник «Палеолит и неолит СССР»[151]. Некоторые её разделы и поныне кажутся мне вполне резонными, но авторы, не привыкшие к критике, были вне себя.
Итак, судьба моей экспедиции зависела целиком от Бибикова. Человек он был, безусловно, неглупый и живой, но всегда работавший мало, употреблявший свою энергию на построение карьеры и околонаучные интриги. К 1953 году, когда ему исполнилось 45, он напечатал 33 небольшие статьи. Из них Крыма касались лишь 13, а о памятниках эпохи мустье речи нет ни в одной. Из этих публикаций не видно, чтобы методика раскопок Бибикова отличалась бы большим совершенством. Отчётов же его экспедиций 1936 и 1938 годов в архиве института вообще не обнаружилось (равно как и диссертации, якобы защищенной Сергеем Николаевичем во время войны). Что же придавало авторитетность позиции Бибикова? Пожалуй, только то, что я воспринимался как мальчишка, а он как солидный человек, давний сотрудник института.
Сигнал, данный Бибиковым, был принят. В сообщениях о Староселье я отмечал, что возраст стоянки не может быть столь древним, какой приписывался тогда мустьерским памятникам В.И. Громовым. Валерьян Иннокентьевич – некогда руководитель моей дипломной работы в университете – не любил меня. Он, несомненно, многое сделал в области геологии палеолита в 1920-1930-х годах, но, защитив в 1938 году докторскую диссертацию, почил на лаврах. Новые материалы опровергали его хронологические выкладки. Вместо того, чтобы проанализировать неизвестные ранее факты и наблюдения, мэтр встал на путь опорочивания своих оппонентов. Так поступил он с исследованиями А.Н. Рогачёва в Костёнках. Так же обошёлся и со мной. Я просил геолога побывать у меня в экспедиции и всё проверить на месте. Он, разумеется, не поехал, но болтовню не прекратил.
Я был в растерянности. Полтора месяца проболел. В начале 1955 года Полевой комитет института обсудил письмо ленинградцев и моё объяснение. Пожурив меня за потерю этикетки, остальные упрёки отвели. Открытый лист на сезон 1955 года я получил в Киеве (Крым в 1954 году Н.С. Хрущёв отдал Украине).
Лето 1955 года я проработал спокойно. Средства на экспедицию давал мне теперь не только институт, но и Музей антропологии Московского университета. Сотрудница его М.Д. Гвоздовер приняла участие в раскопках Староселья. Я постепенно расширял раскоп 1952–1954 годов к югу, приближаясь к шурфу 1953 года. Мощность напластований всё росла, достигнув двух метров. Мы начали брать находки по горизонтам. За основную границу приняли всё более чётко обозначавшийся слой обвала.
В 1956 году положение изменилось. Институт археологии Академии наук УССР возглавил Бибиков. Послав туда заявку на открытый лист, я получил отказ. Чтобы не бросать стоянку не докопанной, я предложил Гвоздовер узнать у Бибикова, дадут ли открытый лист ей. Тот мгновенно согласился.
Так в 1956 году Староселье исследовалось от имени Гвоздовер, хотя руководил экспедицией и писал отчёт, конечно, я. Чего хотели этим достичь? У меня за плечами было четыре сезона работ в Староселье, у Гвоздовер – один. На памятник она смотрела моими глазами. Да и вообще, будучи прекрасным знатоком морфологии кремня и техники обработки кости, как полевой археолог она абсолютно беспомощна. С этим я сталкивался и в Авдееве[152], и в Староселье, и на Каменной балке.
Второй осложняющий момент – назначение директором нашего института Б.А. Рыбакова. Как-то, сидя рядом на одном заседании, он спросил меня, в чём суть моего конфликта с Бибиковым. Я сказал несколько фраз и выразил готовность объяснить всё подробнее, если это интересно и для меня найдется время. Рыбаков ответил, что и так всё понял.
Когда раскопки 1956 года уже начались, в Бахчисарай пришло письмо из института, извещавшее меня о создании совместной Крымской палеолитической экспедиции АН СССР и АН УССР во главе с Бибиковым. Опять я попал – к нему в подчинение!
В Староселье мой начальник заехал на час под конец сезона. Я был в городе по финансовым делам. Бибиков одобрил «раскопки Гвоздовер» и передал мне «дружеский привет».
В то же лето посетили Староселье Г.Ф. Дебец и М.В. Муратов. Последний появился со словами, что его не убеждают мои датировки. Я разложил перед геологом самые выразительные кремнёвые орудия. Он повторял: «Это не мустье. Тут что-то не так. Покопайте ещё». Тогда я прирезал квадрат к уже засыпанному раскопу. Попался какой-то совершенно случайный осколок, и профессор с важностью изрёк: «Ну вот, это другое дело. Это мустье. Вы меня убедили».
После всего этого я решил поставить точку. В Староселье было вскрыто 230 кв. м культурных отложений, раскоп и шурф соединены, стратиграфия памятника прояснилась, получены богатые археологические и палеонтологические коллекции. Пора было браться за публикацию этих материалов.
В 1957 году Бибиков приехал в Москву и уговаривал меня не бросать Крым, а «работать вместе и по-дружески». Я отказался. Вскоре прекратил раскопки в Крыму и сам Бибиков. Член-корреспондент Академии наук УССР утруждать себя не хотел. Ему нужны были «негры», и на эти роли он пустил бы в Крым и меня. Я предпочёл перебраться на Кавказ.
Оправдывая свой уход из Крыма, Бибиков очередной раз заверил коллег, что древний каменный век полуострова изучен исчерпывающе[153], и опять сел в лужу. В.Ф. Петрунь нашёл на реке Альме и на скальном массиве Ак-кая под Белогорском серию мустьерских стоянок, а Ю.Г. Колосов принялся их копать.
В 1958 году вышла моя книга «Пещерная стоянка Староселье и её место в палеолите»[154]. Верещагин изъявил своё недовольство тем, что я не дождался его раздела о фауне стоянки. Ждать пришлось бы долго – четверть столетия. В.И. Цалкин очень жалел, что упустил возможность изучить комплекс из шестидесяти тысяч древних костей. Он-то, конечно, посвятил бы им серьезную монографию.
Бибиков отзывался о моей книге пренебрежительно, но рецензию не написал. А ведь было бы интересно сопоставить исходные установки учёных двух поколений. По сравнению с Бонч-Осмоловским я расширил круг рассматриваемых проблем, но в других отношениях мог утратить что-то из его достижений. Поразмышлять над этим, бесспорно, стоило бы. Но Бибиков преследовал другую цель – не разобраться в сути дела, а с помощью кулуарных разговоров опорочить конкурента. В печати же (в обзоре крымского палеолита в 1969 году) он лишь достаточно пространно изложил содержание моей книги, не внося в её выводы никаких коррективов[155].
Раскопки палеолитических стоянок в пещерах Крыма стал вести сотрудник Института археологии АН УССР Ю.Г. Колосов. О его экспедиции я слышал разное – и хорошее, и плохое. Поскольку сам на его памятниках не был, от оценок воздержусь. Дважды он приглашал к себе коллег – в 1973 году киевлян и ленинградцев, в 1978 году – французов и археологов из разных городов СССР. Первую комиссию организовывал Бибиков, вторую – В.П. Любин. Меня оба раза не звали, хотя в своё время в Староселье и Бибикова, и Колосова я принимал. Меж тем в 1973 году в комиссию по выяснению условий находки костей неандертальца включили искусствоведа-медиевиста О.И. Домбровского.
Отношения у Бибикова и Колосова сложились неважные, но выжить удачливого преемника из Крыма Сергей Николаевич вроде бы не стремился. Он постарел, утихомирился, да, вероятно, и не видел в Колосове опасного конкурента.
О своих находках Колосов выпустил две книги. Материал у него превосходный. Новых, своих идей, пожалуй что, и нет. Ряд наблюдений – о двух типах крымского мустье, о слоях обвалов в пещерах как хронологическом горизонте – он заимствовал у меня и усиленно развивал[156].
Зато в путеводителе к поездке французов Бибиков не постеснялся приписать идею о двух типах мустье Ю.Г. Колосову и В.Н. Гладилину[157]. А я выдвинул эту мысль еще в 1953 году и обосновал в книгах 1958 и 1959 годов, причём тогда Бибиков расценил её как абсурдную.
Итак, и с Киевом, и с Крымом у меня разрыв.
С Верещагиным после 1956 года связи у меня ослабли, хотя в 1962 году он определял мои кавказские материалы. А в 1980 и 1981 годах он преподнес мне сюрприз. Вышла сперва его совместная с учеником Г.Ф. Барышниковым статья о фауне палеолита Крыма, а затем его научно-популярная книжка «Записки палеонтолога». Отсюда я впервые узнал, что в 1954 и 1956 годах Верещагин посещал Староселье. Я ещё продолжал раскопки, посылал ему кости, но ни тогда, ни когда-либо позже о своей поездке он мне не сообщал.
Николай Кузьмич явно писал своё сочинение по памяти, не потрудившись перелистать публикации о палеолите Крыма. Н.Л. Эрнсту он дал инициалы Бадера – О.Н.; раскопки в Сюрени, проведённые Бонч-Осмоловским, приписал Бибикову. О Староселье сказано, что стоянка найдена в 1954 году (в действительности – в 1952); исследовалась три сезона (в действительности – пять); что отложения достигают здесь 2,5 м (в действительности – 4), а погребение обнаружено в 1956 году (в действительности – в 1953). Неужели так сложно было навести сперва справки по литературе?
Бегло осмотрев пещеру, зоолог смело заявил, что все отложения в ней «снесены с плато дождевыми потоками», и археологи по недомыслию приняли за культурный слой перемещённый материал. Мои описания для него «излишне детальны», а его объяснения «проще и правдоподобнее». Верещагину не пришло в голову познакомиться с условиями расположения других пещерных стоянок; например, легкодоступных Волчьего грота, Чокурчи или Сюрени, совершенно такими же, как у Староселья. Он не задумался над отмеченными мной находками в слое пещеры зольных пятен; скоплений чешуек, отколотых от одного кремня; костей в анатомическом порядке. Ведь ничего этого не могло бы быть, если бы все остатки были смыты с плато. Не заинтересовали Верещагина и приведенные мной заключения геологов. Отсутствие элементарных знаний в области археологии и геологии нисколько его не смущало. Он не анализирует, не доказывает, а безапелляционно вещает[158].
Книга его написана в странном тоне, очень небрежном и развязном. Видимо, автор это и принимает за популяризацию. Бахчисарай изображён так: «Занятна зарешеченная башня для обитательниц гарема, наблюдавших оттуда для поддержания тонуса схватки-игрища джигитов»[159]. Или тирада о великом живописце «Сомикише» (речь идёт, должно быть, о графике Н.С. Самокише).
Но не в стиле дело. Как мог солидный учёный столь легкомысленно трактовать сюжеты, едва ему знакомые, вводя в заблуждение тысячи читателей?
Наиболее огорчало меня другое: начатая в 1970 году Г.П. Григорьевым критика методики моих раскопок. Её подхватили американец Р. Клейн, М.Д. Гвоздовер, Ю.Г. Колосов. Они говорили, что четырёхметровая толща отложений в Староселье не могла образоваться за короткий срок и должна былабыть исследована с членением на ряд горизонтов. Подробный ответ на эти замечания я дал в 1997 году[160].
Ну, а дальше произошло нечто ещё худшее. Колосов, обладая огромными и принципиально важными материалами о мустье восточного Крыма, делиться ими со своими учениками не захотел и в 1988 году указал одному из них – В.П. Чабаю – как на основу диссертации на коллекцию из моих раскопок. Чабай, видимо, не один день, а достаточно долгий срок просидел над кремнёвыми изделиями из Староселья, Кабази и Навеса в Холодной балке, хранящимися в московских музеях. Однако ни спросить у меня разрешения на это, ни придти ко мне с возникшими по ходу дела вопросами, ни рассказать о своих наблюдениях не счёл нужным. Не посоветовали ему обратиться ко мне и хранители музеев (та же Гвоздовер). Даже доклад о Кабази II Чабай прочёл в нашем институте в моё отсутствие, и никто из коллег по сектору на это заседание не додумался меня пригласить. А я не только разрешил бы молодому археологу пересмотреть мои старые материалы, но и поделился бы с ним неопубликованной полевой документацией. Но меня воспринимали лишь как помеху.
Диссертация «Ранний палеолит Юго-Западного Крыма» была успешно защищена в Киеве в 1991 году. Как оппонента пригласили из Душанбе В.А. Ра-нова, а не кого-либо работавшего в этой области. Первый сомнительный поступок легко сошёл с рук. Значит, можно совершить и следующий. В 1992 году Чабай заключил договор с университетом города Даллас в США: американцы получали право взять образцы для датировок на всех стоянках каменного века в Крыму, а за это обязались финансировать его раскопки в Староселье, предоставляя ему на протяжении трех лет полугодовые поездки в США.
Разрешения у меня не спросили. А тут бы я запротестовал. Ведь раскоп в Староселье в 1956 году был тщательно законсервирован, заложен камнем, за тридцать с лишним лет зарос травой, а Бахчисарайский музей следил за его сохранностью. Между тем, вокруг есть много других памятников, в том числе находящихся под угрозой – Чокурча в пределах Симферополя, пещеры в районе каменоломен. В сводке Ю.Г. Колосова, В.Н. Степанчука и В.П. Чабая «Ранний палеолит Крыма» (Киев, 1993) таких пунктов учтено ни много ни мало сто сорок. Зачем же лезть на хорошо законсервированный чужой объект?
О том, что я против возобновления раскопок Староселья, знал не только Чабай, но и участник экспедиции 1993 года англичанин Ф. Олсфорт Джонс. Годом раньше я позволил ему сделать в пещере зачистку, чтобы взять образцы, но оговорил, что это не должно стать началом раскопок. Ездил в Крым с Джонсом именно Чабай. Таким образом, нельзя предположить, что глава совместной экспедиции американец Энтони Маркс просто не знал, жив ли я, спрашивали ли у меня разрешения на продолжение исследований.
О раскопках я узнал почти через год, притом из Франции. Запросил Бахчисарай, Симферополь, Киев, Петербург, США. Выяснилось, что Чабай всюду говорил, что всё со мной согласовано, а в Симферополе якобы даже лежит моё письмо с согласием на новые работы. Сам Чабай прислал мне из Далласа хамское послание, где заявлял, что никаких прав на Староселье у меня нет. Нашёл стоянку украинский археолог Микола Кацур – сотрудник украинского Бахчисарайского музея. На средства этого учреждения я и копал, оттеснив первооткрывателя, но так плохо, что был лишён открытого листа.
Всё это враньё. Средства от Бахчисарайского я получал в 1952–1953 годах, когда Крым находился в составе Российской Федерации. Николай Петрович Кацур, от которого я ни одного слова по-украински не слышал, служил не в этом музее, а в филиале Академии наук. Это был лаборант без всякого образования, выполнявший чисто техническую работу. Приглашая меня, музей не располагал никакими сведениями о новых памятниках. Нашёл кремнёвые орудия и костные остатки в пещере я, о чём Кацур вскоре же и услышал. Лишь осенью следующего года, когда поднялся шум вокруг открытия погребения, он сказал мне, что бывал в пещере до меня. Я склонен ему верить. Как все крымчане, он бродил по горам; собирая кизил, мог заглянуть и в балку Канлы-дере. Но бывали там и другие жители города и его предместья Салачика (Староселья).
Кацур умер в 1954 году, лет за десять до рождения Чабая, и забыт даже на родине. От него не осталось никаких записей или коллекций. Вспомнил о нём, конечно, Колосов, но он-то знает, что к моменту моего приезда в Крым никаких данных о стоянке Староселье ни в музее, ни в филиале не имелось, ибо в противном случае сам Колосов этими сообщениями и воспользовался бы. Знает он и то, что Кацур служил вместе с ним в филиале, а вовсе не в музее. Зачем же эта ложь? А затем, чтобы отнять у меня памятник.
В своих публикациях тех, кто указал мне на известные им памятники, я всегда называл (А.А. Щепинского для Кабази и Навеса в Холодной балке, И.М. Громова для Алимовского навеса). Не так поступают Колосов и Чабай. Они всюду замалчивают роль В.Ф. Петруня в открытии палеолита на Альме и в районе Белогорска.
Что касается моей методики раскопок, то в названной книге трёх авторов о Староселье говорится не так, как о других памятниках. Там даны только фактические справки. Здесь – критический разбор (с. 145–155) со ссылками на замечания Григорьева, Колосова, Верещагина и Барышникова. Но забавно: тут же сказано, что Верещагин не прав – я копал не смыв с плато, а культурный слой, отложившийся в пещере. А ниже отмечено, что пересмотр коллекций показал полную идентичность находок над и под горизонтом обвала. Ну, а коли так, то в чём же претензии? Но цель у авторов иная – отнюдь не научная.
Украинско-американская экспедиция проработала в Староселье три сезона: 1993–1995 годов, вскрыла 52 кв. м. Нашла два поздних погребения. Они заставляют с ещё большей настороженностью отнестись к находке 1953 года. Однако, на мой взгляд, Марксу и Чабаю следовало бы вызвать тех, кто видел первое погребение; не меня, так Т.П. Алексееву или М.М. Герасимову. Если бы они сказали, что захоронения во всём идентичны, вывод был бы один, а если бы отметили какие-либо отличия – то другой.
Вероятно, раскопки шли на более высоком уровне, чем в 1950-х годах. Много средств. Совершенное американское оборудование. Но вижу я и недостатки. Предшествующие исследования просто игнорированы. Не сделана попытка соотнести с моей помощью новые материалы со старыми (привязка к реперу, нулевой линии, согласование интерпретации профиля отложений). Брошен после конца работ не засыпанный раскоп, и это при вспышке кладоискательства в Крыму. Не привлечены свидетели находки погребения 1953 года.
В целом моя оценка такова: имел место не что иное, как бандитский захват чужого памятника, жульничество с обоснованием прав на него и шантаж – угрозы Чабая – если пикните, я про Вас ещё не то напишу.
Но вот позиция окружающих: с морально-этической точки зрения, может быть, Вы и пострадали, но уж с позиций права всё безупречно. Независимая Украина может поступать со своим памятником, как сочтёт нужным. Это я слышал от Гвоздовер, Григорьева. Они знали обо всём чуть ли не на год раньше, чем я, ещё при заключении договора Киева с Далласом, но скрыли от меня это. Сектор палеолита в Петербурге не захотел ссориться ни с украинскими, ни с американскими коллегами. Это «Ваши проблемы». А нам важно не потерять американские доллары.
Но ведь лиха беда начало. Вчера захватили Староселье, завтра продадут Херсонес или Пантикапей. Моё право на Староселье не только в том, что я нашёл эту стоянку. Оно – в труде, вложенном мной в раскопки (пять лет жизни) и в обработку материалов (те же пять плюс ещё два). В Херсонес и Пантикапей вложили свои силы десять поколений русских учёных. Украинских здесь и тени не было.
Да и кто заключал договор? Президенты Кучма и Клинтон? Бросьте: Витя Чабай – молодой парень, ещё ничем себя в науке не зарекомендовавший. Это не осуществление международного права, а типичная «прихватизация». И всем всё безразлично, а кое-кому и нравится. «Бессовестность заливает Россию», – говорит Солженицын.
Я послал письмо с протестом в американский журнал «Current Antropology». Его напечатали как материал к дискуссии об авторских правах в археологии. Заняло оно пол столбца, а далее на 13 страницах Э. Маркс, В.П. Чабай и его сотрудники Ю.Э. Демиденко и В.И. Усик поливают меня грязью[161]. По словам Маркса, узнав о моем письме, он возражал против его публикации и предупредил редактора, что в противном случае «научное реноме Формозова будет перечёркнуто раз и навсегда»[162]. Странно: все четверо убеждены, что прав на памятник у меня нет и закон на их стороне, но при этом ужасно злятся. Почему собственно? Старик, может быть, и неприятный, но проработавший полвека и кое-что сделавший, был втянут в конфликт против своей воли, проиграл и обижен, но, тем не менее, пишет кратко и вежливо. А молодые люди, пусть с большим будущим, но пока ещё начинающие археологи, создали конфликт, выиграли, обидели старика. Но они же и в бешенстве.
Повторены знакомые аргументы. Нашёл пещеру Кацур; копал я её плохо, был лишен открытого листа; после чего экспедицию вела Гвоздовер (предъявляйте тогда претензии ей, а не мне). Но появились и новые мотивы. Колосов «вспомнил», что слышал доклад Кацура о Староселье в музее пещерных городов в 1951 году, а это ложь. Я будто бы ничего не предпринял для изучения условий захоронения 1953 года, в связи с чем сразу возникло скептическое к нему отношение. Следует ссылка: «Рогинский и др. 1954»[163]. Но ведь это протокол комиссии, которую я же и вызвал для выяснения условий находки, мною и подписанный!
Наконец, оказывается, завершив раскопки в пределах города, я засыпал стенку раскопа высотой 4 метра не для сохранения памятника, а чтобы скрыть свои фальсификации. Меж тем этого требовал от меня Бибиков. Его давнее кляузное письмо извлечено из архива и напечатано, однако без этого пункта. Прочее в том же духе.
Не думаю, что моё реноме перечёркнуто, но не сомневаюсь, что кое-кто радуется и верит клевете. Вот уж и Ранов тут как тут, поддерживает Маркса и украинцев. А его друг Г.Н. Матюшин написал специальную статью, где говорит, что я рекламировал находку в Староселье для подкрепления собственной несостоятельной теории антропогенеза (каковой у меня не было), тогда как все жители Бахчисарая знают, что в пещере искони хоронили идиотов[164] (откуда это?). Ну, а дирекция института, где я прослужил 47 лет, защищать меня не собирается: Вы нас ссорите с украинцами и американцами…
Я напечатал ответ этим украинцам и американцам в «Российской археологии». Тогда в журнал прислал письмо Колосов. Оттеснённый Чабаем и от долларов, и от палеолита Крыма вообще, он теперь готов защищать меня, но повторяет, что Староселье нашёл Кацур и, более того, присвоив чужое открытие, я довёл этого человека до самоубийства[165].
В 1998 году в Льеже вышла монография Маркса и Чабая о раннем палеолите Западного Крыма. И там всё то же: сотрудник Бахчисарайского музея нашёл стоянку, меня пригласили её копать; потом лишили открытого листа; завершала исследование М.Д. Гвоздовер[166]. И это несмотря на опровержения, напечатанные в Америке же Х.И. Крис и Т.П. Алексеевой[167].
Любопытно, что участники украинско-американской экспедиции, располагавшие куда большими возможностями, чем я, просто воспроизвели мои планы окрестностей Староселья и самой пещеры. Первый план из-за секретности 1950-х годов представляет собой сугубую схему; второй, глазомерный, следовало бы выверить инструментально. Но зачем трудиться? Цель ведь не в более высоком уровне исследований, а в присвоении важного памятника.
Итак, в литературе заметно не только оправданное стремление взглянуть на Староселье иначе, чем первооткрыватель, но и тенденция подорвать ценность добытых им материалов. Это я считаю уже недостойным. Можно не любить того или иного коллегу, ругать его в глаза и за глаза, не подавать ему руки, но к фактам, введённым им в научный оборот, надо подходить без предвзятости.
Я вовсе не склонен рекламировать мои раскопки Староселья как безупречные. Они проведены более сорока лет назад на жалкие гроши, но многие упрёки мне моих продолжателей абсолютно несостоятельны.
На восприятии конфликтов, возникших вокруг Староселья, очень сказались вненаучные моменты. Коллеги опасались, что мой успех обеспечит быстрое выдвижение молодого, энергичного и независимого человека, как это произошло некогда с А.П. Окладниковым. Такой поворот дела не устраивал ни ленинградцев, ни многих москвичей. Между тем никакого профита из своих открытий я не извлёк и кончаю жизнь в том же звании, какое получил через два года после окончания университета и двух сезонов раскопок в Староселье.
Меня воспринимали как нахального мальчишку, а я, напротив, был очень застенчив. Рисунки в моей книге малочисленны и не всегда качественны потому, что сделаны за мой личный счёт, т. е. из стипендии аспиранта и зарплаты младшего научного сотрудникам. Я стеснялся просить у института хорошего художника себе в помощь, не смел добиваться от Верещагина и Муратова выполнения их обязательств. Моё нахальство проявлялось лишь в том, что работая в пещере не один год и зная её лучше, чем кто-либо другой, я не благодарил за ценные советы людей, заехавших туда на полчаса, а то и вовсе не видевших моих раскопок, но с важностью объяснявших мне, что к чему, а смело спорил с ними. Поведение Громова, Муратова, Верещагина я считал недопустимым для настоящих учёных и не скрывал этого.
Нынче мои товарищи, как правило, берут отзывы о своих рукописях, диссертациях и отчётах у наименее компетентных в данной тематике коллег. Необходим не совет опытного человека, не взгляд со стороны, а всего-навсего бумажка, снабжённая подписями, украшенная чинами и званиями. От критики лучше уйти. Я действовал иначе и буквально напрашивался на критику. Казалось бы, это похвально, но результат отпугнёт кого угодно.
Мои личные переживания не так уж важны. Плохо то, что пострадала репутация исследованного мной памятника, который уж решительно ни в чём не виноват. Ещё печальнее видеть, как люди, подверженные стадному инстинкту, не разобравшись в существе вопроса, радостно примыкают к улюлюкающей толпе.
Какими бы отталкивающими свойствами характера я не обладал, у меня почему-то до конца их дней сохранялись добрые отношения с Замятниным и Дебецом, Рогинским и Герасимовым, побывавшими в Староселье. В чём-то мы расходились, какие-то их поступки и слова меня огорчали, но это был спор в рамках науки.
* * *
Годы ушли. Что ж осталось? Во-первых, интересный памятник, мною найденный. Во-вторых, коллекции, с большим напряжением сил мною добытые и всем доступные (что не всегда бывает). В-третьих, кое-какие наблюдения, используемые коллегами, порою со ссылками на меня, а порою и без оных. Кое-что отсеялось как ошибочное. Это неизбежно. Ну а во мне самом так и осталось чувство горечи, вероятно, сыгравшее решающую роль в моём отходе от занятий палеолитом. Выиграла ли от этого наука? Сомневаюсь.
История раскопок Староселья чем-то напоминает историю изучения Каповой пещеры. И там, и тут конфликт первооткрывателя и позднейших исследователей. Но разница в том, что в Каповой конфликтовали любитель и специалист, а в Староселье – профессионалы.
В поисках точки отсчёта
Я был в Ленинграде, когда в январе 1951 года скоропостижно скончался Игнатий Юлианович Крачковский[168]. Сердце старика не выдержало бурного объяснения с новым директором Института востоковедения С.П. Толстовым[169]. В здании на Дворцовой набережной, где помещались Отделения и их, и нашего (археологического) институтов, толпились люди. Вспоминали умершего, его мудрость и редкостные знания, его смелость – в те нелёгкие годы он не боялся переписываться с репрессированными коллегами; брал на службу тех, кто вышел из заключения. И вот среди этих рассказов я услышал историю, прозвучавшую некоторым диссонансом со всем остальным, но, видимо, не случайную, а органически связанную с жизненными принципами покойного.
Молодой способный арабист сразу по окончании университета пошёл на фронт и вернулся оттуда слепым инвалидом. Он пытался заниматься. Кто-то помогал ему, читая вслух и арабские тексты, и иностранную литературу. С великим напряжением сил подготовил он кандидатскую диссертацию. Идёт защита, и вдруг на кафедру поднимается Крачковский и заявляет, что работа слабая, он будет голосовать против и другим то же советует. Не знаю ни имени арабиста, ни как разбились голоса, не уверен даже, так ли всё в точности было, но драматическая ситуация произвела на меня громадное впечатление и заставила задуматься о многом.
Крачковскому легко было бы опустить чёрный шар молча или не придти на заседание. Почему же он предпочёл выступить, заранее предугадывая реакцию аудитории? Он воспользовался диспутом для того, чтобы напомнить собравшимся часто забываемую нами истину: наука, настоящая большая Наука выше личности, и требования её должны быть едины для всех. Решительно ничто не даёт права на скидки – ни то, что ты стар; ни то, что ты узбек; ни то, что ты высокопоставленный чиновник; ни то, что ты герой и инвалид войны. Когда актёр выходит на сцену, у него, может быть, умирает мать, его только что бросила жена, а директор театра предупредил об увольнении. Но публике нет до всего этого дела. Артист обязан быть в форме всегда и везде, при любых обстоятельствах. Зрителей его страдания ни в коей мере не касаются. Это его частное дело. То же и здесь.
Строгость и требовательность Крачковского мне близки и понятны, и, тем не менее, я не смог бы ни выступить, как он, ни голосовать против. Я помню учившихся со мной на историческом факультете МГУ слепых фронтовиков: чёрные очки на обожжённых лицах, застиранные гимнастёрки, простые деревянные палки в руках. Вряд ли у кого-нибудь из них ещё до войны было призвание стать историком. Скорее всего, их направили на наш факультет уже из госпиталей как на самый для них лёгкий. Обычно их зачисляли для специализации на кафедры истории СССР или истории ВКП(б), и нанятые деканатом пенсионеры читали им в общежитии или в углах актового зала одни и те же знакомые всем брошюры.
Судьба ученика Крачковского иная. Он увлёкся культурой Востока в юности и остался верен избранной специальности несмотря ни на что. Найти чтеца для куфических рукописей, да и для английских и французских монографий было безмерно трудно. И о чём, в конце концов, шла речь? Я бы ещё поколебался, если бы обсуждалось – издавать или не издавать написанную им книгу. Но диссертация, учёная степень… Это ведь вопрос зарплаты, куска хлеба, не более. Нет, моя рука не поднялась бы не только на слепого ориенталиста, но и на малоприятного мне черносотенца Михаила Найдёнова с истфака МГУ (студенческое прозвище – «Власть тьмы»)[170]. Что ни говори, эти люди отдали своё здоровье за нас, и мы перед ними в долгу.
Всё вроде бы ясно, но прибегнем ещё раз к сравнению с театром: пойдём ли мы на концерт безголосого певца или хромоногой балерины, услышав, что они пострадали, совершая настоящие подвиги? Сомнительно. И это не бездушие. Наука, искусство – не безжизненные абстракции, а то, о чём надо заботиться не менее бережно, чем о живых людях. Недопустимо жертвовать культурой в интересах отдельных личностей, не исключая и самых несчастных, самых благородных. Служители её, такие, как Крачковский, вправе порой проявить жестокость, чтобы сохранить необходимый уровень в своей области знания. Во всяком случае, бывает полезно напомнить о нём. Другим же позволительно пощадить обиженного судьбой товарища (и Крачковский, конечно, не всегда был безжалостно строг[171] – с теми же репрессированными коллегами хотя бы).
Этой историей я хочу завершить мои очерки. И она, и все рассмотренные выше коллизии не могут быть разрешены без долгих раздумий и угрызений совести. Мы затронули тяжёлые конфликты, отражающие в целом трагичность положения подлинного учёного. Каждому из нас нужно отдавать себе отчёт в том, что познание мира, требующее беспристрастности, объективности, производится обыкновенными людьми, обременёнными всеми страстями, свойственными нашему роду.
Нельзя сказать: подави в себе всё человеческое, постарайся стать бесстрастной машиной. Именно эта ужасная идея вела талантливых врачей в услужение к палачам, обещавшим медикам обильный материал для любопытнейших изысканий.
Но ошибочным был бы и противоположный совет: будь прежде всего человеком, а уже потом специалистом. Он выглядит куда красивее, но тоже опасен, ибо есть обстоятельства, когда приходится поступаться своими чувствами ради Науки с большой буквы. В любом из предшествующих очерков мы сталкивались с внутренней борьбой человека и специалиста в учёном. Переоценка собственной персоны побуждает его к созданию внешне эффектных, широковещательных, но легковесных теорий. Самолюбие мешает ему сказать – «не знаю», или исправить некогда допущенную ошибку. Патриотизм или приверженность к какой-либо предвзятой идее заставляет искажать факты в угоду дорогой его сердцу концепции. Казалось бы, это элементарно, но кто из нас осмелится заявить, что абсолютно свободен от подобных слабостей.
Попадаем мы и в ситуации посложнее. По-своему правы и в то же время не правы были обе стороны в споре Бадера с Рюминым, Рериха с Грабарём. Прав был и Крачковский, но мало кто последует его примеру – и слава Богу.
Каков же тогда итог? Для себя я формулирую его так: надо отчётливо сознавать, что наука строится людьми, обладающими всеми присущими им качествами – и прекрасными, и постыдными; что ты сам наделён ими в полной мере, о чём свидетельствуют твои статьи и книги. Нужно не забывать об этом ни на минуту, чтобы почаще вносить поправки в свои старые выводы; трезво оценивать то, что делается вокруг, и быть готовым вновь и вновь искать наилучшие решения повседневно возникающих психологических конфликтов. Исходным, раз навсегда данным должно быть только это, а не стремление вечно подавлять в себе человека во имя науки, или, наоборот, превратить её в источник безбедного и беспроблемного существования.
У тех, кто прочтёт мои книги «Начало изучения каменного века в России» (1983) или «Следопыты земли московской» (1988), «Пушкин и древности» (2000), может сложиться впечатление, что автор в равной степени хвалит почти всех людей, работавших в рассмотренной им области, придерживаясь спасительной сентенции: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Меж тем, на практике, во взаимоотношениях с коллегами я был далёк от такой благостности. Меня часто осуждали за нетерпимость. Конечно, легко любить давно умерших археологов и крайне трудно – своих современников, вольно или невольно тебя задевавших. Не всегда удавалось мне найти разумную линию поведения. И всё же я думаю, что противоречия в моём восприятии деятелей науки прошлого и ныне здравствующих не было.
Я всегда хорошо отзывался об учёных, внесших реальный вклад в нашу культуру, и не щадил любых жуликов, фальсификаторов, пустозвонов и чиновников от науки, так или сяк мешающих творческим людям. И в моих книгах вы встретите резкие характеристики таких деятелей из довольно уже далёкого прошлого, как, например, директора канцелярии обер-прокурора Святейшего синода А.И. Войцеховича, возглавившего при Николае I Отделение славянорусской археологии Русского Археологического общества. Не жалую я людей типа Н.В. Савельева-Ростиславича или Ф.Л. Морошкина. Никакого научного наследия они не оставили, а порочить подлинных историков не стеснялись (ничтожный Савельев-Ростиславич самого С.М. Соловьёва именовал в печати «пигмеем»[172]).
Когда перед Вами конфликт, попытайтесь до вынесения приговора понять, кто есть кто в этом споре. Профессор Новороссийского университета И.Ф. Синцов в 1873 году провалил на магистерском экзамене выдающегося палеонтолога В.О. Ковалевского. На того это так подействовало, что он отошёл от науки, взялся за малоподходящие для себя издательские дела, запутался в них и покончил с собой. Синцов был доктором биологии, кое-что полезное в его сочинениях как будто содержится, но в целом перед нами типичный чинуша. Недаром он в конце концов бросил университет и пошёл на административную должность[173]. За мелкие наблюдения над третичными раковинами трагическую гибель Ковалевского Синцову простить нельзя.
Не должно быть снисхождения и жуликам от археологии, вроде упоминавшегося выше Матюшина[174].
Сложнее с бездельниками. В каждом научном учреждении таковых предостаточно. Все мы знаем типичные случаи: приходит в институт милая молодая женщина. Довольно скоро её жизнь в подробностях известна сослуживцам. Старики-родители болеют, получают маленькую пенсию, муж пьёт, сын связался со скверной компанией и т. д. Жалко бедную Машу! Голова её занята домашними бедами, где уж тут наукой заниматься. И держат Машу в штате до пенсии, а то и до смерти. О том, что на её месте мог бы работать творческий человек, стараются не думать. А рядом квалифицированный филолог-классик, автор многих статей о культуре древней Греции, переводчик философских трактатов Аристотеля, служит лифтёром и почему-то никто не видит в этом трагедии. На мой взгляд, не случилось бы трагедии, если бы в лифтёры ушла Маша, уступив своё место более достойным.
Маш много, и беда в том, что иные из них не просто бездельничают, а чтобы закрепиться, вступают на всё ту же чиновничью стезю и путаются под ногами у других. Не обманываюсь: с этими моими рассуждениями мало кто согласится. Скорее, очередной раз попрекнут меня бездушием. Но реальной угрозы я ни для кого не представляю, а высказать своё мнение, наверное, вправе.
Есть разные позиции: обывательская, безусловно, более низкая, чем научная; и жизненная – самая высокая. Перепутать их легко. Обывательскую точку зрения большинство и разделяет, и приветствует; жизненную же – не понимает и осуждает.
Об этом заставили меня задуматься многие эпизоды, происходившие на моих глазах за полвека наблюдений над учёным миром, а впервые едва ли не приведённый выше рассказ о Крачковском.
* * *
Более полувека прошло с тех пор, как я провёл первые археологические разведки, опубликовал первую заметку. Кое-что за эти годы я сделал. Мои книги и статьи о каменном и бронзовом веках, о первобытном искусстве и на историографические темы цитируются в литературе достаточно часто. Но вот взаимопонимание с коллегами у меня возникало далеко не всегда. Уж очень по-разному смотрели мы на саму нашу работу. Может быть, на прощание не лишним будет объясниться.
От родителей я воспринял идею служения науке и культуре, столь характерную для русской интеллигенции XIX века. Представления, с которыми в 1946 году я пришёл на исторический факультет Московского университета, а в 1951 – в академический Институт истории материальной культуры АН СССР (ныне – Институту археологии РАН), подверглись жестокому испытанию при столкновении с реальной действительностью. Вместо храма науки я видел то заурядную контору (начальник, подчинённые, фавориты), то лавочку (я тебе – ты мне). Это не прибавляло взаимопонимания ни с учителями, ни с товарищами.
Со временем учителя умерли. Мои сверстники заняли их места. Подросла молодежь. Лучшие из неё открыто выражают недовольство окружающим их в академической среде. Я с ними согласен. Надо многое менять. Но с чего же начать? Одни полагают, что – с высокой теории, с выяснения того, где предмет, а где объект нашей науки. Другие призывают к формализации и математизации её в надежде, что машины с лёгкостью решат вопросы, доводящие людей до отчаяния.
Я предлагаю начать с определения возможностей человека. Все мы знаем, что наукой занимаются не боги и не бесстрастные механизмы, а обычные грешные люди. Людям же свойственно и заблуждаться, и, увы, говорить неправду. Но напоминать об этом на заседании или в печати почитается верхом неприличия. Принято делать вид, будто все работают исключительно честно, добросовестно и ни при каких обстоятельствах не могут ошибаться. В итоге ошибки укореняются, ложь утверждается, а наука всё дальше отклоняется от своей цели – постижения истины. Вот об этом мне и хочется потолковать.
Сейчас во всём мире ученые поняли, какую огромную роль в процессе познания играет личность исследователя. Даже у одинаково опытных химиков, пользующихся одинаковым набором реактивов, реакция нередко идёт по-разному[175]. Нашего брата гуманитария это касается в ещё большей мере.
Три археолога раскапывают три стоянки одного типа. Первый небрежен, неумел и потому не заметил остатков жилищ. Второй – их не пропустил, но, будучи человеком увлекающимся, дал совершенно фантастические реконструкции древних домов. Третий – вёл раскопки предельно тщательно, и его выводы всегда основаны на фактах, точно зафиксированных в поле. Можно ли сопоставлять добытые материалы, без учёта личных особенностей раскопщиков? У нас стараются об этом не думать.
За последние годы в нашей стране многое изменилось. Что-то в лучшую сторону, что-то – в худшую. Снят идеологический пресс, разрушен «железный занавес». Но почти прекратилось финансирование науки, как экспедиционных, так и лабораторных исследований, а особенно издательской деятельности. Ученые мечутся в поисках случайных заработков. Всё это, однако, не снимает проблемы, поставленные в книге. Человеческая природа всё та же. Более того, в новых условиях корыстное потребительское отношение к науке даже усилилось.
И последний вопрос: а не попусту ли я всё это говорю? Если в основе проблемы – черты человеческой психологии, никакое морализаторство ничего в ней не изменит. Отдельные люди способны на самоконтроль, а общество в целом, пожалуй, что и нет. И всё же за годы работы я что-то понял, многое переоценил не только на собственном опыте, но и в беседах и спорах с коллегами. Значит, кому-то из читателей могут пригодиться и мои записи и размышления о типичных коллизиях в учёном мире.
От редактора (Рассказ об авторе «Рассказов об учёных»)
…Я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили…
Б.Л. Пастернак. Брюсову. 1926.Автор этой книги написал для неё и предисловие, и послесловие. Предельно откровенно и доходчиво объяснил замысел и, что называется, мораль собранных в ней очерков. Мне выпала честь готовить их к печати, и эти строки я добавляю только потому, что у этой книги, я убеждён, должен быть гораздо более широкий круг читателей, чем это первоначально думалось автору. Сам он адресует её прежде всего своим коллегам археологам, может быть, специалистам по смежным отраслям гуманитарного знания – историкам, искусствоведам, антропологам, этнологам и т. п. Отсюда нередкие на ее страницах обороты: «наша наука», «у нас» (в Институте археологии, в среде специалистов данной отрасли). Но если вернуться к вступительным словам «от автора», то окажется, что тот в начале своего пути в науке «настойчиво искал на полках библиотек правдивые книги об учёных, об их нелёгком пути…». И попадались ему по большей части биографии естествоиспытателей, техников, а не гуманитариев (Больше всего ему понравились «Охотники за микробами» Поля де Крюи). С тех пор, за последние полвека появилось немало новых и заново переизданных книжек про учёных разных специальностей. Написанных то казённо, скучновато, то живее, занимательнее. У этих книг появляются всё новые читатели, прежде всего юные, «обдумывающие своё житьё» в науке. Не только археологи, но и все прочие специалисты, неслучайные в своих областях знания. Им приходится заново решать сходные вопросы о возможностях научного познания; о том, чем приходится жертвовать ради него; о разных типах учёных, конфликтах в научных коллективах и т. д., и т. п. Не только новички на кафедрах да в лабораториях, но и представители более взрослых поколений учёных продолжают размышлять над теми сюжетами, что ярко освещены выше, на страницах этой книги. Ведь она должна заинтересовать куда более широкий круг читателей, чем одни археологи (хотя их-то, разумеется, в первую очередь).
Поэтому я счёл возможным сделать к авторскому тексту несколько примечаний – относительно тех имен и реалий, которые хорошо знакомы профессиональным археологам, но далеко не всем читателям с иной подготовкой.
По той же причине, я считаю, надо было добавить сюда ещё один очерк – представить всем возможным читателям её автора, кое-что пояснить в его историографических и науковедческих суждениях. Сделать это тем более уместно в связи с недавним 75-летним юбилеем учёного[176].
Александр Александрович Формозов – видный русский археолог и историк, кандидат исторических наук, в недавнем прошлом – ведущий научный сотрудник Института археологии РАН (до выхода на пенсию в конце 2003 г.). Родился в 1928 г. в Москве. Происходит из семьи научных работников: отец – выдающийся биолог, один из основоположников экологии и зоогеографии, профессор МГУ, известный писатель и художник-анималист Александр Николаевич Формозов (1899–1973); мать – доктор геолого-минералогических наук Любовь Николаевна Формозова (1903–1990). Они несколько раз упоминаются в этой книге – автору запомнились их оценки некоторых деятелей отечественной науки.
Ещё будучи школьником, в 1944 г. А.А. Формозов сделал свои первые археологические находки, участвуя в геологической экспедиции в Приаралье, и в 1945 г. опубликовал сообщение о них. В 1946–1951 гг. учится на историческом факультете МГУ, специализируясь на кафедре археологии, которой тогда заведовал член-корр. АН СССР А.В. Арциховский. В 1951–1954 гг. продолжил подготовку в аспирантуре Института истории материальной культуры (ныне Институт археологии РАН). Затем, на протяжении практически полувека (1954–2003 гг.) служил научным сотрудником этого Института.
В становлении личности учёного большую роль сыграло многолетнее дружеское общение с археологами А.В. Арциховским и С.Н. Замятниным, историком А.А. Зиминым и искусствоведом В.Н. Лазаревым; увлечение классическим искусством (прежде всего балетом) и литературой.
В 1952–1956 гг. он проводил раскопки стоянок каменного века в Крыму; в 1957–1963 и в 1969 гг. – поселений каменного и бронзового веков на Кавказе.
В историю мировой археологической науки прочно вошли его открытия на пещерных стоянках эпохи мустье Староселье, Кабази, Навес в Холодной Балке; неолитической стоянки Кая-Арасы в Крыму; открытие позднего палеолита в пещерах Прикубанья; серии энеолитических поселений неизвестного ранее типа в Краснодарском крае (Мешоко, Ясенова Поляна, Хутор Весёлый, Скала, Хаджох). Итоги полевых работ А.А. Формозова освещены в его капитальных монографиях: «Пещерная стоянка Староселье и её место в палеолите» (1958), «Неолит Крыма и Черноморского побережья Кавказа» (1962), «Каменный век и энеолит Прикубанья» (1965).
Значителен вклад А.А. Формозова в разработку концептуальных проблем первобытной истории человечества, начальных этапов развития культуры. Благодаря в том числе и его трудам была преодолена долгое время господствовавшая в советской археологии надуманная «теория» Н.Я. Марра и его последователей о стадиальности древних обществ, отрицавшая их культурно-историческую специфику. Как отмечено в действующем университетском учебнике В.П. Алексеева и А.И. Першица «История первобытного общества» (М., 2000), А.А. Формозов «аргументировал гипотезу, в соответствии с которой чёткие локальные различия появились лишь в эпоху верхнего палеолита, и разработал локальную типологию для территории Европейской части СССР». Это было сделано им в монографиях «Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном веке» (1959), «Проблемы этнокультурной истории каменного века Европейской части СССР» (1977).
Десять лет спустя после весьма успешного начала своих полевых работ, А.А. Формозов прекратил стационарные раскопки (о причинах такого решения говорится в заключающем настоящую книгу очерке «Вокруг пещеры Староселье»). Его увлекла новая тематика – памятники первобытного искусства на территории нашей страны. В 1963–1968 гг. он объехал весь ареал древних наскальных рисунков на территории СССР, лично изучив петроглифы в их наиболее важных концентрациях. На основе собранного полевого материала и полного изучения литературы вопроса создал оригинальную концепцию развития искусства в каменном веке. Результаты этих исследований выражены им в книгах: «Памятники первобытного искусства на территории СССР» (2 издания: 1966, 1980), «Очерки по первобытному искусству» (1969), «Наскальные изображения и их изучение» (1987).
В 2002 г. в серии «Научно-популярная литература» издательства «Наука» увидела свет его книга «Древнейшие этапы истории Европейской России»[177]. В ней впервые не только в общедоступной, но и в научной литературе даны систематические очерки заселения Восточной Европы первобытными людьми и о дальнейшем развитии их культуры вплоть до I тыс. н. э. – начала железного века, о котором сохранились первые известия в письменных источниках. Рассмотрены история экономики, быта, искусства древнейших социумов нашей Родины, формирование существующих до сего дня языковых и антропологических групп. Проанализировано влияние материальной и духовной культуры тех далеких эпох на дальнейший ход исторического развития России.
С конца 1960-х гг., вовсе оставив полевые изыскания, наш автор сосредоточился на проблемах историографии отечественной науки и культуры. Отдельные события и лица в развитии русской археологии рассмотрены им на широком историко-культурном фоне в связи с политикой, идеологией, менталитетом отдельных эпох. Об этом его книги «Очерки по истории русской археологии» (1961), «Пушкин и древности. Наблюдения археолога» (1979; 2000), «Начало изучения каменного века в России. Первые книги» (1983), «Историк Москвы И.Е. Забелин» (1984), «Страницы истории русской археологии» (1986), «Следопыты земли московской» (1988), «Русское общество и охрана памятников культуры» (2-е изд. 1990), «Русские археологи до и после революции» (1995), «Классики русской литературы и историческая наука» (1995), «Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки» (2004); серии статей в центральных журналах «Вопросы истории», «Природа», «Советская / Российская археология», «Знание – сила» и др.; материалах ряда научных конференций.
А.А. Формозов не только сам написал целую библиотечку работ о прошлом русской науки о древностях, но и организовал неформальный кружок исследователей той же тематики из разных городов нашей страны. Их работы были отредактированы им и сведены в три выпуска «Очерков истории отечественной археологии» (1991; 1998; 2002). Он же участвовал в составлении и редактировании замечательного издания – «Антологии советской археологии» в трех томах (1995–1996).
Вот уже добрую четверть века к Александру Александровичу периодически обращаются десятки коллег, занятых историографическими исследованиями, из многих градов и весей России, Украины, Белоруссии. Он безотказно консультирует всех, редактирует их рукописи, подсказывает темы и направления их разработки, даёт справки по любой персоналии из более чем двухвековой истории русской археологии. Без неформальных бесед, писем, советов Формозова не состоялось бы, я убеждён, становление этого нового направления научных исследований в нашей стране – истории самой отечественной археологии[178]. Его ключевую роль здесь отмечали в своих трудах такие её ведущие представители, как Л.С. Клейн[179], Г.С. Лебедев[180], В.И. Матющенко[181], И.Л. Тихонов[182], И.В. Тункина[183], В.А. Бердинских[184] и другие.
Следует особо отметить то направление историографических работ А.А. Формозова, что связано с увековечиванием памяти о научных заслугах его отца: на основе обработанного им архива А.Н. Формозова составлена его научная биография и предисловие к трём изданиям его избранных научно-художественных произведений «Среди природы». К сожалению, при публикации упомянутой биографии в условиях советской цензуры были опущены сведения о противодействии А.Н. Формозова лысенковскому регрессу в отечественной биологии.
Настоящая книга происходит из авторского архива. Ее рукопись представляла собой одну из частей большой работы, подготовленной к печати, но до сих пор не изданной: «Человек и наука. Из записей археолога. Ч. 1. Как мы работаем. Ч. 2. Рассказы об ученых. Ч. 3. Из собственного опыта». По моему предложению Александр Александрович любезно согласился опубликовать сперва ту часть, что, на мой взгляд, представляет наибольший интерес не только для специалистов археологов, но и для куда более широкого круга читателей литературы об ученых и науке. При этом сюда логично добавлен один из очерков («Вокруг пещеры Староселье») из части третьей.
Остаётся сказать, что формозовские «Рассказы об учёных» не совсем случайно увидят свет в Курске. Этот город заслужил разделить с родиной автора– Москвой право публикации его работ. Ведь с изучением древностей Курского края связано самое начало экспедиционной работы нынешнего ветерана археологии. Студентом он участвовал в Деснинской экспедиции под руководством М.В. Воеводского на раскопках в Авдееве и Липине под Курском (1947-48 гг.). Тогда же им были разведаны местонахождения палеолита у соседней д. Сорокиной; а совместно с А.Е. Алиховой найдены материалы неолита, бронзы, раннего железа на дюнах по течению Сейма в отмеченном районе; вместе с П.И. Засурцевым и Р.Л. Розенфельдтом велись раскопки на Липинском городище.
В трудах А.А. Формозова по истории русской археологии затрагиваются некоторые курские реалии и лица. Под его редакцией печатались, в частности, и мои работы о первооткрывателях здешней старины – А.И. Дмитрюкове, Д.Я. Самоквасове, П.С. Рыкове, В.И. Самсонове, Ю.А. Липкинге и многих других курских краеведах и учёных[185].
На этом можно было бы и завершить мое «постпослесловие», если бы не желание пояснить читателям некоторые нетривиальные моменты содержания и формы вошедших в книгу очерков. Они написаны в яркой авторской манере. Рискну предположить: археолог Формозов родился писателем (Вспомним родителей!). Поэтому его работы, в том числе по истории русской археологии, так интересно читать (Не забудем об учителях!). С этим же писательским даром, думается, связана отчасти и эволюция его научных интересов, столь откровенно описанная им самим выше (К ней приложили руку товарищи по науке).
Тут, между прочим, очередной урок для нашего брата исследователя – заниматься лучше тем, к чему у тебя лежит душа – выйдет больше проку («Героев своих надо любить…», – говаривал известный мастер русской литературы). У каждого из одиннадцати рассказов, составивших эту книгу, есть ещё один главный герой – сам автор. Русский археолог и историк Александр Александрович Формозов со всеми своими знаниями, суждениями, выводами, щедро представленными на страницах книги, даёт её читателям ещё один, двенадцатый очерк – о себе и о своём пути в науке.
Автор «Рассказов об учёных» ведёт эти рассказы в предельно откровенной манере. Он не скрывает ни своих симпатий, ни антипатий в науке и жизни. Так откровенно об учёных, тем более современных, у нас почти не пишут, даже в мемуарно-публицистическом жанре. Кому-то отдельные авторские оценки и сентенции могут показаться не то что спорными, а даже лишними в печати (в кулуарах все мы высказываемся куда свободнее). Однако подобная откровенность, порой доходящая до резкости, имеет веские оправдания.
Во-первых, автор всегда начинает с самого себя – не скрывает своих колебаний, просчетов, ошибок и спорных заключений. До обидного мало появляется в печати столь поучительных откровений. Слишком много теряют историки по уходу немотствующих очевидцев важнейших исторических событий. Не наступи политической «оттепели», С.М. Соловьев, которому посвящен один из вышерасположенных очерков, так и не решился бы записать всех своих «дум о былом» начистоту. Обратим внимание, что А.А. Формозов писал эту свою книгу ещё в период, от идеологической перестройки далекий, и не особо оглядывался на политическую цензуру.
Во-вторых, жизненные фигуры и обстоятельства подаются им не одномерно, а стереоскопически, с разных сторон. Его суждения всегда конкретны, избегая крайностей пессимизма и оптимизма. Он отмечает сильные стороны, отдельные достижения даже тех своих персонажей, кои в целом ему крайне несимпатичны. И, напротив, слабости и роковые просчёты тех, кто ему близок по духу. Читателю этой книги ясно, кто из ее персонажей нравится автору, кто не очень, а кто совсем не нравится. И что именно в каждом персонаже нравится, а что не нравится; а что может кому-то не нравиться, но нуждается в понимании времени и места своего проявления.
В-третьих, и это важнее всего, – автор на множестве ситуаций в биографиях целой плеяды наших знаменитых предшественников демонстрирует нам, к каким печальным последствиям приводят в науке двуличие, конформизм, групповщина, даже «просто» душевная слабость. Как хирург невольно причиняет пациенту боль, чтобы спасти его, так и историограф обращает наше внимание на то, чего нам в науке и жизни надо избегать во что бы то ни стало. Как говорится, «на зеркало неча пенять…».
Тревогу за судьбу русской науки сегодня высказывают многие ее представители и наблюдатели-аналитики. Процитирую свежие материалы «круглого стола» «Российская наука и молодежь», проведенного недавно в редакции журнала «Вопросы философии». Вот что заявил там Е.В. Семенов, в недавнем прошлом руководитель Российского гуманитарного научного фонда, а ныне главный редактор журнала «Науковедение», т. е. специалист, знающий наши научные нравы изнутри и в деталях. «Научный социум в современной России остался феодальным организмом. Изменение состоит только в том, что он… одряхлел, обнищал, снизились его этические нормы…Даже те социальные образования в науке, за которые мы хватаемся как утопающий за соломинку, – научные школы – и те, если вдуматься, в значительной степени фикция… административные порождения, которые были возможны при крайней ограниченности мобильности человека именно в условиях железного занавеса, прописки, характеристик с тремя подписями…Не благородные по своей сути, за исключением тех ситуаций, когда, действительно имела место связь типа талантливый ученый и ученики… В них научная активность постепенно угасает и не воспроизводится, поскольку реформа феодального научного социума оказалась невозможна…Современная молодежь в современных условиях в эту реальную науку… не пойдет»[186]. Эти и им подобные инвективы науковедов почти дословно совпадают с оценками и размышлениями автора настоящей книги.
Вдумчивый читатель и этой, и других формозовских книг может составить представление об идеологических установках автора. Отчасти он сам разъясняет их в предисловии. Это идеалы демократии, русский патриотизм (без нередких крайностей, его сопровождающих), открытость к международному сотрудничеству, интеллигентное уважение к ценностям культуры. Мировоззренческая стойкость и ясность убеждений особенно поучительны сегодня, когда имеет место удивительный разброд в политических позициях российских гуманитариев, – от полной апатии в общественных вопросах до крайностей вроде неокоммунизма (И.Я. Фроянов, скажем, и несть числа таких же «заединщиков»), квасного «патриотизма» (А.Н. Сахаров, реанимирующий наивный антинорманизм) или прозападнического либерализма космополитического толка (у нередких среди нас искателей тёплых мест на Западе, долларовых грантов и т. п.).
Уважать авторскую позицию не означает во всём ее разделять. За недавно истекший век обнаружились сильные и слабые стороны не только политического консерватизма (автор не обинуясь именует его черносотенством) да коммунизма, но и несколько аморфной идейной платформы русской интеллигенции неонароднического толка. Едва ли не важнее, что за идеологическими разногласиями стоят люди и обстоятельства их жизни. Автор сам отмечает, что многие «черносотенцы» верно служили Российскому государству, защищали его от внешнего врага. Так, бегло упомянутый автором в заключение очерков Сергей Павлович Толстов (из казачьей семьи) был мобилизован в ополчение, разбитое под Москвой в 1941 году. Он не отступил вместе с большинством обмороженных и безоружных его «бойцов», а, остановив наш артиллерийский расчёт, ударил из пушки по наступавшей немецкой автоколонне; был ранен в этом бою. Осуждая этого археолога за ревностные идеологические проработки коллег по службе в послевоенный период, будем помнить об остальном в его биографии.
А.А. Формозов указывает на А.И. Солженицына как на ориентир нравственного ригоризма. Осмелюсь заметить, что рецепты новоявленного пророка не всех и не всегда убеждают. Это касается и оценки революционных моментов отечественной истории, и ее имперских традиций, и рьяного клерикализма наших нововоцерковленных сограждан, и много чего ещё. Понятно, что автора «Рассказов об ученых» привлекают не эти политические пристрастия вермонтско-подмосковного отшельника, а стойкая нелицеприятность его публицистического голоса («Истину царям с улыбкой говорил…»).
«Рассказы об учёных» Александра Александровича Формозова возвращают нас к настоящей науке и настоящей литературе. Эти две музы не так уж часто дружили в анналах нашей культуры, чтобы все те, кому они небезразличны, пропустили бы эту встречу с ними. Я уверен: тот, кто прочтет эту книгу, ощутит себя духовно богаче.
С.П. Щавелёв
25 октября 2004 г.
Список сокращений
БСЭ – Большая советская энциклопедия.
ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии.
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры.
МГБ – Министерство государственной безопасности.
МГУ – Московский государственный университет.
Примечания
1
Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. в 14-ти тт. Т. X. – М, 1940. – С. 298.
(обратно)2
Там же. С. 321.
(обратно)3
См., например: Сборник украинских песен, издаваемый Михаилом Максимовичем. Ч. 1. – Киев, 1849. – С. 27–30, 53–64, 88–91.
(обратно)4
Историю споров вокруг «Запорожской старины» и выводы современных текстологов в этой связи см. в кн.: Кирдан Б.П. Собиратели народной поэзии. – М., 1974. – С. 81–137.
(обратно)5
См.: Азадовский М.К. История русской фольклористики. Т. I. – М., 1958. – С. 359–360; Сахаров И.П. Русские народные сказки. – СПб., 1841. – С. 94–95.
(обратно)6
Костомаров Н.И. Разбор «Записок о Южной России» Кулиша // Отечественные записки. Ч. СХП. 1857. -№ 6. – С. 41–42.
(обратно)7
См.: Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т. III. – СПб., 1891. – С. 104.
(обратно)8
Антонович В.Б., Драгоманов М.А. Исторические песни малорусского народа. Т. I. -Киев, 1874.-С. XIX–XX.
(обратно)9
Костомаров Н.И. Историческая поэзия и новые ее материалы // Вестник Европы. -1874.-№ 12.-С. 627.
(обратно)10
Корсунов А.А. Н.И. Костомаров // Русский архив. – 1890. – № 10. – С. 218–219. Отметим для ясности: украинцы пишут фамилию автора «Корсун», а его русские публикации подписаны «Корсунов».
(обратно)11
Срезневский В.И. И.И. Срезневский. Биографический очерк. – СПб., 1908. – С. 6; Пыпин А.Н. Указ. соч. – С. 101–102.
(обратно)12
См.: Переписка А.Х. Востокова в повременном порядке с объяснительными примечаниями И. Срезневского. – СПб., 1873. – С. 462.
(обратно)13
Запорожская старина. Ч. 1. – Харьков, 1833. – С. 123, 125–126.
(обратно)14
Там же. С. 17.
(обратно)15
См.: Песни, собранные П.В. Киреевским. Издание Общества любителей российской словесности с комментариями П.А. Бессонова. Вып. 7. – М., 1868. – С. 9, 11, 109–111, 154; Вып. 8.-М., 1870.-С. 61, 162, 174–175.
(обратно)16
Литературная летопись. [Рец.] Запорожская старина, часть 2 // Библиотека для чтения. Т. XIII.– 1838.-С. 14.
(обратно)17
Срезневский И.И. [Рец.] Песни, собранные П.Н. Рыбниковым // Известия Академии наук по отделению русского языка и словесности. Т. X. – СПб., 1861–1863. – С. 249.
(обратно)18
Цит. по: Пыпин А.Н. Материалы для биографии А.А. Котляревского. – СПб., 1894. -С. LXXIV–LXXV.
(обратно)19
Сварог – одно из верховных божеств древних славян.
(обратно)20
Писарев Д.И. Соч. в 4-х тт. Т. П.-М., 1955. – С. 171.
(обратно)21
Полевой П.Н. Три типа русских учёных // Исторический вестник. – 1899. – № 11. С. 127–140.
(обратно)22
В сокращенном виде очерк опубликован: Знание – сила. – 1973. – № 6. – С. 38–39.
(обратно)23
См.: Русская беседа. 1856. Кн. III. Смесь. С. 17–46; Кн. IV. Смесь. С. 1–57.
(обратно)24
См.: Герцен А.И. Лобное место // Собр. соч. в 30-ти тт. Т. XIII. – М., 1958. – С. 30; Чернышевский Н.Г. Заметки о журналах // Полн. собр. соч. в 16-ти тт. Т. IV. – М., 1964. -С. 692; Его же. Из № 5 «Современника» // Там же. С. 761.
(обратно)25
См.: Достоевский Ф.М. Письма. Т. III. – М.-Л., 1934. – С. 268 (Комментарии А. С. Долинина).
(обратно)26
См.: Павлов Н.Ф. Биограф-ориенталист. – М., 1857 (Первоначально: Русский вестник. – 1857. – Т. VIII. – № 3–4. – С. 211–254); Кавелин К.Д. Слуга. Очерк // Собр. соч. в 4-х тт. Т. П. – СПб., 1898. – С. 1186–1192 (Первоначально: Русский вестник. – Т. VIII. – 1857. – № 3–4. – С. 277–282).
(обратно)27
Григорьев В. В. Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве // Русская беседа. Кн. III. 1856. – С. 18.
(обратно)28
Там же. Кн. IV. С. 25.
(обратно)29
Там же. С. 53.
(обратно)30
См.: Головачев Г. Несколько слов о статье г-на В. Григорьева «Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве», помещённой в третьей книге «Русской беседы» // Отечественные записки. – 1856. – № 12. – С. 154–162.
(обратно)31
См.: Галахов А.Д. О статье В.В. Григорьева // Отечественные записки. – 1857. – № 2. – С. 136–144.
(обратно)32
См.: Кавелин К.Д. Указ. соч.
(обратно)33
См.: Герцен А.И. Указ. соч.
(обратно)34
Павлов Н. Ф. Биограф-ориенталист… С. 44.
(обратно)35
Савельев П.С. Фельетонист-ориенталист // Молва. 1857. 4 мая. – № 4. – С. 50–52; 15 июня.-№ 10. – С. 111–114; 22 июня. – № 11. – С. 126–132.
(обратно)36
Характерно, что даже главный труд этого автора, обеспечивший ему известность среди образованной публики, – университетские лекции – публиковался сто с лишним лет спустя после его кончины, по рукописным записям слушавших их студентов. См.: Лекции Т.Н. Грановского по истории средневековья. Авторский конспект и записи слушателей. – М., 1961; Лекции Т.Н. Грановского по истории позднего средневековья (Записи слушателей с авторской правкой). – М., 1971 – Примечание редактора.
(обратно)37
Струве В.В. Указ. соч. – С. 25, 28, 51–52, 54–55, 221–223, 228–232, 243.
(обратно)38
Труды Восточного отделения Русского Археологического общества. Т. XVI. – СПб., 1871. – С. 91–294.
(обратно)39
Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики // Избр. соч. в 6-ти тт. Т. V. – М.-Л., 1958. – С. 92–93 и по указателю (С. 470).
(обратно)40
Записки Одесского общества истории и древностей. – 1842. – Т. I. – С. 115–166.
(обратно)41
Нынешняя русистика придаёт движению арабского серебра по просторам Восточной Европы ещё большее значение – пускового фактора для стартового политогенеза VIII–X вв. у славян и «руси». См., например: Седов В.В. У истоков восточнославянской государственности. – М., 1999. – С. 65–69 («Государство русов»); Франклин С, Шепард Д. Начало Руси. 750-1200. – СПб., 2000 (Ел. 1. «Искатели серебра с севера»);. Мельникова Е.А. Скандинавские рунические надписи. Новые находки и интерпретации. Тексты, перевод, комментарий. – М., 2001. – С. 113; др. – Примечание редактора.
(обратно)42
Герцен А.И. Былое и думы // Собр. соч. Т. IX. – М., 1956. – С. 122, 126.
(обратно)43
Анненков П.В. Литературные воспоминания. – М., 1960. – С. 213.
(обратно)44
Афанасьев А.Н. Народ художник. – М., 1896. – С. 307. Ср.: Григорьев А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // В его кн.: Искусство и нравственность. – М., 1986. – С. 126–127.
(обратно)45
Герцен А.И. Былое и думы // Собр. соч. Т. IX. – С. 132.
(обратно)46
Писарев Н.И. Письмо к к[нязю] П.И. Ш[аликову] // Сын Отечества. – Ч. 57. – 1819. – № 42. – С. 86.
(обратно)47
См.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 2. – СПб., 1889. – С. 234–264.
(обратно)48
Вяземский П.А. Проект письма к графу С.С. Уварову с замечаниями А.С. Пушкина // Полн. собр. соч. в 12-ти тт. Т. П. – СПб., 1879. – С. 212, 215, 225.
(обратно)49
См.: Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. – СПб., 1888. – С. 418–419.
(обратно)50
См.: Вацуро В.Э., Гилельсон М.П. Сквозь «умственные плотины». – М., 1972. – С. 32–113.
(обратно)51
См.: Список печатных работ А.Л. Монгайта // КСИА. Вып. 146. – М., 1976 – Примечание редактора.
(обратно)52
Александр Николаевич Формозов (1899–1973) – выдающийся русский биолог, профессор Московского университета; писатель и художник-натуралист. См. хотя бы: Формозов А.Н. Среди природы. 2-е изд. / Сост. А.А. Формозов. – М., 1985; а также его биографию, написанную автором настоящей книги: Формозов А.А. Александр Николаевич Формозов. – М., 1978 – Примечание редактора.
(обратно)53
См., если угодно подробнее, персонально-событийный обзор: Залкинд Н.Г. Московская школа антропологов в развитии отечественной науки о человеке. – М., 1974 – Примечание редактора.
(обратно)54
См.: Формозов А.А. Следопыты земли московской. – М., 1986. – С. 43–63.
(обратно)55
Анучин Д.Н. О людях русской науки и культуры. – М., 1952. – С. 237–275.
(обратно)56
Райков Б.Е. Русские биологи-эволюционисты до Дарвина. Т. IV. – М.-Л., 1959. -С. 203–467. Отсюда мной заимствованы цитаты из неопубликованных мемуаров А.П. Богданова (С. 215, 432).
(обратно)57
Эта первая в дореволюционной России учёная степень – кандидата тех или иных наук (в данном случае зоологии) соответствовала нынешнему диплому с отличием. Её присуждали тем студентам, которые на выходе из высшей школы с отличными по преимуществу оценками, защищали ещё диссертацию (теперь – дипломная работа). Остальные выпускники получали звание «действительного студента» – Примечание редактора.
(обратно)58
Московские университетские известия. 1865. – № 1. – С. 123–144.
(обратно)59
Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. Т. IV. – М., 1867.
(обратно)60
См. подробнее: Формозов А.А. Начало изучения каменного века в России. Первые книги. – М., 1983. – С. 29–30.
(обратно)61
Тимирязев К.А. Пародия науки // Собр. соч. в 10-ти тт. Т. III. – М., 1937. – С. 379–386.
(обратно)62
Чехов А.П. Фокусники // Полн. собр. соч. в 30-ти тт. Т. XVI. – М., 1979. – С. 246–251.
(обратно)63
Богданов А.П. Материалы… С. 12.
(обратно)64
Богданов А.П. Материалы… С. 176.
(обратно)65
Петров П.П. Исследование курганных горшков Московской губернии // Известия Общества любителей естествознания… Т. XXXI. – М., 1878–1879. – С. 4–6; Его же. Исследования над тканями и кожами, добываемыми при раскопках в Московской губернии // Там же. Т. XXXVII. Вып. 1. -М., 1881. – С. 7–9.
(обратно)66
А.К. [Рец.] Материалы для антропологии курганного периода (?) в Московской губернии. Сочинение А. Богданова. М., 1867 // Древности. Археологический вестник. Т. I. – М., 1867. – С. 170–176.
(обратно)67
Из неизданных бумаг С.М. Соловьева // Русский вестник. – 1896. – № 2. – С. 1–2.
(обратно)68
Соловьев С.М. Сочинения в 20-ти книгах. Кн. XVIII. – М., 1995. – С. 552, 574, 599, 616, 669.
(обратно)69
[Рец. на «Записки» С.М. Соловьева] // Русские записки. – 1915. – № 10. – С. 316–317.
(обратно)70
Соловьев С.М. Соч. Кн. XVIII. – С. 527.
(обратно)71
Там же. С. 648–649.
(обратно)72
«Записки» С.М. Соловьева // Вестник Европы. – 1907. – № 6. – С. 483; Соловьев С.М. Записки. Пг., 1915. – С. 174.
(обратно)73
Подробные библиографические справки см. в кн.: Сергей Михайлович Соловьёв. Персональный указатель литературы. – М., 1984.
(обратно)74
Новое время. 1896. 11 февраля. – № 7167. – С. 3; Ср.: Там же. 1896. 6 февраля. – № 7162. – С.З.
(обратно)75
Соловьёвы Вл. С. и М. С. Письмо редактору по поводу извлечений из «Записок историка С.М. Соловьёва» // Вестник Европы. – 1896. – № 4. – С. 889.
(обратно)76
Русский вестник. – 1896. – № 5. – С. 334–338.
(обратно)77
Соловьёв Вл. Сергей Михайлович Соловьёв. Несколько данных к его характеристике // Вестник Европы. – 1896. – № 3. – С. 689–708.
(обратно)78
Там же. 1896. – № 5. – С. 440–443.
(обратно)79
Русский вестник. 1896. – № 5. – С. 149.
(обратно)80
Лебедев А.П. В защиту Филарета, митрополита Московского, от нападок историка С.М. Соловьёва. – М., 1907. – С. 1.
(обратно)81
Статьи исторические в повременных изданиях неисторических // Русский архив. -1896. – № 3. – Стб. 478.
(обратно)82
Бартенев Ю.П. По поводу отзывов об А.С. Хомякове С.М. Соловьёва и г-на Бобо-рыкина // Русский архив. – 1896. – № 2. – Стб. 158.
(обратно)83
Устрялов Н.Г. Воспоминания о моей жизни // Древняя и новая Россия. – 1880. -№ 8. – С. 603–686.
(обратно)84
Воспоминания И.М. Снегирёва // Русский архив. – 1866. – № 4. – Стб. 513–562; № 5. – Стб. 755–760.
(обратно)85
П.Б. [П.И. Бартенев]. Воспоминания о С.М. Соловьёве // Русский архив. – 1908. – № 8. – Стб. 553–558.
(обратно)86
Русский архив. – 1907. – № 8. – Стб. 557–563.
(обратно)87
Вестник Европы. – 1907. – № 2. – С. 68–69.
(обратно)88
Соловьёв С.М. Соч. Кн. XVIII. – С. 574, 673.
(обратно)89
Соловьёв С.М. Соч. Кн. XVIII. – С. 605, 607.
(обратно)90
Там же. С. 596–597.
(обратно)91
См.: Формозов А.А. Классики русской литературы и историческая наука. – М., 1995. – С. 128–129.
(обратно)92
Толстой Л.Н. Путь жизни // Полн. собр. соч. в 90 тт. Т. 45. – М., 1956. – С. 356.
(обратно)93
Бачинин А.Н. О судейском комплексе С.М. Соловьёва (По его «Запискам»)» // Историк во времени. III Зиминские чтения. М., 2000. – С. 135–136.
(обратно)94
Мережковский Константин Сергеевич // БСЭ. 3-е изд. Т. XVI. – М., 1974. – Стб. 246.
(обратно)95
См., например: Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. – М., 1999. – С. 489–492.
(обратно)96
Мережковский К.С. Отчёт о предварительных исследованиях каменного века в Крыму // Известия Императорского Русского Географического общества. Т. XVI. – СПб., 1880. – № 2. – С. 106–146; Его же. Отчёт об антропологической поездке в Крым // Там же. Т. XVII. – СПб., 1881. – № 32. – С. 104–130.
(обратно)97
Бонч-Осмоловский Г.А. Палеолит Крыма. Вып. 1. Грот Киик-коба. – М.-Л., 1940. – С. 3.
(обратно)98
Мережковский Д.С. Полн. собр. Соч. в 24 тт. Т. XV. – СПб., 1912. – С. 177–178.
(обратно)99
Мережковский Д.С. Автобиографическая записка // В кн.: Русская литература XX века / Под ред. С.А. Венгерова. Т. I. Кн. 3. – М., [1914]. – С. 290.
(обратно)100
См.: Мечников И.И. Этюды оптимизма. – М., 1988. – С. 5–6.
(обратно)101
См.: Токарев С.Л. История русской этнографии. – М., 1966. – С. 342–350.
(обратно)102
См.: О К.С. Мережковском // Камско-Вожская речь. 1914. 19 марта; Дело профессора Мережковского // Там же. 1914. 29 марта; Самсонов В. Новое о деле Мережковском // Там же. 1914. 10 апреля; Мережковский и правые // Там же. 1914. 13 апреля.
Ср.: Корбут М.К. Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина за 125 лет (1804/05 – 1929/30). Т. П. – Казань, 1930. – С. 240, 242.
(обратно)103
См.: Профессор Мережковский // Казанский телеграф. 1914. 1 апреля; Ильяшенко НА. Дело Мережковского на службе революционной печати // Там же. 1914. 6 апреля.
(обратно)104
Камско-Волжская речь. 1914. 11 мая.
(обратно)105
Для пущей ясности упомяну, что первым в голливудских фильмах появился с открытым торсом Кирк Дуглас в 1960-е гг. Революционные перемены в пуританской морали назревали медленно – Примечание редактора.
(обратно)106
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XIX. – СПб., 1896. – Стб. 115.
(обратно)107
См.: Загоскин Н.П. Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета. Т. I. – Казань, 1904. – С. 435–440.
(обратно)108
О К.С. Мережковском // Камско-Волжская речь. 1914. 19 марта.
(обратно)109
См.: «Рай земной» К.С. Мережковского // Камско-Волжская речь. 1914. 13 апреля.
(обратно)110
См.: Два документа // Казанский телеграф. 1911. 12 апреля.
(обратно)111
Корбут М.К. Указ. соч. С. 242.
(обратно)112
Мережковский за границей // Камско-Волжская речь. 1914. 4 мая.
(обратно)113
Письмо Мережковского // Камско-Волжская речь. 1914. 7 июня.
(обратно)114
См.: Бутлеров A.M. Статьи по медиумизму. С предисловием Н.П. Вагнера. – СПб., 1889.
(обратно)115
См.: Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. – М., 1986. – С. 62 – Примечание редактора.
(обратно)116
См.: Камско-Волжская речь. 1914. 29 апреля.
(обратно)117
«Мой день подошёл к концу, – заявил при этом Рембо. – Я покидаю Европу. Морской воздух прожжёт мои легкие, солнце неведомых стран выдубит кожу. Я буду плавать, валяться в траве, охотиться и, само собой, курить; буду хлестать крепкие, словно рас– плавленный металл, напитки – так делали, сидя у костра, дражайшие мои предки» – Примечание редактора.
(обратно)118
Голованов Я.К. Этюды об ученых. – М., 1970. – С. 174.
(обратно)119
В сокращённом виде очерк опубликован в кн.: Формозов А.А. Начало изучения каменного века в России. Первые книги. – М., 1983. – С. 57–70.
(обратно)120
См.: Каждан Т.П. И.Э. Грабарь как историк русской архитектуры // Предисловие к кн.: Грабарь И. О русской архитектуре. – М., 1969. – С. 11–12; Рерих Н.К. Из литературного наследия. – М., 1974. – С. 470 (Цитаты из переписки Грабаря и Рериха в 1907 году); Грабарь И. Письма 1891–1917 гг. – М., 1974. – С. 193 (Письмо к А.Н. Бенуа).
(обратно)121
Цит. по: Подобедова О.И. Игорь Эммануилович Грабарь. – М., 1964. – С. 144.
(обратно)122
Грабарь И. Письма… С. 197.
(обратно)123
Грабарь И. История русского искусства. Т. I. – 1909. – С. 4.
(обратно)124
Рерих Н. Чаша неотпитая // Октябрь. – 1958. – № 10. – С. 226.
(обратно)125
Рерих Н. Новый мир (Листы дневника) // Прометей. Вып. 8. – М., 1971. – С. 249.
(обратно)126
Цит. по: Булгаков В.Ф. Встречи с художниками. – Л., 1969. – С. 262, 282, 284.
(обратно)127
Рерих Н.К. Некоторые древности пятин Деревской и Бежецкой // Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского Русского Археологического общества. Т. V. Вып. 1. – СПб., 1903. – С. 14–43; Его же. Каменный век на озере Пирос // Там же. Т. VII. Вып. 1. – СПб., 1905. – С. 160–170.
(обратно)128
Грабарь И. Автомонография. – М.-Л., 1937. – С. 170, 172–173.
(обратно)129
О взаимоотношениях Бенуа и Рериха см.: Беликов П.Ф., Князева В.П. Рерих. – М., 1972.-С. 46–50.
(обратно)130
Булгаков В.Ф. Указ. соч. С. 288, 291–292.
(обратно)131
Бенуа А.Н. Книга о Рерихе // В кн.: Александр Бенуа размышляет. – М., 1968. – С. 237–238.
(обратно)132
Там же. С. 669.
(обратно)133
Толстой Л.Н. Анна Каренина // Полн. собр. соч. в 90 тт. Т. XVIII. – 1934. – С. 401.
(обратно)134
Грабарь И. Письма… С. 406 (Письмо А.Н. Бенуа к Грабарю от 19 мая 1908 г.).
(обратно)135
Грабарь И. Автомонография… С. 230.
(обратно)136
См. например: Поповский М.А. 1000 дней академика Вавилова // Простор. – 1966. -№ 7. – С. 4–27; № 8. С. 98–118; Медведев Ж. У истоков генетической дискуссии // Новый мир. – 1967. – № 4. – С. 226–234; Его же. Взлёт и падение Лысенко. История генетической дискуссии в СССР (1929–1966). М., 1993; мн. др.
(обратно)137
Резник С.Е. Вавилов. – М., 1968. – С. 274–277.
(обратно)138
Толстов С.П. К вопросу о датировке культуры Каунчи // Вестник древней истории. – 1946. – № 1. – С. 173–174.
(обратно)139
Известия ГАИМК. Т. X. Вып. 10. – Л., 1931.
(обратно)140
См. подробнее: Формозов А.А. Русские археологи до и после революции // В его кн.: Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. – М., 2004 – Примечание редактора.
(обратно)141
Пряхин А.Д. История советской археологии. – Воронеж, 1986. – С. 196–197.
(обратно)142
Сойфер В.Н. Наука и власть. История разгрома генетики в СССР. – М., 1993. – С. 312.
(обратно)143
В сокращенных вариантах очерк публиковался: Aequinox. МСМХСШ. – М., 1993. – С. 204–211; Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. – М., 2004. – С. 219–226.
(обратно)144
См. его официальные характеристики: Крайнев Д.А. К 70-летию О.Н. Бадера // Памятники древнейшей истории Евразии. – М., 1975; Бадер Н.О. Бадер Отто Николаевич (1903–1979) // Институт археологии: история и современность. Сб. научных биографий. – М., 2000. – С. 44–47 – Примечание редактора.
(обратно)145
Все цитаты из статей А.В. Рюмина: «Первобытный человек на Южном Урале» (Магнитогорский металл. 1959. 12 августа); «Первобытный человек в Каповой пещере» (Советская Башкирия. 1961. 6 апреля). См. его же: По следам древней культуры // Магнитогорский металл. 1960. 15 июля; Первобытный человек на Южном Урале // Туристские тропы. -1961. – № 4. – С. 57–65.
(обратно)146
Рюмин А.В. Пещерная живопись позднего палеолита на Южном Урале // Archeologicne rozhledy. – 1961. – № 5. – С. 712–730.
(обратно)147
Бадер О.Н. Палеолитические рисунки Каповой пещеры (Шульганташ) на Урале // Советская археология. – 1963. – № 1. – С. 127–131.
(обратно)148
Пушкин А.С. Опыт опровержения некоторых литературных обвинений // Полн. собр. соч. в 16-ти тт. Т. XI. – М., 1949. – С. 167.
(обратно)149
См. ее некролог: Смирнов К.А., Формозов А.А. Памяти Хавы Иосифовны Крис (1921–2001) // Российская археология. – 2002. – № 2. – С. 186–187 – Примечание редактора.
(обратно)150
Бибиков С.Н. Раскопки в навесе Фатьма-коба в 1956 г. // Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР. Вып. 8. – Киев, 1959. – С. 114–122.
(обратно)151
Формозов А.А. Новые работы по каменному веку СССР // Вестник древней истории. – 1954. – № 3. – С. 100–104.
(обратно)152
Об этом см.: Формозов А.А. К истории исследования Авдеевской палеолитической стоянки // В кн.: Формозов А.А. Историография русской археологии на рубеже XX–XXI веков (Обзор книг, вышедших в 1997–2003 годах). – Курск, 2004. – С. 54–63 – Примечание редактора.
(обратно)153
Бибиков С.Н. Плотность населения и величина охотничьих угодий в палеолите Крыма // Советская археология. – 1971. – № 4. – С. 18.
(обратно)154
Материалы и исследования по археологии СССР. № 71.
(обратно)155
Бибиков С.Н. Палеолит Крыма // Природа и развитие первобытного общества на территории Европейской части СССР. – М., 1969. – С. 144–146.
(обратно)156
Колосов Ю.Г. Мустьерские стоянки района Белогорска. – Киев, 1983. – С. 143, 146, 149, 150.
(обратно)157
Бибиков С.Н, Любин В.П. Распространение памятников раннего палеолита Крыма и Кавказа и история исследований // Археология и палеогеография раннего палеолита Крыма и Кавказа. Путеводитель совместного советско-французского рабочего полевого семинара по теме: «Динамика взаимодействия природной среды и доисторического общества». – М., 1978.-С. 8.
(обратно)158
Верещагин Н.К. Записки палеонтолога. Л., 1981. – С. 36–39; Верещагин Н.К, Барышников Г. Ф. Млекопитающие предгорного Северного Крыма в эпоху палеолита (по кухонным остаткам из пещер Чокурча, Староселье и Мамат-коба) // Труды Зоологического института Академии наук СССР. Т. 93. – М., 1980. – С. 32–36.
(обратно)159
Верещагин Н.К. Записки палеонтолога… С. 35.
(обратно)160
Формозов А.А. О старых и новых раскопках пещеры Староселье в Крыму // Российская археология. – 1997. – № 3. – С. 167–175. Здесь и литература вопроса.
(обратно)161
Proprietari Rignt in Archaeology // Current Antropology. – 1996. – № 2. Suppl. – P. 113–127.
(обратно)162
Там же. P. 121–122.
(обратно)163
Там же. P. 118.
(обратно)164
Матюшин Г.Н. Проблемы антропогенеза // Древности. Вып. 19. – М., 1996. – С. 7–11.
(обратно)165
Колосов Ю.Г. Об исследователях палеолитической стоянки Староселье в Крыму // Российская археология. – 1998. – № 4.
(обратно)166
Marks А.Е., Chabai W.P. Middle palaeolitic of Western Crimea. Vol. 1. Liege, 1998. – P. 7, 57, Fig. 4, 5.
(обратно)167
More on Staroselje // Current Antropology. – 1997. – Vol. 38. – № 4. – P. 647–648, 650.
(обратно)168
Игнатий Юлианович Крачковский (1883–1951) – крупнейший арабист, академик – Примечание редактора.
(обратно)169
Сергей Павлович Толстов (1907–1976) – археолог, этнограф, историк; член-корр. Академии наук СССР. См. о нем: Берестов В.Д. С.П. Толстов (Шеф) // В его кн.: Избр. произв. В 2-х тт. Т. 2 (Стихи, повести, рассказы, воспоминания). – М., 1998.
Сравним такую версию: «В январе 1951 г. один за другим умирали академики… В конце января, вскоре после погромного выступления Люциана… Климовича, скончался академик Крачковский» (Стеблин-Каменский И.М. Анекдоты про востоковедов // В кн.: Scripta Gregoriana. Сб. в честь семидесятилетия академика Г.М. Бонгард-Левина. – М., 2003. – С. 474) – Примечание редактора.
(обратно)170
Михаил Емельянович Найденов (р. 1918) – доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ, лауреат Ломоносовской премии. В августе 1941 г., воюя на фронте в звании политрука батальона, был ранен, в результате чего ослеп, но вывел своё подразделения из окружения (орден Ленина, 1941). См. о нем: Энциклопедический словарь Московского университета. Исторический факультет. – М., 2004. – С. 316 – Примечание редактора.
(обратно)171
Вот подтверждение тому: «На защите какой-то узбекской диссертации в Дубовом зале [Ленинградского отделения] Института археологии с разгромными отзывами выступали оппоненты, ругали диссертацию и предлагали отправить на доработку. Председательствовавший Струве, как всегда, спал. Проснувшись, он сказал: «– Ну вот и хорошо. Замечательная, талантливая работа. Будем голосовать!» Голосование было единогласным – «за». Крачковский прошептал: «– Василий Васильевич, а водку надо пить дома!» (В кн.: Scripta Gregoriana. Сб. в честь семидесятилетия академика Г.М. Бонгард-Левина. – М., 2003. – С. 480) – Примечание редактора.
(обратно)172
Соловьёв С.М. Записки… // Соч. Т. XVIII. – М., 1985. – С. 585, 612.
(обратно)173
Давиташвили Л.Ш. Владимир Онуфриевич Ковалевский. – М.-Л., 1946. – С. 165–177, 320,372.
(обратно)174
Подробнее о научной недобросовестности Г.Н. Матюшина см. в кн.: Формозов А.А. Историография русской археологии на рубеже XX–XXI веков (Обзор книг, вышедших в 1997–2003 гг.). – Курск, 2004. – С. 14.
О плагиате, в котором был уличён Матюшин, см. в рецензии: Щавелёв С.П. По законам ли жанра? [Рец. на кн.: Матюшин Г.Н. У истоков человечества. – М., 1982] // Книжное обозрение. – 1982. – № 28. – С. 6 – Примечание редактора.
(обратно)175
Сравним независимое от изложенного здесь вывода наблюдение главное редактора журнала «Науковедение»: «Е.В. Семенов… Ряд людей из сферы естественных наук говорит о том, что из-за утраты смысла деятельности, из-за ценностных и этических изменений падает чистота эксперимента…» (Российская наука и молодежь (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. – 2004. – № 8. – С. 4) – Примечание редактора.
(обратно)176
См. два сборника научных работ, выпущенные в связи с этим знаменательным событием в старой и новой столицах России: Проблемы первобытной археологии Евразии (К 75-летию А.А. Формозова). Сб. статей / Ред. и сост. В.И. Гуляев и С.В. Кузьминых. М., Институт археологии РАН, 2004. 260 с, илл.; Невский археолого-историографический сборник. К 75-летию… А.А. Формозова / Отв. ред. А.Д. Столяр. СПб., изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2003. 460 с, илл.; а также: Кузьминых С.В. К 75-летию со дня рождения А.А. Формозова // Российская археология. – 2004. – № 1.
(обратно)177
См. мою рецензию на эту книгу: Вопросы истории. – 2004. – № 3. – С. 163–164.
(обратно)178
Предварительные итоги основных работ в этой области проанализированы в кн.: Формозов А.А. Историография русской археологии на рубеже XX–XXI веков (Обзор книг, вышедших в 1997–2003 годах). – Курск, 2004.
(обратно)179
См.: Клейн Л.С. Парадигмы и периоды в истории отечественной археологии // Санкт-Петербург и отечественная археология. – СПб., 1995.
(обратно)180
См.: Лебедев Г.С. История отечественной археологии. – СПб., 1992.
(обратно)181
См.: Матющенко В.И. Триста лет сибирской археологии. Т. I. – Омск, 2001.
(обратно)182
См.: Тихонов И.Л. Археология в Санкт-Петербургском университете. – СПб., 2003.
(обратно)183
См.: Тункина И.В. Русская наука о классических древностях России (XVIII – сере– дина XIX вв.). – СПб., 2002.
(обратно)184
См.: Бердинских В.А. А.А. Формозов как историк науки (Субъективные заметки к 75-летию со дня рождения) // Проблемы первобытной археологии Евразии…
(обратно)185
См.: Щавелёв С.П. Историк Русской земли. Жизнь и труды Д.Я. Самоквасова. – Курск, 1998; Его же. Первооткрыватели курских древностей. Очерки истории археологического изучения южнорусского края. Вып. 1–3. – Курск, 1997–2002.
(обратно)186
Вопросы философии. – 2004. – № 8. – С. 4–5.
(обратно)
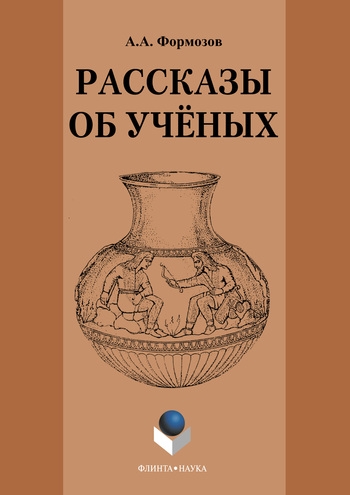

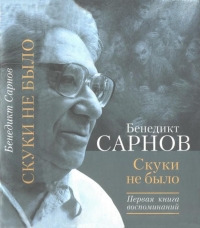
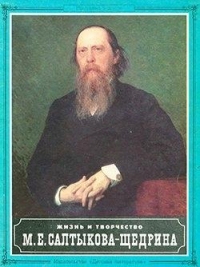
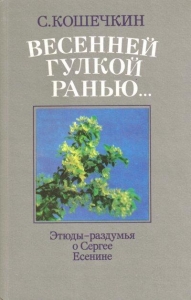

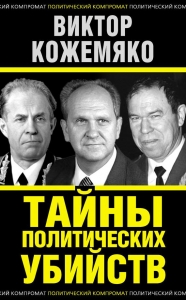
Комментарии к книге «Рассказы об ученых», Александр Александрович Формозов
Всего 0 комментариев