Перевод с итальянского на французский П. де Мюссе, 50-е годы XIX века,
перевод с французского на русский Л.М.Чачко, 10-е годы XXI века
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Предисловие издателя
Карло Гоцци – драматург, создатель пьес-сказок «Принцесса Турандот», «Король-олень» и других, идущих до сих пор в театрах всего мира, жил в XVIII веке и умер на пороге нового века. Жизнь его протекала, казалось бы, спокойно среди каналов и стен родной Венеции, но какие литературные страсти, драматические истории ее сотрясали! В конце жизни он написал свои «Бесполезные мемуары», которые и сейчас читаются с захватывающим интересом.
Мемуары на русский язык не переводились, это первый перевод, слегка сокращенный и отредактированный. Читайте и получайте удовольствие!
Предисловие переводчика
Все у нас знают имя драматурга Карло Гоцци, знают его пьесы – сказки «Турандот», «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень». Меньше известны другие его пьесы – всего в России было переведены и изданы все десять сказочных пьес. Эти пьесы – фьябы – и по сей день идут по всему миру, вызывая восхищение зрителя. В то же время в России почти никто не знаком с последним произведением его гения – «Бесполезными мемуарами (Memorie inutili)».
Карло Гоцци родился 13 декабря 1720 года в Венеции, жил в ней безвыездно, за исключением трехлетнего периода военной службы в венецианской колонии в Далмации, и скончался там же 4 апреля 1806 года. За свою жизнь Гоцци написал свыше двадцати театральных пьес, в том числе десять сказок для театра – «фьяб», ряд литературно-полемических произведений, множество стихов «по случаю», а также книгу воспоминаний. На закате дней он занялся изданием своих произведений – в 1797 году в Венеции выходит собрание его драматических и поэтических сочинений в семи томах и – отдельно – мемуары в трех томах.
Я не литературовед и не историк, интерес мой к личности и творчеству Гоцци любительский. Как-то, открыв книжку Гоцци «Десять сказок для театра», чтобы перечитать одну из любимых пьес, я обратил внимание на большую вступительную статью. Вот что пишет С. Мокульский, известный исследователь истории театра: «… «Бесполезные мемуары» Гоцци – одно из интереснейших его произведений и один из лучших памятников итальянской мемуарной литературы XVIII века». Заинтересовавшись, я постарался найти эти воспоминания, прочесть их. Разумеется, прежде всего ринулся в интернет, где, как известно, есть всё. Обнаружилось, что ссылки на «Мемуары», с самыми высокими комплиментами в адрес автора, встречаются в литературе часто. «Отойдя от театра, Гоцци занялся подведением итогов. В 1795 году он издает (хотя написаны они были еще в 1780 г.) свои замечательные «Бесполезные мемуары», в которых излагает свою жизнь и свои театральные взгляды» – пишет Н. Томашевский, исследователь творчества Гоцци.
Обширные фрагменты мемуаров в переводе Я.Блоха, одного из переводчиков «Сказок», приведены в «Хрестоматии по истории западноевропейского театра», под редакцией С. Мокульского, М.: Искусство, 1955). Всего в этом капитальном издании приводится 8 таких фрагментов, общим объёмом около 15 страниц печатного текста. Тексты касаются моментов личной жизни Гоцци, его литературной полемики с драматургами Гольдони и Кьяри, его взаимоотношений с актёрами труппы Сакки, устройства венецианского литературного общества того времени, называемого академией Гранеллески. Фрагменты вполне литературно обработаны и снабжены ссылками на источник – капитальное итальянское издание.
Обнаружив такие куски литературного текста на русском языке, естественно, хочу найти и весь текст полностью, но – не нахожу!! Нет его в интернете! То есть, конечно, находятся в интернете «Бесполезные мемуары» Карло Гоцци, изданные на итальянском, в переводах на французский, на английский, на немецкий. Есть, наверное, и китайский перевод, но русского нет. Нет его и в библиотеках. Мной овладевает азарт, ищу по упоминаниям фамилии Блох. Постепенно погружаюсь в эпоху двадцатых годов, в среду поэтов Серебряного века. Есть Яков Ноевич Блох, человек интересной судьбы, вхожий в литературные круги начала века, один из организаторов издательства «Петрополис», знакомый лично с Ахматовой, Кузминым, Лозинским, переводчик трёх из десяти «Театральных сказок» Гоцци. Есть Раиса Ноевна Блох – поэтесса, автор нескольких поэтических сборников (это на её слова Вертинский написал и исполнял известный романс: «Унесла печальная молва милые, ненужные слова – Летний Сад, Фонтанка и Нева…»), совместно с ней Яков Блох перевёл четвёртую «Сказку» – «Король-Олень». Но не нахожу нигде (кроме как у С.Мокульского и в комментариях к изданиям «Сказок») упоминаний о русском переводе «Бесполезных мемуаров». Загадка.
В попытках разгадать тайну русских переводов произведений Гоцци поневоле втягиваешься в перипетии и сплетения судеб многих русских интеллигентов начала века. Я.Н. Блох в 1923 году, после кратковременного ареста сестры и жены по делу, по которому уже был расстрелян Гумилёв, эмигрировал с семьёй в Берлин и перевел туда издательство. С приходом в Германии к власти фашистов он переехал в Брюссель, а оттуда – в Швейцарию. Умер Яков Ноевич в 1968 году в Швейцарии. Трагичной была судьба его сестры – Раисы Ноевны Блох. Перебравшись в середине 30-х в Париж, она попыталась наладить там свою жизнь, но в 40-м году нацисты арестовали и отправили в концлагерь её мужа, в бесприютных скитаниях умерла их двухлетняя дочь. Раиса Ноевна пыталась перебраться в нейтральную Швейцарию, но была задержана пограничниками и выдана обратно в оккупированную Францию, там арестована и погибла в одном из лагерей уничтожения.
Можно с уверенностью предположить, что русский перевод мемуаров Гоцци (и перевод добротный) был сделан Я.Н. Блохом, но не был полностью опубликован и исчез (остались только известные фрагменты)! Единственное правдоподобное объяснение – в отъездных волнениях 20-х годов рукопись затерялась. Может быть, правда, лежит где-нибудь эта таинственная рукопись и ждёт своего часа, но мне её обнаружить не удалось.
В середине XIX века французский журналист и литератор Поль де Мюссе, брат знаменитого поэта Альфреда де Мюссе, предпринял продолжительную поездку по Италии, результатом которой явился ряд очерков по истории, нравам и культуре этой страны. Особенного его внимания удостоился образ венецианца Карло Гоцци. Мюссе перевёл его знаменитые Мемуары, подвергнув их некоторому сокращению и очень умеренному редактированию, а также написал и издал обширный очерк жизни и творчества венецианца. Для пользы и удовольствия я перевёл этот очерк. Не остановившись на этом, я имел смелость перевести на русский язык с французского текст перевода мемуаров Гоцци, сделанного Полем де Мюссе. Этот перевод и предлагается вниманию русского читателя.
Л.М.ЧачкоПредуведомление автора
Если бы я полагал себя значительным человеком, например, великим святым, великим юристом, великим философом или, наконец, великим писателем, я не взялся бы писать историю своей жизни; я оставил бы эту задачу романистам, чья забота – осчастливить читателей, или ревностным почитателям, которые считают своим долгом наставлять потомство с помощью прекрасных примеров. Я видел слишком много людей, обладающих талантом прикрывать нелепости и прятать за спину неловкости в тщетной надежде, что изображаемое есть действительно они сами. Эти люди, в слепоте тщеславия, одеваются в некоторое подобие «noli me tangere[1]», что выставляет их пугливыми, как необъезженные жеребята. Если вдруг они соизволят сотворить свою апологию, то выдают себе патент полубогов, две трети мира преисполнены зависти к их воображаемой славе. Их горькие слова уязвляют ближнего, не падающего ниц перед этим бурлескным «noli me tangere». Похвалы, которыми в своем великодушии они удостаивают небольшое число людей, блещут умеренностью, а люди, удостоенные их благосклонности, неизменно – либо дураки, которые ими восхищаются, либо плуты, которые им льстят.
Моей основной задачей было представить самому себе процесс своего развития и пригасить резвость своего самолюбия, ибо я замечаю вокруг себя, в каждом поступке, выражении лица и во взгляде эту общую заднюю мысль: «Смотрите на меня, рассматривайте, уважайте и бойтесь меня». Я нахожу некоторую пользу в этом исследовании, вот почему, хотя в этих мемуарах я много говорю о себе, о своей жизни, своей семье, своих путешествиях и литературных произведениях, я публикую их с подлинным чувством смирения. Я не заслужил ни фимиама от тех, кто любит меня, ни оскорбительных наклеек, которыми почтили меня мои враги. Я благодарен первым за их доброту и не испытываю ненависти ко вторым за их стремление меня разорвать. Такова жизнь – иметь друзей и врагов; возбуждать симпатии или антипатии своей внешностью, своим лицом, манерой говорить медленно или быстро, пространно или лаконично, наконец, своим темпераментом, при том, что твои нрав и поведение не будут ставиться ни во что. Я рад неприязни, возникающей по этим не зависящим от моей воли причинам; соответственно, я собираюсь писать свой портрет таким образом, что можно будет, если угодно, развлечься, набросав на этом материале мою карикатуру, и я постараюсь нарисовать истинную картину моего сердца, моих мыслей и моих вкусов таким образом, что изощренные и озлобленные умы смогут говорить обо мне со злорадством, не отступая от истины и не опасаясь противоречия.
У каждого в уме есть некая оптическая линза, которая в силу своего преломления представляет объекты этого мира в определенном свете. Если воспользоваться некоторыми крохами философии, моя оптическая линза склоняется больше в сторону Демокрита, чем к Гераклиту. Когда я обращался к своему разуму, подверженному рефлексии с поиощью упомянутой линзы, это приводило обычно к смеху и шуткам. Поскольку среди объектов, которые я выбирал для своих трактатов и сатир, обман и лицемерие пользовались моим предпочтением, я приобрел внушительное число врагов. Я часто вспоминаю среди моих сатирических войн прекрасную сентенцию мудреца: «Поучениями и остроумием вы развлекаете, но не завоевываете сердца». Не успокаивая себя мыслью, что мои враги разоружатся, когда смогут поиздеваться надо мной, после того как я поиздевался над ними, я не смущаюсь их гневом и даю чистосердечный отчет о своей жизни, с тем чтобы они смогли посмеяться на мой счет со всем своим удовольствием.
Глава I Мои предки, моё рождение и моё воспитание
Происхождение моей семьи восходит к четырнадцатому веку и начинается с некоего Пецоло деи Гоцци. Генеалогическое древо, надлежащим образом затянутое паутиной, покрытое пылью, изъеденное червями, без рамы, но и без противоречий, подтверждает эти сведения. Не будучи испанцем, я никогда не обращался ни к какому генеалогисту за получением более раннего происхождения. Где-то есть исторические памятники, из которых точно можно понять, что моя семья происходит от неких Гоцце из Рагузы, основателей этой античной республики. В истории Бергамо отмечено, что Пецоло деи Гоцци был отмечен сенатом Венеции за то, что положил свою жизнь и свое имущество на борьбу против миланцев, поддержав свою провинцию с ее непобедимым и чрезвычайно милосердным руководством. Гоцци, став гражданами Венеции, возвели обиталища в этом городе для своих живых и своих мёртвых, как это можно видеть на улице и в церкви Сан-Касиано. Одна из ветвей нашего дома имела честь соединиться в XVII веке с патрицианской семьёй, после чего она сразу же угасла. Другая ветвь, из которой я происхожу, осталась в своем обычном буржуазном состоянии, за которое нам никогда не было стыдно. Ни один из моих предков не занимал тех высоких и доходных постов, претендовать на которые даёт право венецианское гражданство, из чего я пришел к выводу, что Гоцци были хорошие люди, мирные и совсем не интриганы. Двести лет назад прадед моего отца купил около шестисот арпанов (~2–3 тыс. акров) земли с постройками во Фриули, в пяти милях от Порденоне. Большинство из этих благ были «фьеф»[2]; иными словами, при каждом наследовании наследник должен возобновлять инвеституру, заплатив несколько дукатов в пользу государства. Чиновники феодальной палаты в Удине – люди замечательной бдительности. Если кто-то из наследников пренебрегает приношением дукатов и подтверждением верности правительству, они налагают секвестр на его наследие самым верным в мире образом. Это как раз и произошло, по забывчивости моей семьи, после смерти моего деда: мы вынуждены были уплатить большую сумму денег, чтобы получить эту весьма достойную инвеституру.
Мой титул графа, разумеется, должен сопровождаться некоторыми бумагами. Те, кто мне отказывает в этом титуле, ничуть меня не оскорбляют; мне значительно меньше нравится, если серьезно оспариваются те несколько владений, что мой отец мне оставил. Я сын Жака-Антуана Гоцци, который обладал проницательным умом, весьма тонким чувством чести, вспыльчивым темпераментом, характером решительным, а иногда и ужасным. Воспитанный любящей матерью, которая приучила его с самого раннего возраста следовать всем своим капризам, пришел он вскоре к тому, что разорился на лошадях, собаках, охотничьем снаряжении, великолепных празднествах и т. д. Он женился неразумно, целиком следуя своим наклонностям. Его состояние позволило бы ему занять хорошее положение в свете, но он хотел сделать его слишком высоким. Моя мать, Анжела Тьеполо, была из известной в Венеции патрицианской семьи, которая угасла на моём дяде Чезаре Тьеполо, скончавшемся знаменитым сенатором к 1749 году. Преимущества рождения – для меня всего лишь игра случая; я не смотрю, откуда вышел, но смотрю, куда я иду. Я не знаю, огорчают ли плохие поступки предков, но они заставляют краснеть меня самого. Меня зовут Карло, и я вышел шестым из утробы моей матери, чтобы наслаждаться светом или, если вы предпочитаете, тьмой мира сего. Хотите цифры? Я вам скажу, что начал это писать тридцатого дня апреля 1780 года, мой возраст значительно превосходит пятьдесят, не достигнув однако шестидесяти лет. Я действительно не знаю ничего сверх сказанного и не стану докучать дьячкам, выпрашивая моё свидетельство о крещении, будучи уверен, что был крещен, и не претендуя на роль дамского угодника. Я не боюсь, если где-то случилась ошибка; фасон моего платья и моей прически в порядке. Не будем же уделять слишком много внимания подсчету годов и не будем никого судить по возрасту. В любом возрасте можно умереть. Я видывал мужчин, которые выглядели как дети, молодых людей, замечательных своей зрелостью, стариков, полных огня, и старцев, которых стоило бы заворачивать в пеленки.
Нас было одиннадцать братьев и сестер, четыре мальчика и семь девочек, все крепкой природы и безупречных качеств; все подвержены литературной эпидемии, и мои сестры сами способны написать свои воспоминания, если такой зуд их настигнет. Забота о нашем образовании была поручена последовательно нескольким аббатам, которые из-за своей глупости и заигрываний с горничными были изгнаны один за другим. Мои наклонности раскрылись с самого детства; я был немного смешной, молчаливый, наблюдательный, невозмутимый, доброго нрава и привержен к учёбе. Братья, пользуясь моим мирным и тихим характером, сваливали на меня все прегрешения, которые они совершали, и, не удостаиваясь извинения, я страдал от несправедливых наказаний с героическим постоянством. Невероятная вещь для ребенка – я равнодушно пережил такое ужасающее наказание, как оставление на хлебе и воде. Очевидно, я был тупым школьником или ранним философом.
Моим двум старшим братьям, Франко и Гаспаро, посчастливилось поступить в колледж и завершить там регулярное обучение, но, увы! беспорядочность нашего дома, расточительность моего отца, и быстрый рост семьи воспрепятствовали прогрессу моего образования. Я попал в руки сельского священника, а затем священника венецианского, хорошей нравственности и достаточно образованного. В лицее, который содержался двумя генуэзскими священниками, я продолжил своё образование с крайней любовью к книге и большим желанием учиться. Нас было двадцать пять учеников; за время обучения, как я видел, две трети моих одноклассников изучали грамматику, гуманитарные науки и риторику, пьянствуя в кабаках, таская мешки и крича на улицах: «Печеные яблоки, сливы и каштаны», – с корзиной на голове и весами, подвешенными к поясу. После долгих усилий, преодолев подводные камни, на которые меня швыряли повороты судьбы моего детства, я закончил кое-как образование, используя то малое, что получил в классах, и смог избежать невежества. Пример моего брата Гаспаро, чья страсть к учению, заслуживала похвалы, дополнительно подстегивал моё усердие. Я оставался привержен моим книгам. Поэзия, чистый итальянский язык и риторика воспламеняли тогда соперничество молодежи Венеции. Сегодня в нашем городе мы не находим и следа этих трех прекрасных вещей, по причинам, о которых я расскажу позже. Не могу понять, что сделали мои современники с плодами своего образования, но я не знаю ни одного из них, кто был бы в состоянии написать три строки или изложить простейшее чувство без омерзительных ошибок в грамматике и правописании. Они похожи на персонажа французской драмы Мерсье[3], который не мог написать срочную записку, потому что его секретарь отсутствовал. Мое же отношение к изучению этих трех легкомысленных предметов, поэзии, тосканского языка и красноречия, было так прилежно и так упорно, что от усталости я заработал кровотечения, слёг и продвигался к смерти, как Сенека. У меня отняли книги, письменные принадлежности и бумагу, но, едва поднявшись, я прятался дома на чердаке, чтобы работать. Аббат Вердани, библиотекарь семьи Сорано, человек большой эрудиции, сжалился над моей слабостью и страстью, которые он разделял. Он принял меня в свои друзья и пришел мне на помощь, направляя мои суждения и предоставляя мне редкие и ценные книги, наставляя меня в том, как различать хорошее и плохое и, в особенности, любить естественность и простоту. Я обязан ему познанием пути правды, но также несчастьем неспособности выносить дурной вкус и напыщенность, которые отравляют сегодня итальянскую письменность, испытывать только скуку, отвращение и антипатию при чтении этой бессвязной, софистической продукции, с монотонным стилем и высокопарным жаргоном – грубым, темным, с корявыми периодами и смешной фразеологией. Я выучил французский, не для того, чтобы заиметь, согласно моде, возможность плохо изъясняться на этом языке, но чтобы изучить и понять огромное количество хороших и плохих книг, которые рождает эта великая нация, избранная судьбой, такая активная и такая смелая. Именно в этой иностранной литературе я нашел строгость стиля. Что же касается любви к правде, она была внушена мне с детства горячностью моего покойного отца, который никогда не упускал случая отвесить мне пару пощечин, услышав от меня ложь или заметив неискренность, за что сегодня я испытываю к нему глубокую благодарность.
Глава II Комические инстинкты, отъезд в Далмацию, поэтический лимонад
Комедийный инстинкт в моей семье проявлялся в высшей степени, и наше появление где-нибудь всегда сопровождалось острым словцом. Кроме пьес, которые мы выучивали наизусть с чрезвычайной легкостью, мы успешно представляли импровизированные фарсы. Моя сестра Марина и я были особенно искусными обезьянами, представляя карикатуры, поражавшие обитателей нашего села. Мы добавляли к нашим комедиям буффонные интермедии, где изображали знакомых мужчин и женщин в их костюмах, и копия бывала настолько верна, что наши зрители крестьяне, узнавая оригинал, награждали нас громким смехом и осыпали аплодисментами. Отец и мать в один прекрасный день возымели фантазию тоже быть представленными на нашей сцене сестрой и мной. Они были обслужены согласно желанию и показаны с точностью со всей своей одеждой, отношениями и языком, и я даже осмелился показать их домашние ссоры по хозяйству. Такая дерзость не вызвала недовольства и привела их в хорошее настроение. Эти представления явились началом призвания, которое впоследствии принесло определенные плоды. Я играл сносно на гитаре и, перебирая струны, отваживался импровизировать стихи, что воспринималось как маленькое чудо теми, кто ничего не знает о поэзии. Импровизация, как правило, – жалкий способ оскорбить муз. Она развлекает толпу, слушающую с разинутым ртом банальности, и воздействует на вульгарные мозги ложным проявлением таланта, возмущая язык и поэзию. Слушая самых известных импровизаторов нашего века, я уверился в той истине, что среди потопа стихов, извергаемых этими людьми с напыщенными жестами и воспаленным лицом к большому удивлению присутствующих, не найдется и страницы, достойной быть напечатанной, и среди тех, кто восхищается этим на слух, едва лишь двадцатая часть – возможные читатели. Это всегда только звуки, бессмысленные шумы, попытка вызвать восхищение уловками. Бедные эти люди подобны собаке таксе, идущей по следу чуда. Если бы художник захотел изобразить на холсте самозванство, скрывающееся под маской поэзии, он должен был бы изобразить его в виде импровизатора, с руками, воздетыми в воздух, и бессмысленным взглядом. Я прошу прощения у Бога за глупейшие стихи, которые читал родителям под звуки своей гитары.
Мне было четырнадцать лет, когда дела моей семьи совсем расстроились. Беспорядок, увеличение расходов, снижение доходов и дорогостоящий судебный процесс породили тревогу и печаль в нашем доме. Мой брат Гаспаро глупо женился на поэтической абстракции. Безразличный ко всему, что не имеет отношения к литературе, он почерпнул у Петрарки способ стать влюбленным. Его Лаурой была молодая девушка по имени Луиза Бергалли, старше его на два года, и, поскольку, к несчастью, Гаспаро никогда не останавливало поповское облачение, он женился на своей любовнице законным браком, после чего, спасаясь от забот о небогатом домашнем хозяйстве, погрузился с наслаждением в свои книги и по настоящему утонул в них.
Наша многочисленная семья была полна мужества и терпения и являла собой теперь образец самого нежного союза; между тем на нее легли все невзгоды сразу. Что можно было тут сказать? То, что говорят, не зная, что сказать: это злой рок. Самым жестоким ударом явился удар апоплексический, поразивший нашего отца и оставивший его томиться семь лет немым и парализованным, не забирая его нравственных качеств, как бы для того, чтобы он смог лучше почувствовать весь ужас своего положения. Это мучительное зрелище, слезы моих сестер, появление на свет некоторого количества малышей-внуков, которые заполняли дом криками, заставили решиться брата моего Франко отправиться на Корфу с генеральным морским проведитором[4], Антонио Лореданом. Это мужественное решение внушило мне такое же – отправиться с Его Превосходительством Иеронимо Кверини, избранным проведитором Далмации[5]. Рекомендованный этому выдающемуся правителю моим дядей Тьеполо, я собрал лёгкую поклажу, куда входили мои книги и гитара, плача поцеловал мать и отчалил, в возрасте шестнадцати лет, в качестве волонтера[6], в варварские провинции изучать военные и гражданские обычаи населения Далмации.
Галера «Генералиция» ждала нас в маленьком порту Маламокко. Я взошел на барку и был встречен с вежливостью и любопытством офицерами, которые осмотрели меня с головы до ног, дипломатично прощупали, засыпали вопросами и в итоге сердечно предложили мне свою воинскую дружбу. Страсть к игре, невоздержанность и распутство располагались бивуаком в их сердцах без ущерба для амбиций. То была неизлечимая гангрена. Мое патриархальное воспитание, мое оправданное желание сохранить свое здоровье, легкость моего кошелька не позволили мне перенять привычки этих господ; но я никоим образом не пытался преподать им мораль иначе, чем своим поведением, и со временем мне удалось завоевать любовь всех. Когда мне доводилось принимать какие-либо приглашения на разгульную вечеринку, я по крайней мере нисколько не портил веселья гостям, и они были мне признательны. На галере среди матросов разразилась эпидемия, и мы осушали бутылки под раскаты голоса брата францисканца, который причащал умирающих.
По истечении двух дней генеральный проведитор прибыл на корабль под звуки фанфар и пушек. Этот синьор, которого я видел с десяток раз в его дворце и который всегда встречал меня с очаровательной любезностью, на сей раз, одетый в красное и при официальной должности, принял вид молчаливый, величественный и ужасный, не узнавая больше никого и приказывая заковать лучших офицеров в железо при малейшем упущении по службе. Эта суровая командирская маска – классическая традиция нашего древнего правительства. Поскольку я всегда с удовольствием исполнял свои обязанности, я не тревожился и старался не давать повода для строгостей Его Превосходительству. Проведитор, удалившись в свою каюту в глубинах инфернального судна, послал лейтенанта Микиели, майора Провинции, опросить офицеров и волонтеров об их именах и качествах, как если бы не было известно, кто мы такие. Каждый предъявил свои рекомендации и назвал своих покровителей. Когда пришла моя очередь быть допрошенным, я назвал свое имя. Эта сдержанная забывчивость оказалась хорошей политикой, и Проведитор стал менее строг в моих глазах. После двенадцати дней и ночей неудобств, скуки и бессонницы, мы, наконец, причалили в Заре[7], столице Далмации.
Едва устроившись на квартире, маленькой и довольно нездоровой, я подхватил злокачественную лихорадку и оказался в двух шагах от могилы. Благодаря медику Его Превосходительства моё состояние ещё ухудшилось и я отправился бы уже в другой мир, если бы, по невероятному счастью, этот проклятый доктор не оставил меня, объявив, что я уже фактически мертвец. Природа ожидала его отступления. Как только не видно стало этого невежды, она благосклонно спасла меня посредством носового кровотечения. Капитан алебардистов по имени Массимо был мне санитаром, и с этого момента между нами установилась нестареющая дружба.
После того, как моё здоровье восстановилось, Проведитор, который симпатизировал мне и хотел предоставить мне средства, позволявшие следовать избранным путём, направил в мое распоряжение мастеров фехтования и инженера Марчиори, склоняя к упражнениям и изучению математики и искусства фортификации. Я посвятил себя этим трудам со своим обычным усердием. Я составлял планы, я стал экспертом в теории осад, я фехтовал с моим другом Массимо, непревзойденным мастером в этом дьявольски благородном искусстве, и увлажнял свою рубашку каждое утро, упражняясь с ружьем, пикой или шпагой. На стратегической шахматной доске мы формировали эскадроны деревянных солдат и моделировали военные схватки; я узнал, как захватить лучшие позиции, чтобы быть убитым скупо, убивать других с расточительством и заслужить славу, обогащая кладбища. Я был уже более чем наполовину воином, но решил в глубине души оставить эту блестящую профессию по истечении трех лет контракта. Червю честолюбия не нашлось ничего съедобного в моем сердце. Среди военных трудов мне на память вернулись некоторые заповеди мира и любви к ближнему. Между тем, инженер Марчиори внезапно умер от острого заболевания. Смерть этого офицера, чьё предназначение было высоким и чья карьера была обеспечена, вызвала сожаление у всех, и я, следя за его гробом, подумал про себя, почему люди создают себе проблемы на пути взаимного уничтожения, когда сами столь подвержены естественным орудиям смерти – от болезней, климата, стихийных бедствий и времени. Я чувствовал охлаждение к своим геометрическим рисункам и стратегическим планам. Чтобы лучше изучить фортификацию, я перебрался с Массимо в маленький домик вблизи крепостных валов Зары, и наблюдал из своего окна, как солнце садилось в морские глубины. Я оставлял свои сухие трактаты и свои алгебраические уравнения, чтобы провожать глазами отца света в его огромном путешествии. Мечты, философия, поэтическое чувство просыпались в моей семнадцатилетней голове, и моя отнюдь не воинственная мысль галопом уносилась далеко за пределы контрэскарпов[8]; я возвращался домой, когда дневная звезда погружалась в свою ванну и не переставая твердила мне: «Измени свою жизнь, вернись к своим наклонностям и своим вкусам; ты родился не для того, чтобы убивать людей, а чтобы их развлекать и помочь им скоротать время без грусти».
В нашей аристократической республике, где побледнели бы от ужаса при одной мысли об абсолютном монархе, тиране или всемогущем доже, каждый Проведитор, губернатор, любой начальник, в пределах своей провинции, своего округа или своей команды является деспотичным правителем, со всеми слабостями, тщеславием, всемогуществом, любовью к лести, которые присущи короне. Город Зара в один из дней захотел явить свидетельство своего уважения генеральному Проведитору. На предмостье крепости был возведен с большими затратами деревянный цирк, красиво украшенный драпировками, распространили билеты и собрали подготовительное совещание поэтов и прозаиков края, на манер академии. Любой академик, согласно приглашению, должен был прочесть две композиции, будь то в прозе или в стихах, на такие две темы: первая – «Кто заслуживает наивысшей похвалы – миролюбивый принц, который сохраняет своё государство и делает счастливыми своих подданных, или принц-воитель, который присоединяет к своей области завоеванные страны?». Вторая композиция должна была быть панегириком в честь Его Превосходительства генерального Проведитора Кверини. Я не был приглашен на академическое заседание – президент, налоговый адвокат города, одетый в черный бархат и покрытый огромным светлым париком, не счел меня достаточно взрослым, чтобы представить стихи на конкурс. Такое пренебрежение показало мне, сколь скромным возделывателем литературной нивы я еще был. Однако я написал, для собственного удовольствия, два сонета по двум предложенным темам и в первом воздал хвалу мирному князю. Только мой друг Массимо знал о моих композициях, которые я тайком спрятал в глубине своего кармана.
В день празднования Проведитор взошел на трон на вершине лестницы. Академики расселись полукругом на первой скамье, толпа заполнила цирк. Стояла сильная жара, и я ощущал жгучую жажду. В углу был буфет, где слуги готовили прохладительные напитки. Я пошел за стаканом лимонада, но мне было отказано под предлогом, что напитки предназначены только для чтецов и академиков. Этот афронт раздразнил меня, я вытащил свои сонеты из кармана и собственной властью объявил себя академиком и чтецом. Те, кто считает поэзию бесполезным искусством, обязаны ей возмещением ущерба, потому что в моём случае и на моем месте они умерли бы от жажды, в то время как итальянские музы удостоили меня, по крайней мере один раз в жизни, нежной и сладкой награды. Моя первая смелость повлекла за собой другую: я занял место на деревянной академической скамье, к большому удивлению ассамблеи. Бог знает, какие напыщенные фразы звучали в цирке в течение трех часов! У меня в ушах еще звенит при мысли о них… Некий маленький аббат, больший подхалим, чем другие, с тех пор стал епископом, а его поэзия, наверное, заработала ему митру, как мне моя – лимонад.
Подошла моя очередь говорить. Я прогрохотал, как Юпитер, два своих сонета. Последний, прославляющий Его превосходительство, имел невероятное счастье весьма понравиться Проведитору, поэтому очаровал и публику. Мнение жителей Зары лбеспечило мне патент большого поэта. Назавтра вечером Его Превосходительство отбыл, в сопровождении свиты офицеров, среди которых был и я. Сидя верхом, Проведитор пригласил меня ехать рядом с собой и попросил прочитать снова мой сонет, прославляющий его. Мы пустились в галоп. Не замедляя скачки, я заорал сонет, с большим количеством каденций, трелей, полутонов и придыханий, причиной которых была моя лошадь, и никогда кусок поэзии не декламировался в таком ритме. Я думал, что мои товарищи будут смеяться надо мной, но нет, они завидовали моему везению и дорого заплатили бы за счастье играть на моём месте эту арлекинаду. «Карло, – сказал я себе, вернувшись домой, – ты можешь гордиться своей карьерой, ты был более тонким льстецом, чем любой из тех, амбициозных. Будь игроком, пьяницей, ленивцем, забудь свои рисунки и свои фортификации, тебе не нужна никакая иная рекомендация, кроме твоих пошлых рифмованных комплиментов».
Но не игры, не вино и не лень отвратили меня от геометрии и цифр; это было новое чувство, которого мое сердце еще не знало, – чувство, полное сладости, и источник тысяч зол. Но давайте остановимся и посвятим специальную главу жалостному рассказу о моих первых амурах.
Глава III Далматинская любовь.
Я, в мои преклонные годы, должен был бы краснеть, рассказывая о своих любовных увлечениях в возрасте семнадцати лет, поэтому я рассказываю о них, краснея. Я всегда чувствовал большую склонность к женщинам. Едва я стал способен понимать разницу между полами, мне стало казаться, что женские одежды окутывают земные божества, и я с нетерпением искал их общества; но мое воспитание и мои религиозные принципы были мощными преградами, делая меня в юные лета весьма скромным в словах и сдержанным в поведении; эта скромность и это целомудрие не нравились красавицам, которых я знал. С моим отъездом в Далмацию я отбросил невинность как сущий вздор. Город Зара – это страшная опасность для наивных сердец. Для любви я был слишком мягок, нежен, романтичен, слишком метафизик. У меня было столь высокое представление о женской добродетели, что персона, положившаяся лишь на пылкость своих чувств, казалась мне чудовищем. Я не мог объяснить падение красотки иначе, чем ошибкой и невольным ослеплением под влиянием разделенной страсти, самозабвенной любви. Мне хотелось любви такой же силы и вечного постоянства; поэтому я никогда не имел счастья нравиться кому-либо, кроме демонов, как это всегда бывает с людьми моего склада. История моей первой любви не делает много чести представительницам прекрасного пола, но мне хотелось бы надеяться, что есть среди них феникс, о котором мечтало мое сердце, и лишь небо не сочло меня достойным с ним повстречаться.
Моя квартира на валу Зары состояла из просторной спальни и чего-то типа кухни. С одной стороны я видел море, а с другой – улицу. Напротив моего дома жили три сестры из хорошей, но обнищавшей семьи, знатность которой осталась в далёком прошлом. Старшая из трех граций была бы мила, если бы лицо ее не иссохло и глаза не ввалились от усталости и работы по дому. Вторая была сумасбродный чертенок, рожденная, чтобы нравиться, живая, хорошо сложенная, смуглая, с пышными волосами и глазами, как алмазы. В её скромных манерах проглядывали сила и огонь, сдерживаемые воспитанием. Третья, еще ребенок, казалась развившейся не по годам, и её физиономия свидетельствовала о наличии как хороших, так и плохих инстинктов. Я наблюдал этих трех нимф из окна своей кухни, когда они открывали свои, по правде, частенько не закрытые. Они не забывали поздороваться со мной очень приличным кивком головы, и я возвращал им привет с величайшей серьезностью. Вторая из трех сестер разработала кокетливую уловку, на которую я не мог не попасться: как только я заходил на кухню, чтобы вымыть руки, она открывала окно своей комнатки, брала мыло и тоже мыла руки, после чего приветствовала меня и устремляла на молодого соседа проникновенные взгляды, полные истомы. Её большие черные глаза источали манящую силу, трогавшую меня за сердце. Мне хватало четверти часа строгих размышлений, чтобы побороть это впечатление, и, не забывая о вежливости, я скрывал свое волнение под маской холодной и философичной серьезности. Одна женщина из Генуи, которая стирала моё бельё, принесла мне однажды утром корзину рубашек, в которой лежали прекрасные свежие гвоздики. «Откуда эти цветы?» – спросил я генуэзку. – Эти гвоздики, сказала она, вышли из ручек красивой персоны, живущей по соседству, на которую ваше благородие имеет жестокость не обращать никакого внимания. Посольство и подарок усилили мое волнение; но я приказал посланнице поблагодарить красивую соседку, сказав ей однако, что я не смог оценить очарование цветов. Говоря с такой суровостью, я ощутил, что голова моя закружилась и сердце смягчилось. Вернувшись в свою комнату, я стал серьезно размышлять над приключением: невозможно было думать о браке; далека была от меня и идея погубить репутацию любимой девушки. Я взвесил между тем на ладони лёгкий кошелек, который содержал всю мою скудную наличность, и с ужасом увидел, что даже не могу облегчить бедность моей красивой соседки; я подавил беспощадно симпатию, привлекавшую меня к ней. Я прекратил мыть руки у окна, чтобы избежать кокетливого взгляда черных глаз. Бесполезная предосторожность! Однажды служащий у моих друзей офицер по имени Апержи позвал меня. Он был в постели из-за недомогания, которое вполне заслужил своими излишествами, и просил меня прийти составить ему компанию. Этот офицер жил у старой дамы, жены нотариуса. Матрона принялась журить меня по поводу моей серьёзности, сказав, что мальчик семнадцати лет, имеющий вид серьезного пятидесятилетнего мужчины, являет собой по сути смешную карикатуру. Она добавила, что, доводя до слёз и терзаний очаровательную девушку, влюблённую в него до страсти, безбородый философ проявляет не мудрость, а дурное воспитание и злое сердце. В ходе этой поучительной проповеди офицер застонал, повернувшись в своей постели. Жаль, сказал он, что у меня нет ваших семнадцати лет, вашего здоровья, вашей славной физиономии, и я не нахожусь в подобных обстоятельствах! Я отлично знал бы, как ими воспользоваться. Едва приготовился я объяснить резоны своего поведения, как стучат в дверь и я вижу опасную красотку собственной персоной, пришедшую проведать больного. При виде её все слова застряли у меня в горле и сердце забилось жестоко в груди. Разговор зашел об общих предметах. Девочка объясняется с изяществом и умом, немногословно, но очень скромно и благоразумно. Ее выразительные глаза говорят мне ясно и без гнева, что я неблагодарный человек. В конце этого согласованного заранее визита старая дама не преминула спросить молодую девушку, должен ли кто-нибудь за ней прийти. Моя соседка краснея отвечает, что она оставила служанку присмотреть за сестрой, которая лежит в постели в жару. Ладно, говорит жена нотариуса, указывая на меня пальцем, – вот молодой синьор, который будет вам кавалером. О, – отвечает хитрая чертовка, – я не достойна такой чести. Вежливость не позволяет мне больше отступать. Я подтверждаю своё желание проводить девушку обратно.
Путь был недальний. Мы оба молчали и трепетали. Рука девицы дрожала, опираясь на мою, и каждое трепетание отзывалось в глубинах моего сердца. В дверях своего дома соседка попросила меня подняться, так любезно и с таким смиренным видом, что я не посмел отказать. Все в этом доме дышало нуждой. Мы вошли в комнату, где спала старшая сестра, в постели, достаточно приличной на вид. Девушка взяла рукоделье и начала шить, предложив мне сесть рядом с ней на ветхую софу. Чтобы не разбудить больную, она заговорила со мной тихим голосом. Мое поведение, – сказала она, опустив глаза, – вам кажется очень глупым. Уже больше месяца, не знаю, как это случилось, я испытываю к Вам больше уважения, чем мне хотелось бы. Это произошло, когда я увидала, как Вы с товарищами играете сцены из комедии. В другой раз я видела вас играющим в мяч, и мое сердце пало в ещё большей слабости. «По правде говоря, – ответил я с улыбкой, – основания для вашего мнения обо мне и вашей слабости очень лестны для моих качеств и характера». Девушка замолчала, просто убитая этим наглым ответом; затем снова начала с простодушием, смешанным с утонченностью: «Просто удивительно, – сказала она, – насколько аплодисменты, успех, ловкость молодого человека в упражнениях и играх своего возраста производят впечатление на ум бедной девушки! Все здесь отзываются с похвалой о вашей мудрости, доброте, ваших хороших манерах – вещь редкая среди офицеров, которые, как правило, очень дурные люди. Все Вас любят, и я люблю Вас по-своему. Вы можете презирать мою глупость и ввергнуть меня в отчаяние, если это Вас забавляет». Две слезы катились по прекрасным смуглым щекам, и эти слезы, которые укоряли меня за жестокость, потрясли меня настолько, что я вдруг почувствовал себя околдованным. «Синьорина, – ответил я, призвав на помощь все присутствие духа, – я вам открою, как я и должен, причины моей сдержанности. Я был бы чудовищем, если бы остался равнодушным к трогательным доказательствам Вашего расположения. Я глубоко признателен Вам за чувства, которые Вы выразили с такой очаровательной откровенностью; но знайте, что у меня нет имущества и я принадлежу к семье, нуждающейся во мне; я не могу думать о браке, и если бы я связался с Вами, я совершил бы непорядочный поступок, нанеся ущерб Вашей репутации. Я испытываю слишком большую симпатию к Вам и рассматриваю её как опасность, которая навлечет на Вашу голову какое-нибудь несчастье. Отсюда проистекает мое сильнейшее стремление избегать возможностей с вами встречаться». Соседка уронила своё рукоделье и с восхитительной пылкостью, схватив мою руку и заменив «Вы» на «Ты», согласно далматинской моде, воскликнула: «Мой друг! Ты меня совсем не знаешь, если думаешь, что моя бедность расставила сети на твоё небольшое состояние. Я не развратная девица и не кокетка в поисках мужа. Не лишай меня удовольствия беседовать с тобой время от времени, как сегодня. Я не хочу большего, а ты сможешь лучше узнать меня. Мы проявим при этом необходимое благоразумие, чтобы избежать сплетен. Ты должен воздать мне справедливость, и ты сделаешь это, если ты не тигр без сердца и жалости». При этих словах пролились слезы, и я стоял ошеломленный, смущенный, полный любви и нежности. Эти наивные и страстные признания не вызвали протеста ни в моей натуре философа, ни в моем метафизическом настроении. Я ощущал необходимость снова увидеть этого очаровательного ребенка, и я обещал не задерживаться с возвращением, за что она пылко поблагодарила меня. Проснулась больная сестра. Я пробормотал неловкий комплимент и удалился, чтобы скрыть смущение. Моя любовь проводила меня до подножия лестницы. Я ушел оглушенный, сошедший с ума от любви и сожженный далматинским пламенем, к которому неосторожно приблизился. С той поры мы искали способов, чтобы увидеться, правда с теми наименьшими предосторожностями, что мы решили принять против злословия. В течение долгого времени наши беседы состояли из весёлых и прелестных шуток, обмена сладкими и нежными чувствами. Временами мы вздыхали; пламя бросалось нам в голову, нескольких поцелуев, нескольких мягких взглядов было достаточно нашим детским сердцам, и дни протекали в опьянении, умерявшемся целомудрием, полным нежности.
Однажды вечером жара была изнуряющая, и я искал у подножия крепостных валов свежести морского бриза. Проходя мимо дома офицера Апержи, я услышал голос, зовущий меня, и, подняв голову, заметил в окне жену нотариуса с моей любимой. Меня пригласили подняться, прогуляться по укреплениям. Офицер, чье здоровье начало восстанавливаться, пожелал составить нам компанию. Он предложил руку старой даме, а я взял под руку девушку. Первая пара хромала на своих подагрических ногах, а я следовал в стороне со своим бедным хромым и раненым сердцем. Ночь сгущалась. Мы прошли совсем немного, когда синьор Апержи стал постанывать и попросил у меня разрешения вернуться со своей старой хозяйкой. Я остался наедине с моим далматинским дьяволенком. Часы полетели как минуты. Мы не осознавали, где мы находимся, все более воспламененные счастьем быть вместе и свободно разговаривать. Наконец, наступила глубокая ночь, мы благоразумно решили не искать больше прохлады, бросавшей в пожар наши чувства. Проводив возлюбленную к её дому, я направился в дверь своего жилища. «Сделайте мне одолжение, – сказала девушка; – поскольку мои сестры спят и мне все равно предстоит вернуться обратно украдкой, несколько мгновений опоздания не имеют значения, покажите мне вашу квартиру». Я достал ключ, открыл дверь и мы вошли. Солдат, который служил мне, оставил, как обычно, зажженную лампу на столе. Девушка села на мою кровать, я расположился рядом с ней. Необоримое волнение проникло в наши сердца. Ночь, тишина, слабый свет лампы вселили в нас обоих больше, чем обычно, смелости и страха. Добавьте к этому обжигающий жар климата этой страны и мощь июля, и вы получите представление о ситуации. «Послушай меня, сказала девушка. Было бы легко скрыть тайну, которая стоила мне реки слез; лишь немногие женщины на моем месте проявили бы щепетильность, оставляя тебя в заблуждении, но я предпочитаю откровенность лжи, и я хочу открыть тебе свою душу. Знай, что два года назад полковник *** из гарнизона Зары соблазнил меня, похитив из моего дома, и подло покинул через три дня, насладившись моим позором. Если это признание делает меня отвратительной в твоих глазах, окажи мне последнюю услугу, убив меня». С этими словами она потонула в слезах и упала в отчаянии к моим ногам. Я знал этого полковника как знаменитого распутника, чьи подвиги рассматривались в суде без большой чести для его семьи. Я совершенно не сомневался в истинности истории. Я вытер слезы бедной девушки и пытался ее утешить. То, что она потеряла в моем воображении, она искупила в моем сердце состраданием, которого заслуживало её несчастье. Мне было жаль ее, и я заверил ее, я поклялся ей самыми нежными клятвами, что моя любовь совсем не оскорблена несчастьем, отмытым таким количеством слез. Она плакала сначала от благодарности, а затем от радости при виде счастливого результата своей откровенности и изобретательности. В усилиях проклясть бесчестного полковника, злодея, предателя, вора, в стараниях возбудить моё негодование и дать утешение бедной жертве, в протестах против материнского снисхождения моей возлюбленной обнаружилось, что маленький далматинский демон потушил лампу, чтобы скрыть свою стыдливость или чтобы вдохнуть в меня больше мужества, так что рассвет застал нас ещё вместе и весьма огорченных при виде этого природного явления.
Я поспешил воспринять моего маленького демона как бесценную жемчужину. Мы оба погрузились в пламя страсти, и нам казалось, что наш милый секрет укрыт от глаз всего мира, в то время как он был, по-видимому, секретом Полишинеля. Моя любовница постоянно показывала нежность, искренность, преданность, все время волновалась от страха потерять меня. Я не видел впереди конца своей любви и с ужасом думал, что менее чем через три года истекает срок моего военного контракта – беспокойство похвальное, но излишнее! Своеобразие далматинских обычаев сказалось на наших отношениях: она также обязалась их разорвать. Случилось так, что генеральный Проведитор был должен вернуться в Бокко ди Каттаро[9] для устранения разногласий и беспорядков, возникших между черногорским населением и турками. Мне предстояло отплыть вместе с Двором. Боже мой! Что за слезы, тревога, судороги, клятвы верности в этот душераздирающей момент расставания! Мое отсутствие длилось всего сорок дней, которые казались мне сорока годами. Едва вернувшись, я готов был бежать к своей богине, когда граф Виллио, конюший Его превосходительства, повеса, но хороший товарищ, который оставался в Заре, отвел меня в сторону и сказал: «Гоцци, мне известно, что вы водите дружбу с молодой девицей, которую я знаю. Я пренебрег бы своим долгом, если бы не предупредил Вас о том, что случилось во время вашего отсутствия. Казначей Его Превосходительства давно был влюблен в эту девушку, и продолжать дальше бесполезно. Он смог выбрать момент и воспользоваться Вашим отсутствием. Я не знаю, какими средствами он пользовался, но уверен, что это ему удалось. Делайте с этим, что хотите». Слова графа Виллио были как скорпионы, впившиеся в мое сердце, однако я желал казаться бравым и безразличным к своему позору. «Это правда, – ответил я, – что я испытывал нежность к этой девушке, но наши отношения были невинны. Я всегда считал её честной и скромной; боюсь, вы ошибаетесь из-за хвастовства этого фата». «Ей-богу, – воскликнул граф на своём брешианском наречии, – я знаю, что говорю, и я знаю мир лучше, чем ребенок семнадцати лет. Я выполнил свой долг, этого достаточно». Он оставил меня потрясенным. Я отказался от своего горячего желания броситься в объятия любовницы, и заперся у себя, закрыв двери и окна, избегая возможности встретиться с неверной. «Генуэзские посланники», что управляли моими рубашками, были приняты дурно и отвергнуты сухими и лаконичными ответами, из которых было видно, что я не хочу объяснений. Но в глубине души я надеялся, что моя красотка невинна и подло оклеветана, и я ожидал триумфа её невинности.
Проходя однажды мимо дома Апержи, я увидел в окне старую хозяйку, которая предложила мне подняться. Я вошел к ней в прихожую, уверенный, что добрая дама собирается, наконец, дать мне желаемые разъяснения. Она провела меня в комнату, где я оказался, к моему большому изумлению, лицом к лицу с объектом моей первой любви, тонущим в слезах. Я остановился в замешательстве, обратившись в статую. Красавица подняла голову и стала осыпать меня упреками. «Милое дитя, – ответил я попросту, – не моя вина, если девушка, которая отдаётся казначею, не достойна больше моей нежности». Она побледнела и начала кричать, требуя назвать имя бесчестного клеветника. Я прервал её: «Не утомляйте себя, стремясь себя оправдать, – сказал я ей, – я знаю всё из верного источника, и я не переменчив, не неблагодарен и не мечтатель». Я ожидал протестов добродетели и криков невинности; но девушка опустила голову, избегая моего взгляда, и среди рыданий я услышал печальную исповедь: «Ты прав: я больше не достойна твоей любви. Этот злой человек уже давно меня преследует. Он договорился с моей старшей сестрой, дав ей два бушеля муки. Мольбы, дурные советы, угрозы этой ведьмы… – Наконец, с ужасным отвращением… – Ах! Проклятая сестра, проклятая бедность, проклятая мука!..» Она больше ничего не могла сказать, задыхаясь от боли и извергая потоки слез. Мои иллюзии испарились. Моим заветным желанием было видеть Венеру, но сердце платоника являло мне фурию. Я молчал. В моем кошельке было несколько жалких дукатов, очень малое количество. Я достал кошелек из кармана и, не произнося ни слова, опустил тихо на самую красивую грудь, которая когда-либо открывалась моим глазам; после чего удалился прочь, сокрушенный печалью, убегая по улицам города и сердито повторяя: проклятый казначей, проклятая сестра, проклятая бедность, проклятая мука! Я больше никогда не встречал идола своей первой любви. Я думал, что буду раздавлен под тяжестью страсти, слишком непосильной для ребенка, но мне удалось все же её преодолеть. Я с удовольствием узнал вскоре после этого приключения, что несчастная молодая девица вышла замуж за служащего; я потерял затем её след и не пытался его отыскать.
Глава IV Привлекательные черты морлаков[10] и иллирийцев
Надеюсь, читатель не нанесёт мне оскорбления, полагая, что, рассказывая ему о своих злополучных любовных приключениях, я намеревался лишь продемонстрировать непристойные картины. Мне хотелось дать представление о своих философских размышлениях по поводу малоизвестных нравов, царящих на берегах Адриатики, о мощном влиянии климата, о небрежении, в котором живёт это варварское население. Чтобы доказать чистоту своих намерений, я добавлю другие детали, собранные как на побережье, так и во внутренних областях.
Наше светлейшее правительство, желая соблюдать нейтралитет среди войн, разгорающихся в Европе, рекрутирует в Италии войска и занимает ими крепости Далмации; наш августейший сенат предписывает Проведитору набирать новых рекрутов, из которых одни должны пополнять гарнизоны крепостей, а другие формировать корпус морлакской (см. примечание 1) армии, охраняющий границы Ломбардии. Вербовка войск для охраны иллирийских крепостей была делом легким, но отправка черногорцев в Италию доставила Проведитору серьезные затруднения. Мы не приручили жителей этих стран; если они согласны признавать своё подчинение и служить, то лишь при условии разрешения, как это у них принято, красть, убивать по своему выбору, или отказываются от своих обязательств, когда условия их не устраивают. Здравый смысл значит для их разума столько же, сколько слова для глухонемых. Объединиться под командованием чужаков, вылезти из своих берлог, чтобы проследовать в Италию, по их представлению, дело неприемлемое. Их начальники, преданные своему князю, люди храбрые и верные, растрачивают себя в бесполезных протестах. Приходится вновь призывать на службу ссыльных, амнистировать воров, убийц, поджигателей и прочих героев, число которых огромно в этих краях, приходится также делать предварительные платежи, чтобы обеспечить их погрузку и провоз в Ломбардию. Я присутствовал при проведении этих людоедских процедур в присутствии Проведитора, когда корабли были готовы выйти в море. Выплачивались экстраординарные суммы, и эти бандиты, чтобы выразить свою радость, распевая уж не знаю какую причудливую песню, брались за руки и бежали на галеры, танцуя странные сарабанды. Вскоре мы узнали, что города нашего чрезвычайно снисходительного правительства, доверенные этим безумцам, сильно страдают от их присутствия. В Вероне, в частности, грабежи, убийства, насилия и беспорядки зашли так далеко, что там решились отправить этих варваров обратно в их пещеры, чтобы избавить венецианскую Италию от невыносимых эксцессов. Его Превосходительство поручал мне комиссии по возмещению ущерба в иллирийских и черногорских провинциях, и я пользовался моментом, когда цвет этих грабителей был еще в Ломбардии. При той меланхолии, в которую ввергла меня печальная развязка моей любви, развлечение от поездки, необходимость обеспечения своей безопасности в новой для меня стране были настоящим подарком судьбы. Я посещал цитадели, деревни, наиболее отдаленные города; в некоторых из них я находил людей любезных, в других – нравы грубые и дикие. Крестьяне этих областей сохранили древние обычаи, вполне языческие, в своих играх и обрядах. На похоронах наемные плакальщицы начинали испускать над телом умершего мрачные вопли. По праздникам молодые люди собирались, чтобы бросать в воздух огромные куски мрамора, и тот, кто добивался наибольшей высоты броска, объявлялся победителем, что напоминает о подвигах Диомеда и Турнуса[11]. На своей земле черногорцы смелы и оказываются мощной поддержкой против пограничных турок, к которым традиционно испытывают сердечную антипатию. В Черногории люди приближаются к последней стадии варварства. К семьям, где два поколения подряд умирают в своих постелях и не насильственно, относятся с презрением. Около Буды[12] я видел этих бешеных, стреляющих в своих соседей, и три трупа, в мгновение ока оставшихся на песке. Человек, которого обвиняли в длинной серии естественных смертей своих предков, был задет оскорблением и, чтобы восстановить честь своей семьи, взял оружие и бросился убивать, продавая дорого свою жизнь. От деревни к деревне черногорцы ссорятся и затевают перестрелки. После того, как появляется жертва на одной стороне, другая сторона не имеет надежды на мир, разве только, по принципу кровной мести, она соглашается платить виру или человеческую голову. Этот тариф, учрежденный без участия должностного лица, считается равноценным. Священник из Черногории, с которым я часто говорил в Буде, рассказал мне, на почти итальянском жаргоне, много анекдотов об убийствах своих прихожан, с самодовольством и патриотической гордостью. Он даже дал мне понять, что ружейная практика была ему более знакома, чем обращение со священными сосудами. Я восхищался черногорскими женщинами, одетыми в черную шерсть, в платьях, которые совершенно не вызывают желаний. Их волосы, разделенные на прямой пробор, свешиваются вдоль щек и по плечам и смазаны таким толстым слоем масла, что издалека кажется, что у них на голове блестящая корона. На них ложится самая трудная работа, и их можно фактически считать рабами мужчин. Они склоняются перед мужчиной и смиренно целуют ему руку везде, где бы с ним ни сталкивались; надо сказать им в оправдание, что они, кажется, довольны своей участью. Неплохо было бы командировать нескольких черногорских женщин, чтобы те приехали к нам и показали пример такого повиновения венецианским дамам, чьи привычки сильно от этого отличаются.
Это не означает, что морлаки отличаются благонравием: природа и климат способствуют разврату. Магистраты[13], убежденные в этой истине, установили штрафы за покушение на целомудрие, размеры которых, однако, не превосходят того, что дает в Венеции щедрый распутник существам, торгующим смертным грехом в общественных местах.
В Далмации женщины красивы, несмотря на проглядывающую в их формах тенденцию принимать несколько мужские очертания. Пигмалионы, что захотели бы воспользоваться мылом и песком, чтобы отмыть и оттереть тамошних представительниц прекрасного пола, нашли бы превосходные ожившие статуи. Из деликатесных продуктов питания морлакам знакомы лишь чеснок и лук. Их земля только и ждет, чтобы произвести эти сельскохозяйственные продукты в изобилии, но морлак предпочитает ждать чеснока и лука из Романьи, а когда его упрекают за лень, он отвечает: «Мои предки никогда не сажали чеснока или лука на наших полях, как же вы ждёте этого от меня?». Эти люди не желают подчиняться к духу коммерции. Мужественные обитатели островов занимаются рыболовством, многие морлаки – опытные охотники. В Заре мы ели недорогую и превосходную дичь, рыбу в изобилии, однако эти продукты поступали на рынок нерегулярно, в зависимости от прихоти местных жителей, отправлявшихся охотиться и рыбачить, когда имелось настроение, а не тогда, когда возникала потребность в их услугах. Дичь появлялась в день поста, а рыба – в воскресенье, сваленная в мешки небрежно и неаккуратно.
В меня бросили бы камень, если бы я не написал, что эта страна должна была бы быть богатой и плодородной, как равнины Апулии, но начинать надо с культуры местных жителей, необходимо убедить этих варваров сменить ненависть, злобу и дух пиратства на сдержанность, чувство долга, любовь к труду и промышленности. Это мое мнение, очевидно, слишком смело, поскольку возбудило немало гнева и презрения, так что я не скажу больше ни слова и покорно вернусь к своим легкомысленным стихам.
Мне исполнилось семнадцать лет, когда Его Превосходительство оказал мне честь, утвердив окончательно в роли военного, в благородном звании кадета и определив в кавалерию, что давало мне тридцать восемь фунтов в месяц доброй венецианской монетой. В знак признательности за это назначение я оказывал весьма значительные услуги государству, такие как инспектирование почты днём и ночью, передача обработанных горячим уксусом депеш из зачумленных деревень, с большим ущербом для моих рубашек и моих манжет. Что особенно позволило мне ощутить, насколько я действительно стал военным, – это возможность оказываться под арестом без осознания своей вины. Я носился по стране на клячах под лучами палящего солнца, я спал не снимая сапог на земле, в долинах Морлакии, и на палубе галеры, медленно пожираемый миллионами клопов. Наконец, я избежал опасностей войны, как вы дальше увидите. Под страхом прослыть трусом и быть смешным мне приходилось иногда участвовать в пирушках, бесчинствах и предприятиях своих товарищей. Эти предприятия и вечеринки состояли в неистовой игре со взаимным опорожнением кошельков, веселых пирушках с девицами лёгкого поведения, нарушении сна жителей города маскарадами, ночным грохотом, серенадами перед домами некоторых неудобных мужей и выстрелами из аркебуз, служащими аккомпанементом к нашей музыке. Моя гитара часто оказывалась мне необходима. В Буде, в стране Черногория, где супруги ревнивы, поскольку имеют для этого основания, и где убийства – обычное дело, мой друг Массимо вздумал подавать любовные знаки одной знатной девице, невесте сеньора города. Девица ответила на сигналы с пылом красавицы, тоскующей в рабстве. Будущий муж узнал об этой интриге. Иллириец, резкий и грубый, вступил в разговор с офицерами во дворе, где мы сидели на каменных скамьях. Он разразился грубой речью об итальянцах и итальянских дамах, их нравах и обычаях, и позволил себе презрительные выражения, шутки, скорее глупые, чем пикантные, сопровождая их смехом и устремив взгляд на сеньора Массимо. Его выступление ясно и недвусмысленно означало, что все итальянцы рогоносцы, а их жены шлюхи. Эти оскорбления требовали крови, но Массимо, который задумал свою месть, как будто не заметил обиды. Он решительно отстаивал честь родины, приводя хорошие аргументы в пользу того, что варварство, грубый нрав и тирания иллирийцев по отношению к их женам, которые тонки и хитры, приносят больше вреда морали и причиняют больше смуты, чем честная свобода, которой пользуется прекрасный пол в Италии. Черногорец, будучи не силен в споре, покачал головой, бросил свирепый взгляд и сказал Массимо, что он, возможно, принял на свой счет недостатки, присущие итальянским нравам. Этот вызывающий случай должен был, естественно, превратить каждого военного в странствующего рыцаря и защитника обычаев своей родины; между тем, когда Массимо попросил меня сопровождать его вечером с гитарой и я пообещал ему это, остальные офицеры, полагая, без сомнения, что черногорцы убивают мужчин как перепёлок или мухоловок, из осторожности сделались глухими.
Был в Буде молодой флорентиец, коадъютор Генерального секретаря, по имени Стефано Торри. Этот молодой человек талантливо исполнял роли женщин, когда мы представляли комедии, к тому же он обладал прелестным голосом. Когда наша ночная команда собралась для серенады, Массимо пригласил этого бедного мальчика спеть, не предупредив о грозящей опасности, и певец, желая дать насладиться своим прекрасным голосом, обещал непременно явиться на свидание. Настала ночь. Дело было в сентябре, погода стояла теплая, сияла луна. Мы, вооруженные каждый шпагой и парой пистолетов, устраиваем концерт на главной улице под окнами Дульсинеи. Молодой Торри пел очень мелодично милую песенку в сопровождении моей гитары. Эта музыка продолжалась уже целый час, когда ставня в прославляемом таким образом доме вдруг открылась. Показалась большая черная голова и закричала пронзительным голосом: «Какая наглость!» Это был дядя девушки, каноник своего прихода, носящий титул монсеньора; но никакой дядя или каноник не смог бы нас запугать. Торри, не будучи военным, понял, что его песни совсем не шутка, и попросил разрешения удалиться. Массимо убедил его остаться для поддержания чести нашей нации, заявив, что улица принадлежит всем. Флорентиец возобновил свои песни, но уже менее уверенным голосом. Вдруг при свете луны мы видим приближающиеся издалека шесть масок в капюшонах, несущих аркебузы, опущенные стволы которых бросают легко различимые бронзовые отблески. Торри прерывает начатую каденцию и исчезает как стрела. Массимо и я остаёмся отважно на позиции, подобно Роланду и Родомонту. Я играю на своей гитаре с большим ожесточением, и Массимо, возмещая отсутствие первого певца, исполняет популярные ариетты голосом пронзительным и фальшивым, как у каноника, делающим честь более его мужеству, чем итальянской музыке. Шесть масок остановились в двадцати шагах от нас; они изготовили своё оружие, мы схватились за своё. Не отступая, мы приготовили наши пистолеты, и два отряда рассматривали друг друга в течение двух минут. То ли наше упорство подействовало на носителей капюшонов, то ли потому, что они побоялись разжечь войну, в которой все офицеры приняли бы участие, они продефилировали перед нами без стрельбы. Мы отвечали на их угрожающие взгляды не менее гордо, и после их отступления наш музыкальный шум тотчас возобновился и, не имея больше препятствий, продолжался до рассвета. Когда стало очевидно, что мы остались хозяевами поля боя, и что нежные обычаи Италии победили, мы пошли спать. Приказ об изменении места дислокации явился кстати, избавив нас от ночных аркебузад, которые, безусловно, плохо бы закончились из-за нашего упрямства.
В Спалатро[14], где упрямство толкнуло нас исполнить серенады прекрасной рагузянке, нас осыпали градом камней, который заставил нас прыгать как коз, под неуклонное пение и бренчание наших гитар, к вящей славе итальянских обычаев. Единственное извинение, которое я мог бы дать этим глупостям, заключается в нашей молодости, нехватке врачей и необходимости, порождаемой этим огненным климатом, отворять кровь, принимать чемерицу или получать палочные удары.
Глава V Мужчина – субретка. Военные стратагемы
После откровенного признания в совершенных глупостях, мне позволительно поговорить об обстоятельствах, где я проявил себя мудрее. Я уже говорил, что офицеры организовали у себя самодеятельную комедию. Во время карнавала, когда мы вернулись в Зару, наши представления приобрели еще больший размах. Мы получили в своё распоряжение зал заседаний суда, а Проведитор соблаговолил развлекаться, слушая нас. Большое стечение любопытных привлекло дворянство, гарнизон и город. Наша комическая компания состояла только из мужчин, те из нас, кто был ещё безбород, играли роли женщин, и я был привлечен к исполнению женских ролей, по причине моей юности. Я исполнял амплуа служанок в импровизированных фарсах. Чтобы согласовать итальянские и далматинские вкусы, я создал тип субретки, какого, без сомнения, больше никогда не увидишь ни на одной сцене. Я взял платье, язык и тон горничных этой страны. Я причесывал свои волосы по моде девиц из Шибеника[15], щеголяя галантной шевелюрой, состоящей из кос с розовыми ленточками. Смешивая венецианский с тем немногим, что я знал из иллирийского диалекта, мне удалось образовать шутливый жаргон, понятный как для итальянцев, так и для далматинцев, на котором я сносно импровизировал. Этот новый тип субретки получил всеобщее одобрение. Я имитировал женские интонации, а среди несуразных реплик, которые я подавал своей хозяйке, подпускал намеки на приключения моих товарищей или на городские хроники, делая необходимые купюры, чтобы никого не задеть. Моя комическая скромность, мои буффонные рассуждения, мои жалобы и причитания так развлекали Проведитора и публику, что я был провозглашен лучшей субреткой театров Далмации. Эти импровизированные фарсы часто заказывались повторно, вызывая смех наивностью и иллиро-итальянским жаргоном Люсии – это имя я выбрал как присущее простолюдинам Зары, сочтя его предпочтительным перед Смеральдинами и Коломбинами классического театра. Несколько прекрасных дам проявили любопытство, желая познакомиться с этой Люсией мужского рода, такой живой и пылкой на сцене; они обнаружили только бедного скромного мальчика, молчаливого, с характером, столь противным тому, который проявляла субретка, что с большим трудом поверили этому. Как видно из истории моих первых амуров, для одной из зрительниц контраст между Люсией и философом был не столь велик. Никогда мое образование, мой характер, мои знания, мои литературные труды или мои заслуги, если они есть, не значили больше для прекрасного пола, чем мои шибеникские прически, мои импровизированные пустяки и особенно успехи при игре в мяч. Мое целомудрие должно было выдержать несколько испытаний. В этой связи я искренне поздравляю более чувствительную половину рода человеческого, уже не руководствующуюся в любви только сердцем, как во времена Петрарки, и плавающую по водам любви способом магнетизма, который мне кажется вполне пригодным для развития женских инстинктов. Влияние прекрасного пола на наши манеры может давать отличные результаты, свидетель чему эпоха рыцарства. Нынешний способ почувствовать нежную душу имеет то полезное достоинство, что не берет в расчет ни благородство характера, ни культуру ума, исключает трудолюбивых молодых людей и призывает их к более полезным занятиям, таким как запуск могучей рукой воздушных шаров или замена мужчин на субреток. Нигде не доказано, что я абсолютно неправ.
Самым приятным плодом моей комической храбрости было избавление меня от караулов и инспекций на все время карнавала. Проведитор самым любезным образом просил меня продолжать радовать его импровизациями, освобождая от любой другой службы.
Зара разделена на две части широкой и красивой улицей, которая начинается от площади Св. Симеона и заканчивается морским портом. Множество улочек спускается вниз по стенам, впадая в эту главную улицу. Однажды вечером несколько офицеров, проходя одной из этих улочек, встретили человека в маске, закутанного в плащ, который показал им жерло мушкета колоссальных размеров и приказал проваливать с дороги. Надо знать, что на улице, охраняемой этим не слишком мирным персонажем, жила галантная девица необычайной красоты, по имени Тонина. Число её обожателей было велико, но её злые выходки, хитрости и близкие отношения со множеством каналий делали это создание достаточно презираемым, единственным достоинством которого была красота, к тому же продаваемая ею за несколько цехинов. Один из её любовников, будучи более влюбленным, чем другие, и желая отвратить соперников, вообразил засвидетельствовать таким далматинским способом силу своей страсти, выставив дуло мушкета против любого, подходящего к ее дому.
Приключение возобновлялось дважды подряд, и послужило предметом наших воинственных разговоров в прихожей Проведитора. Офицеры, стыдясь своего поражения, поклялись между собой наказать человека с мушкетом. Они столь вежливо пригласили меня участвовать, что моя естественная непринужденность и услужливость доброго товарища не позволили мне отказаться. Было решено, что заговорщики соберутся в тайно ночью в бильярдной комнате, с белыми лентами на шляпах и с оружием, пригодным для взятия города штурмом. Знатный иллириец граф Симеон С., сильный малый, крепко сложенный, любезный в обращении и духа настолько решительного и бесстрашного, что нравился всем офицерам, хотя и не был военным, находился в углу прихожей, и, казалось, не обращал внимания на наш заговор. Он потянул меня за платье и отозвал в комнату генералитета, куда у меня было дело. «Мой юный друг, – сказал он, – я всегда был расположен к вам и дам вам доказательство этого. Мне жаль, что вы легко согласились сопровождать этих прекрасных господ. Вы скромны, вы не разгласите признания, которое я вам сделаю: это я – человек в маске, и сегодня мушкетов будет четыре. Я погибну, если это необходимо, но и другие оставят там свои жизни, прежде чем пройдут в переулок, вход в который я защищаю. Я не хотел бы, чтобы вас постигло несчастье. Вы освободитесь под любым предлогом от того, чтобы идти на свидание, и не препятствуйте другим, они найдут то, что ищут». – «Я удивлен, – ответил я, – вашими заверениями в дружбе, как и вашим благоразумием. Вы, похоже, не очень озабочены обязанностями той или другой стороны. Я просто польщен доверием, что вы мне оказываете, и вы не получите повода в нем раскаяться. Но, заботясь о моей жизни, вы призываете меня пренебречь данным мной словом, что заставит меня солгать всем моим товарищам; и вы называете это знаком вашей дружбы! К тому же из-за пустого дела чести и ради славы хорошенькой кумушки, заслуживающей того, чтобы её высекли, вы считаете себя обязанным сложить голову, убивая людей, среди которых есть ваши друзья, и это доказательство вашего редкостного благоразумия? Вместо этого, поверьте мне, лучше откажитесь от вашего предприятия, освободите дорогу дуракам, что вздумают по ней идти, и в результате не будет никакого вреда. Никто не подумает обвинить в трусости неизвестный призрак. Я обещаю вам сохранить тайну и тогда смогу воздать должное вашему пониманию долга дружбы и вашей осмотрительности. Вот мой, а не ваш, совет настоящего друга и благоразумного человека. Оставьте путь сумасбродства, и тогда я стану вашим должником. Занимайтесь любовью с Тониной иначе, чем стреляя из мушкета. Красота этой девушки достойна вашего преклонения, но остальное заслуживает только вашего презрения».
Синьору C. не пришлось по вкусу мое мнение. Проснулся дикий нрав далматинца. Он повторил со всеми мыслимыми клятвами, что не покинет места и не уступит без хорошей бойни. Я счел необходимым прибегнуть к искусству комедианта. Я посмотрел на этого человека с видом столь же мрачным, как у него, а затем поднял руку трагическим жестом. «Ну что ж! – сказал я, – вы увидите меня сегодня во главе нападающих, и я первый попаду под огонь ваших мушкетов. Вы узнаете таким образом, что я не принял звания друга, которым вы оказали честь меня наградить». Я резко повернулся спиной к моему далматинцу и медленно удалился. В глубине души граф Симеон был добрый малый, его свирепость утихла. Как я и ожидал, он догнал меня и взял за руку. «Пусть я неправ, говоря об осторожности, – сказал он, – но знаете ли вы, вам не следовало упрекать меня за упрямство! Вы победили меня вашим собственным упорством; я бы не осмелился стрелять в вас; сегодня вечером дорога будет свободна».
В назначенный час перед домом Тонины появились заговорщики с белыми лентами. Три вечера подряд мы находили проход свободным, и дело с мушкетом было забыто. Граф Симеон вскоре порадовался, что послушал моего совета, потому что его любовь к этой пиратке Венеры рассеялась, как и все страсти, основанные на грубости мужчины и капризе или алчности женщины. Прелести Тонины и её отвратительный характер привлекали и отталкивали раз за разом толпы влюбленных, вызывали ссоры и несчастные случаи, жалким трофеем которых она служила. Опасность, которой подвергались порядочные люди из-за существа столь вульгарного, запечатлелась в моём сознании; случай дал мне шанс наказать Тонину, как она того заслуживала, во время последнего карнавала, который я провел в Заре.
Мы дали тройной праздник: импровизированную комедию, бал и ужин. Я был бедной Люсией, на этот раз уже не субреткой, а изнуренной бедностью женой старого Панталоне, порочного, злого и банкрота. У меня была дочка в пеленках, плод этого несчастного брака. В ночной сцене я баюкал своего ребёнка и пел ему, чтобы усыпить, песенку, часто прерываемую бурлескными историями о своих несчастьях. Я говорил, как я был вынужден выйти замуж за старого дурака, наивно рассказывал о своих бедах и неприятностях, о том, что я когда-то был красивой девушкой, пока усталость и слезы не испортили мою красоту. Я жаловался на холод, голод, из-за которых у меня пропало молоко. Среди этой болтовни наступает ночь; мой старый развратник муж не возвращается домой; я подозреваю, что его задержали на улице Поццельто – районе Зары с дурной репутацией. Я глупо плачу и слезы вызывают смех у зрителей. Мой друг Антонио Зено, который превосходно играет Панталоне, еще не готов, хотя момент его вступления уже прошел. Импровизированная комедия не позволяет актёру смущаться из-за такого пустяка: он должен занимать сцену любой ценой. Поэтому я делаю вид, что передумал укладывать ребенка спать, и достаю манекен из колыбели, чтобы дать ребёнку пососать. Эта новая нелепость заполняет еще несколько минут, я начинаю беспокоиться, не видя Зено и не зная, что еще сказать, когда, глядя на публику, замечаю в ложе авансцены Тонину, превосходно украшенную плодами своих преступлений и смеющуюся от души моему вздору. Тут я вспоминаю приключение с мушкетами и полагаю себя вправе воспользоваться случаем, чтобы оживить свой умирающий монолог. Я даю моей маленькой девочке имя Тонина, я ласкаю ее, я любуюсь ее прелестями, я начинаю мечтать, как она станет красивой, и обещаю себе воспитать её в хороших принципах, а затем, адресуя свои речи манекену, лежащему у меня на коленях, я говорю: «Бедная Тонина, если, несмотря на мои заботы, мой опыт и мой пример, ты однажды навлечешь позор на свою мать, забудешь свой долг, впадёшь в распутство и разврат, продавая свою красоту, заставляя дураков, попавших в твои сети, ловить выстрелы мушкета и добавлять позорную славу к блеску твоей распущенности; если потеряешь чувство справедливости и порядочности до такой степени, что будешь больше не в состоянии краснеть, погрязнешь в пороках, показывая на публике драгоценности, полученные скандальным путем, выставляя в театре свою красоту, проданную тому, кто заплатит более высокую цену, уверенная, что добродетель не прознает о том, что твоя совесть перегружена грехами разного рода – ухаживаниями, алчностью, ночными засадами и другими развлечениями, я попрошу небо перерезать в мгновение тонкую нить твоих детских дней». Во время этого патетического монолога все глаза аудитории обратились к реальной Тонине, и буря аплодисментов и смеха разразилась в зале. Сам Проведитор, перед которым эта сирена была уже разоблачена, ясно выразил свое одобрение и удовольствие. Тонина встала и вышла из своей ложи, посылая Люсии богохульные угрозы. Между тем появился Панталоне и положил конец монологу.
После спектакля я счел разумным сделать попытку к примирению с обиженной красоткой, добавив эпилог к комедии. Я побежал за куртизанкой, не тратя времени, чтобы сменить мой костюм Люсии; я тихонько отвел её в обеденный зал, где вокруг нас собрался круг любопытных. «Прекрасная Тонина, – сказал я, – будьте снисходительны к бедной актрисе, не знавшей, чем занять сцену из-за этого мошенника Панталоне, который опаздывал на свой выход. Останьтесь на нашем празднике. Я клянусь, что если вы захотите уйти, я тоже тотчас уйду; не лишайте наше собрание его самого блестящего украшения. Вы такая красивая, что когда я на вас смотрю, я безутешен, видя, что вы сердитесь. Забудьте мои шутки и думайте только о комплиментах и лести, которыми молодые люди вас осыпают». И, наконец я намешал столько дерзостей в свои комплименты, что Тонина начала весело смеяться, вместе с окружающими, среди которых было много ее любовников. Она согласилась остаться и хотела танцевать со мной. Но ее шарм, ее взгляды, ее провокационные улыбки, шутки, пожимания руки и всякие заигрывания предупреждали меня, что она жаждет мести. За ужином она попросила меня сесть рядом с ней, и её старания обольстить меня продолжались до утра; но я слишком хорошо знал, что она скрывает под этими галантными уловками. Горе мне, если бы я попался на милость этой обиженной гадюки! Тонина, с истинно далматинской любезностью, нежно наградила меня этой ночью дружеским именем проклятого демона. Она вырвала у меня обещание нанести ей визит, но я остерегся сдержать свое слово.
Пусть благосклонный читатель не хмурит брови и не возмущается этими ребячествами. Мне не всегда было двадцать лет. Ещё несколько глупостей, еще несколько смешных интрижек, несколько шалостей в мои молодые лета, и – терпение – скоро мы доберёмся до разговоров о серьезных вещах, о большой войне, разгоревшейся на венецианском Парнасе. Что я говорю? Мы будем рассказывать о вещах ужасных, сверхъестественных, память о которых поднимает в этот момент дыбом седеющие волосы на моей голове.
Глава VI Моя вторая любовь. Назад в Венецию
В последние дни моего пребывания в Заре я располагался с моим другом Массимо у купца, который арендовал квартиру в доме, расположенном в центре города. У этого купца была жена, красивая, полная и свежая, и у меня есть основания полагать, что Массимо был другом дамы еще большим, чем мужа. Как бы там ни было, он устроил всё таким образом, что, имея пансион, мы питались за столом хозяина. Супруги, будучи бездетными, из похвальных чувств христианской благотворительности удочерили бедную девушку. Эта девочка, лет тринадцати, обедала и ужинала с нами. Самая милая невинность лучилась в её облике и поведении; у нее были светлые волосы, большие синие глаза, нежный и задумчивый взгляд, привлекательное бледное лицо. Ее сложение, ещё хрупкое по молодости, было стройным, изящным, рост обещал в ближайшее время стать выше обычного. Когда я играл роль Люсии в театре двора, эта девочка исполняла при мне обязанности горничной. Она помогала мне одеваться, причёсываться и вплетать ленты в волосы, по моде Шибеника. Она шутила и смеялась над моим туалетом. Чтобы её развлечь, я рассказывал ей некоторые фацетии[16] из своей роли, при этом раздавались бесконечные взрывы смеха. Однажды вечером, превратив меня в субретку, девушка внезапно влепляет мне в щеки три или четыре не очень скромных поцелуя. Будучи сам невинным и убежденный в ее невинности, я предположил, что она воображает себе, что целует настоящую служанку. Но эта выходка повторялась несколько раз с видимостью все большей страсти, что заставило меня задуматься. Я совершенно не желал нарушать законы гостеприимства, поэтому вооружился своими философическими воззрениями и стал избегать этих фамильярных шалостей, дав понять юной девице, что такие поцелуи между лицами разного пола запрещаются исповедниками. Маленькая далматинка, не смущаясь, приложила палец к губам, предлагая мне молчать, и, приняв вновь свой ангельский и серьезный вид, заявила, что ночью, когда я вернусь домой, она придет доверить мне важную тайну и просить совета. Отчасти из интереса, отчасти из любопытства я жду её по возвращении из театра, но, не дождавшись, ложусь спать. Только я стал засыпать, как эта ночная сумасбродка вошла в мою комнату и, приблизившись ко мне, сказала с выражением, которое я не забуду никогда: «Ты настоящий глупец! Что ты думаешь о моем приемном отце, который, кажется, следит за мной с отеческой строгостью? Это – мерзавец, который глумится над своей женой. Под видом благотворительности и называя меня дочкой для души, старый злодей развратил меня и хочет, чтобы я была его любовницей. Его заботы обо мне – это только ревность; он меня мучит и преследует. Поскольку я не могу жить в невинности, я хочу по крайней мере иметь друга, который мне нравится; ты молод и я тебя люблю. Мне хочется скрыться от преследований этого пятидесятилетнего зверя; вот мой секрет». В ответ на эту грустную откровенность я призывал на помощь всё своё благоразумие, чтобы спасти заблудшее дитя, но дьявол обращал мало внимания на мои советы и наставления.
На следующий день, увидев во время обеда эту ужасную ночную бабочку с её скромным видом, опущенными глазами, с её душеспасительной скромностью, я был объят страхом, но окован уж не знаю каким непобедимым очарованием. Я разрывался между угрызениями совести, страхом и восторгом и, не понимая, что делаю, придавал себе вид серьёзный, осторожный и заинтересованный. Покоряющая сила овладела мной. После каждого посещения этого блуждающего духа я чувствовал себя всё более связанным, всё более порабощенным; дикая любовь, полная исступления, доводила меня до экстаза.
Мне пришлось вскоре оставить Зару, чтобы вернуться в Венецию: мои три года службы истекли. Я должен был бы поздравить себя с прекращением, по независящим от меня обстоятельствам, отношений, в которых, мой характер и весь мой опыт об этом ясно свидетельствовали, я не мог ничего изменить; при одной мысли об отказе от этой девочки сердце моё разрывалось и я чувствовал себя охваченным глубокой печалью. Я ощущал приближение момента отъезда с отчаянием. Забавный случай, к счастью, напомнил мне о себе самом, мгновенно вернув мне разум и заставив благословлять час разлуки.
Это было за три дня до моего отплытия на галере Проведитора. Надо сказать, что юная девушка жила одна на втором этаже дома в маленькой комнатке, в которую поднимались по деревянной лестнице по крайней мере из тридцати ступенек. На верху лестницы был оконный проем, выходящий на крышу. Приемный отец не опасался меня, но его подозрения были направлены на соседского мальчика, который мог бы, двигаясь вдоль водосточных желобов, пройти от окна лестницы до её окна. Без сомнения, старый ревнивец имел некоторые основания полагать наличие сговора между молодым соседом и своей дочерью для души. Деятельный дух недоверия внушил ему идею укрепить, уж я не знаю каким образом, большое полено в окне с помощью верёвочки, так, чтобы нельзя было открыть окно, не разорвав бечевку и не вызвав падения полена с грохотом на лестницу. Эта ловушка должна была послужить будильником для отца, чья жестокость принесла бы в жертву двух любовников. Однажды ночью, когда я спал глубоким сном, адский шум разбудил весь дом. То было огромное полено, которое, потеряв свою подпорку, тяжело покатилось от марша к маршу по деревянной лестнице. Я вскочил с постели и побежал на шум, со свечой в руке. Я встречаю приемного отца в рубашке, изрыгающего богохульства, жаждущего мести и размахивающего длинной саблей. Его жена следует за ним, испуская громкие крики, за ней появляется Массимо со шпагой в руке, убежденный, что грабители осадили дом. Зрелище было театральным. Девушка, в ночной рубашке, присев на ступеньку, дрожит от страха, преступление становится очевидным, хотя сосед ускользнул по желобам. Мы стараемся изо всех сил сдержать приемного отца, превратившегося в неистового Роланда и рвущегося беспощадно обезглавить виновную. После долгих дебатов, с некоторым подобием правильного суда, в котором, к счастью, я не фигурировал, юная девица призналась в своих прегрешениях. Это расследование раскрыло нам, что наш скромный домовой не только частенько принимал соседа через лестничное окно, но ещё чаще спускался ночью в контору, расположенную на первом этаже, и оказывал гостеприимство многим молодым людям, для которых, соответственно, открывалась парадная дверь. Все эти признания поступали последовательно среди криков, угроз, слез, молений, просьб о помиловании, обещаний быть более послушной в будущем и больше не грешить. В других странах дело закончилось бы заключением дочери в монастырь до конца дней, но в Далмации подобные вещи – лишь малые грешки и ошибки молодости. В конце концов, девочка получила полную амнистию и, в качестве наказания, была размещена в другой комнате. Через три дня после этого ужасного приключения, я покинул Зару, утешенный сознанием разорванных таким образом нитей моей любви к этой тринадцатилетней Мессалине.
Проведитор Кверини, чье правление заканчивалось вместе с моим добровольным контрактом, предложил мне остаться с его преемником Якопо Болду, но у меня было время, чтобы убедиться, что военная карьера – не мое призвание. Несмотря на мою бережливость, жалованья в тридцать восемь цехинов в месяц не было достаточно для моих потребностей. Я был должен Массимо двести дукатов и хотел бы отдать этот долг. У меня было горячее желание увидеть и обнять родителей, заняться трудами, соответствующими моим вкусам, и жить спокойно; это были более чем достаточные причины, чтобы отклонить предложения Его превосходительства. Я отчалил в октябре месяце, в плохую погоду, и после путешествия в двадцать два дня ступил на берег Венеции и вдохнул воздух свободы. Массимо сопровождал меня, и я пригласил его к себе жить до отъезда в Падую, его родной город. Мы вместе прибыли в дом моего отца в Санта Касьяно, собственноручно неся свой лёгкий багаж. Мой спутник, казалось, удивился, увидев красивое здание, выглядевшее как дворец, и, поскольку он разбирался в архитектуре, сделал комплимент превосходному фасаду моего дома. У Массимо было время налюбоваться его внешним видом, поскольку, когда я крепко ударил в двери, ответом на удары было гробовое молчание. Наконец маленькая служанка, единственный хранитель этой пустыни, открыла нам дверь. Она рассказала мне, что вся семья была в сельской местности, во Фриули, но ожидали в Венецию моего брата Гаспаро. Мы поднялись по широкой мраморной лестнице, за последним маршем которой предстал моим глазам печальный призрак нищеты во всём ее ужасе и наготе: пол главного зала полностью разрушен; повсюду глубокие ямы, в которых можно вывихнуть ноги, выбитые окна, дающие проход всем ветрам; по стенам грязные и рваные гобелены! Не осталось ни следа от великолепной галереи старых портретов, которые моя память сохранила как блестящие свидетельства прошлого, полюбоваться которыми я намеревался предложить моему другу. Я нашел только два портрета моих предков, один работы Тициана, другой – Тинторетто; они смотрели на меня печально и строго, как бы спрашивая, почему они находятся в одиночестве и забвении. Я хорошо подготовил Массимо к виду ветхого дома, но был далек от подозрения обо всех новых бедствиях, произошедших за время моей трехлетней службы. Когда первое впечатление рассеялось, я попытался обратить несчастье в шутку; мой друг, одаренный счастливым характером, весело занял комнату в этой жалкой гостинице и пообещал мне отдохнуть, думая о внешнем фасаде. Прибытие моего брата Гаспаро увеличило разом и мою радость, и мою озабоченность. Я очень любил его и провел многие нежные часы рядом с ним, но новости, которые он сообщил о семье, разрывали мне сердце: расстройство в делах и безденежье только возрастали, две наши сестры вышли замуж и мужу одной из них было положено приданое, которое мы не могли выделить. Следовало отдать две тысячи дукатов различным торговцам. Фермы и имущество по большей части были проданы. Все уменьшилось, за исключением количества детей, и, в дополнение, три наши подросшие сестры не имели никаких шансов устроиться в жизни из-за бедности. Гаспаро изложил мне эти печальные подробности со своим обычным философским равнодушием, как будто речь шла о простых вещах, которых следовало ожидать. Я оставил его в окружении его книг и поехал во Фриули, как только Массимо от нас уехал.
Я увидел сельский дом, где прошли мои первые годы, в те хорошие времена, когда заботы о сельском хозяйстве не забивали наши головы. Когда крики слуг объявили о моем прибытии, мой старый отец, немой и парализованный, нашел в себе силы подняться с кресла и броситься в мои объятия. Крупные слезы, что текли по его почтенным щекам, выразили лучше, чем слова, его сердечные чувства. Моя мать встретила меня холоднее, она слишком страстно любила Гаспаро и принесла ему слишком много жертв, в то время как моя доля нежности была лишь слегка почата. Из уважения к ней как старшей в семье я не осмеливаюсь на это жаловаться. Мои сестры засыпали меня вопросами, и я доставил себе удовольствие, рассказав о своих путешествиях и приключениях. Подошла моя очередь слушать рассказы. Они сказали мне по секрету, что жена Гаспаро управляет всем домом, чем и объясняется плохое состояние наших дел; что наша мать, в своем слепом предпочтении, пускает всё на самотёк. Они рассчитывают на меня, чтобы попытаться добиться реформ. Между тем моя невестка сказала мне, что Гаспаро, безразличный, погруженный в свои литературные фантазии, не оказывает никакой помощи семье, что он совершенно не хочет заниматься хозяйственными проблемами и что его лень была причиной всех наших бед. Я играл роль министра, к которому каждый приходит со своими просьбами, в ожидании, что я стану, в свою очередь, центром всех упрёков. В этом конфликте взаимных обвинений я видел много самовлюблённости, мало мудрости, отсутствие умеренности – самые вероятные причины нарастания беспорядка, и уже предугадывал бесчисленные трудности для несчастного, который предпринял бы попытку остановить разрушение этого дома.
В середине ноября, после нашего возвращения в город, стало очевидно, что это единая семья из четырнадцати человек. Я поневоле смеялся, глядя на все эти огромные сумки женских пустяков, на моего бедного обездвиженного отца среди свёртков, мою мать, озабоченную некоей политической идеей, касающейся её предпочтений, мою невестку, отдающую приказы, молодых девушек, заботящихся о своих безделушках, моего младшего брата Альморо, горюющего об оставленной птичьей вольере, которую он поручил заботам сторожа, служанок, кошек, маленьких собачек, завершающих этот походный список; всё это напоминало отъезд труппы странствующих комедиантов. Мы по крайней мере имели счастье быть весёлыми. Поездка проходила в шутках. Тот же шум, та же путаница по прибытии, как и при отъезде. Устроились, как могли, во дворце, хорошо глядевшемся снаружи и таком больном внутри. Я выбрал на чердаке маленькую голую отдельную комнату; я разместил там два стула, стол, плохо стоящий на ногах, несколько книг, бумагу, свинцовый письменный прибор; и поскольку я чувствовал себя хозяином своих действий и своих мыслей, мужество вернулось ко мне. В этом изолированном закоулке я веду теперь некий обзор своих занятий, познаний, плодов своего опыта и путешествий, своих инстинктов, способностей и различных своих склонностей. Что-то говорило мне, что я родился для творчества и что еще представится неожиданный случай выйти с пользой из неизвестности. Я осознал, что мне надлежит сохранить семью, обустроить ее нужды, исправить ее ошибки. Два направления представлялись моему уму: остановить крах, сохранить то немногое, что у нас оставалось, и зарабатывать деньги. Осуществить оба пути одновременно было бы слишком большим везением. Я начал с того, что пообещал себе обеспечить выполнение первого пункта плана, а также подготовить второй пункт, я разделил свое время между работой, наблюдением нравов, изучением характеров и знакомством с людьми; ибо я интуитивно знал, что мои силы заключаются в понимании человеческого сердца и в сатире на смешные стороны жизни и что поэзия должна стать лишь инструментом. Вскоре мы увидим, какие бури обрушили на мою голову эти великие проекты. С тех пор моя жизнь стала битвой. Я насчитываю больше побед, чем поражений там, где имею дело с мужчинами; но перед потусторонними силами приходится спустить флаг.
Глава VII Раздоры в семье. Траурное перемирие. Первые испытания оккультных сил
Утром, воздавая должное своим слабостям, я посвящал шесть долгих часов, марая бумагу рифмами и зарываясь в книги в поисках знаний о прошедшем. Чтобы познать также настоящее, я ходил по театрам, посещал кафе, слушал разговоры, я заставлял раскрываться дураков, я симпатизировал людям умным. Остальное мое время принадлежало делам семьи. Я поставил себе целью ввести таким образом свою жизнь в регулярное русло. Было бы недостаточно иметь представление о жизни генералов, морских капитанов, дворян, офицеров и солдат, иллирийцев и морлаков, пастухов, матросов и галерников; этот избыток сведений не имел бы никакой цены, если бы я не изучил в деталях анатомию характера и духа Венеции. Я начал с того, что ввёл себя в круг людей, называемых неточно хорошим обществом. Это были купцы, художники, священники, люди всех классов общества, уважаемые и почитаемые во всем мире, миролюбивые, хорошо образованные, в курсе новостей, друзья удовольствий, умеющие развлекаться без больших затрат. Я участвовал в их развлечениях, ужинах, пикниках, прогулках на лодках на Джудекку, Кампальто, в Мурано и на другие острова лагуны. К своему копеечному взносу я добавлял немного окорока и другой провизии из Фриули, что добавляло мне уважения компании. Они рассказывали о своих делах, ссорах, примирениях и неудачах; молодые говорили о своих романах, с венецианской живостью и пикантностью выражений нашего диалекта. Эта компания учила меня, развлекая. Мать и невестка, видя мои привычки, без устали твердили, что я зря теряю время, что я становлюсь бездельником, как Гаспаро, бесполезный для семьи и трудящийся без толку над своими философскими пустяками. К этим огорчительным заявлениям добавились вскоре и другие нарекания.
Среди завсегдатаев в нашем доме бывало несколько молодых людей, схожих по манерам и весьма распущенного нрава, привлеченных прелестью и умом моих сестёр. Я принимал их холодно и выказывал мало удовольствия от их посещений. Меня упрекали за надменный и неучтивый вид, обвиняли в желании оттолкнуть от отцовского крова друзей, чьи посещения могли однажды привести к счастливым последствиям для устройства судьбы моих сестёр. Я объяснился без увёрток о мотивах своего поведения и сразу стал змеей в глазах всего женского населения дома, которое было весьма многочисленным. Оказывается, я вмешиваюсь в домашние дела и навязываю своё мнение; женщины образовали союз против меня. Мне дали понять, что было бы желательно, чтобы я проявлял больше понимания и не судил легко о вещах важных. Мои демарши, моё посредничество воспринимались как враждебные акции, вплоть до заявлений, что я проявляю безразличие к жизни семьи. Подозрения и колкости не обескураживали меня. Заранее решив вообще не жениться, пожертвовать собой ради интересов моих братьев и жить в одиночестве, я неосторожно допустил возможность выдвинуть против себя обвинения в жадности или чрезмерной требовательности, предвидя, что в наших делах, в конечном итоге, произойдут реформы, улучшится управление, наладится экономия и, следовательно, повысится благосостояние. Когда я спрашивал, что стало с пятью тысячами дукатов, вырученных за товары из Фриули, почему эта сумма не была выплачена мужьям двух моих старших сестер, почему были проданы картины, ювелирные изделия и гобелены, почему мы должны деньги покупателям этих вещей, вместо того, чтобы, наоборот, покрыть вырученными деньгами эту задолженность, моя дерзость поразила виновников этих дурных операций вплоть до ужаса и скандала. Несмотря на моё мягкое и уважительное отношение, было четко установлено и доказано, что монстр, вернувшийся из Далмации, принес в семью раздоры и неповиновение. Не давая запугивать себя ироническими словами, иносказательными аллюзиями или холерическими выходками, я продолжал своё дело; я обратился к завещанию деда, я вооружился дополнительными распоряжениями, фидеикомиссами[17] к ним, актами дарения, нотариальными актами; я написал моему брату Франко, дабы тот вернулся с Корфу, чтобы помочь мне обеспечить соблюдение прав мужской части семьи и спасти остатки благополучия, которые можно было ещё собрать после кораблекрушения.
Это было в марте месяце недоброй памяти 1745 года. С начала карнавала я заметил, что моя мать и невестка выходят вместе каждое утро с таинственным видом и углубляются, закрыв лицо масками, в мало посещаемый квартал города. Я ждал момента объяснения этого маневра, когда три мои младшие сестры, возраста вступления в брак, входят в мою комнату, все три в слезах, и говорят все сразу. Они умоляют меня о помощи, говоря, что в целом мире только я один могу спасти их от отчаяния и позора. После долгих криков и слез я, наконец, узнаю о причине их горя и таинственных походов, которые я заметил. Никого не предупредив, моя мать и свояченица задумали заключить с неким Франческо Зини, торговцем сукном, контракт, по которому они уступают этому человеку в аренду наш дворец Гоцци за шестьсот дукатов. Мы должны будем покинуть отцовский дом, поселиться в другом доме, расположенном в Санта-Якопо-де-Орио, то-есть в заброшенном краю; это означало публично продемонстрировать наш крах, отказаться от всех светских связей и лишить шансов на замужество молодых девушек из полностью разоренной семьи. Я начал с того, что успокоил рыдающих сестёр и отослал их обратно, приказав, чтобы они не говорили никому о том, что приходили ко мне со своими жалобами.
Мой отец и два брата, Гаспаро и Альморо, уже дали свое согласие на этот договор. Меня оставили напоследок, как препятствие, с которым труднее справиться. Я пошел к синьору Зини и мягко, но твердо сказал ему, что для придания законности контракту необходимо мое согласие, так же как и согласие моего брата Франческо, и что мы никогда их не дадим. Зини отнюдь не хранил тайну о моём демарше. Я увидел однажды утром мою мать, вошедшую в мою комнату с осанкой судьи. Она изложила мне резоны, по которым был затеян этот достойный сожаления договор, я выдвинул ей с уважением свои резоны, которые заставили меня не дать моего согласия. Последовал ужасный крик. Я услышал самые несправедливые и самые жестокие упрёки, мать обвиняла меня в том, что я вёл распутную жизнь в Далмации, что не пытался создать себе там положение, что проиграл двести дукатов, одолженных Массимо, и совершил сотню других установленных преступлений. Все это было бы ничего, если бы я не явился сеять анархию в семье и чинить, из чистой злобы, препятствия абсолютно необходимым мерам. Я имел мужество без ропота уклониться от потопа горьких слов, среди которых мои сыновние уши услышали тягостную фразу: «Вы шестой палец на моей руке, не должна ли я ампутировать этот палец для блага других? Я не узнаю в Вас больше сына и после Вашего возвращения в лоно семьи я как Кассандра, предсказывающая нашу общую погибель, которой вы будете единственной причиной».
Эти битвы стали слишком тяжелы для моих сил. Я не мог и думать, что дела зайдут так далеко. Чтобы показать этим неблагодарным сердцам свою готовность к самоотречению и несправедливость их упреков, я решил оставить их в их глупости и вернуться на службу в Далмацию. Я сразу договорился с владельцем судна об отъезде в Зару, но внезапно траурное событие изменило нашу ситуацию. Это было вечером того дня, когда моя мать так жестоко меня отчитала. Я грустно сидел рядом с креслом отца; бедный старик был нем в своей немощи, я хранил молчание от избытка беспокойства и горя. Слезы катились по щекам больного. Он начал бормотать, делать знаки, настолько красноречивые, что я ясно понял, что он имел в виду. Он страдал от нищеты, в которой оказались его дети и которую уже нельзя было скрыть от его угасших глаз; он одобрял мое противодействие контракту, позорному для нашего имени и катастрофическому для будущего своих дочерей; но он умолял меня уступить, опираясь при этом на ужасный мотив: его неизбежная смерть приведёт к разрыву договора и возвращению нас в наш дворец. Взволнованный до глубины сердца этой душераздирающей сценой, я, стоя на коленях, заклинал моего бедного отца бежать дальше от своих печальных мыслей, которые могли плохо отразиться на его здоровье. Он прервал меня, сделав мне знак помочь ему лечь в постель. Я обхватил его за пояс; ноги его дрожали больше, чем обычно. На полпути от кресла к кровати, он положил голову на мое плечо, сказав: «Я умираю!». Новый апоплексический удар убил его. Я позвал на помощь. Привели врача, но усилия медицины оказались бесполезны. После восьми часов агонии глаза нашего отца навсегда закрылись среди тьмы, в которую остались погружены его дети.
При отсутствии родственных чувств потрясение и боль всё же дали передышку в наших разногласиях. Можно представить себе состояние наших дел с помощью такой простой детали: на следующий день после этого скорбного события у нас не нашлось необходимых средств, чтобы достойно проводить тело главы семьи к месту упокоения! Мой друг Массимо, который был инициатором моих эскапад в Далмации, снова стал мне опорой. Я написал ему, чтобы сообщить о своих затруднениях, и он отправил тотчас же сумму вдвое больше той, которая была мне нужна.
Я не убаюкивал себя напрасными иллюзиями, что увижу возвращение в дом доброго согласия, несмотря на повод объединиться в нашей общей скорби, и не льстил себе, питая эти надежды. Страсти были слишком накалены, чтобы угаснуть так быстро. Друзья и советчики подбросили слишком много серы в огонь; чрезмерное усердие породило произвол и злобу, замыслы, о которых не подозревали, а также поступки и слова, истолкованные превратно. Когда жизнь семьи превращается в ад, разум мутится, свобода суждения теряется, правда восстанавливается только по прошествии нескольких лет страданий, когда оружие мести притупляется и рука устаёт. Правосудие приходит в сердца слишком поздно; тогда мы удивляемся только что бушевавшей ярости, и остаёмся, ошеломленные, перед лицом доказательств простодушия, добросовестности и бескорыстия невинного, которого осуждали. Тогда человек просыпается, как сомнамбула. Читатель улыбнулся бы, если бы я сказал, что потусторонние силы проникли в наш дом и пропитали ядами раздора все мозги, которые меня окружали, но вскоре я позволю ему прикоснуться к фактам вмешательства в мою жизнь этого невидимого мира, о которых я даже не подозревал.
Пребывая в горе, моя мать требовала свой брачный выкуп, моя невестка вела тайные переговоры с девушками, которым обещала приданое и мужей, если они объединятся с ней против меня. Гаспаро, впавший в свою обычную беспечность, согласен был на самые абсурдные меры. Он соизволил пригласить меня на торжественное заседание, на котором было предложено продать верхний этаж дома какому-нибудь покупателю – отличный способ создать источник бесконечных судебных разбирательств. Моё несогласие обеспечило мне звание тирана Дионисия. Они смотрели на меня с ужасом, как на огромную комету. Я так страдал от этого несправедливого отношения, что для того, чтобы отвлечься, разразился потоком стихов, частью сатирических, частью полных горечи. То был смягчающий бальзам, который успокоил мою душу.
Это был момент ослепления и общего головокружения не только в моей семье, но и по всей Венеции. Некие бесы, несомненно, действовали против меня, я стал очернен в глазах общества. Это не шутка. Как можно себе представить, чтобы сто сорок тысяч жителей вдруг единодушно признали человека чудовищем, но что такое же самое число индивидуумов, тоже внезапно, с таким же единодушием, соглашалось признать позднее, что монстр – в действительности нормальный человек? Естественная ли это вещь?
Как только моя мать заявила о выделении своей доли наследства мужа, все воскликнули, что Карло Гоцци хочет отделиться от своих родственников, вместо того чтобы жить вместе, как раньше. Когда я попытался собрать просроченную ренту, заставить платить некоторых недобросовестных заёмщиков, я был обвинен в желании забрать себе все. Я возражал против частичного платежа, разорительного для любого, а они повторяли, что Карло Гоцци хочет рапоряжаться своей семьёй без спроса и без контроля. Мой брат Гаспаро хотел стать антрепренером театра Сант-Анджело, я его отговорил. Сразу же поднялся крик: «Он хочет помешать своему брату разбогатеть из ревности и чистой зловредности». Гаспаро взял театр, вопреки моему мнению, и потерял деньги. «Смотрите, – говорили они, – этот черный демон пользуется разорением своего родного брата!» – как если бы я был причиной этой неудачи. Вдова, графиня Гвеллини, теснейшим образом связанная с моей матерью, представляла ее интересы в споре со мной и советовала моей семье вчинить мне судебный иск. Один мой разговор с этой дамой оказался достаточным, чтобы убедить её отказаться от этих действий. Тогда сказали, что я околдовал графиню Гвеллини и что я уже давно тайно женат на ней. Я полагаю, что из-за меня над городом дул дурманящий головы ветер. Поскольку спасти мою семью и остановить её на краю пропасти было для меня гораздо важнее, чем выглядеть беспорочным в глазах болтунов и даже в глазах моих родственников, я твердо стоял против всех бурь.
Смерть отца разрушила роковой проект контракта. Право и полномочия были на моей стороне, я мог противостоять актам бесхозяйственности, за исключением проявлений жадности и придирчивости, в течение какого-то времени. Я оставался непоколебимым в своей линии поведения. Мой брат Франческо, который между тем вернулся с Корфу, утвердил все, что я сделал, и выказал мне свою поддержку. Мы разделили труды. Он взялся добиваться покрытия наших рент, задолженностей и сборов во Фриули, а я запустил ряд судебных процессов в Венеции. Франко допустил столько оплошностей в своих хлопотах, что оказался бесполезен; но я его помощи не отвергал, а работал все так же руками и ногами, чтобы распутать клубок наших дел.
Однажды, когда я искал пачку очень важных бумаг, мне наивно признались, что эти бумаги были проданы на вес колбаснику – очевидное свидетельство превосходного управления моей невестки. От этой новости мне стало дурно. Я побежал к вышеупомянутому колбаснику и, по чрезвычайному счастью, нашел большую часть документов, среди которых были свидетельства о праве собственности, фидеикомиссы и текущие арендные договоры. Одной ли небрежности достаточно, чтобы произвести такой странный беспорядок? До сих пор спрашиваю себя об этом с удивлением. Моя невестка, напуганная огромностью своей вины и опасаясь, несомненно, что будет побеспокоена на предмет этих своих действий, полных благоразумия, хотела получить от семьи расписку об общем прощении и забвении прошлого. Мои братья и сестры подписали, и я согласился также дать мою подпись. Это благодушие оставило нерешенными много вопросов. Росчерк пера, который аннулировал старые ошибки, сделал невозможным разгадку тайн этих прощенных ошибок, чтобы я смог оценить масштабы бедствия. Мне пришла идея ускорить до последней степени ход событий, чтобы достичь скорее момента истины. Я решил оставить дом и полностью отделить себя от своей семьи, чтобы вскоре возвратиться туда оправданным, торжествующим и благословляющим всех.
Глава VIII Всеобщее примирение. Адский спрут
То был великий день, когда я сделал этот смелый шаг. Я поднял голову и объявил, что многое должен выяснить, чтобы восстановить порядок в наших делах, для чего мне нужно спокойствие, в котором мне отказывают. Нельзя больше надеяться, что мы сможем легко отсудить наше добро или получить его по ипотеке. Моя партия была выигрышная: семье следовало подчиниться. В качестве последней попытки примирения я попытался уговорить мать удалиться с сестрами в загородный дом на год и предоставить мне полное управление нашим процессом, отцовским наследством и разделом имущества. Мне с негодованием заявили, что я Нерон[18]. Не желая больше спорить, я покинул дом и снял небольшую квартиру на улице Санта-Катарина. Вскоре меня осадили приставы, вооруженные надлежаще оформленными судебными требованиями, как то: требование моей матери на реституцию ее приданого, как если бы я носил в кармане недвижимость, которая послужила в качестве залога; претензии двух моих зятьев на сумму две тысячи дукатов, обещанную по брачным контрактам; запрос нотариуса, действующего от имени моих несовершеннолетних сестёр, об их содержании и обеспечении; требование девятисот дукатов, чтобы компенсировать синьоре Гаспаро Гоцци её беды и лишения во время её прекрасного управления, различные требования на оплату поставок от купцов. Я стал волком, которого травили все кому не лень. Я оставался невозмутимым, ожидая, пока не погаснет огонь.
Через восемь дней после того, как я ушел из дому, родные обнаружили, что не знают, как им действовать дальше. Мой брат Альморо пришел просить меня взять его к себе, и я разделил с ним свою небольшую квартиру. Я подписал с Гаспаро соглашение, оставляющее ему некоторые преимущества. Он проиграл один процесс, в то время как я выиграл другой. Это предупреждение стало для него полезным. Он настоятельно просил меня возобновить управление его состоянием и дал мне на это доверенность. Голова моей невестки остыла; я узнал однажды, что у нашей бедной матери нет денег. Я выдал ей сумму, которой мог располагать, и сердце её немного смягчилось. Нерон, убивший свою мать – у меня уже были некоторые различия с этим противоестественным сыном. При содействии опытного адвоката моих друзей, синьора Теста, я распутал дело старины Гаспаро. Моя мать вступила вскоре во владение своим приданым. Несовершеннолетние сёстры получили свои содержание и обеспечение. После уплаты нескольких долгов я прояснил, что семья пользуется конкретным и чистым доходом в 1500 дукатов в год. Мои тяжбы шли в правильном направлении. Первая отменила мошенническую и незаконную аренду, в результате чего нам было возвращено имущество, находящееся в Виченце; это увеличило наш ежегодный доход на 230 дукатов. После второго процесса я вступил во владение небольшой гостиницей, расположенной в Баньоли, которая приносила 65 дукатов в год. Выигрыш третьего процесса принёс нам капитал в 800 дукатов, – старый долг моего деда за дом в Батталья. Четвертым судом я восстановил в полную собственность дом и лавку на улице Санта-Мария-Зобениго, в Венеции. Пятый суд вернул в семью дом с пристройками, расположенный вблизи местечка Тамэ во Фриули. На шестом суде я подтвердил права собственности, утерянные по оплошности, на домик на улице Матер-Домини, в Венеции. Седьмой судебный процесс породил ожесточенную войну. Дело касалось продажи имущества на безумных и гибельных условиях во время болезни моего отца. Апелляционный суд признал покупку недобросовестной и кассировал договоры купли-продажи с возмещением утерянных сумм. В ходе этих разбирательств я оплатил 3000 дукатов долгов; снова привёл в хорошее состояние ветхие дома; покрыл на 14000 дукатов мелкие претензии, следы которых были утеряны в результате замечательного управления моей невестки. Эти счета по разделу имущества были подготовлены с наибольшей тщательностью, и пансион, установленный ранее законниками для содержания моих несовершеннолетних сестер, был мной удвоен. У моей семьи стали открываться глаза. Правление Нерона становилось золотым веком. Они так громко негодовали по поводу этого отвратительного тирана, что не решались сразу изменить язык; но каждый день смягчалась горечь проклятий, чтобы постепенно вернуться к нежности, свойственной отношениям с хорошим братом и преданным сыном. Это был мой восьмой процесс, и я чувствовал в глубине души, что он вскоре будет выигран.
Хотя наши раны постепенно заживали, клевета разрывала меня на куски и всеобщее помутнение разума достигло апогея. Невидимые трубы звучали по всему городу: «Карло Гоцци, не довольствуясь тем, что довёл свою семью до нищеты сомнительными манёврами и одиозными судами, хочет изгнать из наследственного убежища старую мать, трёх сестёр брачного возраста, своего старшего брата, человека тихого, женатого, отца пятерых невинных детей, которые будут выброшены на мостовую этим беспощадным монстром. Да, никак не ожидали такой гнусности от мальчика двадцати трёх лет!» Трубите не так громко, о трубачи! И имейте терпение.
В разгар своих процессов я в значительной степени пренебрегал отношениями с моим двоюродным дедом, сенатором Тьеполо. Этот достойный старик дал мне знать, что хотел бы со мной поговорить. Я предстал перед ним и нашел его очень больным водянкой груди. Он был мудрец и оригинал, этот сенатор Тьеполо. Сам черт не смог бы его понять. Будучи уже старым, он возвращался как-то вечером из Сената; выходя из своей гондолы, он запутался ногами в платье и чуть не упал в воду. Его гондольер, чтобы поддержать его, бросил весло, которое держал в руках; это весло упало на правую руку хозяина и сломало её. Гондольер не подозревал об этом несчастье, а мой дядя молчал. Поднявшись по лестнице и не жалуясь, хозяин вернулся в свою комнату, и лишь когда слуга хотел помочь ему снять платье, сказал: «Осторожно, моя правая рука сломана». Сразу весь дом огласился криками ужаса: бедный гондольер прибежал в слезах и бросился к ногам хозяина. «Мой друг, – сказал ему старик хладнокровно, – успокойся: ты причинил мне боль, желая сделать добро; за тобой нет вины, не за что тебя прощать».
Когда я появился перед ним, полный уважения, мой двоюродный дедушка спросил меня, почему я его покинул. Я признался ему откровенно в истинных причинах моей небрежности, а именно: в моей неразговорчивости, моей любви к одиночеству, моих прискорбных занятиях, которые неустанно вынуждают меня поддерживать весьма невесёлые отношения с людьми, о раздорах в нашей семье, опасениях, что меня изображают в превратном свете, и моему непобедимому отвращению к тому, чтобы оправдываться в преступлениях, которых я не совершал. «Даже если бы я имел против Вас предубеждение, – сказал сенатор серьезно, – это не повод, чтобы прекратить Ваши визиты». Дядя расспросил меня о ссорах в нашей семье. Я отвечал ему с искренностью. Его проницательные глаза отличали правду. «Вот и хорошо, – сказал он, – я поговорю о Вас с вашей матерью». Действительно, он послал за своей племянницей на следующий день, и я знаю, что он сказал ей такие простые слова: «Я уверяю Вас, что Ваш сын Карло хороший мальчик». В его устах и эти несколько слов стоят всех фраз мира. Нельзя требовать большего участия от человека, который не подал даже жалобу по поводу сломанной руки. Болезнь этого превосходного старика, к сожалению, была неизлечима. Он умер, полный религиозного чувства, улыбаясь своему духовнику, который сказал ему с тревогой, видя такое равнодушие к смерти и страданиям: «Я не хотел бы, однако, чтобы ваша светлость относилась к смерти немного слишком по-философски». Он был философом, но философом христианским. Мой дядя Тьеполо оставил законное завещание, по которому после получения кредиторами того, что им следовало, пользование его имуществом передавалось его сестре Жерониме, старой даме без наследников, а его земли – племяннице Гоцци, моей матери. Синьора Жеронима едва пережила своего брата, и я имел, наконец, удовольствие видеть мою бедную мать в счастливых обстоятельствах, что позволило ей полностью посвятить себя своему пристрастию к Гаспаро. Она переехала в дом своего старшего сына; это было сделано, без сомнения, в ущерб моему кошельку, но к большой пользе для моего сердца. Богатство привело к улучшению атмосферы в доме. Два мои брата Франко и Альморо женились. Две мои сестры брачного возраста нашли хорошие партии. Третья, у которой имелись некоторые разногласия с Гаспаро, просила меня о предоставлении убежища. Для меня было бы чудесным утешением жить с ней, но я боялся общественного помутнения рассудка и звуков труб. Я имел мужество побудить свою младшую сестру поступить послушницей в монастырь. Она со мной согласилась, и ей там было так хорошо, что она никогда не хотела покинуть его. Насколько люди в этом мире не понимают, ни отчего разгорается их гнев, ни как он успокаивается! Врач не постыдится сказать, что это происходит от движения желчи или от нервов, и все-таки, как происходит, что в один прекрасный день доверие и дружба моих близких мне возвращаются, так же как они были у меня без причины отняты? Откуда исходят эти крайние и противоположные решения, необъяснимые противоречия? Сегодня наши сердца в тревоге, в ярости и бурях, братья и сестры ссорятся, ненавидят друг друга и расточают угрозы ртом и гербовые бумаги рукой. Подождите немного. В следующем году ад стал раем; мы целуемся, мы согласны, мы смеемся и мы любим друг друга. Как случилось, что моя мать решила вдруг призвать меня в свои объятия? Что она хочет удалиться в Фриули, полная излишнего теперь усердия, когда эта мера уже больше не нужна? Что она предоставляет мне заботиться о своих интересах, сказав, что доверяет моим добрым намерениям и моему мастерству? Отчего вдруг все мои братья сделали, как она, и я тщетно пытался избежать этой пугающей ответственности? Нерон, тиран стал опорой, преданным другом, управляющим, добрым советчиком, человеком, достойным доверия! От желчи или от нервов зависит эта метаморфоза? Мой врач доктор Корнаро лечил лихорадку хинином; но если во всех склянках фармацевтов нельзя найти снадобья для устранения распрей, успокоения причуд и возвращения в дом здравого смысла, почему он осмеливается смеяться, когда я объясняю на свой манер нравственные болезни, которых он не понимает? Потому что он болен сам, и дьявол поместил ему на нос очки Гиппократа, в которые он видит все явления этого огромного мира в мизерных описаниях своей малой науки.
У читателя будет время, чтобы убедиться – в самых простых обстоятельствах жизни со мной всегда случались странные события. Я должен был бы догадаться об этом с того дня, когда в мои семейные документы стали заворачивать колбасы у мясника; но впервые я узнал о злосчастии своей судьбы при других обстоятельствах.
Весь наш дом мудро решил отправиться во Фриули. Я жил один в Венеции, занимаясь общими делами. Мои братья полагали, что поступили мудро, женившись, а их жены полагали, что поступили ещё мудрее, дав им много детей. Я любил своих племянников и работал над тем, чтобы увеличить их благосостояние. У нас был маленький дом на Джудекке[19]. Вдовая женщина, приличная с виду, захотела арендовать этот дом. Я дал ей ключи; она поставила туда кое-какую мебель и поселилась там со своими детьми и служанкой. Первый срок истек, тётушка попросила у меня отсрочку платежа. После второго срока всё ещё нет денег; после третьего – сотрясение воздуха, болтовня, увёртки и снова нет денег; на четвертый срок я попросил вежливо моего арендатора соизволить вернуть мне ключи, заверив её, что из-за незначительности суммы я не стану подавать в суд, и что от доброты сердечной я забуду про арендную плату, с единственным условием уступить место другому арендатору. Последовали крики, оскорбления и угрозы: мол, она честная женщина, мы сами во всём убедимся, они не согласны на милостыню. В пятый срок – ни копейки денег. Я обратился к гражданскому судье, и попросил его избавить меня от этого спрута. Судья вызывает женщину в трибунал; она обещает сдать ключи в течение недели. В конце недели – нет ключей. Дом больше мне не принадлежал, моя арендаторша не желала освобождать его, пользуясь любым предлогом. Новые повестки. Судья, раздосадованный, приказал своим сотрудникам произвести выселение. Выкидывают мебель на улицу силой закона, и служитель приносит мне ключи от моего дома.
Джудекка – остров, куда жители других районов ходят не часто. Прошел месяц, пока человек, готовый снять мой домик, попросил меня показать его. Мы приплываем в гондоле. Как же я был изумлен, встретив живущую там проклятую тётушку с её ничтожной мебелью, её гадкими детьми и её грязной служанкой! Едва судебный пристав удалился, эти паразиты, бросившись на штурм с помощью лестницы, влезли в окно и в момент свели на нет всю работу правосудия. Я начал сначала смеяться над приключением, а потом рассердился. На третьей повестке от судьи мой любезый арендатор понял, что дело становится угрожающим. На этот раз вдова добровольно покинула место, не дожидаясь судебных приставов, но произвела переселение с таким совершенством, что захватила с собой замки, жалюзи, задвижки и фурнитуру, не забыв и гвоздя: это был полный разгром, и мне пришлось заплатить сто дукатов, чтобы стереть следы этих разрушительных насекомых. Никто больше меня не развлекается забавной стороной вещей, но на этот раз, среди смеха, роковые вспышки света сверкнули у меня в уме. Ничто у меня не может получиться, как у других людей. Пагубное и сардоническое наваждение связано со мной. Мои семейные ссоры, нарушение нашего счастья, мои процессы, дело с колбасником – все показывало наличие враждебных и скрытых сил. Я должен был ожидать их постоянного возвращения до своего последнего часа и при каждом случайном обстоятельстве: в двадцать пять лет я мог бы бравировать перед ними, не прибегая к помощи знака креста и святой воды; но не должны ли они, рано или поздно, стать сильнее меня? Они обрушатся на меня неминуемо, когда моя кровь охладеет с возрастом и особенно когда моя случайная оплошность даст им больше власти над моим бедным мозгом. Несомненно, видя себя обнаруженной, моя враждебная звезда сочла разумным немного притаиться. После стольких нападений она взяла отпуск на несколько месяцев, но, увы! Она натравила на меня вместо себя любовь, эту другую дьявольскую силу, наиболее урожайную на зло, бессонницу и разочарования.
Глава IX Моя последняя любовь
Боккаччо смог бы написать одну из своих милых новелл из истории моей последней любви. Я не могу не остановиться на этом сюжете, который задевает меня за сердце, и прошу позволения быть на этот раз отчасти многословным.
Вернувшись под крышу отцов, я снова завладел своей комнаткой на верхнем этаже дома. Я целыми днями предавался там моим легкомысленным занятиям: писал, рифмовал и читал, наслаждаясь звуками свежего ангельского голоса, певшего жалобные арии и грустные песни. Этот нежный голос раздавался из соседнего дома, отделенного от нашего узким проулком. Мои окна выходили на сторону того дома. Я не преминул воспользоваться случаем увидеть прекрасную певицу, сидящую около своего маленького балкончика и обшивающую бельё с самым скромным видом. Опершись локтем о край своего окна, я оказался так близко от этой молодой женщины, что, опасаясь быть невежливым, не мог обойтись без приветствия. Она вежливо вернула мой привет. Этой девушке только что исполнилось семнадцать лет и она недавно вышла замуж. Она была одарена всеми прелестями, что природа может предоставить в этом возрасте, таком ярком. Кожа у нее была ослепительной белизны, фигура стройная, тонкая, взгляд прямой и нежный, осанка почти величественная. Формы груди, рук и кистей обладали замечательной чёткостью и чистотой линий. Красная лента вокруг лба, поддерживающая сзади тяжелый узел великолепных волос, придавала законченность античной причёске, гармонировавшей с её серьезным лицом. Несмотря на столь многие прелести, опыт моих прошлых влюблённостей, слегка обескураживающий, заставлял мое сердце придерживаться платонических взглядов.
В Венеции соседку можно видеть очень близко, когда только ширина улицы отделяет вас от неё; если она красива, её взгляды встречают так часто и так охотно, что знакомство между ней и вами возникает непроизвольно. Одним прекрасным утром вы совершенно поражены, оказавшись осведомлённым о её здоровье, её семье и как она провела ночь. Соседка жалуется на влияние сирокко, и после нескольких незначительных фраз вам становится обидно, что она считает вас неспособным сказать ничего более существенного, потому что она ведь не должна принимать вас за дурака. Именно с этой идеей я однажды спросил молодую женщину, почему она никогда не поёт ничего, кроме этих скорбных арий. Она ответила, что обладает меланхолическим темпераментом и поёт для собственного удовольствия и что только в самой печальной музыке находит утешение своему мрачному настроению. «Но, – сказал я, – Вы молоды, очаровательны, на Вас изысканные украшения, откуда же эта грусть, совершенно не согласная с Вашим возрастом и наполняющая меня удивлением?» – «Если бы Вы были женщиной, – ответила она улыбаясь, – вы бы знали, какое впечатление могут производить на ум женщины жизнь и явления этого мира».
Слегка философический аромат этого ответа задел мое сердце. Благопристойность, серьёзность, честность, хорошее образование этой молодой венецианки поставили её в моих глазах намного выше диких далматинок, которых я знал. Я склонялся к мысли, что моя соседка могла бы стать той простой и добродетельной подругой, которую моя романтическая душа видела в мечтах. Пренебрегая отдыхом, я постоянно возвращался к окну, чтобы затеять какой-нибудь маленький диалог, и, несомненно, у соседки было много белья для шитья, поскольку она не отходила от своего балкона. Чтобы развлечь ее, я говорил с ней веселым тоном, сочетающим метафизику и бурлескные шутки. Мне едва удавалось вызывать у неё незаметные улыбки. Эта серьёзность меня задевала, живость диалогов от этого возрастала. Мы беседовали и рассуждали вместе, и когда я загорался, соседка втыкала иголку в свою работу, слушая меня со вниманием, как если бы я был книгой, трудной для понимания, а потом отвечала кратко, с умом, здравым смыслом и сообразительностью, которые пробуждали во мне надежду и желание. Эти беседы продолжались более месяца, когда однажды молодая женщина, увидев меня, покраснела с встревоженным и недовольным видом. Пока я, как обычно, говорил об общих вещах, она казалась все более тревожной и раздраженной, как если бы ждала от меня некоторых объяснений. Я слишком уважал её, и был слишком мало тщеславен, чтобы подумать, что она ожидает от меня признания в любви; поэтому, не понимая её волнения, я сказал ей, что вижу на её лице озабоченность, которая, по-видимому, делает мое присутствие нежелательным. Я откланялся, собираясь отойти от окна, но она встала со стула и позвала меня обратно. «Постойте, пожалуйста, – сказала она. – Разве вы не нашли два дня назад мою записку, в ответ на письмо, которое вы мне написали, и не получили ли Вы маленький портрет?» – «Какая записка? Какой ответ? Какой портрет? – спросил я удивлённо. – Я ничего не знаю об этом». «О Боже! – закричала она, падая на спинку стула, – горе мне! Меня обманули!» После других восклицаний горя и ужаса прекрасная страдалица немного собралась с духом. «Сегодня, – говорит она с живостью, – мне разрешено поехать в Джудекку, к одной из моих теток, которая находится в монастыре. Приезжайте в двадцать один час на мост Сторто у Санта-Аполлинарио. Вы увидите гондолу у берега, в окне которой будет белый платок. Взойдите на эту гондолу без колебаний, вы найдете меня там. Вы узнаете, какую опасность навлекла на меня моя неосторожность. Будьте моим советником и, если я заслужила ваше сострадание, не отказывайте мне в нём. Я Вас считаю хорошим и мудрым человеком и верю Вам». Сказав это, она исчезла как тень. Я был ошеломлён, ломал голову, не имея возможности что-либо понять, но решил пойти разыскать близ Сторто гондолу с белым платком. Я пообедал в спешке и полетел к Санта-Аполлинарио. Гондола прибыла в назначенное время, я увидел платок и спустился к моей соседке, с одной стороны, будучи рад сидеть рядом с такой красивой особой, а с другой – желая разобраться с таинственной историей записки и портретной миниатюры. Дама была великолепна. Глаза её блестели сквозь черную вуаль. Жемчуга украшали слоновой кости шею, уши и пальцы. Она приказала гондольеру задёрнуть шторы, и мы поплыли к женскому монастырю на Джудекке. Самым нежным тоном, опустив ресницы, моя соседка попросила прощения за то, что меня побеспокоила, и молила не возыметь на её счёт дурного мнения из-за этого свидания, которое может скомпрометировать честную и замужнюю особу. Лишь уважение, которое она испытывает к моему характеру, мои благоразумие и разум смогли побудить её решиться на этот рискованный шаг. «Перейдём к фактам, – сказала она наконец. – Мое замешательство велико, но, прежде всего, вы, наверное, не знаете, что мой муж оказал гостеприимство семье из двух бедных людей, которые занимают на первом этаже нашего дома комнату и кухню?» – «Уверяю вас, – ответил я, – что не знал абсолютно о существовании этих двух людей». Соседка закрыла в отчаянии глаза. «И тем не менее, – продолжала она, – этот человек, который живет у нас, ещё вчера заверил меня, что он ваш друг, что пользуется вашим доверием и, предатель, тайно передал от вас письмо, которое Вы можете почитать». Говоря так, юная дама вручила мне открытый листок с запиской, почерк которой мне был незнаком. Я принялся читать этот клочок бумаги: то была галиматья из пошлых комплиментов, напыщенной лести, глупых гипербол, все смешано со стихами, украденными у Метастазио. В заключение в этом куске элоквенции говорилось, что, будучи влюбленным в свою соседку и не имея возможности жить без нее, я, по крайней мере, хотел бы иметь её портрет, чтобы расположить на сердце это милое изображение, которое послужит бальзамом на раны, причинённые мне Купидоном.
«Возможно ли, – вскричал я, – чтобы Вы, удостоив меня таких любезных оценок за мудрость, осторожность и сдержанность, могли заподозрить меня в авторстве этого глупого вздора?» «Увы! – сказала соседка, – это правда, что мы, женщины, никогда не можем избавиться от тщеславия, что заставляет нас сходить с ума и слепнуть! Негодяй, который живёт у меня из милости, сказал мне сотню других вещей, в дополнение к записке, и я решилась, проявив слабость, дать ему ответ, сопроводив его портретом, украшенным бриллиантами. Я не сомневалась в вашей порядочности; если бы мой муж спросил об этой миниатюре, Вы, я думаю, мне бы её вернули. Итак, вы не получили ни моего ответа, ни моего портрета?» – «Как! – вскричал я, – вы до сих пор считаете меня способным вас обманывать?» – «Нет, нет, – сказала она, – я вижу, что вы на это неспособны. Несчастная! Что я натворила! Моя записка, мой портрет в руках этого человека! А что же мой муж! Будьте милосердны, посоветуйте мне что-нибудь!» Бедный ребенок стал плакать. «Чтобы дать вам совет, – ответил я, – я должен знать, кто эти двое людей, что проживают в Вашем доме, и какие отношения у Вас с ними». – «Я считала их честными людьми, – сказала моя соседка, вытирая слезы. – Мужчина – бедняга, который едва зарабатывает на необходимое, арендуя грузовую лодку. Женщина, хорошее и благочестивое существо, кажется, привязана ко мне, и я привязана к ней. Часто я помогала ей в её нищете, и она выказывала благодарность. Когда она была со мной, я рассказывала ей о некоторых тонкостях домашнего хозяйства, о которых могут судачить женщины, и на незнание которых она жаловалась. Она услышала мою болтовню с Вами в окне, и я терпела шутки на Ваш счёт, признаваясь ей в своей склонности к Вам, с простодушием новобрачной, которая знает свои обязанности и не хочет ими пренебрегать. Женщина посмеялась надо мной и ободрила без увёрток, призвав не беспокоиться. Это все, что я могу сказать об этих людях, и, может быть, вы мне на это скажете, что и это слишком долгий рассказ». Дама опустила глаза с наивной скромностью. «Того, что Вы мне сказали, недостаточно, – повторил я, – потому что вы всё ещё не раскаялись в вашей доверчивости. Эта особа, такая набожная, знала ли она, что у Вас был этот портрет, украшенный бриллиантами?» – «Конечно, я часто его ей показывала». – «Ну что ж! эта добрая христианка сговорилась со своим превосходным мужем, и вдвоём они пустились на этот обман, чтобы выманить у Вас портрет и алмазы. Это простой воровской приём. Беда в том, что эта ловкая пара вовлекла в свой заговор подделывателя надписей, чтобы изготовить это любовное письмо». – «Но что же мне теперь делать?» – «Скажите мне сначала, что за человек Ваш супруг и как вы живете с ним». – «Мой муж любит меня, он относится ко мне хорошо, и мы живем с ним в добром согласии. Он человек суровый и не любит визитов, но когда я хочу уйти из дома, поехать к родственникам или друзьям, он всегда дает мне разрешение». – «Ваша конфидентка, добрая христианка и воровка, знает, что вы мне назначили это свидание в гондоле?» – «Конечно, нет». – «Тем лучше! Не могу отрицать, Ваша неосмотрительность Вас подвела; вот единственное, что, как мне кажется, Вы можете сделать, чтобы уйти от опасности: забудьте про портрет, украшенный бриллиантами, и утешьтесь в этой потере, которая не поддается лечению. Если Вы попытаетесь его вернуть, разоблаченные воры смогут Вам навредить. Если ваш муж узнает об этом портрете, в таких обстоятельствах дама никогда не защищена от того, чтобы вызвать подозрение, горе, гнев, если при этом не найден предмет поисков. Не допускайте, чтобы Вас увидели в окне разговаривающей со мной; доведите до сведения Вашей конфидентки, что Вы изгнали из вашего сердца неподобающую дружбу. Продолжайте поддерживать с добротой отношения с этими двумя мошенниками и постарайтесь не показать ни малейшего недоверия. Если случится, что переносчик фальшивых записок принесёт для Вас новое послание, примите его, но мягко передайте отправителю, что Вы не будете отвечать, что Вы просите меня прекратить мои домогательства, что Вы подумали о своих обязательствах по отношению к мужу и что вы раскаялись в том, что прислали мне портрет. Я разрешаю Вам для этого случая говорить дурно обо мне и даже сказать, что у вас плохое мнение о моем характере. Если негодяй станет защищать меня, покажите себя твёрдой в своем намерении никогда не видеться со мной, дайте, в случае необходимости, несколько монет этому человеку, при условии, что он не будет больше передавать Вам ни слов, ни записок. Вот единственный разумный способ избежать опасности того, чтобы эти негодяи не повредили Вашей репутации и Вашему покою. Я очень удивлюсь, если через несколько дней Вы не признаете, что мои советы хороши».
Мне показалось, что я убедил молодую даму, она обещала в точности следовать моим указаниям и советам, за исключением одного пункта, потому что не смогла бы говорить обо мне дурно, в то время как её привязанность ко мне возрастает. Разговаривая таким образом, мы приплыли к Джудекке; моя соседка подала мне руку со смешанным выражением грусти и скромности, попросив сохранить дружеское отношение к ней и пообещав, что она тоже будет хранить и подтверждать это дорогое для неё чувство без ущерба для приличий. На этом я вышел из гондолы, пересел в другую лодку и вернулся в Венецию, размышляя о любви и об истории, которую услышал.
Глава X Продолжение моей последней любви
Восемь долгих дней прошло без каких-либо новостей о моей красивой соседке. Однажды утром она пришла в свою рабочую комнату и, как только увидела меня, бросила камень, завернутый в бумагу, а затем убежала. Я развернул записку и прочёл такие слова: «Сегодня я выйду после обеда с разрешения мужа. Будьте в обычное время на мосту Сторто, вы найдете гондолу с белым платком. Мне надо с вами поговорить».
Я полетел на свидание. Моя соседка не заставила себя долго ждать. Весёлое выражение, какого я у неё ещё не видел, освещало ее прелестное лицо. Она велела гондольеру отвезти нас сначала на Большой Канал, а затем к Санта-Маргарита.
«По правде говоря, – сказала она смеясь, – я думаю, что вы колдун: все, что Вы предсказывали, произошло». Она достала с груди еще одно письмо, мне неизвестное. Это письмо было написано тем же почерком, что и первое, в том же стиле и составлено в столь же напыщенных выражениях. Этот якобы «Я» благодарил свою соседку за то, что она соизволила подарить ему свой портрет, и клятвенно обещал, что всегда будет носить его на сердце. Он жаловался, что не видит свою повелительницу у окна, но прекрасно понимает, что благоразумие требует от неё жертвы, и смиряется с этим, клянясь ей в вечной верности. Чтобы показать, насколько далеко простирается его любовь и доверие, он рассказал юной даме о некоторых своих коммерческих делишках. Некий вексель, которого он ждёт с нетерпением и который почта никак не может доставить, его беспокоит. Наконец, этот бесстыдный и жалкий «Я» просит даму одолжить ему двадцать цехинов в счёт запаздывающего векселя и клятвенно обещает выплатить эту сумму в конце месяца. Прочитав эту гнусность, я почувствовал, как кровь бросается мне в лицо, но моя соседка, заметив мой гнев, расхохоталась. Я с дрожью спросил, как она отреагировала на эту наглость.
«Точно так, как вы мне посоветовали, – говорит она. – Случай настоятельно потребовал этого. Должна признаться, я говорила о вас дурно, и прошу вас простить меня. Самозванец, озадаченный моим гневом, хотел настаивать, но я заставила его замолчать. Я запретила ему отныне передавать мне сообщения и записки, сказав, что имею твёрдое намерение разорвать все отношения с вами, и вы можете видеть на примере нашего свидания в гондоле, насколько серьезно и бесповоротно отложилось это суровое решение в моем сознании. Но я должна рассказать Вам хорошую новость: мой муж поймал нашего мошенника на воровстве, застав его на месте преступления, когда тот открывал ящик, чтобы вытащить несколько дукатов. Он сразу же указал на дверь вору и его жене. Я выразила некоторое сожаление, говоря в пользу виновного, но так, чтобы муж не вздумал смягчиться. Милостыня сделала меня благословенной для этих негодяев, и семья, наконец, через три дня покинула дом».
«Ну что ж! – воскликнул я, – вот это чудесно. Теперь, если ваш муж спросит про портрет, нетрудно будет догадаться, кто его украл. Я рад видеть Вас, наконец, избавленной от этого затруднения».
– «Увы! – ответила молодая дама со вздохом, – почему у меня нет такого друга, как вы, чья поддержка была бы мне столь выгодна! Какую помощь вы оказывали бы моему подавленному духу! Какое облегчение для моей грусти! Но это невозможно; мой муж слишком неблагожелательно относится к вопросу о визитах. Однако любите меня и считайте, что моё чувство к вам – больше чем уважение. Будьте уверены, что я часто буду искать возможность вас видеть и поговорить с вами, если эти беседы вас не утомят. Ваша скромность, ваши манеры порядочного человека поощряют и успокаивают меня, и чего мне опасаться? Я знаю обязанности замужней женщины, и я знаю, наконец, что я бы скорее умерла, чем их забыла». Гондола причалила в Санта-Маргарита. Я схватил самую красивую в мире руку и хотел было поднести её к губам, но моя чудесная соседка вдруг отдёрнула ее. «Нет, – сказала она, – это я должна поцеловать руку своего наставника и мудрого советчика». Она действительно попыталась взять мою руку, и я в свою очередь отнял её. В этот момент дверь гондолы открылась, и я спрыгнул на берег, в опьянении, в головокружении, в лихорадке, а гондольер увозил мою любовь[20].
«Было бы преступлением, – думал я по дороге домой, – не любить существо столь добродетельное. Вот, наконец, феникс, которого я так искал. О, Дон-Кихот! Как моё молодое сердце похоже на твоё!»
Через несколько дней после этого разговора новый камень, завернутый в записку, прилетел ко мне в комнату и принес краткие слова: «Мост Сторто, гондола… посещение кузины на сносях». Кто бы пропустил свидание? Я не пропустил. Представьте себе, если сможете, радость, бодрость, грацию и живость этого прекрасного ребенка в момент, когда я сел рядом с ней. Наши разговоры были веселые, нежные, сердечные. Мы обменивались чувствами и остроумными замечаниями. Наши ласки не заходили далеко, ограничиваясь пожатиями рук. Между нами не было ни одного слова или жеста, которые могли бы задеть скромность. Мы были безумно влюблены друг в друга, но уважение все еще превосходило любовь. Очень часто повторялись записка на камне, мост Сторто и гондола. С каждым разом моя подруга удлиняла часы, проведенные вместе, и сокращала часы, отведенные для визитов в город. Мы ездили на Джудекку, потом на остров Мурано. Какая-то одинокая беседка из виноградных лоз принимала нас под своей сенью, и мы закусывали, всегда шутя, смеясь, обещая любить всю жизнь, всегда скромные и всегда вздыхающие, когда приходилось расставаться. Таким образом, мы пребывали на самой вершине безупречной страсти. «Вы» заменилось на «Ты», но наши невинные наслаждения все еще состояли в удовольствии смотреть друг на друга, смеяться вместе, сидеть рядом.
Однажды я попросил свою подругу рассказать историю своего брака. «Почему же я не подумала! – она шутливо. – Эта история тебя заинтересует. Ты уже знаешь, что я родилась графиней. У моего отца было две дочери, и я была младшей. Мой отец был мот, он промотал все свое имущество. Не имея больше средств дать нам приданое, он выдал мою старшую сестру за торговца зерном. Купец, пятидесяти лет, влюбился в меня и просил моей руки. Я вышла замуж без отвращения, несмотря на мои пятнадцать лет, потому что знала его как человека доброго и с мягким характером. Уже два года, как я стала его женой. За исключением некоторых причуд экономии он относится ко мне хорошо, содержит в достатке и относится с обожанием». – «И за два года, – спросил я, – у вас не было детей?» Юная дама покраснела и стала серьезной. «Ваше любопытство, – сказала она, – касается предмета моих бед и моей печали, но от такого друга, как Вы, я не могу скрыть свою боль. Знайте, что мой муж чахоточный, осуждён врачами, проводит дни в страданиях, в жару, и, наконец, бедный человек, давно мне не муж. Часто он плачет и просит прощения за то, что загубил мою юность. Я плачу, в свою очередь, над его несчастьем больше, чем над своим. Я пытаюсь внушить ему иллюзии относительно выздоровления, которое на самом деле невозможно. Он преподнес мне в дар восемь тысяч дукатов. Он осыпает меня подарками: иногда это цехины, золотые медали, а иногда кольца, алмазы, ткани, красивые платья, и он говорит мне без конца: «Отложи это в сторону, дочь моя, ты скоро станешь вдовой. Ты будешь наслаждаться лучшей жизнью, и ты забудешь время этого рокового брака». Такова история, что вы хотели знать». Эти честные чувства увеличили мое уважение, и я с восхищением любовался в моей подруге одновременно добродетелями Лукреции и Пенелопы. Наша платоническая любовь поддерживалась в течение шести месяцев; это вдохновило меня на написание сонета и большого количества песен, к которым моя возлюбленная сочинила музыку и которые она часто пела, открыв свои окна, так что голос её долетал до меня. В её пении были звучание и душа оперной певицы.
Должен ли я рассказать, как наша любовь из небесной стала обычной? Нет, читатель легко представит, что между молодым человеком и красивой женщиной семнадцати лет, до безумия влюбленных друг в друга, добродетель не всегда может сохранять свою бдительность. За шестью месяцами, посвященными Платону, последовали еще шесть месяцев, посвященных философии более чувственной. Но довольно: опустим занавес над моими ошибками.
Моя любовница появилась однажды в своем окне с очень грустным лицом. Я спросил о причине её горя. Она рассказала мне, что ее муж приближается к смертельному кризису. Врачи прописали ему воздух Падуи. Молодая женщина, обязанная присматривать за некоторыми семейными делами, остаётся в Венеции в компании старой служанки. «Друг мой, – сказала она со слезами на глазах, – я наверняка стану вдовой через несколько дней. Женщина моего возраста в этом государстве не может жить в одиночестве, предоставленная сама себе. Дом моего отца – мое единственное убежище, но отец человек дурного нрава, по уши в долгах и не щепетилен, он растратит мое состояние и нищета присоединится к вдовству. У меня один ты в этом мире, кому я могу доверить то, что у меня есть. В шкафу свалена добрая сумма денег, мои драгоценности, одежда; сделай мне одолжение взять все это на сохранение, иначе мой отец, полный рвения защищать свои интересы, все растратит в течение нескольких месяцев. Ты любишь меня, ты придёшь мне на помощь в этих прискорбных обстоятельствах». Я понимал, что этот дискурс вёл кружным путем к замещению одного мужа другим. Я отказался от брака из-за большого количества детей, которыми были обременены мои братья. Добровольный отказ от сладостей супружества еще мог бы сделать меня дядей – благодетелем для этого заброшенного потомства. Я рассматривал как преступную слабость идею отказа от своего решения, доведения до нуля бедной собственности Гоцци, и добавления к толпе детей этого имени банды маленьких кузенов, которым суждено жить в нищете. Но, с другой стороны, я страстно любил эту молодую женщину. Я обязан был ей признательностью и, несмотря на её ошибки, которым я был причиной, я считал её добродетельной, способной сделать меня счастливым и сделаться прекрасной и верной женой. Если бы я отказался от нее в тот момент, когда вдовство принесло в наши отношения невинность и свободу, высокие чувства, охватывавшие нас, оказались бы ложью. Я краснею, вспоминая о некоторых фразах, некоторых восклицаниях, вылетевших из уст моих, но моё ужасное трусливое отступление нельзя отрицать. Что подумала обо мне эта честная душа, видя меня убегающим от своего счастья и с нахмуренным лбом принимающим возможность связать себя с ней навсегда? Какое мнение может у неё сложиться о самозванце? Я говорил ей о честности, делая из неё преступницу, и возврат к чистоте привёл бы к разрушению нашей любви! Имел ли я право разбить её сердце потому лишь, что я был беспощаден к себе? Такое варварство недостойно благородного человека. Кроме того, моя любовь возрастала с каждым днём, и будущее мне представлялось полным очарования рядом с такой женой. Жребий брошен! – воскликнул я, надо жениться.
И я бы в самом деле женился, если бы не ударила внезапно молния Юпитера, разрушив все мои грезы и низвергнув меня, как Фаэтона, с сияющего Олимпа в земную грязь, куда я погрузился позорно по уши.
Глава XI Конец моей последней любви
Божественный Платон, как же всегда омывался я в чистых водах твоей философии! Удар молнии, разрушивший одновременно обе мои любви – эфирную и чувственную, – не разбил моё сердце; только один человек оказался в результате распростертым в грязи земной. В глазах своих читателей я буду всё-таки выглядеть простаком, но простаком незапятнанным.
Один из моих далматинских друзей, занесённый в Венецию судьбой, неожиданно явился однажды утром ко мне, как с неба свалился, и попросил приюта на несколько дней. Случайно он вошел в мою рабочую комнату в момент, когда я перекидывался словом со своей хорошенькой соседкой. Он сразу же стал выдвигать всякие предположения и шутить по поводу моей оконной любви и красоты моей любовницы. Я пытался сохранять серьёзность, я восхвалял мудрость и безупречную скромность молодой женщины, уверяя, что никогда не ступал и ногой в дом соседа, что было правдой. Мой друг, умный, тонкий, хорошо разбирающийся в природе прекрасного пола, пожал плечами и сказал, что он прочитал всё, что я хотел скрыть, по моим глазам и по глазам дамы. «Ты, – добавил он, – превосходный друг, искренний и верный, но в любви ты бываешь смешным, слишком заботясь о скромности. Между нами тут не должно быть секретов. Всё, что я знаю, я готов рассказать тебе, а ты манкируешь дружеским доверием, скрывая этот любовный пустяк».
«Прошу тебя, – строго ответил я, – изгнать из головы эти несправедливые подозрения. Я не имею никаких тайных отношений с этой дамой, но чтобы доказать тебе мою искренность, я скажу, что если бы я любил эту достойную особу, я бы скорее вырвал язык, чем выдал такую тайну. Честь женщины должна храниться в скинии, а обязанности дружбы не могут призывать к легкомыслию, безрассудству и предательству. Это касается и друга, усматривающего обиду в соблюдении тайны». Мы обсудили все плюсы и минусы этого вопроса. Я остался твёрд в своих заповедях, и мой друг посмеялся надо мной, говоря, что я выражаюсь как в старом испанском романе. Продолжая рассуждать, он выжидал возможность увидеть красивую соседку. Она подошла к окну, и мой друг сказал мне: «Раз ты не влюблён в эту даму, ты не сочтёшь дурным, если я с ней поговорю».
Этот дьявол в человеческом облике обрушил на мою возлюбленную водопад болтовни, неумеренной лести по поводу ее шарма, прелестей и грации и, чтобы достигнуть большего своей лестью, превозносил свою дружбу со мной. Послушать его, мы были как два брата. Мое удивление было велико, поскольку я видел свою любовницу слушающей эти истории с сочувствием, с улыбкой на губах, отвечающей живо и даже фамильярно. Я был охвачен ревностью, но продолжал изображать безразличие со смертью в душе. В довершение мук я знал, что у моего замечательного друга золотое сердце, он верный товарищ, услужливый и честный во всём, кроме как в отношении женщин. С этой стороны я знал его как пирата, и самого упорного, самого активного из когда-либо бороздивших моря Венеры. Он был старше меня, намного опытнее, хорош собой, ловок, решителен, с хорошо подвешенным языком; было отчего дрожать от страха.
Два или три раза этот проклятый человек занимал такими диалогами мою любовницу, никогда не забывая упомянуть о братской дружбе, объединяющей нас. Наконец, через четыре дня пират собрался уезжать, к моему большому удовлетворению, как вдруг однажды он подходит к окну, показывая соседке ключ от ложи: «Не хотите ли, – говорит он, – пойти вместе с нами сегодня вечером в театр Сан-Лука посмотреть комедию? Вы мне кажетесь печальной, прогулка и спектакль пойдут вам на пользу». Женщина отказывается, но слабо. Он настаивает и вскоре зовёт меня на помощь, умоляя убедить соседку, чтобы она оказала нам честь своей компанией. Моя любовница смотрела на меня с видом, который ясно означал: «Что ты об этом думаешь?». Чёртов друг уставился на меня, чтобы помешать мне подать ей знак отрицания. Я был в замешательстве, попав в ловушку. Тем не менее, я рискнул сказать, что синьора осторожна, и если она отказывается, на это, вероятно, есть веские причины. «Как! – воскликнул мой друг, – у тебя хватает смелости оставить её скучать и грустить! Разве мы не порядочные люди, которым женщина может доверять?» – «Этого я не могу отрицать, – сказал я». – «Ладно, – говорит моя кокетка решительно, – я подожду молодую женщину, которая приходит каждый вечер составить мне компанию, пока моего мужа нет дома, мы пойдём с вами двумя, в масках. Ждите нас на углу этой улицы, через два часа после «Анжелюс». – «Браво! – воскликнул мой друг. – Нам нужно сегодня повеселиться. После спектакля мы пойдём в остерию ужинать».
Я был скорее мертв, чем жив, но по-прежнему продолжал изображать равнодушие. «Возможно ли, – думал я, – что всего за несколько мгновений добродетельный человек меняется от белого к черному и становится столь легкомысленным? Возможно ли, что одной этой беседы для вновь прибывшего человека оказалось достаточно, чтобы увести у меня любовницу, столь высоко мной ценимую, так меня любившую и серьезно думавшую стать моей законной женой?» Слова были сказаны, сказанное должно было совершиться; в назначенный час две маски спустились на улицу. Мой друг бросился к руке моей любовницы, как сокол на свою жертву, и я остаюсь в распоряжении компаньонки, упитанной крупной блондинки, около которой я казался мальчиком. Рядом я видел друга, говорившего тихим голосом что-то на ухо моему кумиру, с жаром, приводящим меня в ужас, с бесконечным изобилием слов, сопровождаемым пожатиями и вздохами. Я задыхался от горя, затем мой гнев обратился в горечь и я вскричал мысленно: – «Посмотрим, позволит ли соблазнить себя эта столь чистая героиня! Да, хотел бы я, чтобы она поддалась его красоте фата и обаянию мужчины!» Придя в театр, мы вошли в ложу. Блондинка раскрывает большие глаза, слушает пьесу и остаётся неподвижной, как статуя. Пират ни на мгновенье не даёт передышки моей любовнице и продолжает шептать ей на ухо, я уж не знаю, какие зажигательные предложения, которые смущают её до того, что она меняется в лице. Я притворяюсь дураком, сосредотачивая внимание на комедии, которая кажется мне нескончаемой. Наконец занавес падает, мы идем в трактир Луны, все время в том же порядке. Обед не был заказан. Нам открывают комнату, приносят свечи. Мой разбойник-друг держит руку моей любовницы и ходит с ней взад и вперед, изливая ей на ухо потоки слов, из которых я, будучи в ярости, не слышу ни словечка. Прогуливаясь с ними вместе слева направо, от одной стороны в другую, я вижу их вдруг выходящими из нашей комнаты и заходящими вдвоём в соседнюю, где я заметил мимоходом плохонькую кровать. Такая наглость меня поражает. Тучи накрывают мою жизнь. Сердце мне отказывает. Я падаю почти без сознания на диван, на котором сидит кума блондинка. Мы остаемся в молчании в течение доброй четверти часа – она немая по своей природе, а я немой из-за чрезмерной боли. Через пятнадцать минут бесстыдная пара покидает проклятую комнату в значительном беспорядке, в котором я ясно читаю своё несчастье. Виновная осмеливается подойти ко мне с весёлым видом и любезно протянуть мне свои порочные руки. Непроизвольным движением я грубо отталкиваю ее. Моя любовница смущена и обижена, друг удивлен, кума блондинка распахивает свои большие глаза, я преодолеваю свое негодование, словом, мы все четверо являем собой смешную картину. Я оборачиваю свой гнев против хозяина трактира, который не несёт ужин. Слеза скользит по продажной щеке неверной. Трактирщик приходит и выставляет на стол плохое рагу. О, Фиест![21] Я понял весь ужас праздника, который готовит тебе твой брат, когда ты пробуешь вкус мяса своих детей! Мы были словно под пыткой, кроме кумы блондинки, которая пустила в карьер свой аппетит. Я критиковал комедию, из которой не слышал ни одной сцены, со строгостью, в которой чувствовалось раздражение моего рассудка. Мой друг-предатель опускает голову, немного устыдившись своего неблагопристойного поведения, но поглощает ужин, не выказывая неудовольствия, медленно опускает в карман свою дрожащую руку; я осушаю свой бокал, надеясь, что вино отравлено.
Трактирщику заплачено, мы уходим. Мы доводим дам до их дверей, и я могу, наконец, произнести «Спокойной ночи», которое заканчивает эту отвратительную вечеринку. Едва закрылась дверь, мой друг поворачивается ко мне и смотрит мне в лицо с невероятной наглостью: «Это твоя вина, – говорит он. – Почему же ты отрицал то, что я видел? Почему ты притворялся равнодушным, когда ты влюблён? Если бы ты доверил мне правду, я бы проявил уважение к твоей любовнице. Это твоя вина». «Я сказал правду, – ответил я ледяным тоном, – но добавлю кое-что не менее верное: моя соседка согласилась сопровождать нас, потому что я поручился ей за твою деликатность, и ты обманул нас обоих. Не говори мне больше о дружбе: ты играл мной, заставив меня исполнять недостойную роль». «Эти возражения, – воскликнул он, – имеют не больше веса, чем твои романтические рассуждения. Женщины – капризные демоны, и радость, которую мы от них получаем, не имеет ничего общего с дружбой. Почему ты придаешь им в своём воображении возвышенный блеск, украшающий этот изменчивый пол? Во всех женщинах, холодных, страстных, целомудренных, благоразумных, я нахожу одно и то же; немного сноровки мне достаточно, чтобы победить. Я пользуюсь их непостоянством; когда они мне не поддаются, я перепрыгиваю через канаву страсти там, где ты бредешь неуклюже, как верный пастырь».
«Прекрасно, – ответил я; – барану, в своих любовных связях с овцами из отары, не хватает лишь дара речи, чтобы выразить чувства, сходные с твоими».
«Ты ребенок. Годы научат тебя лучше знать эти почитаемые божества. Я лучше разбираюсь в этом, чем ты. Но кума блондинка не лишена прелести; должен наступить и для неё свой черед. Завтра я пойду к ней, чтобы попытаться произвести осаду, и я поделюсь с тобой успехом».
«Иди, куда хочешь, и оставь меня в покое».
Он пошел мечтать о своей куме блондинке, а я пошел, снедаемый змеями ревности и гнева, которые не давали мне спать до утра. Как будто судьба захотела сделать для меня еще более горькой и унизительной потерю иллюзий, мой друг потерпел полную неудачу со своей кумой. Погубитель моей любви нашел в этом незначительном существе тигрицу и покинул Венецию в ярости, неся на лице следы своего поражения, выгравированные целомудренными и дурно ухоженными ногтями.
Моя гордость заявляла мне, что я не должен никогда больше видеться с любовницей. Но стоило лишь вспомнить о её милом облике, наших поездках, стольких сладких моментах, мое сердце смягчалось и просило дать отдых от потока упреков. Эти противоречия доставляли наибольшие страдания, и я был близок к тому, чтобы действительно стать несчастным человеком. Отвратительная картина падения моего кумира, возвращаясь мне на ум, возбуждала во мне ненависть, и это стало средством, способным меня вылечить. Грусть лечит более глубокую грусть.
Прошло десять дней, я все еще не был готов вновь увидеть причину своего страдания, когда услышал, как в моей комнате прокатился камень – носитель нашей переписки. Я подобрал его, не показываясь. Я открыл письмо и нашел в нём самое странное оправдание, которое женщина может привести: «Ты прав, – говорила мне красавица, – моя ошибка непростительна. Я не претендую на то, чтобы искупить её десятью днями беспрерывных слез. По крайней мере я могу плакать вполне свободно и вполне оправданно, потому что мой муж умер в Падуе. Прости меня боже, что не все мои слезы были для бедного мужа! Но я дважды виновата, перед ним и перед тобой, и я внушаю себе отвращение за это двойное преступление. Твой друг – демон, который меня околдовал. Он говорил, что страдает, несчастен и связан с тобой нежной дружбой. Он заверил меня, что ты одобришь, если я соглашусь доставить ему миг утешения. Это кажется невероятным, но я клянусь тебе, этот человек так закрутил мне мозги, что я думала проявить доброту безо всяких последствий. Я пала, не сознавая, что делаю, и рассудок вернулся ко мне слишком поздно, когда я находилась уже на дне пропасти. Оставь меня в моём позоре, покинь несчастную, недостойную тебя. Я заслуживаю, чтобы умереть в отчаянии. Это моё прощанье, страшное прощанье навсегда».
Положение молодой вдовы вызывало во мне жалость. Я хотел бы предложить ей советы и помощь друга, но это значило бы подвергнуть себя опасности снова стать её любовником, и ни за что на свете я не хотел бы вновь подпасть под власть человека, которого моя философия и моя деликатность представляли мне как существо низкое. Я одержал победу над своим сердцем. Я не хотел ни отвечать на письмо, ни видеться с неверной. Однако в один прекрасный день я встретился на улице со знакомым священником. «Я иду, – сказал он, – исполнить долг соболезнования к молодой женщине, вашей соседке, которая льёт вдовьи слезы. Помогите мне в этом благом деле». Случай был заманчивый. Я проводил священника. Мы нашли скорбящую вдову бледной и томной. Я дал ей советы по поводу её дел, в то время как добрый священник расточал утешения, пригодные для всех и никого не утешающие. Меня взволнованно и растрогано поблагодарили за мою доброту, мое сердце было готово растаять, но я уцепился за одежду священника и вышел с ним, в противном случае моя слабость снова погрузила бы меня в рабство.
В другой раз, это было через месяц, работница, кроившая мне камзол, встретила меня на улице, сказав, что потеряла мои размеры. Я пошел к ней. Я очутился в комнате, где встретился лицом к лицу с моей неверной, в трауре. Андромаха, оплакивающая Гектора, была менее красива, чем эта очаровательная женщина. Она, краснея, поздоровалась со мной. «Я бы не осмелилась, – сказала она, – пытаться Вас увидеть, если бы не одно важное дело: богатый купец попросил меня выйти за него замуж. В моих глазах не существует судьбы более счастливой, чем жизнь с таким другом, как вы. Я не достойна такого счастья. Я не буду пытаться преуменьшить свою вину, приписывая её вашей непредусмотрительности или предательству того, кто назывался вашим братом, и я хочу остаться единственной виноватой, но я считаю своим долгом сообщить Вам о возникших обстоятельствах. Скажите, как мне вести себя дальше: я подчинюсь». «Дитя моё, – ответил я, взяв ее за руку, – ваше горе проникает мне в душу, ваше предложение меня трогает. Отнесём к несчастной случайности роковую развязку нашей любви, не спрашивая, какая из сторон неправа или проявила неосторожность. Я долгое время живу с разбитым сердцем, не думайте, что всё это мне безразлично, но, как я себя знаю, я не смог бы в будущем смотреть на Вас прежними глазами. Наш союз породил бы двух несчастных. Пользуйтесь полученным уроком. Укрепляйте Ваш разум и остерегайтесь соблазнов. Выходите замуж за Вашего купца; оставайтесь ему верны и будьте счастливы».
Молва донесла до меня, что моя бывшая подруга жила хорошо, что она вела жизнь мудрой и верной жены. Надо ли сказать? Я не был рожден, чтобы быть галантным с женщинами. Мои завоевания не могут быть историей триумфов, поскольку у меня нет ни славы, ни удачи. Мой метафизический склад ума не особенно нравится представительницам прекрасного пола и, поскольку я решил не вступать в брак и моя третья любовь умерла, я решил теперь относиться к женщинам как наблюдатель, а не как влюблённый. Впоследствии моя театральная карьера вовлекла меня в интимные отношения со множеством актрис, красивых, молодых, опасных; я был их другом, и в этом простом звании я проводил долгое время с ними восхитительные часы. Женщины являются тем, что из них делают: связь с честным человеком делает их честными; можно только пожелать, чтобы развращенный человек встретил немного больше трудностей в повреждении их природной хрупкости и податливости. Мужья, которые не занимаются воспитанием жен, заслуживают своей судьбы, когда с ними случается что-нибудь дурное. Не то чтобы красавицами легко управлять: мои беды тому доказательство. Я был настолько неуклюжим любовником, что сделался бы, наверное, неуклюжим мужем. Для успокоения совести, однако, достаточно, что я никогда не затуманивал женщинам мозги софизмами, провоцирующими рассуждениями, направленными на разрушение их принципов, их скромности и их религии.
Глава XII Набросок моего портрета. Литературная перестрелка
Читая историю любви, я непременно представлял героя красивым, хорошо сложенным и самым любимым в мире. Спорю, что многие люди думают, как я; тогда, если у меня есть тщеславие, я должен был бы, рассказав о своих сердечных слабостях, ничего не сказать о своей внешности. Читатель, чтобы представить меня достойным любовником красивой любовницы, должен наделить меня замечательной фигурой, изящной осанкой, изысканными манерами и, особенно, изысканным туалетом. Но мое молчание будет расценено как попытка обмана, поэтому я должен говорить. Во время моего пребывания в Далмации я был так молод, что мой рост еще не достиг максимума, что позволило мне играть женские роли в импровизированных комедиях. После возвращения в Венецию я не мог больше представлять горничных с такой же убедительностью. Вот каким мужчиной увлеклась моя очаровательная соседка из Санта Касьяно. Мой рост велик: я чувствую это по количеству ткани, необходимой мне на плащ, и по большому количеству ударов, которые получает моя шляпа, когда я прохожу через низкие двери. У меня всегда было немного лишнего веса. Я иду с рассеянным видом, нос склонён к земле, и я не знаю по большей части, куда ставлю ногу. Мое лицо, на мой взгляд, ни красиво, ни уродливо: я, впрочем, гляжу на него очень редко, охотно отхожу от зеркала. Полагаю, что я не горбатый, не хромой, не кривой и не косой. Если бы я имел один из этих недостатков или даже все сразу, я перенёс бы это, не теряя своего хорошего настроения. Если меня видят иногда в платье по моде, в этом виноват мой портной. Джузеппе Форначе, который одевает меня в течение сорока лет, может подтвердить, что я никогда не беспокоил его по поводу моей одежды. Я надеваю, не глядя, то, что он дает мне, поскольку доверяю ему; но я особенно ненавижу одежду грязную, в пятнах и изношенную, какую носит простонародье. Моя причёска не менялась с 1735 года до 1780-го, хотя мотылёк моды менялся сто раз; я никогда не поддавался его капризам и постоянно причесан на один фасон. Вы скажете, что это героизм; ничуть: это беззаботность в отношении причёски. Я никогда не обновляю пряжки моих туфель, разве лишь когда они ломаются, и, если модель бывала то овальной, то квадратной, это было решением ювелира, который, в своей предусмотрительности, заботился снабдить меня пряжками возможно более хрупкими, чтобы я возвращался в его лавку чаще. Мечтатели, лелеющие в голове некие фантазии, имеют дурную привычку хмуриться, что придаёт им вид суровый, угрюмый или гордый. Очевидно, что я человек весёлый: мои сочинения это доказывают; но, не знаю, как это получается, множество мыслей всегда одолевает мою голову. Иногда это семейные дела, иногда мои процессы, аргументы, которые я подготавливаю, неблагоприятные жизненные обстоятельства, о которых надо подумать, или, наконец, мои поэтические композиции и мои комедии. В результате я попадаю в число этих самых мечтателей, всегда рассеянных, потупившихся, бормочущих бессвязные слова; это, в добавление к моей медленной походке, молчаливости, к моей склонности к уединенным прогулкам, доставляет мне славу человека нелюдимого, а может быть и злого. Увидев меня, блуждающего по глухим закоулкам города, угрюмого, озабоченного, с опущенными глазами, меня можно заподозрить в намерении кого-то убить, меж тем как я мечтаю о своей комедии «Зелёная птичка». Я бы не был до конца уверен, что я не дурак, дураки никогда не знают, что они эти самые и есть, но, по крайней мере, мои безумства бывают кратковременными, а длинные и цветистые речи часто утомляют больше, чем лаконичная глупость. Что до моего характера, эти Мемуары сделают его достаточно понятным.
Может ли заинтересовать читателя, что я думаю о себе? Однако есть важный момент, по которому я не хочу, чтобы меня неправильно поняли: у меня были процессы, но я не сутяжник; я упорно защищал лишь наследственное имущество моих братьев и мое, и я не скупой. Я презираю алчность, и если я не щедр, то только из-за нехватки денег. Если бы я был богат, я был бы другим человеком; я не могу сказать, как это изменило бы мой характер. Поток комедий и стихов, что вышли из-под моего бедного пера, мог бы принести большие прибыли, но по большей части я отдавал их даром комедиантам и в библиотеки. Когда моя мать вошла во владение наследством своего дяди Тьеполо, я почувствовал большое облегчение, и мне стало столь же мало заботы о моих интересах, насколько упорно я защищал их ранее. Поскольку я писал сатиры, мне претит жить в роскоши за счет пороков и нелепостей, с которыми я боролся. Мои друзья часто высмеивают эту щепетильность, но это сильнее меня. Кроме того, в Италии наихудшее из ремёсел – это быть поэтом на жалованьи у комедиантов. Его работы критикуют, к нему придираются, его попрекают жалованьем, если его дарование ослабевает. Его изнуряют и, в случае успеха, пускают в галоп, как почтовую лошадь. О! Аполлон! Охрани поэтов от такой ошибки! У галерника на цепи, у носильщика, сгибающегося под тяжестью ноши, осла, избиваемого палкой, положение лучше, чем у поэта на жалованьи. Несчастный становится машиной, которую используют в течение нескольких лет, а затем – это бесполезный камень, который выбрасывают с поля, нищий, которому кидают милостыню с большей неохотой, чем душам мертвых, которым, однако, не нужно одежды для спасения от холода или еды – от голода. Поскольку такому количеству театральных пьес, в большинстве своём переданных комедиантам бесплатно, за двадцать пять лет, удалось полностью сохранить свою злободневность или свою бесполезность, что бы стало со мной, боже мой, если бы я писал за жалованье! Не принимайте меня за гордеца: если бы мы имели Меценатов, защитников литературы Италии, я принял бы от них пару щедрот без возражений, при условии, что это предложение было бы сделано с деликатностью. Но вместо жалованья, вместо пенсионов и пожертвований я бы предпочел, чтобы черти, духи и прочие потусторонние невидимые враги человека, оставались запертыми в горшке, куда их заключил царь Соломон. К сожалению, ученые нашли горшок и сняли крышку. Отсюда происходят все мои неприятности.
После моего грустного разрыва с прекрасной соседкой я долго болел, в чем сыграло не последнюю роль мое горе. Мой врач и природа победили недуг; первый, как обычно, приписал себе честь выздоровления, осуществленного усилиями второго. Возвращаясь к жизни, я думал о совсем других вещах, а не о любви. Превратности нашей слабеющей литературы причиняли мне беспокойство, по-настоящему нежное, как у сына по отношению к матери. Я имел слабость огорчаться при виде пропасти, в которую падала итальянская поэзия, основанная в тринадцатом веке, поднявшаяся в четырнадцатом, ослабевшая в пятнадцатом, вновь зазеленевшая, помолодевшая и восстановленная в шестнадцатом с помощью целой плеяды знаменитых писателей, испорченная в семнадцатом и, наконец, разрушенная, развращенная в наше время теми воспаленными умами, извращенными и амбициозными, которые хотят любой ценой сойти сегодня за оригиналов. Эти еретики проповедуют крестовый поход против почтенных отцов итальянской литературы, они отвращают молодежь от культа традиций и простоты. Им удалось, опираясь на призрак моды, склонить к экзальтации бесчисленное количество молодых талантов, способных к добротной работе, и я имел глупость из-за этого разозлиться.
Моя вторая слабость состояла в том, что я враждебно воспринял варварский жаргон, принятый во всех новейших литературных писаниях, напыщенный язык, разукрашенный во имя торжества стиля, и упадок нашего родного гармоничного языка. Раздутость мыслей и чувств сквозит в выражениях, она опирается на невежество писателей и укрепляется им, потому что невежество обладает привилегией создавать свой невероятный язык, не чувствуя к нему отвращения и сбывая его с поразительной наглостью.
Моя третья слабость состояла в том, что меня приводило в ярость исчезновение, вместе с чистым тосканским языком, разнообразия стилей. Все принимало тот же цвет и тот же чудовищный стиль, надутый, с претензией на возвышенное. Будь то проза или стихи, материя сложная или обиходная, серьезная или шутливая, богословский трактат, мадригал, акростих или галантная записка – у всего была одинаковая окраска. Я знаю, что бесполезно пытаться сохранить литературу в условиях, когда она, к сожалению, деградирует. Если общественный вкус подвергся порче, его не вернешь на путь истины, вот почему я называю свое негодование слабостью. Ядовитые семена идей, отравляющих все мозги – это убийцы нашего прекрасного языка. Некоторые люди, эрудированные и ревностные, разделяли мой страх и моё разочарование. Между собой мы присвоили необычайному пустословию новейших произведений название литературы самозванцев, и название было правильным: этот фальсифицированный товар был не более чем обман. Для того, чтобы об этом говорить и вместе защищаться от лжи, мы задумали писать самим и оборонять наше дело от самозванцев. Вы увидите, как я взял на себя почин. Мы можем похвастаться тем, что приостановили падение литературы, но надо признаться, в настоящее время зло осталось не вылечено и окончательное исцеление может произойти лишь с течением времени.
В 1740 году в Венеции по прихоти образованных людей была учреждена шуточная академия. Эта академия посвятила свою деятельность поклонению чистому языку и простоте, следуя по стопам синьоров Кьябрера, Реди, Дзени, Манфреди, Лацарини и многих других храбрых реставраторов стиля, противников чумы напыщенности и иносказательности. Под шуточным названием академии Гранеллески, она маскировала с помощью гротеска своё намерение привить молодежи вкус к хорошим вещам. Чтобы изгнать пышность и педантизм, эта ученая и забавная компания избрала в шутку президентом старого дурака по имени Иосиф Секеллари, до безумия влюбленного в стихи, чье творчество пользовалось большим успехом у насмешников. Люди достойные выбрали своим главой этого странного маньяка с целью лучше продемонстрировать свою литературную простоту. Синьор Секеллари под раскаты смеха был единогласно избран Президентом, и торжественно получил звание Архигранеллоне. Он серьезно согласился со званием и смешным прозвищем; его тщеславие вызвало много рифмованных комплиментов, которыми чествовали его коронацию и которые он принял как похвальные слова, хотя это были едкие насмешки. Его троном, поднятым на возвышение и покрытым пологом, служило кресло, купленное по случаю; сидя на нем, Секеллари воображал себя знаменитым кардиналом Бембо[22]. Только он имел привилегию быть осыпанным неистовыми аплодисментами, когда читал некую рапсодию, и эти триумфы, окончательно утверждавшие его в идее собственного превосходства, помогали сохранять мистификацию вплоть до его смерти. В летнюю жару простые академики лакомились мороженым, но Президенту подавалась на подносе чашка горячего чая. Зимой пили кофе, но президент получал стакан ледяной воды, и эти различия приводили в восторг доброго Гранеллоне, гордого своими мифическими привилегиями. Шутки, объектом которых служил Президент, бывали бесконечны, но лишь когда хотели немного развлечься на его счет, в основном же занимались вещами полезными и серьезными. Делали разбор новых работ, высказывали критические замечания, придерживаясь правил мудрости и беспристрастия, читали стихи, похоронные речи, статьи, биографии и т. д., и автор каждого произведения слушал с благодарностью замечания и рекомендации своих собратьев. Затем мы консультировались с Гранеллоне, чье абсурдное мнение вызывало смех, смягчая строгость предыдущей критики. В заседаниях преобладал замечательный дух беспечности, скромности и коллегиальности. Мой брат Гаспаро, который был одним из самых уважаемых членов Академии, предложил мне вступить в её ряды, и я отдал себя под его покровительство. Некоторые из членов академии подписали мою рекомендацию. Я упомяну только самые известные имена: два брата Фарсетти, Себастьян Кротта, Паоло Бальби и Николо Трон – патриции Венеции и хорошие писатели; каноник Росси, аббаты Теста, Керубини, Делука, Мартинелли и Мандзони, уважаемые историки, критики и книголюбы, граф Кампосанпьеро и Марк Форселлини – ученые археологи, и т. д. Эти высокоученые умы доходили в своих шутках до того, что писали письма Председателю с поздравлениями от имени Фридриха Великого, короля Пруссии, Султана, святой Софии, Иоанна Крестителя и других властителей.
Каждый из членов был официально удостоен прозвища, и я был назван Солитарио[23] из-за своей рассеянности и любви к заброшенным уголкам. Из недр нашей академии вышли добротные разборы новых работ, легкие поэмы, сатиры, портреты, эпиграммы, и во время выборов дожа, прокурора Св. Марка, Великого Канцлера или какого-либо сановника наши стихи «по случаю» всегда имели определенный успех. Публике нравились наши предупреждения, суждения и критика, она смеялась над ними, но не меняла своего дурного вкуса, потому что мы не смели достаточно сильно ударить по литературным самозванцам.
Нельзя отрицать силу воздействия слова на простые умы, не способные рассуждать. В ходу было одно модное выражение, имевшее странный отрицательный смысл и предлагавшее врагам науки и любой трудной работы очень удобный механизм разрушения: это слово «предрассудок». Все, что противостояло распущенности нравов, разрушению языка, разорению искусств и литературы, называлось предрассудком. Это ужасное слово, пришедшее из недр Франции, где оно служило военным кличем для широких кампаний, прибыв в Италию, изменило своё значение и стало в устах самозванцев способом заткнуть рот здравому смыслу и разуму. Кричат о предрассудках в отношении законов, удерживающих женщин в рамках приличия и семейных обязанностей, кричат против самых священных обязанностей, против морали, против приличий, просвещения и всякого рода тормозов, которые общество должно противопоставить человеческим страстям под угрозой скорейшего распада. Для декламаторов, ничтожных рифмоплётов, ораторов, не владеющих красноречием, невежд, бесталанных изготовителей комедий, опровергающих правила искусства, образцы вкуса, традиции, грамматику, словарь, рефлексию, естественность, учёность и умеренность, все эти понятия – предрассудки, достойные безоговорочного проклятия! И, невероятное дело: едва заслышав это слово, самые смелые опускают голову и пускаются в бегство.
Одним из тех, кто злоупотреблял самым наглым образом этим модным выражением, был иезуит Хавьер Беттинелли, поддержанный некоторыми из своих учеников. Эта клика, действительно довольно ученая, чтобы быть вредоносной, наделенная достаточным талантом, чтобы быть завистливой, достаточно амбициозная, чтобы хотеть поджечь храм Дианы, объявила войну всему, что было признано до неё. Они высмеивали Данте, Петрарку и Боккаччо. Они назвали предрассудком и малодушием уважение к этим великим именам и, соответственно, именовали гениальным, независимым, полным силы и оригинальности все, что ранит здравый смысл. Нашу Академию сердили дерзости падре Хавьера. Она изучила его труды и установила, что этот новый гигант, эта яркая комета был не более чем рабским подражателем Буало и некоторых менее известных французских авторов. Мой брат Гаспаро опубликовал «Защиту Данте», глубина и красноречие которой мгновенно поразили группировку иезуита. Утверждалась новая литература. Каждый день появлялись многочисленные сочинения, большие или малые, полные преувеличений, неестественные, изломанные, напыщенные, полные ложных сантиментов, вычурных мыслей, неприличных картин, непристойных выражений, замаскированных компиляций, и всё это сопровождалось необоснованными претензиями на серьезность и реализм. Это стало как привычка, как безосновательно приобретенная популярность, вроде той, которую получает вдруг недавно открытое кафе, магазин, куда толпа ломится, не зная почему, как модное гуляние по пощади без единого деревца, где бомонд притворяется, что ищет прохлады. Пристрастие ослепляло умы, аплодировали по привычке и из-за безразличия, и больше не различали хорошее от плохого. Напыщенность, грохот, мрачность завелись во всём, чистоту стали принимать за слабохарактерность, здравый смысл за бессилие и естественное за неаккуратность.
Самым больным и наиболее пораженным гангреной органом нашей литературы был театр. Мода подняла на пьедестал и провозгласила превосходными двух писателей-плагиаторов необычайной плодовитости – Карло Гольдони и аббата Пьетро Кьяри. Эти два поэта, конкурирующие и критикующие друг друга, затопили город Венецию трагикомическими драмами, бесформенной кучей переводов и награбленного добра, и ошеломленная молодежь подпала под влияние этих демонов бескультурья. Наша компания Гранеллески единственная смогла избежать общего увлечения и убереглась от чумы гольдонизма и кьяризма. Наша академия не желала показаться несправедливой и осуждать противника, не выслушав, как часто поступают литературные общества, теряя свой престиж и делая свои сентенции ничего не значащими и смешными. Мы отправились в два театра, где терпеливо выслушали множество творений, и сразу же отметили различие между Гольдони и Кьяри. У первого был талант, достойный внимания, в то время как второй был жалким бумагомарателем. Оба пользовались равным влиянием. Мое собственное мнение об этих двух поэтах таково: Гольдони был изобретателен, обладал определенной, порой естественной, но плохо направляемой силой духа, смутным инстинктом правды, но рабски и грубо копировал природу, не опираясь на искусство; его язык тривиален и полон двусмысленностей, его характеры слишком шаржированы, его плохое образование, нечистый стиль сделали репертуар его комедий своего рода каталогом каламбуров, розыгрышей и низких и неправильных выражений из нашего жаргона. Впрочем, в его пользу говорит то, что его фарсы написаны легко и на диалекте; вопреки складу своего ума, он хочет быть ученым, человеком философской системы, он выдвигает свои доктрины, посылая к черту предисловия и поддерживая новые теории, заставляющие музы содрогаться. Кроме комедии «Ворчун-Благодетель», сыгранной в Париже после бегства из Венеции, во всем его огромном ворохе пьес нет ни одной, какую стоило бы отметить, но также ни одной, которая бы не содержала известных комических черт среднего качества. На мой взгляд, этот поэт, с инстинктом хорошей комедии, стал посредственным автором из-за отсутствия культуры, благоразумия и особенно из-за фатальной необходимости производить больше, чем он может, находясь на жалованьи у комедиантов, которые требовали от него по шестнадцать новых пьес в год. Что касается Кьяри, скажу откровенно, что он был надутый педант, шагающий в своих семимильных сапогах[24], болтливый, многословный, нравоучительный, тёмный, неясный и скорее астролог, чем комический поэт. Его творения представляли собой плохо скроенные сцены тошнотворного стиля. Публика была сбита с толку модой, не делая никаких различий между двумя писателями, столь далекими друг от друга. Восхищались и кустиком и грибом, не замечая их несоразмерности, до такой степени венецианская молодёжь потеряла всякую способность суждения! Эти спектакли внушили мне жалость к бедной венецианской молодежи, и, как честный врач, я подумал о том, как бы прописать ей горчичники, способные пробудить от опасной летаргии, в которую погрузила её опиумная литература гольдонистов и кьяристов.
Глава XIII Война объявлена. Разгром Гольдони и Кьяри
По своему характеру и по привычке, без всякой цели, я постоянно обдумывал стихи; поэтому не удивительно, что размышлял я и о литературном упадке нашей эпохи и о порче, наведенной на итальянский театр. Я сложил для нашей шуточной Академии небольшую поэму на тосканском языке, озаглавленную «Тартана пагубных влияний»[25], отточенную по стилю, подражающую старым образцам, в особенности знаменитому Пульчи[26]. Я представил в этой поэме, как тартана с грузом чумы вошла в порт Венеции и повсеместно распространила зловредное влияние, вызывающее помутнение умов у жителей. Древний флорентийский поэт, тёмный и сегодня забытый, по имени Бурчиелло[27] был капитаном тартаны. Он сделал венецианцам предсказания, которые легче объяснить, чем предсказания Нострадамуса. Он предсказал успех плохих произведений, появление большого количества сценических снадобий, заимствованных из зарубежной литературы, варварское использование разрушительных теорий в драматическом искусстве. Популярные адвокаты, эмансипированные женщины, а также модные поэты получили лишь лёгкие удары тростью, но Гольдони и Кьяри были объявлены капитаном Бурчиелло бичами заразы.
Академики Гранеллески весьма одобрили «Тартану», и я передал ее нашему ученому собрату Даниэлю Фарсетти, который попросил у меня рукопись. Конечно, я не предполагал, что шутка наделает шума в Венеции. Общественный переполох показался мне чрезмерным, Гольдони – слишком мастером своего дела, и я ожидал только лёгких аплодисментов от нескольких умных людей со строгим вкусом. Даниэль Фарсетти тем не менее, не сообщив мне о своем плане, послал рукопись «Тартаны» в Париж, где её напечатали. Типографские экземпляры прибыли в Венецию утром и оказались к двум часам распространёнными по всему городу, перелистывались, читались вслух в кафе. Я стал предметом оживленных споров. Некоторые яростно ополчались против меня, другие одобряли, смеялись над шутливыми предсказаниями Бурчиелло. Гольдони, помимо своей драматической плодовитости, располагал в своём организме каким-то мочегонным, под воздействием которого производил ежедневный дождь небольших поэм, песен, экспромтов, растекавшихся мутными и пошлыми ручьями, как из плохой прачечной. По случаю возвращения ректора Бергамо[28] он опубликовал сатирические терцеты, чтобы опровергнуть Бурчиелло и «Тартану». Введенный гневом в заблуждение, он назвал мою книжонку пеной, змеиной слизью, собачьим воем, невыносимой чушью. Он соизволил сравнить меня с завистником, беднягой, который тщетно ищет удачи, и наградил другими куртуазными выражениями. Между тем известный критик Лами в флорентийской газете расхвалил «Тартану», цитируя многочисленные фрагменты из неё. Ученый отец Калогера, издававший свой журнал итальянских записок, адресовал мне в своём ежемесячном мемуаре лестное одобрение, поощряя и дальше преследовать разрушителей нашего прекрасного языка. Моя поэма была востребована, её экземпляры стали большой редкостью; публика сначала колебалась, а затем как будто электрический ток прошел через Венецию – о ней дискутировали, как будто это происходило в древних Афинах. Я никогда не помышлял вызвать серьёзную битву, но оказался втянут в неё помимо своей воли. Гранеллески приказали мне ответить либо признать поражение от терцет Гольдони, так что я ответил, с ещё большим упорством и силой. Гольдони и Кьяри немедленно напали на меня в своём театре в прологах к своим пьесам. Эта игра раззадорила меня, была объявлена война, и два мои оппонента, которые воображали уже лёгкую победу над никому неизвестным противником, слишком поздно раскаялись в своих безрассудных провокациях.
Одна из стрел, которые Гольдони посылал мне ежедневно, содержала два стиха, неплохо скроенных, в которых он заявил: «Тот, кто критикует без оснований и не поддерживает своих предложений аргументами, поступает подобно собаке, что лает на Луну». Я в ответ написал стихотворение, озаглавленное «Предложение и Аргумент». В этой брошюре я вообразил, будто наша академия Гранеллески встретилась в один из прекрасных дней Карнавала за обедом в гостинице Пеллегрино, из окон которой открывается вид на площадь Сан Марко. Глядя с высоты балкона на переодетых людей, наши академики видят проходящую маску с четырьмя разными лицами. Монстр входит в гостиницу и, заметив меня, хочет бежать, но я прошу его остаться, говоря, что моя «Тартана» выдвинула предложение, которое я сегодня поддержу требуемыми аргументами. В монстре с четырьмя лицами подразумевался Театр Гольдони. Я вступал в персонифицированный диалог с упомянутым театром.
Я указывал своему оппоненту, что он заслужил свои первые успехи и заработал свою репутацию, дебютируя с действительно итальянскими комедиями, в сопровождении характерных персонажей и импровизированных интермедий, но что вскоре, как неблагодарный сын, предал и разорил мать, исключив национальные персонажи, импровизацию и тосканский язык.
Мое второе предложение, поддержанное аргументами, было таким: «После разрушения комедии дель-Арте, которая составляла честь нашего театра и принадлежала исключительно Италии, вы заменили её слезливой и беспородной драмой, противной гению нашей страны».
Третье предложение: «Вы выдвигаете как лучший и самый правильный этот слезливый жанр, который, наоборот, не базируется ни на каких правилах или традициях. Когда вы пишете комедию – произведение, где больше всего нужны стиль и чистота, – вы используете диалекты Кьоджи или Мурано, языки варварские, мало известные и полные вульгаризмов, что входит в противоречие с вашей претензией реформировать и упорядочить наш театр. Вы не предлагаете душе ничего, кроме этих диалектов, и, говоря о возвышении комедии, вы её принижаете, вы тащите её в трактиры, притоны, кафе, рисуете картины, исполненные правды низкой и вульгарной».
Четвертое предложение, поддержанное аргументами: «Покидая притоны и перекрестки, вы ведете нас в ложный мир, мир рыданий, где говорят напыщенно, волнуются неестественными страстями, которым ни один зритель не находит отзвука в своём сердце; вы используете мартеллианский стих[29], пригодный лишь для трагических героев, и вкладываете этот торжественный ритм в уста бедных буржуа, носящих бриджи и башмаки с пряжками, что утомляет и производит впечатление ужасного несоответствия».
Пятое предложение, самое полное из всех в отношении аргументации: «Характерные персонажи нашей национальной комедии были вытеснены из вашего репертуара под тем предлогом, что у них нет благородства, скромности и благопристойности, но вы ввели на их место эти отвратительные лица! Да ваши персонажи во сто крат менее благородны! Они наносят больший ущерб порядочности и скромности! Ваш театр – это рассадник сквернословия, грубых двусмысленностей, вредных правил и пагубных чувств, которые протаскивают разврат под покровом сентиментальности и со слезами на глазах просят прощения за слащавый порок».
Шестое предложение, основанное на очевидных фактах: «Ваши пошлые жанровые пьесы, написанные на диалекте, – вашего собственного изобретения, в то время как ваша комедия, слезливая и, так сказать, правильная, полностью заимствована из иностранных творений, поэтому то, что вы выдаёте за новое, – из старейшего в мире. Италия, у которой есть свой собственный театр, не поставляет больше идей для других стран, и ей не остаётся более ничего другого, как жить за счет своих соседей, что отодвигает её в последние среди наций ряды в области литературы».
Седьмое предложение: «Поддерживая свою работу, вы представили амбициозную теорию, в рамках которой вы злоупотребляете именем Мольера, чтобы навязать всем молчание и уважение; но, говоря о Мольере, вы следуете по стопам третьеразрядных его эпигонов и представляете нам пьесы, которые повергли бы в ужас этого великого поэта, которые и сам Детуш не осмелился бы одобрить[30]».
Четырехликий монстр отстаивал свои лучшие достижения. Его четыре челюсти открывались одновременно, чтобы осыпать меня оскорблениями и гордо гримасничать, но на его животе можно было видеть пятый рот, из которого раздавался голос совести, и этот печальный глас плакал, признавая, что я был прав. Моя брошюра о Предложении и Аргументе только разозлила противника. Аббат Кьяри и Гольдони удвоили свои сатирические выпады против меня, и, поскольку их прологи повторялись каждый вечер перед двумя тысячами человек в двух театрах, Сан-Сальваторе и Сан-Джованни-Кризостомо, их удары разили сильнее, чем мои. Вместо того чтобы нападать на меня одного, они насмехались над всей академией Гранеллески и рекрутировали каждый раз сотни распространителей своих идей. Они имели глупость насмехаться над чистым тосканским языком и выступали за использование вульгарных диалектов, что поразило всех мало-мальски образованных людей; между тем народ шел толпой в их театр и их эпиграммы очень забавляли партер.
В то время существовала бесподобная труппа превосходных актеров, не оценённая по заслугам: это была компания Сакки. Глава труппы, старый Сакки, игравший отлично Труффальдино, Фьорилли, неаполитанец, полный огня и юмора, исполнявший роли Тартальи; Дзанони, в амплуа Бригеллы, и венецианец Дербес – неподражаемый Панталоне. Эти четыре актера, придерживаясь задуманной канвы, импровизировали одновременно на сцене самые комические фарсы и были способны вызывать самые непосредственные отклики и взрывы смеха. Никогда наша национальная комедия дель-Арте не была в лучших руках, чем эти. Эти бедные люди когда-то играли в зале Сан-Самуэле. Появление Кьяри и Гольдони и мода на слезливый жанр разорили их театр, так что им пришлось эмигрировать, чтобы искать успеха в Португалии. В результате землетрясения Лиссабон оказался в руинах. Труппа в слезах вернулась в Венецию, как раз в разгар моей распри с Гольдони. Я послал стихи Сакки, поздравив с возвращением и попросив его возвратить в свою страну национальную комедию. Между тем Гольдони в очередном прологе направил мне вызов – представить, наконец, какую-нибудь пьесу. Наши Гранеллески, прибежав в поту в академию, заявили мне, что честь нашего сообщества задета этой провокацией. Больше не было пути к отступлению; абсолютно необходимо было ответить, причем иным способом, чем брошюры и аргументы. От меня ждали попытки. Прибытие Сакки и его превосходной труппы предоставило мне уникальную возможность. Я должен был смутить самозванцев, против которых ополчился. Четырёх дней оказалось мне достаточно, чтобы написать аллегорическую сказку на сюжет литературной ссоры, волновавшей публику. Я знал, к кому обращаюсь: у венецианца прекрасный вкус. Гольдони усыпил это поэтическое чувство, искажая наш национальный характер; необходимо было разбудить его. Я смело заявил, что моя пьеса будет детской сказкой. Вот её сюжет: Тарталья, одна из классических масок комедии дель-Арте, которая представляет персонифицированно народ, – сын короля бубен. Бедный молодой человек умирает от скуки и тоски, сраженный слезливыми драмами, надоевшими переводами, отравлен самозванцами и отупел из-за разговоров на вульгарных диалектах. Он забыл свой родной язык. Хроническая летаргия держит его в постоянной дремоте. Единственные признаки жизни, которые он ещё проявляет, – это зевота, вздохи и слезы. Король бубен Труффальдино в отчаянии, советуется со своим министром Панталоне и его ближайшими советниками Бригеллой, Леандро и т. д. Одни предлагают администрат опия, другие – вливание мартеллианских стихов; кто-то – экстракт модных теорий или трагикомический отвар; но Коломбина уверена, что все эти ужасные специфические средства лишь усилят летаргию. Спрашивают оракул, и божество отвечает, что принц вылечится, когда удастся заставить его засмеяться. Король открывает перед народом двери своего дворца. Танцуют перед глазами больного, совершают тысячу безумств, пытаясь его развеселить, но он лишь вытягивает в изнеможении свои онемелые члены и опускает голову на грудь. Старая женщина, пользуясь предоставленным всем свободным доступом во дворец, подходит к фонтану. Панталоне и Бригелла начинают дразнить эту женщину, донимая ее своими шутками. Старуха поднимает палку, чтобы побить злых шутников, но падает навзничь и разбивает свой кувшин. Падая, она задирает ноги, сын короля разражается смехом и внезапно полностью выздоравливает. Между тем старуха, которая была не кем иным, как злой Феей Морганой, поднимается и в ярости бросает страшное проклятие: «Принц, – говорит она, – излечился от своей летаргии. Слезливые драмы, переводы, катастрофические теории и самозванство не имеют больше влияния на него, его ум свободен от ядов, но сердце его будет больным и он не будет больше знать отдыха, пока не овладеет тремя золотыми апельсинами. Потому что его будет пожирать любовь к этим трем апельсинам!» – «Ну что ж, – отвечает Панталоне, – отправимся на поиски трех апельсинов». И после этого аллегорического пролога начиналась настоящая бабушкина сказка, в которой феерии, поэтические ребячества и игра воображения мешались с намеками, из которых одни злые – против Кьяри и Гольдони, другие сентиментальные – об упадке национальной комедии и неблагодарности публики к Сакки и его компании. Когда я дал прочесть этот проект в Гранеллески, академиков одолел страх. Они отговаривали меня представлять эту шутку, которая неизбежно будет освистана. Поставить её означало столь грубо задеть привычки и вкусы партера, что разгром казался неизбежным; но я доверял Сакки, Дербесу, Фьорилли и Дзанони, очаровательным актерам, одаренным гением комического в редкой степени. Я не хотел отступать. Однажды утром афиша объявила об открытии Театра Сан-Самуэле и возвращении импровизированной комедии феерической пьесой «Любовь к трем апельсинам».
Наша академия, напуганная моей неосторожностью, не смела идти на представление. С первой сцены публика, с жадностью следящая за всеми намеками, показывала некоторые признаки удовольствия. Четыре характерные маски, особенно Труффальдино и Панталоне, проявляли живость, изящество и невероятный блеск. Сакки, действительно тронутый, был счастлив, и благодарил партер тоном упрёка так уморительно, что его горести были оплачены бешеными аплодисментами. Я должен был принять объятия Гранеллесков и самого Архигранеллоне.
Гольдони и аббат Кьяри, скорее разозлённые, чем удивлённые, обрушились на меня с бранью в своих прологах, но было слишком поздно: удар был нанесен. «Нужно, – произнес актёр в театре Сан Сальваторе на следующий день, – нужно кое-что еще, кроме бабушкиных волшебных сказок, чтобы быть поэтом; нужны комедии, а не детские сказки». Однако публика хорошо прочувствовала, что в детской сказке было больше поэзии, чем в слезливых картинах трагикомической драмы. Враждебная партия оказалась мертва раньше, чем осознала эту пагубную правду. Вся Венеция хотела увидеть новую пьесу, и теперь, следовательно, клевета, рассуждения и аргументы были бесполезны. Увидев меня, выскочку, внезапно в положении, когда единственным способом урегулировать спор явился опыт, где единственным высшим судьёй была публика и единственный законный приговор – успех, Гольдони и Кьяри задрожали. Еще один опыт, и этот вопрос мог бы быть решен.[31]
Чудо было завершено моей второй пьесой. «Ворон» – сказка, посвященная детям, большим и малым, и украшенная характерными интермедиями для исцеления ипохондриков, следовала сразу за «Любовью к трем апельсинам». Эта пьеса была представлена двадцать раз подряд при огромном стечении зрителей. Это уже была не просто канва для импровизаций, как первая пьеса: я взял на себя труд написать её свободным стихом и наметить сюжет импровизированных сцен. Мои четыре маски превзошли сами себя в веселье. Газеты изволили серьезно рассмотреть это произведение и отметить наличие плана, а также моральной цели.
Поскольку железо было горячо, надо было его ковать. Моя третья сказка «Король-олень» была встречена с ещё большим одобрением, чем две предыдущие. В ней находили философские намеки и скрытый смысл, адресованные королям, чего сам я не обнаруживал; такова была теперь уверенность в глубине моего ума! Я узнал из публичных выступлений, что поставил перед глазами монархов мира истинную картину их слабостей, из которой они должны извлечь важные уроки.
Мои противники не обладали таким добросердечием. В гневе они надрывали глотки, твердя, что успех моих пьес основан на феерии, на театральных эффектах, превращениях и использовании театральных машин и ни в малейшей степени не на достоинствах стиля, версификации, интересном сюжете, моральных устремлениях или каких-то удачных аллегориях. Итак, я решил написать пьесу, лишенную этого театрального реквизита и машинерии, которым приписывали мой успех. Моя комедия «Турандот», полностью лишенная оптических иллюзий, успешно ответила на эти атаки, и молчание моих врагов было красноречивым признанием их поражения. «Турандот» – моё наиболее тщательно написанное творение, то, которое я считаю лучшим. Я могу сказать это без особого тщеславия, поскольку заслуга здесь принадлежит очаровательной персидской сказке, откуда я взял сюжет. Сакки и его комическая труппа прилепились ко мне и смотрели на меня как на Бога. Со своей стороны, я относился к ним очень по-дружески. Прежнее увлечение творениями Гольдони и Кьяри существенно снизилось. Уменьшилась выручка в Сан-Сальваторе и в Сан-Джиованни Кризостомо, в то время как в Сан-Самуэле каждый вечер все места были заполнены. Эти факты говорили сами за себя. Вскоре дезертирство стало неудержимым. Грубые драмы Кьяри игрались в пустом зале. Актеры, разочарованные, просили для прокорма сказок и феерических комедий. Бедный Кьяри не знал, что делать. Он покинул своё место и отправился в Америку, справедливо полагая, что Труффальдино и Панталоне не последуют за ним так далеко. Гольдони сопротивлялся дольше. Он смог бы, без сомнения, разделить со мной популярность, отказавшись от своих жалких схем, но его самолюбие слишком бы пострадало, перейди он на жанр, который так резко критиковал. Он потерял уверенность в себе и покинул Венецию, направившись в Париж, где итальянский театр приходил в упадок. Он его там и прикончил. Я один остался владеть территорией. Труппа Сакки, оказавшись востребованной, стала первой, самой богатой и самой любимой из трех комических трупп, и предоставляю вам судить, стал ли я самым обожаемым, ласкаемым, ублажаемым актёрами, молодыми и старыми, актрисами, прекрасными и уродливыми; но что я говорю? уродливых среди них не было.
Глава XIV Жизнь артиста. Зарисовки кулис
Полагаю своим долгом описать некоторые особенности компании Сакки, с которой я жил в добром согласии двадцать пять лет.
Комедианты не скрывают своих страстей и не окутывают свои характеры пеленой условностей, как это делают светские люди. Я наблюдал их так близко, что читал каждый день всё, что скрыто в глубине их сердец. В попытках их изучить мне пришлось бы вложить в уста каждого из них чувства в соответствии с его характером, слова в согласии с его складом ума. Семеро из них были гении нашей национальной комедии, и мне досталась счастливая участь восстановить с ними этот несправедливо забытый жанр. В результате компания Сакки обрела славу и большой финансовый успех. Актеры этой труппы отличались добродетелями, достаточно редкими среди комедиантов. В их среде царила атмосфера порядочности, что позволило мне теснейшим образом связать с ними свою судьбу. Их единство, их послушание, их нравы, по крайней мере по виду, правила для женщин никогда не принимать подарки от галантных молодых людей, некоторые проявления благотворительности, свидетелем которых я был, располагали меня в их пользу. Когда актриса становилась объектом скандала, они собирались, чтобы обсудить ситуацию, и, если случай бывал сочтён серьезным, актриса изгонялась из труппы, независимо от таланта. Я не ханжа и не слишком придирчив во взаимоотношениях с другими; я дружил с самыми разными людьми, но никогда не согласился бы на фамильярные отношения с аморальной компанией комедиантов, я ни за что не стал бы видеться с ними за пределами театра и я не любил бы их, как любил это веселое сборище, которое оказало мне честь, нарекая званием попечителя труппы. Кто смог бы сосчитать огромное количество прологов и эпилогов в стихах, которые я передал им, а они читали при открытии или в конце каждого сезона? Эти комплименты на публике по отношению к молодым дебютантам! эти моления, изливаемые свежими и трепещущими губами! эти вставные песенки для артистов с голосом! Сколько весёлых глупостей вставлял я в их роли, великий боже! Сколько исчерканных листов бумаги! монологов, отчаянных восклицаний, угроз, упреков, молитв, серьезных нравоучений, моральных уроков, нежных или страстных речей, шуток, нелепостей, чудовищных глупостей – все для того, чтобы добиться этой так страстно желаемой награды – аплодисментов! Сколько сыновей я воспитал! сколько опекунов обманул! сколько устроил свадеб в финальных сценах! Меня всегда выбирали в кумовья при крещении, при благословении, обручении, приглашали свидетелем при рождении. Скольким маленьким пострелятам я крёстный! Я был советником, арбитром, посредником, близким другом, судьёй, поэтом, спасителем, всегда с удовольствием и всегда с шуткой. Все молодые девушки в труппе желали сыграть хорошо и добиться успеха, им нужно было помочь, научить, и как они прислушивались к моим мнениям! Я учил их языку, хорошему произношению; они показывали мне свои письма, украшенные самыми невероятными орфографическими ошибками, и я терпеливо их исправлял. Летом, когда обычно все покидали Венецию, почта несла мне каждый день мешок писем, весёлых, сердитых, иногда нежных. Они приходили из Милана, Генуи, Турина, Пармы, Мантуи, Болоньи. Они спрашивали у меня совета, делали меня участником своих ссор, зависти и любовных интрижек. Я отвечал всегда, иногда сурово и по-отечески, иногда сердечно, а иногда резко, чтобы пробудить их сознание, потому что переписка – очень полезное упражнение для актрисы.
Ошибается тот, кто думает, что можно жить среди актрис без любовных отношений. Для того, чтобы добиться чего-либо от этих бедных девушек, надо любить их или хотя бы притвориться. Это способ их воодушевлять, направлять, вести их к добру, воспитывать их чувства и развивать их таланты. Через любовь их можно потерять или возродить. Они замешаны на любовном тесте. Едва они теряют молочные зубы, любовь становится их поводырём: они замечают её издалека и следуют за её факелом в потёмках своего детства. Я достаточно наблюдал эти слабые и интересные существа, чтобы знать, что в отношении любви известная строгость компании Сакки существовала лишь на словах. С актрисами слово «дружба» – из сказочного репертуара, оно подразумевает слово «любовь», если не углубляться в нюансы, а когда речь идёт о дружбе между женщинами, это всего лишь обманные маневры и поцелуи Иуды. Однако я подтверждаю как честный свидетель, что актрисы нашей компании заводили любовные отношения осмотрительно, достойно, без скандала и никогда не вмешивали в них низменный интерес. В большинстве комических трупп актрисы без стыда применяют уловки, достойные осуждения; обирают молодых людей, живут за их счет, не краснея, и язык немеет от их непередаваемого цинизма. Есть за кулисами два одиозных выражения для обозначения их плутней: одно словцо – «развести», что означает ловко вынудить поклонника сделать подарок, другое словцо «лопух», что означает дурачок, простофиля, бескорыстный воздыхатель, над которым смеются и которого разоряют. В компании Сакки эти позорные слова были изгнаны из словаря, и никогда, насколько мне известно, такие вещи не практиковались в театре Сан-Самуил. Эти бедные девушки любили инстинктивно, по склонности или следуя примеру своих родителей. Они поощряли энтузиазм бескорыстных почитателей, чтобы иметь друзей в зале и срывать аплодисменты. Они старались выйти замуж, чтобы оставить сцену, которую все актрисы якобы ненавидят, но которую никогда не могут заставить себя покинуть; и в ужасе, с которым они говорят о профессии актрисы, опять видна комедия. Мои закулисные любовные интрижки всегда были не более чем разговорами, поединками остроумия, шутками, которые меня забавляли. Я любил всех этих молодых актрис, ни к одной из них не проявляя слабости. В своем стремлении блистать и выдвинуться они смотрели на меня, как на звезду, от которой зависит их триумф или их провал. Это соперничество, в котором я играл свою роль – в их интересах, на благо труппы и для успеха моих пьес – выворачивало их мозги наизнанку, поскольку они хотели завоевать моё сердце. Некоторые охотно сделали бы из поэта мужа, но у меня было достаточно порядочности, чтобы не внушать им на этот счёт никаких иллюзий. Несколько раз я становился объектом гнева, ссоры, зависти и даже слез, и эти реальные события, смешиваясь со сценами, которые игрались тем же вечером, терялись в театральной перспективе.
Во всех городах, где группа проводила весну или лето, те же бури повторялись для других влюблённых. По возвращении в Венецию, к осени, дождь писем, получаемых от заграничных влюблённых, наглядно подтверждал ту истину, что постоянство действительно не является самой прекрасной добродетелью актрис. Видя столько присылаемых записок, я проявлял любопытство; меня заставляли немножко попросить, а затем удостаивали доверия. Сообщали с гордостью, что эти письма были написаны поклонниками из хороших семей, богатыми, с серьезными намерениями. Это были хорошие партии – кавалеры из Турина, Пармы, Модены, горевшие желанием жениться. Бедные молодые люди сталкивались, к сожалению, с препятствиями: они ожидали смерти отца или матери, или дяди, чтобы сделать её женой, но счастливый момент свободы не замедлит настать в ближайшее время, поскольку эти несносные персонажи были при смерти от туберкулеза, апоплексии или водянки. Итак, чтобы лучше доказать мне, насколько основательны были эти надежды, они давали мне письма, и пока я их пробегал, смотрели на меня снизу, чтобы увидеть на моем лице какие-нибудь знаки ревности. Мое лицо не выдавало никаких чувств. Я советовал плутовкам отбросить в сторону романтические химеры, отвлекающие их от занятий; я призывал их прежде всего работать и ждать, пока не явится некий талантливый молодой актер, чтобы умножить племя хороших комедиантов. Часто я разрушал их иллюзии, диктуя им срочные и категоричные письма, в которых влюбленный иностранец ставился перед необходимостью объясниться. Будущий муж ничего не отвечал, и ошибка становилась очевидной. Они говорили мне тогда, что настоящее чувство они испытывали только ко мне, что другие мужчины чудовища и лжецы; но эти горькие разочарования доставляли лишь двадцать четыре часа меланхолии. У нас было слишком много работы, чтобы скорбеть.
Я сказал, что добрая гармония царила в компании: разумеется, я имел в виду, что актрисы ссорились, рвали друг друга в клочья, бросались взаимными обвинениями, приходили ко мне на суд, я винил всех, и воцарялся мир; но если я видел кого-то обиженным, я немедленно бросался на его защиту, заставляя замолчать несправедливость. Некоторые удачные роли в моих сказках доставляли этих бедных девочек прямиком на небеса. Какие обещания, какое счастье, сколько признательности и что за излияния радости и нежности! Признаюсь, при виде их, таких счастливых, таких взволнованных, мое сердце не раз трепетало; я хвалил их страстно, с воодушевлением. Бывали небольшие законные ошибки, вызванные слишком страстными словами, вырывавшимися у меня; но на следующий день, когда опьянение от представления исчезало, мой здравый смысл и моё хладнокровие оказывались сильнее. Оскорбленное самолюбие превращало этих агнцев в фурий, а потом они смеялись и прощали меня, желавшего быть только поэтом и другом. Горе мне и всей труппе, если я не любил всех одинаково!
Молодые актрисы все превзошли по шесть толстенных книг об искусстве любви, не считая Овидия, поэтому порядочному человеку очень трудно было жить с ними, постоянно быть их советником, их конфидентом, причиной их успеха и не натворить, в конце концов, одну из тех благоглупостей, которые свет осуждает. Я говорю «глупости», чтобы соответствовать общепринятому языку, потому что мои наблюдения о воспитании этих юных девиц убедили меня, что найти добродетельную женщину среди комедианток не легче, чем в частных семьях. Общественное мнение недостаточно философично, чтобы признать истинность этого утверждения, а общественное мнение надо уважать, даже если оно ошибочно. Мой темперамент, мой страх перед цепями любого рода, мой опыт, сострадание, которое я всегда ощущал, внимательно наблюдая за человеческим родом, и мои тридцать пять лет, ибо я уже достиг этого почтенного возраста, были верными советниками, которые предохраняли меня от вышеупомянутой благоглупости.
Наделяя моих актрис равной долей дружбы, я должен был установить разные степени протекции. Часто актрису, которую преследовали и считали неспособной, я поддерживал за достоинства, не принимая во внимание интриги и зависть. Я видел, что все эти молодые девушки выходят замуж одна за другой – благодаря успеху и аплодисментам – единственно с тем приданым, что я им предоставлял. Со всеми, кто выходил замуж, я сразу прекращал всякие шутки, чтобы дать пример должного уважения к серьезным брачным отношениям. Что касается мужчин нашей комической республики, они всё свое внимание употребляли на то, чтобы избавить меня от скуки или неприязни. Они упрашивали меня не придавать значения малым страстишкам, легким интрижкам, профессиональной зависти, тщеславию и претензиям, которые исходили из воспалённого воображения их жен. Я политично отвечал, что суета и интриги вызывают у меня отвращение и никогда не отдалят меня от их компании, как это представляется женщинам, но я могу изменить свое мнение, если увижу мужчин, впадающих в ту же ошибку. Таким образом, одна половина труппы избегала причуд другой половины. Я проводил сладостные часы досуга среди этого живого люда, остроумного, весёлого и милого. Я вкушал там приятное спокойствие, и моё самолюбие бывало часто польщено при виде почтенных людей, уважаемых персон, знати и дам из высшего общества, ищущих моего внимания и часто посещающих компанию Сакки, отдавая ей предпочтение перед другими труппами актёров.
Некоторые люди имеют непреодолимое предубеждение против комедиантов: я не хочу высмеивать их предрассудки, не говоря уже о тех, кто предпочитает свой круг, клубы и кафе. Чтобы не возбуждать их гнева суровыми истинами, я прошу лишь их подумать и снисходительно учесть разнообразные способности и вкусы человечества.
К чёрту так называемую культуру, которую захотели внести в нравы театра! Это она испортила и разрушила понемногу нашу разновидность семейной комедии. Принятие большого числа актёров на жалованье для использования в специальных амплуа уничтожило также и дух коллективизма. Каждый начал изучать роль и работать сам по себе, в своей собственной манере, вместо того, чтобы способствовать общему успеху. Единство, которое существовало, по крайней мере, в теории, разрушалось, и в конечном итоге все проиграли. Ещё не настал момент, чтобы рассказать об этих печальных изменениях. Я сделаю это в свое время и в том месте, где расскажу также о событиях, наглядно продемонстрировавших мне верность дружбе и добрую волю моих протеже.
У всех в головах имеются свои естественные болячки, от которых ни опыт, ни размышления, ни время не могут нас исцелить: за двадцать пять лет моей комедийной жизни я оказывал компании Сакки множество любезностей и добрых услуг, доходя при этом до глупости и самообмана, будучи не в состоянии исправиться. Я исповедовал ненависть к лицемерию; те, кто со мной знаком, знают, что эта ненависть искренняя. Однако могу заметить, при соблюдении приличий, проявляя твёрдость и не нарушая обычаев, которые по существу и не следует затрагивать, наша труппа процветала; наоборот, независимость, потеря человеческого уважения и новые теории превратили эту республику в Вавилонскую башню. Увы! Я с горечью наблюдал этих бедных людей, следующих от богатства к бедности, отрекающихся от родителей и друзей, расходящихся, подозревающих друг друга, становящихся непримиримыми врагами, несмотря на мои усилия их объединить, пока, наконец, испытывая отвращение к их разброду и слабоумию, не пришел к жестокой необходимости отойти от них в сторону, как будет далее рассказано в этих Мемуарах.
Глава XV Мои опрометчивые поступки по отношению к королю духов
Публика своенравна. Как только я водрузил свой маленький революционный флаг, произведения Кьяри, которые нравились публике последние десять лет, превратились в то, чем они были со дня своего рождения, – в бесформенные чудовища. Творения Гольдони заслуживали большего уважения, но с ними обращались не лучше. Нашли, что все эти комедии похожи друг на друга. В них обнаружили вялость, бедность идей и сотню других недостатков, о которых раньше и не помышляли. Гольдони, говорили они, ничего не придумал, его котомка была пустой. Таким образом, свет переходит от одной крайности к другой, и в несчастье моих оппонентов я нашел предупреждение для себя самого. Правда в том, что повальное увлечение Кьяри и Гольдони, принципом которых была вульгарная легкость, должно было разделить судьбу всех чрезмерных увлечений. В Италии любого модного комического поэта, обласканного благосклонностью публики, с неизбежностью ждёт падение, как Гольдони, если у него нет в запасе чрезвычайного резерва и определенной игривости. Надоедает его манера и стиль, надоедает, наконец, всегда слышать его имя. Первый, кто появится с видимостью новизны, произведёт революцию и заставит мгновенно забыть прежнего фаворита. Больше не восхищаются ни талантом, ни солидной или поверхностной эрудицией поэта; его рассматривают как источник временного развлечения, и в один прекрасный день его покидают, не называя причины. Венеция является самым переменчивым из всех городов нашей переменчивой страны. Действительной причиной проигрыша Гольдони была его слишком большая плодовитость. Он получал от комедиантов по тридцать цехинов за каждую свою пьесу, независимо от того, аплодировали ей или нет. Я отдавал Сакки свои первые вещи даром, и эти бесплатные капризы воспринимались лучше, чем платные произведения. Другая столь же фатальная причина была не столь лестна для моего самолюбия. Если бы я согласился слушать Сакки и его труппу, мои поэтические вены были бы быстро истощены от кровопускания. От меня просили шестьдесят пьес в год, как от бедного Гольдони, но я благоразумно остерёгся такой чрезмерной плодовитости. Я давал не более одной или двух комедий каждый театральный сезон. Этого было достаточно, чтобы поддержать судьбу моих подопечных и сохранить благосклонность завсегдатаев театра Сан-Самуэле.
Несмотря на такое решение, мода завела нас дальше, чем я рассчитывал. За моими первыми четырьмя волшебными сказками последовали ещё шесть других, самыми успешными из которых были «Счастливые нищие», «Зобеида», «Женщина-змея», и «Зеленая птичка». Успех труппы Сакки привёл в смятение труппы соперников; у меня появились подражатели и вкус к волшебному жанру стал своего рода страстью. Людям невозможно оставаться в пределах разумного! Театры предлагали теперь картины и роскошные декорации, волшебные превращения, буффонаду без искусства. Больше не обращалось внимания на аллегорический смысл, на сатиру нравов или поучения, для которых мои сказки служили лишь предлогом. Интерес вызывали только видимость и эффекты. Пришла смешная, несносная мода, оправдывающая критику моих побежденных врагов. Как будто достаточно было появления на сцене фей, чтобы заслужить аплодисменты; из-под земли вылезла куча чудес, нелепостей, колдовства, нервических, бессмысленных, детских фантазий, неспособных поразить ничьё воображение. Это было так же жалко, как слезливые, варварские и невразумительные пьесы моих предшественников. Я стал, в свою очередь, основателем школы безвкусия. Голодные авторы этого вздора были более достойны сострадания, чем гнева, но, стремясь по-прежнему писать свои «бабушкины сказки», я вскоре был вынужден отослать этот причудливый жанр на кладбище и моя репутация была похоронена рядом с ним.
Гольдони, находясь в Париже, исходил потом и кровью, пытаясь пробудить в этой столице итальянский театр; слыша эхо моих фантастических комедий, он соизволил пойти на то, чтобы отправить в Венецию сказку аналогичного жанра, озаглавленную: «Добрый и злой дух». Эта пьеса имела такой же успех, как и мои. Если целью Гольдони было показать, что он может сравняться со мной в этом жанре, то он оказался прав, что я вполне признаю, и моя гордость ничуть не оскорблена оказанным ему хорошим приемом.
Ошибаются те, кто полагает, что дни моих сценических триумфов были самыми счастливыми в моей жизни. Напротив, это был момент, когда самые жестокие несчастья начали неотступно поражать меня. Собрание моих фантастических комедий дошло до десяти пьес, но, видит бог, я никогда не старался способствовать проникновению к нам этого ужасного мира магии! Я покинул, слишком поздно для моего спокойствия, этот жанр, такой опасный и компрометирующий. После представления «Двух трудных ночей»[32], последней из моих феерий, я счёл необходимым в дальнейшем сохранять молчание и прервать свою работу по двум причинам, о которых скажу ниже.
У публики к моим комедиям стали проявляться некоторые симптомы равнодушия. Компания Сакки не оказывала мне больше прежнего уважения. Тщеславные посвящали себя карьере, каждый приписывал успех своим маленьким заслугам, каждый принимал важный вид и делал из мухи слона. Никто меня больше не слушал, желая интерпретировать роли на свой фасон и оставляя по боку мое мнение. Доброе согласие и слаженность игры от этого страдали. Не проявляя дурного характера, я отговорился семейными делами и не предложил Сакки комедий на следующий сезон. Публика, привыкшая к некоторому регулярному рациону, ворчала, не видя ожидаемого появления новинок. Их, быть может, встретили бы прохладно, если бы я их дал, но их спрашивали настоятельно, поскольку я отказался. Окликали актеров на сцене, упрекая за то, что я отошел от их театра. Труппа актеров прибежала ко мне, бросилась к моим ногам и обрушилась на меня с мольбами и ласками. Вместо того, чтобы рассмеяться им в лицо, как стоило бы, я был серьезен, но сказал очень решительно, что не намерен больше создавать волшебные сказки. Я хотел совсем отказаться от театральной поэзии, но неотступные просьбы компании Сакки и особенно опасность полного её разорения, которую она с ужасом почувствовала, заставили меня решиться пообещать несколько произведений нового жанра, при условии, что они будут также поставлены в театре Сан-Самуэль и от меня не будут больше требовать чудесных историй или сказок с феями.
С бегством Гольдони пришел в упадок театр Сан Сальваторе, расположенный в центре города, в самом популярном квартале. Его Превосходительство синьор Вендрамини, владелец этого театра, прислал ко мне некоего аббата с любезными комплиментами и предложением оставить Сакки и его труппу; он предложил мне большие финансовые льготы, чтобы я пришел на помощь компании Сан Сальваторе. Я ответил вежливым отказом, заявив, что не пишу, чтобы разбогатеть, и не могу по чести отказаться от своих друзей. Его Превосходительство предложил принять его услуги в качестве посредника для решения вопросов с актерами, которым я покровительствую. Сакки вступал во владение театром Сан Сальваторе на очень выгодных условиях и получал лучший зал в Венеции вместе с уверенностью сделать большие прибыли. Я не мог больше отказывать моим протеже в новом произведении; мне пришлось нарушить молчание, хотя бы из уважения к сеньору Вендрамини, но я попросил для этого значительной отсрочки. Теперь, по прошествии времени, когда я стал умнее, я знаю, что мои деликатные сомнения были самой большой глупостью в мире. Лучше бы я больше противился мольбам и меньше беспокоился о сантиментах. Мой отдых оказался под угрозой, не стоило создавать «Регула» и жертвовать для этого интересами своих близких. Всё-таки это вещи разной степени важности.
Причина гораздо более серьезная, чем предыдущие, о которой я ничего не говорил, побуждала меня удалиться от кулис. Нельзя безнаказанно играть с демонами и феями. Нельзя по своему желанию покинуть мир духов, если ты по неосторожности уже в него попал.
Все шло хорошо вплоть до представления «Турандот». Жизнь продолжалась обычным путем. Малые события моей жалкой судьбы происходили с естественной строгостью. «Счастливые нищие» не вызвали слишком много проблем или несчастий. Потусторонние силы простили мне эти первые безрассудства. «Женщина змея» и «Зобеида» привлекли внимание потусторонних сил к моей дерзости. Духи прислушивались к этим творениям в нерешительности, колеблясь между снисхождением и порицанием. «Синее чудовище» и «Зеленая птичка» возбудили их ропот. Однажды вечером меня обдало волной предчувствия, когда механизм сцены стал работать очень плохо. У главной актрисы внезапно случилась мигрень. Дважды пришлось отменять спектакль за час до открытия зала. Посреди импровизации отличный актер Дзанони потерял голос. Эти зловещие предупреждения должны были бы открыть мне глаза, но я был слишком молод, чтобы оценить по достоинству те опасности, которые окружили меня, в моей крови было слишком много сил, я даже чувствовал тайное удовлетворение, игнорируя предупреждения оракулов. Если куры отказываются есть, их бросают в воду, чтобы заставить пить, как поступал безрассудный Варрон[33].
В день представления моего «Короля джиннов» возмущение невидимого врага проявилось в явной форме. На мне были новые панталоны, я взял чашку кофе в кулисах. Занавес поднялся. Внимательная и плотная толпа заполнила театр. Начался пролог пьесы, все предвещало успех, когда невольное содрогание, непреодолимый страх потрясли мои чувства. Мои руки задрожали, и я уронил чашку кофе на свои шелковые штаны. Уходя, ошеломленный, в комнату актёров, я оступился на лестнице и порвал на коленке эти уже испорченные штаны. Незнакомый голос нашептывал мне на ухо, что не следовало мне ставить «Короля джиннов», и как бы я не раскаялся вскоре в этой дерзости. До сих пор спрашиваю себя, не заслуживаю ли я действительно порицания за то, что общался несколько легкомысленно с существами, которые имеют право на наше уважение, хотя лишены тела. Есть определённые требования вежливости по отношению к разуму. Форма, объем и плотность необходимы для выполнения этих обязанностей, потому что нельзя требовать, чтобы вы целовали руки, обнимали колени духа, у которого нет ни рук, ни ног. Духи, понимая эти трудности и уступая нашей слабости, никогда не упускают случая временно принять человеческую форму, когда хотят засвидетельствовать свою покорность; но именно потому, что мы не можем выразить наше уважение внешними знаками, они могут придавать больше значения внутреннему чувству благоговения и разражаются гневом по отношению к неосторожному, который бравирует своим легкомысленным поведением. Христианская заповедь о возвращении кесарю кесарева, не предписывает ли человеку оказывать больше уважения существам невидимым, более могущественным, чем сам Цезарь?
Эти размышления пришли мне в голову слишком поздно. Потусторонний мир, действительно задетый, не захотел принимать извинений, которые я собирался принести. Когда он дал мне некоторые доказательства своего гнева, я колебался между двумя противоположными решениями – одно было жестким и смелым, другое более мудрым. Первым решением была война: я мог бы воспользоваться атаками и уловками, чтобы войти непосредственно в отношения с врагом, внимательно наблюдать, подлавливать его на его страстях, его ошибках, его смешных сторонах и неустанно выставлять их в моём театре. Таким образом, я обернул бы его злобу себе на пользу и пристыдил бы его наиболее чувствительным образом. Понимая уже природу духов, благодаря непосредственному их изучению и своему чтению, я смог бы найти в их частых посещениях средство пресечь их нападки. Феи поняли опасность, угрожающую им, они угадали мои мысли и не смели предаваться своей страсти из-за опасения потерять самих себя. Вместо того, чтобы поразить меня каким-нибудь большим несчастьем, что раздразнило бы мой поэтический язык, они удовлетворили свою обиду тысячей мелких беспрестанно повторяющихся уколов, прозаических невзгод, к которым театральное искусство не могло приспособиться, но которые отравляли всю мою жизнь.[34]
Второе решение, которое предлагала мне осторожность, состояло в том, чтобы порвать со сказочным жанром, чтобы не выводить больше на сцену этот таинственный мир, который не желает быть познанным, опустить завесу, приподнятую на мгновение, но сохранить у фей благотворный страх того, что я буду вынужден разорвать в клочья эту завесу, если они доведут меня до отчаяния. Тем самым гнев духов немного утихомирится, и они никогда не дойдут против меня до последней крайности.
Я не советую никому подвергать себя опасностям, от которых я бежал. Феерическая литература ограничена некими рамками, потому, несомненно, что поэты мудрее и лучше информированы, чем я. Потусторонний мир смеется над невежеством и простотой кормилиц и нянюшек, сочиняющих сказки, не выходя при этом за рамки уважения, и не смешивающих никогда в своих рассказах описание персонажей и насмешки над ними. Что же касается арабских сказочников, которые глубоко проникли в этот ужасный мир, то это были любопытные и бесстрашные путешественники, которые, по-видимому, посвятили себя развлечению смертных, но бьюсь об заклад, они были наказаны; примечательно, что мы даже не знаем их имен. Их слава была украдена их и моими врагами, чтобы отбить охоту у подражателей. Для меня обошлось бы слишком дорого последовать по их стопам.
Я не говорил с достаточной деликатностью с феями и духами, – это ошибка, которую я признаю. Я позволил себе некоторые оскорбительные шутки и не всегда сохранял серьезный тон, которого требовал сюжет такой важности; но не мелочно ли, достойно ли духов разозлиться на меня из-за аллегорий, заимствованных из их сказочной жизни в честных и невинных целях? Ах! если бы все персонажи моих феерических пьес были животные или добрые люди, как мой император Китая в комедии «Турандот», не из-за чего было бы и сердиться. Моя самая большая ошибка была в том, что я ввёл в эти произведения Труффальдино, Тарталью, Панталоне и другие фарсовые персонажи, для которых все средства хороши, лишь бы рассмешить. Эти национальные маски, под видом глупости, дают волю своему ироническому остроумию и разговаривают непочтительно о ведьмах, волшебных палочках, дарах, проклятиях и жезлах, которые являются священными и почитаемыми предметами. Если Бог продлит мою жизнь, я прекрасно сознаю, что должен предпринять паломничество в Фессалию, Астрахань и Кашмир и босиком и с верёвкой на шее просить прощения за свои грехи у Морганы, Карабос и Пери-бану.
В этом состоит моя надежда, как будет видно из последующих моих злоключений, о которых я еще расскажу.
Глава XVI Недоразумения. Препятствия. Преследования
Если бы я хотел рассказать о недоразумениях и помехах, которым меня подвергали злые силы, и не просто часто, но каждую минуту моей жизни, я составил бы об этом толстый том, способный рассмешить, при том что все эти неприятности приводили меня в бешенство.
Обычно, когда принимают одного человека за другого, ошибка основана на некотором сходстве в фигуре или в лице, но в моём случае дьявол не даёт себе слишком много труда. Вдруг, и я не знаю, в связи с чем, многие люди начали называть меня другими именами и путать с людьми, которые со мной совершенно не связаны. Однажды в Сан-Паоло я встретил бедного старого работника, совершенно мне незнакомого. Он кинулся ко мне, целовал подол моего платья и благодарил со слезами на глазах и от всего сердца за освобождение своего сына из тюрьмы. Я объяснил ему его ошибку и уверял, что он принял меня за другого. Он удвоил изъявления благодарности и, глядя мне в лицо, уверял, что я синьор Парута, его защитник и хозяин. Все мои усилия его разубедить в этом, оказались бесполезны. Несомненно, я делаю вид, что я не сеньор Парута, чтобы великодушно избавить себя от его благодарности. Добрый человек только больше проникался благодарностью, он следовал за мной по пятам и призывал благословение небес на мою голову и на все другие головы семьи Парута. Я узнавал сам и спрашивал у своих друзей, кто этот благословенный сеньор. Мне сказали, что патриций Парута – это тощий и больной человек, который в любом случае не похож на меня.
Каждый знает Микеле делл'Агата или знаком с ним – знаменитым импресарио нашей оперы. Всем известно, что он ниже меня на ладонь, толще на две ладони, одевается иначе, чем я, и имеет физиономию, совершенно отличную от моей; отчего же в течение нескольких лет и до самой смерти этого Микеле меня почти ежедневно останавливали посреди улицы и называли его именем певцы, певицы, танцоры и танцовщицы, хормейстеры, портные, художники и письмоноши? Я выслушивал множество жалоб, благодарностей, просьб о ложах и просьб о деньгах, ходатайств, молитв, жалоб, замечаний о декорациях и гардеробе. Я был вынужден отсылать или отказываться от посылок и писем, адресованных Микеле делл'Агата, с криками, с протестами, уверяя, что я совсем не этот Микеле; и все эти околдованные люди смотрели на меня косо и удалялись взволнованные, обеспокоенные, ища в умах мотивы, по которым Микеле мог не желать называться Микеле.
Раздосадованный этой неразберихой, я отправился одним красивым летним утром в Падую. Моя прекрасная подруга синьора Мария Канциани, известная танцовщица и умная женщина, проводила в этом городе последние месяцы своей беременности. Я направился к ней с визитом. Горничная посмотрела на меня, открыла дверь и сказала своей хозяйке: «Мадам, это сеньор Микеле делл'Агата, который хочет вас видеть». Я вхожу, и синьора Канциани разражается смехом из-за этой ошибки; к счастью, она её не разделяет. Выходя от неё, я пересекаю мост Св. Лаврентия и встречаю на этом мосту знаменитого профессора астрономии Тоальдо, которого я отлично знаю и который меня знает очень хорошо. Я приветствую его. Он смотрит на меня, серьезно снимает шляпу и говорит: «Привет, Микеле!» Затем идет своей дорогой и направляется по своим делам, как если бы он сказал что-то совершенно обыкновенное. Эта общая настойчивость меня удивляет: у меня кружится голова; я спрашиваю себя, не Микеле ли я на самом деле и не является ли недоразумением то, что я считаю себя Карло Гоцци. К счастью, Микеле не имел врагов, и никто не собирался ему мстить.
Однажды вечером стояла сильная жара, красивая луна освещала площадь Сан-Марко, и я прогуливался по этой площади в поисках свежести, беседуя с патрицием Франко Гритти. Вдруг слышу голос, кричащий мне в уши: «Что ты здесь делаешь в такой час? Почему бы тебе не пойти спать, ты, осел?» Одновременно я получаю сзади пару крепких пинков. Я поворачиваюсь в ярости, готовый драться, и вижу сеньора Андреа Градениго, который рассматривает меня внимательно и рассыпается в извинениях, говоря, что принял меня за Данило Цанки. Я принимаю извинения по поводу именования меня ослом и пинков, но спрашиваю, по какому случаю он удостоил Данило конфиденциями такого рода. Сеньор Градениго отвечает мне, что он интимнейшим образом связан с Цанки, и хотел сыграть с ним злую шутку, к которой не имели никакого отношения ни эти удары, ни мой зад.
И это еще не всё. На той же площади Сан-Марко я болтал однажды со своим другом Карло Андричем. Вижу, издалека подходит грек с усами, одетый в длинное платье, с красной шапкой на голове, держащий за руку ребенка, одетого так же. Как только грек увидел меня, его лицо озарилось, он двинулся ко мне с открытым видом, с восторгом заключил меня в объятия, влепил поцелуй в щеку и, обращаясь к ребенку, сказал: «Ну, мальчик, поцелуй руку своему дяде Константину». Я похолодел, неподвижный, как статуя; наконец, я спрашиваю, с чего это грек вздумал меня хватать. «Хороший вопрос, – говорит он: – разве вы не мой лучший друг, Константин Цукала?» «Нет, я не Цукала; я не хочу быть им и я не целую детей». Андрич держался за бока от удовольствия, а я потратил пять минут, чтобы убедить грека, что он ошибся. Заинтересовавшись этими ошибками, я решил на этот раз провести расследование насчет упомянутого Цукала. Я запросил торговца, и с ужасом обнаружил, что Константин Цукала – это человек небольшого роста, тонкий и хрупкий, не имеющий со мной ни единой черты сходства.
Но достаточно, разумно промолчим о многих других ошибках и поговорим о препятствиях и преследованиях.
Зимой или летом, призываю в свидетели небо, никогда или почти никогда неожиданный дождь или гроза не падали на город без того, чтобы я был вне дома и без зонтика. Этот дождь не прекращался, пока я не вставал под крышу какого-нибудь портика или кафе; тогда случалось яростное наводнение. Наконец, устав ждать или вынужденный из-за какого-либо дела в любом случае продолжить свой путь, я никогда не покидал своего убежища, без того, чтобы не быть при этом насквозь промокшим. Когда я возвращался домой, промокнув под дождём, никогда или почти никогда не случалось так, чтобы снова не выглянуло солнце, как только я переступал порог своего дома. На протяжении всей моей жизни, по крайней мере в восьми случаях из десяти, когда я хотел быть один и собирался работать, некий нежеланный визитёр являлся мне мешать и доводил мое терпение до последних пределов. По меньшей мере в восьми случаях из десяти, когда я начинал заниматься своей бородой, мне тотчас кто-то звонил и некая спешащая личность хотела поговорить со мной без промедления. В большинстве случаев это были люди важные, которых я не мог попросить подождать, и я должен был или стирать наспех мыло, уже размазанное по лицу, или показываться с бритвой в руке, с подбородком, бритым только с одной стороны. В самое прекрасное время года, в сухой сезон, имелась ли между плитами хоть одна небольшая лужица стоячей воды, в которую злой дух не отправлял бы мою рассеянную ногу?
Мне следует, без сомненья, перестать говорить о других помехах, но я не боюсь показаться смешным и намерен упомянуть этот факт, который меня слишком часто убивал. Это будет моя месть.
Всегда, когда некие мелкие неприятности, на которые природа нас осудила, заставляли меня искать на улице уединённый угол, враждебные демоны не смущались направить мимо меня какую-нибудь прекрасную даму; или открывалась дверь, и я видел выходящую из нее целую компанию, к вящему огорчению моей скромности. О, Король джиннов, как хватает у вас стыда так низко пасть в вашей злобе? Конечно, это не более чем мелочи, признаю, но эти пустяки, присоединяясь к другим, более суровым преследованиям, образуют совокупность, которую можно назвать жизнью горькой и печальной., К концу этих воспоминаний станет ясно, что мои приключения, споры и раздоры с сеньором Пьетро Антонио Гратарол, которому я не желал ничего дурного, должны быть отнесены на счёт озлобленности моих невидимых врагов. В ожидании момента, когда придет время рассказать об этих приключениях, я расскажу здесь о других помехах, серьезных для меня и комических для читателя.
Глава XVII Продолжение препятствий и преследований
Самое невыносимое в войне с помехами – это ожидание. Противник отступает с одной стороны только для того, чтобы неожиданно напасть с другой. Разумеется, я рассказываю об этих причудах не для своего собственного удовольствия, а потому лишь, признаюсь, что верю: они могут развлечь всех людей в этом нижнем мире, за исключением одного, который носит мою рубашку и покрывается моей шляпой. Мы уже видели из истории женщины-спрута, как насмешливые духи любили затевать каверзы с арендой моих домов; дом на улице Матер-Домини ещё не был затронут несчастьем; Дьявол непременно должен был им заняться.
Однажды утром ко мне пришел бедный человек, одетый как гондольер, и одарил меня длинной речью, из которой я узнал следующее. Этот человек служил сеньору Коломбо. Его хозяин жил в Санта-Якопо дель'Орио, а он сам – в Санта Джеремия, так что из-за большого расстояния между этими двумя кварталами бедный гондольер часто не успевал прийти к хозяину для службы в назначенное время. Мой дом на улице Матер-Домини был ближе к улице сеньора Коломбо, лодочник хотел бы поселиться в этом доме; он показал мне деньги для платежа за первый срок. Я узнал имя гондольера, который назвался Доменико Бьянки, и обещал ему пойти переговорить с его хозяином, добавив, что сейчас мне некогда.
«Синьор, – сказал человек нерешительно, – я в затруднении; моя жена беременна и вот-вот родит, и если я задержусь с переселением, а начнутся роды, я вынужден буду оставаться там, где я есть, до ее поправки». «Ваша жена, – сказал я, – не родит сегодня ночью. Я переговорю с сеньором Коломбо после обеда, возвращайтесь завтра утром». – «Очень хорошо, – отвечает гондольер, – Ваша Светлость правы, и хотя мне, думаю, можно верить, я надеюсь, жена учтёт наше положение; но прошу, ради бога, не задерживайтесь, ввиду чрезвычайной срочности положения».
Я был еще за столом, когда дважды постучались в мою дверь. Я вижу входящего лодочника с женой, которая казалась весьма полной в талии, и оба плакают и гримасничают. «Простите, извините, синьор, – говорит мне человек жалобным тоном, – я представляю Вам свою жену. Она почувствовала первые боли, бедняжка! Ради бога, дайте мне квитанцию и ключи. Вот же мои деньги! Что ещё я могу предложить? Вы хотите, чтобы моя жена родила посреди улицы?» Женщина, брюнетка, молодая и миловидная, держалась за бока, вздыхая и извиваясь, как змея. Полный сочувствия, я обращаюсь к чернильнице, подписываю квитанцию в получении арендной платы за один месяц, даю ключи от моего дома, и парочка уходит счастливая. Через три недели священник Санта-Мариа-Матер-Домини приходит ко мне в тот момент, когда я занимаюсь своей бородой. – «Вы знаете, – говорит он, – кому вы сдали ваш дом?» – «Несомненно, Доменико Бьянки, гондольеру семьи Коломбо, жена которого была беременна. Бедяжка должна уже родить». – «Какой Бианки? Какой Коломбо? какая беременная женщина? – воскликнул священник, краснея. – Этот человек никогда не водил гондолы; это мерзавец, который посмеялся над вами. Эта женщина вовсе не его жена, и когда вы видели ее, она носила под платьем подушку, чтобы симулировать беременность. Ваш дом занят тремя девицами дурного поведения, которые продают вино, шумят по ночам, принимают распутников и скандализируют всю округу. Ваша обязанность прекратить этот беспорядок».
При этом новом ударе я на мгновение впал в ступор, любуясь неисчерпаемой плодовитостью врага. Священник утих, когда я обещал ему положить конец скандалу. Проверяя факты, я нашел положение вещей таким, как он мне рассказал. Я побежал к патрицию из числа моих друзей, брат которого был авогадором – членом Высшего суда республики. По зрелом размышлении авогадор сказал, что случаи ночных скандалов рассматриваются трибуналом по богохульствам, а не Авокарией, что нужна жалоба от священника церкви Санта-Мариа-Матер-Домини, официальный суд с вызовом свидетелей для установления фактов, и я добьюсь правосудия. «Но, – заметил я, – этот вопрос, мне кажется, относится к ведению Авокарии, так как я был обманут хитростью и переодеванием, и эти негодяи вторглись в мой дом, используя хитрость. Будьте великодушны, не ввязывайте меня в сложности судебного разбирательства». – «Ладно, – ответили мне, – завтра утром мы упомянем об этих женщинах в Авокарии. Приходите туда завтра лично, чтобы сформулировать вашу жалобу перед противной стороной». – «Большое спасибо! – вскричал я – Ваше Превосходительство мне советуют подвергнуть себя оскорблениям банды негодяев; благодарю Вас за Вашу добрую волю. Я предпочитаю в таком случае вмешательство трибунала по богохульствам и послушаю, что скажет на эту тему священник». Я пошел к священнику, чтобы обозначить ему следующие шаги, но он стал каркать на меня, как ворон. «За кого вы меня принимаете? – сердито сказал он, – разве вы не знаете трибунала по богохульствам? Там никогда не заведут дело, не проведя предварительно расследование, имели ли место действительные нарушения или это клевета. Мы живем в такое время и в такой стране, где весёлые девицы имеют большой кредит и к их услугам куча ложных свидетелей. Они обратят истину в клевету. Обо мне расскажут в городской управе, и судьи меня сурово поправят, назовут клеветником, разрушителем доброй репутации этих невинных голубей, нетерпимым, мстительным священнослужителем, отправят меня обратно и прикажут в будущем быть лучшим пастырем своего стада. Нет, нет, я не передам никакой жалобы в этот трибунал, даже если весь разврат Венеции установит свой лагерь в моем приходе; это вам нужно очистить ваш дом, и я призываю вас сделать это под страхом наказания, как за смертный грех».
Я спрашиваю у вас: для кого, кроме меня, это дело стало бы источником таких крупных неприятностей? Больше беспокоясь по поводу скандала, чем греха, в котором я чувствовал себя, в сущности, совершенно неповинным, я посоветовался с Паоло Бальби, адвокатом в Совете сорока. «Вы были неправы, – сказал он, – не придя ко мне сразу, прежде чем испортить вашу позицию неосмотрительными действиями. Один из трех авокадоров, мой друг, кратко рассмотрел дело, и оно было бы завершено в течение часа. Остерегайтесь затевать процесс: этот негодяй, будучи осужденным, обратится в Совет Сорока, и вам не избежать по меньшей мере значительных затрат и года утомительных обсуждений.» – «Будьте добры, поговорите с этим знакомым авокадором.» – «Слишком поздно, – сказал Поль Бальби, – мой друг не хочет ничего делать, зная, что его коллега вам отказал. Между авокадорами в вопросе рассмотрения дел соблюдается определенная политика.» – «Да здравствует Политика! – воскликнул я, но Справедливость, – сказали бы вы мне, где она живет?» – «Позвольте мне избавить вас от затруднения. Адвокаты осмотрительные и изворотливые люди, они всё время сталкиваются с самыми сложными проблемами процессуальной жизни, ищут из них выход, поддерживаемые своим спокойствием и ясностью взглядов, что дает уверенность в работе в интересах других людей, и поэтому позволяет не становиться жертвой своих собственных ошибок».
Паоло Бальби пошел к мессеру Грандо, который руководит шайкой сбиров – агентов полиции и других патентованных корсаров, грозных для воров и женщин лёгкого поведения. Мессер Грандо направил в мой дом одного из своих подручных, который официально предупредил моих негодяев жильцов о некоей опасности, угрожающей им. «Поговаривают, – сказал этот офицер, – о ночных скандалах; надо будет прекратить эти безобразия, предприняв налёт полиции на дом и приведя дам в тюрьму со связанными за спиной руками».
Мессер Грандо не шутил, когда отдавал приказы о таких экспедициях. Галантное стадо, устрашенное этим советом, переданным по секрету, быстро переехало искать счастья в другом квартале. Благословен будь, остроумный и оперативный мессер Грандо! Если есть среди моих читателей несчастный, поссорившийся со злыми духами, я настоятельно рекомендую ему проконсультироваться с адвокатом – феи боятся квадратных шапочек.
Возвратимся к моей труппе комедиантов. Когда старый Сакки получил через моё посредничество в концессию театр Сан-Сальваторе, я предпринял его мягкую оккупацию и был готов написать пьесу для своих протеже. В то время как я очинил своё перо, враг ожидал меня за кулисами. Актёры, вытесненные из Сан-Сальваторе, получили театр Сант-Анджело и стремились отомстить конкурирующей компании. Соблазнили хитрыми маневрами и предложением денег двух лучших актеров труппы Сакки: Дербеса, неповторимого Панталоне, и Фьорилли, знаменитого Тарталью, этих столпов и реставраторов комедии дель-Арте. Им предложили уйти от своих товарищей, степени не столько для того, чтобы укрепить компанию Сант-Анжело, сколько для ослабления компании Сан-Сальваторе. При мысли потерять моих Панталоне и Тарталью я рассердился на духов, я слал проклятия феям, я посылал к дьяволу демонов. Известие о дезертирстве поселило хаос в труппе. Я побежал к Дербесу, чтобы пристыдить его за неверность после четырнадцати лет добрых отношений с товарищами. Дербес уже подписал контракт с антрепренёром театра-соперника. Он назвал меня своим дорогим другом и выразил искреннее сожаление по поводу нашего разделения, но убедил меня, что уже связан новым ангажементом. Я мог только дать ему свое проклятие, и я его ему дал, предсказав, что он раскается в своей ошибке. Фьорилли ничего еще не подписал; моя трогательная речь и опасение за свою репутацию вернули его к лучшим чувствам. Он прервал переговоры и бросился в объятия своих старых компаньонов. Мой Тарталья был спасен, вопреки духам, и национальная комедия дель-Арте преодолела свои очередные препятствия.
Для того, чтобы причинить вред, достаточно сложить руки и предоставить делам идти своим чередом. Зависти, ненависти, невежества людей достаточно для того, чтобы глупости и ошибки происходили беспрепятственно; но горе тому, кто предпримет что-нибудь разумное или гениальное! Ему придется выиграть тысячи баталий.
По древнему обычаю нашей страны на амплуа первой актрисы никогда не приглашались члены труппы. Общественность любит разнообразие, так что эта роль всегда предоставляется приглашенной комедиантке, с подписанием ангажемента на три года. По истечении этого времени, необходимо представить зрителям новое лицо. Перед открытием своего театра старый Сакки в поисках первой актрисы колебался между двумя персонами разных способностей. Одна, синьора Баттагья, была хорошей актрисой и родилась в Тоскане, где говорят на чистом итальянском языке, но она была уже немолода и её притязания, её амбиции и тщеславие представляли собой сюжет, непростой для исполнения. Кроме того, она ничего не знала об импровизации, что могло оказать плохое влияние на жанр, в котором труппа до сих пор преуспевала. Другая актриса, синьора Теодора Риччи, молодая дебютантка, полная огня, имела красивую фигуру, прекрасный голос и замечательные способности к импровизации. Ее скромность также импонировала. Сакки хотел ангажировать синьору Баттагья и дать ей большую долю от сборов. Я его отговорил, не без труда, принять другую за пятьсот двадцать дукатов в год – сумма недостаточная для удовлетворения потребностей бедной женщины, обременённой ленивым и болезненным мужем, малолетним ребёнком, вовлеченной, по положению, в тысячи расходов, не считая затрат на костюмы и поездки в провинцию. Это были такие жалкие условия, что Теодора Риччи, согласившись войти в труппу, была исполнена зависти и недоброжелательства. Соглашение было заключено по переписке, я ещё не знал дебютантку. Она приехала утром из Генуи, и Сакки попросил меня прийти послушать в её чтении некоторые сцены, чтобы оценить её талант и способности. Я увидел красивую молодую особу, с выразительным лицом, с великолепными светлыми волосами. Лицо у неё было немного попорчено следами оспы, но этот недостаток становился видимым лишь с очень близкого расстояния. Её платье, выдававшее нужду, показывало тем не менее изысканный вкус, искусно компенсировавший недостатки. Застенчивость, которую она показала в ходе этого первого интервью, придавала ей грации и скромности столь привлекательных, что я усомнился, была ли то природная застенчивость или наигранная. Она прочитала фрагмент трагедии с точностью, умом и теплотой, голосом полным и мелодичным. Я почувствовал сразу большие надежды на актрису в ролях энергичных и страстных. Я нашел в ней только два недостатка: слишком большая жесткость в интонации и некоторое поджимание губ, что придавало её лицу выражение неприязни. Первый из этих недостатков можно было исправить; второй, происходивший от формы мускулов рта, был неисправим. После прослушивания я щедро наделил молодую особу комплиментами, которые она заслужила. Сакки, заботясь о своих интересах, сказал: «Синьор граф, я пригласил синьору, послушавшись Вас, это вам решать, насколько она будет полезна для нашей компании». Я ответил, что буду делать все, от меня зависящее, на благо компании и дебютантки. Другие актрисы собрания слушали с напряженным вниманием, казалось, они, взвешивали мои слова, и по печальному и недовольному выражению их лиц я видел, что их злоба готовилась выделять яды. Действительно, стали циркулировать слухи, авторов которых невозможно было обнаружить. Актрисы выражали опасения по поводу игры и дикции Теодоры Риччи. В ней находили неисправимые дефекты; признавали наличие таланта, но опасались, что достоинства этого рода не таковы, чтобы понравиться венецианцам, и она не найдёт себе места в труппе. Эти «некто» искренне хотели бы ошибиться и доводили это до моего сведения. Эти лицемерные речи ещё более побуждали меня поддержать мою протеже. Я давал ей советы, которым она замечательно следовала. С каждым днём я открывал в её уме и чувствах новые драматические струны, которые заставлял звучать. На мой взгляд, нельзя получить хороших результатов, если не знаешь характера своих комедиантов; я изучал возможности Риччи, и моя настойчивость возбуждала зависть и желчь других актрис. Моя протеже страдала приступами меланхолии. В труппе, все члены которой были родственниками, или были связаны между собой узами брака, она чувствовала себя обреченной на вечную изоляцию. Она видела себя угнетенной, недооценённой, возможно, гонимой, как бесполезная или неспособная. Я пытался ее успокоить, поддерживая этот, вообще-то лживый, тезис, что достоинства всегда преодолеют преграды. Я обещал сделать её полезной и даже необходимой для труппы, я проповедовал мужество и упорство. Вскоре отвратительные слухи, выдуманные анекдоты, замечания на ухо атаковали репутацию моей бедной ученицы, чье поведение, однако, казалось мне безупречным.
У первой актрисы театра Сант-Анджело в городе было много поклонников; эти люди решили, что Риччи должна быть плохой актрисой. Без какой-либо причины, не видя и не слыша дебютантку, публика решила, что ей собираются подсунуть особу уродливую и бездарную, но я поклялся победить эти предрассудки. Я вспоминаю сейчас, в какой лабиринт несчастий завлек меня мой великодушный замысел. Шесть лет дружественных отношений с Риччи стоили мне многих лет страданий. Я рассказываю об этом откровенно, и если читатель настаивает, как это делали тогда в Венеции, что эта дружба называлась любовью, я на него не сержусь, хотя на самом деле ничего и не было.
Глава XVIII Опыт несчастий, следующих за триумфами
Комическая фаланга старины Сакки завладела театром Сан-Сальваторе, потеряв однако Дербеса, своего лучшего солдата, решившего ничего не бояться. Совет компании Сакки отложил появление новой актрисы на середину сезона, чтобы возбудить любопытство публики: «При открытии театра, – говорили великие политики от сцены, – мы все и так еще довольно новы. Когда ажиотаж спадёт, мы выдвинем вперёд дебютантку; хорошо или плохо она играет, её придут посмотреть, и мы в этот день будем с полным кошелем». Деньги – это компас комедиантов.
Наконец настал момент показать Риччи. Она появилась в пьесе «Влюблённая, несмотря ни на что» во всеоружии, перед судом многочисленных зрителей: новая комедия, новая актриса, полный зал, значительный доход. Моя пьеса была одобрена, но решили, что первая актриса здесь едва ли подходит. Достоинства и храбрость Риччи, на мой взгляд, были доказаны полностью. Заменили мою пьесу, чтобы сделать вторую попытку, поставив античную трагедию. Дебютантка сыграла свою роль великолепно… и не получила аплодисментов: приговор был вынесен заранее, никто не желал менять мнения. Сакки попросил у меня перевод «Габриеллы де Вержи»[35]. Я дал его с сожалением, предвидя новый провал. Теодора проявила настоящий талант в роли Габриэллы, но поскольку в суждениях о ней отсутствовала всякая справедливость, товарищи сочли её впавшей навеки в немилость. Сквозь гримасы соболезнования на лицах актрис сквозило удовлетворение, но злопыхатели не учитывали моё упрямство, поскольку реабилитация жертвы стала для меня делом чести.
Эти три последовательных провала вместо того, чтобы сломить Риччи, буквально воодушевили её. Бурная и пылкая по темпераменту, амбициозная, как Люцифер, молодая женщина дрожала и плакала от гнева. Придя к ней со словами утешения, я застал ее в постели с лихорадкой, издающей стоны подобно раненому льву. Она проклинала Сакки, всю труппу и день своего прибытия в Венецию; после она объяснила причины своего гнева семейными, домашними и материальными обстоятельствами, описав с душераздирающим и страстным красноречием свою бедность, своё разрушенное будущее и потерянную карьеру. Она решительно отвергла утешения, надежды и всякие разумные объяснения. Именно тогда узнал я глубину её души, и её характер прояснился в моих глазах.
В один прекрасный день я приехал в театр с пьесой, озаглавленной «Принцесса-философ», в которой я наконец нащупал те струны, к которым публика, если она не глуха, должна была прислушаться; но смотрите, как далеко может зайти человеческая глупость: как только моя пьеса была прочитана и принята, Саки и компания поспешили уволить Риччи, так как якобы для неё не было роли. Они высказали молодой актрисе крайнее сожаление по поводу её ухода; они нежно её расцеловали; её приглашали остаться и еще раз попробовать фортуну, в то же время делая всё для того, чтобы заставить её незамедлительно уехать. Я возражал против её отъезда; я заявил, что поскольку моя пьеса была написана для Риччи, она одна должна играть главную роль. Тогда стали ворчать по поводу моей комедии. Стали шептать, что пьеса затянутая и скучная; характерные маски в ней не появляются, ей не избежать провала; я написал эту вещь только из упрямства, слабости и в ослеплении, с целью поддержать неспособную актрису, презираемую публикой. Указывали на непомерные расходы на декорации и костюмы, на убытки, которые понесёт компания в случае провала. Риччи дрожала от ярости, а я смеялся про себя, внушая ей, что она должна успокоиться и что близится конец её бедам. Личные страсти, которые разоряют семьи, а часто и государства, гораздо в большей степени опасны для комических компаний. Если бы не мое заранее принятое решение оправдать благоприятные прогнозы на успех дебютантки, мой действительно демократичный характер, у меня была тысяча возможностей послать к чёрту эту проклятую компанию, отягощенную глупыми страстями, от которой я ежеминутно терпел всякие обиды.
Между тем патриций Франко Гритти, из самых счастливых и самых умелых перьев Венеции, представил в театр Сакки прекрасный стихотворный перевод «Густава Вазы» Пирона. Он спросил моего мнения, и я настойчиво советовал ему дать роль Аделаиды синьоре Риччи. По этому случаю в труппе был бунт. Выдвинули сотню возражений. Поскольку меня это уже не касалось, я возвысил свой голос в её защиту. Пьеса предоставлялась бесплатно, знатным сеньором, и было, наконец, решено её поставить. Со своими пятью сотнями дукатов заработка бедной Теодоре не на что было заказать шведский костюм, вышивки и меха которого были очень дороги. Её товарки, в восторге от её затруднения, стали, на правах друзей, ругать главную роль за богатство одеяний героини, они высказывали опасение, что Теодоре не хватит никаких денег на костюмы; но я предвидел этот удар и шепнул словцо синьору Гритти. В день представления Теодора предстала, одетая богаче и с большим вкусом, чем ее подружки, которые с трудом могли скрыть своё удивление и зависть. Пьеса имела успех. Риччи играла, на мой взгляд, не лучше, чем на своих трёх первых дебютах, однако публика наградила её аплодисментами. К ней вернулась смелость, и она снова поверила в мои хорошие предсказания.
Закончился срок представлений «Густава Вазы»; труппа хранила выразительное молчание о моей «Принцессе-философе». Несмотря на мнение Теодоры, возмущенной этим рассчитанным забвением, я рискнул напомнить о своей пьесе Сакки и для достижения успеха использовал маленькую военную хитрость. Я сказал на ухо известному разносчику новостей, что синьора Манцони, первая актриса театра Сант-Анджело, как мне кажется, создана, чтобы играть «Принцессу-философа». При моей отцовской любви к пьесе я хотел бы передать её соперничающей труппе, не считая это за дурное, поскольку Сакки от неё отказался. Сразу же ужас распространяется по кулисам Сан-Сальваторе. При мысли, что я окажусь во враждебном лагере перебежчика Дебреса, они почувствовали необходимость взяться за моё творение. Старина Сакки, человек жестокий, раздражительный и с огненной кровью, вырвал пьесу из моих рук, несколько дней крича, ругаясь и сметая все препятствия. «Принцесса-философ» была поставлена с необычайной быстротой. Риччи сыграла в ней длинную и трудную роль, с талантом, превзошедшим все мои ожидания, Публика, наконец, вернулась к правде. Восемнадцать исполнений подряд, большой наплыв зрителей и значительная выручка утвердили в общественном мнении эту столь презираемую ранее молодую дебютантку как непревзойденную актрису несомненного и несравненного дарования. Начиная с этого момента она имела только триумфы. Её коллеги больше никогда не оспаривали её превосходства, они её не отпускали, и ревность по необходимости молчала, учитывая общую выгоду, которая превыше всего.
Если благодарность труппы была велика, выражений признательности Риччи было не меньше. Это моей настойчивости, моим советам, моей доброй дружбе молодая премьерша была обязана своим счастьем и победой над своими врагами. Она ничего не жалела для того, чтобы сохранить мою поддержку и одной владеть всей моей добротой. Чего ей опасаться, говорила она, если опорой ей – рука Колосса Родосского? А кроме того, я должен открыто засвидетельствовать свое в ней участие, в противном случае месть в скором времени уничтожит моё творение. Если бы я её слушал, она втянула бы меня в изрядные осложнения! Эта женщина, не зная ни своих товарищей, ни моего характера, ни своего, довела бы меня до совершения грубых ошибок. Моё откровенное пристрастие могло накликать новые бури, более страшные, чем предыдущие. Боясь вызвать моё неудовольствие, директора-распорядители уступали бы претензиям Риччи, её мелким обидам и сотне женских прихотей, которые сделали бы ее и меня тиранами компании. Я стал бы покровителем высокомерным, грозным, нетерпимым; пришлось бы лишить моей личной дружбы других знакомых актрис. С её легкомыслием, энтузиазмом, её причудливыми фантазиями и жаждой похвалы эта молодая ветреница слабо осознавала преимущества благоразумия, умеренности и хороших манер. Она даже не могла видеть свои ошибки, поскольку по самые глаза погрузилась в некоторые свои затруднения. Кроме того, я прекрасно понимал, что эти фантастические мозги, так нуждающиеся в советах и защите, посмотрят одним прекрасным утром на своего проводника как на скучного и неудобного педанта. Риччи не было никаких оснований думать, что я в нее влюблен, но чрезмерное тщеславие шептало ей, что её власть над моей душой должна быть безгранична. Не беспокоясь о том, что она думает, я дарил ей свою теплую дружбу, потому что она этого заслуживала. Этот период моей жизни был полон сладости и истинного удовольствия. Со мной были знакомы, меня любили, за мной гонялись все, кто был связан с театром. Комедианты, музыканты, танцоры – весь мир артистов полагал, что нуждается в моей помощи, моем мнении. Не хотели ни открыть, ни закрыть выступление без моих пролога или прощания. Со мной консультировались по балетам, пантомимам, куплетам, партитурам. Я никогда не злоупотреблял кредитом, который имел, будучи в моде, и даже хорошеньким актрисам, могу сказать, показывал незаинтересованность, довольно редкую для человека, так востребованного и так ласкаемого. Некоторые могут подумать, что я устраиваю парад из своей философии, другие – что я был дурак, что не воспользовался расположением Венер кулис. Из честного рассказа о моих отношениях с Риччи будет видно, что я был еще более глуп, чем можно себе представить.
Как и все актрисы Италии, Теодора не получила образования. Родившись в нищей семье, у вульгарной матери и пьяницы отца, с полудюжиной заброшенных сестёр, она провела детство, выполняя дома обязанности служанки. Некий Пьетро Росси, хозяин странствующей труппы, оценив её хорошую память и некоторые комедийные способности, выпросил её у родителей. Мать, обрадовавшись, что избавилась от своего чада, отправила дочь в мир без особых церемоний, лишь перекрестив ей лоб пальцем и произнеся такое поучительное благословение: «Уходи, зарабатывай свой хлеб и старайся не попасть обратно в семью, слишком накладно кормить тебя». Теодора с закрытыми глазами окунулась в театральную карьеру. Её природные способности, ее красота, молодость, одобрение публики и пример других актёров поддержали и развили её талант. Только отсутствие культуры, а также пылкий и опрометчивый характер моей протеже препятствовали её прогрессу. В общении эта молодая женщина не блистала ни яркой беседой, ни мыслью, ни проницательностью; но притягивала открытость, скромность, изысканность, которой бедность придавала пикантности; ничего, что отдавало бы богемным беспорядком; приятность речи, некоторая наивность, способность к имитации такая, что она могла в разговоре представить карикатуру на любого из своих товарищей. Мне в Риччи внушало уважение то, что она не была способна солгать, не покраснев и не смущаясь. Со временем я узнал, что это невольное пламя, озарявшее её лицо, когда она произносила ложь, происходило от досады, что не удаётся скрыть правду так хорошо, как ей бы хотелось. Часто она рвала в клочья своими прекрасными зубками старых друзей, некоторые из которых оказывали ей прежде услуги, и мне не достало ума представить, что такое случится в один прекрасный день и со мной, потому что суетность – одежда, от которой трудно избавиться; правда и то, что всегда легко и охотно ощущаешь себя более уважаемым, чем другие люди! Никогда не мог я убедить Риччи потратить час на чтение хорошей книги, изучение французских классиков, она ни строчки не написала, чтобы овладеть орфографией. Увещевания, просьбы, упреки – все было напрасно. Она ссылалась на заботы о домашнем хозяйстве, и если я пытался в нашем разговоре задеть по крайней мере одну просветительскую тему, как я поступал с другими актрисами, она демонстрировала столько скуки, нетерпения и неприязни, что, чтобы не возвращаться к пустякам, я почитал себя счастливым обсудить некоторые из ролей, которые она должна играть. Основные темы, предлагаемые мне к обсуждению, были ограничены туалетами, в ходе консультаций с вечным зеркалом: композиции из кружев, смена лент, выбор тканей… Эта глупость была роковым препятствием на пути прогресса актрисы. Разумеется, были и успехи в исправлении недостатков, в личных триумфах; но если актриса щеголяет, выпрашивая аплодисменты, лорнируя публику, то – гений засыпает, жест становится ложным, акцент теряется, роль уже не играют, а читают, и Истина, видя, что над ней издеваются, пугается как птица и улетает, взмахнув крылом. Иногда я высмеивал свою протеже за мелкие цели, что ставили перед ней её амбиции. Спор разгорался. Шпоры моих шуток порой вырывали из уст разгневанной женщины глубокие и ужасные слова: «Если бы, находясь на сцене, – сказала она мне однажды, – я думала только о моей профессии, мне пришлось бы вскоре умереть от голода с моим недостаточным заработком». Я был возмущен этими дурными мыслями, и красавица, стыдясь своего порыва, заверила меня, что говорила это в шутку. Я отошел от неё, встревоженный и шокированный, я стал смотреть за её поведением более пристально и, видя ее хозяйственной, экономной, воздержанной, всегда дома, скромной в речи и в манерах, раскаялся в том, что осмелился подозревать её из-за неосторожного слова. Я представлял себе, что, добиваясь для неё увеличения заработка, убеждая тратить его более осмотрительно, давая ей хорошие советы и направляя её чувства и мысли в похвальном направлении, я кончил бы тем, что изгнал бы из её души пагубные представления, которые она впитала с детства. Тщетные иллюзии! Малые ростки часто содержат в себе смертоносные яды. Глаз мужчины близорук, когда он смотрит в сердце женщины. Шесть лет усилий, стараний, благодеяний и дружбы не стоили и соломинки против отравы, что этот ребенок всосал с молоком матери.
Глава XIX Грустные мысли, порожденные тридцатью локтями атласа
Когда репутация синьоры Риччи как известной актрисы была водружена на бронзовый пьедестал, её товарищи яростно напали на неё со стороны морали. Они рассказывали галантные анекдоты, порочащие её добродетель и ее прошлое. Чем больше демонстрировалась патриархальная честность труппы, тем больше набирали силу сплетни. Бедная Теодора по-прежнему пользовалась моей защитой и, как истинный Дон Кихот, я оставался ее рыцарем. Её поведение было безупречным с момента прибытия в Венецию, и ненависть, которую я испытываю к любой несправедливости и преследованию, даже в большей степени, чем моя симпатия, заставляли меня давить змею клеветы. Обо мне было известно, что я не стал бы поддерживать тесных отношений с личностью испорченной: мои ежедневные визиты к приме были очевидным свидетельством против клеветнических наветов её врагов. Я публично провожал свою подопечную на прогулки и в театры. Я представлял ей образованных мужчин, аристократов, талантливых художников. Я упрекал ядовитые языки в низости их поведения по отношению к коллеге, так что скандал постепенно пошел на убыль. Теодора общалась с несколькими умными женщинами. Её приглашали на обеды, мне делали комплименты по поводу её манер, ее достойного вида, и вскоре она заняла заметное место в хорошем обществе. Все это время я получал анонимные письма, в которых мне предсказывали в будущем самые печальные разоблачения. Мне давали не более года до момента, когда я горько раскаюсь в своем участии в судьбе этой развратной женщине. Подобные трусливые предупреждения возбуждали только моё отвращение. Кто знает, откуда шли эти клочки бумаги? Но анонимные листки, выдававшие ревнивый гнев и ярость завистников, лишь стимулировали мое желание помочь невинности. Я отстаивал у Сакки дела моей подзащитной, и добился для неё повышения вознаграждения на сто дукатов. – «Синьор граф, – сказал старый директор, – я даю согласие на эту жертву, чтобы вас уважить, но вы увидите, что требования юной особы отныне не будут иметь удержу». Сакки не ошибся. Риччи, увидев, что она необходима труппе, чествуема публикой, вскоре возымела более высокие претензии, но, согласитесь, можно ли винить ее за желание быть оцененной в соответствии с достоинствами и полезностью? Она занимала, с момента своего дебюта, квартиру темную, жалкую, в полуразрушенном доме. Могла ли она вершить судьбу компании из недр этого логова! В желании дышать чистым воздухом и жить в пригодном для обитания месте нет никакой крайности.
Находясь в центре разного рода пересудов, о существовании которых она хорошо знала, Риччи, будучи беременной, настойчиво просила меня стать её кумом и крестным отцом её ребенка. Я согласился без колебаний. Она родила девочку во время гастролей в Бергамо, и Сакки окунул мою крестницу в крещенскую купель по доверенности.
Муж моей протеже был маньяк, бывший книготорговец, помешанный на литературе, изнурял себя абсурдными сочинениями в погоне за славой, которая никак не давалась в руки. Бедный человек умирал от болезни груди. Его болезнь усугублялась с каждым днем; врачи предписали ему возвращаться на родину, в Болонью, дышать родным воздухом, – последнее указание специалистов, которые не знают, что ещё сказать. До сих пор этот муж, хотя и совершенно поглощенный своими маниями, представлял некоторую защиту жене против клеветы своим присутствием и в качестве супруга. Когда же он уехал, я сказал своей протеже, что мои ежедневные посещения могут дать темы для неприятных предположений и что придётся их прекратить. Риччи опустила голову, слезы катились из ее глаз, она шептала жалобным голосом: «Окруженная врагами, лишенная поддержки своего мужа, готовясь стать вдовой с двумя детьми без всякой опоры, я буду покинута всеми». Это смирение тронуло мне сердце. В своём умилении я думал, что великодушие обязывает меня оказывать покровительство лицу, отделённому от своего законного защитника, и я не прекратил свои визиты.
Я умолял старого Сакки сопровождать меня; этот добряк испытывал дружеские чувства к своей первой актрисе, и мы проводили весело наши утренние визиты, болтая о тысяче глупостей или обсуждая дневной спектакль. Нас видели всех троих вместе на Ридотто, в кругу друзей, в театрах, на променадах и в ресторанах. Недоброжелательные языки замолкли; публика, пристыженная тем, что слишком легко доверилась клевете, вернула уважение актрисе, которую любили и как человека, и как талант, и я прославился добрым поступком, реабилитировав честь своей кумы и друга.
Таким образом обстояли наши дела, когда я заметил, что Сакки изменил часы своих посещений, чтобы не встречаться со мной у Риччи. Часто он убегал, завидев меня подходящим к ее подъезду; я встретил его два раза на лестнице, убегающего, чтобы избежать встречи со мной. В другой раз я узнал издалека его толстые ноги, которые мелькали настолько быстро, насколько позволяла ему подагра. Идея, что наш капо-комико[36], с его восемьюдесятью годами, его недугами, его застывшей кровью, замороженной льдами возраста, может зажечься пламенем любви, показалась такой потешной, что я на ней даже не остановился; но вскоре я различил некоторые признаки пожара, который охватил этого подагрического любовника, и я смеялся при мысли, что моё предприятие извлекло из колчана Купидона эту смешную стрелу.
Однажды утром я пришел к своей куме раньше, чем обычно, и нашел ее около расстеленных на столе тридцати локтей белого атласа, которые она рассматривала с восторгом. «О! – сказал я, – вы потратились. При всех Ваших переживаниях по поводу скудости вашего заработка я рад, что вы можете себе позволить достаточно дорогие фантазии». – «Это правда, – сказала кума, – мне нужен этот белый атлас. Сакки любезно согласился отвести меня к торговцу, который дал мне эти ткани в кредит, и я договорилась с директором, что буду ему отдавать три цехина из моего месячного жалованья до полной оплаты моего долга». История была проста и правдоподобна, но, к сожалению, красавица не умела лгать, и её щёки, внезапно покрывшиеся румянцем, говорили совсем иное, чем её рот. «Вы нанесли мне обиду, – хладнокровно ответил я, – зачем Вам прибегать к помощи директора театра? Это ко мне Вы должны были обратиться». Румянец стал краснее и распространился до ушей и шеи дамы. «Ладно, – сказала кума, – я не хочу скрывать от Вас правду. Старик влюблен в меня! Он дал мне в подарок это платье, но прошу вас верить, что я не взяла на себя никаких обязательств в связи с этой его безумной страстью». «Дорогое дитя, – ответил я, – человек возраста Сакки не дойдёт до такого состояния, в котором он находится, если вы не поощрите его к безумию. Я боролся за Ваш непризнанный талант, за вашу честь, подвергаемую нападкам, и мы вместе победили врагов. Остерегайтесь погубить нашу работу из-за платья; как бы этот новый белый атлас не стал Вашей самой скверной одеждой. Помните, что у старого Сакки есть жена и двое дочерей, эти женщины уже ненавидят Вас и они не немые. Справедливо или нет, но если пойдёт слух о том, что у Вас в любовниках старый директор театра, я вынужден буду отступить. Я не претендую на то, чтобы читать Вам проповеди или управлять Вашим поведением; я оставляю вас свободной действовать так, как вы хотите, но прощайте, кума и друг!» – «Какая я неопытная! – сказала красавица, снова краснея. – Дорогой кум, Вы полагаете, что я добровольно выброшу атлас в окно. Будь проклято ремесло актрисы! Её домогаются, искушают на каждом шагу, она всегда между нищетой и позором! Этот старый дурак вскружил мне голову, обещая тысячи вещей, которые мне нужны: серебро, туалетные принадлежности и даже ювелирные украшения. Я не хочу ничего. Я оплачу ему его атлас. Пожалуйста, советуйте мне; я буду подчиняться Вам неукоснительно». – «У меня нет для Вас совета, – ответил я. – Сакки злой, порочный, упрямый, грубый и, кроме того, отличный актер. Он держит вас в сетях. Если вы откажетесь от подарка, он будет мстить, если примете его, он Вас скомпрометирует. Решайте эту проблему, как можете».
Через два дня после этого разговора Риччи весело сообщила мне, что она сказала Сакки о своем твердом решении оплатить ему тридцать локтей белого атласа. – «Старый, – продолжала она смеясь, – посмотрел на меня искоса и сказал мне ворча: «Ладно, я знаю, откуда нанесён удар. – Значит, вы оплатите это платье». – «Бедная моя кума, – закричал я, – этот атлас будет Вам стоить больше слез, чем цехинов!» Действительно, в тот же день директор театра угостил свою первую актрису самыми обидными сарказмами; он адресовал ей критические замечания и несправедливые упрёки, относящиеся к её профессии. Прямо в театре, в импровизациях, он подавил эту молодую женщину сатирическими замечаниями, заставляя партер над ней смеяться. Наконец, за кулисами и при десятке свидетелей, этот мерзавец, помешавшийся от ревности, имел жестокость громко сказать, что добродетель Риччи проснулась слишком поздно и что если она должна оплатить белый атлас, лучше бы она приняла это решение тремя днями раньше. Бедная женщина пыталась протестовать против этой гнусной инсинуации; но ужас от такого надругательства лишил её сил, она упала без сознания. Я знал, что Сакки способен на все, и не сомневаюсь, что это бахвальство восьмидесятилетнего обольстителя не было лживым. Забота о собственной чести заставляла меня отойти от этой грязи, но, удалившись, я добился бы лишь гибели преследуемой и беспомощной женщины. На следующий день я нашел Риччи тонущей в слезах. Она мне клялась самыми священными клятвами о своей невиновности, с криками, и на этот раз не краснея, что Сакки лжец. Она молила меня, сложив руки и с лицом, залитым слезами, не верить вероломным речам этого злодея. «Не бойтесь, – сказал я, – что воспользуюсь моментом, чтобы лишить Вас моей дружбы. Будьте спокойны, не доводите до нового взрыва и предоставьте мне заботу возвратить вашего врага к лучшим чувствам. Если Вы не дадите мне нового повода покинуть Вас, на этот раз это не случится».
Чувствительным местом актеров и особенно директора труппы является выгода. Внезапно я прекратил посещать Риччи и появляться в театре. Тогда репетировалась моя новая комедия. Я не пошел с утра на репетицию и вечером за кулисы. Послали спросить, не болен ли я; я ответил, что прекрасно себя чувствую. Направили записку, чтобы узнать, почему я не смог присутствовать на репетиции и на вечернем спектакле; я ответил, что у меня были дела, и что мое присутствие не является обязательным. На следующий день Гоцци снова не было ни на утренней репетиции, ни за кулисами. Среди актеров великий ропот. Допросили Риччи, та заверила, что несколько дней меня не видела. Наконец ко мне был официально направлен Луиджи Бенедетти, племянник Сакки. Посол пришел ко мне с видом тем более плачевным, что проливной дождь промочил всю его дипломатическую персону. Он красноречиво изложил тревогу и волнение, вызванные моим отсутствием, которому пытались выяснить причины. «Друг мой, – ответил я, – о причине нетрудно догадаться: Сакки очень мало заботит мое присутствие на репетициях и за кулисами. Я не поэт на жалованьи и не манекен. Капо-комико ненавидит Риччи, всё время кричит на нее, осыпает насмешками и упреками, грубо оскорбляет перед товарищами, не обращая внимания и на меня. Он попросил меня сделать так, чтобы актриса стала полезной для труппы: я ею доволен, Риччи полезна. Она моя кума и я ее друг; если она плохо играет, я могу ее отругать. Я не хочу изображать деспота или спорить с Сакки, не хочу идти против его воли, но я ненавижу ссоры и ругань. Лучше всего мне уйти от Сакки, от Риччи, от театра и от всех вас. Я не враг никому, я просто хочу держаться подальше от неприятностей и суеты, потому что хочу жить в мире, потому что я искал у вас удовольствия, а нашел проблемы и разочарования». В ответ на эту речь Бенедетти, напуганный, признался, что его дядя Сакки старый дурак, грубиян, лунатик, слабеющий головой. От имени своих товарищей Бенедетти просил меня не навлекать своим уходом упадка на всю компанию, и я обещал вернуться в театр, если больше не услышу криков, угроз и оскорблений любого сорта. Эта тактика имела благие последствия. Вечером за кулисами Сакки изобразил изысканную вежливость, и на следующий день на репетиции моей пьесы актеры были мудры, осмотрительны и страстны, как церковные старосты на своём месте. Карнавал и пост прошли в этих счастливых обстоятельствах, и весна заставила отложить до следующего года бури комической жизни.
В течение шести месяцев летнего сезона у меня было время подумать о последствиях своего снисходительного нрава и доверчивого ума. Хотя Риччи ездила по провинции, я позволил себе взвесить её на своих весах и тихо обратился к себе с такой маленькой речью: «Гоцци, на днях твоя слабость к куме бросила тебя в некую западню. Тебя постиг публичный скандал. Если бы ты сумел открыть глаза, ты, наверное, смог бы распознать в этой милой женщине глубокие зачатки испорченности, амбиций и корысти, единственных её побудительных причин. Тебе кажется, что она испытывает к тебе дружеские чувства, покорно слушает тебя и следует твоим советам, чтобы стать лучше; но если у тебя есть глаза, ты поймёшь, что надоел ей со своими советами, что она за спиной смеется над тобой; она использует твою защиту, чтобы скрыть свои промахи, и, если ты перестанешь быть ей полезным, отправит подальше твои упрёки. Разве ты не видишь, что во время твоих проповедей она едва скрывает зевоту? Не видишь, что она в восторге от своей мудрости, а ты хочешь сделать Лукрецию из бедного создания, для которого полученные инстинкты и воспитание делают невыносимыми трудности правильной жизни? Предоставь природе возможность взять верх, и будешь очень удивлен прекрасным результатом своих уроков». Тем временем из Милана и Бергамо приходили письма от моей кумы, эти письма были приветливы, любезно написаны, наивны, нежны и полны всяческих достоинств, исключая орфографию. Я упрекал себя за свои несправедливые мысли, и я отверг их, сказав себе: «Подождем!»
Глава XX Взрыв и разрыв
Осенью комическая труппа заказала мне новую пьесу для открытия сезона, которое состоится, как известно, в Рождественскую неделю. Значительный ремонт, проводимый в зале Санта-Сальваторе, дал врагам Сакки повод распространить абсурдные слухи. Компании, по их словам, грозит крах, и вскоре театр может рухнуть. Необходимо было возбудить любопытство публики, чтобы заставить её забыть свои страхи. Я написал для этого комедию «Белый негр», которая имела поразительный успех; это была всего лишь слегка беллетризованная причуда, и я не испытывал особой гордости за аплодисменты, которыми сопровождались её двадцать представлений. Теодора Риччи проявила в этой шутовской фантазии талант, полный изящества. Между тем я стал замечать в тоне и манере моей протеже подозрительные изменения. Каждый вечер слуги и гондольеры стучались в двери её ложи. Одни приглашали её сходить к такой-то женщине, которая её ждала, другие вручали ей какие-то записки или какой-нибудь пакет, тщательно запечатанный. Пока она была на сцене, её взгляды искали неких людей. Происходил обмен знаками, видимость тайного сговора и улыбки исподтишка. Я не обращал внимания и относил все это на счет молодости и кокетства.
Риччи занимала с недавних пор небольшую квартирку, приличную и комфортную, по умеренной цене, в доме рядом с театром, дверь которой выходила на очень оживленную улицу. Моя кума сказала мне однажды, что хочет сменить этот дом. Ее квартира, сказала она, узкая и тесная. Ей нужно пространство, большие комнаты, спальня специально для мужа, чье здоровье было восстановлено в Болонье. Затем она сняла другую квартиру, расположенную на пустынной улице, далеко от театра, гораздо более красивую, чем предыдущая, и стоимостью вдвое выше. Художники, декораторы, плотники, обойщики стоили ей бешеных затрат. За кулисами шептались об этих изменениях. Актрисы говорили с хитрыми усмешками, что новый дом их товарки, казалось, намеренно выбран для тайных свиданий и для удобного входа или выхода влюбленных. Я ломал копья в защиту своей кумы. Я опровергал эти злые толки и искренне молил её, чтобы вела себя осмотрительно и не давала мне повода сожалеть о своих тратах красноречия в её защиту. Слушая, она распахивала свои правдивые глаза и только отвечала мне: «Да? Это ваше мнение, сеньор кум?» В это время я болел лихорадкой и оставался запертым в своей комнате в течение нескольких недель. Друзья составляли мне компанию, и Риччи приходила ко мне часто вместе с мужем, недавно приехавшим из Болоньи совершенно здоровым. Однажды моя кума спросила меня с невинным видом, знаком ли я с синьором Пьетро-Антонио Гратарол. Я ответил, что видел его однажды на променаде, что по его одежде и заграничным манерам я бы скорее принял его за англичанина, чем за одного из секретарей правительствующего Сената Венеции, кроме того, он слывёт просвещенным молодым человеком. Я мог бы добавить, что это фат и распутник самого неприятного толка, но я не сделал этого из вежливости. – «Этот молодой сеньор, – ответила моя кума, – очень хочет быть вам представленным. Этой чести он желает больше всего на свете, потому что вас очень уважает. Скоро он будет назначен послом в Неаполь, и он мог бы оказать мне услуги, если я буду играть в этом городе». – «Я полагал, – ответил я, – что вашим намерением было попасть в Итальянский Театр в Париже». – «Боже мой, – сказала хитрюга с ложной простотой, – я стараюсь пробиться, неважно в каком театре». Я сразу понял, что Теодора принимала посещения синьора Гратарол и хотела подготовить меня к встрече с ним у себя, когда я излечусь от своей лихорадки. Я мог бы свободно с ним встретиться в любом месте, но не желал видеть этого типа у особы, которая доставила мне уже достаточно много хлопот как адвокату по защите её чести и репутации. Скука выгнала меня из дома до срока, предписанного врачами. Я отправился в Санта-Сальваторе, и мое появление вызвало большую радость среди моих дорогих комедиантов. Мы собрались за кулисами в очень тесном кругу близких друзей, вход был строго закрыт для посторонних. Первым, кого я заметил, был сеньор Гратарол, одетый в красные шелка, в шубе из северных мехов; он угощал актрис фруктами, шоколадными конфетами из Неаполя и другими сластями. Подпрыгнув, он подошел ко мне и ласково предложил конфет, как если бы я был красивой девушкой. Я церемонно поблагодарил его и решил ничего не говорить Сакки о нарушении правил посещения кулис этим чужаком. Каждый вечер появлялась открытая коробка конфет, но я обращался с ней так же церемонно, при этом избегая более широкого знакомства с персонажем. Когда я приходил к Риччи, я так выбирал время, чтобы там не встретить сеньора Гратарол. Моя кума постоянно начинала говорить со мной об этом распутнике, и я всегда переводил разговор на другой объект. Наконец, она упрекнула меня, что я не ценю знаков внимания этого молодого человека из хорошей семьи, учтивого, хорошо воспитанного, который, в частности, особенно уважает меня и который, сказала она, осыпает её такими знаками внимания, коими была бы польщена королева. На эти торжественные речи я ответил: «Я вам верю. Я был бы рад видеть сеньора Гратарол вдали от вас, по причинам, которые вы знаете, но здесь не говорите мне о нём никогда». Я надеялся дожить таким образом до конца поста и порвать с Риччи в сезон отпусков, так, чтобы публика ничего не заметила. Однажды вечером, в кулисах, сеньор Гратарол вежливо подошел ко мне. «Синьор граф, – сказал он мне, – Сакки, Фиорилли и Дзаннони должны этими днями прийти ко мне, в С.Мозе (отель в Венеции) есть фазана. Я не осмеливаюсь пригласить вашу милость, однако, если вы любите этих прекрасных артистов, если вы соизволите прийти с ними, вы окажете мне честь». Нельзя было проделать это более корректно; я вежливо ответил, что ценю оказанное мне уважение и принимаю предложение, добавив, что мое плохое здоровье заставляет меня сожалеть, что я как гость не так хорош, как мне хотелось бы по такому случаю. Затем мы договорились о дне ужина. На следующий день я случайно встретил старого Сакки на Пьяцетте. – «Я встретил вас кстати, – сказал он мне, – Вы видите меня в смертельном замешательстве: вчера за столом у патриция говорили о моем театре; лицо самого высокого происхождения и член Верховного трибунала сказал такие слова: «Я не понимаю, как Сакки, которого превозносят за хорошее управление, осмеливается принимать за кулисами секретарей Сената». Тот, кто передал мне эти слова, просил меня не называть его, и советовал мне позаботиться о себе. Мне угрожает беда. Вы мудрый человек, синьор граф, скажите мне свое мнение. Я никогда не давал разрешения на вход за кулисы сеньору Гратарол. Он пришел под руку с Риччи, был ею проведен и таким образом там утвердился». – «Я не смею вмешиваться в это дело, – ответил я, – поговорите об этом с Риччи». – «Синьор граф, вы знаете мою вспыльчивость; я обязательно наговорю лишнего. Будьте добры взять на себя эту комиссию» – «Почему вы не можете сказать это людям более мягко?» – «Я таков, как я есть, синьор граф, и потом я опасаюсь, что молодой человек будет сердиться на меня, что Риччи настроит его против меня и сделает из меня врага». – «Словом, вы хотите, чтобы я таскал вам каштаны из огня. То есть, чтобы я постарался послужить вам». Дальше я являюсь к Риччи, рассказываю ей, естественно, пункт за пунктом, мой разговор с директором, и что было сказано за столом патриция. Красавица приходит в ярость. – «Ах! что мне за дело, – кричит она, – если сеньор Гратарол приходит за кулисы или туда не приходит? Разве я служу в полиции театра? Сакки устроил всё так, как пожелал». Я попал пальцем между молотом и наковальней. В глазах Сакки я повел себя бестактно. Моя кума сочла меня ревнивцем, вражеским шпионом за её развлечениями, и Бог знает, что подумал Гратарол, который с тех пор не появлялся за кулисами. Накануне дня, назначенного для ужина, я был в театре с Риччи, её сестрой Марианной, танцовщицей в Опере, и многими другими артистами. Пришел Сакки с лицом красным как от пожара: «Завтра, – сказал он громко, – я должен был идти к сеньору Гратарол с нашим дорогим другом и поэтом, с Фьорилли и Дзаннони; но я только что услышал, что актрисы также приглашены, и что этот праздник дан, чтобы отметить успешное соглашение между хозяином дома и синьорой Риччи. Я не сутенёр молодых премьерш моей труппы, черт побери! Во имя тела и крови Христовых!..» Сакки добавил поток проклятий. Я пытался заставить его замолчать, но прежде чем успокоиться, он испустил тысячу грубых ругательств; Риччи, растерянная, опасаясь насилия со стороны капо-комико, не смела открыть рот, и другие актрисы наслаждались её конфузом. Когда буря улеглась, я вернулся домой и обратился к сеньору Гратарол в наиболее вежливых выражениях, которые смог изыскать, чтобы заявить ему, что приступ лихорадки лишил меня удовольствия присутствовать на его ужине. Мне ответили, что подписавший был в отчаянии, узнав о моих страданиях; что он извиняет меня, жалеет меня, и меня любит. Праздник был великолепный, и все прошло очень хорошо, так что я мог об этом только сожалеть. На следующий день я был в халате, когда мне доложили о визите сеньора Гратарол. Этот надушенный молодой человек пришел ко мне с самым сердечным видом, взял меня за руки, обрушился на меня с лестью, похвалами, дружескими излияниями. Он советовался со мной о своих делах, предложил мне руководить труппой актеров-любителей, и наговорил мне больше пустяков, чем я осмелился бы ожидать от секретаря Сената и в ближайшем будущем резидента при короле Обеих Сицилий. Пока он говорил мне, грассируя, с английской миной на лице, кривя рот, скрипучим голосом, я впал в ступор. То ли от скуки, то ли оттого, что его духи замутили мне мозги, я был весь поглощен происходящим и вёл себя, как сомнамбула. «Этот парень, – сказал я себе, – не венецианец. Он даже не итальянец. Человек ли это? Нет, он больше похож на птицу. Великий Боже! Если это дух в человеческом облике, его плохо скрывает эта оболочка, и он еще не привык к своей роли, в которой он был послан, чтобы мучить меня!» Может быть, стоило бы рассмотреть эту идею, озарившую меня, но я прогнал её, потому что она оскорбляет величие нашего Сената, который, конечно, не доверил бы обязанности секретаря ни духу, ни, тем более, птице. Гратарол ушел, очарованный моим хорошим приёмом, и оставил меня еще больше очарованным его отъездом. Между тем репутация Риччи была грубо подорвана. Актрисы следили за реакциями своей приятельницы. Фиорилли, который превосходно знал толк в шутках, пускал за кулисами сатирические стрелы, из которых ни одна не упустила свою цель, и я не мог больше прийти на помощь своей куме без опасения сделаться смешным. Никогда зима не казалась мне столь долгой. Наконец, пришел пост и спектакли прекратились. Каждый год, перед отъездом труппы в провинцию, собирались вечерами у Сакки. Играли, болтали, говорили глупости, ели пончики и выпивали несколько стаканчиков вина; это был восхитительный отдых, и я был там как бог-покровитель компании. Безрассудная Теодора пришла на это маленькое собрание только для того, чтобы наговорить мне дерзостей, что я терпеливо перенёс из-за приближающегося отъезда труппы. Сакки, из лучших побуждений, запретил Риччи появляться на этих вечеринках. Актрисы торжествовали и объявляли везде, что я поссорился со своей кумой. Марианна убеждала меня прекратить визиты к сестре. Ураган злословия распространил новость о нашем разрыве, и причины этого отнесли к распущенности Риччи. В момент репутация этой бедной женщины была растоптана, и, к сожалению, я был обречен на молчание, после того, как столь часто выступал в качестве адвоката.
Мы вскоре увидим, каким странным и страшным образом моя неблагодарная кума отомстила за мой вынужденный уход.
Глава XXI Гениальная месть Теодоры
Ближе к святой неделе, я получил однажды большое гнусное письмо на восьми страницах. Едва сломав печать, я пожалел, что открыл его. Оно было от мужа Риччи, человека жизнерадостного и неспособного выказать мне неуважение, по крайней мере без наущения своей жены. Он упрекал меня, скорее с дерзостью, чем сожалением, что я покинул мою куму после пяти лет хороших отношений. Мое поведение, говорит этот идиот, недостойно кавалера и галантного человека, и двадцатью различными нелепыми аргументами доказывал мне, что я должен поспешить припасть к коленям премьерши, чтобы покаяться; так что я бросил письмо в огонь и больше о нём не думал. Несколько дней спустя муж Риччи вошел ко мне в кабинет. Он обратился ко мне, со шляпой в руках, смущенно. – «Я пришел, сказал он нерешительно, – я пришел только попрощаться с вашей светлостью от имени моей жены. Мы собираемся в Мантую с труппой». – «Ну что ж, ответил я, – счастливого пути и удачи». Бедный человек постоял мгновение, потом собрался с духом: «Я пришел также по поводу письма, на которое ваша светлость не ответили». – «Вы допустили ошибку, написав это письмо; я счёл разумным не принимать во внимание это письмо и забыть его». – «Наоборот, сказал он, возвысив голос, я хорошо сделал, что написал вам это письмо». – «Ты поступил неправильно, – ответил я в гневе, – и ты очень смел, придя надоедать мне. Не злоупотребляй моим терпением, не собираешься же ты повторять здесь свои глупые аргументы, попивая при этом чашку шоколада». Мой камердинер вошел с подносом. Риччи, бледный и дрожащий, отпил половину своего шоколада, и вернул чашку, говоря, что чувствует себя немного больным. Сразу же официант ушел, бедняга упал в растерянности к моим ногам прося прощения за свою ошибку. – «Синьор! – воскликнул он, – вот правда, как на духу: молодой Гратарол околдовал мою жену со своей лестью и своими неаполитанскими конфетами. Вопреки мне и на моих глазах она получала от него любовные письма, на которые я не мог помешать ей отвечать. Я запретил ей видеться с этим вертопрахом, но она смеялась над моими запретами. Напрасно я доказывал ей, что она потеряет в этой игре уважение и защиту нашего доброго кума графа Гоцци, которому она обязана своей репутацией как актриса и честная женщина, она не слушала меня и решительно послала меня ко всем чертям. Я клянусь, что визиты сеньора Гратарол начались и множатся вопреки моим протестам и вопреки моей воле». – «Ну хорошо, – сказал я, – я окажу тебе честь и пойду тебе навстречу. Мне не следует больше видеться с твоей женой. Я избавлю тебя от изложения причин, которые заставили меня изменить свое поведение. Иди, мой друг, я тебя прощаю при условии, что ты дашь мне отдохнуть».
Турне компании по провинции избавило меня от этих неприятностей на шесть месяцев. Я использовал летний сезон для поправки своего здоровья. Медики рекомендовали мне воды Чила, я их пил; они принесли мне много вреда, и поскольку венецианские эскулапы предписали мне продолжать лечение, я направился бы прямой дорогой от жизни к смерти, если бы не взял себе за правило руководствоваться своими собственными соображениями. Обильная еда, хорошие вина и все продукты, которые мне были строго запрещены, вернули мне в один месяц здоровье и силы. Что бы делали бедные смертные без помощи науки?
Лето прошло, как тень. По возвращении комической труппы, я написал, как обычно, мой пролог к открытию сезона, который читала Риччи, и пошел вечером за кулисы. Первая актриса отложила в сторону все лицемерие и показала свой истинный характер. Какая революция в её манерах, её осанке, её языке, её поведении! Её невозможно было узнать. Какая роскошь в одежде! какие расходы! Множество дорогих светильников в шандалах, аристократический воск горит на столе в ее ложе, рядом с бутылками испанского вина, чашками, полными кофе мокко, корзины конфет, отборного шоколада и сотни других деликатесов. Мое спокойное молчание, казалось, её раздражало? Чтобы лучше дать мне почувствовать своё презрение, она дразнила мужчин в моем присутствии, и даже старого капо-комико, этого восьмидесятилетнего соблазнителя, дарителя белого атласа: «Теперь, – говорила она ему, – можно приходить ко мне, у меня в доме больше нет назойливых проповедников». Красотка хотела подпустить мне обидную шпильку, но я любезно улыбался, пропускал эти шпильки мимо ушей, и когда ко мне обращались, отвечал со всей возможной учтивостью. Как эта женщина смогла сдерживать свою природу в течение пяти лет? Это был очень любопытный вопрос и я был заинтересован в нём до последней степени. Я считал Риччи скромной, простой и застенчивой, и нашел ее бесстыдной, деланной, болтливой как сорока, и, следовательно, несущей вздор. Она хвасталась тем, что узнала много прекрасных вещей, она обнажила свои руки, плечи, грудь, говоря, что женщины должны выставлять свои члены на воздух, что это модно в Париже, этой великой столице, куда она хотела бы поехать после окончания контракта. Венеция, в целом Италия, особенно итальянцы, ей были невыносимы. – «Когда, наконец, я поеду в Париж! – повторяла эта глупышка жеманно – Там богатые финансисты ухаживают за актрисами и дарят им кошельки, полные луидоров, как здесь нам дарят груши. В Париже думают только о том, чтобы развлекаться, тратить деньги, украшать себя и заниматься любовью». Она добавила ещё много более наглых речей, которые я не приведу здесь ради сохранения её чести и из которых следовало, что ее муж и дети ничего не значили в её прекрасных расчетах. Кулисы пропахли невыносимым запахом мускуса. Если кто-то жаловался на головную боль, красотка улыбалась с выражением презрения и гримасой, которую она считала в высшей степени французской, говоря: «В Париже, в Тюильри сами деревья пахнут мускусом». Хуже всего то, что в манере говорить, жесте и всей игре актрисы проявились ложная аффектация и дурной вкус женщины. Гримасы под французское были всего лишь карикатурой для венецианцев, и поскольку в Париж не приглашают итальянских актрис, чтобы изображать там смешные копии парижанок, бедная Теодора готовила себе провал в Венеции и разочарование во Франции. Только эта сторона метаморфозы немного печалила меня. Что касается чудес, произошедших под влиянием сеньора Гратарол, я смеялся над ними от души, поскольку мои комедии не пострадали. Надо знать, что уже год, как я хранил в своём портфеле пьесу – подражание Тирсо де Молина, которой дал название: «Любовные снадобья». Я был недоволен этим произведением, написанным на скорую руку, исправленным во время моей болезни; после того, как перечитал, я отложил его в сторону и дал отлежаться. Сакки безусловно хотел с ним ознакомиться, и я имел слабость достать его из папки, в которой оно дремало. Старый капо-комико, всегда в поисках новых пьес, передал рукопись в цензуру, которая убрала более десятка стихов, после чего вся труппа просила меня распределить роли. Перед тем, как решить эту задачу, я послал комедию брату Гаспаро, сказав ему, чтобы безжалостно вычеркивал все, что не одобрит. Гаспаро ответил, что пьеса немного затянута, но он ничего не может удалить без вреда для описания персонажей или развития действия. Все в нашей комической компании знали, что эта фантазия была написана в прошлом году, и что, когда я над ней работал, я еще не видел сеньора Гратарол. Хорошо, что читателю также известно об этом обстоятельстве. Труппа собралась одажды утром в узком кругу у Сакки, чтобы прослушать и обсудить произведение. Риччи, пышно разодетая, захотела сидеть рядом со мной. Я начал свое чтение среди этого собрания, тихого и внимательного. Я добавил в пьесу Тирсо де Молина несколько выдуманных мной персонажей, и в том числе некую роль дона Адониса, молодого фата, самовлюбленного, высокомерного, дамского угодника, увлеченного иностранной модой; это был один из тех объектов насмешки, которые можно найти во многих пьесах всех времён и всех стран. В шестнадцатой сцене комедии, когда дон Адонис появляется впервые, Риччи, которая, впрочем, знала это произведение, начала произносить восклицания, заёрзав в кресле и вращая потрясенно глазами, как будто это место пьесы вызывало у нее большое удивление. При каждом выходе перонажа Адониса гримасы Риччи возобновлялись, и поскольку я был этим обеспокоен, я обратился к первой актрисе, говоря: «Мадам, это чтение, без сомнения, огорчает вас больше, чем меня?» – «Ничуть, – сказала она, – вы ошибаетесь, продолжайте, пожалуйста». Дойдя до конца акта, я обратился еще раз к Теодоре, чтобы узнать, не была ли она каким-то образом удивлена или шокирована этими несколькими пассажами, но она не захотела ничего уточнять. Я напомнил ей перед лицом присутствующих, что показывал ей эту пьесу в прошлом году, что она тогда одобрила её и не раз уговаривала довести до конца. На все, что я говорил, Риччи отвечала с горькой усмешкой, резким и злым голосом: – «Прекрасно! этот дон Адонис, по правде говоря… этот дон Адонис хорош!.. По-вашему, этот дон Адонис!»… Таинственный смысл этих вскриков вдруг стал мне ясен, гадюка хотела дать понять, что дон Адонис был олицетворением сеньора Пьетро-Антонио Гратарол, она хотела настроить своего возлюбленного против моей пьесы, приписывая мне намерение хулить знатных людей, и отомстить мне, вызвав достойную сожаления ссору с властями, цензурой, или, по крайней мере, с обиженным человеком. Не показывая своих подозрений, я быстро закончил чтение, бросил рукопись на стол и сказал: «Друзья мои, вы хотели обсудить эту скучную книгу. Вы убедились, как и я, в её недостатках, и я надеюсь, что вы больше не будете настаивать на её постановке». Но Сакки схватил пьесу, чтобы отдать переписчику, и Риччи, полная желания мне навредить, взяла перчатки, оправила юбки и вышла в спешке. На следующий день я встретил старого капо-комико на Сан-Марко. – «А вы заметили, – спросил я, – шепот и гримасы Теодоры во время чтения моей пьесы?» – «Да, – ответил он, – но я этого не понимаю и меня это не заботит». – «Я объясню Вам значение этих гримас. Вы знаете, что по причинам, которые Вам хорошо известны и не делают ей много чести, Риччи ненавидит меня с тех пор, как я перестал видеться с ней, из-за её компрометирующих связей с сеньором Гратарол. Эта разозлённая женщина придумала смелый способ отомстить Вам, всей труппе и мне, выкопав у нас под ногами пропасть, о существовании которой мы и не подозревали. Гратарол, будучи в нее влюблен, видит вещи, такими, какими она их ему представляет, и проглотит с закрытыми глазами отраву из рук любовницы. Сейчас она считает, что я сотворил на него карикатуру в роли Адониса, что «Любовные снадобья» – произведение, написанное из ревности отставленного любовника. Вы вскоре станете соучастником моей мести, вы мне предоставили вашу сцену и ваших актёров, чтобы проделать вопиющую выходку. Публика, которая любит скандалы, будет искать подсказки и всегда их найдёт, руководствуясь своей злобой. Гратарол – секретарь Сената, племянник влиятельного сеньора Франческо Контарини; Бог знает, куда может завести нас эта интрига! Я прошу вас сказать сегодня вечером вашим актёрам, что пьесу еще предстоит исправлять, карнавал зашел слишком далеко, и надо будет продолжить репетиции в следующем году. До этого времени Пьетро-Антонио отправится в своё посольство, Риччи будет ангажирована в Итальянскую оперу в Париже, и если вы упорствуете на своём капризе в отношении этой плохой пьесы, я не буду больше возражать против представления». Сакки, как и все директора комических трупп, думал больше об обильных доходах, которые, казалось, обещал переход на личности и скандал, и он повторил, качая головой: «В связи с чем такие идеи, синьор граф? Это только предположения. Столько страхов из-за выражения лица Риччи! Не смущайтесь гримасами этой дурочки». Однако когда я указал на богатство, многочисленную родню, связи и высокое положение Пьетро-Антонио, на опасность внезапного закрытия театра распоряжением властей, изъятия у импресарио привилегии и т. д., капо-комико открыл свои восьмидесятилетние уши, и признал, что я имею основания опасаться. Поэтому была достигнута договоренность между нами, что рукопись будет изъята из рук переписчика, и что актёры будут извещены о переносе репетиций в тот же вечер. Кто бы мог подумать, что эта проклятая пьеса будет поставлена, против ветров и приливов и даже против моей воли, и уже через две недели после чтения в комитете! Я до сих пор с трудом верю, что это не сон; только духи смогли бы проделать это удивительное чудо.
Глава XXII Перевёрнутый мир. Либеральная цензура
То, что сеньор Гратарол, запутавшийся в сетях Амура, соизволил поверить вероломным инсинуациям своей Армиды, не удивительно, но если бы этот молодой человек имел у себя в голове малейшие зерна осторожности, он попросил бы свою любовницу не болтать на такую деликатную тему, и он посоветовал бы ей, по крайней мере, скрывать это дело. Вместо этого бедный дурак поднял громкий крик, публично изрекал угрозы, пытался настроить против меня хорошее общество Венеции и власти, что вызвало странные слухи по всему городу. Синьор Франко Агаци, секретарь-ревизор Трибунала по кощунствам, направил распоряжение Сакки представить повторно «Любовные снадобья» в цензуру. Вместо того, чтобы немедленно повиноваться, неосторожный Сакки сказал, что отдал рукопись некоей даме. Когда капо-комико рассказал мне про этот подвиг, я строго его отругал и упрекнул за то, что он подверг себя риску прогневать судебную инстанцию, самую властную и самую грозную в мире. «Оставьте, оставьте, сказал мне старый Труффальдино, – я знаю, что делаю. У вас слишком много сомнений. Не следует бояться того, что само падает нам в руки. Эта пьеса будет для меня золотой жилой». Я больше не знал, что думать; но злые пересуды летали из уст в уста, публика, взволнованная, хотела видеть Гратарола спародированным и одураченным. Этот молодой человек привёл в движение небо и землю, проводил утренние приёмы в передних у членов Совета Десяти, нес свои жалобы влиятельным особам. Эти действия были не из тех, что могли бы меня успокоить. Люди склонны придавать малым делам, их касающимся, гигантское значение; они склонны над ними задумываться, удивляться, кричать, делать большие глаза, и хотя это всего лишь пустяки, они превращают зефир в приливной ливень. В какой-то момент моя пьеса была сочтена кровной и личной сатирой на фата, который увел у меня любовницу. Вскоре оказался задет не только Гратарол, но и такая-то дама, такой-то сенатор, этот гражданин, тот купец, со всеми своими друзьями, всей своей семьёй, всем кругом своих знакомых. Театр не смог бы вместить толпы жертв, которые я принёс своему злопамятству. Рассказывали анекдоты о каждом персонаже, притянутом мной к позорному столбу, и рассказчики этих историй брали их из разных источников. За это время прочитали мою рукопись у знатной дамы, которая поддерживала Сакки, и группа людей, образованных и интеллектуальных, утверждала, что произведение невинное, что я должен быть оправдан и что Пьетро Антонио Гратарол поднимает шум из ничего. Я жил в смертельном страхе, ожидая некоего удара молнии из Трибунала по богохульствам или Совета Десяти. Однажды утром передо мной возникает суровое лицо ревизора Франческо Агаци, одетого в тогу и судейскую шапочку. – «Вы передали, – сказал он судейским тоном, – пьесу под названием «Любовные снадобья» труппе Сакки. Эта комедия была прочтена, рассмотрена и возвращена в театр Сан Сальваторе, с разрешением трибунала к постановке. Она вам больше не принадлежит. Подтвердите, что вы не возражаете против представления этого произведения, что суд не ошибается». Я не мог справиться с моим удивлением. – «Но, синьор ревизор, – ответил я спокойно, – я, кажется, слышал, что вы хотели провести вторую проверку моей комедии. Величайшая услуга, которую вы могли бы мне сделать, это забрать, сохранить и похоронить пьесу под предлогом этой новой проверки». «Разве вы не заметили, – ответил судейский с ещё большей строгостью, – я удалил с десяток стихов из вашей рукописи? Это исправление доказывает, что я читал пьесу с необходимым вниманием, и даже строгостью: трибунал не ошибается. Мы рассматриваем комедии, руководствуясь в своих суждениях нашим знанием духа нашего народа. Есть некоторые люди, которые хотят вмешиваться, отдавать приказы и оказывать влияние на вопросы, которые их не касаются. Я повторяю: трибунал сказал своё слово, а он не ошибается».
Несмотря на это странное решение трибунала, я горько жаловался на учинённое мне насилие. Безусловно, это был первый случай, когда цензура насильно отсылала произведение в театр, несмотря на противодействие со стороны автора, и такой тирании, наверно, больше нигде не встретишь. Когда для меня стало очевидно, что я потерял всякий контроль над своей бедной комедией, я обрек себя на молчание и стал ждать развития событий. Просматривая пьесу в своей памяти, я нашел несколько мест, где публика, с её склонностью выискивать личности, неизбежно исказит смысл моих фраз. Я хотел бы, по крайней мере, изменить или удалить эти опасные пассажи, но ни за что на свете Сакки не согласился бы внести изменения хотя бы в один стих, и роли разучивали без моего участия. Теодора провозглашала за кулисами нежность, исповедуемую ею по отношению к сеньору Гратарол. Она все время повторяла, как попугай, сотню экстравагантных речей, которые могли испортить и более уважаемую репутацию, чем её собственная. Когда она увидела, что «Любовные снадобья» будут поставлены, её гнев не знал удержу. Она являлась в семье актеров с пылающим лицом, оскорблениями на устах, её отравленный язык прохаживался с беспримерной дерзостью на счет самых влиятельных персон. Этот знатный сеньор – дурак, другой – корыстолюбец, у которого я купила протекцию, тот, влиятельный, ревнует к Гратаролу. Эта знатная дама хвастается, что содержит каналью, другая – дура, если не хуже. Мошенники, воры, обманщики и интриганы объединились против галантного человека! Мы живём в ужасной стране!
Таким способом сладкая премьерша думала смягчить в отношении своего друга публику, этого безжалостного Минотавра. Мне оставалась только одна надежда, что пьеса будет освистана, актеры завалены печеными яблоками и занавес упадет до окончания вечеринки. Сакки, полный уверенности, проводил без меня репетиции, изменял роли, не спрашивая моего мнения, и потирал руки, прислушиваясь к ярости Риччи. Наконец, 10 января, афиша анонсировала первое представление «Любовных снадобий». Более чем за три часа до открытия театр был осажден возбужденной толпой. Я с большим трудом проник в зал. Толпа дралась за кресла партера и я узнал, что ключи от лож продавались за бешеные деньги. Я увидел за кулисами множество людей в масках, которые просили директора разместить их где угодно. «Откуда этот ажиотаж, только для того, чтобы посмотреть плохую пьесу?» – сказал я вслух. – «Синьор граф, – ответила Риччи, красная от гнева. Разве вы не знаете, что ваша пьеса – это личная сатира?» – «Синьора, – ответил я, – вы знаете мою комедию уже год, и вы знаете, в каком духе я её писал. Если дьявольские побуждения, глупая неосторожность, озлобленность недоброй женщины, грубые проступки, несдержанный язык и суета ветреника делают эту пьесу личной сатирой, это не моя вина». Риччи опустила глаза, я вернул ей талоны, чтобы укрыться в небольшой ложе третьего разряда. В середине лестницы я встретил жену сеньора Гратарол, и я слышал, как она смеялась с друзьями, говоря: «Я пришла, чтобы увидеть моего мужа на сцене». Синьор Пьетро-Антонио щеголял в первых рядах, с безмятежным и философским видом, под руку с очень красивой девицей. Незадолго до поднятия занавеса, старый капо-комико, не занятый в «Любовных снадобьях», пришел навестить меня в моем уголке. Пьеса началась. Новые декорации, свежие костюмы – раздались аплодисменты. Высшее внимание публики, актеры играют старательно, и я должен отдать должное Теодоре – она прекрасно играет персонаж Леонору. Всё предвещает успех. В принципе, вначале я дал роль Адониса Луиджи Бенедетти. Сакки решил, что эта роль подойдёт Витальба, хорошему человеку, но посредственному актеру. Я слишком поздно понял причины этого изменения. Витальба был немного похож на сеньора Гратарол. У него были волосы того же цвета; к тому же он был так же подстрижен и причесан, так же одет, как бедный Пьетро-Антонио, к тому же актёр прекрасно имитировал жест, осанку, выражение лица того, кого он хотел изобразить, так что к шестнадцатой сцене пьесы я думал, что вижу появление на сцене секретаря Сената лично. Мощный взрыв аплодисментов и смех приветствовали вступление на сцену Адониса, и множество голосов вскричали, что это Гратарол во-плоти. Я поспешно отступил назад в глубину ложи, и, схватив за воротник старого Сакки, сказал: – «Несчастный! что это такое? В этом и состоит смысл изменений, которые ты сделал? Это значит слишком злоупотреблять моей снисходительностью. Завтра же эта пьеса будет изъята из театра, или я потеряю к нему доверие». – «Я очень извиняюсь, – спокойно отвечал директор, – но пьеса не будет снята по причине своего успеха. Это было бы губительно для кассовых сборов».
Если и был какой-то смысл в этой вещи, то он содержался в роли кокетки Леоноры, ревнивца Алессандро, герцога дона Карлоса и камеристки Лизы, однако публика очень мало обращала внимания на весь этот народ, на сюжет пьесы, страсти, интригу, характеры; как только она видела Гратарола, с его смешными выходками, за ролью Адониса, она прежде всего смотрела на него. С тех пор, как существуют комедии, многие плохие творения добились успеха, – моя увеличила их число. Представление «Любовных снадобий» продолжалось четыре часа, в течение которых дон Адонис был не более тридцати минут на сцене, и за удовольствие наблюдать грубую имитацию человека, за счёт одежды, прически и манер, две тысячи человек проявили терпение и мужество, чтобы протиснуться в зал и остаться там, с вытянутыми шеями и разинутым ртом, в течение столь длительного времени. По правде говоря, это замечательно. Никогда не оказывали такого внимания шедевру. Я чувствовал, что в этой истории внешние обстоятельства не свидетельствуют в пользу моей невинности. Было трудно поверить, что дело устроилось таким образом вопреки мне. Мои читатели, если они у меня будут, должны будут положиться на моё слово. Мне остаётся ещё только сослаться на свидетельства моих друзей, порядочных и доброречивых людей, которые меня знают и считают неспособным на враждебные и неделикатные поступки. Я отлично понимаю, что мы не живём во времена расцвета афинской республики, ни при дерзком и комическом Аристофане.
В третьем акте роль Адониса была не столь важной для сцены, и партер стал показывать некоторые признаки скуки. Пьеса подошла к кульминации под ужасающий концерт из криков, смеха, свиста и аплодисментов. Актёры направляли действие к концу спектакля, и когда занавес упал, я обратился к Сакки, снимая с сердца страшную тяжесть: «Ваша позорная уловка, – сказал я капо-комико – получила свою награду. Признайте, наконец, истинность моих предсказаний». «Да, сказал Сакки: скука и нетерпение публики вполне законны. Конец вашей пьесы затянут и дон Адонис появляется недостаточно. Мы это исправим». Старый мошенник вышел из ложи и побежал за кулисы, не пожелав мне даже доброй ночи. Я был убаюкан ложной надеждой, полагая, что арест исполнителей этой злосчастной комедии предрешен. Второе представление прошло более живо, было поставлено с большим вкусом, чем первое. Пьеса была заявлена и на следующий день, и шла четыре вечера подряд, и зал не мог вместить всех желающих, которые осаждали двери театра. Я закрылся у себя, чтобы не присутствовать на этом скандале. Любой другой, кроме Гратарола, бежал бы или скрывался, но он вместо этого удвоил свои действия и демарши, и было известно, что он сказал своим друзьям: «Смеется тот, кто смеется последним. Совет Десяти еще не высказался по этому делу». Я засыпал каждый вечер с перспективой быть разбуженным назавтра вооруженными стражниками Совета, и я никому не пожелаю такого неудобного ночного колпака. Тюрьмы, колодцы, камень на шею и тридцать футов воды: таковы были мои самые сладкие сны в это время. Какое счастье быть комическим поэтом и видеть себя осыпанным аплодисментами!
Глава XXIII Невыносимые беседы
Когда я вспоминаю страх и разочарование, что дала мне эта роковая комедия «Любовные снадобья», я вынужден признать, что Риччи удалось сыграть со мной отвратительную шутку, и что её месть была жестокой, но её друг Гратарол был посрамлён вместе со мной: я погрузился в свои угрызения совести, а он стал посмешищем. Однажды утром, после четвертого представления моей пьесы, я рассматривал театральные афиши и, увидев, что на вечер объявили импровизированную комедию, с удовольствием подумал, что Сакки, наконец, снова оказался прав. Каково же было мое удивление, когда я услышал имя Гратарол, повторенное сотню раз между прохожими, которые обсуждали хронику театра. За день до этого, перед самым поднятием занавеса, сообщение, отправленное Риччи, извещало директора, что первая актриса повредила ногу, упав с лестницы, и не сможет в течение нескольких дней появляться на сцене. При этой новости среди публики раздались сердитые крики, вой, оскорбления, угрозы актерам, требования возмещения стоимости билетов, словом, полный бунт. Директор, напуганный, выставил вперёд мужа первой актрисы и бедный человек, дрожа, удостоверил, что несчастный случай был не сказкой, но что вскоре пьеса будет играться снова. Публика, однако, обвинила Риччи и Гратарола в том, что они изобрели этот грубый ход, что же касается меня, я снял с них обвинения от всего сердца.
В последующие дни на сеньора Пьетро Антонио показывали пальцем повсюду, где бы он ни появился. Таков был предвидимый результат превосходных усилий этого молодого дурня. Я был столь взбешен всеми этими дебатами, что с радостью отдал бы свой голос за то, чтобы Теодора действительно сломала ногу. Сакки и сеньор Вендрамини, со своей стороны, были в ярости из-за этого перерыва в поступлении доходов. Они послали хирургов к первой актрисе, чтобы проверить состояние пострадавшей конечности. Серьёзный доклад установил, что нога была весьма белая, стройная и совсем не поврежденная. В это время другой полицейский протокол был направлен в трибунал Десяти о волнении, произошедшем в театре, по вине то ли директора, то ли актрисы или синьора поэта Карло Гоцци, а может быть, из-за подстрекательства сеньора Гратарол. Тучи сгущались над моей головой, назревала буря, и я не имел ни уверенности, ни влияния Пьетро-Антонио, чтобы отмахиваться от гнева трибуналов. Мне бы хотелось нырнуть в воду и скрыться, но не было никакой надежды забыть мальчика, у которого в мозгу был Везувий. Гратарол прямо сказал, что он победит или умрёт вместе со мной, что пьеса будет снята, или моя репутация упадет так же, как его собственная. Между тем, мой хороший друг Карло Маффеи попросил меня о встрече. Маффеи абсолютно честный человек, тонкого ума, очаровательной чувствительности, наконец, один из самых достойных людей, что я знаю, но его легко можно обмануть и соблазнить именно из-за его душевной доброты. Он просил проявить к Гратаролу, которого он немного знал, глубокое сострадание. Этот молодой человек, сказал он, находится в состоянии экзальтации, достойном жалости; соглашение между нами еще возможно, и чтобы достичь этого соглашения, сеньор Пьетро-Антонио определенно желает встретиться со мной. – «Как! ответил я, – после скандалов, обвинений, объявления войны, бахвальства всякого рода и непримиримой ненависти, которые этот ветреник мне публично обещал, он просит меня о встрече! О чём он думает, и о чём думаете вы, мой дорогой Маффеи, соглашающийся на такую комиссию? Момент, когда я примирюсь с Пьетро-Антонио, может стать тем самым, когда удары, что три месяца готовила его месть, падут на мою голову. Не сомневайтесь, это запоздалое желание договориться со мной маскирует какого-то скорпиона. Я не стану видеться с этим одержимым, или, если ваша дружба требует от меня этой уступки, не хочу, чтобы эта встреча происходила в моем доме». Маффеи мягко спросил меня, нет ли способа изъять из театра мою проклятую комедию? – Разве вы не знаете, – ответил я, – обо всех моих напрасных усилиях в этом направлении? С защитой, которую получил Сакки, при наличии мощного стимула в виде денежного интереса, ошибках, допущенных Гратаролом, странном либеральном отношении цензуры напрасной иллюзией будет думать, что можно снять пьесу. Однако я вам скажу, что, как я думаю, можно попробовать для Пьетро-Антонио: спектакль «Любовные снадобья» должен пойти в пятый раз 18 января. Я буду умолять, я буду плакать, я буду упрекать, наконец, если это необходимо, я перецелую больше рук, чем целовал святых мощей, чтобы получить новую задержку. Для вечернего представления 17-го я напишу короткий пролог в стихах, в котором я весело объявлю, что пятое представление отложено по моей просьбе, потому что кривотолки, ложные намеки, оскорбительные для достойных персон, вынудили меня исправить пьесу и внести в неё некоторые небольшие изменения. После этого предуведомления, данного публично, я появлюсь в ложе, и если ваш друг Гратарол захочет туда прийти, нас увидят сидящими рядом друг с другом и беседующими, как люди примирившиеся. Маффеи, как мне показалось, был в восторге от этого предложения, и я имел основания заранее полагать, что отношения с сеньором Гратарол получат доброе развитие, но на следующий день, когда я закончил писать свой примирительный пролог, Пьетро-Антонио неожиданно пришел ко мне домой, в сопровождении слабого и слишком доброго Маффеи. Я скрыл свое удивление и мое плохое настроение, чтобы выйти к этим нежеланным посетителям с открытым лицом. Позже я узнал, что в тот момент, когда я вставал со стула, Гратарол тихо цитировал Маффеи этот стих из моей комедии: «Калон приблизился, дадим ему свободу». Мой камердинер объявил звучным голосом о приходе сеньора Пьетро-Антонио, и я увидел входящего персонажа комедии, с лицом, скрытым маской, как если бы он хотел сохранить инкогнито. Наконец, он соблаговолил показать свое лицо, и я заметил с некоторой тревогой искажение его черт, тревожный взгляд, дрожь в конечностях, неустойчивость и непостоянство поз. – «Синьор граф, – сказал Пьетро-Антонио, – я пришел с намерением заставить вас прислушаться к голосу разума, а не в качестве просителя». Я ответил, что в высшей степени готов выслушать его рассуждения. Демосфен приготовил свою речь. Он расхвалил свое происхождение, образование, своё богатое наследие, высокие должности, что он занимал, и те, которые его ещё ожидают. Он высоко оценил свою молодость, свою фигуру, своё благородство, свою телесную мощь и начертал себе долгий и блестящий панегирик. Однако это был самый разумный кусок его торжественной речи, потому что наиболее странные несоответствия царили в последних его словах. – «Если бы я внезапно был низвергнут из этого положения, такого красивого и завидного, в смешное, – сказал он, – то вина в этом была бы только ваша и вашей комедии… Является ли эта комедия невинной или оскорбительной, сейчас не время рассматривать этот вопрос. Значительная часть знати завидует моим заслугам, и именно этой зависти обязана ваша пьеса своим теперешним успехом… Я ухаживал за многими знатными дамами, но я нашел их в большинстве неразумными, невыносимыми, и я их всех бросил, вот почему я приобрёл среди них врагов… Когда я иду по улице, собирается толпа каналий и кричит: «Вот секретарь Адонис из комедии Карло Гоцци… Я вынужден жаловаться… А есть и люди, которые закрыли свои двери перед моим носом… В Вас есть человечность, религиозность и честь, от Вас зависит прекратить представления этой пьесы. Вы можете сделать это, и это ваша обязанность. Сакки слишком многим Вам обязан, чтобы отказываться выполнять ваши распоряжения. Публика видит в Вас моего гонителя, она будет возмущена, она вскоре встанет на мою защиту, и Вас возненавидят в вашей стране». Я хладнокровно отвечал на все эти разрозненные высказывания. Я напомнил сеньору Гратарол всё, что я предпринял, чтобы предотвратить постановку «Любовных снадобий». Я объяснил ему, что он ошибается, полагая, что от меня зависит, оставить или убрать пьесу. По мере того, как я говорил, несчастный всё более раздражался и возбуждался. Он приближался к грани, за которой начинается безумие. «Все это добром не кончится, – говорил он, топая ногой, – необходимо, необходимо убрать эту пьесу из театра, во имя Бога! Я человек высокого происхождения! Я не могу снести эту обиду… Это нонсенс, эти Ваши ответы…». Тогда я достаю из стопки моих работ сихотворный Пролог и объясняю, какого хорошего результата я от него ожидаю. Пьетро Антонио вскочил, подпрыгнув, и повторял, словно в бреду: «Вздор! вздор!». Маффеи схватил его за плечи, крича: – «Слушайте! Слушайте! Слушайте!». Сцена была фарсовой. Я читаю пролог, где говорится, что я написал «Любовные снадобья» с целью развлечь публику, а не для того, чтобы обидеть хороших людей, что я просил бы моих сограждан не искать в ней злых намеков, недостойных их и меня, и я хотел бы написать другое произведение, чтобы заставить забыть эти несчастные «Снадобья». – «Ладно! Ладно! – воскликнул Гратарол, не слушая меня. – Все это вода, вода, вода! Я выражаю несогласие с Вашим предложением, Вашими стихами, Вашим Прологом. Я предупреждаю вас: если представление, объявленное на 18, состоится, я больше не ставлю мою жизнь ни во что… Нет, синьор граф, нет, я не ставлю мою жизнь ни во что, и вы скоро в этом убедитесь. Наконец непреклонный резонёр сделал мне прощальные реверансы, смешивая самым комическим образом протоколы вежливости, выражения уважения и почтения с руганью и угрозами. Я очень сожалел о своём прологе, который он назвал водой, поскольку эта вода казалась мне единственным средством погасить огонь, охвативший весь город. Маффеи был сконфужен бестактностью своего друга; он раскаивался в том, что привел его ко мне и со вздохом сказал: «Бессмысленный, смешной, злой тип этот Гратарол! Я вижу только один возможный шаг – это пойти выказать почтение его дяде патрицию Франко Контарини. Этот влиятельный сенатор сможет, наверное, успокоить этот мозг, пребывающий в бреду». Маффеи отвёл меня к сенатору Контарини. Добрый патриций встретил нас любезно. Он терпеливо выслушал рассказ о моих проблемах и откровенное описание затруднений, в которых я оказался. «Господа, сказал он, вы имеете дело с самой твёрдой и упрямой головой в мире. У моего племянника есть талант и ум, но он не из этой страны, и я предвижу, что его ждёт ещё много разочарований впереди, если он не поменяет свои идеи. Я поговорю сейчас с Пьетро-Антонио. Не зайдёте ли вы этим вечером в кафе Берицци, я приду сообщить вам результат моего разговора с племянником». Вечером, в кафе Берицци, я увидел могущественного сеньора Франко Контарини, с поднятой головой, суровым выражением лица, властным взглядом, одним словом, совершенно другого человека, чем в полдень. – «От имени моего племянника и моего лично, – сказал он с видом судьи, выносящего приговор, – я вам приказываю отныне воспрепятствовать представлению вашей комедии. Если она появится на сцене Сан-Сальваторе или в любом другом театре, 18-го или в любой другой день, пеняйте на себя». В заключение этой речи добрый сеньор, не удостоив нас приветствием или кивком головы, столь величественно удалился прочь, что мне показалось, я вижу идущих перед ним римских ликторов. Маффеи и я имели вид настоящих пленных, предназначенных украсить процессию триумфатора своим удрученным и несчастным видом. Лихорадка Гратарола победила в один момент сенатора Контарини, и внезапная перемена этого мощного персонажа от ласкового к ужасному меня повергла в трепет. Как бы то ни было, мое положение становилось всё более критическим. С одной стороны, племянник угрожает крайними мерами против моей личности, с другой – дядя, с миролюбивым характером, внезапно превращается в обиженного тирана. Комедия могла приобрести трагическую развязку. Мы увидим в следующей главе, как, напротив, трагедия разрешилась комически.
Глава XXIV Мир, ещё более перевёрнутый: государственная инквизиция и Совет Десяти становятся шутниками.
Меня, полагаю, оправдают за то, что я пытался спасти свою шкуру, если учесть, как задёшево раздраженный человек найдёт людей, готовых нанести мимоходом удар клинком сзади любому, на кого укажут, и я слишком рассеян, чтобы проявлять осторожность на улицах. Поэтому 17 января я отправился к Сакки, с самыми серьёзными намерениями. Сакки обедал у патриция Джузеппе Лини, проживающего в Санта-Самуэле. Я направился к дворцу Лини. Они были ещё не за столом, и капо-комико вышел поговорить со мной в прихожую. «Я запрещаю вам, – сказал я ему тоном сенатора Контарини, – представлять мою пьесу «Любовные снадобья» в вашем театре, ни завтра, ни в любой другой день». – «Как! Что с вами?» – спросил старик в ужасе. «Мне нет нужды приводить вам мои доводы – ответил я, – вы смогли поставить пьесу в театре вопреки мне, вы сможете удалить её, если захотите. Извольте исполнить моё требование, или вы потеряете мою любовь, мою защиту и все, что вы могли бы ждать из этого в будущем». – «Но как, синьор граф! – воскликнул капо-комико, – вы игнорируете шум и скандал, вызванные отменой спектакля? Разве вы не помните ярость публики, торжественное обещание, которое я давал, когда переносил пятое исполнение на завтра? Разве вы не знаете, что суд приказал мне добросовестно держать это слово? Вы хотите, чтобы они разрушили зал или чтобы меня разорвали на части? Синьор граф, просите меня о вещах возможных». «Решительно, я хочу, чтобы моя пьеса была похоронена и забыта. Это моя воля, она должна быть выполнена» – ответил я. «Синьор граф, учтите все препятствия, на которые я обратил Ваше внимание, и, чего бы мне это ни стоило, я готов подчиниться вам». Сеньор Лини, другие господа и дамы покинули гостиную на звуки нашей ссоры и стали большим кругом вокруг нас, спрашивая о причинах дискуссии между мной и Труффальдино. Шельма Сакки, приняв свой комически-плачущий вид, стал объяснять тему нашего обсуждения в такой манере, что гости смеялись. Против меня поднялся ропот. Я был единодушно осужден этой весёлой компанией. Сакки, видя, что я совсем не шучу, говорит, что представление, объявленное на 18, не может быть отменено, но чтобы меня удовлетворить, он попытается сделать его последним. Повторный ропот и протесты ассистентов. Я призываю клаку к молчанию, и вынужден повторить капо-комико своё официальное требование прекратить постановку. Патриций Лини и его гости хотели увлечь меня за стол, но я вежливо извинился и вышел на улицу, направившись рассказать об этом первом моём демарше Карло Маффеи. – «Вот это хорошо, – говорит этот превосходный друг, – теперь надо попробовать другой демарш, в отношении влиятельной дамы, противницы Гратарола, и когда вы докажете таким образом свою добрую волю, удалитесь в свой шатёр, как сын Пелея, в ожидании событий». Следуя этому совету, я заявляюсь тем же вечером к упомянутой даме, в сопровождении актера Бенедетти, рассудительного и разумного молодого человека, которого я хотел иметь в качестве свидетеля. Мы поднимаемся по красивой лестнице. Слуга открывает нам дверь и я прошу возможности поговорить с хозяйкой дома. В салоне собралось множество людей высокого ранга, но дама вышла ко мне, встретила меня с любезной улыбкой, пригласила сесть меня и Бенедетти и осведомилась о причине моего визита. «Ваше Превосходительство, – сказал я, – изволило взять под свое покровительство мою пьесу «Любовные снадобья», которая без такого покровительства никогда не была бы поставлена; сейчас я прошу Вас использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшие представления в театре этой комедии». – «Что вам здесь нужно? – воскликнула дама. – Для чего эта просьба? Кто подвигнул вас это сделать?» – «Неприятные слухи, ходящие по городу; чувство сострадания к молодому Гратаролу, чьи чудачества не заслужили сурового и жестокого наказания, ужас, который внушает мне мысль о горе этого молодого человека и о том пятне, которое ложится на мое имя и мои невинные работы из-за его несчастья». «Я согласна с этими добрыми соображениями, – говорит дама, – но если бы вы были лучше информированы, вы бы знали, что здесь неуместно ваше сочувствие; и что только вчера тот, кого вы защищаете, вызвал вас во второй раз в Верховный трибунал. Больше не имеет значения завтрашнее исполнение пьесы в театре. Ваша ли это вина или вздор, капризы и нелепые выходки Гратарола навлекли на него общественное мщение? Пьеса вам больше не принадлежит: она сыграна в силу закона. Вы должны умыть руки, как Пилат». – «Это правда, – ответил я, – что просвещенные люди знают суть вещей, но народ не так осведомлен, и на меня смотрят как на палача бедного Гратарола. Я прошу Ваше Превосходительство прийти мне на помощь». Говоря так, я беру руку дамы и почтительно её целую пять или шесть раз, но она продолжает смеяться и издеваться над моей щепетильностью. – «Итак, сказала она наконец, – нам надо объясниться. Знай вы, мой дорогой поэт, что тот, кто доставляет вам столько хлопот в обеспечении своей обороны, самый безумный и смешной человек в мире, вы бы подвергли свои поступки некоторой коррекции. Откажитесь от этого человека, под страхом навлечь на свою голову позор. Есть над нами сферы, где решили, что это громкое и демократическое наказание послужит примером для других молодых людей, самонадеянных и распутных, приверженных иностранным модам и обычаям. Завтра, до начала спектакля, эмиссар государственной инквизиции должен явиться в дом Риччи, а в случае нежелания синьоры, взять ее за руку, чтобы отвести в Сан Сальваторе и заставить играть свою роль. После получения данного удовлетворения в отношении справедливости и общественного мнения, он может прервать ход дальнейших представлений. Расскажите вашему подзащитному Гратаролу, что он может считать себя счастливым, что так дешево отделался». Я позволяю читателю судить, смеет ли бедный рифмоплёт сказать хоть слово против «фанти» (стражников), присланных тремя государственными инквизиторами. Бенедетти хорошо знает, по собственному своему испугу, насколько мне было извинительно тихо отправиться к себе спать, не продолжая больше дискуссии, после этого маленького предупреждения.
То, о чём сказала дама, случилось: представление состоялось и Теодора была отведена в театр одним из «фанти», с обходительностью, достойной монарших особ. Как случилось, что эта бедная женщина полюбила своего Пьетро-Антонио! Когда она была вынуждена играть в этой проклятой пьесе, она шептала свою роль так тихо, что ничего не было слышно, и ни свистки, ни крики и оскорбления партера не могли заставить ее повысить голос. Это, по моим сведениям, был единственный раз, когда актриса на сцене навлекла на себя гнев публики ради интереса к третьему лицу. Для того, чтобы больше не видеть этого печального спектакля, я ушел в театр Св.-И. Златоуста, и пошел затем домой, избегая мест, где говорили о вечерних новостях. На следующий день, при моем пробуждении, мой слуга, который выходил рано утром, сказал: – «Синьор граф, сегодня снова играют вашу комедию. Я только что видел афиши на мосту Риальто». Я проворно заканчиваю свой туалет и бегу к Сакки чтобы заставить его выполнить свое обещание, когда встречаю наверху лестницы красивого лакея, который приветствует меня, передаёт мне записку, и отступает на три шага, ожидая моего ответа. Записка, как можно догадаться, от сеньора Гратарол, для которого театральные афиши послужили красной тряпкой. Нужно ли говорить, что в письме содержались только угрозы и обвинения? Я был не джентльмен и лжец. – Скоро я получу наказание за свое лицемерие, и т. д. Вспоминая о прекрасных временах моей юности и моих далматинских приключениях, я испытал в какой-то момент желание бросить оруженосца на ступени вестибюля, но было бы слишком жестоко стареть, если бы мы делали в сорок лет те же глупости, что и в восемнадцать. Я отстранил резко лакея, сказав, что я прочитал и понял. Вместо того, чтобы идти к Сакки, я спокойно пошел домой, рассудив предоставить выступлениям следовать своим чередом, однако, поскольку сеньор Пьетро-Антонио не мог не распространить по городу копию своего письма, я намеренно показывался в кафе и других общественных местах, я даже зашел в квартал С.Мосе, перед домом Гратарола, и я не знаю, что произошло бы, если бы я его встретил. Никто его не видел, кроме как рано утром, когда он рассыпался в тавернах и лавках по всему городу цветами своей риторики. В то время, как я консультировался с моими друзьями Паоло Бальби и Рафаэлем Тодескини, Гаспаро, мой брат, пришел ко мне и передал приказ предстать перед его экселенца сеньором Паоло Реньери, который был избран некоторое время спустя дожем Венеции. Этот добрый сеньор попросил меня рассказать ему, ничего не опуская, историйку моей распри с молодым Гратаролом. Он выслушал мой рассказ, не подавая каких-либо признаков одобрения или порицания, после чего тихо сказал: – «Изложите мне всё это в письменной форме, в тех же словах, что я только что услышал, приложите оригинал записки Гратарола, принесите мне все это вечером, и остерегайтесь, ради самой вашей жизни, ввязаться в какую-либо историю, пока я вас снова не увижу». Я повиновался, как и должно. Передав лично памятную записку и письмо сеньору Реньери, я рискнул сказать ему, что вижу с болью и горечью этот вопрос снова, во второй раз, поднятым в высшие сферы правительства. – «Так и должно быть, – ответил экселенца Паоло Реньери, – потому что кто знает, что может выйти из мозга, воспаленного гордостью и гневом». В тот вечер мой случай был вынесен на рассмотрение Совета Десяти и государственных инквизиторов. На следующий день я еще спал, когда принесли мне письмо бедняги Гратарола, полное любезностей, извинений и заверений в дружбе. К полудню весь город смеялся над этим отказом от претензий, столь же нелепым, как картель. Затем я был вызван к сеньору Реньери, где нашел респектабельное и представительное общество. – «Я получил, – говорю я, – записку Гратарола». – «Я это знаю, – прервал великолепный сеньор… – Довольны ли вы?» – «Полностью. Я очень тронут и хочу видеть этого бедного молодого человека, чтобы его утешить и примириться с ним полностью». – «Ничего не делайте, – ответил старик строго. У вас есть способность судить, навык понимать, представлять и развивать персонажи, как же вы можете не понимать натуру людей тщеславных и гордых? Не ходите никогда к этому дураку, не говорите никогда с ним, и если вы встретите его на улице, ждите, чтобы он приветствовал вас первым, и слегка приподнимите в ответ руку к шляпе… Я думаю, что комедианты по-прежнему играют вашу пьесу». – «Я полагаю, что наоборот, они окончательно от неё отказались». – «Тем хуже! Это вызывает сожаление. Этот высокомерный персонаж забрал себе в голову, что его влияние и ужас, который он внушает, смогут прекратить представления. Ни ваша доброта, ни ваши затруднения, ни мои снисхождение или жалость вообще не принимаются им во внимание, он один может всё сгладить, все перевернуть вверх дном, всё расставить на свои места. Надо, чтобы компания в Сан-Сальваторе играла эту пьесу ещё один или два раза, по просьбе нескольких значительных персон». Великолепный сеньор изволил говорить со мной ещё в течение получаса по другим вопросам, и рассуждал красноречиво, вызывая моё восхищение как человек глубоких познаний, постигший все раны своего века, и особенно своей страны. Опыт показал, что Паоло Реньери знал лучше, чем я, своего Гратарола. При нашей первой встрече этот фат, казалось, ждал моего приветствия; а поскольку я не хотел нарушать полученных мной инструкций, он удержал свою шляпу пригвожденной к уху.
После поста Сакки уехал со своей труппой в провинцию. Однажды вечером на улицах Милана актер Витальба, который исполнял, как мы знаем, роль Адониса, подвергся нападению со стороны вооруженного слуги, нанесшего ему удар по голове бутылкой с химическим веществом. К счастью, его брыжи и колет сохранили ему лицо, которое было бы обожжено так, что он никогда не смог бы выйти на сцену, если бы случай не отвёл удар. Подозрения сразу упали на Пьетро-Антонио, как автора этой мести. Шум, письма, угрозы, отрицания и дерзости, пожалуй, возобновились бы еще раз, если бы Сенат, возмущенный этими скандалами, не разжаловал своего секретаря и не отменил его назначение резидентом у короля Обеих Сицилий. Я хотел бы, по крайней мере, отказаться от одной из этих жестких мер, но я не мог ничего поделать. Пьетро-Антонио, руководствуясь своей неукротимой гордостью, своей глупой самоуверенностью, дрожа от ярости и будучи скомпрометирован своей неосмотрительностью, своим ропотом, своим дурным поведением и своей распущенностью, бежал и покинул территорию Венеции, поставив свою семью под удар законов, беспощадных к мятежникам и заочно осужденным.
Так завершились бурлескные распри, спровоцированные разгневанной комедианткой, к которым моя неинтересная пьеса была только предлогом.
Глава XXV Кончина компании Сакки
Подводя итог того, что я писал о жалких делах с «Любовными снадобьями», я замечаю, как, вопреки себе, придаю важное значение вещам, которые меня задевают. Если бы вы попросили меня рассказать вам вкратце о трёх Пунических войнах, я сделал бы это на шести страницах, и это понятно: речь пошла бы только о Ганнибале, Сципионе, Марцелле или Павле Эмилии, о борьбе между двумя великими народами и разрушении империи. Этого недостаточно, чтобы занять расторопного писателя более чем на один день. Но что касается меня, то я Гоцци, мы слишком долго не можем остановиться. Кроме того, если я не расскажу вам об этом, никто, разумеется, ничего вам об этом и не расскажет, в то время как о Ганнибале вам расскажет всякий.
Вскоре я узнал, что Гратарол уехал в Стокгольм, вероятно, чтобы охладить себе кровь во льдах Швеции. Наверное, не случилось зим, способных успокоить этого пылкого молодого человека, потому что из глубины полярных регионов он швырнул в меня манифест, в котором обвинил меня во всевозможных злодеяниях. Я узнал, что этот несчастный беглец, несмотря на свои излишества, чувствует себя по-прежнему превосходно, и это его столь крепкое здоровье, при всех его несчастьях, больше всего меня огорчает, потому что с его умом, сообразительностью и способностью легко изъясняться, да если бы он ещё страдал третичной или четверичной лихорадкой, ревматизмом, головными болями, коликами и дизентерией, он тотчас бы стал квалифицированным и удачливым министром, я совершенно в этом не сомневаюсь. Неблагодарная Теодора, казалось, потеряла свой комический талант вместе со своей милой скромностью. Она стала играть небрежней и хуже, как если бы гангрена, охватившая её мораль и её характер, распространилась на её талант. Её здоровье пошатнулось. Наконец, она отправилась в Париж, больная и слабая, уж не знаю, с какими проектами. Увы! Я могу теперь расстаться без особых сантиментов, за исключением некоторого сострадания, с этим человеком, которого так любил.
После этой фатальной истории с «Любовными снадобьями» я потерял вкус к работе. Принимаясь писать театральные пьесы, я хотел только доставить себе удовольствие, рассмешить своих соотечественников, обогатить комедиантов, которых любил, и их неблагодарного капо-комико. Поскольку это могло оказаться столь дорогостоящим, я принял решение изменить вид развлечения, перестать поклоняться неприветливой Талии, и тихо похоронить в своем кабинете заметки, комические зарисовки и планы комедий. Мои друзья попытались обратить моё внимание на то, что такое пренебрежение искусством создаст превратное представление о моей храбрости и моей философии. Гратарол оставил в Венеции несколько своих сторонников, и можно было бы злонамеренно интерпретировать такое кардинальное изменение в моих привычках. Подчиняясь друзьям, я написал из гуманных соображений две пьесы: «Метафизик» и «Графиня Мейфи»; они имели успех, и я понял, что не потерял доброго отношения нашей весёлой публики, но, решительно, у меня не лежит больше сердце к поэзии. Возможно, утрата предательницы Теодоры частично повлияла на мое разочарование. Полагаю, что испытываю усталость; возможно, это только сожаление о том, что нет больше моей молодой примадонны, той, которой я привык предоставлять выражать все эти великие чувства, вызывать все эти глубокие вздохи, исторгать все эти обильные слезы, что я извлекал из своей чернильницы. – Но у вашей Теодоры, говорят мне, был странная манера благодарить за ваши услуги. С её гримасами, её мускусом и её любовными похождениями, она своей игрой восстанавливала против вас могущественную семью, цензуру, правительство и почтенных людей. Она посягала таким образом на вашу жизнь, ваше счастье и вашу репутацию. Это не её вина, что вас не посадили в тюрьму, что вы не получили удара шпаги на дуэли, что вас не убили вечером в темном углу. К черту таких молодых примадонн! Они шельмы. – Вы совершенно правы: в городе, на прогулке, дома, моя примадонна была гадюка; но какое это имело для меня значение, пока она хорошо исполняла свои роли! Кто вернёт мне её звонкий, энергичный голос, её жест, сильный, быстрый и правильный, её страстную манеру, которой огонь, сияющий в глазах, добавлял непередаваемой прелести? Кто вернёт мне эти прекрасные светлые волосы, эту высокую и изящную фигуру, это подвижное лицо, всё это гармоничное существо, которое рисует трогательный образ героини? Столь ли высоко чувствует себя поэт, когда в час спектакля он смотрит из угла первой кулисы на актрису – добродетельную, добрую мать, нежную жену, безупречную соседку, почтенную арендаторшу, которая, однако, калечит его стихи? Разве не лучше мачеха, неверная жена, арендатор, что не выплачивает своевременно плату, неспокойная соседка, но такая, что несет в глубине своего сердца пламя Мельпомены? Теодора была злое создание, признаю, но для неё я написал семнадцать пьес, а после её отъезда – всего четыре, и не сделаю больше. Сочтите разницу, и мы поговорим потом о недостатках этой молодой женщины, о её любовных приключениях, которые меня не касаются, о её безнравственном поведении, её злобном нраве, её мускусе и её мании показывать свою грудь, которая впрочем была очень красива. Лучшие вещи должны иметь конец, таков непоколебимый закон. Отъезд Риччи был лишь прелюдией к другим предательствам и к полному распаду самой прекрасной труппы актёров во всей Италии. Двадцать пять лет я оказывал ироико-комическую поддержку компании Сакки. Случай решил, что этого достаточно, и захотел положить конец моему покровительству. Сакки, превосходный комедиант, но обремененный годами, впавший в детство, был обманут, проведен за нос, попал в ловушки, расставленные его сердцем, его умом и его финансами. По вздорным слухам, он спал с молодыми актрисами, и это стало действительной причиной распада столь уважаемой компании, которая могла бы ещё, может быть, существовать по-прежнему, к большой радости ипохондриков, если бы не глупость и эксцентричные поступки старого дурака капо-комико. Этот добряк скопил много богатств, золота, ювелирных украшений, бриллиантов, его дочь, актриса, не желая, в сущности, смерти любимого отца, ждала с некоторым нетерпением этого блестящего наследства. Она видела, что старик оплетен кознями, её раздражали любовные слабости Труффальдино, и она позволяла себе безрассудные насмешки. Её слова доводили до ушей старика, который впадал в ярость. Сакки помалу стал ненавидеть своё дитя. Другие актёры также осуждали его старческие любовные похождения, и поскольку, по привычке, он был деспотом и управлялся с делами плохо, его соратники начали жаловаться. Труффальдино, стыдясь своих известных слабостей, но полный упрямства и нежелания что-либо менять, впадающий в ярость от критики, которой подвергался за свое неправильное управление и беспорядочную администрацию, превратился буквально в дьявола. Все его слова, обращенные к дочери, к сподвижникам, ко всем членам труппы стали подобны собачьим укусам. Ответы бывали также несладки. Все разговоры превратились в ссоры. Вокруг виделись только хмурые лица. Компания, которая была когда-то образцом гармонии, стала адом, где царили разногласия, подозрения, гнев и ненависть. Друг на друга смотрели искоса, как оскаленные волки. Порой обменивались такими веселыми оскорблениями, что извлекались шпаги и ножи, и присутствующим бывало очень трудно предотвратить кровопролитие. Воздух кулис стал нездоров, я начал от них удаляться. Чтобы дать пищу для размышлений старому капо-комико, я собрал пачку испанских книг и писанины, которые Сакки давал мне, и отправил ему обратно, как будто я потерял всякое желание искать сюжеты комедий. Моё удаление произвело мало эффекта, и я понял из этого, что компания смертельно больна. Петронио Дзанерини, лучший актер во всей Италии, Доменико Барсанти, другой совершенный актер, Луиджи Бенедетти и его жена, оба замечательные актёры, Аугустино Фьорилли, неповторимый Тарталья, доблестная гвардия комедии Дель-Арте, дезертировали, от скуки и отвращения, и были приглашены в другие комические труппы. От труппы Сакки остался только скелет. Патриций, владевший залом Сан Сальваторе, был напуган плачевным состоянием этой умирающей компании; кроме того, он жаловался на грубость капо-комико, поэтому он сдал свой театр другой труппе. Анастасио Дзаннони, брат Сакки, порядочный человек с мягким характером, и последний большой актер, который у нас еще оставался, устав от безумств директора и будучи справедливо обеспокоенным потребностями своей большой семьи, вёл тайные переговоры с компанией Св. Иоанна Златоуста. Однажды утром я увидел входящего ко мне Сакки в сопровождении моего друга Лоренцо Сельва, знаменитого оптика. Наш капо-комико, начал извергать поток оскорблений в адрес своих родственников, своих компаньонов и всех своих товарищей. Затем он попросил меня вмешаться, вместе с Атанасио Дзаннони, в урегулирование дел с труппой, с тем, чтобы не давать отступного в случае его отъезда. Он добавил, что если Дзаннони будет готов еще остаться, компания арендует театр Сант-Анджело, что произведут новый набор в труппу, и мы могли бы надеяться снова восстановиться, если только поэт-спаситель соблаговолит снова оказывать поддержку угасающей республике. Момент представился мне подходящим, чтобы открыть шлюзы своей старинной искренности. Я согласился с обидой Сакки на некоторых его родственников, но я ему прямо указал на его слабости и ошибки, его абсурдные порывы гнева, его предосудительные приступы зависти, его пустую растрату денег, отложенных на всякий случай, его произвольное и беспорядочное управление, и, наконец, я сказал ему, что его умственные способности снижаются, что он один был причиной упадка и источником всех неприятностей компании. Сакки, скрывая свою ярость, стиснул зубы и хладнокровно признал, что я прав. Я согласился поступить так, как он меня просил, и он ушел в некотором замешательстве. Добрый Атанасио готов был остаться в труппе, при условии, что деспотизм Сакки будет заменен правильной конституцией, которая предоставит комитету все акты административного управления. Я обещал Дзаннони заставить старого тирана подписать это отречение, и он дал мне слово не покидать труппу. Несколько дней спустя знаменитый Труффальдино, с богохульствами на устах, яростью в глазах, с сердцем, жаждущим мести, начертал своё имя на гербовой хартии, лишающей его абсолютной власти. Компания перешла в театр Сант-Анджело, слегка полегчав в деньгах, обеднев актёрами, при том, что эти актеры, оставшиеся лояльными, были несчастны и обескуражены. Чтобы прийти на помощь моим друзьям, я написал две пьесы, но когда настало время репетиций, сотрудники театра оказались к этому не готовы, и было установлено, что средства, необходимые для приобретения новых декораций, абсолютно отсутствуют. Сакки, всегда дикий и неудержимый, не смог сдержаться и не быть деспотом и наложил руку на ничтожные доходы. Некоторые из актёров, с которыми не расплатились, потребовали оплаты через суд, и сбежали сразу после того, как добились справедливости. Отовсюду слышались только крики, жалобы, оскорбления, угрозы; разговоры шли только об изъятиях, конфискациях, судебных решениях и действиях судебных приставов. Наконец, после двух лет этого адского беспорядка, компания актеров, которая так долго внушала зависть другим труппам и доставляла наслаждение венецианской публике, плачевным образом распалась. Прежде, чем навсегда покинуть этот город, где он снискал столько аплодисментов, старый Сакки пришел ко мне и сказал со слезами на глазах эти последние слова: «Вы единственный человек, которому я должен нанести прощальный визит, потому что этот мучительный отъезд должен сохраняться в тайне. Я никогда не забуду благодеяний, которые я получил от вас, синьор граф. Вы единственный человек в мире, который говорил со мной искренне и для моей пользы. Позвольте мне попросить у вас прощения, ваша милость, и оказать мне честь вас поцеловать». Бедный Труффальдино сжал меня своими старыми руками и бросил на меня растроганный прощальный взгляд своих больших глаз, полных слез; затем он удалился бегом, и я остался один, скитающийся по Венеции, без своих любимых актёров, постаревший на двадцать семь лет по сравнению с той порой, когда они вернулись из Лиссабона. О, мое сердце! О, национальная комедия! Возле меня нет ни одной души, что несет в себе вкус этого своеобразного искусства, столь ярко итальянского! Но я становлюсь слишком патетичным… Вытрем скорее щёки, в которые поцеловал меня Труффальдино: чудак поел чеснока. Прежде, чем на это обратили внимание, сотрём этим же движением слезу, которая повисла на моих веках, и пойдём обедать, гордясь тем, что можем показаться философом, если не сказать бесчувственным.
Глава XXVI Не всегда можно смеяться
Мой брат Гаспаро, устав от трудов, консультировался по поводу своего здоровья у врачей в Падуе. Этот знаменитый университет прилагал все усилия, чтобы восстановить ослабленную природу в его бедном теле. Все усилия самого изощренного искусства приводили только к ухудшению состояния пациента и продвигали его на пути к смерти. Однажды утром я получил известие об ужасной катастрофе. Мой брат страдал церебральной лихорадкой. Во время приступа бреда он выбросился из окна в Бренту. Он ударился грудью о камень, и его достали из воды в плачевном состоянии. Несчастный кашлял кровью, лишился речи, и, поскольку он не приходил в сознание, было сочтено, что ему осталось недолго жить. Получив письмо с сообщением об этом несчастном случае, я поспешил в Падую. Гаспаро еще дышал. Я нашел возле него старую французскую даму, мадам Жене, которая ухаживала за ним с превосходным умением и преданностью. Я спросил, какого врача вызывали, и мне сказали, что Гаспаро уже давно лечили четверо врачей, которые часто посещали его. Это число в четыре и частота посещений заставили меня дрожать за состояние моего брата больше, чем его болезнь и его несчастный случай. Пятый доктор, профессор дель-Бона, единственный человек, к которому я испытывал некоторое доверие, консультировал брата однажды, но он предписал лечение, с которым четыре других врача не согласились наотрез. Чтобы выяснить, сохраняется ли некоторая надежда, я пошел к одному из четырех лечащих врачей. Это был своего рода одержимый, очень мало занятый своими пациентами, но старающийся произвести как можно больше шума. Он хвастался тем, что достал из воды моего бедного брата, вернул его к жизни, применив средства, рекомендованные консилиумом врачей для утопающих. Проклятый болтун писал мемуар по этому случаю и выдвинул себя соискателем золотой медали правительства. Если бы я остался его слушать, он прочитал бы мне свой мемуар; видя, что из него можно извлечь только глупости, пригодные лишь для моих комедий, я покинул его и вернулся обратно к моему брату. Гаспаро, между жизнью и смертью, оставался в бессознательном состоянии, не принимая никакой пищи, кроме капельки крема, который мадам Жене удавалось протолкнуть ему через силу ложкой между зубов, и который он проглатывал бессознательно. Четверо врачей приходили два раза в день, рассматривали кровавые мокроты, щупали пульс больного и уходили, пожав плечами, давая понять, что не ожидают ничего хорошего. Однажды утром они переглянулись с видом одновременно зловещим и полным безразличия. Вместо крови, пациент откашлялся желтой мокротой, в которой они абсолютно точно признали гнойные выделения открытых ран в груди, начало гангрены и первые признаки полного разложения. Смерть была очень близко. Я выбежал на улицу к профессору делла Бона; я взял его за руку и по дороге рассказал ему о печальном открытии четырех врачей и их роковом приговоре. Ученый профессор приложил ухо к груди пациента и, после тщательного рассмотрения, сказал: – «Дыхание слабое, но совершенно свободное. Решение моих коллег – это абсурд. Нет ни гангрены, ни распада, ни внутренней раны. Что касается желтоватого и белого веществ, на которых они основывают свои убеждения, это не внутренние выделения, но, я скорее думаю, это масло или крем. Давались ли микстуры, что я прописал, и доза хинина?» – «Четверо врачей, – сказала мадам Жене, – запретили мне следовать вашему предписанию». «Браво! – воскликнул профессор; синьор Карло, вот достойный эпизод из комедии дел'Арте. К нам хотели отнестись как к Труффальдино, и мы покажем этим просвещённейшим (illustrissimi), что они суть четыре доктора Панкраса (персонаж из комедии Мольера). Жизнь вашего брата висит на волоске, но этот волосок не должен ещё прерваться. Доверьте его мне, выгоните за двери этих театральных докторов, и я буду отвечать за пациента. Действительно, несколько дней спустя призошел благоприятный кризис. Гаспаро открыл глаза, он узнал меня, и врач нашел нас мирно беседующими. Лихорадка прекратилась, вернулся аппетит, и я имел удовольствие снова увидеть моего брата полным жизни, сил и бодрости, сочиняющим красивый сонет о своей болезни, что явилось явным доказательством его окончательного возвращения к здоровью. Это происшествие заставило меня забыть все мои маленькие неприятности – дело Гратарола, отъезд Риччи и исчезновение моей любимой труппы комедиантов. Я вернулся из Падуи с совершенно новым настроением и готовым страдать от новых несчастий, как будто я вырвался из рук смерти вместе со своим братом Гаспаро. Едва вернувшись к моему одиночеству, я стал размышлять философски о страшном потрясении, которое пережил. Думая об опасности, от которой я избавил любимого брата, душераздирающих картинах его страданий, я упрекал себя за чрезмерную чувствительность к малым жизненным бедам, неприятностям от злых людей, помехам, преследованиям моей судьбы и множеству других мелочей, из-за которых я должен был бы лишь смеяться, а не волноваться. Я понял, что с моей претензией к равнодушию, к стоической покорности судьбе я был самым слабым человеком на свете. Чтобы измениться к лучшему, я решил проявлять в будущем твердость и никогда не беспокоиться по пустякам. Я перестал бояться гнева духов, их царя, и злых козней фей. Я себя поздравил с идеей, что Пьетро Антонио Гратарол с его подозрительным обликом – это, возможно, переодетый злой дух, представив его выставленным на сцене и освистанным зрителями. Я с удовольствием подумал о том ужасе, который должен был бы распространять этот несчастный в фантастическом мире, если бы он появился там в образе летучей мыши, преследуемый шиканьем и свистками. Однажды ночью я мечтал об этом, когда шел по улице, и я засмеялся, так что проходящий мимо посторонний человек мне сказал: «Не всегда можно смеяться». Насколько я помню, это было в воскресенье, и я зашел в Санта-Моис, чтобы прослушать мессу. Я выбирал место, когда ко мне подошел синьор Марини и спросил меня, знаю ли я о несчастье, которое произошло с моим другом Паоло Бальби. – «какое несчастье? – Спросил я, – ещё вчера вечером я видел его, веселого и оживленного». – «Однако он умер этой ночью. Простите, господин граф, носителя этой плохой новости». Я сразу же поспешил к моему дорогому другу Бальби, все еще питая надежду, что весть ложная, но крики и стоны, которые заполнили этот патрицианский особняк, издалека сообщили мне, что здесь прошла смерть. – «Не всегда можно смеяться» – голос был прав. На следующий день я получил письмо из Фриули, в котором было написано, что мой брат Франко очень болен. Я собирался лететь ему на помощь; второе письмо, запечатанное чёрным, сообщило мне, что я прибуду слишком поздно. Франко оставил своей вдове и детям значительное состояние, но я их знал, и я догадывался, что они неизбежно растратят наследство. Я посвятил много хлопот, чтобы удержать их на грани пропасти. Я их журил, я их ругал, я их поучал – ничего не помогало. Они шли к неминуемому разорению. Мои проповеди, мои внушения, мои шаги и демарши – все было бесполезно; и мои сироты – племянники дали мне сотню раз возможность повторить угрожающие слова неизвестного: «Нельзя всегда смеяться».
Однажды утром, Рафаэль Тодескини вошел в мою комнату с искаженным лицом. – «Идите скорей, – говорит он, – наш друг Карло Маффеи скончался вчера прямо в кафе, от апоплексического удара. Вы знаете, он был очень беден, но он упомянул вас в своем завещании». Я не был самым любимым для Маффеи человеком, но я питал к нему особую нежность. Боль от этой зловещей новости терзала мне душу. Я шел за Тодескини, не сознавая, что делаю. Он отводит меня к нотариусу, который сообщает мне волю умершего. Я нашел большую записку, полную восхищения моим характером, и столько этому доказательств, сколько бедный мальчик не дал мне за всю свою жизнь. Когда я увидел последнюю фразу, в которой он написал, что оставляет мне на память и в знак своей дружбы свою золотую табакерку, единственный подарок, который он может мне предложить, я поднял руки в воздух и воскликнул в слезах: – «Ах! Я отдам все золото мира, табакерку, табак и мой нос над ним, чтобы выкупить у беспощадной смерти этого друга, такого нежного и такого доброго!». Нотариус и Тодескини улыбались этому непосредственному выражению моего сожаления, но Смерть, которая не придает особого значения золоту и табакеркам, которая также абсолютно уверена, что получит мой нос рано или поздно, не желала ничего давать взамен. Поэтому я сохранил подарок доброго Маффеи, и это единственное наследие, которое я получил. Миллион не был бы для меня дороже. Очень скоро после этой печальной потери смерть пришла в Падую и неожиданно нанесла удар одному из самых лучших, самых преданных, самых постоянных моих друзей, Иннокентию Массимо. На этот раз, я даже не осмеливаюсь издать восклицание. Я горько плачу, не говоря ни слова. Сын Массимо, очаровательный молодой человек, и его жена Елена Распи, один из самых приветливых и самых душевных людей, которых я когда-либо знал, бросились в мои объятия, ожидая от меня отцовской любви, и я нашел большое утешение в сыновней любви, которую они мне наивно подарили, и которую я до сих пор ощущаю.
Часто мы бываем смущены, говоря между собой о тех, кого уже нет, и в те моменты, полные печали, я повторяю тихо, без горечи, слова, произнесённые таинственным и незнакомым голосом: «Нельзя всегда смеяться», и добавляю: «Но и не нужно всегда смеяться».
Я приблизился, между тем, к пятидесяти и я чувствую, что в этом значительном возрасте уже невозможно заинтересовать читателя. Что я мог бы рассказать об этих годах спокойствия, когда натура засыпает и остывает? Я был довольно забавен в моих любовных страстишках молодого человека. Я был бы ещё более интересен, если бы мое сердце было еще способно зажечься в пятьдесят лет. К счастью, это не так. Пожалуй, я не сказал бы многого по части страстей. Мои произведения не имеют уже того значения, как прежде, это всего лишь сонеты и короткие стихи по случаю, которые занимательны на протяжении дня, и умирают на следующий день после их рождения. Больше нет драматических войн, осад, ловушек или правильных боёв вокруг крепости Парнас! Большие политические слухи идут с севера Европы, и их эхо порождает изумление и беспокойство в Италии. Сейчас эти слухи растут день ото дня. Лев Адриатики закрыл глаза и притворился спящим, не слушая их. Каждый порыв ветра, пересекающий Альпы, приносит какое-нибудь новое слово; слово «Равенство» приходит в грозовых тучах, мы пытаемся его понять, мы толкуем его сотней способов. Я поворачиваю и снова поворачиваю его семь раз в своей голове, и чем больше я об этом думаю, тем больше нахожу причин рассматривать его как философское мечтание.
Благосклонный читатель, если вы справедливы, вы поблагодарите меня за то, что мы проскользнём мимо истории моих последних лет, потому что если я позволю себе впасть во вздорную болтовню, это может привести к написанию ещё целого скучного тома; я воздержусь от этого, потому что я потерял так много родных и друзей, что буду гнать вас, помимо своей воли, на кладбище, и потому, что мой печатник говорит, что у нас больше материала, чем необходимо; впрочем, это означает пренебречь здравым смыслом, которым я руководствовался, предприняв эту работу, поскольку я печатаю эти воспоминания со смирением. Вы найдете в приложении к этой главе пьесу «Любовные снадобья», поставленную в театре Сан-Сальваторе 10 января 1770 года, и вы сможете судить сами об этой личной сатире. (В доступных нам экземплярах Мемуаров нет этой пьесы – Л.М.Ч.)
Семнадцать лет протекло с тех пор, как я писал эти строки. Мы находимся в 18 марта 1797 года, и здесь я добавлю последнее слово. Я чувствую, что энтузиазм охватывает меня. Позвольте мне, пожалуйста, патетическую тираду: «В сладком сне о невозможной демократии, убаюканные обманчивой иллюзией свободы, о мои соотечественники, мы видим появление на наших глазах…» Но печатник перебивает меня и просит убавить жар моего красноречия. Так что я оставляю людям серьёзным и историкам правдивым задачу рассказать о том, что происходит на наших глазах. Терпеливый читатель, пользуюсь тем, что я еще жив, чтобы сказать вам нежное «Прощайте».
Послесловие А.Мюссе к переводу «Мемуаров» на французский язык
Прочитанные сейчас «Воспоминания» были написаны Карло Гоцци в 1780 году. Последние слова, добавленные в 1797, говорят о том, что рукопись перед публикацией оставалась в течение семнадцати лет в руках автора. Достойно сожаления, что чрезмерная щепетильность помешала Гоцци рассказать историю своей старости, потому что интерес к его книге проистекает не только от важности описываемых событий, но и от формы повествования и от блеска ума автора. Было бы любопытно проследить, какие изменения произвели возраст и время в этой поэтической натуре. Сведения о последних годах жизни Карла Гоцци почти отсутствуют. Только из его писем и стихов можно попытаться сделать правдоподобные догадки.
Есть в Мемуарах один пассаж, на котором современники останавливают внимание. Не вполне очевидна добросовестность автора в рассказе об истории бедного Гратарола. Дружба автора с Теодорой Риччи имеет все признаки более нежного чувства. Многие из незаинтересованных свидетелей объясняют в двух словах происхождение и предмет этого комедийного спора: «Гоцци, как говорят, был влюблен в Риччи. Молодой фат его заменил. Он отомстил, выставив на сцене своего соперника смешным». Общее мнение часто в подобных случаях бывает ошибочным, однако редко является совершенно далёким от истины. Поскольку наш поэт вполне не хочет признавать, что испытывал любовные чувства к первой актрисе компании Сакки, можно оказать ему честь, поверив в этом, но тогда его дружба была страстной, ревнивой и требовательной. Возможно, усилия Гоцци склонить эту молодую женщину к добрым чувствам и самоуважению, его желание сделать её честной и достойной того уважения, которым он наделил её заранее в дополнение к добродетели, которой она пока не обладала, его надежды, рухнувшие с прибытием бездарного щеголя, пробудили в нем глубокие чувства, имеющие все признаки ревности.
Сорокалетний возраст Карло Гоцци, его резонёрский характер, его занятия, его серьёзное творчество, его система – всё это ясно обрисовывает рамки, в которых поэт может вести себя среди комедиантов; есть сотня других причин полагать, что автор был искренен в своем рассказе об отношениях с Теодорой, он, по всей видимости, докучал своей подруге, говоря с ней постоянно о верности, пытаясь на свой лад исправить воспринятые ею дурные принципы. Такое предположение о неискренности автора мы не должны принимать без явных доказательств. Но в отношении Пьер-Антуана Гратарол всё выглядит по другому.
Желая, как он нам объясняет, сделать из своей подруги Лукрецию, Гоцци придаёт черты благородства и великодушия своей понятной слабости к очаровательной женщине. В этих обстоятельствах его дружба могла проявиться ревностью и Гоцци подчинялся этому вполне понятному чувству, как показано в пьесе у испанского поэта (Лопе де Вега) «Собака на сене». Он совершенно не желал, чтобы другой отобрал у него то, что он уважал. Карло Гоцци строил свои планы, не учитывая мнения своей подопечной, иными словами без учёта жизни кулис, опьянения успехом, без учёта потребностей, разного рода соблазнов, легкомыслия, не слишком большой выгоды для актрисы в её добронравии, малого значения для неё честности, и, в конце концов, чрезмерного доверия к её добродетели. Гратарол, естественно, должен был легко разрушить прекрасные планы нашего поэта, в одно мгновение уничтожить плоды его красивых уроков. Завоеватель не замедлил объявиться, и он победил, с коробкой конфет в руке. Гоцци, со своей моралью и издержками красноречия, не выдерживает сравнения с шоколадными конфетами из Неаполя, и, после революции в представлениях молодой актрисы, «собака на сене» не имеет уже возможности кончить дело так, как та другая собака из басни, что съела обед своего хозяина, после того, как столь упорно его защищала. Очевидно, Гоцци, испытывающий беспокойство и сожаление по поводу явного падения своей красивой кумы, создаёт в это время комедию, черпая в своём гневе и своей досаде столь нужное ему вдохновение. В пьесе «Любовные зелья» герцог Александро влюблен в принцессу, и фат Адонис доставляет ему столько поводов для ревности. Герцог считает, что его глупый соперник более любим, чем он, его ревность становится ужасной. Принцесса, капризная и склонная к фантазиям, явно предпочитая герцога, развлекается, дразня его и притворяясь, что испытывает любовные чувства к смешному персонажу, чего на самом деле нет. В развязке фат одурачен; и в этом разница ситуаций между комедией и реальностью. Гоцци было бесполезно это отрицать, невозможно предположить, что он не поддавался реальным движениям своей души, создавая эту пьесу. Выбор сюжета, персонажи, характеры, все указывает на то, что он опирался в этом произведении не только на свою поэтическую чувствительность. Теперь, чтобы быть справедливым, мы должны признать, что бестактность Риччи, алчность старого капо-комико и злорадство публики в значительной мере помогли автору и намного превзошли его намерения. Материализованная мысль Гоцци была спародирована путем переодеваний, грубых подражаний, которые превратили произведение искусства в сатиру на частности. Высшая воля совета Десяти завершила этот странный спектакль, достойный времен Аристофана. Правительство решило, что наказание бедного Гратарола послужит примером для молодых людей, увлекающихся английскими модами, и для других секретарей Сената, которые будут испытывать соблазн посещать кулисы и устраивать скандалы. Гоцци был всего лишь инструментом для такого публично организованного исправления нравов, но в глубине души он должен был посмеяться, видя себя так хорошо отомщенным. Его притворное отчаяние, вероятно, является не более чем способом развлечь читателя.
Произведения Карла Гоцци содержат некоторые замечательные пассажи по поводу идей конца восемнадцатого века. Таковы тонкие и впечатляющие наблюдения, содержащиеся в малых фантазиях, удивляющие и поражающие нас в связи с надвигающимися в Европе событиями. Слово «Свобода» пугает его, и он не осмеливается пытаться понять его смысл. Он относит его к философским фантазиям, предпочитая не вдумываться в его значение. В письме, написанном в 1780 году, он определяет новые идеи как «крики, издаваемые народами по поводу старых притеснений, на которые теперь нет ответа». Уже в пьесе «Зелёная птичка», поставленной в 1765 году, он разражался резкими эпиграммами против французской философии. Жан-Жак Руссо был одним из величайших умов этого века, которым он восхищался. Вольтер его пугал, он сравнивал его с машинами Архимеда, которые с высоты валов Сиракуз рушили римский лагерь. Между тем, в 1797 году, когда Гоцци отправил свои мемуары печатнику, продержав их в течение семнадцати лет под спудом, Франция стойко сопротивлялась целой Европе; 18 марта – дата битвы при Тальяменто и капитуляции крепости Градиска, которые отдали венецианские провинции в руки французской армии. Гоцци должен был чувствовать смущение за своё неверие, видя такие гигантские эффекты «философских фантазий». Он пишет г-же Сене: «Вы можете гордиться тем, что принадлежите к нации, которая не склоняется при любой опасности и готова скорее умереть, чем подчиниться насилию. Нет ничего более прекрасного, чем спастись, благодаря отчаянию. Зрелище, которому мы являемся свидетелями, должно наполнить вас чувством законной гордости, но я венецианец душой, и вы простите мои слёзы, если возвышение вашей родины влечет за собой унижение и разрушение моей». Действительно, несколько мгновений спустя, аристократия Венеции юридически утвердила своё собственное падение, своё отречение. Она самоликвидировалась после четырнадцати веков существования, не пытаясь спастись, запахиваясь плащом, как Цезарь, испустивший дух под ударом кинжала. Когда были введены в действие французские законы, патриции, лишенные своих привилегий, были вынуждены считаться со своими кредиторами, от чего они были до сего дня избавлены. Некоторые крупные дома перешли от роскоши к бедствию вследствие самого простого применения аксиомы справедливости: «Оплачивай свои долги». Это был случай для Карло Гоцци понять истинный смысл слова «равенство». Имеется на этот сюжет любопытное место в письме к мадам Сене, снабженном примечательной датой: Порденоне, 1-й год итальянской свободы: «Теперь я знаю, почему наш бедный Гаспаро постиг практическую философию намного лучше меня. Это вы, мадам, принесли ему из своей страны дозу здравого смысла и знания, которых вы не хотели сообщать другим. Мне не надо долго думать, чтобы понять, что громкое имя, вместо того, чтобы позволять безнаказанно творить зло, накладывает на некоторых людей требование поступать лучше, чем люди вульгарные; но не полагаете ли вы, что я достиг моего почтенного возраста, не представляя себе, как легко можно злоупотребить привилегиями? Вот так в один прекрасный день люди станут равны перед законом, и я буду удивлен, что могло быть иначе. Я всегда буду старым ребенком, и поскольку я не хочу спорить с моим прошлым, ни вступать в противоречие со своей совестью, из-за самолюбия или упрямства, я наблюдаю, слушаю и я умолкаю. Кое-что, что я мог бы сказать, содержит противоречия между моим разумом и моими чувствами. Я восхищаюсь с благоговением ужасными истинами, вооруженными мечом, которые спускаются с высоты Альп, но мое венецианское сердце обливается кровью и слезами, когда я вижу, как наша страна теряет даже свое название. Вы можете сказать, что я умаляю значение вещей и что я должен гордиться тем, принадлежу теперь к родине более обширной и сильной, но в моем возрасте нет уже этой гибкости и эластичности молодых людей. На берегу Скьявона есть скамейка, где я сижу охотнее, чем в других местах, я там себя хорошо чувствую. Вы бы не осмелились сказать мне, что я должен любить все остальные берега, так же, как этот выбранный мной уголок: почему же вы хотите, чтобы я раздвинул границы своего патриотизма? Пусть уж мои племянники должны будут проделать эту работу». После исчезновения комической компании Сакки Карло Гоцци написал только две пьесы для театра Св. Иоанна Златоуста; одной из этих пьес был балет «Дочь воздуха», имевший большой успех. В последние годы республики Венеции, Гоцци также опубликовал несколько стихотворений, и эти стихи «по случаю» обладают большей силой и блеском, чем произведения его юности, написаны с большей чистотой и тщательностью. После падения венецианского правительства, наш поэт обрек себя на молчание. На фоне великих событий, которые сотрясали Европу, он счёл эпоху фантастических творений навсегда для себя законченной. Он жил спокойно в провинции, иногда у своего брата Альморо, иногда у молодого Массимо, чьи дети очень его любили и звали в шутку дедом. Когда он чувствовал, что его одолевает склонность к одиночеству, он удалялся в свой дом в Санта-Кассиано или в провинцию Фриули. Он умер в дни империи и неблагодарные венецианцы настолько забыли Гоцци и его творения, что даже не знают точной даты смерти этого очаровательного поэта, который развлекал их в течение полувека. Карло Гоцци горько сожалел об упадке комедии дель-Арте и национального театра масок. Он испытал боль, видя свои пьесы полностью заброшенными, и пьесы Гольдони, вернувшимися в театр. Его друзья пытались скрыть от него эту революцию во вкусах публики, но он догадывался, что происходит, и говорил, улыбаясь: «Я всегда знал, что огромный багаж Гольдони когда-нибудь выплывет, как то старое тряпье, что выбрасывают из окон в каналы. Бывает такой мусор, что никак не желает оставаться на дне. Только большой прилив может заставить его исчезнуть».
Сноски
1
не тронь меня – лат.
(обратно)2
ленное владение – юр. термин (прим. перев.)
(обратно)3
Мерсье (Mercier) Луи Себастьен, 1740–1814, французский писатель (прим. перев.).
(обратно)4
Государственная должность в Венеции (прим. перев.)
(обратно)5
Далмация – историческая область на северо-западе Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря; в 1420–1797 годах находилась под властью Венеции (прим. перев.)
(обратно)6
Волонтер – лицо, добровольно поступившее на военную службу (прим. перев.).
(обратно)7
За́дар (хорв. Zadar, итал. Zara) – город в Хорватии, в 1400–1800 гг. принадлежал Венеции (прим. перев.)
(обратно)8
Контрэскарп – фортификационное сооружение, ближайший к противнику откос рва долговременного или временного укрепления (прим. перев.)
(обратно)9
Бокко-ди-Каттаро – (Bocche de Cattaro) залив Адриатического моря в Далмации, в глубине которого лежит гавань Каттаро – Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
(обратно)10
Морлаки (сербск. морлаци, итальянск. Morovlacchi, немецк. Morlacken), т. е. морские или приморские влахи – славянские обитатели Далматинских гор (Энциклопедия «Брокгауз и Эфрон»)
(обратно)11
– Турнус – Турн – царь рутулов, сын Давна и Венилии, убитый своим соперником Энеем (прим. перев.).
(обратно)12
Буда – (Будва) – город в Черногории, в центральной части адриатического побережья (прим. перев.).
(обратно)13
Здесь – местные власти (прим. перев.).
(обратно)14
Спалатро (Спалато, Сплит) – город в Далмации (прим. перев.).
(обратно)15
Город в Далмации (прим. перев.).
(обратно)16
Фацетии – короткие рассказы, напоминающие анекдот, нравоучительные, порой пикантные (Википедия).
(обратно)17
Фидеикомиссы – завещательные отказы попечителей (юр.) (прим. перев.)
(обратно)18
По преданию, император Нерон убил свою мать (прим. перев.)
(обратно)19
Джудекка – один из островов в венецианской лагуне (прим. перев.)
(обратно)20
Чтобы понять чувства, выраженные этой странной сценой, необходимо знать, что в Италии поцелуй руки, даже дамы, рассматривается как знак покорности гораздо больший, чем во Франции (прим. П. де Мюссе)
(обратно)21
Мифологический персонаж, сын Атрея (прим. перев.)
(обратно)22
Кардинал Бембо – Пьетро Бембо (1470, Венеция —1547, Рим) – итальянский гуманист, кардинал и учёный (прим. перев.).
(обратно)23
Одиночка (прим. перев.)
(обратно)24
Выражение, аналогичное нашему «галопом по европам» (прим. перев.)
(обратно)25
Тартана – рыбацкая лодка, барка (прим. перев.)
(обратно)26
Луиджи Пульчи – итальянский поэт – гуманист XV века (прим. перев.)
(обратно)27
намек на Бурчелло – один из островов венецианской лагуны, откуда по преданию началось заселение Венеции (прим. перев.)
(обратно)28
Ректор Бергамо – глава материковой территории – «террафермы» Бергамо, подвластной республике Венеции. Террафермы имели определенную самостоятельность, но верховной властью обладал ректор, подконтрольный венецианскому Сенату и Совету Десяти (прим. перев.).
(обратно)29
Мартеллианский стих – тяжелый стих, подобный александрийскому стиху французских трагедий (прим. перев.)
(обратно)30
вероятно, ДЕТУШ Филипп [Philippe Destouches, он же Néricault, 1680–1754] – французский драматург послемольеровского периода (прим. перев.)
(обратно)31
Два абзаца ниже содержат выдержки из «Рассуждений» Карло Гоцци, и добавлены здесь Полем де Мюссе, чтобы дополнить этот пассаж автора Мемуаров
(обратно)32
Переложение пьесы Кальдерона (прим. автора)
(обратно)33
«Согласного судьба ведёт, несогласного тащит!» – латинский аналог народной итальянской поговорки (прим. перев.).
(обратно)34
Четыре нижеследующих абзаца взяты из письма Карло Гоцци его брату Гаспаро. (Примечание П. де Мюссе)
(обратно)35
«Габриелла де Вержи» трагедия П.-Л. Бюирета де Беллуа, романтика, современника автора мемуаров (прим. перев.)
(обратно)36
директор театра (ит.)
(обратно)

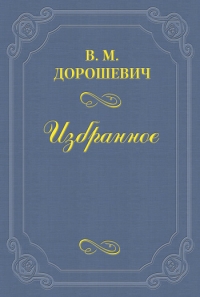
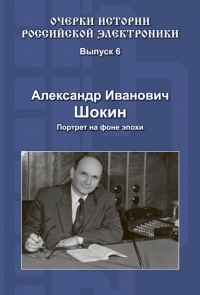

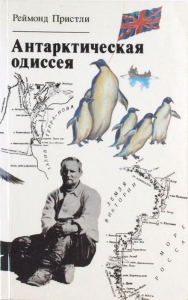
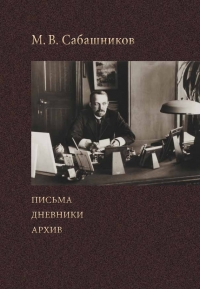
Комментарии к книге «Бесполезные мемуары», Карло Гоцци
Всего 0 комментариев