ОТ АВТОРА
Когда я почувствовал, что меня переполняют впечатления от увиденного, узнанного, пережитого, и понял, что мой опыт кому-то может быть полезным, то решил попробовать свои силы в журналистике. Первые мои рассказы были написаны о братьях наших меньших, живущих вольно на природе. Постепенно круг моих интересов переместился на бытовую стезю, а уже потом я стал писать о своих фронтовых — боевых друзьях и товарищах. Все, что написано мною, не вымысел, это живые люди, прошедшие суровые испытания на фронтах Великой Отечественной войны. Многие уже ушли из жизни, но они навсегда останутся на страницах моей книги.
В 2001 году вышла моя первая книга «Мое Приазовье».
В 2005 году — вторая книга — «И все это жизнь!»
В 2006 году — третья книга — «Рассказы для детей и подростков».
Григорий ТрубачевПосвящаю своей маме Трубачевой Екатерине Федоровне, чей светлый образ будет жить в моей памяти до конца дней.
В отличие от набившего за последнее время оскомину жанра современного бестселлера, написанного холодным, абсолютно правильным литературным языком, писатель тепло, по-шолоховски, вводит нас в мир своих героев.
Мудрость и опыт человека, немало повидавшего на своем веку, позволяют Григорию Дмитриевичу увидеть простые вещи с неожиданной стороны. Это взгляд глазами братьев наших меньших, взгляд космонавта, с любовью рассматривающего хрупкий и нежный голубой шар колыбели человечества.
Почетный член Военно-охотничьего общества, заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации В. МИЛЕЕВКраткая автобиография
Трубачев Григорий Дмитриевич родился 4 февраля 1926 года в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставропольского края в семье рабочего. В 1933 году пошел в школу. Учился до 1941 года и окончил 8 классов. В 1944 году 2 марта был призван в ряды Советской Армии. В освобожденном Моздоке прошел курс молодого бойца и был отправлен на фронт. Воевал в 14 гв. ст. дивизии, 5 гв. ст. армии в составе дивизионной разведки. Прошел с боями в пешем строю от Сандомирского плацдарма (Польша) до пригорода города Берлина. Дважды был ранен: легкое ранение в правую ногу; тяжелое, в левый глаз с контузией. Конец войны встретил в госпитале в городе Кисловодске. В 1946 году был демобилизован из рядов Советской Армии. В 1947 году поступил в Георгиевский техникум механизации сельского хозяйства Ставропольского края. В 1950 году окончил его с отличием и был направлен в Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1955 году окончил его и был направлен на работу в Краснодарский край. Вначале работал в ст. Старощербиновской, затем в ст. Отрадной, а потом в Ейске. Здесь, в этом городе, и нашел свой причал. Двое детей: дочь Жанна и сын Гриша. Вначале работал на разных предприятиях города, а затем, последние 25 лет, преподавателем Ейского техникума механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1990 году ушел на заслуженный отдых и увлекся журналистикой. Вначале писал короткие рассказы о животных, птицах. Начал публиковаться в местной и краевой печати. Затем стал писать рассказы на бытовые и военные темы. В конце 1999 года написал повесть «Награжден посмертно» о немецкой овчарке по кличке Цезарь. В данный период жизни продолжает писать. Поддерживает тесную связь с детской библиотекой города и другими библиотеками.
РАССКАЗЫ
Серьги с бриллиантами
Анна Сергеевна собралась на местный базарчик купить помидоров. Она вышла из своего небольшого домика, построенного еще ее отцом, и тут же увидела мужчину в очках с толстыми стеклами. На нем было драповое пальто, поношенная фетровая шляпа, не первой свежести брюки и туфли на толстой подошве. Он нерешительно подошел к ней. «Извините, пожалуйста, вы не подскажете, у кого в этом районе можно снять комнату для одинокого мужчины?» После смерти мужа Анна Сергеевна жила одна. Она еще раз внимательно взглянула на мужчину. Толстая, слегка отвисшая нижняя губа, простое доверчивое русское лицо не внушали никаких подозрений. Он неуклюже стоял, переминаясь с ноги на ногу, и постоянно поправлял сползающие очки. «Чудной какой-то, — подумала Анна Сергеевна. — А вы пройдите вон в тот большой дом к Колесниковым, у них, пожалуй, найдется место для одинокого человека, а если не примут, пройдите дальше — к Домне Ивановне». — «Спасибо», слегка загребая правой ногой, он не спеша пошел к указанному дому. Она еще раз глянула ему вслед и снова подумала: «Чудной какой-то». Скупившись, Анна Сергеевна шла домой и снова встретилась с мужчиной. «Ну как, нашли?» — спросила она. — «Нет. Наверное, моя внешность не внушает доверия». Анне Сергеевне вдруг почему-то стало жаль этого, уже не молодого человека. «Что же мне с вами делать? — вдруг как-то неожиданно для самой себя спросила она. — Ну ладно, пойдемте».
Иван Семенович оказался на редкость культурным человеком и очень грамотным. О таких в народе говорят: мастер на все руки. Он устроился слесарем-наладчиком на комбикормо-элеваторный комбинат. По просьбе Анны Сергеевны на домике отремонтировал крышу и сточную трубу. С ее разрешения в заброшенном сарайчике оборудовал мастерскую. Однажды в непринужденной обстановке, когда они сидели за чашкой чая, Иван Семенович вдруг пожаловался ей: «Я неудачник. Причем неудачи меня преследуют, как правило, в тот момент, когда их не ждешь». Несмотря на его замкнутость, Анна Сергеевна постепенно привыкла к нему и привязалась. Однажды обессилев от бесплодной борьбы с собой, Анна Сергеевна прошла через темную столовую в его комнату, присела на краешек кровати и положила голову ему на грудь. Он ощупал ее волосы руками и, задыхаясь, сказал: «Если это сон, пусть ему не будет конца»… Тридцать три года, которые прожила Анна Сергеевна, теперь казались ей только вступлением в жизнь. В душе ее все ожило, и оттого все изменилось вокруг: по-иному светило солнце, росла трава, чирикали воробьи. Если небо затягивало и моросил нудный дождик, она радовалась: тем уютнее будет им в ее маленьком домике. Если тучи уходили, она тоже ликовала: вот кончит в больнице обход, приедет к нему на работу, и они вдвоем будут пешком возвращаться домой под вымытым небом. Мешал ей жить только постоянный страх, что с ним случится нехорошее: ей чудилось, что он попадет под автобус или по рассеянности схватится рукой за оголенный провод, или, разнимая дерущихся, попадет под удар ножа. Не зря же он называл себя неудачником.
Беда пришла совсем с другой стороны. Однажды, вытряхивая пыль из старенького пальто Ивана Семеновича, Анна Сергеевна заметила, что один карман был распорот. «Как же я не зашила, когда чистила пальто, — с укором сказала она себе. — Не обратила внимания, что ли?» Она просунула руку в прореху и нащупала какую-то бумажку. Вынув ее, Анна Сергеевна удивленно пожала плечами: «Сто рублей». Она опять просунула руку и нашла между верхом и подкладкой еще несколько бумажек. «Странно, — подумала она, — всю зарплату он отдает мне — откуда же эти деньги? Может, они завалились в прореху еще до того, как он поселился у меня? Но прорехи-то вроде не было? Или была?» Подозрение, еще не ясное, мелькнуло в голове Анны Сергеевны и болезненной судорогой отозвалось в сердце. Подсчитав деньги (их оказалось восемьсот рублей), она положила их на прежнее место и повесила пальто в платяной шкаф. В очередную получку он опять вручил ей деньги. «Ты мне все отдаешь?» — спросила она небрежно. — «Конечно, — сказал он с ясной улыбкой, как и прежде. — Ведь я не курю, а за кино ты платишь сама». Анна Сергеевна облегченно вздохнула, но о находке ничего не сказала: что-то тревожное в ее душе осталось.
На следующий день он задержался на работе. Анна Сергеевна ходила по комнате, борясь с желанием проверить «заначку» жильца: так хотелось успокоиться. Она просунула руку, вытащила первую попавшуюся бумажку и сразу почувствовала, как отхлынула от лица кровь: бумажка была достоинством пятьсот рублей. Анна Сергеевна опустилась в кресло и долго сидела, не поднимая глаз от пола. «Солгал! Солгал с таким ясным, невинным лицом!». Прошло дней десять, и вот в местной газете она прочла, что слесарь-наладчик комбикормо-элеваторного комбината был премирован за усовершенствование специального приспособления при наладке оборудования. Утром, когда он вышел с ведром во двор, чтобы набрать из колонки воды, она тотчас бросилась к шкафу. В потаенном месте оказалась пачечка десятирублевок. От обиды Анна Сергеевна даже не стала считать, только прошептала, задыхаясь: «Подлец!.. Я перед ним душу нараспашку, а он от меня деньги утаивает!» Когда Иван Семенович вернулся, она спросила, не узнавая своего голоса: «Вы часто меняете квартиры хозяек?» — «Что?»— не понял он. — «Я спрашиваю, — повторила она, отчеканивая каждое слово, — вы часто меняете квартиры хозяек? Точнее, долго они вас терпят? И кто была последней, которая выгнала вас в одном дырявом пальто, распознав вашу натуру?» «Господи, что я говорю», — пронеслось в ее воспаленном мозгу. Но остановиться она не могла. Иван Семенович стоял перед ней с восковым лицом, с неподвижным взглядом широко открытых глаз. «Аня, что случилось? Аня, опомнись!» — с трудом прошептал он. «Опомниться?! Так я уже опомнилась! Опомнилась и ясно вижу, кто вы! Вы… вы… — И, будто падая в бездну, выкрикнула голосом, полным боли и ненависти: — Вы специалист по одурачиванию доверчивых женщин! Они вам нужны как источник материальных благ!.. Какая мерзость!..»
Он вздрогнул, прикрыл глаза и, как слепой, простирая вперед руки, пошел к двери. «Что я наделала?» — ужаснулась Анна Сергеевна, всем существом своим ощутив открывшуюся перед ней пустоту. Она хотела крикнуть: «Остановись! Скажи в оправдание хоть слово, и я прощу тебя!» Но злое чувство опять взяло верх. «Ну и пусть уходит, на свежем воздухе размыслит. Ничего, далеко не уйдет: деньги-то в пальто остались!» Она прошла в свою комнату, упала на кровать и зарыдала.
Всю ночь Анна Сергеевна не спала, прислушивалась к шагам на кирпичной дорожке. Но шаги были не его. Иногда ей слышался тихий скрип двери. Она заглядывала в столовую. Там было пусто. Забылась только под утро. Утром, выпив валерьянки, она решила: «Хорошо, обдумав все снова, буду самым строгим судьей себе и снисходительной к нему. Я не потратила его денег на себя ни копейки, все необходимое я ему покупала, и он знал, не мог не знать, что так было бы и впредь. Семьи у него нет, посылать некому. Зачем же он прятал от меня деньги? Значит, он не думал связывать со мной свою жизнь навсегда и ушел бы, добившись своего». В больницу Анна Сергеевна отправилась почти спокойно. Зайдя в кабинет, не спеша сняла трубку и набрала номер. Хотела сказать, что он может прийти и взять свое пальто со всем, что в нем прятал. Насмешливый, задорный голос ей ответил: «Кого — кого? Ведерникова? Поздно, гражданочка, хватились. Он сегодня утром взял расчет». — «Как — расчет? Почему?» — глухим голосом спросила Анна Сергеевна. — «А уж это мы не знаем. В заявление написано, что по состоянию здоровья». Он не пришел ни в этот, ни в следующий день. Вечером, накануне дня своего рождения, она услышала стук в окно. Открыла дверь и увидела пожилого незнакомого мужчину. «Здесь проживает гражданин Ведерников?» — спросил он. — «Здесь, — нехотя ответила Анна Сергеевна, — но его сегодня нет дома». — «А не скажете, когда он придет?» — «Не знаю, — выдавила из себя Анна Сергеевна. — Зачем он вам?» — «Видите, какое дело. Он…». — «Зайдите», — посторонилась Анна Сергеевна. Человек вошел и опустился на стул. — «Видите, какое дело: я снес в комиссионный магазин свои серьги. Гражданин Ведерников разыскал меня и попросил до двадцать третьего не продавать их, а к двадцать третьему обещал уплатить всю остальную сумму. Я говорю „остальную“, поскольку он оставил тысячу рублей залога. Для супруги он хотел купить их, ко дню рождения. Надо думать, это для вас, да? И вот сегодня срок уже истек, а он все не появляется. А мне до зарезу нужны деньги. Ой, да что с вами? — прервал себя мужчина. — Вам нехорошо?» — «Нехорошо», — сказала Анна Сергеевна, ловя ртом воздух. Мгновенно ей вспомнился разговор, не оставивший, казалось, и следа в памяти. Они зашли однажды в комиссионный магазин, так, от нечего делать. Увидев под стеклом прилавка золотые с бриллиантами серьги, Анна Сергеевна сказала: «Вот такие и я себе когда-нибудь куплю. Они мне будут к лицу, правда?» — «Так в чем же дело? Давай понемногу откладывать», — предложил он. «Ну нет! — засмеялась Анна Сергеевна. — Есть кое-что и поважнее. Например, наш домик».
Мужчина растерянно смотрел, как ползет со стола скатерть, за которую ухватилась руками Анна Сергеевна. — «Может, вам позвать кого?» — «Нет — нет… Никого не надо… Я сама. Идите… Да идите же». — «Ну извините». Мужчина ушел, а Анна Сергеевна продолжала цепляться за скатерть и бессмысленно повторять: «Я сама… Сама… Я сама…»
Апрель 1996 года.
Маруська
Размахивая кожаным поясом, он громко крикнул: «Ну держись, Кукуиха! Догоню, врежу по заднице!» А она, словно дикая лань, стремительно неслась вдоль молодых пар, образующих большой игровой круг. В ее движении было столько энергии и задора, а большие серые глаза излучали столько лучезарного света и радости, озорства и лукавства, что, казалось, только смерть сможет остановить ее стремительный бег. Это было давно, когда мы, молодые, после трудового дня играли на степном культстане в «третьего лишнего». Они пробежали несколько кругов, и Димка, убедившись, что напрямую ее не догнать, резко остановился. И тут же кто-то из девчонок громко-громко крикнул: «Смотри, Маруська!» Она тоже остановилась. Увидев, как Димка, прячась за стоявшие пары, двигался ей навстречу, она, не раздумывая, быстро встала впереди меня. И новый «третий лишний» выскочил в круг. В необузданном порыве я обхватил ее разгоряченное тело и с каким-то трепетом прижал к себе. Моя правая рука непроизвольно наткнулась на ее твердую девичью грудь. Она вздрогнула, и рука резко опустилась. Для меня это было так неожиданно и так ново, что все мое тело будто обдало жаром. Никогда за всю прожитую жизнь ни с кем я не испытывал потом такого нежного и радостного чувства. По всему телу пробежала дрожь. Бешено и страстно забилось сердце. Я не знал, как поступить. Ее просто убранные русые волосы пахли степью, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела. Это был какой-то страстный порыв нового начала. Начало моей первой несбыточной и еще не осознанной любви. Это было время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, встревоженной нежности, радости. «Прости, — с трудом выдавил я, слегка отстранив от себя ее тело. — Я не хотел, как-то так получилось». А она резко повернулась, дохнула на меня горячим воздухом, обхватила обеими руками мою голову, поцеловала в губы, вышла из круга и побежала в степь. Задохнувшись, я стоял, словно завороженный, не в силах сдвинуться с места. Ноги стали какими-то непослушными, тяжелыми, словно набитыми ватой. «Маруська! Маруська!» — звенело в моих ушах. — «Ну что ты стоишь? Иди же» — кто-то несильно подтолкнул меня в спину. «Куда?» — растерянно спросил я. «Эх ты, теленок!» Прошло более полувека с тех пор. Теперь уже и культстана того нет. Да и жива ли она, девушка моей юности? Но я и поныне вижу, ее, стремительно убегающую от меня с гордо поднятой головой, девушку моего первого счастья, Маруську Кукуеву.
Сентябрь 1997 года. Село Чернолесское Ставропольского края.
Обруч
Снабженец АО «Станлит» Ванька Сухачев, побывав на рынке и увидев ее, белоснежную, решил на зиму насолить капусты. Кадушку он год назад нашел на чердаке дома, подлежащего сносу. Осмотрев ее, решил подремонтировать. Сбив крайний обруч, очистив его от ржавчины, набил снова. Сбивая второй, он заметил, что обруч не такой, как все. Гладкий и не покрыт ржавчиной, толще и тяжелее. Протер он его тряпочкой, и обруч засиял желтым цветом, отразив в глазах Ваньки блики электрической лампочки. «Золотой», — подумал Ванька. Прикинул вес — не менее полукилограмма. Сердце учащенно забилось. Вот это да! Не было ни гроша — и вдруг алтын. Что делать? Сдать государству и получить законные двадцать пять или продать нелегально? Надо подумать. Он завернул обруч в тряпку, спрятал. Вечером, когда они с женой легли спать, Ванька шепотом сказал: «Знаешь, я нашел обруч». — «Какой?» — «Золотой. Со старой кадки сбил». — «А где ты ее взял?» — «Какая тебе разница, где, что, когда. Вот лежи и думай, сдать государству или нелегально продать». Он замолчал и долго думал, как поступить. «Вань, а Вань», — первой не выдержала молчание жена. — «Ну, что тебе?» — «Я думаю, надо сдать государству. А вдруг кто узнает». — «Да ты первая и растреплешься. По секрету всему свету». — «Лучше бы и не говорил. Это при Советской власти было строго, а сейчас все воруют, а те, кто у власти, так больше всех. Посмотри, каких коттеджей настроили. На трудовые не построишь. Понимаешь, если продать, даже по минимальной, это тысяч пятьдесят будет. Откроем ларь. Вон Баранниковы открыли на рынке ларь и уже по новой машине себе и зятьям купили. А она так разъелась на дармовых харчах, что в дверь только боком и просовывается. Вот что такое рыночная экономика. А мне бы шубу, Вань, а?» — «Вначале ларек, а уж потом, когда появятся денежки, можно будет и о шубе подумать. Бросишь работать, будешь торговать. Вначале сигаретами, жвачкой, кое-чем еще по мелочи. Приобретем свой транспорт, а с ним проще будет разворачиваться». Так они и уснули с радостной надеждой на успех. Утром Ванька пошел к знаковому армянину. «Чем проще, тем сложней, — сказал армянин. — Вполне возможно, что обруч золотой. Я помогу тебе найти покупателя». Мечтая о будущем богатстве, Ванька, как на крыльях, летел по заводоуправлению. Он даже с каким-то пренебрежением стал относиться к своим сослуживцам. Дома с женой до одурения строили планы, всякий раз напоминая друг другу: «Ты ж смотри, никому!» Через неделю пришел невзрачный мужичок и тихо сказал: «Я от Сергея. Надо посмотреть». Он долго вертел обруч в руках, а потом достал маленький пузырек и осторожно помазал содержимым участок обруча. Через несколько минут сказал: «Не золото, видишь, потемнело». Повернулся и ушел. «Дурак думкой богатеет», — сказал Ванька и пошел в подвал ладить кадку.
Январь 1996 года.
«Простите нас»
Опираясь на палочку, по городу медленно шел старый человек. Его полусогнутая фигура, изношенный плащ, истоптанные, незашнурованные ботинки, брюки, заправленные в носки, седые, торчащие из допотопной ушанки волосы невольно бросались в глаза прохожим. Через плечо на веревочке — наполовину наполненная, видавшая виды дерматиновая сумка. Он изредка останавливался, тяжело вздыхал, поднимая к небу глаза, затем с полнейшим безразличием смотрел на прохожих. Миновав магазин «Ветеран», свернул вправо, на улицу Свердлова. В это же время на улице Ленина случайно, у газетного киоска встретились два школьных товарища: Паша (бизнесмен из Краснодара) и Виктор (кандидат медицинских наук, руководитель акционерного общества из Москвы). Они тихо вели беседу, ждали открытия киоска. Старик вышел на улицу Ленина. Его быстрый взгляд скользнул по молодым парням. Когда он прошел мимо них и свернул налево, Павлик растерянно сказал Виктору: «Не может быть! Неужели это он?»
— «Кто?» — спросил Виктор.
— «Да наш классный — Николай Дмитриевич!»
Услышав свое имя, старик остановился, медленно повернулся, глянул на ребят и пошел дальше. «Он! Конечно он! — чуть не закричал Павлик. — Только он, и никто другой, может так смотреть». Этот колючий, обжигающий взгляд был знаком им еще со школьной скамьи. Открылся киоск, они быстро купили газеты и отошли в сторону. «Боже великий! В моем сознании не укладывается. Такой человек, как наш классный, и вдруг скатился до такой постыдной нищеты. Сколько же прошло времени, как мы расстались со школой? — задал вопрос Павлик. И, подумав, сам же ответил: — Девятнадцать. А кажется, это было вчера. Ты хоть помнишь, как он пришел к нам в класс?» — «Конечно, — ответил Виктор. — Мы тогда не очень хорошо его встретили, особенно я. Не в меру злословил, острил, пытаясь показать себя эрудитом. А как он метко и четко парировал все мои дерзости. Ты только вдумайся, Паша, ведь он, словно наседка, возился с нами целых пять лет. Какой это был учитель! Никогда не повышал голоса, никогда не ругал, не читал морали, зато мог так посмотреть, что, казалось, все внутренности шевелятся. А как искусно он вел уроки, в классе стояла мертвая тишина. Его и любили, и боялись. Это настоящий интеллигент-педант, образец культуры и вежливости. Всегда подтянут, аккуратен. Одним словом, пример для подражания. А помнишь, после выпускного мы всем классом провожали его домой? У него, кажется, была единственная дочь. Жена тоже педагог. Ты хоть раз был у него после окончания школы?» — «Нет». — «А ты?» — «Я тоже нет. Какие же мы неблагодарные свиньи. Наверное, и остальные так же». «Сделаем так, — сказал Паша. — Я бы пошел с тобой, но мне стыдно, боюсь, он меня узнает. Уж слишком часто я допекал его своими наглостями. Вот тебе триста рублей. Сейчас пойдешь, точно удостоверишься, что это действительно он».
На стойке, в самом дальнем углу, Николай Дмитриевич разложил свой неказистый по нынешним временам товар — книги. Виктор подошел и, не глядя на хозяина, стал их рассматривать. Это были старые справочники по математике, технической механике, томик Пушкина, Лермонтова, рассказы Гончарова. «Нет ли у вас Шукшина?» — для убедительности спросил он. «Продал в прошлую субботу», — ответил простуженным, неузнаваемым и в то же время таким знакомым голосом Николай Дмитриевич. «А что у вас еще есть?» — «Все, что есть, перед вами». Виктор медленно сложил все книги в сумку. Он достал деньги, выданные Павликом, добавил еще две сотни своих. «Вот вам, — положил их на прилавок и глянул в глаза своему старому учителю. — Сдачи не надо, потому что вы просто не знаете цены вашим справочникам». Не дав одуматься, он быстро затерялся в рыночной толпе. Встретившись с Павлом, сказал: «Поверь опыту медика, этому человеку осталось очень мало жить на этом свете. Одни глаза только и остались»… Павлик не забыл улицу и дом, где жил Николай Дмитриевич. Соседка им рассказала: «Когда они с женой еще работали, умерла их единственная дочь, а вскоре и жена. Николай Дмитриевич заскучал. Бывало, выйдет во двор, сядет на лавочку, поставит глаза в одну точку и сидит часами, никого не видя и ничего не слыша. Стал прибаливать, а затем бросил учительствовать, ушел на пенсию, сначала по выслуге лет, а потом на основную, как только исполнилось шестьдесят лет. Хозяйством в их доме управляла жена. Его беспомощность во всех житейских делах проявилась, когда он остался один. Сами понимаете, горе и болезнь не приносят радости». — «Скажите, а из учеников к нему кто-либо приходит?» — «Приходили, когда он еще работал, а сейчас, правда, редко, но все-таки приходит Леня, да и то, когда „под мухой“, он работает слесарем на станкозаводе. Как правило, приносит бутылку и закуски. Вот они и сидят с Николаем Дмитриевичем несколько часов. Спорят о чем-то, больше за политику говорят. А больше никто», — и женщина пристально посмотрела им в глаза. «Ну а школа?» — «А что школа, школе и всем он был нужен, когда работал. Один раз, правда, из профкома приходили. Приглашали на вечер, посвященный Дню Победы. Но как он мог пойти, если ему не во что было одеться? Но это было давно, в самом начале его одиночества, а сейчас об учителе все забыли вообще. В квартире пусто, неуютно». Друзья аккуратно сложили купленные книги, приложили еще пятьсот рублей и написали: «Нам стыдно. Простите нас. Ваши вечные должники Павел Май, Виктор Воскобойников». Вместе они разыскали почтальона и условились с ним, что присылаемые ими переводы она будет представлять Николаю Дмитриевичу как дополнительную надбавку к пенсии. Через полгода вернулись переводы в Москву и Краснодар с маленькой припиской почтальона: «Не шлите, Н. Д. умер».
Январь 1994 года.
Полсотни на «картошку»
Июль был жарким. Весь месяц не было дождя. Митька сидел в комнате и с пустым безразличием смотрел в угол. Болела голова после вчерашнего, бил озноб, мелко дрожали руки. Тихо вошла соседка-собутыльница, посмотрела на сидящего, спросила: «Болеешь?» — «Отстань!» — не меняя позы, ответил он. Затем, спохватившись, спросил: «У тебя там осталось?» — «После вас, паразитов, разве что останется. А ты что, забыл?» — «О чем?» — повернулся к ней Митька. — «Так сегодня ж у твоего тестя пенсия». Вначале он тупо смотрел на нее, затем в его глазах блеснула надежда. Ударив ладонью по лбу, вымолвил: «О, черт! Как же я забыл!» Его тесть, участник войны, живет рядом. Выпроводив Дарью, неуверенной походкой он двинулся к родственнику. Осторожно открыв дверь, увидел его восковое, измученное болезнью лицо. Приблизившись, тихо спросил: «Трофимыч, пенсию получил?» — «Нет, а что?..» — «Да вот хотел картошки купить. Занял бы мне полсотни». — «На дело можно, только почтальон заболел, а чтобы получить, надо идти на почту. А у меня ноги уже два года как отнялись, ты забыл?» — «А мне дадут?» — оживился Митька. — «Вряд ли. Но можешь попробовать, книжка в столе».
На почте Митьке отказали, и он, решая проблему, как доставить тестя на почту, забрел в продмаг. На полке свободно стоял пятизвездочный, по сорок шесть пятьдесят. Такого Митька никогда не пил, далее не пробовал, и это его подстегнуло к решительным действиям. Из продмага он направился к своему родственнику, деду Николаю, у которого был мотороллер «Муравей». Деда дома не оказалось, как и Митькиного собутыльника Васьки Житкова. Так он ни с чем и вернулся назад. «Ну что?» — спросил его тесть. — «Не дали, паразитки! Надо тебя туда отвезти, а вот на чем, ума не приложу». Расстроенный, он вышел во двор. Тачка, валявшаяся без колеса, заставила окончательно оставить мечту о каком-либо транспорте. И он решился на крайность. Подойдя к тестю, глянул на него преданными глазами, вкрадчиво спросил: «Трофимыч, давай я тебя отнесу». — «Что ты, Митрий, что о нас скажут люди?» — «Какие люди? Их нет, они все в поле, а надо успеть, пока продавцы не уехали, а могут и разобрать картошку. Решайся. Мы быстро, туда и назад, На вот штаны и рубашку, одевайся». — «Не хочется мне, Митрий, позор ведь какой». — «Да какой там позор, мы же не воруем, а берем свое, заработанное кровью. За двадцать минут управимся, и никто нас не увидит». Трофимыч с Митькиной помощью медленно одевался. Митька наметил план, как лучше взгромоздить тестя на спину. Причесав старика, он с трудом усадил его на кушетку. Вроде маленький, а тяжелый-то какой. Тесть молчал. Не нравилась ему эта затея. Присев на корточки, Митька, обхватив его больные ноги, тихо сказал: «Держись за плечи». С трудом приподнялся, неуверенным шагом двинулся на выход. Солнце нещадно пекло.
Вдоль тротуара склонила пожелтевшие листочки лебеда. Митька медленно двигался вперед. Пот потоком заливал лицо, попадал в глаза, их щипало. Быстро взмокла рубашка. Метров через сто он поднял голову и ахнул: навстречу шла его школьная учительница Мария Федотьевна. «О! Влип! — подумал он. — Завтра все село будет знать». Пониже наклонив голову, он решительно шел вперед. Поравнялись. «Трофимыч! Куда это вы?» — «Да вот, видишь…». Но Митька, не дав ему договорить, громко выпалил: «В амбулаторию, не видите, что ли?» — «Видеть-то вижу, да не пойму, почему таким способом?» — «Не пойму, не пойму! — скороговоркой буркнул Митька. — Транспорт весь в поле, как-никак идет уборка урожая». До почты оставалось два квартала, но он уже не мог идти дальше, пот заливал глаза. И тут он заметил спасительную скамью. Из последних сил дотянул до нее и с облегчением усадил на нее тестя. Сел сам, снял рубашку, вытер ею лицо, затем выжал и снова надел. Из-за угла вышел человек. Митька сразу узнал в нем деда Митроху. Поравнявшись с сидящими, он остановился, долго рассматривал их. И вот лицо его озарилось, он узнал Трофимыча. «Здравствуй, фронтовик! Гляжу и глазам не верю: ты это, не ты? Люди болтают, будто не ходишь. А ты вон на чужой лавочке — стало быть ходишь. А это кто с тобой?» — «Митрий, зять мой», — нехотя ответил Трофимыч. — «Куда это вы направились?» — «В амбулаторию», — опередил тестя Митька. — «А что, разве Матвеевна вас не навещает? Она женщина аккуратная». — «Заболела она, дедушка», — соврал Митька, давая тем самым понять, что разговор окончен. Дед шмыгнул носом и было двинулся дальше, но остановился, подошел ближе к Митьке, наклонился и тихо сказал: «Ты, парень, рано врать научился, я только что с ней расстался. Будь здоров, фронтовик!» — он поклонился Трофимычу и медленно пошел дальше. Митька сидел, озадаченный неудачным враньем. Пятизвездочный не давал покоя, и он, повернувшись к тестю, сказал: «Ну что, пошли?» — «Да не сидеть же на обозрение людям!» — с обидой ответил тот. Взвалив на плечи тестя, отдохнувший Митька почти бегом добежал до почты. Перед порогом, не заметив чистилку для обуви, зацепился за нее, покачнулся, потерял равновесие и вместе с тестем завалился в кювет, в толстый слой придорожной пыли. Пыль мгновенно поглотила их. Когда она осела, Митьку было не узнать. Мокрое лицо превратилось в бесформенный комок грязи. Блестели только глаза и зубы. Мокрая рубашка, быстро впитав пыль, стала темно-серой и, словно грязевый спрут, всосалась в Митькино тело. Митька встал, глянул на беспомощно лежавшего тестя, и ему впервые до глубины души стало жаль этого смирного, измученного болезнью человека. Митька с гневом на себя вбежал на почту. Горделиво прошелся по залу и громко выкрикнул: «Пойдите посмотрите, мы прибыли!» Его измазанное, гневом искаженное лицо мгновенно подействовало на начальника почты. Вместе с оператором они выбежали на улицу и увидели в кювете испачканного придорожной пылью, беспомощно лежавшего Трофимыча. Женщины в испуге, с большим трудом подняли старика, стряхнули с него пыль, усадив на ступеньку порога, принесли ведомость и вручили деньги. В это время Митька вышел на крыльцо и увидел мимо проезжавшего деда Николая. «Стой! Стой!» — заорал он, махая руками. Вместе с дедом усадили Трофимыча, рядом пристроился Митька, и они благополучно приехали домой. Получив обещанную пятидесятку, вымытый, переодетый и довольный, Митька отправился в продмаг покупать «картошку».
Сентябрь 1991 года.
Страх
Сенька Зайцев — мужик не робкого десятка. Еще в школе он не раз дрался с мальчишками на год-два старше себя и вечно ходил с синяками. Как-то в воскресенье, часов в десять утра, вышел он из своего подъезда и увидел у соседнего дома толпу, «скорую» и две милицейские машины. «Что случилось?»— спросил он знакомую женщину. «А разве ты не слышал? Утром ограбили тридцать шестую и убили ее жильцов». К Сеньке подошел мужчина в белом халате и попросил помочь. Когда они вошли в квартиру, Сенька увидел окровавленных, лежащих на полу, бывшего начальника снабжения завода Синельникова и его жену. Трупы накрыли и на носилках унесли. Вначале было ничего, но потом внутри что-то екнуло, и он, икнув несколько раз, почувствовал тошноту и головокружение. Несколько дней ему снились всякие кошмары, часто просыпался весь в поту. Ему рассказали, что грабителей было двое: высокий мужчина крепкого телосложения и женщина. Их случайно видела жена Вальки Сурмина, развешивающая рано утром белье. После этого случая Сенька не находил покоя. Почти в каждом большом мужчине он видел потенциального убийцу.
Прошло более месяца. Как-то в воскресенье Сенька остался в квартире один. Он решил сходить на рынок купить фруктов. Вышел на лестничную площадку и только достал ключи, чтобы закрыть квартиру, как неожиданно ощутил острую потребность в туалете. Вернулся. Быстро открыл дверь и влетел в туалет. В это время к подъезду подошли двое: двухметровый мужчина атлетического телосложения и женщина. В одной руке мужчина держал большую сумку, в другой — конверт. Он первым поднялся на этаж. Когда подошла женщина, негромко сказал: «Дверь-то открыта». Они вместе вошли в Сенькину квартиру. В момент почти полного духовного и физического облегчения Сенька услышал тяжелые шаги и замер. Сердце учащенно забилось. Тут он услышал чужой незнакомый мужской голос: «В комнате никого нет». — «Проверь туалет», — раздался тоже незнакомый женский голос. Сенька услышал, как тяжелые шаги приблизились к двери. «Там кто-то есть». — «Ладно, присядь, — сказала женщина, — подождем, когда он выйдет». — «Все, конец», — подумал Сенька. Он представил себя окровавленного, с простреленной головой. Ниже пупка что-то кольнуло, и жидкая струя ударила в унитаз. Страх сковал все тело. Такого страха он еще никогда не испытывал. Тряслась спина, вдруг лязгнули зубы, и мелко задрожала каждая косточка. Сенька сидел, не чувствуя собственного тела. К двери кто-то подошел. «Миша! Это мы. Ты слышишь меня? Выходи, мы же тебя ждем». «С-сука! Берет на понт, — подумал Сенька. — Какой я тебе Миша?» И вновь жидкая струя с силой ударила в унитаз. Ужасный, отвратительный запах ударил в нос. Сенька попытался смыть, но в сливном бачке не оказалось воды. Нужно было набрать воды в ведро из ванной, но для этого надо было открыть дверь. «Наверное, с ним что-то случилось», — снова Сенька услышал женский голос. Не успел он сообразить, как дверь с треском отворилась и проем закрыл огромный детина. В Сенькиных глазах вдруг все поплыло, и он куда-то провалился. Очнувшийся Сенька услышал перепуганный женский голос: «Это не Миша. Ты хоть правильно посмотрел номер квартиры?» — «Конечно, вот смотри — тринадцать, — мужчина подал конверт. — Господи, здесь же написано восемнадцать». Женщина выбежала и через несколько минут вернулась с братом Мишей. Они вызвали «скорую», а через день, прихватив бутылку и закуски, пришли к Сеньке извиниться.
Февраль 1991 года.
Малиновка
Случай, о котором я хочу рассказать, произошел в нашем городе. В этот период по всей стране шла кампания по «оздоровлению общества». Десятками тысяч гектаров уничтожались виноградники. Местные внутренние органы власти вели жесточайшую борьбу против алкоголя. Наш герой — Иван Дмитриевич — работящий, душевный и заботливый человек. Любит животных, держит кроликов, нутрий. Он и поныне живет по ул. Морской. Для поддержания здоровья внука, родившегося слабеньким, купил козу. Все было хорошо, но коза оказалась бодливой. У нее словно чесались рога, она постоянно искала «жертву». О ее нраве знала вся округа, и поэтому Иван Дмитриевич держал ее взаперти. Как-то в начале рабочего дня к Ивану подошел его сосед Саня: «Видал?» — «Что?» — спросил Иван. — «На нашей улице три милиционера наводят шмон. Отбирают самогонные аппараты, спиртное». — «Вот те на! А у меня в прихожей десятилитровый баллон настойки малиновой стоит. Заберут, варвары. Машина на ходу?» — «Конечно». — «Может, съездим?» Через пять минут они были дома. Иван бережно взял баллон, вышел во двор. Стоит и думает, куда бы его спрятать? «Отнеси его к козе», — посоветовал Саня. Да и правда, им и в голову не придет искать в козьем хлеву. «Спрячу я его в ясли и сеном прикрою». — «Как младенца», — ехидно заметил Саня. Иван вошел в хлев. Поставил баллон на пол и стал готовить место. Коза подошла, понюхала хозяина, как бы убеждаясь, он ли это, затем обнюхала баллон и отошла. Иван подготовил место в яслях, положил сена. Осторожно взял баллон, обхватив его ладонями с боков, пальцами снизу. Поднял, повернулся к козе спиной и стал опускать в ясли. Коза, стоявшая спокойно, вдруг разбежалась и ударила Ивана в поясницу, угодив одним рогом в то место, где пять дней назад его прострелил слегка затихший радикулит. Иван охнул, ткнулся головой о стену, любой ценой стараясь удержать баллон в вертикальном положении. Боль пронзила все тело. Он скорчился и тут же почувствовал, как содержимое баллона протекает через пальцы. Одновременно каким-то внутренним чутьем ощутил, что, если он ослабит давление рук, баллон рассыплется на части. Холодный пот выступил на лбу. «Саня!» — тихо позвал он. Содержимое баллона текло на подстилку. «Саня!» — чуть громче прокричал он, боясь шевельнуться. Тишина. «Саня!» — натужившись, громко крикнул он. Руки слегка дрогнули, и баллон заскрежетал. Жидкость полилась сильнее. Вбежал Саня. «Чашку или тазик — быстро!» — «Зачем?» — «Надо!» — скривившись, зашипел Иван. Баллон еще скрипнул, и жидкость полилась еще сильнее. Саня принес тазик: «Подставляй». Жидкость полилась в тазик. От напряжения руки сами ослабли, и баллон кусками загремел следом. «Уноси, потом процедим через марлю». Саня поднял таз: «Да тут и цедить нечего». — «Ну, тварь рогатая, ты у меня сейчас спляшешь польку-бабочку», — корчась от боли и волоча левую ногу, хозяин, расставив руки в стороны, медленно двинулся к козе. Животное, почувствовав неладное, метнулось в дальний угол. Когда расстояние сократилось, коза рванулась в свободный угол, и тут он поймал ее за одну ногу. Потянул на себя, схватил за рога. Коза упиралась и потащила Ивана за собой. «Здоровая, стерва», — подумал он, мертвой хваткой держа ее за рога. Он подтянул ее к себе поближе. «Ну что, дрожишь, негодница, а когда хозяина била, не дрожала?» Держа ее левой рукой, правой решил «погладить» ей бока. Размахнулся. Коза, увидев занесенный кулак, дернулась, и удар пришелся по загривку, ниже рог. Рука Ивана тяжелая, и он не рассчитал с ударом. Коза обмякла, упала на передние ноги, ткнулась мордой в пол, туловище слегка развернулось, и она безжизненно упала на землю. Иван, корчась от боли, пнул ногой. Никаких признаков жизни. «Господи! Неужто убил?» — подумал он. Коза не двигалась. «Кровь надо спустить, иначе мясо будет плохое». Он пошел в дом, принес нож. Коза лежала без движения. Он нагнулся и перехватил ей горло. Коза вздрогнула, попыталась подняться, но тут же упала и засучила ногами, сгребая под себя солому. «Боже, она, оказывается, была в шоке, что же я наделал?! Все, отъелись молока. Саня, иди сюда». Увидев мертвую козу, тот вымолвил: «Ты что, рехнулся?» — «Ладно, не трави душу, помоги лучше». За пять минут они сняли шкуру, освободили брюшину. «Остальное после работы, — сказал Иван. — Поехали». Шкуру он вынес и растянул на заборе. Только они двинулись к выходу, навстречу жена с ведром. «Куда это ты?» — «Козочку подоить». — «Вон где твоя коза», — он указал на забор. Жена ахнула и запричитала.
Прошло несколько лет. Но и поныне, когда Иван утром выходит на работу, сделав несколько шагов, останавливается, косо смотрит на дверь в хлев. Прошепчет что-то губами, незаметно махнет рукой и идет дальше. О чем больше жалеет — трудно сказать. Сам же никогда, нигде и никому не рассказывает о случившемся.
Декабрь 1992 года.
Старая школа
Он ехал туда, где прошли незабываемые годы его юности. Давно не был там и поэтому с трепетом ждал встречи. На въезде в село вышел из автобуса и не спеша пошел на кладбище. Оправив могилки родных, немного постоял в задумчивости и пошел в село. Около моста в реке, как и много лет назад, купались мальчишки, громко кричали и прыгали в воду. Боже! Сколько же прошло лет с тех пор, когда и он с ватагой сверстников прыгал вниз с этого моста? На месте церкви стояло огромное здание Дворца культуры. Сделав несколько шагов, он увидел приплюснутое, обветшалое здание своей школы. Подошел к воротам. Ветхие, перекошенные, с широкими продолговатыми щелями, они доживали последние дни. Легонько надавил на калитку, и она, словно жалуясь на внутреннюю боль, со стоном отворилась. Во дворе увидел вымощенную из серого камня дорожку, вспомнил, как они с одноклассниками во дворе, во время дежурства в школе тщательно, до блеска вымывали вход в храм науки, следили за ее чистотой.
Жуткая гнетущая тишина. Входной двери не было. Внутри, справа по коридору — учительская, слева — шестой «А», окнами во двор, чуть дальше — шестой «Б», окнами, казавшимися тогда большими и светлыми, на центральную улицу — площадь. Вот здесь, на первой парте среднего ряда, сидел он. На подоконниках и на полу — толстый слой пыли. Пустые консервные банки, бутылки, клочки бумаги, мусор. По углам — столбы черной паутины. Нашел дощечку, стряхнул с нее пыль, положил на пол, присел и закрыл глаза. И вдруг услышал школьный звонок, почувствовал, как захлопали парты, когда открылась дверь и вошел учитель. Молодой, стройный, подтянутый, с проницательным умным взглядом, в котором сочетались требовательность и доброта. Подошел к столу, окинул всех взглядом и тихо сказал: «Здравствуйте! Присаживайтесь!» Разломил кусочек мела, ровным, красивым почерком написал: «Тема занятий». Он открыл глаза. Тишина. Встал, вышел и внутри двора увидел одиноко стоящий дуб. Это было одно из трех когда-то росших здесь деревьев. Темно-зеленая густая листва, словно жалуясь на гное одиночество, тихо шепталась. Обхватив ствол руками, он прижался к его шершавому телу. По заросшему бурьяном двору он прошел дальше, туда, где когда-то стояли высокие деревья дикой груши. Остановился. Вспомнил, как вместе с ребятами уже при первых заморозках палками сбивали плоды, их неповторимый запах и своеобразный терпкий, вяжущий вкус. Здесь, где-то рядом, должен быть артезианский колодец. Раздвинул траву и увидел зеркальце чистейшей ключевой воды. Нашел! Присел и, как в детстве, пригоршнями долго пил живительную холодную воду. И тогда он любил сидеть здесь, слушать, как журчала стекающая в ручеек вода. Сердце саднила гнетущая боль и обида за надругательство над святая святых, которой была для них старая школа. Вот стоит она, обветшалая, заброшенная, памятник уходящего из жизни поколения. Он пошел назад. А вот и место, где когда-то его «взяли в плен» и натерли снегом щеки, уши. Все горело огнем, до слез было обидно, но он геройски терпел и не заплакал.
Выйдя со школьного двора, встретил женщину. Лицо ее ему показалось знакомым. «Здравствуйте, — поздоровалась она, немного прошла и остановилась. — Никак Гриша? Не помнишь меня? Я Надя. Забыл? А ведь мы с тобой за одной партой сидели». — «Помню! Ну конечно помню! Кто из учителей жив?» — «Три года назад схоронили Наталию Ивановну, а в прошлом году Ефросинью Кузьминичну Шапорину. В живых остался один. Он живет в Москве. Большой человек. Военачальник. Герой Советского Союза. Ему сейчас за восемьдесят, Василий Иванович. Разве ты его не помнишь?» — «Нет, не забыл, таких нельзя забывать, он меня тоже учил». — «Вот видишь? — она повернулась к Дворцу культуры. С его помощью построили этот Дворец и новую школу, на соседней улице. Сходи посмотри». — «А как же эта?» — «А кому она нужна, сделала свое дело и вот стоит в запущении, а ведь скольких она выпустила, скольким открыла дорогу в жизнь, в том числе и Василию Ивановичу. Ну, а ты как поживаешь? Где живешь? Семья есть?» — «Все есть, только вот жизнь подошла к финишу, вот и приехал проведать места своего детства и юности». Они расстались. Он еще долго стоял, а сзади, словно раскаленное пламя, больно жгло ему спину. У него уже не было сил, чтобы повернуться и снова глянуть на умирающее здание его старой школы.
Март 1998 года. Село Чернолесское Ставропольского края.
Ломка стереотипа
Ваньку Суркова торжественно выпроводили на заслуженный. Первые дни он отсыпался. Блаженствуя в постели, говорил жене: «Не дураки придумали бессрочный отпуск. Хочешь — лежи, хочешь — гуляй. Во житуха!» «Так ты долго не протянешь», — сказала жена. «Это еще почему?» — возмутился Ванька. — «А вон Савков из пятиэтажки побыл на пенсии год, и уже отнесли ножками вперед. Ломка стереотипа, Ванечка, страшное дело». — «Какого еще там стереотипа?» — переспросил Ванька. — «А такого, что надо систематически трудиться физически, иначе хана. А Савков днями сидел на лавочке, курил да книжечки читал. Радовался, дурак, что ему, как и тебе, дали бессрочный отпуск». — «А я займусь физкультурой и рыбалкой», — не сдавался Ванька. — «Было б сказано!» — «А ты что предлагаешь?» — «Огород надо взять и выращивать овощи».
И она купила для начала огород, а затем и дачу. И пошло, и поехало. То Иван садит саженцы под будущий сад, так сказать, создает блага для детей и внуков. То делает ограду и ладит ворота, рассаживает землянику, малину, смородину, крыжовник, неукрываемый виноград. Насадил целебных трав. «Знаешь, Вань, — ласково говорит не в меру радостная жена, — обстановка в стране тяжелая, надо больше садить картошки. В случае голода она нас выручит». На следующий год весь участок засадили картошкой, и она уродилась хорошая. Всем хватило. Связанный в косички лук, высушенный, с золотистыми головками, висел в сарае. Жена ликовала. На следующий год старшая дочка купила дачный участок, а жена еще взяла один огород. «Это что, тоже от стереотипа?» — спросил ее Ванька. — «А ты как думал? Что тебе, возись потихоньку. Никто тебя не гонит, не принуждает: и польза, и при деле». К концу дня, не чувствуя ни ног, ни рук, он падал в постель и до утра спал мертвым сном, а когда просыпался, спрашивал у жены число и день. А она отвечала: «Я тут, Ванечка, тарелки и полы не успела вымыть, так ты помой да чайник почисть». — «Какой чайник?» — «Да тот, что ты забыл выключить, а водичка выкипела». Ванька смотрел на нее усталыми глазами и думал: «Так дальше нельзя, заездит. Надо что-то делать, иначе на следующий год она точно заставит выращивать на даче свиней или бычков».
Прочел как-то он в «Приазовке» о клубе ветеранов активного долголетия и решил сходить. Первое, что бросилось в глаза, это призыв: «Шутка — греет. Смех — бодрит. Песня — душу веселит». Сел в угол, присмотрелся. В основном пожилые женщины, морщинистые, но глаза у всех живые. Руководитель непринужденно дала краткую характеристику о жизни города и страны за неделю. Несколько анекдотов, а затем заиграл баян. И сразу все задвигались. Парами и в одиночку, без всяких приглашений пошли танцевать. Ванька растерянно водил глазами, смотрел на женщин и не узнавал их. Они преобразились и стали какими-то иными. Разгладились морщинки, блестели радостно глаза. Вокруг стояла такая жизнеутверждающая атмосфера, что Ванька не заметил, как закружился с кем-то в вихре вальса. Он вертел свою даму вправо, влево и думал: «Вот оно, самое нужное, прекрасное и необходимое средство от ломки стереотипа». Сердце радостно стучало в груди, душа ликовала и отдыхала. А потом стали петь. Да как петь! Ванька любил слушать песни. А они одна за другой звучали в этом крохотном зале, без дирижера и художественного руководителя. Домой он не шел, а летел. «На следующий год огороды к черту, — заявил он жене, — отдай их кому-нибудь. Для ломки стереотипа мне достаточно и дачи». — «Какая это тебя муха укусила?» — спросила его жена. — «А вот такая, как ты, только морщин чуточку побольше».
Август 1994 года.
Промазал
Шесть лет Андрей выращивал и продавал свиней «в живом весе» и был доволен. Но вот в один из перестроечных дней к нему зашел брат Николай. «Сколько ты берешь за кабана?» — спросил он Андрея. — «Раньше по двести пятьдесят, а сейчас, после реформы, по семьсот рублей». — «А вот Петька Чмырь продает мясом. С каждого кабана имеет до двух тысяч». — «Хлопотно ведь. Надо зарезать, обработать, доставить, торговать». — «А Клавдия тебе зачем? Да и я помогу если что. Давай попробуем. Машка вон твоя уже старая, она потянет не менее ста килограммов чистого веса. Продадим по восемнадцать за кило, и уже тысяча восемьсот, да сало по червонцу». И Андрей согласился. Договорились резать в пятницу, чтобы в субботу и воскресенье можно было торговать. К приходу Николая Андрей приготовил все необходимое, наточил столовые ножи, достал веревку. «Ты хоть резал когда-нибудь?» — спросил брат Андрея, как только вошел во двор. — «Нет, но я видел, как это делают на мясокомбинате. Разрезают горло, кровь выходит, и все. Свинья почти не кричит. Правда, ее за ногу подвешивают к специальному транспортеру». — «Это они, наверное, перерезают артерию, идущую к голове», — сообщил Николай. Дав свинье каши, они залезли в свинарник, немного подождали. Андрей почесал Машку за ушами, затем под лопаткой. Свинья легла на бок и блаженно вытянула ноги. «На вот веревку, спутай ей ноги», — сказал он Николаю. Вначале свинья забеспокоилась, но постепенно, слушая ласковый голос Николая, затихла. Андрей глянул на широкое горло свиньи, спросил Николая: «Где же эта артерия, справа или слева?». — «По-моему, их две — справа и слева». Андрей вынул из кармана нож. Перекрестился, глубоко вздохнул, прицелился и, зажмурив глаза, вогнал его в свиное горло. В самый последний момент рука дрогнула, и он не сделал ожидаемого надреза. Свинья рванулась, опрокинув братьев, и, разорвав путы, выскочила во двор. Андрей стонал от боли в ноге. Растирая ушибленное место, закричал на жену: «Беги к Семену, попроси у него ружье». Клавдия бегом помчалась к соседу-охотнику и быстро принесла ружье. «Семен сказал, что дробь не крупная, стрелять надо с расстояния не более двух метров». Свинья, теряя кровь, стояла у забора. Николай, зарядив ружье, вошел в огород, чтобы приблизиться к ней на расстояние до двух метров. Он просунул стволы в отверстие забора. «В голову целься», — командовал Андрей.
Николай приложил ружье к плечу, но когда глянул на стволы, то понял, что они закрыли отверстие так, что ему совершенно не видно свиньи. Он потянул ружье на себя, но оно двигалось вместе с забором. «Что за чертовщина?»— подумал он. Николай потянул еще раз, ружье не выходило из отверстия. Тогда он с силой рванул, и тут прогремел выстрел. Ведро и заднее колесо велосипеда, стоявшего у здания, — вдребезги. Свинья рванулась от забора к выходным воротам, затем подбежала ближе к входной двери дома. «Куда ты стрелял!? — заорал Андрей на Николая. — С такого расстояния и не попал!» — «А ты-то как резал», — огрызнулся он. Свинья тем временем двигалась на Андрея. Увидев ее свирепый вид, окровавленную морду, он вбежал в прихожую, а затем на кухню, закрыв за собой кухонную и входную двери. Выглянув в окно, он увидел, как свинья носом открыла входную дверь. Затем вошла. Открыв форточку, он заорал Николаю: «Чего ты ждешь?» — «А что я должен делать?» — «Как чего?! Стрелять!» — «Куда? В хвост что ли?!» Тем временем свинья вошла в зал, прошлась по мягким коврам, перевернула несколько стульев, просунулась между тумбочками, на которой стоял телевизор, и стеной. Тумбочка накренилась, и телевизор, скользнув по ней, упал экраном вниз. С хрустом разлетелись стекла. Машка, словно почувствовав вину, развернулась, опрокинула тумбочку, ковырнула носом телевизор и пошла к выходу. В то время, когда свинья «хозяйничала» в зале, Андрей выбежал во двор и помчался к Семену. «Выручай! Ради Бога, помоги, прошу тебя!» — взмолился он. — «Так вы же стреляли?!» — «Не попали». Семен достал два патрона, и они бегом вернулись во двор. Взяв ружье, перезарядил его и скомандовал: «Выгоняйте ее во двор». Но Машка, чувствуя свою безысходность в создавшемся положении, вышла сама… Андрей вошел в дом и, как заколдованный, остановился у двери. «Вот это барышнули!» — только и смог вымолвить он.
Январь 1992 года.
Эксперимент Веретенникова
К старости Васька Веретенников убедился, что человеческий организм угнетает избыток накопившихся в организме шлаков. Прочел он в газете «Нива Кубани» статью «Лечит рис» и решил на себе проделать эксперимент. Каждый день, с вечера, он замачивал две ложки риса, а утром, доведя его до кипения, промывал проточной водой. Эту манипуляцию он проделывал пять раз, а потом съедал рис и до обеда ничего не ел. Так незаметно прошло тридцать дней. Вдруг Васька стал замечать, что его сторонятся люди. Однажды сосед по лестничной клетке при игре в домино, вежливо извинясь, удалился прочь. «От тебя, как от козла, идет неприятный запах, — сказала жена. — Тебе надо каждый день протирать свое тело мокрым полотенцем!»
На тридцать пятые сутки, ночью, Васька проснулся от неудержимого желания освободиться. Он еле добежал до туалета… До утра, не сомкнув глаз, он совершал челночные рейды от кровати до туалета и обратно. Казалось — душа расстается с телом. И только к утру позывы прекратились. Васька прилег и, чувствуя удивительную легкость во всем теле, отключился. Проспал он семь часов, а когда проснулся, никак не мог понять и определиться ни во времени, ни в пространстве. Ему казалось, будто он прилетел из космоса. Все тело стало каким-то невесомым. Куда-то пропал живот, а глаза на удивление стали лучше видеть. С них словно сняли пелену, они очистились и блестели лучезарным блеском. Прояснилась голова. Перестало стучать в затылке. Мучившее Ваську кровяное давление стало на тридцать единиц меньше. Он распрямил ноги, поднял руки, потянулся до хруста в суставах, с облегчением вздохнул и тихо проговорил: «Я ли это? Господи, как все вокруг стало прекрасным». Совершенно не хотелось есть! Он встал, оделся, сел на мопед и поехал на дачу. Когда замолк треск мопеда, у Васьки словно выбили пробки из ушей. Он сразу очень четко стал слышать множество разнообразных звуков. В лесополосе монотонно и отчетливо куковала свою песню кукушка-вещунья. «Худу-дот», — кричал на соседнем участке удод. В малиннике посвистывала маленькая птичка, а на орехе прыгал с сучка на сучок воробьишка. Словно впервые он с удовольствием и удивлением слушал мир удивительных звуков. Зеленая листва радовала, манила к себе. При легком дуновении ветра она шептала ему: «Спасибо». Он гладил стволы деревьев, окунаясь в их листву, и вдыхал неповторимый аромат зеленого царства. «Какая благодать», — проговорил Васька и взял в руки тяпку.
Июль 1996 года.
Жестокость с хамством в обнимку
Есть сорт людей, которым очень плохо, когда другим хорошо. Им не по себе, они мечутся, не находя себе покоя. В нашем дворе есть один такой Мишка Пастухов, живет в пятиэтажке. Глаза у него небольшие, бледно-серые. Походка крадущаяся, движется, словно на пристегнутых ногах, волоча ступни. Прочел он в «Приазовке» новый закон о пенсиях и ахнул. «Надо ж! Мне и триста шестьдесят не дали, а этим, недобитым, более тысячи. Где справедливость?» — возмутился Мишка. Печень выплеснула в организм желчь ненависти. Глаза дрогнули и забегали, как у загнанного зверька, приобретая стальной оттенок. Мишка быстро оделся и вышел во двор. На лавочке сидели мужики-пенсионеры. Направляясь к ним, он сразу издали определил свою жертву. Подошел и с ходу: «Читали? Надо ж! Увеличили пенсию этим… — он сделал паузу, — инвалидам. — Прищурив колючие глаза, приблизился к сидящему инвалиду войны.
— Не стыдно тебе получать такую пенсию? — Павел Петрович непонимающе заморгал глазами. — Да! Да! Я тебе говорю, — и ткнул в грудь пальцем пожилому человеку. — Ты незаконно получаешь!» — «Почему же? — возмутился тот! — Я инвалид войны второй группы. У меня два ранения, одно из них тяжелое, контузия. Есть соответствующие документы». — «Ничего у тебя нет, ты купил эту инвалидность!» — «Пойди и ты купи, кто тебе не дает», — прошептал побледневший Павел Петрович. Бледность лица и растерянность пожилого человека воодушевили Мишку. Его глаза озарились победным, радостным блеском. Он торжествовал, наслаждаясь достигнутым успехом. Сделав свое гнусное дело, не обращая ни на кого внимания, загребая ногами опавшую листву, боком, словно скорпион, ужаливший свою жертву, двинулся к другой лавочке. Ночью Павлу Петровичу два раза вызывали «скорую помощь». Утром я зашел к нему проведать. Вид ужасный. Провалившиеся куда-то добрые, доверчивые глаза виновато глянули на меня. «Вот так вот! Завоевали! И пожаловаться некому на этого хама», — только и мог вымолвить он.
Декабрь 1992 года.
Как кум стал охотником
Мой кум Лешка Новоженнов купил тяжелый мотоцикл. Радости не было предела. В воскресенье, когда жена ушла на рынок, достал из холодильника ветчину, свежий лук, редис. Нарезал хлеба и, чтобы с кем-то разделить свою радость, позвал своего соседа Степана, заядлого рыбака и охотника. «Вот это машина! — сказал Степан. — Не то, что Гараськин дырчик-шмыгалка». «Четырехтактный», — уточнил Лешка. Степан погладил блестящую, цвета вороного крыла поверхность и с завистью сказал: «На таком и на охоту не грех!» Пропустив по чарке, они с хрустом жевали редис и наперебой хвалили достоинства покупки. Неожиданно пришла жена. Она строго глянула на гостя и грубо спросила кума: «Это по какому поводу?» Зная ее крутой нрав, Степан незаметно вышмыгнул за дверь. «Тоже мне, нашел дружка!» — «Галочка, — понизив голос, пролепетал Лешка. — Надо ж обмыть, иначе и ездить не будет». — «Нашел, с кем обмывать! Этот голубятник на дурницу готов удавиться. Он хоть раз приглашал тебя на застолье?» — «Повода не было, вот и не приглашал», — смиренно сказал Лешка. Прошло лето. Лешка научился управлять мотоциклом и получил права. В сентябре, на открытии сезона на водоплавающую дичь, Степан попросил Лешку отвезти их с другом на охотстанцию. По дороге договорились, что Лешка к вечеру следующего дня приедет и заберет их. Убитых уток решили поделить поровну. Дома из полученных уток Лешка вместе с тещей приготовили соус. Когда Галина вошла в дом, в нос ударил ароматный запах жареного, вызвав аппетит: «Что случилось, мама? По какому поводу жареное?» — «Это Лешка принес диких уток, мы и приготовили». — «Не в охотники ли записался?» — ехидно спросила она мужа. — «Да нет, это Степан с Митькой угостили». — «Так уж и угостили! Бесплатно эти жмоты ничего не делают». Через неделю к Лешке зашел Степан и спросил: «Ты знаешь Кирюху, который строится за углом?» — «Знаю. И что?» — «У него не хватило денег заплатить печнику, и он решил продать свое ружье — „тулку“. Не хочешь купить?» Лешка пошел к Кирюхе. Договорились за четыреста вместе с патронами и частью боеприпасов. Подходила суббота. Пришел Степан. «Может быть, рванем? — спросил он Лешку. — Теперь и ты попробуешь пощекотать уткам перышки». Он помог Лешке зарядить патроны и научил его этой премудрости. К вечеру, в пятницу они были на охотстанции. К месту охоты на лодках добрались затемно. Раннее утро. Тишина. Медленно наступал рассвет. Еще немного осталось времени до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли, мерцая по направлению Млечного пути, и, глядя на них, Лешка, чувствовал стремительный безостановочный бег земли. Все затихло кругом, в воздухе как будто разлилась сырость. Небо на востоке из мутно-черного стало белесым, затем бледно-розовым, а потом розовым. Вдруг оно словно распахнулось шатром и наполнилось алым багрянцем. Свежая струя пробежала, и, словно жалуясь, тихо зашуршал камыш. На горизонте всплыло раскаленно-красное солнце. Такое не забывается. Лешка расстрелял все патроны и случайно подстрелил одну утку. Выручили дружки. Когда он вернулся, жена встретила у ворот и, увидев на нем рыбацкие сапоги, спросила: «На рыбалке, что ли, был?» Лешка молчал. Она подошла и открыла полог люльки. Увидев ружье и уток, спросила: «А это еще что? Где ты его взял?» — «Купил», — ответил Лешка.
«У кого?» — «У Кирюхи». — «За сколько?» — «За четыреста». — «Вот, полюбуйся на него! — обратилась она к молча стоявшей матери. — Да разве ты не знаешь, что все голубятники и охотники дураки и бездельники? И ты к ним подвизался. Отнеси ружье и забери деньги». Лешка молчал. Ружье он, конечно, не отнес. В следующую пятницу пришел Степан. «Ну что, рванем?» — спросил он. «Да ты знаешь, Галина…» — «Не сердись на нее. Что может женщина понять в охоте? Она ведь неумышленно пытается лишить тебя истинно мужской радости. Плюнь на все!» И они снова зарядили патроны. Галина пришла с работы и, заметив Лешкины сборы, решительно заявила: «На охоту ты не поедешь! Дома столько работы, а он, видишь ли, нашел дружков — собутыльников, лодырей несчастных. Они от работы, как черти от ладана, прячутся». Взяв ружье, Лешка, громко хлопнув дверью, вышел во двор. «Леш! — обратилась к нему теща. — Ты бы хоть из ружья попугал воробьев, а то они, треклятые, хохлушкам не дают спокойно поклевать, все выметают». Лешка, не найдя ключи зажигания от мотоцикла, набрал в ведро зерна, рассыпал его полосой напротив двери сарая. Предупредив тещу и закрыв на ключ дверь дома, зашел в сарай, приоткрыл дверь и стал ждать. Воробьи стаей налетели на зерно, но тут же подбежала курица, затем гуси, утки. Пришлось подождать. Наклевавшись, птицы ушли, и Лешка прицелился. Прогремел выстрел. Не меньше десятка воробьев вместе с курицей, неожиданно подбежавшей к зерну, валялись на земле. Подобрав дичь, он спокойно пошел к дому, щелкнул ключом и открыл дверь. На пороге, бледная, с трясущимися губами, безмолвно стояла Галина, а за ней дочь. «Папочка, — бросилась она к Лешке. — А мы с мамой думали, что ты специально закрыл нас и убил себя из ружья». Галина молча протянула ему ключ от зажигания и изменила свое отношение к прихотям мужа. Лешка купил охотничью собаку, развел подсадных уток и стал настоящим охотником.
Май 1994 года.
Зуб
У Семена Зуева во рту появился запах. «Из твоего рта, словно из помойной ямы, идет тяжелый дух», — сказала ему жена. — «Когда с похмелья?», пытался уточнить Семен. — «Да нет, постоянно». — «С чего бы это?» — «Зубы чистить надо». Семен нашел старую зубную щетку, вымыл ее с мылом, выдавил на нее пасты и только сделал несколько движений, как его пронзила страшная зубная боль. Он охнул, схватился за щеку и, застонав, вышел из ванной. «Ты чего?» — спросила жена. — «Послушал тебя! Ох! Ах! — стонал Семен. — Черт меня дернул с этой щеткой. Всю жизнь не чистил, и не болели. А тут, нате! Ах!» — «Где болит, внизу или вверху?» — «Какая разница? — скривился Семен. — Сейчас уже вообще не поймешь, где болит. Бьет в голову и в левое ухо стреляет. Ох!» Жена пошла на кухню и вскоре вернулась. «На вот, набери в рот побольше и подержи подольше, а потом пополощешь, должно пройти». Семен набрал в рот раствора и стал ходить по комнате. Боль постепенно утихла. «Ну как?» — «Да вроде бы затих». — «Сходи к врачу. Он посмотрит и скажет, что делать, лечить или рвать». — «Легко сказать — рвать! К нему щеткой прикоснуться нельзя, а они там как начнут ковыряться, света божьего не увидишь. Пойду лучше к Никитычу, он хоть и техник по коронкам, но все-таки специалист, пусть посмотрит». Осмотрев больной зуб, Никитыч пришел к выводу, что зуб надо удалять. Семен, удрученный, вернулся домой. С врачом решил подождать. «Может, больше не будет болеть, затих же», — думал он. Вечером зуб снова начал ныть, не так, чтоб сильно, но нудно, болела голова. Спал плохо, снились всякие кошмары. Утром встал, весь разбитый. Жена посмотрела на его кислую физиономию, сказала: «Иди к врачу, вырвет, и все». — «Легко сказать — вырвет, при одной только мысли наступает икота». — «Господи, какие же вы, мужики, трусливые да мнительные. Все вы боитесь. Врач сделает обезболивающий укол, да ты даже не почувствуешь». И Семен решился. Только вышел из подъезда, а на встречу полная женщина. «Во прет, сатана, как танк, хоть не ходи, толку не будет». Дорогой он взвинтил свою нервную систему так, что не заметил, как прошел поликлинику и оказался на Портовой аллее. Точно, сатана встретилась, вот и забрел черт знает куда.
Дежурный врач, выслушав Семена, спросил: «Где болит?» Семен недоуменно глянул на него и сказал: «Во рту». — «Ясное дело — не в заднем проходе. Какой зуб болит?» — «Верхний слева. А вообще, я уже не пойму, что болит больше, зуб или голова». Семен увидел, как врач взял длинный тонкий щуп. Его передернуло, и тут же наступила икота. Врач дал ему воды и стал простукивать зубы, спрашивая: «Этот болит?» — «Нет». — «А этот?» — «Тоже нет». — «Так, а этот?» — «Немного болит». — «Ну-ка сожми с силой челюсть». Семен сжал. «Где болит?» — «Вот тут», — он указал пальцем. — «Так, значит этот». Он стал опробовать щупом. При одном движении Семен взвыл от боли. «Зуб надо удалять, у него все корни оголились». Врач присел за стол и дал Семену талон. «Придете в одиннадцать, в восьмой кабинет».
В одиннадцать он присел на стул около кабинета и стал ждать. Вскоре его вызвали. Он встал и не узнал своих ног, они стали тяжелыми и непослушными. «Садитесь в кресло», — сказал врач. Он посмотрел в карточку, а затем подошел: «Откройте рот!» Семен не успел сообразить, как он сделал ему два укола вокруг больного зуба. Прошло минут шесть. Медсестра принесла щипцы. При виде их Семена словно молния пронзила, и он начал икать. «Что с вами?» — спросил врач. «Ни-ик-чего-ик». — «Попейте водички». Он выпил, но икота не проходила. «Ну как, перестал болеть?» — спросил врач. — «Да нет, ник-ик, как-ик». — «Откройте рот». Он сделал еще два укола. «Вы, наверное, злоупотребляете спиртным?» — спросил врач. — «Как-ик все-ик». Подождали еще несколько минут. Врач взял в руки щипцы. Семен схватился руками за подлокотники кресла, закрыл глаза. Весь его организм, словно стальная пружина, сжался в единый ком. Он до онемения сжимал руками подлокотники. Молотками стучало в висках, звенело в ушах, била икота. «Господи, защити и помилуй», — тихонько шептал Семен. Он не слышал, когда и как был удален зуб. Вложили тампон и предупредили: «Не кушать два часа». Преодолевая страшную слабость, он вышел. По дороге домой ощутил, что левая щека, губы и часть языка потеряли всякое ощущение — стали деревянные. «А ведь жена была права», — подумал он.
Март 1993 года.
Дробинка
Лешка проснулся от странного тика в правом ухе. Скрестив над головой руки, он потянулся. И тут вспомнил, что вчера с другом Васей обмывал его новый мопед. Когда тело окончательно отошло от сна, тик прекратился.
Была осень, моросил мелкий дождик. Лешка разыскал фуражку из искусственной кожи, надел и пошел на работу. Перед проходной он перепрыгнул через лужу и тут же уловил в голове какое-то странное шуршание, с каким-то монотонным бульканьем. Тряхнув головой, он снова почувствовал, как от правого уха к затылку что-то пробулькало и остановилось. Лешка задумался. Он вошел в кабинет, разделся, сел к столу. Улучив момент, с силой тряхнул головой и снова почувствовал, как в голове несколько раз подряд тикнуло и затихло. «Ты знаешь, — обратился он к своему другу. — Что-то неладное творится в моих мозгах». — «Вообще-то я давно стал замечать, что у тебя что-то с головой», — ехидно улыбнулся Вася. Ему вспомнился рассказ водителя заводского грузовика. Вез он однажды груз из Ростова-на-Дону. Подъезжает к Азову и видит: по асфальту шагает Лешка. Водитель остановил машину, посигналил и позвал Лешку. Тот подошел к нему. «А вы как тут оказались, Алексей Николаевич?» — спрашивает водитель. «Домой иду!» — «Откуда?» — «Как откуда, из Ростова. Понимаешь, в командировке я был. В обед решил покушать и, как порядочный интеллигент, зашел в ресторан. Ну, сам понимаешь, немножко пропустил через горлышко, а когда стал рассчитываться, обнаружил, что у меня нет денег и кошелька. Вытащили. Где и когда, не помню. В боковом кармане случайно обнаружил несколько рублей, но их не хватило, чтобы рассчитаться. Я пошел на телеграф и на оставшиеся деньги переговорил с директором завода, объяснился с ним и попросил выслать денег. А он обозвал меня растяпой, сказал, что денег в кассе нет, а домой добирайся на перекладных. Вот я и добираюсь». — «Так далеко-то до Ейска». — «Ничего, суток за трое дойду!» — «Садись, подвезу!» — «Нет уж! Приказ директора надо выполнять!» С трудом водителю удалось уговорить Лешку сесть в машину.
«А ты помнишь Нику из конструкторского?» — спросил Лешку Вася. — «Помню, ну и что?» — «А то, что у него вначале тоже, как и у тебя, что-то булькало в голове, а потом обнаружили раковую опухоль мозга. В прошлом году схоронили. А как мучился, бедолага, от головных болей, на стену лез». И Алешка решил сходить к врачу. Заводской врач, внимательно выслушав, ничего вразумительного не сказал. Велел сдать анализы и прийти снова. На втором приеме врач, посмотрев анализы, спросил: «Где у вас стоит будильник?» — «На шифоньере». — «А шифоньер далеко от кровати, где вы спите?» — «Рядом. Но причем тут шифоньер и будильник?» — спросил Лешка. — «Перенесите его в другую комнату!» — «Шифоньер?» — «Да нет — будильник», — с усмешкой глянул на него врач. Лешка перенес будильник в другую комнату. Тик прекратился, но бульканье с перекатыванием продолжалось. Прошло еще около месяца. «Опухоль мозга, не иначе», — думал Лешка. Он стал плохо есть, под глазами появились темные круги. По ночам снились кошмары. Просыпался среди ночи и долго не мог уснуть, а утром сильно болела голова. Осунулся, похудел. «Сходи к врачу», — посоветовала жена. — «Уже ходил, ничего не находят». — «Сходи еще». Врач ужаснулся, увидев Лешку. Снова внимательно обследовал его. «Когда перекатывается — при ходьбе или в покое?» — спросил он Лешку. «В основном при резких движениях головой». — «Где ваш головной убор?» Лешка подал. Врач долго осматривал фуражку, ощупывал, а затем посоветовал купить другую. Через несколько дней Лешка сам решил осмотреть свою фуражку и к великому удивлению нашел под подкладкой небольшой твердый предмет. Когда он извлек его, тот оказался дробинкой. Лешка рассмеялся, поняв, какое «воспаление мозга» он перенес. И он вспомнил, как на открытии сезона охоты на водоплавающую дичь кто-то из ребят, вместо пустой бутылки, вверх подбросил его фуражку. К счастью, она осталась цела, а вот одна дробинка все же пробила фуражку и в ней застряла.
Май 1995 года.
Взятка
Жена Кирилла Петровича приобрела дачный участок. В первый год они посадили бахчевые. Осенью заложили сад и с большим трудом Кирилл Петрович смастерил небольшой деревянный домик. Осталось только смастерить крышу, но не было кровли. «Сходил бы в стройцех», — посоветовала ему жена. Начальник стройцеха сообщил, что шифер есть, но предназначен для спецстройки. «Всего четыре шифирины и надо-то, — сказала с раздражением жена. — Возьми с десяток тараней и пойди к Людочке, угости, попроси, и она все сделает». Утром Кирилл Петрович, уложив завернутую в бумагу тарань, в целлофан — три кремовые розы, которые он тайком от жены купил на рынке, решительно пошел на завод. В приемной было много народа. Приходили и уходили разные люди. Людочка, веселая и радостная, восседала за хорошо оборудованным столиком и быстро решала все вопросы. «Эта, пожалуй, и мой вопрос решит положительно», — подумал Кирилл Петрович. Он тихонько поздоровался и никем не замеченный присел на стул в углу приемной. С шумом ворвался слесарь Недоделкин, требуя немедленного приема у директора. Людочка спокойно убедила его, что директор очень занят, принять его не может. Недоделкин ушел. Постепенно как-то все разбежались, и Кирилл Петрович остался один. «Вы к директору?» — спросила его Людочка. «Нет, я к вам», — и он протянул ей розы.
— «Господи! Какая прелесть. Я так люблю цветы, а розы особенно». Ее большие светло-голубые глаза озарились радостным светом, стали ласковыми и лучезарными. Кирилл Петрович растерянно стоял и вместе с ней радовался ее счастью. Но тут он вспомнил, зачем пришел. «Я тут вам вяленой рыбки принес. Сам ловил, сам солил, сушил. Засол изумительный». Он никак не мог вытянуть сверток, застрявший в болоньевой сумке, сопел и тихонько чертыхался. — «Постойте, — услышал он голос Людочки. — О какой рыбе вы ведете речь?»
— «Да вы не беспокойтесь! Я сам ее ловил». Кирилл Петрович поднял голову, вопросительно глянул ей в глаза и не узнал их. Они стали бирюзовыми. В уголках прыгали еле заметные злые маленькие чертики. «Как вас?» — «Кирилл Петрович», — с трудом нашелся он. «Вы хоть знаете, как это называется?» — «Как?» — не слыша своего голоса, спросил он. «Взятка!» — по слогам вымолвила Людочка. Кирилл Петрович так и застыл с открытым ртом. Его качнуло, кровь с силой ударила в голову, застучало в висках, лоб покрылся холодной испариной. Все мог ожидать, но только не этого. Он растерянно держал в дрожащих руках сумку, не зная, что делать, и тут с шумом в приемную снова вбежал Недоделкин. Кирилл Петрович отступил назад, виновато глянул на Людочку и ужаснулся. Ее глаза словно поменялись, они стали темно-синими, жесткими. Лицо потеряло былую привлекательность, около глаз явно обозначились морщинки. Она неожиданно постарела сразу на несколько лет. Кирилл Петрович вышел в коридор и пошел домой. «На! — бросил он сумку с рыбой в ноги жены. — Сатана! Вечно ты втравишь меня в какую-либо авантюру. Вначале в эту дурацкую дачу с ее проблемами, а теперь этот дурацкий шифер. Все боишься с голоду умереть», — гаркнул он и вышел из квартиры. Угомонив Недоделкина, Людочка обнаружила, что Кирилла Петровича нет. Не найдя его в коридоре, вернулась и глянула на розы, постаралась вспомнить его фамилию. Она далее вспомнила тот день, когда его провожали на заслуженный отдых. Перед глазами стояли его большие натруженные руки. «В любовники не годится, — подумала она, — староват. Зачем же он приходил?» Она нашла папку приказов: «Да, это он. Плюснин К. П. — слесарь — лекальщик. Господи, да ведь он один из немногих, кто проработал на заводе с довоенных лет. Его портрет постоянно был на Доске почета. Какая я дура, так незаслуженно обидела человека». Она нашла номер его домашнего телефона и позвонила. «Слушаю!» — услышала она голос жены Кирилла Петровича. Женщины быстро обо всем договорились. А через три дня он смастерил крышу на своем дачном участке.
Май 1995 года.
В баньку за здоровьем
Утром, когда Витя Серокоз проснулся, то сразу вспомнил, что сегодня пятница. Именно по пятницам в душе у него распускалась тихая радость, он далее лицом светлел — это был банный день. В эту пятницу погода стояла скверная, конец осени. В такую погоду Витя любил ходить в баньку. Он зашел в сарай, выбрал два дубовых веника (веники он заготавливал впрок). Нашел банную сумку и положил их в нее. Потом аккуратно сложил в сумку белье, простынь, полотенце, в пакет мыло с мочалкой. Вымыл термос, всыпал в него две щепотки заранее приготовленной смеси из трав, ложку меду, облепихового варенья, сиропа из плодов шиповника, залил кипятком и тоже поставил в сумку. Глянул на часы и стал одеваться. Увидев его сборы, жена тихим, вкрадчивым голосом спросила: «Ты бы помог мне полы вымыть?». «Какие полы, — гаркнул на нее Витя, — в пятницу только баня. Я жду ее всю неделю». Наспех накинув куртку, схватил приготовленную сумку, выскочил во двор. Витя любил пройтись из дома до баньки как раз при такой погоде. Он нарочно шел медленно, как бы торжественно, слегка расстегнув куртку, чтобы немножко озябнуть. В такие дни он обыкновенно много размышлял, думал как ни в какое другое время. Сегодня нахлынула обида на жену, которая не понимала всей важности бани: «За какие такие великие дела отдавать вам этот день?» Но вскоре все нормализовалось, ушло напряжение, в душу влилась ясность, жизнь стала понятной. Вот и заветное окошечко кассы. Во дворе уже собирались завсегдатаи. Все знакомые лица. Открылось окошко, все сгрудились вокруг него с каким-то только им одним понятным торжеством, стали покупать билеты. Уже в бане Витя с трудом удерживал радость: «Сейчас». Он разделся, мельком оглядел себя — ничего еще, крепкий мужичок, хоть и ростом не удался, взял все банные атрибуты и с вениками и подстилкой вошел в парную. Пар вцепился в уши, пополз в горло. Витя присел, переждал первый натиск и только потом взобрался на полку, расстелил подстилку, прислонил веники листочками вверх к стене, улегся, закрыл глаза, с блаженством ощущая, как тепло медленно проникает внутрь. Тело вначале покрылось испариной, а потом крупные капли стали скатываться на подстилку. Так он лежал до тех пор, пока не почувствовал, что тело нагрелось и душа приобрела определенную расслабленность. Он взял уже мягкий, пропаренный веник и слегка прошелся им по бокам. Нельзя сразу что есть силы охаживать себя вениками. Листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Витя снова прилег на подстилку, поднял веники вверх, чтобы они еще сильнее прогрелись паром, а затем прикладывал их к бокам, к пояснице, ногам, постепенно все сильнее стал охаживать ноги, живот, спину. Потом резко встал, вышел из парной. Набрал в тазик прохладной воды, окатил себя и пошел отдыхать. Обернувшись простыней, Витя удобно расположился на своем месте и закрыл глаза. Он уже не слышал, о чем вели беседу соседи. Разнеженное тело покачивалось в ритме сердца, плыло в бесконечной синеве голубого неба. Витя сидел, пока не почувствовал, что остыл, а затем снова пошел в парную и упивался радостью, которую дарил ему пар. Так продолжалось до тех пор, пока он не ощутил жажду. Этот момент он считал особенным, важным. Пар уже сделал свое дело, выгнал из организма вместе с потом накопившиеся шлаки. Но, чтобы довести дело до конца, нужно было пополнить его водой. Не спеша он достал термос, налил стакан пряной жидкости и с наслаждением, слегка прихлебывая, выпил сразу два стакана. И снова в парную, прогревшись, окатывал себя водой из тазика. Он обливался до тех пор, пока окончательно не охладился, и снова пошел в парную. Так несколько циклов: тепло — холод. После каждого прогрева и охлаждения он все больше и больше чувствовал, как тело становится неузнаваемо своеобразным, каким-то невесомым. Во всем организме — удивительная легкость, душевная полнота и радость. Затем он тщательно вымылся и покинул баню. Наслаждаясь своей обновленностью, медленно шел домой. Всю дорогу его не покидало чувство необъяснимой радости и блаженства. Легкий румянец выступил на щеках, глаза блестели радостным светом, легкий ветерок нежно ласкал разгоряченные щеки. Ему чудилось, будто он заново родился на белый свет.
Май 1998 года.
Тренируйте сердце
Многие люди бег трусцой считают нудным, ненужным, скучным и однообразным занятием. На самом же деле это совершенно не так, и мне хочется поделиться небольшим своим опытом. Вначале, когда только начинаешь бег, кажется, что нет ничего привлекательного, бесчисленные одни и те же движения, с изматывающей душу монотонностью. Чуть только почувствуешь покалывание в боку или груди, тут же лезут в голову ненужные мысли: а вдруг инфаркт. Кажется, что и дыхание становится тяжелым, и тут же начинаешь себе внушать, что надо побыстрее заканчивать. Однажды я увидел мужчину лет тридцати, легко, без всякого принуждения пробежавшего мимо меня. Его стройная фигура и манера бега сразу привлекли мое внимание. Я попробовал копировать. Вначале не получалось. На следующий день я снова увидел его и постарался не только запомнить, но и зафиксировать всю тонкость его бега. Красиво приподнятая голова, все сконцентрировано в один общий монолит, и единым порывом, при пружинящем отталкивании, плавно, без принуждения, летит в воздухе его красивая фигура и опускается на землю. Вновь пружинящий толчок. Создается впечатление, что он не касается земли, а, перебирая ногами, словно парит в воздухе. Удивительный ритм, легкость во всем, непринужденность — вот, пожалуй, главное в беге. Постепенно стало получаться и у меня. Перед глазами впереди меня бежала воображаемая тень бегуна, и я, по мере сил, старался ей подражать. Со временем я обнаружил и другое, не менее важное качество во время бега. В первую очередь — самовнушение. Я ощутил это на себе. Особенно непросто заставить себя выйти на беговую дорожку. Всякий раз ищешь причину лишний раз полежать, мысленно уговариваешь себя и находишь для этого любой повод (плохая погода, магнитная буря, упало давление и так далее). Да, знакомая песня. Вот так всегда, в трудную минуту начинаешь находить подленькие мыслишки, ослабляющие волю. В данном случае неплохо сказать самому себе: соберись, не раскисай! Заставь себя, через силу иной раз, одеть спортивную форму и выйти в парк. Самое главное, надо научиться побеждать самого себя. Мысли необходимо направлять на другой лад, думать только о приятном. А уже когда выйдешь на беговую дорожку, не надо торопиться, надо выбрать оптимально приемлемый темп, чтобы дать возможность организму вработаться, настроиться, прогреть мышцы. Надо чувствовать себя, незаметно увеличивая темп бега, движения станут ритмичными, бежать станет легко и свободно. Мысли надо направлять на приятные события, которые ты уже однажды ощутил, это блаженство при купании в море или что-либо в этом роде. На лице не стоит держать гримасу усталости, даже с усталостью можно бежать без видимого напряжения. Надо всегда воображать себя сильным и легким и все время думать о том, что тебе возможно все проделать, в стремительном порыве к движению. В таком настроении начинаешь чувствовать, как ноги сами несут тебя быстрее и быстрее. Нелишне и представить себя в самостоятельном полете, именно в таком представлении в теле появляется легкость и стремительность. Фантазия может быть самой разнообразной. Шумящая в жилах кровь и сильно бьющееся сердце способствуют своеобразному ощущению легкости, радостного и непринужденного движения, надо только уловить это ощущение. Чтобы не дать утомлению полностью завладеть собой, надо концентрировать внимание на определенных предметах, и это поможет забыть о беге, он станет автоматическим, усталость отодвинется. Затем наступит «второе» дыхание, знакомое опытным бегунам.
Апрель 1991 года.
Разряд электрической молнии
Предприниматель Иван Чижов прибыл в санаторий на берег Черного моря. В столовой, за столом напротив, куда посадила его диетсестра, сидела молодая, лет двадцати пяти, женщина. Она проницательно глянула на пришельца своими небесного цвета глазами, застенчиво улыбнулась и по-детски опустила глаза. Не ускользнула от его внимания ее стройная фигура, когда она, закончив трапезу, встала из-за стола.
Вплоть до самого обеда Иван ловил себя на мысли, что все время думает об этой женщине. «Черт знает что творится со мной, — думал он. — Такого никогда не было. Куда ни пойду, что ни сделаю, а она перед глазами: ее маленький ротик, пухлые, аппетитные губы, а главное — детская застенчивость».
Одев спортивный костюм и черные очки, он отправился на пляж. Медленно пробираясь среди лабиринта людских тел, он всматривался в лежащих и купающихся женщин. Пробродив с полчаса, он остановился. Солнце придвинулось ближе к горизонту. Подошел к воде. На отмели сновали мелкие рыбешки. Серебристые солнечные блики мерцали над водой, обжигая глаза. Какая прелесть! И вдруг ему нестерпимо захотелось окунуться в воду. Увидев свободное место, он сделал шаг и зацепился за деревянный лежак. «Осторожно! Не упадите!» Он обернулся и увидел ее. Кровь ударила в голову, все тело словно жаром обдало. Он стоял, не в силах преодолеть так неожиданно возникшее волнение, затем не к месту брякнул: «Здравствуйте!» Она улыбнулась и по-детски опустила глаза. От Ивана не ускользнули лукавые искринки, которые заиграли в уголках ее глаз. Она подняла насмешливый взор и предложила: «Присаживайтесь, если хотите». Он присел на уголок лежака. «Угощайтесь», — она придвинула пакет с виноградом. Внутри что-то обожгло, и непроизвольно забил легкий озноб. Так с ним случалось только при сильном волнении. «Меня зовут Вика, а вас как величать»? Она смотрела на него широко открытыми глазами и ждала. С трудом преодолев волнение, глотая слюну и часто моргая, он вымолвил: «Иван». Немного помедлив, добавил: «Петрович». Она снова улыбнулась. Лукавые огоньки с большей силой заиграли в уголках глаз. «У вас такой прелестный загар», — чтобы что-то сказать, буркнул себе под нос Иван. «Завтра уезжаю, — сообщила она. — Может быть, в карты сыграем?» Он молчал. — «Тогда давайте я вам погадаю. Возьмите и загадайте». Она подала короля крест. «Что загадывать-то? Я никогда не гадал». — «Ничего, я погадаю просто так, для интереса». Разбрасывая карты, она говорила о казенном доме, о неожиданной любви, о ранней дороге, а он сидел, смотрел на ее руки и ничего не слышал. Озноб не проходил. Мелко дрожали руки. «Господи, — думал он. — Что со мной происходит? Надо ж, как мальчишка!» После ужина они вместе вышли из столовой и остановились на площадке у перил идущей далеко вниз лестницы. Она закрыла глаза, приложив ладони к щекам, засмеялась прелестным смехом и сказала: «Я совсем с ума сошла! Хожу и никак не могу понять, что со мною творится. Откуда вы взялись? Шесть часов назад я даже не подозревала о вашем существовании. Но все равно это здорово, что вы здесь. Ох, как кружится голова!» Иван Петрович взял ее руки и поднес к своему лицу. Они пахли загаром. Блаженно и страстно забилось сердце. Пересилив себя, он нерешительно пробормотал: «Пойдемте…» — «Куда?» — спросила она удивленно. «В номер, я живу один». — «Зачем?» — Он промолчал. Она высвободила руки и, приложив их к щекам, сказала: «Сумасшедший!» — «Пойдемте, — повторил он тупо. — Умоляю вас». — «Ах, делайте, как хотите», — сказала она, отворачиваясь. Он взял ее под руку. Через десять минут они были в номере. Как только закрылась дверь, он порывисто кинулся к ней. И оба они исступленно задохнулись в поцелуе. Много лет потом они будут вспоминать эту минуту, так как ничего подобного они не испытывали за всю свою остальную прожитую жизнь, ни тот, ни другая. Почти не спали всю ночь, но рано утром, тихо выскользнув из кровати, она быстро умылась и оделась. И уже была свежа и очаровательна. Легкое смущение скользнуло по ее лицу. По-прежнему она была проста, весела, но уже рассудительна. «Нет, нет, — сказала она в ответ на его предложение остаться дня на три, четыре пожить в его номере. — Если я не уеду, все будет испорчено. Мне будет очень неприятно! Излишества опасны! Даю вам честное слово, что я совсем не та, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше никогда. На меня точно затмение нашло, пропал рассудок. Я перестала принадлежать сама себе. — Она помолчала, а потом добавила: — А впрочем, мы оба получили разрядку, подобную электрической молнии огромной силы». И Иван Петрович как-то легко согласился с ней. Счастливые, они доехали до железнодорожного вокзала.
Он поцеловал ее, и в десять часов поезд увез ее на Север. Так же легко и беззаботно возвратился он в свой номер. Но здесь уже что-то изменилось. Номер без нее показался совсем другим. Он был еще полон ею и пуст. Это было ужасно! Кровать еще пахла ее телом. На столе стоял стакан с недопитым кофе, а ее не было. И сердце Ивана Петровича вдруг сжалось и учащенно забилось. Он быстро зашагал по комнате. «Странное приключение!» — сказал он вслух, чувствуя, как на глаза навертываются слезы. «Даю вам честное слово, что я совсем не та, что вы могли подумать». И уже уехала. «Нелепая женщина! Да что это такое со мной? Да что в ней особенного, и что, собственно, случилось? — старался успокоить себя Иван Петрович. — А в действительности, — думал он, — произошла разрядка, подобная электрической молнии. Такого со мной никогда не было». Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими особенностями. Помнил запах ее загара, крепкого тела, живой и веселый ее голос, чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью. Но главное — появилось совсем новое чувство, непонятное, странное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить не мог, затевая это забавное знакомство. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, изумила и поразила его. И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас. Весь его организм словно переболел какой-то тяжелой болезнью. Внутри под ложечкой что-то ныло все сильнее и сильнее, не давая ни минуты покоя. Хотелось кричать диким криком от этой боли и безысходности. Он лег на кровать, положив руки под затылок, и пристально посмотрел перед собой. Потом, стиснув зубы, закрыл глаза, чувствуя, что по щекам потекли слезы, и наконец уснул. А когда открыл глаза, был уже вечер. Первое желание — разыскать ее, ко, умывшись, вспомнил ее слова: «Если я не уеду, все будет испорчено». «У нее семья и маленький сын, у меня тоже дети. Ради них пусть она останется в памяти моей как несбыточная сказка». Он позвонил на вокзал. Поезд в его город отправлялся через два часа. Собрав вещи, сославшись на срочную необходимость, получив открепительный талон, поехал на вокзал. Там он нашел место их последнего свидания. Вдруг сзади ее голос. Резко обернулся, но никого вокруг не было.
Ноябрь 1996 года.
На таких земля держится
При первой нашей встрече он как-то неловко и не без помощи левой ткнул мне нераскрывшуюся кисть правой руки, слегка улыбнувшись, застенчиво сказал: «Я ждал, спасибо, что приехали». Мы сидели в светлой, со вкусом обставленной простыми вещами комнате и приглядывались друг к другу. Его загорелое мужественное лицо все время меняло свой облик, а строгие глаза — свой цвет, когда он рассказывал о пребывании на фронте: «Привезли нас в августе сорок первого и сразу послали многих на курсы станковых пулеметчиков. Первое боевое крещение принял у станции Владимирской в Крыму, где и получил сразу два ранения. После госпиталя попал в двадцать первую отдельную истребительную бригаду. Там же прошел подготовку бронебойщиков, и меня направили в 14-ю гвардейскую стрелковую дивизию под Сталинград. В ее составе в сорок втором форсировали реку Дон, освобождали хутора Калмыки, Чеботари, Западный, станицу Боковскую. Затем были срочно переброшены в район города Калач для отражения танковых полчищ фельдмаршала Манштейна, рвущегося к окруженной группировке под Сталинградом. Там же и был тяжело ранен разрывной пулей в правую руку. В июне сорок третьего демобилизовали инвалидом второй группы. Отвоевался».
Мы вышли во двор. На лицевой стороне дома я прочел: «Здесь живет семья почетного колхозника колхоза имени Чапаева». Кивнув в сторону таблички, Трофим Ильич сказал: «В этом вся моя жизнь»! Мы присели в тени орехового дерева. «Как только был организован колхоз „Красный партизан“, меня послали на курсы трактористов. В тридцать первом году, окончив их, работал на американских „Фордзонах“, „Катерпиллерах“, затем на отечественных СТЗ, ХТЗ, ЧТЗ. Через два года стал помощником бригадира. С тридцать седьмого по июнь сорок третьего служил в армии. После демобилизации по ранению, буквально на следующий день, пошел работать, а ведь у меня вторая группа инвалидности. В колхозе работали в основном подростки, женщины да калеки, пришедшие с фронта». «Очень трудно было, — вспоминает Трофим Ильич, — болела незаживаемая рана на руке, не хватало запчастей. Это был второй фронт. А для победы нужен хлеб, и мы его выращивали. Работали и день и ночь». Удобно уложив перебитую, словно плеть висевшую руку, он продолжал: — Когда в пятидесятом четыре колхоза объединились в один, работал агрономом полеводческой бригады, а после заведующим МТФ. Потом назначили кладовщиком и по совместительству председателем соцобеспечения. Шесть лет на двух должностях, а затем только председателем. За двадцать семь лет оформил на пенсию более восьмисот человек. Однако возраст брал свое, в семьдесят лет ушел на пенсию.
Наступила тишина. Его фигура словно уменьшилась, явно обозначился перекос плеч. Немного выждав, я спросил Кононенко: «Что заставило вас так работать?» Помедлив, слегка прищурив глаза, он сказал: «Вначале нужна была победа, а потом я просто не мог без работы». — «А что вы скажете по поводу развития частной собственности?» В его глазах мелькнула еле заметная усмешка: «Если мы бездумно уничтожим колхозы, неминуемо придем к голоду. Подтверждением тому низкие закупочные цены на сельхозтехнику. Чтобы единолично обрабатывать землю, надо иметь знания, короче, надо быть всезнайкой. А всезнаек „кулаков“ уничтожили. Чтобы их снова воспитать, надо очень много времени. Я в принципе не против частной собственности, но для этого надо создать условия, иначе все пойдет насмарку. Общественному труду у нас учились американцы, да ведь и мы говорим: „Гуртом и батьку легче бить“».
Грудь инвалида войны украшена многими орденами и медалями. Он награжден почетными грамотами и грамотами ВДНХ. Проработав пятьдесят шесть лет в одном колхозе, Трофим Ильич и ныне в строю. К нему идут за консультацией по пенсиям, его приглашают школьники, с ним советуются руководители колхоза. Я смотрю на своего однополчанина по четырнадцатой гвардейской и думаю: «Немецкие снайперы первыми убивали пулеметчиков, бронебойщиков и командиров, но ему повезло. На таких, как он, держалась, держится и будет держаться русская земля, они всему опора и пример для подражания».
Май 1995 года.
Бдительность
На сон Нина Ивановна не жаловалась. Она жила в военном городке, на первом этаже пятиэтажки. Почти в одно и то же время она ложилась спать и вставала. Рано шла на кухню и готовила завтрак. Но вот по стране прогремели диверсионные взрывы, а вчера соседка по лестничной площадке сообщила ей, что Шамиль Басаев обещал рассчитаться за погибших братьев с ейскими летунами. Постоянная тревога засела в душе Нины Ивановны. Стали сниться кошмары, в тревоге просыпалась ночью. Город затаился в немом ожидании. Жильцы дома организовали ночные дежурства. С тревогой замирало сердце, когда узнавали о новых взрывах и гибели неповинных людей. В эту ночь она проснулась с непонятной, волнующей сердце тревогой. Во дворе ярко горели обновленные фонари. Прислушалась. И вдруг за стеной, граничащей с подвалом на уровне пола, услышала четкие, ритмичные, приглушенные звуки: «туф, туф, туф». Она встала, подошла ближе: удары усилились. Зажгла свет, глянула на часы, было ровно три часа ночи. По секундной стрелке проверила количество ударов. Их было ровно шестьдесят в минуту. «Часовой механизм взрывного устройства», — подумала она. Холодный пот выступил на лбу. Быстро подошла к телефону. И только в последнее мгновение остановилась. А вдруг что-то иное? Милиция подымет весь дом, и живущих в нем взрослых и детей удалят в безопасное место. Кусая губы, она отошла от телефона, но тут же представила картину взрыва и снова подошла. Подняла трубку, набрала первую цифру номера, и снова непонятная сила остановила ее. Она положила трубку, села на стул и только сейчас ощутила, как, словно в ознобе, дрожало все тело, тряслись руки. «Боже великий, образумь и помоги», — взмолилась Нина Ивановна. Она вошла в спальню к дочери. Разбросав руки, та беспечно посапывала, словно говоря ей: «Мама, успокойся, это не взрывное устройство, это Витькины шалости». Она снова вошла в коридор, зашла на кухню, а в ушах щемящие звуки: «туф, туф, туф». Выглянула в окно, но нигде ни единого человека, с кем можно поделиться обнаруженным. От перевозбуждения стала дергаться правая щека, а внутри, где-то под ложечкой, что-то ритмично пульсировало в такт ударам за стеной. Не выдержала, подошла и разбудила дочку. «Какое устройство?» — спросонья переспросила та. «Иди вот сюда, послушай». Они вместе уселись и по секундной стрелке стали проверять количество ударов. «Видишь, ровно шестьдесят. Только часы могут отбивать такой ритм, — сказала Нина Ивановна. — Это точно взрывное устройство. Не может же что-то иное так ритмично отбивать звуки». Так они мучились до первых ударов Кремлевских курантов, решительно отметая все за и против. И только когда щелкнул замок Витькиной двери, Нина Ивановна открыла входную дверь. «Иди сюда, — потянула она его за рукав. — Послушай. Слышишь?» И Виктор тоже услышал ритмичные звуки. «Не иначе, как механизм со взрывным устройством», — покусывая губы, сказала Нина Ивановна. Витька стоял в каком-то оцепенении, а потом выскочил в подъезд. Открыл дверь, ведущую в подвал, зажег свет и позвал Нину Ивановну. В его каморке на уровне пола первого этажа, граничащего с квартирой Нины Ивановны, подогреваемый электрическими лампочками, стоял десятилитровый баллон, закрытый крышкой, а из нее, обмазанный пластилином, выходил резиновый шланг, опущенный в ведро с водой. И Нина Ивановна снова услышала ритмичные звуки: «туф, туф, туф». Витька улыбался, его глаза блестели.
Это играл его будущий божественный напиток из винограда, который он купил на рынке по очень сходной цене.
20 октября 1999 года.
Вмятина
Стою как-то на автобусной остановке, рядом светофор. Смотрю на движущийся поток легковушек и думаю: «Сколько же автомашин в нашем городе?» Вдруг слышу резкий скрежет тормозов. На светофоре «красный», у остановочной полосы иномарка. Не спеша из нее вышли два холеных бритоголовых парня. Модно одеты, на шее — толстые цепочки с крестами. Православные, видать. Сзади иномарки лежит мопед с погнутым крылом и свернутым на бок рулем. Под мопедом — старик с худым, бледным, морщинистым лицом. Он пытался встать, но не смог, его придавил мопед. Не обращая на старика внимания, парни осматривали машину. Затем подошли к старику с циничной усмешкой: «Што ты сделал с машиной, старый козел!» Старик виновато улыбался, как бы в оправдание: «Я же не хотел. Вы так резко остановились». — «У тебя, что, тормозов нет?» — «Как нет, есть», — ответил старик. «А ты знаешь, сколько стоит ремонт машины?» — «Сколько?» — в недоумении спросил старик. «Две тысячи рублей». Я подошел и помог старику выбраться из-под мопеда. «Платить будешь?» — обращается к старику пухлощекий. «Нет у меня таких денег, сынок. Может быть, по частям, при получении пенсии». — «А какая у тебя пенсия?» — спрашивает пухлощекий. «Триста пятьдесят», — с только ему понятным достоинством отвечает старик. Я подошел ближе и заметил, рядом с фонарем заднего вида, небольшую вмятину. «Бога побойтесь, — обращаюсь к парням. — Ремонт-то и ломаного гроша не стоит». «А ты кто таков? — не мигая, нагло смотрит мне в глаза пухлощекий. — Это же иномарка, деревня!» — «Я все вижу, только не надо наглеть». На скулах пухлощекого заиграли желваки, он вплотную подошел ко мне, дохнул перегаром и прошипел: «Пошел вон отседова, пока цел!» — «Ничего ты не выбьешь с этого старика», — сказал тихо пухлощекому его дружок. «Кто, я? Да я из него жилы вытяну! Вот возьми, здесь все. — Он сунул в руки старика перламутровую карточку. — Будешь платить в рассрочку. Да не вздумай баловать, под землей найду». — «Пожалели бы старика», — обратился я к парням. «У нас подобное чувство отсутствует», — прошипел сквозь зубы пухлощекий. Они сели в машину и растворились в потоке движущегося транспорта. На визитной карточке — координаты пухлощекого. «И ты думаешь платить?» — обратился я к старику. «А как же, видишь, какие крутые парни, убьют ведь». Маленькие, выцветшие голубые, глубоко посаженные глаза выражали непомерный страх. «Во дожились, и пожаловаться некому, кругом одна „демократия“», — подумалось мне. Я помог старику выправить руль, отогнуть крыло. Он развернул мопед в обратную сторону и, прихрамывая, прижимаясь к обочине дороги, покатил его вдоль Коммунистической.
Ноябрь 1999 года.
Кармен
Внучка хозяина квартиры, которую я снимал, пятилетняя Наташа, удивляла тем, что не называла меня никак. Однажды я спросил ее о причине.
— У тебя имя некрасивое, — прищурив глазки, сказала она доверительно.
— Придумай другое, — пошутил я.
— А оно у меня есть! Только я его забыла и не могу вспомнить, — огорченно ответила она.
— Вспомнишь — скажешь, — утешил я ее. — Только ты уж поторопись, а то я ведь и состарюсь в ожидании.
А вскоре меня увидел во дворе Наташин дедушка и говорит:
— Зашел бы к нам, у Наташи для тебя важное сообщение.
Открываю дверь, и Наташа тут же несется ко мне через все комнаты. Останавливается и взволнованно так:
— Ты Кармен! Я видела по телевизору, это правда! В ее глазах блестели радостные искорки:
— Скажи всем: «Я Кармен!»
Я растерялся. А она дергала меня за рукав и твердила:
— Ты Кармен! Это правда! Скажи всем, что ты Кармен!
— Я Кармен! — крикнул я, подчиняясь просьбам маленькой выдумщицы и, схватив ее в охапку, закружил.
Кармен! — кричала она… Я упаду, ты меня уронишь!
А я ее не отпускал и все кружил, кружил. Она сопротивлялась, отталкивала меня, но по ее счастливым озорным глазам я видел — ей весело и приятно. И я не отпускал ее.
— Но ведь Кармен женское имя, — сказал Наташе я, когда опустил ее на землю.
— Неправда! Кармен мужчина, я видела его! Он пел и размахивал плащом с красной подкладкой.
— Мудреное, правда, имя, но, в общем, ничего, сказал Наташин дедушка.
— Не мудреное, а красивое! — возразила внучка.
— А тебя только я и дедушка зовем Кармен? — спросила Наташа в следующий мой приход к ним.
— Только вы, — признался я.
— Значит, тебя никто не любит, — сделала она странный вывод. — Плохо тебе.
— Любят, — успокоил я Наташу. — Но… только по-своему…
Прошло много лет. Наташа давно уехала к своим родителям, и я стал забывать ее. Но вот что странно, эпизод моего наречения то и дело оживал в моей памяти, как оживают любимые образы, яркие события… Светлая грусть возвращала меня к хозяину квартиры, где я когда-то жил, и к маленькой выдумщице, которая пыталась восстановить справедливость по отношению ко мне. Не понимала, что даже самое красивое имя бессильно вернуть утраченные чувства и обязать кого-то вновь любить…
Однажды возвращался я домой из Пятигорска. Уже заканчивалась посадка в автобус, но я не торопился занять свое место. Что-то удерживало меня на посадочной площадке, пропахшей пылью, бензином и испарениями от разогретого солнцем асфальта. Посадочный контролер, сделав отметку в путевом листе, пожелал всем нам счастливого пути. Я сделал два шага к «Икарусу» и остановился. Мне почудилось, что кто-то тихо так позвал меня: «Кармен». Я оглянулся и стал искать глазами того, кто мог бы это сделать. Никого. И вдруг над голосами и гулом проходящих мимо автомобилей вознеслось слово, предназначенное только мне: «Кармен!»
Оно еще висело в воздухе, а я, не осознавая куда и зачем, рванулся туда, откуда донеслось мое второе имя. Навстречу, широко раскинув руки, неслась девушка, в которой я с трудом узнал ту пятилетнюю Наташу. «Кармен!» — кричала она. Ее большие голубые глаза светились радостным светом. Она, конечно же, не думала, что за двенадцать лет, прошедших с нашей встречи, Кармен мог измениться. Приблизившись, она, наверно, это поняла и, прикоснувшись нежными руками к моим, сухим и загрубевшим, сказала сдержанно:
— Здравствуйте, Кармен. А я за вами долго наблюдала, боялась ошибиться.
Потом, наверно, преодолев какой-то внутренний барьер, Наташа схватила меня за руки, и мы закружились рядом с автобусом. Водитель нервно засигналил, и мы стали прощаться.
— До свидания, Кармен. Пишите! — прокричала она в открытую форточку «Икаруса». Приезжайте в гости, адрес мой у дедушки. Наташа не знала, что я уже давно живу в другом месте. И тут как-то сразу вдруг в ее глазах погас радостный блеск, и они увлажнились. Автобус двинулся, и она помахала мне рукой. А когда он стал поворачивать направо, я увидел, как она достала из сумочки платочек и стала вытирать глаза.
— Но Кармен — вроде бы женское имя? — обратился ко мне попутчик.
А мне так не хотелось ворошить пласты двенадцатилетней давности… Я спросил:
— А Саша — женское или мужское?
— Да и правда, — ответил мой сосед.
«Кармен» — шуршали колеса по асфальту. «Кармен» — пел двигатель «Икаруса». «Кармен» — приветствовали друг друга водители. А перед моими глазами, словно молодая, выпустившая первые листочки березка, стояла голубоглазая выдумщица, семнадцатилетняя Наташа.
Май, 2002 год, г. Ейск.
Отличился
Ваня Козоброд родился и жил на хуторе. Окончив три класса сельской школы, он так и не смог учиться дальше. Во-первых, чтобы продолжить обучение, надо было ходить или ездить на центральную усадьбу в 15 км от хутора. Во-вторых, рано умер отец и все хлопоты по хозяйству легли на его плечи. Вначале он пас телят, затем доверили коров, а уж потом он стал скотником на ферме. Ростом и здоровьем он удался в дядю Ивана по материнской линии, обладающего недюжинной физической силой и спокойным характером. Так бы и жил наш герой на хуторе, не случись непредвиденное. Как-то ранним утром, идя на работу, он встретил своего сверстника Николая Золоторева. Тот важно шел в новой милицейской форме и как-то небрежно, с чувством определенного превосходства подал руку и сказал: «А ты все пашешь?» — «Деваться некуда, вот и пашу». «Иди в милицию», — посоветовал Николай. «Меня не примут», — ответил Иван. — «Это почему же? Меня приняли и тебя примут. С твоими-то физическими данными — непременно возьмут». И Ивана приняли. Незаметно прослужил он рядовым милиционером один год. За это время Николай выбился в сержанты и стал получать зарплату больше, чем Иван. «А ты что, так и думаешь ходить в рядовых?» — как-то при встрече спросил его Николай. — «Да уж куда нам, надо же чем-то отличиться, чтобы присвоили звание». «Поступай учиться, — посоветовал Николай. — Через год станешь сержантом, а когда закончишь техникум, присвоят младшего лейтенанта, да и в должности, гляди, повысят». Иван, не без участия Николая, достал необходимые документы и подал их для поступления в техникум. «Ты только будь посмелее», — тараторил Николай. И вот пришло время сдавать вступительные экзамены. Первый предмет — математика. Когда Иван вошел в кабинет, там уже шел экзамен. Подняв со стола билет и не узнав своего голоса, он сказал: «Пятнадцатый». Взяв листок бумаги, сел за стол у окна. С трудом прочел условия задачи, затем глянул на пример с непонятными для него буквами, цифрами и задумался. «Черт меня дернул с этой учебой», — подумал он, но тут же успокоил себя мыслью: «Учатся же другие. Вон Николай уже на втором курсе. Да и эти вот рядом сидящие учатся же». Он снова глянул на лежащий билет, и вдруг его тело передернула непонятная дрожь. И тут он понял, что написанное на бумажке было для него самым страшным, самым непреодолимым препятствием за всю его прожитую жизнь. В первое мгновение он решил сдать билет и уйти. «Прослужил год, — думал Иван, — буду служить и дальше. А что зарплата маленькая, не беда. Мог же я обходиться и с меньшими достатками. Что нам с матерью надо?» Но тут вдруг его озадачила другая мысль. Рано или поздно, думал он, надо будет обзаводиться семьей, пойдут дети. Вдруг он услышал свою фамилию. Взяв билет, подошел к учительнице. «Ну что вы тут сделали?» — обратилась она очень вежливо. Иван молчал. Он подал ей билет, держа в руках чистый листок бумаги, присел на рядом стоявший стул. «Так, у вас здесь одно очень простое уравнение с одним неизвестным, — сказала учительница. — Прочтите, пожалуйста, условия», — и она вернула Ивану билет. «Примера или задачи?» — спросил он. — «Для начала — примера». Иван глянул на запись: 2ху2=15у+2х /у=4/
И он медленно, с остановками стал читать: «Два ху и два наверху», — мельком глянув на учительницу, добавил: «Равно пятнадцать у плюс два ху». Но тут он понял, что последнее прочел неправильно. «Нет-нет, — поспешил он. — Два ха». «Но ведь и так неправильно, — снова подумал он и торопливо добавил: — Плюс два хы». В аудитории кто-то тихонько хмыкнул. Наступила зловещая тишина. Холодный пот покрыл все тело Ивана, и он почувствовал, как тонкая струйка побежала по спине вдоль позвоночника, а с лица вот-вот капли упадут на экзаменационный билет. Он достал носовой платок, вытер лицо, шею, глянул на учительницу и не узнал. В ее глазах быстро-быстро бегали смешные чертики. Но она сразу сделала серьезное лицо, строго и решительно спросила: «Так сколько же плюс?» Иван был в страшном замешательстве, он тупо смотрел на нее обезумевшими глазами, проклиная в душе Николая за то, что он втянул его в эту злосчастную авантюру. Учительница глянула на его большие мозолистые руки, затем подала экзаменационный лист и тихо сказала: «Можете идти». С трудом поднявшись, покачиваясь, неуверенной походкой он вышел в коридор. И тут только интуитивно до него дошло, что сморозил какую-то непростительную чушь. Мельком глянул в экзаменационный лист: напротив слова «математика» стояла единица и роспись. «Ну вот и поступил в техникум», — подумал он. Вдруг его пронзила новая страшная мысль: «Что будет, если кто-либо из милиционеров узнает, как он сдавал вступительный экзамен по математике при поступлении в техникум». По телу пробежал мелкий озноб.
«Не унывай! — сказал ему Николай. — Я поговорю, с кем надо, и все уладим, только деньжонок надо будет подсобрать». Но Иван твердо сказал: «Не надо! Я больше никуда не пойду. Хватит мне позориться!» Он прослужил еще полгода. И вот однажды ему удалось задержать двух торговцев наркотиками. При схватке Ивана не подвели его физическая подготовка и постоянная тренировка по приемам «каратэ». Оглушив одного ударом кулака по голове, он сгреб второго, заломив ему руки назад, наручниками связал обоих и вместе с их товаром доставил в отделение милиции. А вскоре его наградили ценным подарком и присвоили звание ефрейтора. Так, неожиданно, Иван отличился второй раз, но уже при выполнении служебного долга. По совету заместителя начальника милиции по воспитательной работе он поступил в школу вечерней молодежи. И когда на уроке алгебры он впервые познал значение слов «Х»(икс) «Y»(игрек), невольно вспомнил экзамены, учительницу с бегающими смешными чертиками в глазах и подумал: «Господи, каким же тупым и смешным невеждой я выглядел тогда». Окончив девять классов, Иван без труда сдал экзамены в техникум, а через год ему присвоили звание сержанта. После окончания техникума ему присвоили звание младшего лейтенанта и повысили в должности. Прошли годы… Окончив юридическое отделение Краснодарского университета, майор милиции Иван Андреевич Козоброд возглавил следственный отдел. В отпуск, вместе с внуками, ездит на речку его детства порыбалить. Она и поныне течет рядом с тем местом, где когда-то был его хутор. Ездит туда, чтобы сходить на маленькое хуторское кладбище, где покоится прах его родителей. Едет туда еще и потому, что это его маленькая родина. Здесь прошли его детские, отроческие и юношеские годы, а это для человека всегда свято!
Сашенька
Осень. Ветер гонял по асфальту опавшие листья. День подходил к концу. На привокзальной площади припарковано несколько автомобилей. На перроне слышен приглушенный гомон ожидающих поезда. К рассыпанным семечкам по одному слетались воробьи, громко чирикая, расклевывали зерна. При малейшей опасности они с шумом взлетали и рассаживались на сучья ближних деревьев. Затем снова серыми шариками слетались к семечкам. Поезд подошел бесшумно. Из последнего вагона вышел инвалид без левой ноги, на костылях с подлокотниками. За спиной — до отказа набитый вещмешок. Он постоял, осмотрелся и медленно пошел на выход. Подойдя к ступенькам, ведущим на привокзальную площадь, он увидел женщину с букетиками хризантем и дубков. Остановился. Его лицо неожиданно стало мертвенно бледным. Господи! Не может быть! Какое поразительное сходство! Такие же косые морщинки у глаз и рта, такой же прищур глаз, когда она поднимала их и смотрела на собеседника. Такая же улыбка, и далее голос похож на Сашенькин. Он пришел в себя только тогда, когда женщина стала укладывать оставшиеся цветы в сумку-двухколеску. Площадь как-то сразу опустела, за поворотом мелькнули огоньки последних такси. «Простите, как мне попасть в гостиницу?» — обратился он к женщине. Она глянула снизу вверх, и только тут он заметил цвет больших выцветших голубых глаз, непомерную грусть и тут же отметил, что у его жены цвет глаз был иной. «Вам бы на такси, но они все разъехались. Да тут недалеко, прямо по Ленина, — кивнула она головой, — квартала три». Сделав несколько шагов, она остановилась, повернулась, глянула на его костыли: «Идемте, я вас провожу. Давайте, — она помогла снять вещмешок, быстро закрепила его на двухколеске. — Ну! Пошли?»
Для одинокого инвалида войны в гостинице не нашлось места. Он вышел к поджидавшей Валентине Петровне и с огорчением сообщил: «Нет мест».
— «Если бы вы положили кругленькую, они бы быстро нашли, — буркнула она. — И что же вы намерены делать?» — «Право, не знаю. Посижу в вестибюле, не выгонят же». — «Идемте ко мне» — «Неудобно как-то, мы же с вами совсем незнакомы, да и стесню я вас». — «Дорогой познакомимся, а стеснять у меня некого, я живу одна». Он колебался. «Идемте же», — решительно сказала она и стала снова крепить рюкзак к двухколеске. Шли медленно, периодически останавливались. «Откуда вы приехали?» — вдруг спросила она. «Из ниоткуда в никуда», — ответил он. А затем рассказал: «Без ноги остался в сорок четвертом. В госпитале лежал в г. Баку, там и остался после войны. Пошел работать, познакомился с девушкой. Ее доброе сердце не посмотрело на мою неполноценность. Вскоре мы поженились, получили квартиру. Родилась дочка. Жили дружно и радостно, пока не пришла беда. А она, как правило, не приходит одна. Уже взрослая, трагически погибла дочка, а три года назад похоронил жену. Остался один. А потом, когда распался Союз, пришли ночью три молодчика, азербайджанца или армянина, не разобрался. Не посмотрели на мою увечность, перевернули все вверх дном, а затем избили и предупредили, если не уберусь в Россию, в следующий раз убьют. Куда ехать? Родных у меня нет, к кому? Все передумал и наконец в записной книжке нашел адрес своего однополчанина Виктора Смородина, вот и решил к нему, служили вместе, думаю, если жив, не выгонит первое время». — «А вот мы и пришли», — сказала Валентина Петровна.
К концу следующего дня Василий Михайлович узнал, что Смородин умер год назад. Продав дом, его жена уехала в город Ростов-на-Дону. «Не расстраивайтесь, — сказала Валентина Петровна, — поживите пока у меня». Он добился разрешения на прописку, стал на учет для получения жилья, вступил в общество инвалидов и записался на очередь для получения автомобиля…
Уже пятнадцать лет Валентина Петровна жила одна. Проработав тридцать девять лет в школе, ушла на пенсию и занялась выращиванием цветов. Ее единственная дочь вышла замуж за дипломата и живет за границей. Приезжают очень редко, и в доме наступает праздник. Шум, гам, масса вопросов. Привозят ей подарки. Такие торжества она выдерживает не больше недели. Потом начинает уставать, нервничать, смотря на ералаш в комнатах, устроенный внуками. Ее сердце нервно отстукивает свои ритмы и ждет дня, когда в ее доме наступит тишина. Тогда она отдыхала и отсыпалась. И вот в доме появился новый человек. Первое время она переживала, чувствовала какую-то неловкость. Постепенно взяла все заботы о нем на себя. Иногда просыпалась ночью с учащенным биением сердца, вслушивалась, когда улавливала легкое похрапывание в соседней комнате, читала «Отче наш», засыпала. Если Василий Михайлович задерживался где-либо допоздна, она начинала нервничать, выходила во двор, шла к цветам, но и там не находила покоя. Выходила на улицу, и когда ее тонкий слух улавливал стук костылей о мостовую, заходила в дом и накрывала на стол.
Однажды вечером Василий Михайлович сообщил ей о том, что ему выделили комнату из старого жилого фонда. Валентина Петровна глянула ему в глаза, и ее лицо вдруг покрылось бледностью. Немного оправившись, она сказала: «Такое событие надо отметить». Ночью она плохо спала, а днем накрыла на стол. Когда были наполнены бокалы шампанским, она вышла в соседнюю комнату, включила старенькую радиолу и поставила пластинку. Полилась мелодия их молодости: «Осень, прохладное утро. Небо как будто в тумане…» Не спеша подошла, взяла бокал. На глаза навернулись слезы. Она вытерла их платком и глянула на Василия Михайловича. В ее глазах он уловил грусть, какую видел при первой их встрече. А Вадим Козин пел: «Наш уголок нам никогда не тесен. Когда ты в нем, то в нем всегда весна. Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна». Она поставила бокал и снова вышла в соседнюю комнату. Василий Михайлович последовал за ней. Она стояла к нему спиной. Ее плечи слегка вздрагивали. Он обнял ее и тихо сказал: «Не надо плакать, Сашенька». Она вздрогнула, пытаясь освободиться от него. А он повернул ее к себе лицом, вытер слезы и стал целовать в мокрые щеки, глаза, губы. А затем рассказал ей, почему такси при первой их встрече все разъехались… Если вы приедете поездом в наш небольшой приморский город, то на вокзальной площади можете увидеть женщину, предлагающую букетики живых цветов. Знайте, это «Сашенька». В далеком углу привокзальной площади увидите мужчину с одной ногой у открытого капота, это Василий Михайлович. Они вместе, счастливо и радостно, доживают свой век.
24 декабря 1997 года.
Контрольные по математике
Ранним утром Костя Рокотов выехал в краевой центр. На выезде из города машину остановил высокий симпатичный мужчина и попросил подвезти до того же города. Вместе с ним до ближайшего населенного пункта попросилась молодая, красивая женщина. Когда она вышла из машины и грациозно пошла, Костя не выдержал:
«Не перевелись еще на Руси красавицы, особенно у нас, на Кубани. Надо ж, какая, глаз не отвести». Когда машина, набрав скорость, катала по пустынной дороге, пассажир представился: «Меня зовут Иван Петрович, а вас как величать?» — «Константин Иванович», — ответил Костя. Справа и слева пробегали скошенные поля, на некоторых велась зяблевая вспашка.
«Это было еще в молодые мои годы, — начал Иван Петрович. — Работал тогда я на городском молочном заводе начальником цеха по выработке готовой продукции. Как-то устроилась к нам на работу в качестве диспетчера по реализации готовой продукции не менее красивая молодая женщина. Ее стройная фигура, точеные ножки, большие голубые глаза с длинными ресницами покорили всех. В ее глазах постоянно таилась светлая искорка. Такие глаза — по-детски доверчивы. Звали ее Надежда Петровна. Она школьный учитель математики. Неизвестно, по какой причине бросила школу и пришла на завод. В диспетчерской она быстро навела порядок, составила график отпуска продукции, и все его беспрекословно выполняли. О ее красоте заговорил весь завод. Я тоже незаметно стал искать встречи с Надеждой Петровной. Она мило улыбалась, но вела себя строго и независимо. Потом я узнал, что у нее муж военный и что у них нет детей. В то время я поступил в институт на заочное обучение. Сел как-то выполнять контрольное задание по математике, прочел несколько раз условия, а выполнить — не под силу. И тут у меня мелькнула мысль, а не обратиться ли за помощью к Надежде Петровне. Подобрав удобный момент, когда в диспетчерской никого не было, я зашел к ней. Надежда Петровна вначале растерялась, засуетилась, но потом совладала с собой, мягко улыбнулась своими добрыми глазами, предложила присесть. Я вкратце изложил суть своего прихода, и она без лишних уговоров взяла мое контрольное задание. Не прошло и двух дней, как она вернула его мне выполненным. Когда она отдавала, я, вроде бы нечаянно, прикоснулся к ее руке. Она строго глянула на меня, но руки не отняла. В общем, влюбился я как мальчишка. Ни днем, ни ночью не находил покоя. Жена, а у женщин натура чувствительная, не раз говорила мне: „Не узнаю я тебя, Ваня, что с тобой происходит? Тебя словно подменили“. Не мог же я сказать ей, что влюбился. Утром вставал пораньше, наскоро завтракал и спешил на завод. Спешил, чтобы как можно быстрее, хоть издали увидеть ее. Она чувствовала это и всякий раз при встрече, застенчиво улыбнувшись, старалась побыстрее уйти в диспетчерскую. Шло время. Из института я получил новое задание. Оно было намного сложнее, и я снова решил обратиться к Надежде Петровне. На работе ее не оказалось, и я позвонил на квартиру. „Слушаю вас“, — услышал я ее голос. „Это Иван Петрович, простите, но мне снова нужна ваша помощь“.
— „Вы по вопросу контрольного задания?“ — „Ну да!“ — Она молчала, я чувствовал, что она решает какую-то сложную задачу. И вдруг я услышал ее слегка измененный голос: „Приходите ко мне домой после работы, и мы вместе выполним ваше задание“. Она назвала свой адрес. „А как же?“ — заикнулся было я, но она положила трубку. Жила Надежда Петровна на пятом этаже. Она открыла дверь и, ласково улыбнувшись, сказала: „Проходите, не стесняйтесь, я одна, муж улетел в командировку“. В комнатах чистота и порядок, со вкусом расставлена мебель. Она усадила меня за стол. Легкий цветастый халат из китайского шелка плотно облегал ее фигуру. Она придвинула стул и села рядом. Никогда мы еще не были так близко друг к другу. Глянул я в ее голубые глаза и тут же ощутил тепло и запах ее тела — тот радостный, пьянящий запах, который будоражит кровь, и она дурманом бьет в голову. Легкая дрожь пробежала по моему телу. В каком-то отдалении я услышал ее голос: „Что с вами, Иван Петрович?“ — „Надежда Петровна, — почти зарыдал я, — неужели вы ничего не?..“ Я взял ее руки, притянул к себе и стал целовать их. Она легонько высвободила свои руки. „Успокойтесь, — сказала она тихо. — Не надо. Так мы с вами ничего не сделаем“. — „Милая моя, — вырвалось из моих уст. — Да разве это главное?“ Я притянул ее к себе и стал целовать волосы щеки, глаза, губы. Она не противилась и как-то сразу обмякла и прижалась ко мне. Я приподнял ее на руках и медленно понес в кровать. Все мое тело бил радостный озноб. Быстро разделся, аккуратно сложил всю свою одежду на стул. Я заметил, как она сняла халат и включила ночное освещение. И тут нас поглотило ни с чем несравнимое чувство страсти. Мы несколько минут принадлежали друг другу. В момент, когда, изнеженные и расслабленные, тихо лежали, прижавшись друг к другу, думая каждый о своем, я услышал, как в замочную скважину кто-то вставил ключ. „Боже, неужели вернулся муж?“ — тихо сказала она. Щелкнул замок, она быстро встала, ее растерянные глаза стали темными. Взор метался по всей квартире, ища выхода. Я тоже встал и растерянно думал, что предпринять. Щелкнул второй замок. Тут она быстро опустила простынь на край кровати и глазами указала мне. Схватив одежду и туфли, которые она успела мне подать, я очутился под кроватью. Скрипнув, приоткрылась дверь. „Надюшенька, девочка моя, сними, пожалуйста, цепочку“, — услышал я его ласковый голос. Стараясь унять волнение, она медленно пошла к двери. Я чувствовал, как трудно все это ей дается. „Ты чем-то взволнована, дорогая?“ — спросил он. — „Твоим неожиданным ночным визитом“, — услышал я ее совершенно незнакомый голос. — „Прости меня, пожалуйста, но я успел справиться со всеми своими делами и обратным рейсом вернулся назад“. Они ушли на кухню. И тут только я услышал частые и сильные удары своего сердца. Дун, дун — стучало в висках. Мне казалось, эти удары слышны на всю квартиру. Лоб покрылся холодным потом. Правое плечо, на котором я лежал, от холодного пола стало деревянным. „Господи, прости меня, грешника, помилуй и защити, — стал неожиданно для себя молиться. — Как же он поступит, если обнаружит меня? Вежливо попросит и усадит за стол в одних трусах, предложит выпить, а потом набьет морду? А может, выволочет за мои длинные ноги, сухие и костлявые, и станет бить ногами, свирепо и жестоко? Какой позор!“ Дун, дун — стучало в висках. Я не слышал, как они вышли из кухни и улеглись в постель. Вот она, судьбина. Совсем рядом, такая нежная и ласковая, но запретная, не твоя. Чужое есть чужое. Дун, дун — молотками било в виски. Правое плечо, бок и нога потеряли всякое ощущение. И тут я услышал легкий храп, потом он усилился. Надежда Петровна тихо встала и ушла на кухню. В коридоре она включила свет, и я увидел, как она зовет меня. „Господи, помилуй и пронеси меня, грешника“, — снова, помимо своей воли, я попросил Бога. Превозмогая боль в задеревеневших членах, я с трудом стал на ноги, все время ожидая окрика, медленно пошел. Когда я очутился на лестничной площадке и услышал, как тихо закрылась дверь, с облегчением вздохнул, словно сбросил с себя огромный груз. Держа в руках одежду и туфли, то ли от радости, то ли от страха, не думая об опасности упасть и разбиться, я прыгал через несколько ступеней. А вот и входная дверь. Я еще раз с благодарностью и облегчением вздохнул, быстро оделся, обулся и вышел во двор. Глянул на часы — была половина третьего. Спешить было некуда, и я медленно побрел по ночному городу. Как только забрезжил рассвет, пошел на завод. А потом я узнал, что Надежда Петровна вернулась в школу. Первое время я не находил покоя. Мучило чувство неосознанной вины перед ней. Я не искал больше встреч, она тоже не подавала никаких вестей.
Прошло несколько лет после незабываемой, хотя и страшной ночи. Я уже свыкся с мыслью, что больше никогда не увижу ее. Как-то зимой на автобусной остановке я неожиданно увидел Надежду Петровну. Она по-прежнему была стройна и красива. Глянула своими родниково-чистыми глазами и отвернулась. Необъяснимая горечь обиды и тоски пронзила мое тело. Я как завороженный, словно примерзший к земле, стоял, не смея даже глянуть в ее сторону. Автобуса долго не было. И вдруг совсем рядом я услышал ее нежный бархатный голос: „Как поживаете, Иван Петрович?“ Я повернулся. Она стояла рядом. Вокруг ее неповторимых глаз я заметил первые мелкие тонкие морщинки. „Надежда Петровна, простите, пожалуйста, я думал, что вы на меня в такой большой обиде“. — „Ну что вы, Иван Петрович. На вас обижаться нельзя. Нет-нет. Спасибо вам, что вы не искали больше со мной встреч“. Тут подошел автобус. Она пропустила всех пассажиров, обхватила обеими руками мою голову и поцеловала в губы, а потом сказала: „Для меня она была, есть и останется самой дорогой и прекрасной ночью в моей жизни. Спасибо вам за ту ночь и за дочь. Осенью она пошла в первый класс“. Вбежала в автобус, прежде чем я пришел в себя, ошарашенный такой новостью. Дочь. У нее моя дочь. Мыслимо ли это? Какая она? На кого похожа? Какие только мысли не одолевали меня, но всякий раз я убеждался, что не стоит вторгаться в их жизнь, только навредишь. Прошло много лет… Проходя по коридору заводоуправления, я заглянул в отдел кадров. Анна Ивановна, начальник отдела, увидев меня, возбужденно сказала: „Господи, какое несчастье! Иван Петрович, — обратилась ко мне Анна Ивановна, — вы помните, несколько лет назад у нас работала учительница? Красивая такая“. — „Помню, ну и что?“ — „А то, что вчера она погибла в автомобильной катастрофе. Завтра в четырнадцать похороны“. У меня потемнело в глазах. Я уже не слышал, о чем говорила Анна Ивановна. „Иван Петрович! Что с вами?“ — услышал я снова ее голос. „Да нет, ничего“. — „Вы так побледнели“.
На кладбище я приехал на час раньше. Нашел тракторами отрытые могилы. Их было несколько. Две обработаны и ждали своих „жильцов“. Не может быть! Неужели в одну из них положат ее? Но вот показалось шествие. Народу было много, особенно детей. Когда установили гроб, я с трудом протиснулся к нему и ужаснулся. В нем лежала старая, совершенно незнакомая женщина. Тонкими нитями пролегла седина. К горлу подкатил ком. Господи великий, что делает время! Все. Больше никогда я не увижу ее добрых, доверчивых глаз. На другой день, к вечеру, я снова посетил кладбище. Кругом стояла мертвая тишина. Рядом с венками я положил букетик живых цветов и тихо сказал: „Прости меня, Надя! В моем сердце ты как зарница на чистом небосводе, взошла, ярко посветила и погасла“. В прошлом году умерла жена, и я остался один. Теперь часто хожу на кладбище, ношу живые цветы, жене и Наде. Муж установил ей памятник. У изголовья с двух сторон посадил два деревца плакучей ивы. С фотографии, заделанной в мрамор, немо смотрят с затаенной искринкой ее добрые, по-детски доверчивые голубые глаза. До самой надгробной плиты склонили свои гибкие ветки ивушки. При легком дуновении ветра они легонько сметают пыль и тихо шепчут ей мелодию вальса „Амурские волны“, под который она так любила танцевать при жизни. При очередном посещении кладбища, положив цветы на могилу жены, я медленно пошел к могиле Надежды Петровны. Перед этим прошел дождик, воздух был чист, пахло травой и цветами, посаженными на могилках. Вдруг я заметил, что на лавочке под плакучими ивами, низко наклонившись, сидела молодая женщина. Услышав мои шаги, она повернулась в мою сторону, затем встала. О великий Боже! Кто это? На меня в упор смотрели глаза Надежды Петровны.
Словно молния пронзила мое тело. Я напряг всю свою волю, чтобы не потерять сознание. Затряслись руки, дергались губы. „Что с вами? — словно через пелену тумана я услышал ее голос. — Вам плохо? Присядьте, пожалуйста“. Она налила в стакан воды и подала мне. Немного оправившись, я снова взглянул на девушку. Это была моя дочь. Две капли воды. Все унаследовала от матери: и большие голубые глаза с длинными ресницами, форму и цвет лица, стройную фигуру, движения тела. Все и не все. В глазах ее я не нашел той светлой искринки, которая делала бы их по-детски доверчивыми. На правой щеке, ближе ко рту, я заметил такую же, как у меня, маленькую ямочку. Ком снова сдавил горло. Предательские слезы заливали глаза. Не в силах сдержать себя я плакал навзрыд. С трудом справившись с волнением, я извинился и пошел прочь. Сделав несколько шагов, вдруг почувствовал, что невидимая притягательная сила тянет меня назад. Ноги сами остановились. Я повернулся. Она стояла и смотрела вслед. В глазах смятение, растерянность и легкий испуг. Моя душа рвалась на части. Хотелось кинуться к ней, прижать ее к своему телу и крикнуть на весь мир: „Дитя мое, прости нас!“ Крикнуть и получить, наконец, такую далекую и долгожданную разрядку. Она словно почувствовала это, слегка согнула в локтях руки, сделала два нерешительных шага вперед и остановилась. Так вот и живу в одном городе с родной дочерью, не имея возможности общаться. А в краевой центр еду к сыну и внукам. Вот и вся радость осталась в моей жизни». Он снова затих. Подождав немного, Костя спросил: «Почему не женишься? Не старик же» — Он долго молчал. Может быть, пожалел, что открыл свою тайну этому, уже немолодому, случайно встретившемуся человеку. А потом глянул глазами, полными слез, заикаясь, тихо, раздельно сказал: «Не-мо-гу!»
Май 1994 года.
Рассказ охотника
Охота, как и охотники, бывает разная. Основная масса людей приезжают на охоту, чтобы отдохнуть, развеяться от повседневных дел, побывать на природе и ощутить прелести окружающего мира, послушать пение птиц, нежный шепот камыша, плеск рыбы, свист утиных крыл, увидеть их мягкую посадку на воду, мелодичную песнь камышевки и далекий однообразный крик кукушки. Все это, вместе взятое, создает определенную гамму звуков, которые влекут к себе истинных любителей природы. Каждый, кто приезжает на охоту, делается вдруг иным и неузнаваемым. В нем пропадает озабоченность, пробуждается душа, он перерождается, ощутив волю, ему легче дышится, он как бы очищается, становится иным и неузнаваемым для самого себя и для окружающих. Как правило, многие охотники любят похвастаться удачей, которая сопутствовала ему некогда, при этом неминуемо приврать, приукрасить, наговорить с серьезным видом всяких небылиц. Однажды мне пришлось быть свидетелем и слушать рассказ одного очень знаменитого и уважаемого человека. Было это осенью, в первый день открытия сезона на водоплавающую дичь. В тот день на охотстанцию съехалось очень много охотников, в основном молодых, значительно меньше бывалых. И вот, когда закончились все треволнения, когда многие приготовились ко сну, приятный баритон из дальнего угла комнаты отдыха заставил обратить на себя внимание.
«А вот у меня на охоте был такой случай, — начал свой рассказ невидимый рассказчик. — Было это очень давно, еще в дни моей молодости. Мне тогда было лет шестнадцать, не более. Жила у нас в станице девушка Зоя, стройная, красивая и, что редко бывает, умная. Многие станичные ребята пытались за нею ухаживать, но она была для них недосягаемой. Гордая такая и цену себе знала. Мне она тоже нравилась. При встрече с ней я как-то терялся и вечно говорил невпопад. Ходили мы с ней в одну школу, только она в девятый, а я в восьмой класс. Она была отличница, одевалась модно и со вкусом. Ее стройная фигурка заметно выделялась на фоне других девчонок школы. Я же учился средне, особыми успехами не отличался, но и в отстающих не числился. К тому времени я уже вымахал в метр восемьдесят. Фигура моя еще только формировалась, движения тела были какими-то нескладными, замедленными, вечная рассеянность, несобранность. Мои руки казались очень длинными, легкая сутуловатость, покачивающаяся, не очень уверенная походка. Пошел было я в секцию баскетбола, да вскоре почувствовал, что это не для меня. Задатков никаких, и поэтому тренер меня просто не замечал, давая тем самым понять, чтобы я как можно быстрее перестал ходить на тренировки. Жила Зоя на нашей улице, а наши родители иногда встречались по-домашнему в узком кругу. Отец Зои был прославленным механизатором. О нем часто писали в местной газете, иногда в краевой. Он был орденоносец, по тем временам — заслуженный и уважаемый человек. За доблестный труд награжден был орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Зоя была единственная дочь, и поэтому ей уделяли много внимания, да и было за что. Однажды, это было осенью, на день рождения моего отца были приглашены и родители Зои Чеботаревой. Пришли они вовремя, принесли отцу подарки, познакомились с другими гостями. Торжества затянулись до вечера. От нечего делать я слонялся по комнатам, мешая компании рассказывать смачные анекдоты. И вот, как бы нечаянно, подошел ко мне отец Зои и говорит: „Шел бы ты, парень, к нам, да сходили бы вы с Зоей в кино или на танцы“. Я только этого и ждал. Ходьбы-то не более десяти минут. Вначале я летел на крыльях, но постепенно темп бега заметно снизился. Мною овладела какая-то робость, в голову лезли всякие мысли. „Будет ли удобно, если я неожиданно приду, — думал я. — Что она может подумать и как примет, не помешаю ли я своим приходом?“ И когда до дома осталось несколько метров, от моей решимости не осталось и следа. Вначале родилась мысль одному пойти в кино или на танцы. Так, в нерешительности, и простоял несколько минут, и вдруг слышу за своей спиной нежный голос Зои: „Коля, это ты?“ Я резко повернулся. Зоя стояла, слегка наклонив голову, и улыбалась, в ее руках была косынка: „А я только от вас, папа мне сказал, что они тебя отправили ко мне“. „Здравствуй, Зоя,“ — наконец нашелся я. „Ну здравствуй, здравствуй! Да ты что? Стоишь и сдвинуться не можешь, идем же к нам“, — и она взяла меня за руку. Ноги мои налились какой-то тяжестью, я с трудом передвигал их. Тяжело ступая и сопя, двинулся рядом с ней. Мы вошли на веранду, здесь было чисто и прохладно. „Присаживайся. Чем тебя угощать?“ — „Ничего не надо, я сыт“. — „Нет, так не годится, гостя всегда встречают с хлебом и солью, поэтому сейчас мы с тобой будем пить чай с вареньем и пирогами. Пироги мы сегодня напекли с мамой, и я хочу, чтобы ты оценил наш труд“. Ее нежный и ласковый голос, манера вести себя, слегка повелительный тон сразу изменили мои представления об этой девушке. Постепенно скованность пропала, я стал оттаивать и приобретать нормальный дар речи. Вскоре Зоя накрыла стол, поставила варенье, мед, пироги, налила в красивые чашки чай и пододвинула ближе ко мне сахар. Затем она села напротив меня и сказала: „Ну угощайся, гостек дорогой“. От этих слов я весь съежился, мне показалось, что она нарочно произнесла слово „дорогой“. Зоины пироги были отменными, они были такими вкусными, что я и не заметил, как тарелка стала пустой. Поблагодарив Зою за угощение, я с нескрываемой радостью отметил, что пироги были очень вкусными. Затем Зоя быстро все убрала и пригласила меня в зал, включила музыку. У нее был набор прекрасных пластинок: вальсы, фокстроты, танго. Самое печальное и обидное для меня было то, что я не умел танцевать. А Зоя, с ее проницательностью, очень корректно спросила меня: „Коля, ты, наверное, не танцуешь?“ И чтобы как-то смягчить создавшуюся неловкость, я взял и брякнул: „Танцую, только одиночные танцы“. А она, чтобы как-то угодить мне, нашла пластинку с русскими танцами и поставила ее. Тут я окончательно был сражен наповал. Вдруг я мысленно представил себя, танцующего „барыню“, выстукивающего каблуками и на присядках выбрасывающего свои длинные, костлявые ноги. Краска ударила мне в лицо, лоб покрылся испариной. Видя мое мучительное замешательство, она сняла пластинку и поставила новую. Зал сразу наполнился мощными, содрогающими стены аккордами, напоминающими бурю, несущую огромную лавину морской волны, поглощающую и подминающую все на своем пути, воцаряя силу величия. Затем полилась нежная, неослабевающая мелодия торжества, влекущая за собою и подчиняющая своей власти все вокруг. „Нравится?“ — спросила Зоя. — „Очень сильная и одухотворенная музыка“, — ответил я. — „Это пятая симфония Людвига ван Бетховена. Слышал о таком композиторе?“ Не дождавшись ответа, она стала объяснять: „Бетховен — немецкий композитор прошлого века. Его музыку даже не сравнить ни с чьей“. Для меня ее сообщения были как снег на голову среди лета, так как я не очень разбирался в операх, а о симфонии уже и речь не шла. Затем Зоя поставила танго „Брызги шампанского“. Подошла ко мне и попросила встать. „Идем, Коля, я поучу тебя танцевать“. Она показала мне первые несложные движения, рассказала, как надо брать руками девушку и как ее приглашать на танец, куда руку левую, куда правую, а затем в такт музыке делать соответствующие движения: вперед, назад, вправо, влево, с поворотами и разворотами. Так она таскала мою нескладную фигуру до конца танца. Передохнув, она снова ставила пластинку, и начинались мои новые мучения. Танец, конечно, не клеился, но она не отступала. Танец не получался еще и от того, что Зоя была слишком рядом и ее прикосновения еще сильнее сковывали меня. Все мои органы деревенели, я совершенно не слышал музыки и поэтому плохо ей подчинялся, все получалось невпопад. А она включала пластинку снова и снова, пытаясь так или иначе меня научить. Наконец произошло неожиданное. На одном из поворотов я за что-то зацепился ногой и, чтобы не упасть, прижал Зою к себе. Она как-то неожиданно обмякла, тело ее потеряло былую упругость, она легонько оттолкнула меня от себя, и мы оба, словно по команде, сели на рядом стоявший диван. Наступила неловкая тишина, и только скрежет иглы о пластинку издавал нудный, монотонный звук. Чтобы как-то разрядить обстановку, я предложил Зое поехать в плавни на охоту. Думал, что это не женское занятие и она откажется, но она, вопреки моему ожиданию, воспряла духом и радостно согласилась. Бывают же в жизни такие каверзные обстоятельства, вспоминал я спустя несколько лет. Однако делать было нечего, назвался груздем — полезай в кузов. Вскоре пришли родители, и я заспешил домой. Зоя вышла меня проводить, и, когда мы пожали друг другу руки, она сказала: „Ты, Коля, заходи ко мне, не стесняйся, я всегда буду тебе рада. А на охоту мы непременно с тобою поедем. Ведь это очень здорово, правда?“»
* * *
«Сами понимаете, неожиданно и негаданно задала мне Зоя очень сложную задачу. Во-первых, у меня не было своего ружья, да и с зарядами в то время было очень сложно. Единственная надежда — это мамин брат, дядя Ваня. Заядлый рыбак и охотник, он всегда имел в своем арсенале все. У дяди Вани была собака, охотничья, по кличке Пилька, очень умная и преданная, ирландский сеттер. Купил он ее в городе у одного барыги-пьяницы еще щенком, и очень удачно. Теперь надо было выбрать момент, чтобы подойти к дяде, убедить его и выпросить ружье для охоты. Тем более, дядя знал, что я не отличался особым рвением к охоте. Но делать было нечего, и я стал строить планы. Узнав у матери, нет ли каких поручений для дяди Вани или его жены тети Ксени, я решил действовать наверняка. Подобрав с десяток рыбацких крючков десятого номера, сазаньих (в то время это был большой дефицит), катушку лески 0,5 мм, я отправился к своему родственнику. Жил дядя на другом конце станицы, рядом с плавнями. У калитки меня встретила Пилька. Слегка повизгивая, она крутила хвостом, вертелась радостно вокруг меня, подпрыгивая, стараясь лизнуть в лицо. Я обнял Пильку, погладил ее и отдал кусочек колбаски, который приготовил заранее. У входа в дом меня встретила тетя Ксеня. „Коля! Давненько не был, а Ваня вчера тебя вспоминал: что-то Колька не приходит, хотя бы рассказал, сколько за лето заработал в колхозе, как учится, куда думает поступать учиться дальше. Как там родители, не болеют?“ — „Все в порядке, кланяются вам. Отец вчера уехал на целину убирать урожай“. — „Да мы читали в местной газете про твоего отца и Чеботаря“. Про какую газету говорила тетя Ксеня, я не знал, а о статье тем более, но старался ей поддакивать. „А где же дядя?“ — „Сейчас придет, пошел в магазин за хлебом“. Вскоре появился дядя Ваня. „О! Легок на помине. Ну, сколько деньжонок заработали с отцом на комбайне?“ — „Не знаю, я еще и в бухгалтерии не был“. — „Мать не болеет?“ — „Скрипит потихоньку“. Незаметно пришел вечер, тетя накрыла стол. „Вымахал-то, и в кого ты такой длинный“. — „В кого же, как не в вашу долговязую породу“, — вставила тетя Ксеня. Сели за стол, дядя налил себе вина, мне не предложил. Выпил и стал есть борщ. За едой медленно вели разговор. „Как осенняя охота?“ — спросил я у дяди. „Утка есть, но я, Коля, теперь больше рыбалкой промышляю. Вчера мы с Игнатом неплохо поймали сазана, сейчас тетя нас угостит“. Вскоре тетя поставила сковородку с жареной рыбой. „Видал, какие „кабаны“ развелись в наших плавнях“, — указывая на рыбу, хвастался дядя. После ужина я вручил дяде Ване леску и крючки. „Ну, племяш, угодил, спасибо, особенно за крючки“. Мы пошли с ним в сарай, и он показал мне свои снасти. И тут, подобрав момент, я, вроде бы невзначай, спросил у дяди разрешения съездить на охоту. Дядя Ваня вначале будто не расслышал моей просьбы, а потом, немного погодя, спросил: „Один, что ли, хочешь поехать?“ Я замялся. „Да ты не стесняйся, говори, не маленький же“. — „Понимаешь, дядя, я опрометчиво пообещал взять с собой на охоту Зою Чеботареву“. — „Все это хорошо, племяш, да вот только женщина на охоте никогда не приносила удачи, это уж ты мне поверь. Зоя — девушка хорошая, умная, да и красивая, что греха таить. Но раз пообещал, надо выполнять, обманывать девушку нельзя. Лодка у меня и большая, и надежная, патроны заряжены, ружье исправно, можешь ехать. Только смотри, Коля, будь предельно осторожен, помни, что ружье и незаряженное иногда стреляет“. — „Ну что вы, дядя, не впервые еду на охоту“. Поговорив с дядей еще несколько минут, не в меру радостный, я отправился домой. Теперь надо было решить, когда ехать и как предупредить Зою. Придя домой, я незамедлительно лег спать. Ночью приснился сон, как будто мы с дядей Ваней были на охоте, и мне все время не везло, а он все подшучивал и насмехался. Проснулся рано и стал думать, как мне встретить Зою и договориться о дне выезда на охоту. Но Зоя нашла меня сама. „Ну что? Когда едем?“ — „В субботу, после уроков, — буркнул я. — Только ты заранее все приготовь и не набирай лишнего, да оденься поскромнее. Я потом за тобою зайду, и мы вместе пойдем к моему дяде Ване“. — „Романтика меня манит, — с неподдельным чувством произнесла Зоя. — И я готова жертвовать хоть чем. Значит, в субботу, прекрасно!“
И вот наступил долгожданный день. Утром перед уходом в школу мать угостила меня малиной, а когда я пришел, она накормила вяленой рыбой и фасолевым супом. Быстро собрав необходимое для охоты, я сел на велосипед и поехал к дяде Ване приготовить лодку, патроны, ружье, взять Пильку. После быстрой езды пот катил градом, а после съеденной рыбы ужасно хотелось пить. Я попросил у тети Ксении воды, а она вместо воды предложила выпить пресного молока из подвала. С большим наслаждением я утолил жажду молоком. Сделав необходимые приготовления, вернулся домой, бросил велосипед и пошел к Зое. В модном спортивном костюме она уже ждала меня у калитки. Забрав ее нехитрую поклажу, мы вместе зашагали к дяде Ване. Зоя весело рассказывала мне о случае, происшедшем с их соседом, который, напившись пьяным, выгнал из дому всю семью. Я же, помня уговор с дядей Ваней, стал учить Зою правилам безопасной охоты, не забыв напомнить, что ружье один раз в году стреляет незаряженное. Рассказал, как правильно сидеть в лодке, чтобы не перевернуться, и особенно правила поведения при стрельбе. „Помни, — говорил я, — самое главное, когда я буду целиться в летящую утку, ты должна сесть или лучше лечь на дно лодки и ни в коем случае не вставать без моей команды“. Когда мы подошли к дому дяди Вани, нас с визгом встретила Пилька, она крутила хвостом и носилась вокруг нас, все время повизгивая. Собака Зое очень понравилась, она гладила ее, приговаривая: „Какая ты умница, красавица, сколько энергии заложено в твоем теле“. Забросив рюкзак за спину, прихватив ружье, шест и ключи, мы отправились в плавни. Без труда я отыскал лодку, открыл замок, уложил вещи, усадил Зою и Пильку. Оттолкнувшись, мы двинулись вдоль зарослей камыша, выбираясь на протоку. Протока — это бывшее русло реки, когда-то протекающей по здешним местам. Ныне она заилилась, и вокруг образовались плавни. Гнал я туда лодку потому, что там было глубже, и мне значительно легче было добраться по ней до места охоты. Зоя любовалась окружающей нас растительностью и слушала пение птиц. Периодически она опускала руку в воду и мочила свое лицо. Солнце стояло еще высоко и невыносимо пекло. Пот ручейками сбегал по лицу, спине и животу, попадал в глаза, и их очень щипало. Наряду с усталостью, которую я вдруг ощутил, когда мы прибыли на место охоты, в моем животе творилось невообразимое. Он постоянно урчал и все сильнее и сильнее вспухал. Только сейчас, именно здесь, я понял, что съеденные мною фасолевый суп, рыба, свежая малина и пресное молоко начали свое пагубное дело. Реакция, которая шла внутри моего организма с указанными продуктами и соляной кислотой и щелочью, выделенной для переработки этих продуктов, образовывала много газов, которые надо было немедленно выпускать, но при сложившихся обстоятельствах этого сделать было практически невозможно. Газы все больше и больше концентрировались в кишечнике и пучили живот. Но ведь это понял я только сейчас, а тогда мне просто некогда было думать. Вначале я сразу и не сообразил, отчего пучило живот. В домашней обстановке это решалось очень просто, но здесь, когда рядом с тобой в лодке сидела девушка, в которой я души не чаял, подобную задачу решать было непросто. Однако, так или иначе, ее надо было решать, иначе газы могли привести к очень тяжелым последствиям. Как же все это сделать, как объяснить Зое, с какой стороны подойти и как начать разговор? А она удобно уселась и, поглаживая Пильку, что-то ей говорила, совершенно не подозревая о моей беде, приближающейся с каждой минутой. Мелкий, но уже холодный пот по-прежнему заливал мое лицо, скорее от избытка внутреннего давления, концентрирующегося в моем теле. Неожиданно над головой пронеслась стая уток, и я, на минутку забыв о боли в животе, схватил ружье, заложил в стволы патроны. Зоя, увидев мои приготовления, села на дно лодки и приготовилась к предстоящим выстрелам. „Коля, — вдруг спросила она, — а ружье очень громко стреляет? Уши надо затыкать?“ — „Ну это смотря в каком направлении я буду стрелять, если от тебя, то не очень громко, а если в твою сторону, то громко. Только ты, Зоенька, — назвал я ее ласково, — пожалуйста, не вставай, а то, не ровен час, можешь угодить под выстрел. Я буду тебя предупреждать, как только появятся утки“. Во время нашего разговора и моего приготовления вроде бы наступило какое-то облегчение, стало немного легче, но не прошло и пяти минут, как новая волна подступила под грудь и стала давить, сжимая сердце. Боль интенсивно продолжалась некоторое время, а затем снова наступило облегчение. Волна приступа боли вначале давила на сердце, потом уходила в низ живота, но так как выхода газов не было, она с новой силой, постепенно усиливаясь, двигалась вверх, сжимая сердце. Такие волны чередовались все чаще и чаще. Мучительно перенося приступ за приступом, я уже перестал ощущать окружающее, только одна, постоянная мысль владела мною: как найти выход, что делать? Плыть назад, сославшись на какое-либо обстоятельство, не было смысла. А Зоя, обретя определенную позу, спокойно сидела на дне лодки и ждала, когда же я наконец произведу выстрел. Для нее это было новым, еще непознанным ощущением, она была поглощена окружающей обстановкой, тишиной, царившей в плавнях. Над камышом лениво летел болотный лунь, иногда раздавался его гортанный крик, разносившийся по всей округе. Его крику вторили крики лысок, возившихся в камышах со своими выводками. Боль в животе сжимала сердце, и оно ныло, словно открытая рана, кровь с силою стучала в висках, наступило головокружение, темнело в глазах, тряслись и немели руки.
Вдруг в один из критических моментов меня осенила мысль: „Звук, более сильный звук, может успешно гасить более слабый“. В выстреле — мое спасение, он, и только он спасет меня от страшных мучений, и вот, когда волна стала опускаться вниз и наступила огромная потребность освободиться от скопившихся газов, я не своим голосом закричал: „Летят“, — и, приподняв вверх стволы, нажал на спусковой крючок на ружье. Прогремел дуплет, но ружейный выстрел погасил „выстрел“, произведенный моим организмом, и сразу наступило незначительное облегчение. Зоя с закрытыми глазами сидела на дне лодки, закрыв пальцами еще и уши. Она медленно подняла голову и спросила: „Ну как, что убил, Коля?“ — „Нет, Зоенька, промазал, уж больно неожиданно они появились“. Пилька, это умнейшее создание природы, при выстреле вскочила, прислушалась, а затем, будто понимая, что выстрел произведен просто в воздух, снова улеглась на свое место. Мне даже как-то неловко стало перед ней. Охотничьи собаки, они не только видят, чуют носом, но и внутренне интуитивно ощущают, где, когда и что надо делать. Они видят, как и куда падает убитая дичь, слышат удар о воду или камыш при падении, безошибочно определяют точное направление поиска и находят. На сей раз Пилька ничего не определила и поэтому спокойно улеглась на свое место. Я дозарядил ружье. Итак, найден выход, казалось мне, я обрел уверенность и решил продемонстрировать свое изобретение еще раз. Вначале созрело решение подстрелить болотного луня. Сказав об этом Зое, я стал ждать, когда лунь подлетит на расстояние выстрела. Лунь же, как нарочно, парил где-то вдали и не подлетал. Для того, чтобы отвлечь Зою от принятого мною решения, я стал рассказывать ей, какой вред фауне приносит болотный лунь. Однако заряженный генератор продолжал выделять газы, новая волна снова стала давить на живот и подступать под сердце. И когда боль стала невыносимой, я снова произвел дуплет. Пилька вскочила, постояла у края лодки, прислушалась и улеглась на свое место. В оправдание я стал говорить Зое, что лунь был далеко и поэтому дробь не достала его. Так, придумывая все, что только можно придумать, я бездарно уничтожал боеприпасы дяди Вани. Пилька значительно раньше Зои разгадала бессмысленность моей стрельбы, перестала реагировать на выстрелы. Она улеглась и, прикрыв глаза, мирно дремала в ожидании настоящей охоты. Неплохо усвоив указанный способ разгрузки брюшины от избытков скопившихся газов, я тешил себя надеждой, что выделение газов должно скоро прекратиться. Но организм все больше и больше продолжал выделять, и поэтому я невольно прибегал к указанному способу. Но и здесь меня подстерегала новая неудача. При одной из таких разрядок ружье дало осечку, и тогда прозвучал только один „выстрел“, который не был заглушен ударом курка о боек. Я обмер. Наступила мучительная тишина, перешедшая в неловкое безмолвие. Горло сдавило, я почти не дышал, звенело в ушах, четко прослушивались писк комара и удары моего сердца. И тут только я вспомнил слова дяди Вани: „Женщина никогда не приносила удачу на охоте“. Я готов был провалиться сквозь лодку, воду и землю, дабы избавиться от такого кошмарно-нелепого положения. Зоя, моя прекрасная Зоя, ощутив такую нелепую обстановку и желая как-то мне помочь, тихонько спросила: „Коля, а почему же ружье не стрельнуло?“ „Какой черт не стрельнуло, — хотелось мне сказать, — ведь ты же прекрасно все слышала“. Но я молчал и не находил слов хоть что-то ей ответить. Прошло еще несколько минут, и я снова услышал тихий, вкрадчивый голос Зои. Она, как бы извиняясь, тихонько сказала: „Коля, может быть, на сегодня хватит охотиться?“ Я молчал. Она подождала немного и говорит: „Я смотрю, нас все время преследует какая-то неудача“. „Вот именно, неудача, все из-за тебя“, — молча думал я. Она легонько положила мне руку на плечо и тихо прошептала: „Не расстраивайся, все будет хорошо“. Но хорошего я уже ничего не ждал. Организм упорно боролся с теми неблагоприятными условиями, которые ему навязали. Он требовал немедленного удаления из себя того, что мешало ему нормально функционировать. Удивительно тонкое, сложное и слаженное устройство, созданное природой. Оно имеет столько сложных, невидимых датчиков и устройств самозащиты, всякого рода блокировочных приспособлений, и поэтому при появлении неблагоприятных факторов мгновенно изменяет режим своей работы. Нашему организму не надо никаких дополнительных стимуляторов извне, ему только надо немножко помочь, и он прекрасно справится сам. Многие люди очень небрежно и расточительно относятся к своему организму, отравляют его всякими ядами и химикатами. Но, несмотря ни на что, он приспосабливается почти ко всем режимам, и только, когда доза выходит за пределы физиологических возможностей и воздействие продолжается длительно, он погибает. Так вот и сейчас, организм не принял и не приспособился к тем внутренним явлениям, происходящим в моем желудке, он усиленно требовал немедленного выброса-очищения. И тут я вдруг ощутил резкую боль в низу живота и нестерпимое желание опростаться. Но как? При данных-то обстоятельствах? С великим трудом вымолвив Зое, что мне надо на берег, я схватил шест и быстро погнал лодку. Боль в животе усиливалась с каждым толчком шеста. Превозмогая ее, я старался изо всех сил удерживать требования организма, где только брались сила, терпение и воля. Самым кратчайшим путем я гнал лодку к берегу. И вот, когда оставалось совсем немного, почувствовал невыносимую резь и боль в животе. Я остановил лодку, присел, скорчился, поджав ноги под живот, и приготовился к самому худшему. Мне показалось, что на какое-то мгновение окружающий мир потерял всякую реальность. Но вот боль сразу как-то стихла. Я схватил шест, несколькими толчками пригнал лодку к берегу, спрыгнул и побежал в камыш. На бегу расстегнул пояс и пуговицы брюк, но трусы было снимать уже бесполезно. Разрядка, которую так требовал мой организм, наступила досрочно. Вместе с этим и наступило облегчение. Организм, словно заведенная пружина, выбрасывал все, освобождаясь от несовместимости. Сняв с себя все, что можно снять, вытерся, по силе возможности. Трусы аккуратно засунул под камыш. Непомерная слабость разлилась по всему телу. Одев брюки и рубашку, я лег на траву, закрыл глаза и так пролежал несколько минут. Кружилась голова, дрожали руки. „Неужели пришел конец моим мучениям?“ — думал я. Тихонько приподнялся, меня качнуло в сторону, к горлу подступила тошнота. Однако надо было идти. Слегка покачиваясь, медленно побрел к лодке. Зоя сидела в прежней позе и, словно ничего не произошло, спросила: „Коля, ну что, домой плывем?“ — „Пожалуй“. Я оттолкнул лодку от берега, сделал несколько толчков, и тут Зоя спросила: „А где же Пилька? Она же побежала за тобой“. — „Я ее не видел и поэтому не знаю, где она“. Зоя позвала ее, и тут мы увидели Пильку, в ее зубах что-то было. „Господи, — тихо проговорил я, — будет ли конец сегодняшним испытаниям?“ Умнейшее создание природы, как настоящая хозяйка, задрав высоко морду, в зубах несла мои загаженные трусы. Прикладывая максимум усилий, я толкал лодку вперед и вдруг услышал: „Коля, смотри, — а она что-то несет, давай ее заберем“. В лодку, с ее хозяйской находкой, посадить Пильку? Какой позор! Я готов был растерзать самого себя от злости и неудачи, которая преследовала меня почти весь день. И чтобы как-то утешить Зою, сказал: „Ничего, она нас догонит“. Пилька действительно не собиралась оставаться на берегу, она вбежала в воду и поплыла, по-прежнему держа в зубах мои трусы. Я прикладывал максимум усилий, чтобы как можно дальше уплыть от нее. И когда спустя несколько минут я оглянулся, Пилька кружила на одном месте и даже пыталась нырять, затем быстро стала нагонять нас. Вскоре я помог ей забраться в лодку. Она отряхнулась, обрызгав меня и Зою, и улеглась. Вот так и закончилась моя охота с Зоей. Когда мы добрались домой, я сказал ей: „Прости меня, Зоя“. — „Ну что ты, Коля, я очень рада, что мы вместе побывали на природе“. Идя к своему дому, я думал, о какой радости говорила Зоя? Два месяца я избегал с нею встреч, но затем постепенно все забылось, и мы вновь стали встречаться. А когда Зоя окончила педагогический институт, а я техникум и отслужил армию, мы поженились, сейчас растим с ней троих детей. На охоту я больше никогда не брал женщин, они точно приносят несчастье». Так закончил свой рассказ Николай Петрович. В комнате было тихо, казалось, что его никто не слушал, но постепенно из разных углов стали раздаваться голоса.
Два Ивана
Иван Васильевич всю свою сознательную жизнь мечтал пробиться в начальники. Он понимал, что, не вступив в ряды КПСС, ему никогда этого не добиться. И чтобы осуществить свою мечту, он разыскал своего старого дружка Костю Криволапова. Костя уже ходил в начальниках. Правда, не в больших, но все-таки. Поэтому при встрече Костя разговаривал с Иваном уже несколько свысока.
— Послушай, — спросил Иван, — что надо для того, чтобы вступить в партию?
— Как что? Заявление написать и обзавестись тремя рекомендациями от партийцев. И Иван приступил к осуществлению своей мечты. Первую рекомендацию Ивану дал его дальний родственник. Долго Иван ломал голову, к кому бы еще обратиться. И вдруг в голове его созрела мысль. Вместе с ним работал художник, тоже Иван, но только Яковлевич. Художник был членом КПСС. Причем Иван Васильевич знал, что его тезка любил выпить, особенно на дурницу. Встретив художника во дворе и увидев, что у того весьма помятый вид, Иван Васильевич его приветствовал:
— Здравствуй!
А художник смотрит и молчит, будто в первый раз Ивана видит.
— Ты чего молчишь?
— Так я тебя, Ваня, не узнал. Думал, это не ты, а инспектор пожарной охраны, — отвечал художник.
— Тебя что, с креста сняли?
— Это мы вчера с зятем немного переборщили, а похмелиться нечем.
«Во момент!» подумал Иван Васильевич. Быстренько сгонял в магазин, купил бутылку водки, хлеба, колбасы, банку бычков в томате и пришел в каморку к художнику.
— Я вот тут принес тебе лекарство.
Иван Васильевич достал бутылку, и у Ивана Яковлевича радостно заблестели глаза. Иван Васильевич нарезал хлеба, колбасы, открыл консервы. Все это разложил на столике, который Иван Яковлевич накрыл чистым листом бумаги. Открыв бутылку, Иван Васильевич разлил водку в две алюминиевые кружки и сказал:
— Давай подлечись малость.
Они выпили и стали закусывать.
— В рабочее время распиваем… — заметил Иван Яковлевич.
— Ничего, все обойдется. Ты только не выходи из своей мастерской и не маячь.
Когда живительная влага разлилась по организму и Иван Яковлевич обрел подходящий для подобного разговора вид, Иван Васильевич вкрадчиво начал:
— Слушай, Иван Яковлевич; ты можешь дать рекомендацию?
— Какую? — не понял тот.
— Для вступления в партию.
Иван Яковлевич удивленно глянул на тезку и сказал:
— Я-то думал, ты меня бескорыстно угощаешь… А ты, однако, с выгодой. Ну, ладно наливай, давай ее допьем.
После этого Иван Яковлевич, ехидно прищурившись, поинтересовался:
— А чего это ты, Ваня, надумал вдруг в партию вступить?
— Как чего — партийцам больше доверяют. Когда понадобится — их защищают. Да и в должности повысить могут.
— И на какую должность ты думаешь претендовать? — опять ехидно улыбнувшись, спросил партиец. Он знал, что Иван Васильевич большим умом не отличался. Да и образование имел четыре класса начальной школы.
— Ну, поначалу, может быть, бригадиром охраны, а там видно будет, — отвечал собутыльник.
Они разлили остатки водки, выпили и снова закусили.
— Дам я тебе рекомендацию. Парень ты тихий и не злой. И, как-никак, на одном производстве работаем.
На том они и разошлись.
«Все, — сказал себе Иван Васильевич, — осталось еще одну рекомендацию заполучить, и дело в шляпе». Но он долго не мог получить именно третью рекомендацию, пока не подвернулся случай. Иван Васильевич встретил своего дружка, работавшего в милиции. Когда-то Иван Васильевич проходил подозреваемым в краже колхозного зерна. Тогда его оправдали. Милиционер и дал ему недостающую рекомендацию. И спустя полгода стал Иван Васильевич членом КПСС. Ему теперь казалось, что он на голову выше других рабочих на заводе. Как раз в милиции открылись десятидневные курсы: чекисты читали лекции об охране социалистической собственности. Иван Васильевич окончил курсы, и ему выдали соответствующее удостоверение.
А вскорости умер старший по смене, освобожденный от дежурств охранник. И по рекомендации секретаря парткома на его место назначили Ивана Васильевича. Первое, что тот сделал как ответственный работник, это оборудовал себе кабинет. Проделал широкое окно на улицу, поставил буквой «т» три стола, накрыл их темно-красной тканью и вдоль поставил десять стульев.
На своем столе Иван Васильевич обновил облицовку и установил конусообразный стакан, в который поместил восемнадцать остро заточенных карандашей. Также он положил на видном месте блокнот-семидневник, телефонный справочник, перекидной календарь, скрепки в красной коробочке и деревянный нож для вскрытия корреспонденции.
Здесь же разместились два телефона — городской и заводской. Кроме того, в кабинете появился шкаф с книгами под стеклом. За своей спиной Иван Васильевич повесил на стену портрет Феликса Дзержинского, справа — Ленина. А на свободной стене репродукцию с картины «Три богатыря». В завершение всего Иван Васильевич поставил в принесенную из дома вазу пять красивых роз.
Осмотревшись и убедившись, что все в порядке, Иван Васильевич решил пригласить на «входины» Ивана Яковлевича. Само собой, с обмывкой новой должности. Пришел он в мастерскую и опять увидел, что Иван Яковлевич мучается с похмелья.
— Болеешь? — спросил.
— Болею, а лечиться нечем.
— Меня же в должности повысили. Приходи после работы — кабинет посмотришь, заодно обмоем.
— А чего конца работы ждать? Давай сейчас посмотрим.
Когда они вошли в кабинет, Иван Яковлевич ахнул:
— Ну, Ваня, молодец! Да это ж кабинет не старшего охранника, а начальник УВД!
Сделав серьезное выражение лица, художник рассмотрел все атрибуты власти, расхваливая нового начальника.
— Такой кабинет надо не вечером, а срочно обмывать. Так какая у тебя теперь должность?
— Старший охранник, освобожденный от дежурств.
— Ну, ты даешь! Обмыть сейчас же!
И тут художник заметил множество карандашей и стопки книг в шкафу. Подумал: «У самого Иосифа Виссарионовича было только три карандаша: красный, синий и зеленый. Интересно, что старший охранник собирается ими писать». А потом художник взял в шкафу одну из книг и прочел на обложке: «Безопасное обслуживание печек в домашних условиях». «Да, подумал, — этот перещеголяет всех». И спросил:
— А Дзержинский здесь зачем?
— Как зачем? Мы же охраняем социалистическую собственность!
— А вот сундука здесь не хватает.
— Какого сундука?
— Куда ты будешь складывать продукты, отобранные у расхитителей соцсобственности.
— А я об этом как-то не подумал, — сказал Иван Васильевич.
— Так мой совет: подумай. А чем мы будем обмывать? Налей сто граммов — голова раскалывается. Наверно, это из-за сильнейшего впечатления, которое произвел на меня твой кабинет.
Иван Васильевич достал из стола бутылку, стаканчик и маринованый огурец. Сказал:
— Пока что выпей. А вечером мы сделаем все как у людей.
Вечером, когда оба изрядно выпили, Иван Яковлевич, придав серьезное выражение лицу, сказал:
— Тебе бы, Ваня, обзавестись теперь оружием. Ты же ночами будешь проверять посты, а это небезопасно.
На следующий день Иван Васильевич приступил к осуществлению грандиозного плана. Он написал рапорт на имя начальник УВД города с просьбой выдать ему огнестрельное оружие.
— Я уже написал рапорт! — похвастался Иван Васильевич Ивану Яковлевичу при встрече.
— Какой рапорт? — не понял тот.
— Как какой? С требованием выдать огнестрельное оружие для охраны социалистической собственности. Ты же сам вчера мне посоветовал.
«Боже, подумал художник, — я же спьяну пошутил. А он всерьез…». Он посмотрел в глаза старшему охраннику и вдруг заметил, какие они у него пустые. Подумал: «И этого остолопа я рекомендовал в ряды КПСС!» А сам ответил:
— Правильно ты действуешь, Ваня. Если местные не дадут оружья, ты пиши в край. А если и в крае откажут, тогда напиши в Москву. Знаешь, партиец должен быть настойчивым в достижении цели. А цель у тебя ясная: ты истинный патриот и бьешься, как рыба об лед, лишь бы защитить соцсобственность. И они не имеют права не выдать тебе оружия.
А про себя художник подумал: «У него, наверно, и одной извилины нет в мозгах».
Шло время. Иван Васильевич, встречая Ивана Яковлевича, всякий раз сообщал ему новости, связанные с приобретением оружия. «Отказали. Написал в край». «Отказали. Написал в Москву, что краевые органы не понимают важности возложенной на меня задачи».
— Правильно все делаешь. Стучащему откроют. Ты главное, Ваня, не робей.
А вскоре Иван Яковлевич пошел в отпуск и собрался в Москву к дочке и внукам. И там у него родилась идея, как помочь Ивану Васильевичу в его безнадежном деле. Дело в том, что дочь Ивана Яковлевича работала в министерстве внутренних дел, и он попросил ее принести бланк с отштампованным гербом Союза. И на этом бланке Иван Яковлевич написал следующее: «Начальнику Краснодарского ГУВД, копия начальнику Ейского УВД. Согласно поступившему рапорту начальника охраны объекта социалистической собственности Логунова И. В. постановляю: для охраны социалистической собственности выдать начальнику охраны Ейского консервного завода Логунову огнестрельное оружие системы „наган типа пугач“. Для хранения огнестрельного оружия директору завода надлежит выделить отдельное помещение с кирпичной кладкой на цементе без окон. Установить в помещении для хранения оружия металлические двери с секретными замками. Выделить специальную охрану помещения, где будет храниться оружие, с круглосуточным дежурством. Установить звуковую и световую сигнализацию с звонками громкого боя и сиреной. Изготовить металлический сейф с внутренними замками особой секретности с тремя отдельно закрывающимися секциями: а) для хранения огнестрельного оружия, б) для боеприпасов, в) смазывающих материалов».
Письмо пришло тогда, когда Иван Яковлевич вернулся из отпуска и вышел на работу. В его каморку, возбужденный и радостный, влетел Иван Васильевич: Вот оно, долгожданное! он размахивал конвертом. — Ты только глянь, на какой бумаге, с государственным гербом! Не дураки в министерстве внутренних дел сидят. Они меня поняли!
— И вот он, приказ! Да на какой бумаге! Ты правильно советовал, что нужно быть настойчивым и своего добьешься.
Он еще долго изливал свои радостные чувства. А Иван Яковлевич смотрел на него и думал: «Какой же ты тупой, Иван. Увидел бумагу с гербом, а что на ней написано не удосужился прочесть».
— Ну, что же, Иван Васильевич, — меж тем сказал художник. — Такую победу надо как следует обмыть. А после уж идти к начальнику и требовать свое.
— Что, сразу после обмывки? — переспросил Иван Васильевич.
— Да нет, конечно. Это лучше сделать завтра, на трезвую голову. У них ведь тоже есть такое же письмо, так что спешить тебе не надо. Ты лучше сбегай в магазин.
— Правильно, вначале мы давай обмоем. А они от меня никуда не денутся, выдадут оружие как миленькие. А то заладили «не положено, не положено»…
Радостный, Иван Васильевич помчался в магазин. А в процессе обмывания Иван Яковлевич и говорит:
— Тебе бы, Вань, еще изготовить специальный сейф для хранения ответственных документов.
— Сделаю! Непременно сделаю! — закричал подвыпивший Иван Васильевич.
На следующий день в девять утра старший охранник сидел в приемной начальника УВД. Секретарша сообщила, что начальника сегодня не будет, так как он в командировке. И от нечего делать Иван Васильевич, которого все еще распирала гордость за себя, зашел к подполковнику Субботину и показал ему бумагу. Семен Субботин хорошо знал Ивана Васильевича. Он прочитал несколько строк, посмотрел на Ивана Васильевича и улыбнулся. Потом еще прочел, отложил бумагу в сторону и говорит:
— Ты хоть читал послание?
— Читал, а как же.
— До конца?
— Нет, а зачем мне до конца читать? Бумага же с гербом это само за себя говорит.
— Так ты прочти твое письмо до конца, спрячь его и никому больше не показывай. Хорошо, хоть начальника сегодня не было. Ты, Иван, был серой пылью — пылью и остался. Ты хоть прочитай, какое тебе выделяют оружие.
— Я прочел, — возмутился Иван Васильевич. И какое?
— Наган!
— А дальше что написано? Ты посмотри получше. Иван Васильевич уставился в бумагу:
— Ну, и что? Наган типа «пугач». Что здесь такого?
— А то, что кто-то над тобою подшутил, а ты обрадовался, как ребенок. В общем, спрячь свое письмо и никому его не показывай.
Опустив голову, Иван Васильевич вышел из кабинета и медленно пошел на завод. В кабинете он внимательно пробел бумагу, но так до конца и не поверил в то, что кто-то сыграл с ним такую злую шутку. «Если есть такое оружие — „пугач“, — думал он, все равно с ним надо обращаться осторожно. Потому здесь и предусмотрены такие меры безопасности».
Однако бумагу он больше никому не показывал и никуда жалоб не писал. Смирился с тем, что на занимаемой им должности оружие все-таки не положено. Но время от времени Иван Васильевич все же доставал из ящика стола письмо из Москвы. Подносил его к свету и рассматривал герб внутри бумаги. А потом Иван Васильевич садился за свой начальственный стол, устремлял свой взор куда-то в угол и произносил: «Нет, не верю я, чтоб на такой бумаге могли сыграть такую шутку!» Одно время он даже собирался в Москву поехать, чтобы лично во всем убедиться. Да так и не решился. Но для солидности купил Иван Васильевич военного образца темно-зеленый плащ, галстук, белую сорочку, брюки галифе и яловые сапоги на толстой подошве. А в своем кабинете он-таки поставил кем-то выброшенный металлический сейф, куда положил единственную бумагу — зато полученную из самой Москвы! А под портретом Ленина Иван Васильевич поставил мягкий диван, на котором часто сиживал Иван Яковлевич. Он спрашивал:
— Так что, Вань, так ты и не ходил к начальнику УВД?
— Так мне же Сеня…
— А что тебе Сеня. Он же не начальник. Я бы, Ваня, на твоем месте все-таки к главному сходил. Но Иван Васильевич молчал и смотрел бессмысленным взглядом в дальний угол кабинета.
…Теперь уже обоих друзей нет в живых. Но память цепко хранит эту историю, и до сих пор перед глазами оба. Иван Яковлевич с прищуренными хитрыми глазами и серьезным-пресерьезным выражением лица. И Иван Васильевич с слегка приплюснутым наморщенным лбом и взглядом, бессмысленно устремленным куда-то в угол кабинета.
Март, 2003 год, г. Ейск.
К истокам
Автобус на Минеральные Воды отправлялся ранним утром. Васька удобно разместился в мягком кресле-сиденье. Он посмотрел на суетившихся пассажиров, прыгающих на вокзальной площади воробьев, таксистов, поджидающих клиентов, и невольно ощутил душевный покой, который был вызван его неожиданным решением посетить места своего детства. Вскоре все уселись, и автобус, выбравшись из городской сутолоки, стал набирать скорость. Раскаленный диск восходящего солнца медленно всплывал над горизонтом. Его теплые лучи нежно ласкали кожу лица. Васька прикрыл глаза и слушал, как меняется звук работы заднего моста в зависимости от скорости движения автобуса. Вот и первая остановка, рядом рынок. Продавали вяленую тарань, овощи, фрукты, семечки. В своем вещмешке, в качестве подарка, он вез несколько десятков вяленой тарани. В Минводы прибыли к концу дня. Ваське удалось пересесть на автобус, идущий в Нефтекумск. Вскоре стемнело. В Буденновске были в час ночи. На автовокзале несколько пассажиров расположились на лавочках и сиденьях в ожидании следующего дня. Положив рюкзак на свободное место, Васька облокотился на него и вскоре задремал. Проснулся он от шума у билетной кассы. В пять утра отправлялся автобус, проходящий через его родное село. Он купил билет и вышел на привокзальную площадь. Утренняя прохлада освежила и окончательно прогнала сон. В шесть уже были на месте. Он вышел на окраине села и медленно побрел на кладбище. Здесь лежали его предки. Вокруг, насколько видел глаз, расстилалась бескрайняя степь. Вдали парил степной подорлик. До боли знакомый с детства пейзаж, с терпким запахом степной полыни. Когда он сделал несколько шагов по выжженной солнцем траве, туфли покрылись слоем серой пыли. «А ведь раньше я ее не замечал», — подумал Васька. Кладбище было обнесено неглубоким рвом и земляным валом. По периметру росли кургузые, выжженные солнцем акации. «И как они умудряются выжить», — подумал он. Могилу матери и отца он нашел быстро. Очистил их от травы, оправил и медленно пошел по кладбищу, читая надгробные надписи. Как много уже ушло в иной мир его сверстников.
Он вернулся к могиле матери, присел на лавочку, облокотился на столик и почувствовал страшную усталость. Бессонная ночь давала о себе знать. Он закрыл глаза, и тут же перед ним встал их небольшой домик на окраине села, двор, сарай. Вспомнил молодую мать, красивую, заботливую, добрую. Вспомнил ее напутствия, когда его провожали на фронт, и молитву, которую она ему дала и сказала: «Не тяжелая она, сынок, носи ее всегда при себе, и она защитит тебя от всех бед». На фронте он постоянно ощущал присутствие своей матери. Она постоянно словно закрывала его своими руками и в трудную минуту отводила беду в сторону. Нет, никогда и никого он не любил так, как любил свою мать. За ее постоянную бескорыстную заботу, за доброту, за чуткость и необъяснимое умение появляться именно в ту минуту, когда в ней нуждались больше всего. Он никогда не целовал ее, как-то не было заведено в их роду разбрасывать поцелуи направо и налево, хотя всегда знал, что мать этого заслужила. Он постоянно чувствовал ее теплые натруженные руки, видел ее ласковые и добрые небольшие голубые глаза.
Метрах в ста от их домика был вырыт артезианский колодец в год его рождения. Рядом стояли три больших бетонных корыта. Сюда на водопой пригоняли скот: овец, коров, лошадей, верблюдов.
Васька пришел в себя, когда почувствовал, что кто-то легонько тормошит его за рукав. Он открыл глаза и увидел стоящую рядом очень красивую девочку. В первое мгновение ему показалось все происходящее нереальным. Но девочка вдруг заговорила: «Возьмите!» — она протянула два печенья. «Зачем?» — спросил он ее. «Тату помяните!» И только сейчас он увидел много народу, в основном женщин и детей.
Хоронили цыгана, умершего внезапно. Забросив рюкзак за плечи, он медленно пошел с кладбища. Его тянуло к истокам, к месту, где когда-то стоял их маленький домик, к артезианскому колодцу, в корытах у которого он учился плавать. Чем ближе он подходил, тем тревожнее становилось на душе. На месте былых зданий в ряд стояли обожженные солнцем и овеянные степным ветром холмики. Одним из них был когда-то его домик. Вот этот, пожалуй, четвертый слева. Два Марковых, Ожерельев и его, поменьше других. Там, где когда-то был сарай и огород, торчали засохшие кусты кустарника. Кругом ни души, мертвая тишина. Он медленно поднялся на вершину холма, положил рюкзак, стал на колени и, склонив голову до самой земли, тихо зашептал: «Здесь стоял домик, построенный руками отца, матери, деда Павла, дядьками Кириллом, Семеном, тогда такими молодыми, красивыми. Долго не видел тебя, земля моего детства. Ты та, на которой солнце сжигает все живое, самая лучшая на свете, — шептал он еле слышно. — Здесь я бегал босоногим мальчишкой, отсюда пошел в школу, ты взрастила меня и дала силу, веру и надежду на будущее». Вздрагивали его плечи, безвольное тело забилось, как в ознобе. «Какая радость снова видеть тебя, видеть то, что считалось потерянным навеки». И ему кажется: нет ничего на земле прекраснее этого колючего татарника, сожженного палящим солнцем, тонких бодылок высохшей травы и этого холмика — бывшего его дома. Он медленно поднял голову и заметил блестящий предмет, торчащий из-под земли, дотянулся рукой и вытащил кусочек полированной черепицы. Такой кровлей был покрыт их домик, ее делал и выжигал дядя Кирилл. Спрятав черепицу в рюкзак, он лег на спину и подложил руки под голову. Белые разрозненные облака медленно плыли с востока на запад по нежно-голубому небу. Память все выталкивала и выталкивала из глубины прожитых дней светлое, милое сердцу прошлое. Он вспомнил себя подростком. Когда в начале войны все мужчины были призваны в армию, на защиту Отечества, на селе остались старики, женщины да подростки. Ему, вместе с другими, пришлось работать в колхозе, вначале на разных работах, а затем доверили пахать землю. Четверка сытых, добрых лошадей, хорошо отрегулированный плуг, с отбитыми и отточенными лемехами. Плуг, слегка потрескивая, врезаясь во влажную землю, чертил полосу. Он любил смотреть, как подрезанные пласты земли, скользя по блестящему отвалу, переворачивались, поблескивая на солнце, ложились ровными рядами, оставляя прямую борозду. Вечером, после работы, все подростки собирались на культстане и затевали игры. Казалось, и не было трудного рабочего дня, бегали, веселились дотемна и только потом собирались в комнате отдыха, где слушали рассказы кухарки тети Паши. Вместе с ним работала и его кузина (двоюродная сестра) Настя. С самого детства они росли вместе, играли в детские игры, зимою вместе спали на русской печке. Постоянное общение, простота и доверительность в отношениях сближали их больше и больше. Васька оберегал Настю, а она из всех домашних только ему одному доверяла свои сокровенные девичьи тайны. Любил он ее как сестру и как будущую женщину, находил в ней то, чего не находил у других девчонок, скучал, когда долго не видел. Настю, первую из родни, послали учиться в город, шло время… Васька значительно подрос, повзрослел, его облик менялся на глазах. Однажды от отца он узнал, что из города приехала Настя, и ему нестерпимо захотелось ее увидеть. Была весна, зеленым ковром покрылась отдохнувшая за зиму земля. Весенний воздух будоражил молодую кровь. На следующий день, ранним утром его разбудил отец и послал к дяде Кириллу отнести деньги. Словно на крыльях, летел он к своим родственникам. Все опьяняло его в тот прекрасный весенний день, вселяло чувство легкости, ловкости и молодости собственного тела. Открыв калитку, он вошел во двор, затем в сени. Никого нигде не было видно. Приоткрыв дверь в переднюю, он ощутил волну теплого воздуха и запах свежеиспеченного хлеба. Слева увидел с детства знакомую старую большую кровать, стоящую боком к окну, смотревшему на восток. Около нее, на полу, лежало упавшее одеяло. Сделав несколько осторожных шагов, он остолбенел. На кровати, нагая, лежала его сестра Настя. Она по-прежнему еще была девчонкой, но в ней было нечто более прекрасное, чем красота, тот нежный, светло-розовый, сияющий рассвет первоначального девичества, который как-то чудом, почти внезапно и в какие-то считанные недели вдруг превращает неуклюжую, угловатую девчонку в очаровательную девушку. Лицо Насти было покрыто здоровым румянцем, под которым чувствовалась горячая, молодая, весело текущая кровь. Ее плечи округлились, обрисовались точеные бедра. Небольшие, налитые груди с ярко выраженными розовыми сосками, как ему показалось, торчали в разные стороны. Все тело, освещенное первыми лучами восходящего солнца, словно светилось изнутри. Оно стало вдруг каким-то удивительным и необыкновенным. Белые, крепкие руки и ноги небрежно разбросаны в разные стороны. Золотистые волосы рассыпались по всей подушке. Все это внезапно превратило его сестру в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо. Кровь ударила в голову, зазвенело в ушах, он машинально схватился за приголович кровати и, словно завороженный, еле стоял на ногах, вдруг ставших какими-то непослушными. Лоб стал мокрым от внезапно проступившей испарины. Было так тихо и тревожно, что от напряжения он ощутил сильные и частые удары своего сердца. И тут вдруг он воочию ощутил запах и тепло ее тела — тот радостный пьянящий запах распускающихся почек, который пахнет в ясные, но мокрые вечера, после неожиданно прошедшего дождя. Немного оправившись, он снова взглянул на сестру. Слегка открытые, пылающие, такие милые полудетские губы, с какой-то необузданной силой манили к себе. На мгновение он потерял над собой контроль. Слегка наклонившись вперед, бессознательно, словно перед иконой, он распростер перед ней руки и еле слышно выдохнул: «Настенька!» И тут внезапно его обожгла страшная мысль: «Это же моя сестра!» Неожиданно и как-то сразу в его сознании возник постоянно сопутствующий им родственный барьер. Сдержанный стон вырвался из его груди, он отступил на шаг, опустил руки и склонил на грудь голову. Васька не слышал, как открылась дверь из соседней комнаты, как вошел дядя. До него не сразу дошел смысл сказанных им слов: «Бесстыжий, и не боишься ослепнуть?!» Дядя медленно подобрал с пола одеяло, укрыл им Настю, спросил: «Ну, принес?» Васька машинально достал из кармана деньги, отдал их дяде и, не простившись, вышел. Он медленно шел домой, а перед глазами стояла она, белоснежная, здоровая, с налитой великой жизненной силой грудью с розовыми сосками, Настя. Вскоре она уехала в город, даже не встретившись с братом.
Прошли годы… Шла Великая Отечественная война. Вскоре, в семнадцать с половиной лет, Ваську призвали в армию. Он участвовал в боях с фашистскими оккупантами, освобождал территорию Отечества, Польши, Германии. Был дважды ранен и контужен. Конец войны встретил в эвакогоспитале города Кисловодска. После войны окончил техникум механизации сельского хозяйства, получил диплом с отличием и был направлен на учебу в институт. По окончании института работал по специальности, вначале в сельском хозяйстве, а затем в промышленности. Женился, обзаведшись семьей, обосновался в небольшом приморском городе на юге России. Юношеские впечатления его были настолько сильны, что и годы не стерли их. Он и поныне хранит, как бесценную реликвию, образ своей кузины, который пронес через всю жизнь…
Блеяние и топот ног овец привели его в чувство. Он поднял голову и увидел, как два подростка подгоняли овец к водопою. Когда все ушли, он поднялся и пошел к колодцу. Чем ближе подходил, тем тревожнее становилось на душе. Не увидел он и озера, и бетонных корыт. Стояло небольшое деревянное, куда из полусгнившей пятидюймовой трубы, как и прежде воркуя, текла небольшая струйка воды. Со слезами на глазах, обращаясь словно к живому своему ровеснику, он сказал: «И ты, мой добрый и бескорыстный сверстник и друг детства моего, доживаешь свой век. Без устали, столько лет, и в зной, и в холод, ты поил нас своей живительной влагой. Куда же подевалась твоя былая сила? Как безжалостно истощило тебя время». Он наклонился, руками обнял проржавевшую трубу, неотрывно и долго пил с детских лет знакомую влагу. Затем вымыл руки, достал носовой платок, протер глаза, вытер губы, лицо, руки. К колодцу подходил мужчина лет тридцати: «Здравствуйте!» — «Доброго здоровья», — ответил Васька. — «А я смотрю, вроде бы ненашенский, думаю, пойду узнаю». — «Нашенский я. Вон там, — он указал на курган, — была когда-то моя хата». — «И чей же вы?» — «Веретенников». — «Это каких же Веретенниковых?» — «Дмитрия знали?» — «Сапожника?» — «Ну да». — «Знал». — «Так я его сын. А вы случайно не Баев?» — «Баев». — «Не Ивана сын?» — «Не, племянник». — «Значит Алексея». — «И снова нет. Я сын самого младшего, Никиты». — «А я ведь с Иваном в школе вместе учился». Помолчали. «Иссякает — как и человек», — и Васька показал на колодец. — «Так он вот за эти три года сильно сдал, а то ведь вода неплохо шла. Со всей округи поили скот. Бетонные корыта убрали в прошлом году, сразу, как только он сбавил воду». — «Вместе зародились, наверное, вместе и умрем. Ведь он мой ровесник, — сказал Васька. — Ну прощевай, пойду проведаю школу, а потом к брату. Передавай привет всем Баевым, я ведь и деда вашего хорошо помню. Леньку вашего я очень любил, мы с ним дружили». — «Передавать-то некому. Из мужчин в живых остался я один». — «Что делать, такова жизнь», — Васька поднял рюкзак и медленно пошел той дорогой, по которой в детстве бегал к Насте. На Курбулуке поклонился кургану, где когда-то жил дед и где произвела его на белый свет мать. А вот и дом, где жила она, его кузина. Сюда теперь подвели асфальт, и живут в нем люди, спустившиеся с гор. Все по-старому: окна, смотрящие на восток, ворота, калитка. Все это — истоки детства, такого далекого и такого близкого. И снова, не находя покоя, ныла душа. На пришкольной площади, где когда-то стояла церковь, построен величественный Дворец культуры. Он слышал от кого-то, что его построили по инициативе маршала, Героя Советского Союза, командующего сухопутными войсками страны Петрова Василия Ивановича, бывшего учителя средней школы, у которого учился и Васька. Перекосившиеся ворота старой школы были закрыты. Он открыл калитку, вошел во двор. Стояла тишина. И вдруг неожиданно его охватило чувство огромной, невосполнимой и, как ему почудилось, очень большой душевной утраты. Он прошел по дорожке, выложенной из камня еще в период его учебы. Зашел во двор. Все здесь напоминало его юность. Открыл дверь, осмотрелся. Да ведь это его шестой «Б» класс. Здесь стояла его парта, а в эту дверь входил его любимый учитель. Васька любил его за манеру вести занятия, за строгость, независимость. Вспомнил даже, как он писал на доске, вначале разламывая кусочек мела, а потом, как правило, медленно выводил заглавные буквы с определенным нажимом. Все буквы были написаны близко одна от другой, но отдельно, каждая сама по себе, круглые, ровные. Вспомнил его лицо, продолговатое, с острым подбородком, прямым носом и невыразительными губами. Вспомнил походку, движения тела и острые ястребиные глаза. Лицо всегда строгое, сосредоточенное и удивительно доброе, когда он по какому-либо случаю улыбался. Оно мгновенно делалось похожим на женское. На подоконнике и других предметах — толстый слой пыли, все в запущении. Васька вышел во двор. Посередине рос уцелевший дуб. «А ведь их было три», — подумал он. В конце двора, там, где когда-то росли деревья гледичий, диких яблонь и груш, остановился. Где-то здесь из-под земли бил ключ. И вдруг из-под его ног прыгнула лягушка. Он нагнулся, под травой блестела чистая вода. «Вот он где, еще живой, но уже всеми забытый источник». Он нагнулся, набрал полную пригоршню холодной воды и ополоснул ею лицо, голову, шею. Вымыл руки и подождал, когда снова набежит вода, набрал новую пригоршню и выпил ровными глотками.
По еле заметной тропинке он вышел на другую улицу. Навстречу с сумками шли две девочки, одна из них была нерусская. «Вы не подскажете, где находится средняя школа?» — обратился к ним Васька. Девочки вначале переглянулись, а затем обе сразу указали на двухэтажное здание. Когда Васька подошел к зданию школы, из дверей с шумом высыпала детвора. Он остановился и растерянно посмотрел, пытаясь найти кого-либо знакомого. И вдруг он увидел мальчика, удивительно похожего на одного из его сверстников. Он пытался вспомнить и никак не мог. Напряг всю свою волю, память, но никак ничего не получалось. Тогда он подошел к женщине, вышедшей из двери. «Простите, вы не скажете фамилию вот этого мальчика», — он указал ей. «Какого?» — «Да вон того, черненького, курносого». — «А, дак это Марии Сафоновой сын». И тут он только вспомнил Кольку Сафонова, их вместе призывали в армию. «А Николаю Сафонову кто он будет?» — «Николаю? Николаю он будет внук». «Боже мой, как неумолимо бежит время. У Николая Сафонова уже такой внук».
Брат радостно встретил его у входа: «Вот уж и не ждал и не гадал, что ты приедешь. Спасибо! Погостишь, отдохнешь. Вера! Смотри, кто к нам пожаловал! А мне ночью снится собака, да так ластится к ногам. Проснулся и думаю, к гостю, и очень близкому. Прошли два автобуса, а никого нет. Думал, что не сбудется сон. Ан нет, сбылся. Ну проходи. Голоден, наверное. Вера, накрывай на стол, а я пойду принесу вина». Когда стол был накрыт, а брат наполнил стаканы чистым виноградным вином собственного изготовления, Васька предложил тост за встречу. Второй тост выпили за предков. «А пахнет-то как, словно не стакан вина, а гроздь винограда держу». Выпили. «Какая прелесть, от такого алкоголиком не станешь. Грузины не дураки, пьют только виноградное и живут более ста лет».
У брата он пробыл трое суток. Расспросил, где живет Настя, и собрался уезжать. «Ну вот, сколько не был и уже уезжаешь. Наговориться вдоволь не успели. Остался бы еще на несколько дней, а? Вечно мы торопимся куда-то, а жизнь-то одна». «Прости меня, братик, но дома тоже ведь дела и никто их за меня не сделает, — сослался Васька. — Поеду навещу Настеньку, попью целительной водички — и домой»… Город, в котором жила Настя, славился на всю страну целительными источниками. Таксист подвез его к самым воротам. Васька тихонько подошел и глянул в щель. Во дворе стояла легковушка. В конце двора возилась небольшого роста женщина. «Неужто это моя сестра?» — подумал Васька. Сердце учащенно забилось. Он никак не мог представить ее настоящую. В его представлении она осталась та, из далекого детства, стройная, ладная, как сжатая пружина, подвижная. Женщина встала, слегка переваливаясь с ноги на ногу, медленно пошла в его сторону. В руках она что-то держала. «Нет, это не она, это, наверное, кто-то из родственников мужа». Когда она подошла ближе и собралась войти в дом, он постучал. Женщина повернулась, слегка прищурив глаза, тихо сказала: «Кто еще там?» — «Она! Конечно она! Но куда же делся ее здоровый румянец? И сколько морщин у глаз и на лице, и какие замедленные движения». Она открыла калитку, безразлично глянула на Ваську и спросила: «Вам кого?» — «Не узнала! Конечно, не узнала! А почему, собственно, она должна меня узнать, я ведь тоже сразу не узнал», — промелькнуло в его голове. — «Простите, Веретенниковы здесь живут? Господи, что я плету, у нее же фамилия мужа». От брата он знал ее фамилию, но тут у него отключилась память, он начисто все забыл. Услышав фамилию своего детства, женщина вздрогнула. Ее небольшие голубые глаза часто-часто заморгали, и Васька вспомнил, что она так моргала, когда сильно волновалась. Затем она внимательно присмотрелась и громко закричала: «Вася! Неужели это ты? Братик мой родной! Господи! Я всю жизнь ждала». Она бросилась к нему на грудь, обхватила руками. Слезы радости заливали ее лицо, тело вздрагивало от рыданий. «Братик, мой милый братик! Как же я рада! Господи, какое счастье, что наконец ты приехал». Васька прижал ее к себе, и скупые мужские слезы, слезы невысказанной тоски и радости, выкатились из его глаз. Оторвав ее от себя обеими руками, он схватил ее голову и, уже не стесняясь, как в детстве, целовал ее мокрые щеки, глаза, поблекшие, словно измазанные несмываемой краской, шершавые губы, руки…
Прошло несколько лет после этой встречи. Теперь эти два уже немолодых человека встречаются чаще. Когда улягутся первые страсти и морщинки станут незаметными, когда они снова насытятся воспоминаниями о своем нелегком детстве, когда Настя расскажет брату все свои жизненные новости, про детей, внуков, оставшихся в живых сверстников, они, наговорившись досыта, вдруг затихнут и просидят несколько минут молча, думая каждый о своем, потом, словно проснувшись, глянут друг на друга, словно впервые. Когда после немого оцепенения их глаза, повлажневшие от слез, снова встретятся, они вдруг ласково и печально улыбнутся друг другу. А сердца их снова наполнятся мягкой и светлой грустью. Их и поныне тянет друг к другу постоянно присутствующая в их сердцах память. Тайну же, пронесшую через всю свою жизнь, Васька и поныне держит под семью замками.
Ноябрь 1992 года.
Подвиг
Мы встретились с ним на переправе через Дон в районе города Серафимович. В этом городе была назначена встреча ветеранов 14-й Гвардейской стрелковой дивизии. Худощавый, среднего роста человек, опираясь на трость, перемещал свое тело снизу вверх, чтобы сделать шаг не разгибающейся правой ногой. На его груди красовался один-единственный орден Отечественной войны первой степени. В гостинице нас поселили в одну комнату.
В столовой, куда мы отправились вместе с ним, было шумно. Важно расхаживали бывшие гвардейцы с множеством орденов и медалей на груди. И когда после ужина мы вернулись в свой номер, я спросил своего соседа:
— У вас только один орден за всю войну?
— Ну, почему же, есть еще юбилейные медали. Только я их не ношу.
— А орденом вас за что наградили?
— Долго рассказывать, да и не хочется ворошить прошлое.
— И все же… — настаивал я.
— Ну, раз ты так настаиваешь, слушай. Шел конец 1942 года. Наша дивизия держала оборону в том месте, где река Хопер впадает в Дон. Чтобы оттянуть часть немецких войск от Сталинграда, командование решило прорвать вражескую оборону именно на нашем участке фронта. Были предприняты несколько наступательных операций, но они окончились неудачей. Немцы хорошо укрепились. К тому же их оборона имела преимущество в том, что они занимали господствующую высоту 210. Артиллерийские и минометные батареи, установленные на этой высоте, не давали возможности продвигаться нашим наступающим войскам. Командир 41-го Гвардейского стрелкового полка вызвал в штаб всех офицеров и сказал:
— Кто уничтожит батарею на высоте 210, будет представлен к званию Героя Советского Союза. Все сидели и молчали. И не знаю почему, но я решился.
— Товарищ полковник, позвольте мне испытать судьбу!
— Вместе с взводом? — уточнил он.
— Нет, попробую один, так как взводом незамеченными нам не подойти.
— Действуйте! — сказал полковник.
Взял я с собой шесть противотанковых гранат, пять лимонок, два запасных диска к автомату, револьвер и нож. Ночью по кукурузе, которая была не убрана, я двинулся к высоте. До войны я был охотником-промысловиком, и поэтому пройти незамеченным для меня не составило труда. Батарею я нашел быстро, ее охраняли двое часовых. Рядом был блиндаж, в котором, вероятно, отдыхали артиллеристы. Подкрался я поближе к часовым и, как раз когда загорелась подвесная ракета и они сошлись вместе, из револьвера застрелил обоих. Затем я бросился к блиндажу и одну за другой бросил туда три гранаты-лимонки.
Медлить было нельзя. Я знал, что, услышав разрывы гранат, немцы немедленно отреагируют. Спрятавшись в траншее рядом, я стал забрасывать противотанковые гранаты на артиллерийские установки, приводя их в полную негодность. А потом быстро побежал назад. Мне показалось, что я уже далеко, и решил остановиться, чтобы перевести дух. Но тут немцы открыли ураганный огонь из пулеметов. Пули со свистом проносились мимо, срезая кукурузные стебли. Надо было бы отлежаться, но я боялся, что немцы устроят погоню, поэтому побежал. И одна пуля попала мне в ногу. Я упал, ощупал рану и понял, что дальше идти не смогу. Пуля раздробила коленный сустав. Перевязав, как мог, рану, я пополз.
Сколько я прополз, не знаю. Раненая нога адски болела, и я почувствовал, что меня покидают последние силы. И тогда я стал кричать и звать на помощь. Солдаты моего взвода нашли меня уже без сознания. Врачам с трудом удалось спасти меня и сохранить ногу — я потерял много крови. А утром наше наступление, наконец, увенчалось успехом, и фронт был нами прорван. Вот только для меня война на том закончилась. А через год вместо Героя мне прислали этот орден. Вот и ношу его один — как звезду Героя Советского Союза …Не знаю, жив ли сейчас мой герой, лейтенант Шепелев Иван Семенович. Но у меня перед глазами, как тогда, мужественное, словно высеченное из камня, лицо охотника-промысловика из далекой Сибири.
15 февраля 2003 года.
Каска
В феврале 1943 года курсант пехотного училища Воронин в составе 394-го стрелкового полка принял участие в боях за освобождение станицы Ново-Дмитриевской. Неожиданно наступающая цепь попала под минометный обстрел врага. Мины разорвались на мгновение позже того, как он успел упасть на землю. Сноп осколков стегнул по телу, и сознание погрузилось во тьму. Он не знал, сколько пролежал, но когда пришел в себя, почувствовал, что замерзает. Превозмогая страшную боль во всем теле, он прополз метров двести. Стемнело. Согревшись, он попробовал встать. Опираясь на левую руку, с трудом приподнялся и, покачиваясь, пошел. Тут только он заметил, что потерял каску. Около МТФ его, окровавленного, подобрали солдаты, и медсестра сделала первую перевязку. В медсанбате станицы Калужской вначале обработали три рваные раны на левой руке, затем вытащили два торчащих острых осколка из головы. Обработали раны на шее, в области лопатки, скрепили шинами перебитую правую руку и зафиксировали ее на спецповязке. Выдали стандартную справку и посоветовали самостоятельно добираться до госпиталя. С этого часа и начались хождения по мукам. Краснодар, Кропоткин, Ейск, Армавир, Дербент, Ереван. Долго не заживала рана в области лопатки. Перенес семь операций на перебитой руке. Когда же рана наконец затянулась, его не списали и не отправили домой потому, что он русский, которого только и научили тогда терпеть, повиноваться да исполнять, но не научили требовать. Рабская закомплексованность тех лет. В запасном полку в г. Гори приобрел специальность связиста. В ноябре сорок четвертого был направлен в П-ю гвардейскую мехбригаду. В декабре бригада влилась в состав четвертой танковой армии, которая была направлена на Первый Украинский фронт. С боями прошел Польшу, Чехословакию. Принимал участие в нескольких танковых сражениях, неоднократно корректировал огонь нашей артиллерии. Бои под Лейпцигом, наконец бои за Берлин. Ему не довелось написать свою фамилию на стенах Рейхстага.
Тридцатого апреля сорок пятого года снаряд разорвался рядом, когда он тянул связь. Снова, казалось, сотни осколков вонзились в тело. Телефонная катушка, закрепленная на спине, разлетелась вдребезги. Иссечены ноги, повреждена большая берцовая кость и вновь правая рука.
Конец войны встретил в госпитале г. Львова. В ноябре сорок шестого был демобилизован.
Прошли годы, и только теперь, вспоминая истерзанную войной молодость, он пришел к заключению, что родился трижды. В пятидесяти летний юбилей Победы он побывал в ст. Ново-Дмитриевской. Отыскал МТФ и поле боя, где он был ранен. Вспомнил наступающую цепь и ребят, шедших в этой цепи, — молодых, здоровых, полных жизненных сил, и тот миг, когда он по чьей-то воле успел упасть на землю, прежде чем разорвалась мина, и каску, которую потерял и которая спасла ему жизнь.
А вокруг была весна и зеленый покров колосовых на этом поле брани. Это была новая эпоха и новая жизнь, может быть, не такая страшная, которая выпала на его долю. Осматривая экспонаты войны в школьном музее, он увидел каску с двумя рваными сквозными отверстиями. «Не может быть, неужто она?» Он не спеша подошел, трясущимися руками взял ее в руки. Осторожно отвернул обшлаг и увидел три буквы, написанные химическим карандашом: «В. А. А.» Он прислонился к стене, прижал ее к груди и тихо сказал: «Она, моя первая спасительница». Справившись с волнением, спросил у экскурсовода: «Как к вам попала эта каска?» — «Ее нашел на поле и принес нам бригадир полеводческой бригады».
Инвалид Великой Отечественной войны второй группы Воронин Александр Алексеевич живет в городе Ейске. Большой оптимист, верит в Бога, любит природу и спорт. Закаляется по системе Порфирия Иванова. Пренебрегает лекарствами. Каждый год на своем «Запорожце» отправляется в предгорье Кавказа и заготавливает лекарственные травы. В меру сил помогает всем, кто к нему обращается за помощью. Сегодня ему уже семьдесят пять, и только благодаря тому, что Александр Алексеевич верит и испытал на себе силу лекарственных трав, он бодр, разговорчив, общителен.
Май 1996 года
Ловушка
После кровопролитных боев на реке Миус и освобождения г. Таганрога четвертый гвардейский кубанский казачий кавалерийский корпус принял участие в завершении разгрома немецкой группировки в городе Мариуполе. Казаки еще не успели окопаться и закончить устройство оборонительного рубежа, как из города показались немецкие танки с десантом. «Танки! Танки идут!» — кричал молодой казак. «Где же наши артиллеристы?» — спрашивали казаки друг друга. На лихом скакуне казак из разведвзвода сообщил о танках командиру артиллерийского полка Герою Советского Союза гвардии майору Чекурда. Полк подняли по тревоге. Когда прибыли на место, командир быстро оценил обстановку. «Окопаться не успеем, — подумал он. — Ставить орудия на прямую наводку и вести артиллерийскую дуэль с танками, защищенными броней, бессмысленно». Он быстро принял неординарное решение. Позади оборонительной линии, вдоль шоссе, по которому двигались танки, росла лесополоса. Орудия быстро разбросали вдоль лесополосы, замаскировали и поставили их на прямую наводку. Командир поставил задачу: «Главное, помните, — говорил майор, — успех зависит от меткой стрельбы и точного выполнения всех моих команд». Прорвав оборонительный рубеж казаков, восемнадцать танков врага устремились на запад. Ровный рокот танковых двигателей нарушал зловещую, терзающую душу тишину. Командир быстро распределил танки за каждым артиллерийским расчетом. Когда танки вышли на нужную позицию, майор подал команду. Лучший артиллерийский снайпер, старшина первого взвода Шевчук первым снарядом поджег головной. Колонна остановилась. Тут же были подожжены два последних танка. Не успели немцы развернуть свои орудия к бою, как на них обрушился мощный шквал точно рассчитанного артиллерийского огня. Буквально за несколько минут все танки горели, а осколочные снаряды начисто уничтожили залегших десантников. Через сорок минут в плен уже некого было брать. Командиром второго артиллерийского взвода был наш земляк, старший лейтенант Вячеслав Буштед. За этот подвиг его наградили медалью «За отвагу».
Апрель 1995 года.
«Спасибо, сынки, за подарок»
К реке Северный Буг войска подошли до предела измотанными в каждодневных боях и изнурительных переходах. Из-за распутицы отстали тылы. Боеприпасы были на исходе. Мост через реку, непонятно по каким причинам, немцы не взорвали. Ночью наши саперы разминировали его со своей стороны. На другом берегу реки по шоссе Винница — Проскуров днем и ночью шли колонны немецких войск, артиллерия, танки, самоходки, автомашины и другая техника. Командир 121-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-лейтенант Ладыгин вызвал к себе разведчиков и поставил перед ними задачу: добыть «языка»! Рядовые Березин (знавший немецкий язык), Кубышкин, Никонов, Евтушенко, Иванов и командир разведгруппы старший сержант Балаев, переодевшись в немецкую форму, переправились через реку. Подошли вплотную к шоссе, спрятались в перелеске и стали ждать. Мимо по дороге шли колонны. И только на пятые сутки, перед рассветом, показалась легковушка. «Приготовиться!» — скомандовал командир. Как только машина приблизилась, в воздухе мелькнула противотанковая граната. Она разорвалась перед машиной. В два прыжка разведчики оказались рядом. Ликвидирован водитель. Рядом с ним сидел генерал. В одно мгновенье его связали, в рот кляп! На заднем сиденье упаковки с документацией — пригодятся. Долго стоять на шоссе нельзя, в любой момент могли показаться немцы. За руль садится разведчик. Разворот — и «опель» мчится назад. Принято дерзкое решение: машину с документами и генералом доставить в свою часть через невзорванный мост. Расчет на незначительную инерционность взрывчатки и предельную скорость машины. Риск большой. Но в данной обстановке иного выхода не было. Когда забрезжил рассвет, «опель» на предельной скорости, а вел его опытный разведчик Иванов, влетел на мост и помчался на другую сторону. Сонная охрана немцев не сразу сообразила, что к чему. Только когда «опель» был на другой стороне моста, пулеметная очередь прошила заднюю облицовку и легко ранила одного из разведчиков. Когда «опель» подкатил к штабу дивизии, разведчиков встретил не в меру встревоженный и радостный генерал. Он приказал начальнику штаба принести шесть орденов Славы. Вручая их разведчикам, он сказал: «Спасибо вам, сынки, от меня лично и от командования дивизии за такой бесценный „подарок“». Этим подарком оказался начальник штаба немецкой дивизии, с документами.
Май 1996 года.
В сорок третьем под Прохоровкой
В июле сорок третьего под Прохоровкой Курской области произошло крупнейшее в истории Великой Отечественной войны танковое сражение.
Стальные громадины в клубах пыли и газа лавинами двигались навстречу друг другу. Скрежет и лязг гусениц… Рев моторов… Разрывы снарядов и бомб… Вой пикирующих бомбардировщиков… Все смешалось в страшном гуле. На тяжелом танке «КВ» 12 июля 1943 года вел в наступление свой экипаж выпускник Арзамасского танкового училища Иван Гордиенко. Командир, ведя наблюдение за полем боя, корректировал огонь. На флангах танки сошлись, пошли на таран. Более мощные машины подминали под себя легкие и средние. Из подожженных немецких и наших танков выскакивали оставшиеся в живых члены экипажей, метались в пылающей одежде, пытаясь вырваться из кромешного ада. «Прямо по фронту, бронебойным, огонь!» Лязгнул орудийный замок, остановка, прицел, выстрел. Танк противника горит. Чуть левее Гордиенко увидел немецкого «тигра» и направил свой «КВ» к нему, но немец опередил, танк вздрогнул — и пламя огромной силы поглотил о все… За световой день на поле боя остались неподвижными семьсот танков и самоходок. На другой день после сражения поле битвы обходили трофейщики. «Смотри, какую толстую броню пробил снаряд, — обратился к своему товарищу молодой солдат. — Отверстие словно сваркой вырезано». — «Это бронебойно-зажигательный снаряд прошил-прожег». Заглянули внутрь танка. Слышат — стон. С трудом вытащили обгорелого танкиста… В медсанбате врач, осмотрев раненого, сказал: «Ему недолго осталось мучиться»… Прошло двое суток. Дежурная медсестра доложила врачу: «А обожженный-то живой!» Подошли. На врача смотрели измученные печальные голубые глаза. «Тебя как звать?» — спросил врач. «Иван», — ответил танкист. Врач снова осмотрел его: «На операционный!» Почти всю ногу и два пальца на левой руке отняли Ивану, удалили обожженную кожу… «Трудно будет справиться организму с таким ранением», — сказал врач. А Иван выжил. В госпитале, когда наращивали кожу, знаменитый хирург Острожников, осматривая раненого, спросил: «Где это ты собрал столько „царапин“?» — «На голове и шее — под Москвой в сорок первом. А эти — на руке, ноге, спине и плече — под Сталинградом, в боях с танками Манштейна. А остальные на Курской дуге под Прохоровкой».
Через полтора года его выписали. Приехал он в свою Алексеевку, что на Белгородчине. Надо было как-то жить. С детства Иван любил петь, унаследовал он голос и слух матери. Решил попробовать себя в искусстве. Прошел конкурс, поступил в Воронежский государственный хор. И много лет, разъезжая по городам и селам, пел русские и украинские песни. Фронтовые раны и годы брали свое, и Иван Трофимович Гордиенко оставил хор, но продолжал трудиться. В санатории им. Сеченова в г. Ессентуки пел для участников Великой Отечественной войны свои и их любимые песни…
Великий затейник и большой оптимист, анекдотчик и балагур, Иван Трофимович никогда не унывает. Вокруг него постоянно люди. С ним можно часами говорить на любую тему. Танкист награжден орденами и медалями, но ценит он больше всего медаль «За отвагу». «Почему?» — спрашиваю его я. «Потому, что она у меня первая, и получил я ее за сражение под Москвой. Она самая дорогая почему-то для меня». Сейчас Иван Трофимович живет в поселке Ильском Северского района. Я счастлив, что судьба свела меня с этим неординарным человеком. Какую же надо иметь волю и живучесть, чтобы, перенеся такие страданья, остаться жизнелюбивым! Удивительный этот русский солдат-победитель!
Февраль 1994 года, г. Ессентуки, санаторий им. Сеченова.
День Победы
/Исповедь/
Пятого февраля 1945 года, в восьмидесяти километрах от Берлина, при артиллерийском обстреле рядовой Васька Веретенников был контужен и тяжело ранен в левый глаз. В медсанбате осколок удалили, но нужна была квалифицированная операция. Ее сделали в эвакогоспитале «Красные Камни» г. Кисловодска. Спустя несколько дней повязку сняли. Медленно уходила боль, прекратился постоянный звон в ушах, постепенно восстанавливалось зрение уцелевшего глаза. Вместе с ним в палате лежали двое: обожженный танкист, Герой Советского Союза, старший лейтенант Колованов Иван Семенович и рядовой Володя Широких, потерявший зрение при употреблении метилового спирта.
Прошло около месяца. Шла весна сорок пятого. В открытые окна врывался запах распустившейся листвы. Танкист, повернувшись к стене, больше лежал молча. Иногда что-то, шепелявя, говорил, но Васька его плохо понимал.
Однажды на восходе солнца Васька проснулся от какого-то странного звука. У открытого окна спиной к нему стоял высокий мужчина. Он с шумом втягивал весенний воздух. Не шевелясь, Васька рассматривал его. Это был Колованов. Но почему у него такие короткие руки? И тут он увидел, что одной руки вообще нет. Колованов, словно почувствовав посторонний взгляд, повернулся. Васька чуть не вскрикнул от ужаса. На него глянули пустые глазницы без ресниц и бровей. Вместо носа — темный провал. Бесформенно скрюченные обгорелые раковины ушей. Но больше всего поразил его не закрывающийся обгорелыми губами оскал ровных белых зубов. «Великий Боже, как же он все это превозмог?» — подумал Васька. Непомерная жалость к этому большому, сильному человеку сдавила сердце. Колованов не спеша лег в постель. Васька долго лежал, боясь шевельнуться. Каждое утро в палату приходила врач Александра Ивановна. Она проверяла температуру, пульс, спрашивала о самочувствии. Когда уходила, Володя каждый раз спрашивал Ваську: «Скажи, красивая Александра Ивановна?» Часто с Володей они ходили в парк гулять. Любили отдыхать в беседке, рядом с которой рос куст боярышника, наслаждаясь запахом его цветов. Ранним утром 9 мая 1945 года Васька вышел во двор. Подъехал продовольственный фургон. «А у вас тут тишина, — обратился водитель к повару. — Вы что, наверное, не слышали?» — «О чем?» — «Так война закончилась. Вчера вечером передавал Левитан. Слушайте в шесть». Васька бегом побежал в корпус. «Ура! Ура! — кричал он. — Братцы, война закончилась! Вставайте, мужики. Ура! Война кончилась!» Госпиталь, словно потревоженный улей, гудел. Все ждали шести часов. И вот наступила торжественная минута. «Говорит Москва! — раздался голос Левитана. — От Советского информбюро! Вчера, поздно вечером, в присутствии антигитлеровской коалиции Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции». Все зашумели, стали обнимать друг друга, кричать «Ура»! Затем, словно по команде, кто только мог, двинулись в город. Пошел и Васька.
На главной улице творилось невообразимое. Разношерстная толпа раненых вошла в центральный гастроном и потребовала спиртного и закуски, чтобы отметить День Победы. Продавцы сопротивлялись. Поднялся шум, толпа напирала. Тогда вышел завмаг: «Тихо, победители! Наведите порядок, и вас обслужат!» Все стихли, стали в очередь. Продавцы открывали бутылки, резали колбасу, хлеб. «За победу! Ура, братцы!» — гремели тосты. У завмага Васька выпросил две бутылки вина, колбасы, хлеба и пошел в госпиталь. «Давайте и мы отметим нашу победу», — предложил он. Поднялся Колованов. «Помоги мне, Вася, я тоже хофю выфить». Васька наполнил стакан. Он поднес его ко рту Колованова, слегка наклонил, и тот стал глотать. Вино лилось по подбородку. При каждом глотке из незажившего отверстия в правой щеке выпрыскивалась струйка. «Налей ефе!» Васька налил. Тот выпил, нащупал стул, присел. «Ну фто, обефяют вофтановить френие?» — обратился он к Володе. «Конкретно ничего, но я и сам знаю, быть мне до конца моих дней незрячим. Зрительный нерв, поврежденный ядом, не восстанавливает свои первоначальные функции». — «А моя пефня фпета ефе в танке. Лефу вот и думаю, зафем он меня вытафил? Кому я такой нуфен?» — «Что вы, — возразил Володя. — Вы герой. В нашей стране таким при жизни ставят памятник. Мужчина вы полноценный, найдете добрую русскую женщину, нарожает она вам ребятишек, и все невзгоды разлетятся в прах. Дети — это главный корень, им придется налаживать порушенную жизнь, так не расстраивайтесь. Самое главное, надо иметь надежду и верить в нее». К концу мая Ваську комиссовали. На прощание Володя сказал: «Учись, Вася, непременно, мы этого заслужили!»
Прошло пятьдесят лет. Волею судьбы Василий Веретенников оказался в г. Ессентуки, в санатории им. Сеченова. Выбрав свободное от процедур время, поехал в г. Кисловодск. Словно кровоточащая рана, острой болью отозвалось в его сердце все, что вспомнилось о мае сорок пятого. Медленно шел он, рассматривая деревья, пытаясь найти хотя бы одно знакомое. И вдруг увидел знакомый куст боярышника. Беседки не было. Он подошел к дереву. «Уцелел, сердешный», — Васька погладил его шершавый нетолстый ствол. Бывший госпиталь он не узнал. На месте старых зданий стояли большие, белые многоэтажные корпуса. У проходной — часовой. «Простите, — обратился к нему Васька. — В сорок пятом здесь я лежал в госпитале». «Теперь здесь правительственный санаторий. Вход только по пропускам». Васька вышел на улицу, ведущую на железнодорожный вокзал, ему навстречу шел инвалид в темных очках с тросточкой и потертой полевой сумкой в руках. Эта полевая сумка военных лет и фигура человека, которая показалась очень знакомой, привлекли внимание Васьки. Он остановился, еще не понимая, зачем пошел за ним. «Где я его видел? Неужели Володя?» Васька догнал его и окликнул: «Володя»! На мгновение инвалид остановился, не поворачиваясь, постоял и пошел дальше. «Наверное, не он. Но ведь он остановился». Тогда Васька громко крикнул: «Володя, Широких!» Инвалид резко повернулся: «Я Володя Широких!» — «Это я, Вася Веретенников. Вспомните сорок пятый, госпиталь, День Победы, „Красные Камни!“» — «Боже милостивый! Неужели это ты, Вася»! Он стал ощупывать окликнувшего: «Нет, я помню Васю худенького». Из глаз Васи потекли слезы, и в это время Володя коснулся его щек. «Неужто слезы! Тогда это Вася. Ну конечно Вася! Как ты сюда попал?»
— «А я всю жизнь надеялся и ждал. Я почему-то верил, что наступит день, и мы должны встретиться. И, о великий Боже, этот день пришел». — «Вася, после твоего отъезда я объяснился с Александрой Ивановной, и вскоре мы поженились. Она помогла мне окончить медицинский институт. Я врач, иду в поликлинику на прием больных. Меня ждут». «А Коновалов?» — спросил Вася. — «Не Коновалов, а Колованов, — поправил его Володя. — Его нет, он разбился». — «Когда? При каких обстоятельствах?»
— «На вот, — он сунул Ваське визитную карточку. — Приходи ко мне в воскресенье, я тебе все расскажу». Он сделал несколько шагов, затем повернулся и громко крикнул: «Непременно приходи, Вася, я очень буду тебя ждать!»
В воскресенье Васька с волнением остановился у двери с номером, указанным на визитке. Дверь открыла молодая женщина, очень похожая на Александру Ивановну. «Вам кого?» — строго спросила она. «Мне Владимира Широких». «Папа, к тебе гость». — «Доченька, да ведь это Вася Веретенников, приглашай его побыстрее». К доченьке подбежала девочка лет пяти и устремила большие голубые глаза на Васю. «Мамочка, это дедушкин фронтовик?» — «Да, доченька, только ты не мешайся под ногами». Но девочка упорно стояла и не отходила от двери. «Дядя, вы с дедушкой были на войне?» — «Сашенька, я же тебе сказала — не мешайся». — «А я и не мешаюсь, мамочка, я просто уточнила у дяди, кто он». И только после того, как был накрыт стол и они опрокинули боевые сто граммов, Васька узнал, что Александра Ивановна умерла год назад от сердечного приступа. «После твоего отъезда, — рассказывал Володя, — нас всех перевели в один госпиталь — смешанный. Находится он в центре города, в пятиэтажном здании. В первую годовщину Победы Ваня Колованов напился и ночью, когда все спали, выбросился с пятого этажа. Оказалось, он не имел родственников, и похоронили его на городском кладбище. Александра Ивановна все эти годы ухаживала за его могилой. А теперь, наверное, все заросло травой». Они долго сидели за столом и все вспоминали и вспоминали свои боевые годы, боевых друзей и безвозвратно ушедшую молодость. «Ты на пенсии?» — вдруг спросил Володя. — «Да, на пенсии, вот дали бесплатную путевку в санаторий в Ессентуки». — «А я продолжаю потихоньку работать, не могу бросить, боюсь». Васька рассказал о своей жизни за прошедшие пятьдесят лет. Расставаясь, обещали поддерживать связь. «Вася, я очень рад нашей встрече», — со слезами на глазах говорил Володя. А через два года Васька получил письмо от Александры Владимировны. Она сообщила о том, что папа, переходя улицу, был сбит автомашиной и похоронен рядом с мамой. В свое время, жертвуя жизнью и здоровьем, они защитили Отечество от фашизма, а ныне, отверженные и уничтоженные новыми русскими, бесславно уходят из жизни.
Май, 1998 год, Ессентуки.
Корректировщик
(Огненные годы)
На подступах к Сталинграду шли кровопролитные бои за высоту 220. Высота имела большое стратегическое значение. Она много раз переходила из рук в руки. Земля была исковеркана разрывами бомб, снарядов и мин, перемешана кровью и людскими телами. Всюду разбитая техника: танки, самоходки, артиллерийские установки, автомашины, тракторы. Но вот наступил момент, когда войска, словно предчувствуя роковую неизбежность, без команды отошли на исходные позиции. Все замерло. Наступила непривычная, звенящая тишина. Воюющие стороны начали готовиться к новым сражениям. Подтягивались резервы, пополнялись боеприпасы, шла перегруппировка войск. Во второй половине дня командир гаубичной артиллерии дивизии майор Башта зашел в разведвзвод. Он попросил командира разведки старшего сержанта Балаева вместе с ним пробраться на высоту и подготовить место для корректировки ведения артиллерийского огня. Они незамеченными добрались до высоты. Выбрали место, отрыли окоп, хорошо замаскировали его, и уже было собрались возвращаться, чтобы подтянуть сюда связь. Но тут их внимание привлек немецкий танк с разорванной гусеницей. Открыв люк, старший сержант обнаружил, что в танке горел свет. Он залез в него. Включил рацию, набрал нужную частоту, связался со своими. «Товарищ майор, рация в порядке, можно попробовать», — доложил он. Все это время майор в бинокль вел наблюдение за передним краем противника и его обороной. Он обнаружил места концентрирования техники и скопления живой силы. Майор залез в танк и стал диктовать, а старший сержант прямым текстом передавать нужные координаты. Вскоре через их головы полетели снаряды. С большой точностью они попадали в места наибольшего скопления войск, нанося огромные потери противнику. Немецкие пеленгаторы определили, что корректировку огня ведут с высоты. Немцы открыли артиллерийский огонь. Но корректировщики, защищенные танковой броней, не теряли времени. Они по вспышкам фиксировали расположение немецкой артиллерии и направляли огонь своей артиллерии в эти места. Немцы не выдержали и послали на высоту роту автоматчиков. Майор, увидев в бинокль приближающихся автоматчиков, сказал: «Ты смотри! Во хамы! Они хотят нас взять в плен живыми. Ну что ж, попробуйте! Идите, да побыстрей. Они, наверное, давно не мылись. Сейчас мы устроим им баньку». Он быстро сделал пристрелку по высоте. Когда немцы подошли поближе, он передал координаты и скомандовал: «Осколочными, восемь снарядов, бегло, по немецким захватчикам, батарея — огонь! Огонь на меня! Ну, старший сержант, держись и моли бога, чтобы не было прямого попадания. Осколочный снаряд броню не пробьет, но оглушит надолго. Сейчас мы с тобой ощутим мощь и силу нашей артиллерии». И тут началось. Огневой смерч огромной силы обрушился на высоту. Шквал осколков от разрывов снарядов начисто смел все живое. Когда все стихло, они открыли люк и вылезли наружу. Изуродованные, растерзанные осколками и разрывами, повсюду валялись немецкие солдаты. Ни один из них не остался в живых. «Мы не звали вас, вы сами пришли, чтобы поработить нас, — словно с трибуны громко кричал Башта. — Вот и получили по заслугам. Теперь здесь делать нечего. Но еще до темноты надо проложить сюда связь. Пошли, старший сержант». Они благополучно вернулись на свои позиции.
Май 1995 года.
Приказ генерала
(Огненные годы)
Двое суток шли кровопролитные бои на подступах к Сталинграду. Поле боя изрыто воронками, валяются неубранные трупы. Ждут ночи. Воздух постоянно сотрясается от взрывов тяжелых снарядов, стоит постоянный нескончаемый гул и вой пролетающих снарядов и мин, визг осколков. Командный пункт 121-й гвардейской стрелковой дивизии. У входа в землянку командира дивизии стоит часовой, старший сержант разведвзвода Балаев. На КП быстро входит со своим адъютантом командующий артиллерией армии генерал Елкин. «Дежурный!» — позвал генерал. «Слушаю вас». — «Подойди к стереотрубе. Немецкий танк видишь?» — «Там много танков, товарищ генерал». — «А вон тот, который стоит левее нашей самоходки?» — «Вижу, товарищ генерал». — «Любой ценой надо добраться до него и, если в нем немцы, уничтожить. Выполнишь — награжу. Сам буду наблюдать за твоими действиями». — «Товарищ генерал, поле простреливается немецкими снайперами. Можно выполнить задание по темному?» — «Я команд не повторяю».
Прихватив необходимое снаряжение, старший сержант короткими перебежками преодолел треть пути, затем по-пластунски. Его хорошо скрывало просяное поле, раскинувшееся на поле битвы. «Эй, куда ты? — вдруг совсем рядом услышал Валька. — Ползи сюда». Он сполз в воронку от снаряда. На него в упор смотрело молодое, смертельно бледное лицо лейтенанта с перевязанной головой. «Куда тебя черт несет? Снайперы не дают поднять головы. Я вот сижу и жду темноты». — «Выполняю приказ командующего артиллерией армии, генерала Елкина, товарищ лейтенант». — «А что нельзя было подождать темноты?» — «Видать, нельзя, приказ по уставу надо выполнять, а не обсуждать».
— «У тебя вода есть?» Валька подал фляжку. Лейтенант с жадностью напился. «Ну ладно, вы ждите темноты, а я пополз, за мной в бинокль наблюдает генерал». Вдоль косогора, почти до самого танка, шла неглубокая борозда, она и помогла Вальке незамеченным подобраться к танку. Он осторожно спустился в воронку. Прислушался. Тишина. «Вроде бы никого нет», — подумал Валька. Но тут же услышал приглушенный стук, а потом и немецкую речь. «Ага, голубчики, сидите, ремонтируете, думаете, что сюда никто не придет? Вы уж извините, но придется вас побеспокоить». Он достал противотанковую гранату, приготовил бутылку с зажигательной смесью. Взрыв огромной силы потряс воздух, танк подбросило, и тут же он вспыхнул. Валька приготовился и стал ждать. Как только немцы стали выскакивать из танка, он короткими очередями из автомата валил их на землю. С немецкой стороны заметили и открыли артиллерийский огонь. «Ну, теперь мне здесь делать нечего», — сказал он сам себе и юркнул в просяное поле. А спустя несколько минут он предстал перед генералом. «Товарищ генерал, ваше приказание выполнено!» — «Видел, видел. Молодец. Скажи, сержант, а страшно было? Немцев-то было много, а ты один». — «Если скажу „нет“, вы не поверите, — ответил Валька. — Я воюю с сорок первого. Первое боевое крещение принял под Москвой. А потом, ведь у меня большое преимущество было, часового-то у них не было. А в танке они как в стальном мешке, выход только один — наружу, причем вылазят не все сразу, а по одному, а стрелять-то их поодиночке значительно легче». — «Молодец, — еще раз сказал генерал. — Будешь представлен к награде. Вот так надо воевать», — сказал он своему адъютанту. Не спросив даже фамилии старшего сержанта, они покинули КП. А был этим старшим сержантом человек, о подвигах и храбрости которого на фронте ходили легенды. Валентин Леонидович Балаев, мой друг. С ним мы вместе прожили и продружили в г. Ейске более сорока лет. А теперь его прах покоится под городом Санкт-Петербургом, в г. Пушкино.
Январь 1986 года.
Первый орден
В освобожденном от фашистов Моздоке доброволец Васька Велегура прошел курс молодого бойца. На фронт в четырнадцатую гвардейскую стрелковую дивизию прибыли на рассвете. Его определили бронебойщиком номер два. Первым был обстрелянный солдат, Петр Гаврюшов. На передовую их отправили на день позже. На следующий день немцы предприняли атаку. «Для тебя, Вася, это первое боевое крещение, и его надо выдержать с честью. Главное — не суетись и старайся быстро выполнять все мои команды». Он не спеша приготовил ПТР и тихонько сказал: «Патрон». Васька подал. И тут наступили те предшествующие бою короткие и исполненные огромного внутреннего напряжения минуты, когда бьется учащенно сердце и на миг чувствуешь ледяной холодок и острую тоску. Петр Николаевич знал, что как только начнется бой, на смену этому чувству придет другое, которое вспыхивает и, может быть, не всегда подвластно разуму. Танки были далеко, но уже был слышен ровный гул моторов. Ваську бил мелкий колотун, от напряжения слезились глаза. Вскоре, где-то сзади, он услышал частые артиллерийские выстрелы. В рядах танков стали рваться снаряды. Несколько танков горело. Прямо на них двигался тяжелый танк «тигр». Когда он приблизился метров на двести, Петр Николаевич выстрелил. «Патрон», — снова услышал Васька, и снова выстрел. Уже был слышен скрежет гусениц. Танк, словно огромный стальной ком, неумолимо приближался. «В лоб не берет, — услышал Васька. — Надо попасть в смотровую щель». Петр Николаевич снова прилип к ружью. Вдруг он как-то неуклюже осел в траншею. «Все, Вася, отстрелялся. — Из рукава капала кровь. — Сынок, если он дойдет до окопов, хана нам. Передавит, как клопов. Бери противотанковую, подпусти метров на десять. Бросай только под гусеницу, иначе его не остановить. После броска ложись на дно траншеи». Васька схватил противотанковую гранату и быстро побежал по траншее вправо, туда, куда должен подойти танк. Он выглянул. Танк шел прямо на него. И тут он почувствовал, что страх словно ветром сдуло. Тело стало каким-то неузнаваемо легким и послушным. Земля вдруг стала дрожать. Он выдернул чеку, приподнялся и совсем рядом увидел наплывавшую на него широкую гусеницу. Он бросил гранату и упал на дно траншеи, закрыв голову руками. Взрыв огромной силы потряс землю. Ваську, словно щепку, бросило, ударив о стенку траншеи. И тут он услышал голос Петра Николаевича. «Назад, Вася! Быстрее ко мне». Спотыкаясь, Васька побежал. Танк развернуло. На мгновенье раньше он успел укрыться за поворотом траншеи, и пулеметная очередь прошила его след. Короткими очередями немцы простреливали вдоль. «Вот что, сынок, помоги мне перевязать рану». Когда Васька неумелыми руками наложил повязку, Петр Николаевич сказал: «Танк надо поджечь, иначе немцы могут принести много неприятностей. По траншее к нему не подобраться. Надо вылезти наружу, на открытую местность, спуститься вниз и под прикрытием бруствера траншеи подползти и поджечь. Бери бутылку с зажигательной смесью и действуй». Засунув бутылку за пазуху, автомат — за спину, Васька выскочил из траншеи, навстречу смерти, скатился вниз, прижался к земле, подождал немного и пополз. Пули зынькали то справа, то слева, подымая фонтанчики, зарываясь в землю. Но он уже не думал о смерти, перед ним была цель и задача — во что бы то ни стало поджечь эту стальную громадину. Низко наклонив голову, он змеей все ближе и ближе приближался к танку, забыв даже о том, что пуля в любой момент может попасть и в него. Вдруг голова пошла куда-то вниз, и тут же все тело сползло в яму. Это была воронка от снаряда. Он огляделся. Стальная громадина совсем рядом. Приладив поудобнее бутылку в правой руке, чиркнул зажигательной спичкой, и бутылка полетела к танку. Она с треском разлетелась, ударившись о сталь. Танк объят огнем. Васька приготовил автомат и стал ждать. Вот открылся верхний люк и из него показался человек. Когда он вылез наполовину, прицелился и нажал на спусковой крючок. Немец дернулся и повис, застряв в люке. Но его тут же вытолкнули, и показался второй, и снова короткая очередь, и второй немец завис в отверстии, рядом с крышкой люка. Танк окутан дымом, пламя лизало его броню, сильнее и сильнее разгораясь.
Спустя полгода, уже тогда, когда он был в Германии и штурмовал Берлин, ему за подбитый танк вручили орден Красной Звезды. Вскоре он был тяжело ранен и отправлен вначале в медсанбат, а затем был эвакуирован в эвакогоспиталь г. Кисловодска.
Прошли годы… В канун полувекового юбилея Победы пошел Василий Петрович Велегура на рынок. Он любил пройтись по торговым рядам, полюбоваться товаром. Случайно он наткнулся на подростка, продававшего орден Красной Звезды. Холеный мужчина, держа в руках орден, торговался: «Пять рублей дам я тебе за твою железячку». — «Это не железячка, а орден, и не мой, а дедушкин». — «Какая разница, чей, мы толкуем о цене, а не о принадлежности». Василий Петрович подошел к мужчине, вырвал из его рук орден и закричал: «Не сметь! Вы не имеете права! Это кощунство! Это надругательство над героизмом и славой!» Холеный растерянно глядел на злое лицо Василия Петровича, скривив губы, дерзко вымолвил: «Я же не отнимаю, я покупаю! Кому какое дело». Василий Петрович весь дрожал. Он подошел к мальчику. «Твой дедушка жив?» — «Нет», — ответил подросток. — «Зачем ты продаешь?» — «Чтобы купить хлеба». — «Ты у отца спрашивал разрешения?» — «У меня нет отца». — «На вот, — трясущимися руками он достал кошелек, вытащил деньги. — Здесь хватит тебе на несколько буханок. А орден отнеси домой, спрячь и храни. Пройдут годы, и он напомнит тебе, твоим детям и внукам о подвиге твоего деда в Великую Отечественную войну. Твой дед — герой, и ты должен им гордиться. Ты же совершенно не представляешь, за какой подвиг был награжден твой дед». Расстроенный, он пришел домой, вытянул из шкафа костюм, где были закреплены все его шестнадцать наград, глянул на свой первый боевой орден, который ему вручили при штурме Берлина, вспомнил подбитый танк, убитых немцев, по-отечески добрые глаза Петра Николаевича и заплакал. А по радио передавали Указ президента Ельцина об учреждении новых российских правительственных наград.
Январь 1995 года.
Портсигар с двойным дном
В июле сорок третьего под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории Великой Отечественной войны танковое сражение. Стальные громадины в клубах пыли и газа лавинами двигались навстречу друг другу. Скрежет и лязг гусениц, рев моторов, разрывы снарядов и бомб, вой пикирующих бомбардировщиков… Все смешалось в страшном гуле. Вел в бой тяжелый танк «КВ» и старший лейтенант Василий Стародуб, выпускник Арзамасского танкового училища. Он неотступно вел наблюдение за полем боя, корректировал огонь своего орудия. На флангах танки сошлись, пошли на таран. Более мощные машины подминали под себя легкие и средние. Из подожженных немецких и наших танков выскакивали оставшиеся в живых члены экипажей, метались в пылающей одежде, пытаясь вырваться из кромешного ада. «Прямо по фронту, бронебойным, огонь!» — раздалась команда. Остановка, прицел, выстрел. Танк противника горит. Вдруг чуть левее Стародуб увидел немецкого «тигра» и, резко рванув, направил свой «КВ» к нему. Но немец опередил, танк вздрогнул — и пламя огромной силы поглотило все. Задыхаясь от едкого дыма, Василий с трудом открыл верхний люк и выскочил наружу. Катаясь по земле, он пытался погасить пламя. Неподалеку протекала небольшая речушка, танкист кинулся к ней и спиной упал в воду. Когда наступило минутное облегчение, он внезапно увидел рядом с собой немца в обгоревшей одежде и с обожженным лицом, немец пытался подняться, но у него не получалось. Василий достал пистолет, встал и вплотную подошел к врагу. Поднял руку с пистолетом вверх и тут же услышал: «Нихт шиссен». В школе он учил немецкий язык и хорошо помнил, что слово «нихт» означало «нет». Напрягая память, он пытался вспомнить слово «шиссен». И вспомнил — «стрелять». «Не хочешь умирать? — тихо спросил Василий. — Но мы не приглашали вас в гости». Он передернул затвор и вогнал патрон в патронник: «Будьте вы прокляты, гады!» Прицелился в грудь и тут же увидел большие, по-детски испуганные глаза и отвисшую толстую, слегка вздрагивающую нижнюю губу. «Нихт шиссен», — еле расслышал Василий, и рука сама опустилась вниз. Из правого рукава комбинезона немца падали капли крови. «Господи, он такой же грешник, как и я», — подумал Василий. Он спрятал пистолет, помог немцу встать. Шатаясь, они выбрались из речки и опустились на сожженную, траву. Морщась от боли, немец прижимал простреленную руку к телу. «Ну, что там у тебя с рукой? — спросил Василий непонимающе смотревшего на него немца. — Давай посмотрю». Василий достал нож и разрезал рукав. Немец стонал и корчился от боли. Перебитая кость предплечья выпирала под кожей, безжизненной плетью висела рука. Из раны вытекала кровь. Василий достал индивидуальный пакет, перебинтовал ему руку и привязал ее к шее. Затем они отправились искать санитаров. В медсанбате их обслужили. Спустя несколько дней немец отыскал Василия и уже как старый знакомый подошел к его койке: «Их Питер Ригер». «А, это ты? Как твоя рука?» — Василий указал на загипсованную руку. — «Гут!» — ответил немец. «Так значит ты — Питер Ригер?» — «Яволь, яволь», — ответил немец. Василий встал с кровати, достал планшет, листочек бумаги, мелким убористым почерком написал свой адрес и отдал немцу…
Капитан Василий Стародуб закончил войну в Польше, был тяжело ранен и отправлен в тыл. В 1945 году по ранению его демобилизовали из Советской Армии. Прошло более четырех лет с тех памятных дней после сражения под Прохоровкой… Поздняя осень, моросил мелкий дождик, дул холодный западный ветер. Сквозь завывания ветра Ирина Петровна — мать Василия Стародуба расслышала приглушенный стук. Она вышла во двор. У калитки стоял мужчина в сером, изрядно поношенном плаще с поднятым воротником. Переминаясь с ноги на ногу, он теребил в руках небольшой сверток. В глазах — напряженная растерянность, слегка подрагивала толстая нижняя губа. «Вам кого?» — «Василий Стародуб», — хриплым, простуженным голосом ответил мужчина. «Это мой сын. Позвать?». — «Я, я». Опираясь на тросточку, вышел из дома Василий. Он сразу узнал немца. Открыв калитку, сказал по-немецки: «Гутен таг!» — «Здравствуйте», — делая ударение на последний слог, ответил Питер. «Как же ты меня нашел?» — спросил Василий. Питер не спеша из бокового кармана достал портсигар, открыл крышку и надавил на кнопочку. Раздался щелчок — и открылось второе дно. Он подал портсигар Василию и, сделав ударение на первом слоге, произнес: «Читай». На крышке второго дна был приклеен адрес, который Василий дал ему в медсанбате. «Великий Боже, — воскликнул Стародуб, — ты носил мой адрес и теперь вот разыскал меня? Ну что ж, раз судьбе так угодно, заходи, гостем будешь»… В доме тепло и уютно. Усадив гостя, Василий позвал мать: «Мама, это тот немец, с которым свела меня судьба под Прохоровкой, его зовут Питер. Помнишь — я рассказывал тебе о нем». — «Помню, конечно, но как он тебя нашел?» — «В медсанбате я дал ему свой адрес». — «Но ведь пленных немцев отпустили на родину, почему он не уехал?» — «А вот об этом он должен рассказать нам сам». А Питер тем временем не спеша разворачивал сверток. В нем оказались несколько пачек папирос, спички и томик стихов А. С. Пушкина. Он бережно взял его и дал Василию: «Это твой». Василий осторожно открыл первую страницу и на обложке увидел надпись: «Пусть великий русский поэт принесет мне счастье в боях при освобождении родины от фашистов. В. Стародуб». «Действительно, это мой томик, но как он к тебе попал?». — «Ти забил его в медсанбате». — «А ведь правда, я только сейчас вспомнил, что забыл его в медсанбате». После небольшого, очень скудного по тем временам застолья Питер рассказал о том, что из медсанбата его направили в специальный госпиталь для военнопленных. По окончании лечения вместе с другими пленными направили на восстановление разрушенных мостов — вначале в Орле, затем в Белграде, потом Воронеже, а после в Сибирь на лесоразработки. В Сибири ему пришлось работать вместе с русскими, где он понемногу научился говорить на русском языке. Постепенно изучил алфавит и стал читать. И первым его русским учебником был томик стихов А. С. Пушкина. Находясь в Сибири, Питер вспомнил рассказ своей бабушки по материнской линии. Она ему, еще подростку, сообщила о том, что ее далекий предок служил при дворе Екатерины Второй и женился на очень красивой русской фрейлине при царском дворе. Общаясь с русскими, рассказывал Питер, он полюбил их за простоту, доброту, наивную беспечность и богатые национальные традиции. А еще он полюбил русские просторы. И когда вышел приказ об освобождении всех военнопленных, он долго колебался и, наконец, решил остаться в России и отыскать своего спасителя с голубыми глазами и добрым мужественным сердцем, чтобы вручить ему его томик стихов… «С моей родиной меня почти ничего не связывает — никто не остался в живых. Если вы позволите, я буду жить рядом с вами», — обратился он вначале к Ирине Петровне, а затем к Василию Ивановичу. Так в одной из кубанских станиц стал жить бывший военнопленный немец. А мать Василия вскоре сообщила всем соседям о том, что к Василию приехал его однополчанин погостить, да так и остался. Шли годы… Питер женился на двоюродной сестре Василия. Пошли дети. Жена родила ему двух мальчиков и девочку. Первого сына они назвали Василием, второго — Иваном, девочку — Ириной. Наверное, в знак благодарности людям, которые спасли его от смерти и приютили в лихую годину. Первое время Питер работал в строительной бригаде, а затем стал бригадиром в колхозе, председателем которого вначале был отец Василия Иван Иванович Стародуб, а затем этот колхоз возглавил Василий. Года через полтора Питера пригласили в школу учителем немецкого языка, где он и проработал до конца своих дней.
На станичном кладбище, в дальнем углу, под плакучими ивами есть две могилы. На памятнике одной из них вмонтирована фотография капитана танковых войск Василия Ивановича Стародуба. На второй — фотография станичного учителя немецкого языка средней школы 1 Питера Германовича Ригера. Питер пережил своего спасителя ровно на четыре года. Еще при жизни он завещал своим детям и жене схоронить его рядом с могилой Василия. А в станице живут их дети и внуки. Не так давно у внука от старшего сына родился мальчик — правнук, и его назвали Питером, а фамилия у него Ригер, в честь дедушки. Сметают пыль с могильных плит низко опустившиеся ветки плакучей ивы, и шепчет она им мелодию вечного покоя, коего они не имели в свои молодые годы. А станичники их помнят по мирским делам, почти никто не знает, что они были участниками великой битвы на Курской дуге под селением Прохоровка.
Май 2000 года.






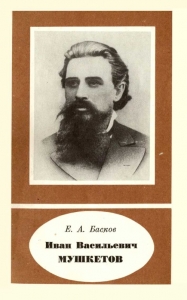

Комментарии к книге «Рассказы», Григорий Дмитриевич Трубачев
Всего 0 комментариев